Евгений Кузнецов Княжий сыск. Последняя святыня
Глава первая
Жаркий июльский день близился к концу, и вечер был готов упокоить прокалённую солнцем землю, когда на взгорок за селом к стоявшей тут кузнице подкатила тяжёлая длинная телега. Зной выжег всякое движение вокруг, и только высокая деревянная труба, выдавливавшая жиденькую струйку дыма, говорила о жизни кузни. Приезжий — молодой, чисто одетый мужик — направил коня к коновязи, привязал и заглянул в широкие распахнутые ворота:
— Хозяин! А?! Кто живой есть?
Полумрак помещения, в котором при желании можно было разместить с полдюжины телег, пыхнул в ответ волной угольного чада, сбрякало железо в углу за горном, и несколько времени спустя взору гостя предстал крепкий старик в рыжем кожаном переднике. Это и был деревенский кузнец.
— Здравствуй, дядька Никифор! — приветствовал старика приезжий. — Бог в помощь…
— Спасибо на добром слове, и ты будь здоров, — кузнец прищурил ослепшие от яркого света глаза и почесался согнутой спиной о ближайший столб конского станка, — давненько мы с тобой, Рогуля, не видались, здравствуй, здравствуй… Заматерел ты, однако, не сразу и признаешь тебя. Брюшко отпустил! Ты как, всё в стольном граде обретаешься?
Приезжий стянул с головы отороченную куницей шапку, столь неуместную в жару, но надетую, видимо, для пущей важности. Утёрши лоб подкладом шапки, он сунул ее за богато украшенный серебряными бляхами пояс и степенно ответил:
— Я-то всё больше в разъездах, наше дело купеческое. А семейство мое, верно, там, в Москве, на посаде живет.
— А к нам какими судьбами?
— В кои веки путь в эту сторону пролёг, за товаром в Можай сбегать, так дай, думаю, матушку с сеструхами навещу. Погостил денёк, завтра дальше собрался, ан глядь, а задняя ось у телеги с трещинкой. Вот и заехал к тебе. Помоги, дядька…
— Такую мелочь мы в два счёта состряпаем, — с готовностью откликнулся кузнец, не делая ни малейшего движения к исполнению заказа, а напротив, усаживаясь на чурбачок у ворот. — А что, ты, небось, и в Нижнем бывал иль до Сарая добирался?
— Бывал, — гость махнул рукой, — я, дядька Никифор, за эти годы куда только со своим товаром не ходил! Не поверишь, один раз даже до Урал-камня судьба довела.
— Фью-ить! Урал… Это ж надо! — кузнец цыкнул зубом и покачал головой. — Мы в свое время и подумать о таком диве не могли. Сидим, понимаешь, весь век в своей деревне, как тараканы за печкой, а вы, молодые, нынче так и полгаете туда-сюда, туда-сюда, туда… У меня и Сашка-племяш такой же, как ты.
— Я слышал, что Сашка года два как в слободу воротился?
— Это не сбрехали: бросил Саня княжью службу, да и вернулся со всей семьей. Хозяйство ведёт — и кузня на нем, и дом, и скотина. Он теперь большак в доме, а я уж так, по старой памяти тюкаю железки помаленьку. Вот подучу его — и на покой, сказки внукам рассказывать: «В некотором царстве, в некотором государстве…».
Рогуля с сомнением поглядел на дюжего старика, о силе которого по слободе в оные годы ходили легенды, а в курчавых волосах лишь на висках скромно блестели прядки седины, и перевёл беседу на более близкие уму и карману торговца дела:
— А что, дядя Никифор, нет ли у тебя какого товара на продажу? Я через неделю в Тверь на ярмарку собираюсь, хорошую цену дам. Иль, может, Сашка с нами поедет, сам расторгуется?
Кузнец не спешил с ответом, он сгрёб бороду в большую заскорузлую ладонь с навек въевшейся в расплющенные пальцы ржавчиной, огладил ее и, снова распушив, сказал:
— Чего-то ты, Рогуля, добр сегодня, как архиерей на Пасху. Товар у меня есть, одних ухватов с полсотни штук намастерили, да шкворни, да пробои, да петли дверные. А чтобы племяш мой с тобой ехал… Ты у него самого спроси, вон он, легок на помине.
В той стороне, куда указала рука старика, из леса, лежавшего за неширокой нивой с низкорослой доспевающей рожью, показался воз сена и шагавший подле него высокий мужик. Наверху воза, крест-накрест охваченного перекинутой веревкой, сидел мальчонка лет семи-восьми. Подвода остановилась против кузни, возничий принял на руки скатившегося с сена мальчугана и, передав ему вожжи, подошел к собеседникам:
— Что, батя, работка прибыла? Здравствуйте вам…
На вид племяннику кузнеца было чуть за тридцать лет. Высокий, неширокий в кости, он совсем не шел в породу приземистого дядьки. Светло-русые с оттенком рыжины волосы, стриженные в скобку, также не имели хотя бы и отдаленного родства с кудлатой черной растительностью Никифора. Был он бос, весь наряд его составляли длинная серая льняная рубаха да порты с заплатами на коленях. Он вгляделся в лицо гостя и, видимо, узнал, но особой радости от встречи не выказал:
— С приездом, Рогуля… А я-то думаю, чего мне намедни ворон чёрный снился? Вроде как я своего каурого, да не нынешнего, а того, прежнего, к водопою веду, а на изгороди в проулке — ворон. Мы мимо проходим, а вещун коню и говорит человечьим голосом, мол, ты чего хозяину не сказываешь, что пора тебя не сеном, а чистым овсом кормить? После тебя на дороге, говорит, и поклевать нечего. А мой каурый вроде как удивляется: ты ж не воробей, чтоб навоз клевать. Вздыхает тут ворон: рад бы, да мертвечинки-то нетуть. И пропал. К чему бы такой сон?
— К деньгам! — натянуто хохотнул Рогуля. — Ты, вижу, все такой же выдумщик как раньше. Я к тебе не вороном прилетел, дядьке твоему уже сказывал: поехали со мной в Тверь, поторгуем. Мне б хороший попутчик в обузу не был, я и приплатить готов. Да и, ходили слухи, бывал ты в тех краях?
— Шла молва, и была такова… — пожал плечами Сашка, — ты, Егорий, своё сказал, а я подумаю. Ответ завтра дам. И с повозкой твоей завтра разберемся с утра, наломался я сегодня на покосе, день жаркий был.
Когда купец не очень ловко вскарабкался на выпряженного из телеги коня и уехал, Сашка задумчиво поглядел ему вслед:
— А в Твери сейчас, сказывают, татары…
— Поедешь? — спросил старик-кузнец.
— Не знаю. С покосом-то за неделю управлюсь, скирды поставлю, а остатнее хозяйство на вас с Машкой ляжет. Я тебе не говорил: тяжёлая она, поберечь бы ее надо.
— Опять?!
— Что «опять»? Восемь лет как из-под венца и только третьего ждем, это, по-твоему, много?
— Я говорю: опять мне всю бабью работу в доме делать придется?
— Ну, положим, козу доить тебя в прошлый раз никто не заставлял, сам взялся. А то, что Архипка-Батама тебя за этим занятием углядел и по деревне растрезвонил, так двери в овчарню запирать надо было…
— А ты же ходил на речку бельё стирать, и хоть бы кто засмеялся!
— Попробовали бы! Я, батя, в полном воинском доспехе стирал, в латах и при мече.
— Брехун, — засмеялся старик, — ты всегда ночью на речку крался, чтоб никто не видал. Эй, Мишаня, — окликнул он мальчонку, все еще стоявшего при возу, — давай гони сено на двор. Мамке скажи, мол, тятька с дедушкой скоро придут.
Парнишка обрадованно кивнул, легонько дернул вожжи, крикнул по-взрослому «но-о, пошла!» и важно зашагал рядом с телегой.
* * *
К племяннику кузнеца на селе относились по-разному. Одинец, прозвище, прилипшее к Сашке с той давней поры, когда он в одночасье лишился отца и матери, как нельзя больше соответствовало его натуре и в годы возмужалости: больших сборищ он сторонился, хлеб-соль водил лишь с двумя-тремя мужиками, друзьями детства, да кой с кем из немногочисленной родни жены. Своей роднёй Одинец был обделен, родители его приехали в Михайлову слободу, сельцо князя московского, стоявшее недалеко от прямой дороги на Можай, совсем незадолго до того памятного и страшного лета 1302 года от Рождества Христова.
О-о, это лето в селе помнили и двадцать с лишком лет спустя! Годом ранее случилась скоротечная война между правителями рязанского и московского княжеств, завершившаяся пленением и заточением в московскую темницу рязанского князя Константина Романовича. И вот на следующее лето рязанцы ответили ударом на удар. Правда, было совсем не похоже, что целью скорого набега служило освобождение их бывшего господина, поскольку Москву рязанская конная рать обошла стороной. Целью была месть москвичам за разорение рязанщины. Ну, и пограбить чего на скорую руку.
Нежданно ворвались тогда в мирные улицы рязанские конники, рассеялись меж избами, на полном ходу пуская стрелы во все живое, не успевшее укрыться от внезапного наскока. Не было спасенья: самых увёртливых, кого миновала свистящая стрела передовых дружинников, находил тяжелый меч задних. Немногочисленные слободские мужики, пытавшиеся защитить свои семейства и хозяйства, гибли на дворах, пятная кровавыми лужами пыль дорожек, по которым когда-то младенцами сделали первые в жизни шаги. Да и что могли землепашцы, вооруженные коротеньким плотницким топором или случайным дрекольём, противопоставить злой, обученной калечить и убивать силе опытных воинов?
Уцелели из хозяев лишь те, кто находился на лесных делянках, уцелели девки да ребятишки, спозаранку отправленные родителями по грибы и ягоды, уцелели и некоторые старики, которых и учить не надо было как скрываться в огородном бурьяне.
Вот от них, уцелевших, и пошел по селу часто поминаемый рассказ, как прибежал от кузни на загоревшийся двор Сашкин отец и увидал жену свою (упокой, Господи, душу рабы твоей, Анны; какая работящая была, приветливая, а певунья какая!), всю расхристанную, в разорванной рубахе, под рязанским воином, в кругу гоготавших потных победителей.
Недюжинной силы был Стёпка, вспоминали тут старики. Как зачал он вилами орудовать, ну словно снопы клал! Всю бы рать рязанскую так и положил, не найди его со спины калёная стрела…
Упавшего Степана дружинники остервенело кололи копьями и мечами, а когда пришедшая в себя Анна вместо того, чтобы бежать куда глаза глядят, бросилась прикрыть собой обезображенный труп мужа, кривой на один глаз верзила, так и не дождавшийся своей очереди в кобельей потехе, вонзил в нее вилы, выпавшие из Степановой руки. «Да-а…, — завершали свой рассказ старики, — вот какие мужики в нашем селе раньше живали!»
Рязанцы ускакали из села не мешкая, едва успев набить дорожные сумы теми вещами, какие впопыхах нашарили в обезлюдевших домах. Забрали с собой и всех лошадей. Остальную найденною на подворьях скотину просто порезали. Благо, такой было мало: основное стадо паслось на дальнем выгоне и на пути им не попалось.
Только ввечеру с опаской воротившиеся на пепелища односельчане отыскали десятилетнего сына кузнеца. Нашёлся он под крышей не затронутого огнем амбара. Мальчишка, невольный свидетель страшной гибели родителей, был как деревянный, не видел и не слышал разыскивавших его. Так он и стал сирота, одинец. Немота его прошла, оставив заикание, но и оно со временем утихло. Месяца через два, в сентябре, называвшемся тогда «серпень», в село явился угрюмого вида коренастый чернобородый мужик. Он сказался старшим братом покойного кузнеца, бывшим жителем черниговских краёв, несколько лет проведшим в татарском полоне. И вот теперь, отпущенный на волю вдовой покойного сарайского мурзы, он разыскивал родных, по слухам, переехавшим в это подмосковное село. Власия Петрова, михайловского старосту, ставленного управлять селом от московского князя Даниила, убедили три обстоятельства. Никифор, так звали захожего черниговца, действительно оказался отменным кузнецом. Кроме того, кучка монет, высыпанных бродягой перед княжьим слугой, была в два раза больше той, что мог получить он, сдав мужика на руки княжеским приставам. И вдобавок, Сашка, дичившийся людей, при первом же свидании с Никифором так доверчиво прильнул к названному «дяде», что у Власия, действительно, шевельнулись сомнения: «Бог знает, может, мальчишка и впрямь помнит что-то из младенчества?»
Никифору было позволено остаться в селе, а со временем его неясное прошлое решительно перестало кого-либо интересовать. Был он не лежебок, искусен в ковании лошадей и не болел похмельем, хотя от предложенной чарки никогда не отказывался.
Дядька, позвав соседей «на помочи», быстро отстроил дом на месте сгоревшего, и они зажили там сначала вдвоем с Сашкой, а затем, когда нестарый еще кузнец сосватал за себя тихую бездетную вдовицу из-за реки, втроем. Вдова, однако, недолго составляла семейное счастье кузнеца и через несколько лет померла также тихонько и незаметно, как жила, оставив по себе в Никифоре незабвенную память: в родительские субботы он неизменно ставил в храме свечу, давал гнусавенькому отцу Алоизию монету на помин души усопшей рабы и к вечеру напивался в дым. Сашке дядька Никифор заменил и отца, и мать. И хотя детская память цепко хранила их образы, никакого напряжения в душе отрока не возникало: Сашка сразу и безоговорочно перенес на дядьку сыновьи чувства, прежде испытываемые к родителям. Попроси его кто объяснить, он бы не смог выразить внятно, почему в его глазах никогда прежде не виданный им мужик стал прямым продолжением отца, да таким, что будто и не было страшной смерти последнего. Дело, скорей всего, объяснялось тем, что мальчишка не примирился с чудовищно несправедливой его гибелью. Отец был жив, и все тут! В другом образе, но — жив. И матушка для него была жива, не рядом, не показываясь въявь, а — жива. Иногда его постоянное внутреннее общение с родителями вызывало недоумение окружающих. «Не от мира сего», — говорили, снисходительно прощая сироте эту странность.
Что касается жизни всего села, то более никогда в продолжение минувших после того двадцати с лишком лет оно не подвергалось нападениям вражьих сил. При всей царившей на русской земле смуте, когда редкий год проходил без малой или большой распри меж правителями отдельных княжеств, все эти усобицы не особо и касались землепашцев. Для войн, ратей и походов княжеским особам хватало, как правило, их собственных постоянных дружин. Ополчение созывалось в самых крайних случаях, поскольку отрывать мужиков от земли — последнее дело. Лето провоюешь, а жрать потом что будешь? Так что, хоть и стояла слобода почти на самом шляхе от Смоленска до Москвы, ее никто не тревожил. Смоленские князья в ту пору как-то уживались с московскими без кровопусканий, благодаря сему обстоятельству в одинцовской слободе выросло целое поколение, не знавшее войны. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить…
* * *
У Марьи с утра всё валилось из рук. И когда доила корову, и когда на зорьке выпускала ее вместе с телёнком за ворота на призывное хлопанье пастушеского кнута, и когда, вернувшись в избу, вздувала огонь в печи, ставила варево — она несколько раз замирала в раздумьях, оставляя занятия. Вечернее решение мужа отправиться в далёкую пугающую Тверь не шло из ума, ночь она провела почти без сна.
Мужчины, пока она хлопотала со скотиной, не перекусив, ушли в кузню и, если выйти в огород, можно было издалека видеть, как они долго вручную вкатывали в кузнечный сарай большущую телегу: то один, то другой приседал, наклонялся, размахивал руками, подавал знаки, затем они снова хватались за оглобли, а через неподвижный воздух тёплого утра до случайных зрителей долетали ядрёные звуки мужских споров. Наконец телега скрылась в черноте проёма, оба кузнеца вышли из сарая и пошагали к селу. Тут только Марья, спохватившись, обнаружила себя с пустым лукошком в руках возле огуречной грядки; она быстро сорвала несколько толстеньких, уже начинавших желтеть с переднего конца огурцов и поспешила в избу.
Ели молча, похрустывали огурцами, таскали деревянными ложками со сковороды пареную в яйцах с молоком репу, кусали хлеб — ржаной, с хрустящей верхней корочкой, обсыпанный побуревшей от печного жара мукой… Мишаня, объев со своего края самую вкусную загорелую пенку яичницы, рискуя получить ложкой по лбу, воровато лез на край деда. Старый кузнец, замечая проделки внука, лишь нарочито сердито двигал бровью да искоса поглядывал на невестку, докармливавшую с ложки младшего годовалого сына.
— Тять, — Мишаня решился прервать общее молчание: у тятьки с мамкой несогласие, их не переждешь, — ребята на речку звали, можно я пойду?
— А? — очнулся от дум отец. — На речку? Сбегай, но недолго, смотри: после полудня на покос с тобой поедем, сено грести…
— Ладно! — Мишаня проворно допил молоко из кружки, перекрестился и полез из-за стола.
— Так! — сказал Никифор. — Вижу, ночь вас не рассудила! Давайте сейчас вместе решать…
Сноха промолчала, лишь ниже склонилась к ребенку, и на ее задрожавшую руку с зажатой ложечкой одна за другой капнули несколько слез.
— Да что я не понимаю, что ли, что не время уезжать мне? — в голосе Александра сквозила досада на себя, на жену, на весь свет. — А что поделаешь… Ржи нынче соберём не больше, чем сеяли, вся сгорела в такую сушь. Скотину тоже до следующего лета не убережём, только на корову сена хватит, бычка с телушкой осенью под нож придется пустить. А ведь скоро приставы заявятся: княжью долю отдай, церковную десятину плати, за кузню плати!
Он засопел, встал из-за стола, пересел на лавку ближе к распахнутому окну и, уставясь невидящими глазами на сонную млеющую под все более припекавшим солнцем кривую сельскую улицу, замолчал. Плечи жены судорожно затряслись от сдерживаемых рыданий. Старик кузнец, приобняв, погладил невестку по упавшей на его плечо голове:
— Ну, ну, будет, Машутка, успокойся — никуда он не денется, не впервой. Ты же знаешь: Сашка, он такой… выкрутится. Смотришь, недельки через три и возвернется! Правду ведь говорит, не вытянуть нам в эту зиму. Добро бы только нам, а то ведь и матушка твоя на нём. После похорон батюшки она уж не работницей стала. Вся семья у нас — излом да вывих, на мужа твоего только и надежды. А из Твери воротится с прибылью, глядишь, и заживем! Он тебе и подарок какой в городе купит, монисту иль подвески серебряные… Мишане пояс шелковый, сапожки.
— Ой, да разве в подарках дело! — отрываясь от стариковского плеча, со слезами в голосе проговорила Марья. — Что ты меня как маленькую успокаиваешь? Нехорошо мне на душе, тоска какая-то…
— Ты это брось… ты гони тоску эту… накаркаешь, не приведи Господи! — закрестился кузнец. — Знаешь, как говорят: кому сгореть, тот не утонет. Ой, смотри: муха в молоко упала, точно — к подаркам!
Засмеялись все вместе, даже Марья невольно улыбнулась. Александр подошел, оторвал жену от старика, сжал в больших ладонях мокрое от слез лицо, поцеловал:
— Не бойся, родная, вернусь поздорову…
— Э-э, нет, — запротестовал Никифор, — знаю я вас, сейчас слюнявить друг дружку полдня будете. Пошли-ка, Саня, работу работать.
История замужества Марьи если и писалась где-то на небесах, то Марье в ней отводилось место не последнее. Когда-то давно, сразу после того как в соседях с домом ее родителей поселились приезжие черниговцы, семилетняя Машка заприметила высокого рыжего парнишку, сына кузнеца. Подружились они сразу, и хотя Сашка быстро прослыл задиристой, всегда готовой на драку отчаянной головушкой, со своей меньшей соседкой он обращался как заботливый старший брат. Временами даже казалось, что верховодит в этой странной парочке именно она, бывшая на целых два года младше. Сказывалось ли тут то, что ни у нее, ни у него не было сестёр и братьев, или что иное, но в детстве были они что называется «не разлей вода». Впрочем, у Машутки были и братья, и сестры, да только уж больно возрастные. Она еще сосала материну грудь, а старшие уже переженились и повыскакивали замуж. Машка была поскрёбышем, дитятком старых по деревенским меркам родителей; отцу ее, хромоногому Ягану, в то время уже перевалило на шестой десяток, и надо же — грех случился, девку родил. Оттого и любил старый Яган младшую дочь как последнее утешение в жизни. С тем и ушёл в могилу, успев благословить дочь под венец, тому девять лет назад: «Хоть и гультяй твой Сашка, но парень башковитый…» Не прав был батюшка, Одинец гультяем не был: носило повзрослевшего сына кузнеца по всей обширной русской земле, но забыть свою первую и единственную деревенскую любовь он не забыл. И вернулся к той, которая так долго ждала.
Почудилось: скрипнула наружная дверь, раздались шаги, кто-то долго завозился у двери в избу — в сенках было темно. Марья спустила с рук уснувшего ребенка, подошла открыть и лицом к лицу столкнулась с пришедшим.
— Доброго здоровья, Марья, — ражий мужичина шагнул в горницу, разгибаясь из-под низкой притолоки. Вглядевшись, женщина узнала гостя, отлегло от сердца.
— Здравствуй, Егор… Проходи.
Рогуля уловил в голосе хозяйки смущение, она отступила, сторонясь, давая ему дорогу и торопливыми движениями заталкивая под платок выбившуюся непослушную прядь волос. Среди избы гость огляделся на простую, бедноватую обстановку жилища, дважды обмахнулся перстами на образа:
— Мужиков-то твоих нету дома?
— В кузне.
— А-а-а, это я им работенку подкинул. Ну, сейчас туда пройду.
Он снова огляделся, прошёлся по поскрипывавшим половицам, присел на лавку:
— На дворе-то так и печёт. Ты бы мне хоть квасу предложила.
Марья, вспыхнув лицом от оплошности, подала Егору ковш:
— Не настоялся еще квас, только вода есть, она студёная, утром с колодца брала.
— Ну, и за воду спасибо, — купец, принимая ковш, словно случайно задержал женскую руку в своей.
«Какая мягкая и маленькая ладонь у него, и перстней — на каждом пальце, — Марья отняла руку и невольно грустно улыбнулась, вспомнив жёсткие от трудов руки мужа. — Моего перстни носить не заставишь!» Егор, не понявший значения этой улыбки, отнёс её на свой счёт. Крупное, холеное лицо купца с подбритой на татарский манер узенькой бородкой оживилось:
— Вижу, не в шелках ходишь. Что ж твой Сашка у князя ничего не выслужил?
— Он не из тех, кто просит, — в голосе молодой женщины купцу послышалось что-то горделивое, но гордость такого рода ему была непонятна. Марья стояла возле зыбки со спящим ребенком, привычно покачивая её. Одета она была в лёгкий обыденный сарафан и широкую белую рубаху, стянутую у ворота простым шнурком. Под складками немудрёной домашней одежды угадывалось сильное статное тело молодой женщины. Когда-то Марья признано считалась одной из самых красивых девок в Михайловской слободе. Теперь, в свои тридцать, в отличие от многих товарок детских игр, увядших от тяжёлой домашней работы, она была в возрасте наивысшего расцвета женской красоты. Ее лицо еще не тронули морщинки возле глаз, а сами глаза, серые, с наволокой прозрачной дымчатой голубизны, смотрели на гостя прямо и открыто. Рогуля встал и приблизился к ней:
— Не просит, говоришь? А мог бы ради такой жены и пересилить свою натуру.
Марья удивленно вскинула брови. Гость продолжал, всё ниже наклоняясь к ней:
— Вот я б тебя всю златом-серебром осыпал. Помнишь, на гулянках, бывало, я от тебя ни на шаг не отходил? Помнишь, какие подарки предлагал? Да и ночки те я не забыл.
Его красивый раскатистый голос перешёл во вкрадчивый шёпот:
— Да не любы тебе были мои подарочки… А я до сей поры помню тебя, и подарки мои ныне могли бы быть что королевнам не снились! Я теперь многое могу. Ехал сюда, всё думал, как увижу тебя. Ты ещё краше стала…
Марья стояла ошеломлённая страстным горячечным признанием, наконец, она смогла стряхнуть с себя наваждение:
— Не забывайся, Егор… Я — мужняя жена. Может, и нравился ты мне, да люб всегда другой был. И про ночи мне не вспоминай. Не было никаких ночек. Н-е-б-ы-л-о… Вспомни, и ты давно женат!
— Жена не стенка, подвинуть можно.
Марья окончательно пришла в себя, в её голосе прозвучала насмешка:
— И детишек тоже подвинуть?
Купец отпрянул как от пощечины. Он поднял с пола случайно оброненную шапку и пошёл из избы, но у самой двери обернулся:
— Ты, Марья, не зарекайся, будущего никто не ведает: и моя супруженица все хворает, и твой муженек не вечен.
Это «не вечен» билось в Марьиной голове всю последующую вслед за тем неделю. Она не стала рассказывать мужу о посещении Рогули и поселившихся в ней опасениях. Напротив, выглядела успокоившейся и только была еще более нежна короткими ночами. Александр, видя жену спокойной, тоже повеселел:
— Не бойся, милая. Ведь сколько раз меня в дружину провожала! И хоть бы хны мне — ни царапины. А тут, подумаешь, в Тверь скатаемся… С Егорием за службу я на четыре золотых сговорился. Вот заживём!
* * *
В Москве Одинец не был давно. Хотя, казалось бы, чего проще — от их села до стольного княжеского города и ехать всего ничего, верхом на хорошем коне за неполный день добраться можно, вёрст сорок. Но на этот раз кузнец ехал на телеге, которую без всякого воодушевления тащил страшно удивленный таким оборотом событий верховой Александров жеребец. Если честно, Каурому было не в новинку быть запряженным в телегу: когда-то, рожденный на конюшне богатого смоленского огнищанина, он успел, выйдя на четвертом году из стригунков, потянуть хомут и отведать кучерского кнута. А потом всё вдруг переменилось, как в их лошадиных снах: жеребца заприметил на торгу московский дружинник и купил его за немилосердную цену, какую заломил конюшничий огнищанина и за какую в аду ему подбросят под котел лишнюю вязанку дров.
Так Каурый из простого ломовика превратился в боевого коня. И в упряжь он больше не попадал. Впрочем, крупной войны на смоленском порубежье, где его новый хозяин служил в полусотне пограничной стражи, в последние годы не было. Чаще это были мелкие стычки московских стражников с воровскими шайками, промышлявшими на торговых путях и до нитки обиравшими купеческие караваны, либо, что тоже случалось нередко, с купцами, норовившими лесными дорогами обогнуть мытные дворы князя московского, чтобы не платить «осьмину» — пошлину в восьмую часть стоимости ввозимого товара. Обозы купцов сопровождали хорошо вооруженные слуги или наймиты. Да и сами купцы не плоховали, когда надобно было взять в руки оружие, защищая свое добро.
Через некоторое время хозяин ушёл из дружины, потянуло на родину, и Каурый оказался в деннике конюшни, принадлежавшей старому кузнецу Никифору. Но и тут Одинец берёг его: тягловую работу в кузнецовом хозяйстве выполнял смирный и безотказный немолодой меринок. Сегодня же утром хозяин всё переменил, а когда Каурый заартачился, не желая спятиться в оглобли, взбрыкивая ногами и уворачиваясь от хомута, то получил такой шлепок тяжёлой хозяйской руки, от которого и заполдень саднило в скуле. Конь обиделся, потому и прощание с Мишаней, конячьим любимцем, вышло каким-то скомканным.
— Ты уж, Карька, тятеньку не выдавай, — попросил мальчишка, поглаживая ручонкой длинную морду с умными влажными глазами. Конь покосился на хозяина, всхрапнул, мол, да чего уж, ладно…
Александр, понаряднее одетый ради дальнего путешествия в чужие места — по одежке встречают! — скрипя лаптями, прощался с домашними: поцеловал жену, младшего сынишку у неё на руках, обнял старого Никифора, державшего иконку. Доска иконы больно уперлась в ребро при объятиях, Александр взглянул на неё, усмехнулся:
— Батя, ты хоть посмотрел, чем меня на дорогу благословить собрался?
Старый кузнец ахнул: «Не разглядел впотьмах!» На сгорбленной доске потемневшими от времени красками было писано положение во гроб Господа нашего, Иисуса Христа. «О, Боже! Одно к одному…» — тихонько вздохнула Марья. Пока кузнец бегал в избу, Александр принял из рук Мишани кнут, взъерошил сыну волосы: «Мамку с дедом слушайся!», щёлкнул вожжами и, на ходу вскидываясь на край телеги, выкатил со двора. Запыхавшийся Никифор, выбежав за ворота, перекрестил удаляющуюся повозку другой иконой. Там красовался Георгий Победоносец, не глядя тыкавший копьем завитого в бублик Змея.
— Вот эта в самый раз будет! — удовлетворенно сказал дед.
— И тут — Егорий… — вдругорядь вздохнула Марья.
— Подрасту, буду с тятькой ездить, он обещался, — сурово насупясь, сказал Мишаня.
Полуденный час застал их на полпути, остановились, въехав на голый с одной стороны пригорок. Оттуда разом глазу открылись широченные дали: пространство темнеющих дубовых лесов с редкими полянами, а за лесами — в тумане — главы церквей и колоколен.
— Вот и столица развиднелась, — сказал Одинец, завернул коня с телегой под тень густого орешника, взял бадейку и спустился вниз, к журчащему неподалеку ручью.
Столиц, стольных градов Александр на своем не таком уж длинном веку повидал немало. Бывал кроме Москвы и во Владимире, и в Суздале, и в Смоленске. Да и в Твери он, действительно, бывал. Стольный град — значит, город в котором удельный князь на престоле сидит. А уделов на русской земле с тех пор, как распалась Русь после смерти мудрого Ярослава, наплодилось множество. И в каждом уделе — князь, свой особенный государь, свою дружину содержит, свой суд над людишками творит.
Александр вернулся к повозке, не поленился, выпряг каурого, тщательно осмотрел холку, не натёрло ли где хомутом.
— Ожирел без работы, тунеядец, — ворчал он на ни в чём не повинное животное. — Ничего, ты у меня попляшешь! До самой Твери будешь телегу тянуть.
Жеребец, уткнувшись в бадью, торопливо глотал воду. По голосу хозяина он догадывался, что гроза за утреннее непослушание прошла, и надеялся, что его превращение в гужевую скотину не затянется надолго. Александр и сам втайне лелеял мысль, что в Москве, когда будет составляться купеческий обоз, он сумеет пристроить невеликую поклажу — весь товар, что смогли они с дядькой приготовить на торги, тянул всего пудов десять — на чей-нибудь неполный воз.
* * *
Как удачно всё получилось, не всяк день так повезёт. С раннего утра Елоха лежал в зарослях тянувшихся вдоль дороги, караулил добычу. Прошли два небольших обоза, оба возов по десять-двенадцать, один купеческий, второй — скорее всего, княжий, при вооруженной охране. Эти Елоху не интересовали, не с их ватагой немалый поезд купчишек громить; про княжеский и говорить нечего: проехали, его не заметили — и ладно. И вдруг то, что ждал — одинокая телега на шляхе. Справный конь, большая поклажа, укрытая со всех сторон рядном и обтянутая веревкой, а на передке телеги один-одинёшенек мужик покачивается, лапти свесив. Ещё больше возликовал наблюдатель, когда мужик, не доезжая до его лёжки, подал коня вправо, съехал под ближайшие кусты и, остановившись, принялся распрягать. Родничок, что находился неподалеку от этого места, пользовался большой славой среди дорожного люда.
Пятясь задом как рак, Елоха проворно отполз с обочины, и когда лесная чаща надёжно прикрыла его от глаза с дороги, побежал к лесной сторожке, где ждали Жила и Онфим.
— Совсем один? — недоверчиво переспросил Жила, сразу подбираясь как хищный зверь. — Ну, поторопимся тогда: гости позваны, постели постланы.
Высокий, мосластый, заросший клочковатой чёрной бородой, ниже которой из расстегнутого ворота рубахи выпирали жёлтые ключицы, тоже облепленные волосом, Жила был в этой троице предводителем. Двое его молодых подручников мало что знали о предыдущей жизни вожака, а спрашивать — себе дороже, посмотрит на тебя, аж душа в пятки уйдет.
Знали только, что у мельника, что на Вязовом ручье водяную мельницу держал, появился года два назад помощник. Предыдущего работника мельник, которого селяне самого видали тверёзым нечасто, якобы рассчитал за ежедневную пьянку. Впрочем, поговаривали, не в бражке дело. Говорили, что работник «знак получил»: будто водяной с ним разговаривал, к себе звал на житье, а как отказался работник, сильно грозился. Вот и кинулся тот помощник прочь, даже и плату, выдаваемую по обычаю после первого сентября — наступления крестьянского нового года, ждать не стал, так и сказал хозяину, мол, отдай тому, кто вместо меня на это проклятое место придет.
Пришел Жила. Был он не местный, откуда-то из-под Коломны. Губной староста, взявшийся проверить, что за птица залетела на его землю, вскоре получил с проезжими купцами подтверждение: проживал в сельце под Коломной такой мужик, ушёл куда неведомо, недоимок за ним не числится. На том всё и успокоилось.
По нынешней весне, когда хозяина-мельника нашли утонувшим в бочажине под водобойным колесом, опять про Жилу какие-то шепотки поползли. Но Жила смело явился на разбор дела в губную избу и показал, что корысти убивать хозяина у него быть не могло. А коль теперь мельница, за неимением наследников у погибшего, отходит в княжескую казну, то он готов взять её в откуп и будет работать, если власти дозволят. Посудили, порядили и оставили мельницу Жиле.
— Мы ведь его только пужнём, а, дядя Прокоп? — Онфима, самого молодого из троицы, взяла дрожь. — Ты так говорил…
— Конечно, только пужнём! — оскалился в улыбке Жила. — А если после того он дух испустит, значит — Божья воля. Вы чего уши прижали? Как вчера на дело звал, так наперебой просились: помоги, дядя Прокоп, совсем худо жизнь пошла, избёнки у тятенек покосились, сапожки у добрых молодцев поизносились, девки нас не любят… Чтоб девки любили — денежки нужны! Вот и пойдем их сейчас добывать. Давай, давай, поживее с духом собирайтесь. Да дубинки прихватите. Для виду. Они вам не понадобятся, стойте рядом, да смотрите, как я с мужичком говорить стану. Учитесь, молокососы, пригодится и такая наука.
Одинец, растрясённый утомительной дорогой, сам не заметил, как заснул. Охапка сена в телеге служила ему постелью. В тёплом стоялом воздухе резко пахло луговым разнотравьем и слышался неумолчный ровный гул, в который ясным днем сливаются жужжание насекомых и щебетание птиц. Но безмятежный сон не был продолжительным, тревожное ржание жеребца вернуло Александра в явь: к телеге подходили три человека.
Жила, шедший первым, чертыхнулся от досады, увидев, что спящий проснулся. А как бы хорошо: один удар увесистой клюкой — и спи, мужичок, дальше, на ангелов любуйся. Теперь для тебя, деревенщина, все по-другому выйдет, зря проснулся.
— Здравствуй, мил человек! — Жила уже не спешил, можно и позабавиться напоследок. Давненько не хаживал он на дело. Почти забылось это сладкое чувство опасности, к которому примешивается что-то такое, что сразу и словами не объяснишь, когда держишь ты жизнь человеческую в своей руке да решаешь: жить тому или не жить. Не то что Богом себя ощущаешь (прости, Господи, за мысль грешную и горделивую), а и не просто человеком! Правда, на вопрос «жить или не жить» своим жертвам Жила всегда отвечал — «не жить». А как иначе? Иначе побежит ободранный растяпа прямиком в волость: «Карау-у-ул! Ограбили!». Вот и приметы злодеев… И повяжут их тёпленькими. Его, Жилу, конечно, им не взять, руки коротки, не от таких уходил: на тысячу верст леса кругом, беги, куда ноги несут. Только мельницу бросать жалко. Ведь обжился тут уже, да и возраст подходит к тому, чтобы не в лесной норе, как бывало прежде, зиму зимовать, а при своем углу, среди людей. Чтоб при встречах: «Доброго здоровья вам, дядька Прокопий!» И чтоб шапку ломали первыми.
— По здорову и вы, люди добрые! — мужик уже спустился на землю, стоял, тёр глаза.
— Куда путь держишь? — лениво, с расстановочкой проговорил Жила, давая знак Онфиму и Елохе зайти мужику со спины и одновременно приподнимая край грубой ткани, накрывавшей воз. — Какой товар? О-о, да ты богатенький у нас, как гость заморский. Чего ж один едешь, вдруг тати ненароком налетят, разбойнички?
— Ась? — вопросил мужик, вертя головой и глупо взглядывая то на Жилу, то на стоявших за спиной. — Какие тати? Татей на этой дороге уж давно не водилось, мне сказывали.
Резким смехом засмеялся Жила, дурашливо тряся головой, заржал Елоха, хихикнул Онфим. Жила оборвал смех, глянул мужику в глаза своим страшным, чёрным с искрой оком:
— А вдруг мы и есть разбойнички-тати?
— Да как же это… — забормотал мужик, — как же тати? Тати — они не этакие, они, тати…
— Помолись, друг, на солнышко, — с наигранным сочувствием сказал Жила.
— Дядя Прокоп, ты ж обещался, — запротестовал Онфим.
— Да, дядя Прокоп… — поддержал дружка Елоха.
— Стойте, братцы, родименькие, — плаксиво закричал мужик, более обращаясь к вожаку, — я всё отдам!
Он кинулся к телеге и суетливо зашарил на дне под сеном: «Вот тут у меня было… вот… богатство-то моё… вот…».
Жиле уже надоел весь этот галдёж. «Пора кончать!» — решился он и, выхватив из-за голенища нож, ударил в согбенную мужичью спину. Неожиданно столь верный удар пришелся мимо: мужик именно в этот миг сунулся вбок и точёный булат лишь вспорол полу его широкой рубахи, а затем намертво впился в тележный борт. Жила отнёс сей казус к нелепой случайности и на короткое время упустил мужичка из виду, пытаясь освободить нож. И напрасно: в острый кадык на разбойничьей шее упёрлось острие меча. Куда и подевалась неуклюжесть и робость мужичка! Он выпрямился и оказался ростом даже чуток выше высокого Жилы.
— Ты, дядя Прокоп, отпусти свой ножичек-то, чего его дёргать, сломаешь невзначай. Вот так… Теперь знакомиться по-настоящему будем. Да вы, ребята, палки свои кидайте на землю, не стесняйтесь.
За спинами молодцев грозно фыркнул конь. От неожиданности все вздрогнули.
— Бей его, робята! — резко выкрикнул не упустивший момента Жила. И тут же почувствовал пронзительную боль в плече, навылет пробитом быстрым выпадом Сашкиного меча. Падая на траву, Жила видел, как Елоха бросился на «купца», вращая над головой своей нешуточной дубиной, видел, как прянул купец под телегу и тотчас вынырнул с другой стороны, видел, как каурый конь взвился на дыбы и, выбросив вмах передние копыта, подмял замешкавшегося Онфима… Не видел вожак только, как по шляху с полуденной стороны к ним на полном скаку неслись несколько конников.
Одинец, уворачиваясь от бившей куда ни попадя кривой Елохиной дубины, всадников заметил. Он прыгал по возу, оступаясь, громыхая по разлетающимся из-под ног ухватам, котелкам и поварёшкам: «Неужто подмога им идет? Тогда — амба, не совладать…» В последнем яростном усилии он достал противника: со всего маху плашмя опустил меч на спутанные кудри Елохи. Тот закатил глаза и упал рядом с вожаком.
— Бросай саблю! — копья всадников, окруживших телегу, закачали остриями перед Александром. — Бросай, говорят!
Одинец крутанулся на вершине воза, разглядел синий с красной оторочкой плащ десятника, тряпичные значки-треугольнички в цвета московского князя на копьях — «свои!» — бросил меч под ноги.
— Вот это я понимаю, битва при Гагамельях! — спешиваясь, насмешливо сказал десятник, оглядев вытоптанную поляну. Упоминание древней битвы означало знакомство воина с широко ходившим по Руси жизнеописанием Александра Македонского.
— Гавгамелах, — поправил Одинец и, тяжело отдуваясь, спрыгнул с воза.
— Чего?
— Битва у греков при Гавгамелах была…
— Фи-и-ть! — присвистнул десятник. — Какие грамотеи на дороге встречаются. При… при деревне Сопляево. Давайте сказывайте, что приключилось?
— В Москву с товаром ехал, и тут эти трое, — Одинец, прихрамывая, принялся собирать разбросанную вкруг воза посуду.
— Да мы только поговорить хотели, — провыл с земли очнувшийся Елоха, — а он дёрганый какой-то… сразу за оружье… дядьку Прокопа насмерть убил… и меня с Онфимом тоже.
Десятник прошелся по поляне, глядя, как дружинники перевязывают оплывавшего кровью чернобородого, присел возле:
— Жить будет?
— Хрен его знает, кровищи-то вытекло…
Кривясь от боли, Жила пошарил под рубахой. Маленький мешочек, висевший на груди у мельника, незаметно перекочевал в карман на кафтане предводителя стражников.
— Ну, что: картина ясная, перетрухал купчишка, за разбойников мужичков принял.
— Мы из Ракитовки, она тут, за лесом. А Прокоп — мельник наш, мельница у него на ручье. А мы с Онфимом нанятые, зерно мелем. А сегодня лес на починку плотины метить пошли… Ой, убил, убил он дядьку ни за што, ни про што… — снова завыл Елоха.
— Да не верещи ты, — поморщился десятник, — и дядька твой живой, и дружок тоже. Хотя, конечно, потопталась на нем лошадка. Эй, Филька, — крикнул одному из дружинников, — отгони скотину, покуда не сожрала бедолагу!
Дружинник замахнулся копьем, Каурый шарахнулся, по-собачьи задрав губу и оскалив крупные литые зубы, затем, победно подняв хвост, прорысил к хозяину.
— Хищник… — любуясь, уважительно протянул десятник. — Тебя, купец, мы с собой на Москву заберем.
— Меня-то за что? — изумился Одинец. — Чего с больной головы на здор…
— А то! — перебил десятник. — Разобраться бы надо, что ты за птица. Скажем, по какому праву меч носишь? И кто позволил людей дырявить? Как звать? Чей будешь?
— Я тебе при них, что ли, исповедоваться начну? — вскипел Александр. — Давай уж вези до начальства.
— Вот ты как заговорил, — зло прищурился десятник, — ну, твоя воля. Не пришлось бы слезки лить, как в застенок к тиуну попадешь.
Глава вторая
В тот август 1327 года от Рождества Христова Москва, стольный город небольшого удельного княжества, которым вот уже почитай шесть десятков лет правила младшая ветвь наследников Александра Невского, готовилась к великому событию. На праздник Успенья собирались освятить первый в городе каменный храм — собор в честь Пресвятой Богородицы, уже прозванный в народе для облегчения произношения просто Успенским. Для города сплошь построенного из дерева, начиная от избёнок ремесленников на окраинах посада, крытых соломой и камышом, и заканчивая княжескими хоромами, чьи тесовые крыши торчали много выше окружавшей их кремлёвской стены, появление полностью каменного строения было делом столь невиданным, что окрестный народ в продолжении всего строительства так и валил валом поглазеть на чудную затею князя Ивана Даниловича. Находились, понятно, среди зевак и знатоки — те, кому доводилось бывать в Ростове, Новгороде или Владимире и кто не понаслышке знал о могучих крепостных стенах, сложенных из диких камней-валунов в этих древних городах, кто видел и громадные златоверхие соборы с искусной вязью резьбы по белокаменным стенам. Знатоки с сомнением осматривали однокупольный и довольно скромный по размерам храм и роняли глубокомысленные замечания. Замечания, однако, тут не приветствовались, неосторожные словеса воспринимались как прямой поклёп и чаще всего завершались парой-тройкой тумаков от окружавших отечестволюбцев.
Мимо новенького храма, где спешно оканчивались строительные работы, всякое утро пролегала дорога главного московского тиуна, большого боярина Василия Плетнёва. Путь был близок: боярские палаты стояли тут же в кремле. Стоило лишь выйти за ворота неширокого по стесненности кремлёвской земли боярского двора, вывернуть из переулка на главную кремлёвскую улицу, упиравшуюся одним концом в Боровицкую башню, а другим в княжеский терем, и прошагать две сотни шагов по деревянной мостовой. Затем, как раз за новостройкой следовало повернуть влево, и впереди, возле крепостной кремлёвской стены, той, что своим фасадом грозно нависает над береговой кручей Яузы, можно было увидеть трёхаршинную ограду из стоймя вкопанных, затёсанных с боков и заостренных вверху сосновых бревен. Внутри ограды и располагалось место службы боярина Плетнёва — московская темница, тюрьма.
За поворотом боярин натолкнулся на двух горячо споривших мужчин. Первый из них, кафтан которого был одет прямо на голое тело и перемазан известью, держал второго за грудки и, напрягая жилы на побагровевшей шее, кричал: «А кто будет знать, кто? Ты когда доску обещался подвезти?!!» Второй, ватажный атаман московской плотницкой артели, молча сопел, безуспешно отдирая руки противника от ворота рубахи, и косил глазами в небеса. В первом боярин без труда признал подрядчика Федора Сапа, псковского каменных дел мастера, призванного московским князем вместе с артелью псковских же каменщиков на возведение небывалого храма: псковичи славились своим искусством работы с камнем. Кафтан на Сапе был с княжеского плеча, богатый: князь Иван Данилович пожаловал его мастеру по окончании возведения стен храмины. Все строительство заняло менее года, теперь шла отделка, и, конечно, артель в срок не укладывалась, отчего коренной подрядчик Сап лютел «зверинским образом».
Между спорящими и боярином неожиданно втёрся неизвестный холоп, державший в поводу незасёдланную кобылку. Парень остановился, привлечённый живописным зрелищем назревавшей драки, но тотчас к нему кинулся один из сопровождавших боярина слуг:
— Не засть, не просвирнин сын, не сквозишь!
Холоп оглянулся, ойкнул, узнав боярина — грозу всей Москвы — и, дёрнув конягу, пустился вдоль улицы.
— Ну, что, — не повышая голоса, сказал боярин Плетнёв, — двое плешивых за гребень дерутся?
Оба мастера разжали кулаки.
— Василий Онаньич, — с трудом переведя дыхание, прохрипел плотницкий артельный, — ты смотри, что этот анафема творит…
Гордый псковец Сап смело шагнул к боярину:
— Здравствуй, Василь Онаньич! Прости, что я шум учинил… Да как не шуметь, когда вот-вот храм святить, а у этих лодырей ещё работы на два месяца. Князь Иван Данилович позавчерась на стройку заходил, обещался ноги вырвать, если к сроку не поспеем. А они тянут кота за хвост: то гвоздей нет, то доски, то железа… Купол на треть не завершон! Мало того, третьего дня артельно бражничали…
— У нас товарищ намедни с лесов сорвался, — хмуро возразил плотник, — помянули маленько, пригубили по чуть-чуть.
— Вы так поминаете, что чудо как все не поубивались! — вновь завёлся Сап. — Богомазы тоже хороши: ползают по стенам, ровно мухи сонные, а указывать им не смей! Мол, что ты, «руки-крюки-морда-ящиком», в нашем деле понимаешь! Наше дело богодухновенное… А то, что у великомученника Евпла две левых ноги нарисовали и потом полдня переправляли, это как, святой дух им нашептал?!!
При суетном поминании святого духа боярин осерьёзнел лицом, недовольно сказал:
— Не зарывайся, Федька, думай что баешь. И вообще, ты это тысяцкому рассказывай, не мне. Стройкой тысяцкий ведает, ему и жалобись. Моё дело: после того, как Иван Данилович, долгих лет ему жизни, у вас ноги пообрывает, по оставшимся частям батогов всыпать. А теперь — брысь с дороги!
Внутри тюремного двора боярина тоже ожидал непорядок: в узком пространстве метались несколько караульных, пытаясь изловить крупного каурого жеребца который скакал вдоль изгороди, ловко уходя от протянутых к болтающейся уздечке рук. Старший из стражников, завидев начальство, подбежал с объяснениями:
— Василь Онаньевич, вчера заполночь князевы дружинники с можайского шляха мужика доставили, просили твою милость разобраться, что за гусь им попался. А это его коняшка. Вот прямо перед тем, как тебе явиться, с привязи сорвался да и носится. Хитрый, подлец: узду зубами развязал…
Боярин недовольно мотнул головой и, воспользовавшись тем, что скакуна оттеснили в угол двора, прошагал в караулку. Там он по утрам, как было заведено уже много лет, знакомился с новым пополнением сидельцев: за ночь соседнее с караулкой помещение, в просторечии — блошница, наполнялось задержанными разных состояний и званий.
«Двенадцать человек. Из них две бабы распутных. Да еще одна: мужа зельем уморила. Четверо ремесленников за поножовщину. Холоп, что у хозяина деньги украл. Три смерда беглых…» — бойко доложил подьячий с одуловатым землистым лицом, стараясь не дышать в сторону начальства.
Боярин уселся на лавку во главе длинного стола врытого толстенными опорами в земляной пол:
— Давай сюда того, чей конь на дворе скачет…
— Понял, — подьячий склонился над книгой с большими пергаментными страницами, куда вписывали всех новоприбывших, — назвался Алексашкой, прозваньем Одинец, кузнец из Михайловской слободы. Доставил его вчера с телегой и конём десятник Семён Тюря за то, что на можайском шляхе дрался с ракитовским мельником и его помощниками. Мельника увезли в волость для разбирательства, если выживет, а этого сюда…
Одинец не спал почти всю ночь. Мешали пьяные споры обиженных друг на друга ремесленников; тихонько и занудно выла новоявленная вдовица, баба лет сорока, отравившая мужа. «Господи, Господи, за что ж ты исделал меня такой разнесчастно-о-ой, — горчайше всхлипывая, тянула баба, — как же ребятишки мои теперь, ведь пропадут малые? Что ж истязал-то нас покойни-и-и-и-и-к? В чем вина-то моя был-а-а-а-а?» Только на рассвете Сашка немного забылся сном, постелив ватный армяк на не знавший веника пол. С облегчением он услышал свое имя, когда стражник кликнул его «на выход».
— За что сюда попал? — у грузного старика, сидевшего за столом в караулке и задавшего этот вопрос Александру, была самая обыкновенная и безобидная на взгляд внешность. Но Одинца этим было не обмануть, он подобрался, сон слетел. «Хорошо медведя в окно дразнить, — мелькнуло в голове, — а тут надо поосторожничать».
— Трем громилам на дороге моя лошадь понравилась, а я отдать не согласился, — с показным смирением ответил он.
— Куда ехал?
— Купец Рогуля, он на посаде за рекой живет, позвал до Твери торговым обозом сходить. У него спросите…
— Спросим, когда надо будет. А пока ты давай расскажи.
— А что рассказывать?
— Да всё! — боярин ласково улыбнулся, ни дать ни взять — отец родной. — Расскажи откуда родом… Грамотный? Ну, расскажи, где учился… Как батюшка с матушкой живут-поживают? Детишки есть ли? Говори, говори, ясный сокол, не стесняйся.
— Воля твоя, Василий Онаньевич! Родился я…
— Откуда меня знаешь? — остановил боярин.
— Да как твоей милости появиться, караульные кричали друг другу, мол, Василий Онаньевич изволит пожаловать!
— Ври да не завирайся, — скривил рот тиун, — кричал караульщик Степка Груздь, они его всегда на предупрежденье засылают — сядет в крапиву под изгородью и сидит сычом, меня ждет. И кричал он вот так: «Опасись, служивые! Старый хрен на кичу ползет!» А? Што? Не так?
— Тебе, Василь Онаньич, лучше своих людей знать… А про меня: живу сызмальства в Михайловском, родители померли, грамоте наш дьячок розгами выучил, потом, пока отроком был в Даниловом монастыре прислуживал, там у отца Нифонта доучивался. Как в силу вошел, три года с владимирской артелью на стройках горбил… Ну, а дальше — попал в ополчение, когда десять годов назад наши вместе с татарским войском против литовского князя Гедимина хаживали.
— И наклали вам литовцы по первое число, — боярин поудобнее откинулся на лавке, высвобождая дряблую зобатую шею из тесного воротника. Подьячий кинулся подобрать длинные полы бархатного тиуновского опашня — чтоб не мели по земле, подоткнул их начальнику под ляжки и снова уселся — весь внимание — в сторонке с пером в руке.
— Ополчение наше припоздало, татары без нас по сопаткам получили. А меня тогда, когда ополченье распускали, как грамотного в младшую княжью дружину взяли. Служил сначала мечником на смоленском рубеже, потом подьячим, затем десятским. А теперь вот обратно в село вернулся.
— И меч со службы утянул… А должен ведь княжеский указ знать, что простолюдью не полагается.
— Меч у меня дареный. Сам Иван Данилович за службу и пожаловал.
— Вот оно как! — в голосе тиуна уже не было прежней уверенности: кто его знает, вроде мужик мужиком перед ним, а, поди же ты… Он стрельнул зраком на подьячего, приказал: «Живо дуй на княжий двор, найдёшь стряпчего, боярина Кобылу, скажи, мол, Василий Онаньевич кланяется и про мечника Одинца выяснить желает».
— Грамотку бы мне, за вашей печаткой, — заробел подьячий, — вдруг стряпчий осердится?
— Осердится, значит, выпорет, я Кобылу знаю! После порки сразу сюда ковыляй, — тиун мелко затрясся в беззвучном смешке, видимо, самому шутка понравилась. — Но про Одинца всё равно выведать должон. Князь наградами у нас не раскидывается, так что стряпчий может помнить. Ну, что, — вновь обернулся боярин к Одинцу, — посиди пока в холодной, подожди. Коль не соврал, выпущу. Чего же ты сразу на шляху страже не объяснил?
— Десятский торопливый попался, у той хари разбойничьей запазушный кошель поторопился взять.
— Сам видел? Забожись.
Одинец трижды перекрестился, поняв: «Миновало…». Побрякивая ключами на связке, стражник тянул его из караулки. Боярин блеснул перстнями на пальцах, кашлянул в кулак и, когда Одинец уже был на пороге, буднично, как бы между прочим спросил:
— Мельник-то, говоришь, ракитовский?
— Ага…
— Надо будет познакомиться. Ну, иди, иди…
* * *
Вечерело. Низкое солнце удлинило тени, мир стал полосатым; в оврагах и низинках заклубилась нарастающая мгла. Заблаговестил одинокий колокол, протяжный звук его бежал по дорожкам теней и исчезал вдали. Даниловская обитель отходила к покою: устало брела братия на вечернюю молитву, коей надлежало окончить ещё один земной день, наполненный общением с Богом и работой в поле или огороде.
Когда-то — теперь казалось, что с тех пор прошла целая вечность — Одинец был отдан дядькой-кузнецом на учение в эту знаменитую обитель. Сам кузнец, ни бельмеса не понимавший в грамоте, свято верил, что только настоящее учение способно вывести племянника в люди. Александр навсегда запомнил тот день, когда необычно праздничный дядька подвёз его, тринадцатилетнего отрока, к въезду в монастырь.
— Может, не возьмут они меня?
Дядька уловил в голосе Саньки крохи надежды и погрозил корявым пальцем: «Шалишь, брат! Я уж давнёшенько сговорился. Что, думаешь, зря такие деньжищи за этот подарок для отца Нифонта отвалил?» Он стукнул кнутовищем по пузатому трехведерному бочоночку, лежавшему в телеге: «Не родился ещё тот монах, чтоб против такой тяги к знанью устоял!» Медовуха глухо отозвалась на стук кнута.
К чести Сашкиного наставника дар кузнеца со временем вернулся последнему с лихвой. Всякий раз, отпуская ученика домой в село на короткие побывки во время сева или косовицы, отче Нифонт вручал ему жбан, наполненный тягучим медом: в монастыре пастырь занимался бортничеством, подвижнически предаваясь нелёгкому, но любимому делу. Впрочем, оно же, случалось, доводило монаха до греха: ему не всегда удавалось соблюсти меру в приеме собственноручно изготовленной медовухи. После памятной дарёной бочки отец Нифонт зачислил и старого кузнеца в ряды знатоков и поклонников благородного русского продукта.
— Поклон дядьке твоему от меня грешного. Пчёлки мои прошлым летом постарались. И твоя заслуга в этом есть, ибо много было у меня парнишек в учении, да таких успехов не казали! Только нос не задирай, это у нас, на московщине, редко кто читать-писать умеет, а вот в Новгороде Великом, почитай, все сплошь, хоть мужики, хоть бабы!
Снова ударил колокол. Ворота монастырской ограды уже закрывались.
— Стой, погоди, отче! — Одинец, подгоняя, тронул жеребца пятками. Щупленький монашек в бахромящейся по подолу истрепанной рясе оглянулся и, с трудом удерживая самовольно открывающуюся наружу массивную обитую железом створку, попытался разглядеть, кто его окликнул.
— Мир тебе, добрый человек! Ты в обитель?
— Я к отцу игумену.
— Отец игумен сейчас на службе в храме, я передам ему. А ты, пока совсем не затемнело, коня на конюшню пристрой, да и жди у странноприимного дома…
— Хорошо, отче! — Одинец спешился, помог монаху запереть ворота, заложив с внутренней стороны в огромные кованые скобы два массивных бруса. — А ты не сможешь отцу Нифонту передать, что, мол, Одинец Сашка повидать его хочет?
— Отцу Нифонту? — инок удивленно взглянул на Одинца.
— Что? — Сашка послышалась странная заминка в вопросе монашка.
— Так ведь преставился наш старый игумен нонче зимой. Не знал? У нас теперь настоятелем иеромонах отец Алексий.
Злая новость не сразу дошла до Сашкиного сознания, он улыбнулся, как будто услышал что-то смешное и несуразное. «Да будет завир…» — губы еще произносили обычные слова, но ум уже проняло и язык замер на полуслове. Лицо Одинца потемнело.
— Знавал, что ли, Нифонта, аль как? — в голосе маленького инока плеснулось сочувствие.
— Выученник я его мирской. Где похоронили-то?
— Погодь, погодь! Ведь я тебя вспомнил: приезжал ты сюда. Как же! И Нифонт частенько поминал, все письма твои показывал. Могилка его тут, за храмом, как раз с краю…
Монашек продолжал еще что-то договаривать, Одинец, не слыша его, торопливо зашагал тропой, ведя коня в поводу.
— Так я скажу после службы отцу Алексию? — крикнул вслед инок и, перекрестившись на неожиданно засиявший в последнем луче солнца крест на колокольне, засеменил к входу в храм.
На отца игумена имя, названное монахом, произвело немедленное действие. Игумен был занят тем, что мягко увещевал келаря Нектария за непорядок на заднем дворе. Отец келарь, повидавший виды за свою долгую службу в монастыре, никак не мог привыкнуть к тёплой и задушевной манере речи нового иерея, которого митрополит Феогност назначил игуменом меньше полугода назад; оттого келарь терялся и оправдывался нескладно.
— Одинец? — игумен поспешил окончить разговор с келарем: — Я тебя, брат келарь, попрошу весь навоз с задов за два дня вывезти. Ну, подумай сам, каково тебе будет по тысяче поклонов средь навоза бить каждую ночь, когда я епитимью на тебя наложу. А вывезешь — ни епитимьи, ни навоза. Спать ночами в своей келейке будешь. Ангелы райские станут сниться…
Игумен повернулся и пошел прочь. Келарь постоял, припоминая какие причины он забыл упомянуть в разговоре, поглядел на носки своих стоптанных юфтевых сапог с присохшими к ним соломинами (появление этих грязных сапог в храме и послужило поводом для разноса), но ничего не припомнив, вздохнул: «Мягко стелет, да жёстко спать! Придётся всех крестьян монастырских завтра собирать… Что я, магометанин на луну молиться?»
Монастырское кладбище было невелико. За те полвека, что существует монастырь, оно набрало едва сотню могил. Вечными его жильцами устроились по большей части не иноки, отдавшие свои молодые и старые жизни заступу за православных христиан и отмаливание разнообразных народных грехов; лежали тут по преимуществу московские толстосумы из бояр и дворян, успевавшие перед кончиной принять монашеский постриг. Была тут и могилка, особо посещаемая: под узорчатым высоким крестом из белого известняка покоился прах первого московского князя — Даниила, отца нынешнего князя Ивана Даниловича. До Данилы, как известно, Москва княжеской столицей не была, а относилась она, как простой крепостной городишко, к княжеству владимирскому, откуда и присылались в нее правившие воеводы. И вдруг — на тебе! — когда после неожиданной смерти Александра Невского его сыновья стали земли и княжества между собой делить, самому младшенькому, Данилке, Москву и отдали…
Последнее пристанище бывшего игумена было с заботой обихожено братией: аккуратный холмик, обложенный пластами начинавшей уже укореняться дернины, скромный деревянный крест в рост человека с одним-единственным вырезанным по желтой древесине словом «Нифонт». Одинец зачем-то, словно проверяя крепко ли стоит, колыхнул крест, провел рукой по буквам надписи.
— Не без грехов наш учитель был, но, думаю, простил его Господь… — голос неслышно подошедшего сзади человека показался Александру очень знакомым.
— Семён? — не веря ушам, спросил Одинец.
— Он же Елеферий, он же отец Алексий, — улыбнулся инок, протягивая обе руки навстречу Сашке. Одинец было подался к нему, но замер:
— Так ты, значит…
— Новопоставленный игумен, — еще шире улыбнулся монах, забирая Сашку в крепкое объятие, — руки мне можешь не лобзать, а то ведь знаю я тебя, какую-нибудь гадость про старого соученика подумаешь! Ну, пошли, пошли в мою келейку, там говорить будем. Да и Нифонта помянем.
Жилищем настоятеля, к удивлению Одинца, видавшего роскошь игуменских обстановок в других монастырях, оказался маленький домишко на отшибе от главной монастырской улицы.
— Помнишь, ты навестил нас, когда мы с учителем эту конурку для меня рубили? Я тогда ещё послушником был. А сейчас вот по старой памяти снова тут и поселился.
— Ну, плотники вы оба были ещё те! — Одинец ткнул пальцем в кривой неровный паз меж бревнами стены. — Замёрзнешь ведь зимой…
— Да, мхом бы утыкать надобно, но время ждёт! — бодро согласился Алексий. — Входи однако, располагайся. Я пока в запасах пошуршу.
Загорелась свеча на небольшом столе возле единственного крохотного окна кельи, затянутого, как в простой крестьянской избе, бычьим пузырем; инок вышел в сени, откуда начали раздаваться звуки поисков, дважды прерванные падением пустой железной посуды. Одинец с приязнью осмотрел строгую простоту кельи.
Простота, впрочем, отдавала нарочитостью: на грубом сосновом столе стоял роскошный медный чернильный прибор, судя по витиеватости отделки — византийской работы, узенький деревянный топчан покрывало теплое атласное одеяло, подбитое беличьим мехом, несколько полок, развешанных по большой стене, тоже выдавали своей изумительной резьбой руку большого мастера.
«Молодец, простенько… но со вкусом», — подумалось Сашке. Он вспомнил свое первое знакомство с послушником Елеферием, которое произошло здесь же в монастыре. «Птица высокого полета!» — сказал учитель тогда про лопоухого нескладного парня, сынка одного из первых в те годы при княжеском дворе боярина Федора Бяконта. Боярский сын, презрев все выгоды блестящего положения отца, мечтавшего для потомка о такой же великолепной службе при князе, неожиданно для всех ушел в монастырь. И отец Нифонт, похоже, оказывался провидцем…
— Сразу подтвержу твои подозрения, — сказал Алексий, вываливая на стол нашедшиеся припасы: полкаравая пшеничного хлеба, головку лука, несколько долек чеснока, — не пью. Но для гостя найдется кой-чего!
Он снова вышел в сени и вернулся с небольшим кувшином об двух ручках на узком горле:
— Купец-сурожанин монастырю пожертвовал. Вино греческое! Будешь?
— Ну, если только из уважения к дому Божьему, — затянул Одинец, — так уж и быть… А кружки повместительнее в этом доме не найдется?
— Нет, — ответил монах, — давай потчуйся да рассказывай, как сподобился нас навестить?
Александр, не спеша, выцедил кружку:
— Мир праху отца Нифонта! А я ведь мимо Москвы не езжу без заворота в обитель. Последний раз два года назад навещал, тебя к тому времени уже к митрополиту батюшка твой пристроил. Побей меня носом в пятку, если твое назначение и сюда без его хлопот обошлось. В неполных тридцать лет стать настоятелем такого монастыря, это, знаешь ли…
— Опять свое правдолюбие на друзьях оттачиваешь? — с укоризной сказал Алексий. — Тебя сколько раз из дружины начальство за правду-матку выгоняло? Всего два? Ой ли?.. Видно, только могила горбатого исправит. Ладно, скрывать не стану, конечно, и в церкви места иереев по-разному раздаются. Ты считаешь, я — недостоин?
— Достоин! — Одинец поморщился. — Кисловатое… Конечно, достоин. По секрету скажу, я очень рад этому, но виду не подаю, чтоб тебе голову не обносило и нас, сирых, на улице узнавал.
— Что с тобой делать! — снова рассмеялся монах. — На тебя как на юродивого сердиться нельзя. Так как все ж поживаешь?
— Третьего сына жду к зиме. Или девку.
— Не жалеешь, что из дружины ушел? Большая ведь разница — или на княжеских хлебах, или в податном сословии…
— Если честно, иногда жалею. Мне здесь, конечно, вольнее, подальше от начальства; да и дело кузнецкое люблю — ты бы видел какие мы с дядькой врата для церкви отгрохали! А Марью с парнишками жалко. Чтоб прокормиться, нанялся с купеческим обозом до Твери сходить. Вот и заехал к отцу Нифонту за благословением на дорожку, а оказалось — проститься.
— То, что в Твери сейчас ордынцы, слышал?
— Слыхал… Но ты ведь много больше моего знать должен.
— Мне эту историю пришлось с самого начала наблюдать. Два года назад прежний наш митрополит Петр отправил меня из Благовещенского монастыря, где я постриг принимал, в Сарай, к владыке Варсонию, «на выучку», как сказал. Ну, приехал, живу, служу в храме, язык монгольский помаленьку изучаю. Там, в Орде, каких только людей и языков не намешано! Это мы, не различая, всех их татарами зовем, а на деле служат монгольскому государю и половцы, и булгары, и китаи, и еще всякой всячины людской косой десяток… Настоящих-то монголов и татар сибирских с Батыем сто лет назад, говорят, всего четыре тысячи пришло… О чем, бишь, я? Ах, да! Живу я в Сарае… А здесь, на Руси, между тверским князем Дмитрием и московским Юрием очередная распря начинается. Естественно, по причине, по которой московские князья с тверскими уже двадцать лет враждуют: кто владимирский стол займет и, стало быть, первым князем на Руси будет!.. Ты наливай еще, если хочешь.
Но Одинец решительно отодвинул кувшин от себя:
— Как его, такое кислое, греки пьют?! Или привычка? Ну, продолжай.
— Позапрошлым летом в Орду к хану Узбеку является князь Юрий и просит возвратить ему ярлык на великое владимирское княжение. Всех Узбековых мурз и нойонов подарками задаривает: кому коня, кому сокола, кому панцирь с позолотой; жёнам ихним — соболей, украшений без счёта. Дмитрий Тверской, который уже три года как великокняжеский владимирский стол занимает, тоже немедля в Орду прискакал. Он отдавать великий стол, понятно, не хочет. И приехал не с пустыми руками. Подарки на татар сыплются с обеих сторон. Ну, поначалу всё идет мирно. Дружинники княжеские, конечно, втихомолку на ночных улицах друг другу зубы считают, но и только… И вот однажды оба князя как на грех в одно и то же время подъезжают к нашему храму. Меня об эту пору нелёгкая из церкви вынесла, и смотрю: спорят. А потом вдруг Дмитрий выхватывает меч и укладывает Юрия с одного удара. Никто понять ничего не может, уж очень всё быстро произошло. Вопли, шум… Доносят хану. Узбек, конечно, гневается. И Дмитрия Тверского казнят…
— А он на что надеялся? Ведь Юрий как-никак в свое время зятем хану приходился, на ханской сестре был женат, царство ей небесное!
— Ну, вспомнил! Это давно быльём поросло. Узбек того Дмитрию не простил, что произошло всё в ханской столице и без его, великого хана, соизволения. Что он за царь, коли подданные будут творить что хотят? Если б это здесь, на Руси, приключилось, то, может, только пожурил слегка. Сколько бояр и князей тут в междоусобицах гибнет, и ничего! Тот же Юрий двадцать лет назад рязанского князя у себя в темнице сгубил…
— Дальше-то что было?
— Дальше, прошлым летом, в Орду приезжают младшие братья убиенных князей.
— И все повторяется: подарки ханским прихлебаям и их жёнам, и вся прочая возня вокруг великого княжения?
— Сын мой, глаголешь ты невоздержанно, но, по сути, верно. Александр, младший брат Дмитрия, в том споре подле престола великого хана превозмог нашего московского князя Ивана Даниловича, младшего брата Юрия. Ярлык на великое княжение Узбек отдал ему. Ивану он только подтвердил права на Москву и московское княжество.
— Да ведь Иван Данилович и так последних лет десять на Москве управлялся, пока Юрий за великое княжение бился!
— Верно. Но всё равно хозяином Москвы по старшинству считался Юрий. В общем, Иван Данилович вернулся из Орды, оставшись «при своих». А вот тверской князь Александр воротился с умопомрачительными долгами: наобещал Узбеку с три короба, что, мол, готов с русского улуса дани больше собирать. Да обещал и недоимки с некоторых княжеств вытрясти. Узбек — человек восточный: доверяет, но проверяет. Короче, в «помощь» великому князю он своего двоюродного брата прислал с воинским отрядом. Звать его Чол-хан, у него тысяча конников. Вот, пожалуй, и всё, что я знаю…
Глава третья
Мерно катят колеса по широкой убитой тысячами конских и человечьих ног дороге на Тверь. Обоз первостатейного московского купца Рогули из шестнадцати гружёных с верхом подвод длинной сороконожкой растянулся среди зелёной чащи леса. Повозочные, разомлев от духоты и бесконечного мелькания в глазах шевелящихся конских ляжек, клюют носами; иногда кто-то спрыгивает на мохнатую от пыли обочину и трусит рядом с телегой, разгоняя дрёму.
— Эй, там, назади, подтянись! — Рогуля жёстко вытянул жеребца арапником, поскакал в конец обоза. — Чего расслабились?! Дома на печке отсыпаться будете, ироды. Тут земля не нашенская…
Ироды — это про своих холопов, их у купца в караване шестеро, остальной народ сборный: кто на своей телеге и со своим товаром, кто подряжённый в возчики Рогулинских возов за вознаграждение. В хвосте обоза рысью шли пятеро верховых: охрана. Одинец тоже ехал налегке, верхами. Рогуля, против его опасений, легко согласился дать место под скобяной кузнецовский товар на одном из своих возов. Затем, осанясь и уперев руки в бока, добавил:
— Мне тебя, Лександр, в простых возницах иметь выгоды нет. Ты деньги в охране отработаешь. Сам понимаешь — коли что, с охраны и первый спрос. Упустите какой товар, с вас вычту.
«Эк, как его на своём дворе-то раздуло, — подумалось Александру. — Хозяином себя чувствует. Сейчас торжественную клятву дать потребует — помереть за его мошну».
— Ладно, как скажешь, — ответил Одинец, — люди мы маленькие, шкурка на нас тоненькая.
Купец дёрнул щекой, и разговор не продолжил. Дело происходило четыре дня назад на купеческом подворье, где собирался весь поезд. Высокий Рогулинский терем находился в глубине большого прямоугольного двора, обнесённого крепкой оградой, нижняя часть которой была выложена охристым рваным камнем-плитняком, завезённым, наверное, издалека: в окрестностях Москвы этого строительного материала найти было негде. В подмосковном Мячкове, правда, ломали камень, но он был светло-серый, почти белый.
От центральных купеческих хором двумя крыльями отходили крытые дранью дворовые постройки: ближе к дому несколько амбаров с массивными дверями, в пробоях которых висели трехфунтовые замки, далее — конюшня, коровник. На задах двора стояли свинарник и птичник.
Одинец достаточно наслушался в селе о богатстве своего земляка, как и о его нынешней гордой недоступности для бывших односельчан, чтобы, увидев воочию, испытать удивление. Не было и зависти, Александру только подумалось: «Что ж ты, купец-молодец, мать свою в селе оставил в плохонькой избёнке доживать?»
Одинец перегрузил свой товар в одну из Рогулинских телег. Всё время этих хлопот рядом неотступно крутился мальчишка, которого здешняя дворня кликала Илюхой. Глядя, как Александр загнал под навес освободившуюся телегу, отрок подавил вздох и сказал:
— Верхами пойдёшь, дядька? Вот бы мне на такой коняшке!
Левый глаз парнишки косил и, живя своей жизнью, норовил скатиться ближе к носу, под которым блестело обычное достояние деревенского детства. К этим наружным достоинствам добавлялось косноязыкое произношение: «р» ему давалось плохо и получалось «велхами».
Одинец улыбнулся, глядя на это явление, одетое только в длинную, с чужого плеча, истасканную рубаху ниже колен:
— Не спеши, коза, все волки твои будут.
— Как же, будут… — Илюха сердито свёл брови, отчего курносое добродушное лицо стало еще уморительнее, — у Еголия дождёшься, он всегда не по заслугам бьёт, а по заголбку.
— По загорбку, значит? Ты из холопов или как?
— Батюшка мой задолжался купцу, теперь я по кабальной записи десять годов на него работать должон.
Проходивший мимо молодой конюх отвесил парнишке легкий подзатыльник — «Опять колокола льёшь про родителев?» — и обратился уже к Александру:
— Не слушай ты его, мил человек, врёт все. Сирота он круглый. Прибился вот ко двору, живет из милости, дурачок. А про отца и холопство заливает по глупости своей, весу себе набавляет, байстрюк.
Одинец поймал мальчонку, приподнял легкое тельце:
— Холопство, брат, последнее дело. Особенно, когда добровольно…
— Это верно, — подтвердил словоохотливый конюх, сваливая под ноги несённую им конскую сбрую с намерением обстоятельного и неспешного разговора:
— Но коней любит — страсть! И управляется с имя любо-дорого…
Одинец прошелся пучком сена вдоль лоснящегося конского хребта, вновь глянул на худенькие плечи подростка:
— Кормить-то, видно, его не всегда вспоминают?
— Да уж, у нас тут к еде никого не приневоливают. Березовой каши, правда, холопам вволю насыпают.
— Строг хозяин, стало быть?
— Не столь хозяин, как приказчик его, вон тот, Силантием звать. У некоторых из наших задницы от плетей заживать не успевают.
Одинец поглядел, куда украдкой указал холоп: в дальнем конце двора разговаривал с обозниками невысокий плотный мужик в щегольской синей поддевке. В обоих ушах приказчика висели золотые кольца.
— Да у хозяина нашего не только дворня стонет, — продолжал конюх, — жена с дочерью тоже по одной половице ходят, дыхнуть боятся. Тут намедни…
Одинец нетерпеливым жестом прервал его болтовню:
— Ты, дружище, не всё, что на уме, на язык пускай. Знать меня не знаешь, а бренчишь как коровье ботало.
— Зловледина! — вдруг вмешался в разговор Илюха, уловивший, что речь зашла о приказчике.
— Чё бы понимал! — конюх вновь легонько шлепнул парня и засмеялся: — Дурында! Временами невесть какую околесицу несет. А порой ляпнет — и в саму суть! Сиди и соображай, кто кого умнее: ты иль он?
* * *
Выезжали под дружный гомон собравшегося на улице народа: возчиков пришли проводить матери, жёны и ребятня. Блажили, заливались младенцы на руках, лаяли собаки. Угловое окно светёлки в доме распахнулось, и Одинец увидел, как в проёме появилась молодая женщина с бледным лицом, укутанная в шаль. Рядом с ней стояла худенькая девчушка, помахавшая купцу рукой. Рогуля чуть взмахнул ответно, пустил коня в рысь и съехал со двора, более не оглянувшись.
На четвертый день пути обоз пересек границу владений московского князя. Начинались тверские земли. В ближайшем селе повозки встречали приставы и мытари князя Александра. Мытари лезли на телеги, пересчитывали тюки, бочки и ящики с товаром. Рогуля с Силантием сопровождали их и до хрипоты спорили о цене лежавшего в ящиках и бочках: мыт платился со стоимости ввозимого товара. Затем, переругиваясь, все ушли на мытный двор. Силантий нёс под мышкой небольшой бочоночек, который позволил все дело закончить к вечеру полюбовно. Обоз двинулся дальше, но остановился на краю села; решили ночевать тут. Мужики сгоняли возы с дороги, распрягали лошадей, пуская их стреноженными пастись на небольшом лугу, за что отдельно было уплачено сельскому старосте.
При съезде с дороги Илюху постигла неудача: воз накренился в придорожной канаве, одна из сорокаведерных бочек выпала, отскочила крышка, из бочонка густой золотистой струей на землю хлынуло пшеничное зерно. Силантий, коршуном налетевший на Илью, отстегал того плёткой и сам лично, разогнав сгрудившихся возчиков, принялся собирать зерно и заколачивать обручи.
— Погоди! — орал приказчик и грозил совсем потерявшемуся пареньку. — Я вечером с тобой посчитаюсь!
Вечером он, действительно, приволок Илью к костру, за которым сидели охранники каравана.
— Ну, ложись, снимай портки, — Силантий, несколько умиротворенный перед ужином, говорил с веселой издёвкой, отчего предстоящая расправа выглядела еще зловещее.
— Может не надо, Силантий, не порть ужина, — попытался отговорить его один из охранников, разбитной малый с небольшим шрамом на скуле, видневшимся из-под легкой как пушок бородки, — с кем не бывает! Ведь обошлось…
Одинец, сидевший у котла вместе с другими охранниками, поддержал Битую Щеку, как называли того все знакомые:
— Брось, Силантий…
Приказчик отпустил Илью и шагнул к поднявшемуся Александру:
— Ты кто такой? Ты что — большим человеком себя считаешь? Думаешь, коль в малолетстве за нашим хозяином объедки подбирал, так у тебя голос появился? Сядь и примолкни, тля!
Приказчик, привыкший к безропотному подчинению холопов, просчитался. Когда Рогуля прибежал на шум, он увидел катавшегося по траве первого помощника и Александра, задумчиво жевавшего травинку.
— Что случилось?!
— Поскользнулся наш Сила Саввыч, — сказал Одинец и, подхватив седло, служившее на ночлегах в поле подушкой, зашагал в темноту. Отходя, он слышал, как кто-то из охранников, наверное, Толстыга, вполголоса бормотал Рогуле:
— … ногой… под коленку… а Силантий свалился, и вот кружит… говорить не могет…
У костра, где сидели возчики, Одинец бросил седло:
— Чего сегодня на ужин?
— Каша с салом… — мужики, видевшие всё произошедшее, уважительно раздвинулись в стороны.
— И тут каша? — Одинец ощупал голенище сапога. — Кажись, ложку обронил…
На постеленный перед ним холст лёг каравай хлеба и четыре ложки — выбирай. Илья, возникший неизвестно откуда у него под рукой, поставил кружку и сказал:
— Дядя Саша, ты подожди чуток: мужики по такому случаю за пивом в село побежали…
* * *
Еще через два дня путники заслышали перезвоны тверских колоколов. Вскоре за широкими полями показался и сам город. Тверь! Одинец вглядывался в открывшийся у волжского простора город: девять лет назад не по своей воле он пришёл в него и не по своей воле покинул. Многое здесь переменилось: град разросся, посад был обнесен вторым частоколом, но между частоколом и окружавшими город лесами уже появились новые улочки, где поселился ремесленный люд и, очевидно, в самом недалеком будущем придется и этот расширившийся посад обносить третьим кольцом ограды. А дальше, за крышами посадских домов, за дымками, тянувшимися из мастерских кожевников, пимокатов, кузнецов, бондарей, оружейников — да мало ли в городе разных мастеров! — виднелись деревянные стены тверского детинца, кремля. Там, в кремле, проживал сейчас главный князь русских земель, ставленный над ней волей далекого великого хана Узбека, или как называют его на Руси «грозного царя Азбяка» — князь Тверской и Владимирский Александр Михайлович.
Одинец опустился в седло, внутренне усмехнувшись на свой высокопарный настрой. Девять лет назад он мельком видел нынешнего правителя; тогда это был белокурый застенчивый вьюнош, терявшийся в окружении сурового отца князя Михаила и старшего брата Дмитрия, неистовых воинов и правителей. Правители, правда, кончили свои дни мученической казнью в ханском Сарае.
«Как-то повернутся дела у этого молодого князя?» — мысли бывшего московского мечника повернули к уже второй день тревожившему его случаю. Той ночью, когда случилась короткая стычка с рогулинским приказчиком (Александр отлично понимал, что в этом шебутном коротышке он нажил себе вечного врага: да вон он мимо проскакивает на своей буланой кобылке, морду воротит, глаза злющие) Илюха, дождавшись когда над их табором повиснет густой храп коновозчиков, придвинулся к неспавшему Одинцу и зашептал:
— Дядь Саша, ты только забожись, что меня не выдашь… Я чё видел!
Он замолчал на краткий миг, но, не дождавшись клятвы, продолжил; видимо, распирало:
— А в той бочке-то, ну, что упала… Там под зерном — оружье и бронь!
— Что ж особенного? — спокойно ответил Одинец. — Везут тайно на продажу. Знаешь, сколько пришлось бы заплатить в казну, если б открыто?
— А-а, — Илюха был разочарован, что все объясняется так просто, — понятно!
Следующей ночью, под самое утро, когда Александру выпало время обходить обоз дозором, он для пробы вскрыл два бочонка: в одном под слоем пшеницы, действительно, оказались несколько самострелов, в другом — десятка полтора мечей. И кое-что Одинца смутило: мечи не могли предназначаться для продажи, ибо слишком проста была их выделка, а рукояти обмотаны обыкновенной сыромятной кожей. Работа была не московской, это точно.
«Повоевать такой железкой денёк-другой можно, а продать — нет», — размышлял Одинец. Знал он и еще: московский князь не поощряет продажу оружия недружественным государям. Неужели Рогуля решился идти против воли Ивана Даниловича? Это было маловероятно. Над загадкой стоило подумать. Хотя, чего думать, голову понапрасну ломать? Его дело получить с купца обещанные деньги, а там трава не расти! Эх, хоть бы знать, как там Мария с дедом справляются? Да здоровы ли малыши? Машутка, Машутка, сероглазая моя…
* * *
В Твери было неспокойно. С того декабрьского дня, когда весь городской люд, усыпав подъезды к Благовещенским воротам, радостно приветствовал вернувшегося из Орды князя Александра, минуло более полугода. Восторги поутихли быстро; конечно, гордость за свою волжскую отчизну, вновь признанную первым княжеством Руси, грела душу, но честь драгоценна лишь для народов благоденствующих. Какая радость городским беднякам, что где-то в каком-то пыльном городе Сарае неведомый писец вытиснил писательной костяной палочкой на золотой дощечке указ великого хана о великокняжеском достоинстве тверского князя? Да и не первый это был для Твери великий князь, как-то попривыкли.
Первым был его дедушка, Ярослав Ярославич, младший брат знаменитого Александра Невского. Тот ещё во времена ужасного Батыя много-много десятилетий назад был назначен во владимирские князья. Но жить он во Владимир не поехал, управлял всем из своей любимой Твери. Во Владимир великие князья теперь заезжали только принять благословение от первосвященника-митрополита. И — поскорей в свою отчину, где, как известно, и стены помогают. А на владимирщине оставался лишь княжеский наместник.
Ярослав Ярославич, посидев несколько лет на главном престоле, застолбил туда дорогу и своему потомству: подошло время — великим владимирским князем признали его сына, а потом и внуков. Не всё, конечно, катилось как по маслу, бывали времена, когда ярлык великих князей уходил на сторону, но рано или поздно он неуклонно возвращался в это семейство.
О превратностях судьбы тверских государей и судила-рядила поздним августовским вечером тёплая компания, собравшаяся в доме купца Гаврилы Поршня. За столом кроме самого хозяина, двух его взрослых сыновей и нескольких приглашенных по такому случаю торговых людей сидел московский гость Егор Рогуля. Егор и Гаврила были давно знакомы, имели общие дела, ходили вместе в обогащавшие обоих походы за Вятку, останавливались друг у друга, бывая проездом в Твери или Москве. Гость уже преподнёс подарки, предназначенные для хозяйки дома и двух снох; раскрасневшиеся от волнения и желания примерить обновки женщины удалились на свою половину, в горнице остались только мужчины. После первых чарок за «благополучный приезд» и «свиданьице» разговор пошёл о делах серьёзных, купеческих, а стало быть — государственных.
— Спору нет, — говорил Поршень, мужчина на пятом десятке, с большим достоинством носивший крупную лысину и расчёсанную на оба плеча пышную бороду, — оттого, что нашего князя хан Узбек отличил и во главе всей земли поставил, тверскому княжеству прямой прибыток. Вот даже нас, купцов взять: где самый большой торг? В Твери! Куда все товары стремиться станут? Опять же в Тверь! Верно ведь подмечено, у кого сила и власть — у того и золото.
Поршень остановился, предоставив возможность сидевшим за столом поднять заздравные чары за князя Александра — «дай Бог ему здоровья!» — и продолжил речь, перейдя к обычной для русского племени заключительной части — за упокой:
— Только палка о двух концах: князь, чтобы ханских ближников подмазать, денег назанимал — двух жизней не хватит расплатиться. И свою казну подмел до рублика, и у нас, купцов тверских, одолжился, и бояр своих порастряс. А когда и того не хватило, к сарайским купцам-бессерменам обратился. А теперь эти басурманы с ним сюда заявились. Как им он долги вернет? Ясно как: кому сельцо уступит во владение, кому какую волость отдаст на время — недоимки собрать. Да что говорить — на базарах и то начинают шишку держать: торгуют беспошлинно, цены сбивают. А нам, честным тверским купцам, как жить? Сплошной убыток…
Рогуля, уже отведавший пареное, жареное и варёное со всех блюд, коими уставили стол гостеприимные хозяева, налегал на напитки.
— Да и в Москве у нас не лучше, — выпитое разлилось ярким румянцем по тугим щекам москвича, — Иван Данилович тоже басурманам мирволит. Их, когда Узбек магометову веру в Орде объявил, столько понаехало! Царь всех напужал, мол, или принимают новую веру, иль — секим башка. Вот и кинулись врассыпную кто старой монгольской веры держался.
— А какая она у них была старая-то? — спросил один из Поршневских отпрысков, как две капли воды похожий на отца, с тою лишь разницей, что там, где у Гаврилы светоносно блистала лысина, Поршень-младший имел очень приличную прическу, густо промазанную лампадным маслом.
— Чёрт их знает. В Тенгри какого-то верили, по-нашему вроде как Бог — Голубое Небо. Да еще и несториан полно среди них было. Эти почти даже християне. В общем, счас куда не ткнись, везде узкоглазые… И средь ремесленников, и средь купцов. И даже средь бояр: Иван Данилович тому, кто познатнее, боярство жалует. Обжились, дворы поставили.
— Это что! — хозяин, низко склонившись над столом, забормотал вполголоса. — У нас того похлеще. Месяца два назад сюда от Узбека приехал целый отряд. Тысяча иль того больше конников. И командует ими двоюродный Узбеков брат Шевкал. Народ его в Щелкана переиначил. Приехали, князю Ляксандру Михайловичу деваться некуда, поселил их в кремле. Там до сих пор и стоят постоем. И сколько уже от них жители натерпелись — страсть! Днями по городу разъезжают, что понравится — берут, не спросясь, баб и девок мы на улицу пускать боимся — враз пристанут и испортют, разбойники.
— А почему князю не жалуетесь?
— Что толку-то? Он сам как чужой на своем дворе, замки с его погребов и амбаров посбивали, едят и пьют на дармовщину. Так что, не в евонной это власти, а когда закончится — одному Богу известно. Это и обиднее пуще всего: ладно мы, рабы Божии, а то ведь — князь! И они его как простолюдина — ангельским ликом да в навоз! Ну, можно ль такое терпеть?!!
Рогуля, с пьяным сочувствием слушавший жалобы тверичей, потянулся к кубку, не угадал пальцами и разлил вино.
— Сюда слушай! — он сделал обеими руками знак, подзывая к себе всех находившихся в комнате. И когда головы слушателей сомкнулись над багровой лужей, расплывавшейся по белой в цветах и райских птицах скатерти, громко зашептал. — Мы, купцы, всегда заедино быть должны. Князья меж собой воюют, их дело! А без нас, хоть московских, хоть тверских купцов, и свет белый стоять не будет. И чего хочу вам сказать, братья: весть имею!
Кольцо лохматых теней на высоком потолке горницы разомкнулось, тени зашевелились, оглядываясь по сторонам, и затем вновь сомкнулись еще плотнее прежнего, когда их обладатели навалились на стол вкруг московского купца.
— А весть эта к нам, — Рогуля не уточнил, к кому это — «к нам», — пришла от верных людей из Орды. Слушайте: намерен этот Шевкал сам сесть на престол тверской. А может, и на владимирский…
— Да об этом уже и у нас поговаривали, — утвердительно кивнул головой кто-то из гостей.
— Вот! — обрадовался Рогуля. — А теперь в точности известно, что собираются татары избить насмерть всю великокняжескую семью и бояр его не далее как в Богородицын день!
— Так это же через неделю! — ахнули тверичи.
— То-то и оно… — многозначительно сказал Рогуля. И добавил, не сомневаясь, что это удесятерит скорость расползания слуха по Твери, — только уж вы, почтенные, обещайте — никому ни слова!
Тверичи на подозрение в болтливости обижено загалдели «Да мы… да никогда!» и начали расходиться, сгорая от нетерпения поделиться новостью с домашними.
Той же и всеми последующими ночами на постоялый двор, где остановился Рогулинский обоз, под покровом темноты стали приходить какие-то таинственные люди. Они шушукались с Силантием, приказчик вел их к бочкам, отсылал сторожей, и вскоре незнакомцы исчезали, сгибаясь под тяжестью длинных свертков.
* * *
Московитяне остановились на гостевом дворе поблизости от главного торжища Твери — обширной замусоренной площади, что одним свои концом примыкала к крепостному рву кремля, а длинной стороной шла вдоль берега Волги. Телеги загнали от дождя (хотя какой дождь, на небе уже месяц ни облачка) под навесы, обозный народ поселился в двух легких дощатых балаганах, устроенных подальше от основных хором и, главное, подальше от сеновалов и конюшни.
Днями мужики выезжали на базарную площадь, торговали прямо с возов под неусыпным оком Силантия, поздно вечером возвращались, варили на печах устроенной рядом летней кухни уху из дешёвой сорной рыбы — окуней и карасиков, засыпали заполночь. На постоялом дворе было людно и шумно; кроме московских тут остановились обозы из Суздаля, Ярославля и еще каких-то «низовских», как говорили тогда, городов. Предводители караванов, именитые купцы, жили «в хоромах» — большом, на три уровня, доме, где по вечерам шла своя жизнь. Там устраивались договоры и сделки, продавались и покупались купно такие объёмы товаров, что от выплачиваемых за них сумм перехватывало дух. Чуть не до третьих петухов то в одной, то в другой светлице звучали дудки и бренчали гусли, а за окнами с распахнутыми настежь ставнями виднелись пляшущие девки.
Обозные мужики вниманием женского пола тоже не были обделены, вокруг постоялого двора всегда крутились верткие пареньки, предлагавшие сводить путешественников «до бани», а коль торговцу недосуг, бравшиеся устроить приход тех «банщиц» прямо под телегу иль на сеновал. И брали недорого.
— Ты как насчет бабы? — предложил Битая Щека в первую же ночь сменявшему его на карауле возле возов Одинцу. — Есть тут одна, я уже покувыркался. Эй, Машка, лезь сюда, — негромко позвал он.
С подстеленной под телегой соломы поднялась полненькая девка лет пятнадцати-шестнадцати с подведёнными бровями и нарумяненными до красноты кружочками на щеках.
— Ну, покажь купцу, чего у тебя там…
— Ой, купец… И не купец он вовсе.
— Давай, не ломайся, деньги у него есть.
— На! — девка до самой шеи задрала мятый сарафан, открыв перед Александром широкие белые бедра и маленькие стоячие груди. Одинец, не ожидавший такого бесстыдства, сначала изумился, а затем принялся хохотать.
— Чего он хохочет, — обиделась та, опуская подол, — чего хохочет?
Одинец, сдерживая смешок, протянул девке монетку-резану:
— Хороша Маша, да не наша, — он снова прыснул в нос, — на вот, возьми за погляд, да за то, что я, старый дурак, растерялся… Жену у меня тоже Марией, Машкой зовут. Ты уж извини, девонька, а слаба ты против нее, хоть и моложе вдвое. Ну, бери, и чтоб духу твоего тут не было, беги, пока я тебя по голой твоей… м-м-м… подворотне… ремнём не отстегал.
— Силён! — сказал Битая Щека, глядя на удиравшую во все лопатки девку. — Домой вернёмся, в гости пригласишь? Хочется в те глаза посмотреть, что так привораживать умеют.
— Вернёмся, приглашу, не забоюсь. Хоть ты и вдвое меня моложе, орёл и хват-парень.
— Ну, не вдвое, конечно… Слушай, а чё, вот так-таки за всю жизнь на другую бабу и не позарился?
— Нет.
— Ни разу? — не унимался настырный наперсник. — А почему?
— Не хотелось.
— Силён! — повторил Битая Щека и ушел спать.
* * *
Когда много позднее в Твери люди вспоминали события тех дней, решивших участь княжества и судьбу русской столицы, все сходились в одном: началось всё с пустячка, с мельчайшего события, подобного тем, что происходят каждый день — и ничего, проходят без следа. А тут… В общем, рассказывали так: будто жил в Твери дьякон по прозванию Дудка, а некоторые говорят — Дудко. Жил он в небольшом крытом соломой доме, даденом ему епархиальным владыкой Христа ради, чтобы было где дьякону разместить свою матушку и пятерых ребятишек. Был Дудко беден: церквей в городе много, прихожан на каждую приходится мало, откуда же богатство?
Дом его стоял окнами на рыночную площадь, а задами своего двора, огородом выходил к Волге. Вот на близкую реку и повел Дудко утром злополучного дня свою кобылку-трехлетку испить водички. Можно сказать, завернул по дороге, потому что мог попоить скотинку и в ограде, но он её как раз сегодня собирался продать. Лошадь была, говорят, загляденье, хорошая кобылка. И рассчитывал дьякон получить за неё на торгу хорошие же деньги, благо, что выждал до праздничных дней, когда народу в город съехалось множество.
Ну, пьёт кобылка, хвостом обмахивается, Дудко рядышком стоит, рясу за пояс подоткнул, портки закатал, ноги полощет. И откуда ни возьмись — три татарина из Щелкановой дружины; кто говорит — было четыре татарина, да это неважно. Чего, спрашивается, татарам ранним утром на речке делать? Вечером-то, понятно: уставшие от безделья и бражничанья (веру в Магомета золотоордынские нукеры приняли только недавно, а привычки были давнишние) сыны вольных степей просыпались обычно не раньше полудня. И снова шли бражничать да искать приключений. Эта невесть откуда свалившаяся троица свое приключение нашла поутру.
— Эй, урус, — сказал один из золотоордынцев, — коня дай.
А, может, и не сказал он так, может, просто повелительно помахал нагайкой, может, и по-русски басурман, изъясняться не умел, хотя это вряд ли. Тут опять среди очевидцев сплошные разногласия: одни говорят, что славные воины великого хана кобылку у хозяина просто отобрали, другие — что мало посулили. В любом случае дьякону показалось, что он упускает выгоду, и потому вцепился отче Дудко в конскую уздечку намертво, а когда татары применили крайние способы убеждения, упал несчастный пастырь на колени и, оборотя перемазанное кровью лицо свое к находившимся рядом единоверцам, прокричал сквозь слезы:
— Братцы! Не выдайте, пособите на злодеев!
Так безыскусно началась величайшая трагедия Твери. Господи, да знай наперёд, чем все кончится, отдал бы дьякон, поди, кобылицу задаром, да и нукеры великого хана, забывши про всех лошадей мира, бежали бы прочь от служителя урусского Бога. Не дано нам знать…
Со всех сторон к месту завязавшейся драки сбегались люди: с ремесленной стороны, где клич «наших бьют!» мгновенно нашёл отклик, бежали похватавшие что попалось под руку — топоры, вилы, а чаще просто дреколье — тверские мастеровые. Из ближних к кремлю улиц туда же спешили вооруженные пешие и конные дружинники Чол-хана.
Одинца вся сумятица застала на торгу. Было ещё рано, покупатели не подошли, купцы, зевая и крестя рты, отпирали лавки или подгоняли подводы, расставляя их длинной чередой. Ночью над городом прошла гроза, теперь на небе громоздились облака, солнце выглядывало в дыры между ними. Парило.
— Всё лето сушь, а как хлеба косить — мокрядь, — ругались мужики, недовольно поглядывая в небеса.
— Ничо! Летом — ведро воды и ложка грязи, осенью — ложка воды, ведро грязи, — поговаривали другие.
Одинец, утомлённый бессонной ночью, сопроводил Рогулинские товары в торговые ряды и примостился поспать в тени одной из телег. Сквозь накатывающую дрёму Александр вполуха слышал разговоры мужиков. Через ряд телег вправо от него очередную весёлую бухтину ведал доверчивым слушателям горшечник Потап, круглолицый дядька лет сорока с небольшим. Потап сидел на возу, заполненном всевозможным товаром своей выделки. Там были огромные двух-трёхведерные корчаги, горшки и крынки всех размеров, простые и облитые глазурью, цвета спелого колоса и почти чёрные. Для самых маленьких возможных покупателей был набит глиняными птичками-свистульками объёмистый сундук.
— Девка, я вам скажу, — баял Потап, — кровь с молоком. Ну, подкатил я к ей на одной вечёрке. Я-то тогда тоже был молодой, парень не из последних. А перед тем у старшего братана чуйку новёхонькую, разу не надёванную, выпросил. Синяя такая чуйка… Из сукнеца тонкой работы. Да… Ну, поплясали, семечками-орешками угостил да и провожать домой повёл. И все думаю, как эту кралю уломать. Идти не близко, на другой конец деревни. Возле плотины у нас лужок был, как дошли до него, я ей и говорю, мол, айда посидим на бережку, эвон звёздочки посчитаем. Девка мнётся, ах, говорит, уж совсем поздно и зазябла я. Но, чувствую, вроде и не прочь притормозить на травке. А я возьми, да и чуйку-то ей на плечи набрось для тепла. Обнялись, сидим, дышим в четыре ноздри. Хорошо! Я, понятно дело, времени здря не теряю, сначала приобнял, она вроде как сторонится. Но не сильно. Эх, ёк-макарёк, на лад идёт! Потихоньку и ворот развязал и руку за него запустил. Её аж колотит всю и испарина по ней идёт: готова девка. Тут-то я её, брык — да наземь и повалил спиной. А дальше не плошай, проявляй сноровку. И совсем уж было пристроился, как она вдруг завозилась внизу и шепчет: «Что-то сыро мне как-тось со спины, неудобно…» Я руку-то под спину ей просунул…
Потап замолк, давая слушателям перед концом рассказа сделать вдох побольше.
— А там — вот такая свежая коровья лепешка!
Одинец даже не видя, по громовому хохоту мужиков, очень живо представил размеры происшествия, какие, должно быть, показывал руками Потап.
— А чуйка-то, чуйка как же? — простонал, даваясь от смеха, кто-то из слушателей.
— Ты хоть дело-то закончил?!! — любопытствовал другой и ещё до ответа вновь залился смехом.
— Какое «закончил»! — горшечник и сам присоединился в веселью. — Соскочил, стою дурень дурнем — руки в навозе, на рукавах, наверное, его цельный пуд прилип… Краля моя фыркнула от меня — только и видел! А за чуйку брательник назавтра побил: матушка хоть застирывала-застирывала, да зеленое пятно на спине все одно осталось…
Одинец начал погружаться в сон. Но поспать не пришлось: мимо пробежала какая-то растрёпанная молодуха с ребенком на руках. Мелькнули вытаращенные глаза и перекошенный рот. Александру показалось, что молодуха кричала «Убива-а-а-ют!». Он поднялся. А следом за ней хлынул целый поток бегущих испуганных людей: жены, девки, старухи. Кто-то падал, пытался подняться, на него наступали, об него запинались, толкали в грязь, и на этом месте вырастала груда шевелящихся тел. На середине базарной площади, обтекаемый толпой и каким-то чудом не затоптанный беглецами, радостно подпрыгивал — «а-ага-а! наступил день, день последний!» — босый и нагий, с одной осклизлой тряпкой вокруг чресел, тощий и косматый юродивый. В руках он держал крючковатую клюку и крестил ею визжащую толпу.
— Эй, бабоньки, что случилось-то? — кричал бегущим смешливый Потап. — Что за шум, коль драки нет?
Бабы визжали что-то непонятное и мчались дальше, набавляя ход.
Первыми из торговцев, кто учуял грозившую опасность, были южные купцы. И на этом, самом большом рынке Твери, и на других, поменьше, едва ли не четвертую часть среди всего торгующего сословия составляли выходцы из многих полуденных улусов Золотой Орды. Здесь были и шумные, горячие авары, привозившие в далекие северные края необыкновенной красоты чеканеную посуду из серебра и меди, конскую сбрую, вино и диковинные сушеные плоды тамошней земли. Рядом с лавками и балаганчиками аваров распустились легкие парусиновые шатры важных и спокойных персов-шемахинцев, развешивавших на десятках жердей горевшие яркими красками ковры и бархатные покрывала. Но больше всего среди торговцев было купцов из Сарая, этой признанной столицы великого государства, из города, в котором жил повелитель полусвета великий хан Узбек, из города, где сошлись Восток и Запад.
Золотоордынские купцы давно и прочно осели на торгу, обзавелись крепкими связями, отстроили большие лавки, а кое-кто помоложе успел связать себя и семейными узами, сосватав невест из богатых тверских купеческих семейств: богачество всегда тянется к богачеству, тем более что иные отцы-иноверцы, прикинув, что это выгодно для торговли, дозволяли наследникам переходить в православие.
Сейчас купцы-инородцы маялись за прилавками, глядя, как Одинец подсаживает Илью на высокую крышу мучного лабаза.
— Ну, что там?
Илюха, привстав на цыпочки и вытянув шею, пытался разглядеть что-либо за крайним, ближним к Волге рядом торговых сооружений.
— И не понять! Народу на берег набежало — страсть. Мечутся вразброд. Ага, от крепости татары… с саблями. А которые и на конях скачут… Ой, дядя Саша, они людей рубят…
— Слазь, блаженный, я сам погляжу, — Одинец, примериваясь, занес ногу на венцы сруба, но забраться не успел. Откуда-то из узких проходов между балаганами протиснулся Битая Щека. В располосованной от горла до пупа рубахе, со свежим кровоподтеком на лбу он не походил сам на себя. Щека ткнул в подсыхающую землю обнаженный меч, до самого крыжа измазанный бурым, охая, схватил лежавшую на телеге баклажку с водой:
— Началось! — он, покачиваясь, жадно припал к посудине, вода струйками лилась мимо рта, орошая бородку и грудь. — Суки ордынские… Мы как раз по берегу шли, смотрим — трое к попу привязались, лошадь отнимают. Я вроде миром хотел, чтоб обратно. А эта гнида — их старший — как заверещит! И за саблю хватился. Я ему в кишки саданул — ойкнуть не успел! Жук с Толстыкой остальных завалили. И поехало… Их там кругом много оказалось, набежали. Спасибо, мужички тверские заступой встали… На топорах рубятся… Не выстоят наши… Оружья мало…
Речь охранника начала слабеть, переходя в бессвязный сумбур. Только сейчас Одинец заметил, что сзади весь правый бок того заливает сочащаяся по рубахе и шароварам кровь. Александр подхватил раненого.
— Сашка… замнут… уходите…
— Молчи, — Одинец обвел взглядом вытянутые лица сгрудившихся вокруг москвичей, скомандовал: — Мужики, кто на рати бывал, пусть здесь останется. Попробуем товар отстоять и тверским помочь. Остальные — на заезжий двор, коней за городские ворота угоняйте.
Повторять не пришлось, торговцы бросились прочь, унося раненого. Это послужило сигналом: захлопали ставни и двери лавок, заскрежетали засовы и, сначала поодиночке, затем группами, теснясь в узких улочках торговых рядов и распыляясь, растворяясь, исчезая в более широких улицах посада, побежали купцы и лавочные сидельцы. Кто-то пытался тащить наиболее ценные вещи, но ронял или бросал их по дороге, кто-то мчался налегке, прижимая к груди сунутый за пазуху кошель с монетой. Возле Одинца остались только пять-шесть человек.
— А ты чего ждешь? — Александр поймал за ухо Илью. — Ну-ко, живо дуй отсюда.
— Не пойду, — извивался парнишка, — ой, больно!
— Илья, Богом заклинаю, беги, — Одинец отпустил парня, тихо попросил, — Карьку моего спаси, век благодарен буду…
Илья понял Александра, поник плечами:
— Пойду. Дядь Саша, ты живой останься, а?
— Попробую…
Глава четвертая
Весть, с которой в покои великого князя вломился кравчий Елизар Щербак, согнала краску с княжеских щек. Побледнев как полотно, Александр Михайлович вцепился в плечо задыхающегося от волнения и от непривычного бега на собственных ногах боярина:
— Как так дерутся?! Кто посмел, кто дерзнул?
Трясущимися руками молодой князь набросил на ворот расшитое золотом оплечье, сверкавшее разноцветьем драгоценных камней, торопясь, застегивал убегающие из-под пальцев жемчужные пуговки. Боярин Щербак елозил возле князя на коленях и, глотая слова, испуганно рассказывал:
— На берегу возле торга все началось. Ордынцы уж все там, сам Чол-хан командует… Вывел всех своих, ближние к детинцу улицы заняли и отжимают наших.
— Жена моя где?
— Здесь, государь, в тереме, — откликнулся кто-то из ближников-бояр или, может, служилых князей, теснившихся в коридорчике перед княжеской светлицей.
— Собирайте дружинников, какие в кремле есть. Двор закрыть, выставить охрану, чтоб ни волоска не упало с голов детей моих и жены. Мне — седлайте жеребца. И со мной поедут, — великий князь наугад указал на двух-трёх человек из окружения.
Бояре бросились на конюшню, сбегая вниз по узким лестницам, гулко топоча сапогами по дубовым полам и пугая тревожно выглядывавших отовсюду сенных девок и мамок. Во всём дворце поднялись невообразимый гвалт и беготня, разом утихшие, когда, запнувшись, на глазах всего дворового народа по переднему, красному, крыльцу к ногам своего уже засёдланного коня, скатился князь Александр Михайлович. Он непременно бы расшибся, если б внизу в последний миг его не перехватил старик, одетый в панцирь-колонтарь и в начищенный железный шлем с шишаком и торчащими из него розовыми перьями. Оттягивая широкий кожаный пояс, на костистом старике висели два меча, длинный кинжал и семифунтовая булава-шестопер.
— Дядя Твердило, — выпутавшись из полы стариковского плаща изумился Александр Михайлович, — ты куда в таком виде собрался?
— Война! — веско и внушительно сказал старик.
— Какая, к чёрту, война?!! — возопил несчастный князь, озираясь по сторонам. И точно — войной не пахло. Очам представала вполне мирная картина: на большом, ровном, чисто разметённом дворе стояли два нарядных изукрашенных, как расписные пряники, огромных дома-дворца. Первый принадлежал когда-то батюшке князя Александра, и в нем двадцать пять лет назад он появился на свет. Второй был закончен строительством совсем недавно, придя на смену уже ветшавшему первому. Оба дворца были собраны из множества клетей, изб, горниц, светелок, башенок, теремов. К новому была пристроена и небольшая домовая церковь. Чешуйчатые кровли, одни в виде устремленных ввысь шатров, другие бочкообразные, накрывали эти хоромы; лестничные переходы, обрамленные точеными балясинами, вились по их стенам, широкие крыльца с резными колоннами спускались на песчаные дорожки, проложенные средь изумрудной травы. Над всей этой красотой издевательски мирно голубело небо в пушистых облаках.
— Какая война? — ещё раз крикнул князь, дав петуха и не узнав своего голоса.
— А какая ни есть! — мужественно откликнулся дядька. Он приходился свояком почившему в Бозе князю Михайле и много лет водил полки отца нынешнего князя на врага. — Всех изрубим!
— Погодь рубить, — взмолился молодой князь, — может, по-мирному рассосется все… Ты, дядя, поезжай к дружине, успокой воинство… Чтоб без приказа из гридницы ни шагу! А я…
По чистому воздуху, заставив всех вздрогнуть, бухнул, пробежал, раскатился и оставил томящий душу гул басовый удар набатного колокола.
— В вечевой ударили… — как приговор произнес кто-то.
Колокольный звон, набирая силу и закладывая уши, уже накатывал безостановочно. К вечевому подсоединились голоса других колоколов на все многочисленных храмовых колокольнях и звонницах. Звонила, неистовствуя, вся великая Тверь. Из-за Волги, вторя набатам города, тенькал колокол Отроч-монастыря.
— А я на площадь поеду, — обречённо договорил Александр Михайлович, карабкаясь в седло, — с ума они, что ли, все посходили?
Он гикнул, разгоняя коня, и припустил по кремлевской улице. За ним, осеняясь перстами, поскакали ближние бояре.
На вечевой площади, меж тем, густо набухнув, стояла толпа; она всё прибывала, из боковых улиц на площадь валили мужики с шалыми глазами и всклоченными бородами. Слух о начавшейся драке с татарами Щелкана молнией облетел городские окраины, и кое-кто из посадских прибежал на площадь, уже полностью готовый к подвигу, то есть успев крикнуть жене, чтоб заперла скотину, перекрестившись перед иконами и хватанув корец вина. Кое-кто был и вооружён, хотя это было вовсе глупо: мечи, копья и щиты — кому что достанется — им всё равно выдадут из оружейных амбаров, а своё могло и затеряться в схватке. Большой убыток, однако…
Толпа бурлила и, уплотняясь, прижималась к помосту возле церкви. Там, наверху, маячили несколько человек, среди которых горожане узнавали бояр Андрея и Глеба Борисовичей — тверского тысяцкого, то есть выборного городского голову, и его брата. Тысяцким названная должность прозывалась оттого, что городской посад был обязан выставлять на рать полк в тысячу копий, а городской голова возглавлял его. Если учитывать, что так называемая «старшая», постоянно жившая при князе дружина и в лучшие годы редко составляла более пяти сотен воинов, то, понятно, что тысяцкий всегда имел под рукой реальную силу, сравнимую с силой князя. Если, конечно, вече одобрит.
— А кто рядом с тысяцким?
— Справа-то? Это бояре Щетнёвы! Все трое явились: и отец, и дед, и внук. Ну, дело будет: этим воевать завсегда охота, хлебом не корми.
Тысяцкий, широко расставив коротенькие ножки, стоял и молча смотрел с высоты на собиравшийся народ. Наконец, когда нетерпение тех, кто внизу, стало переливаться через край, а крики снизу до пределов оснастились теми горячими словами, что нехорошо повторять при детях, Андрей Борисович поднял руку. Смолк вечевой колокол, за ним позамолкали и другие.
— Люди тверские! — раздувая горло и побагровев широким курносым лицом, закричал тысяцкий. — Ордынцы стали избивать честной народ! Мало было нам в эти месяцы досады от них, так теперь они вовсе на убивство решились… — тысяцкий так резко подался вперед, вытянув руку в нужном направлении, что едва не свалился с помоста. — Сейчас на берегу за торгом бьются! Коль мы не подможем всей силой, придут татары сюда и вся наша Тверь в ихнюю обратится!
— У-у-у-р-р! — взорвалась рычанием площадь.
— Что ж князь наш, живой иль нет? — звонко выкликнул голос из толпы. Тысяцкий, услышав его, развел руками:
— Князь Александр Михайлович у себя в палатах в кремле, а меж им и нами татары. Так что придется самим решать, будем биться или нет? Вот и спрашиваю у вас: биться?!!
— Би-и-иться-я-я! — взревела площадь. — Оружье! Давай оружье!
* * *
Деревянная крепость Твери — кремль, чаще называемый детинцем — подобно десяткам своих сестёр по всей русской стороне, была устроена точно так, как уже сотни лет строились все крепости народа, жившего при воде, продвигавшегося в расширении своих границ по воде и не мыслившего своей жизни без воды всех малых и больших речек и рек, коими словно сетью была опутана великая лесная равнина. Тверской кремль — большой неровный прямоугольник из толстенных деревянных стен высотой около десяти саженей, с двенадцатью башнями, в четырёх из которых были проделаны въездные ворота — так же стоял на месте впадения одной реки в другую (здесь худосочная Тьмака впадала в Волгу) и был прикрыт их водами от нападения неприятелей. С незащищенной полуденной южной стороны детинец был окопан рвом, в глубине которого ядовито зеленела обтинненая водица, из которой в лучезарные летние вечера неслось хоровое лягушачье пение.
Великий князь, выпорхнув из ворот кремля, проскакал по мосту через ров и придержал коня, чтобы оглядеться. Сопровождавшие князя бояре и несколько дружинников сгрудились вокруг. От реки к ним скакала группа всадников, и когда она приблизилась, Александр Михайлович различил во главе ее одетого в броню, с обнажённой саблей в руке Чол-хана.
«Я предам огню и железу весь твой злой город, великий князь! Мои воины вырвут сердца из его жалких, презренных людишек, поднявших руку на священное девятибунчужное знамя моего прапрадеда Чингиза. Кровью обагрятся воды этой большой реки, текущей туда, где живёт мой брат Узбек-хан, повелитель живущих за войлочными стенами…»
— Про что это он? — дружинники князя, держа руки на рукоятях мечей, хмуро переглядывались, слушая крики хана, не удосужившегося выучить по-русски и двух слов и как на грех только что потерявшего в боевой свалке толмача. Впрочем, чем дальше хан забирался в лабиринты своих страшных клятв, тем яснее становилась его основная мысль, выражаемая на языке жестов: хан оскаливал зубы, недосчитывавшие своей доброй половины, утерянной в прежних схватках, высовывал язык и раз пятнадцать чирканул ладонью по горлу. Александр Михайлович отвечал Чол-хану по-монгольски, хотя и с запинками.
— А наш чего ему лопочет? — тихо переговаривались дружинники.
— Эх, неуки! — сердито шикнул на них пожилой десятник. — Нет, чтоб языки учить, вы только по девкам шляться умеете и пиво трескать.
— А сам-то ты, дядя Додя, умеешь по-ихнему?
— Да уж смыслю кой-чего. Он говорит, мол, заставлю вас хрен рылом копать… О! Такого сроду не слыхивал, надо же — «глинозадые»! И вот еще — «свиноподобные»! Вот заворачивает!
— Я ему щас самому заверну башку за спину, — сумрачно пообещал один из молодых дружинников, крупный детина с рябым от оспин лицом, — будет дразниться, гад…
— Тихо ты! Пальцем шевельнуть не успеешь, из лука свалят; смотри их сколько… Всё, кончили говорить — хан велел князю Михайле носа из детинца не казать, покуда он с мятежниками не разберется.
Чол-хан, договорив последние слова, надменно поднял подбородок, обхваченный кожаными нащёчниками шлема, сверканул степными глазами, вытянул коня нагайкой и, забыв про князя, поскакал обратно к берегу.
Князь Александр, пунцовый от унижения, повернул было назад к воротам, но неожиданно для сопровождавших крикнул — «за мной!» — сорвал коня в галоп и помчал вдоль улицы в направлении торга и далее — к вечевой площади. Дружинники последовали за ним, и через триста шагов их растянувшаяся группа вскочила в один из боевых участков: на базарной площади десятка полтора мужиков, перекрыв узкую торговую улочку раскуроченными телегами и кучей сваленных мешков с товарами, отбивалась от штурмующих эти самодельные укрепления ордынцев.
Воины Чол-хана уже потеряли нескольких товарищей, чьи тела продолжали висеть и лежать на и под опрокинутыми подводами в том положении в каком их настигла смерть, и теперь несколько остуженные яростным сопротивлением, держались поодаль заграждений, пытаясь достать укрывшихся врагов стрельбой из луков. Оборонявшиеся тоже отвечали стрелами из захваченных у погибших луков и самострелов. Каждый промах, свой и противника, русские сопровождали сквернословием, что почему-то особенно злило татар.
Налетевшую с тыла маленькую конницу князя Александра ордынцы, не теряясь, встретили залпом стрел: все же парни они были обученные, опытные в ратном деле. Группа русских смешалась, несколько передовых дружинников оказались убиты, задние, закрутившись на месте, останавливали коней и только один князь, не удержав стремительного влечения своего резвого вороного жеребца, доскакал до завала. Здесь конь, получивший несколько ран от неприятельских стрел, умер окончательно и пал, а сам князь кубарем докатился до укрепления и, раскинув руки, бездыханно распластался между мешками и коробьями.
— Принес Бог гостя, дал хозяину пир, — в сердцах выругался Одинец, на чьих глазах это произошло, — придется лезть и доставать…
Он трижды перекрестился, поплевал через плечо и перевалился через завал. В руках он держал огромное жестяное корыто, которое все боевое утро использовал как щит, приводя противника в исступление: даже тяжелые арбалетные стрелы с гранеными наконечниками, пробивающие броню воинских доспехов, застревали в таком железе. Упавший конник уместился под корытом почти целиком, и Одинец, рискуя получить стрелу в самое негероическое место, переволок его через укрепление. Только здесь все разглядели, кто перед ними:
— Пресвятая Дева, матушка-троеручица, никак сам князь тверской!
— А точно! Ты глянь!
— Накрылся князь медным тазом, — погребально-торжественно протянул один из ратников самодеятельной московской дружины, глядя на белого от мучной пыли, не подававшего признаков жизни Александра Михайловича.
— Живой! — Одинец, припав ухом к княжеской груди, услышал глухие толчки сердца. Он слегка пошлёпал великого князя по щекам.
— Бей сильнее, в кои веки такую удовольствию получишь — князю по морде съездить… — съехидничал тот же ратник.
Остальные мужики рассмеялись. Одинец тоже засмеялся и, действительно, добавил в шлепки силы. Вокруг него сейчас были уже не москвичи, с которыми в самом начале рубки ему пришлось выдержать первый натиск ордынцев, тех — живых и не раненых — осталось только двое; теперь его окружали случайно прибившиеся к ним тверичи, совсем незнакомые, но уже ощутившие братство по оружию. Тверские, поодиночке и по двое-трое сбежавшиеся в его самодельную крепость, принимали главенство Александра как нечто само собой разумеющееся, по наследству. Сам Одинец тоже не прилагал никаких усилий утвердиться в роли вожака, просто кто-то должен был начальствовать, и этим кем-то волей случая оказался он.
Князь глубоко судорожно вздохнул, засопел, перекатился на живот и, кряхтя, уселся среди трухи; глаза его поначалу непонимающемутные ожили, он вопросительно глядел на Одинца.
— С прибытием, Александр Михайлович… — сказал Одинец.
— Ты кто? — князь отплевался от набившейся за щёку земли, но и тогда Александр с трудом разобрал его бормотанье.
— Тутошние мы. Оборону держим, — Одинец понимал, что говорит с князем, главой Руси, непозволительно вольно; да он и не стал бы так говорить при другом положении вещей, но сейчас было всё не то, был край жизни.
— А эти… где?
— Татары и спереди, и сзади… кругом. А твои дружинники тут недалеко во дворе засели, отстреливаются.
Князь осмотрелся и, признав в Одинце главного, сказал ему:
— Мне на вече надо.
— Забудь про вече, князь. За нами татар гораздо больше, а откуда ты прискакал всего человек двадцать, — Одинец приподнялся и, не высовываясь из-за края завала, громко заорал, сложив ладони у губ: — Эй, дружинники!
— Ну, чего тебе? — откликнулись те.
— Кони-то у вас целы? Давай с двух сторон навалимся разом, да мы вам князя передадим! Уйдёте в кремль!
— А не врёшь, басурманская морда? Государь, откликнись…
Князь, при поддержке Одинца встав на колени, назвал своих дружинников по именам.
— Точно, князь! — обрадовались за забором. — Ну что, мужики, мы готовы… Раз, два… Поехали!
Короткая вылазка из-за укреплений обошлась Сашкиному воинству в трех раненых, сам Одинец получил на плече глубокий порез от чиркнувшей стрелы. Великий князь ускакал на коне, сидя сзади одного из дружинников.
— Может, надо было с ними в детинец бечь? — спросил, шумно отпыхиваясь, один из тверичей, до сегодняшнего утра считавший себя мирным кожевенником.
— Мы им только обузой были, да и перестреляли б нас по дороге, — ответил Александр, морщась от боли: руку ему неумело и грубо перематывал тряпицей молодой тверичанин. Он прислушался:
— Кажется, вече раскачалось…
Со стороны посада на них надвигался нарастающий шум боя. Тверь поднялась…
Глава пятая
Одинца взяли на следующий день. На пустой заезжий двор, где Александр отлеживался, ослабев от двух ран, в плечо и голову, явились княжеские дружинники, сопровождаемые каким-то сереньким непонятного возраста ярыжкой с пергаментным листком за пазухой, спросили:
— Ты Сашкой Одинцом будешь?
— Я.
И повязали.
Одинец не сопротивлялся, спросил «За что?», но ответа не услышал. С трудом поднявшись, медленно надел и поплотнее запахнул двухслойный длиннополый армяк, под которым до этого лежал, борясь с трясущим его ознобом и головокружением, безропотно протянул стражникам руки.
— Кто здесь ещё из московского обозу будет? — спросил ярыжка, вновь заглядывая в пергамент. Александр вяло пожал плечами: не было сил разговаривать, пусть сами ищут. С утра этот двор, всегда такой шумный и людный, покинули последние купцы, предпочитая поскорее унести ноги из опасного города. Александр, который смог добраться сюда после третьих петухов, застал за сборами только двух отсталых купчиков-москвичей, пришедших сюда с Рогулинским обозом. Но ничего вразумительного про Егора Рогулю или кого из его людей они сообщить не смогли.
— С нами поедешь?
— Обожду, может, другие подойдут.
Он гадал, остался ли кто жив, и больше всего болело сердце за Илюху. Да беспокоило, нашёл ли парнишка коня, а если и нашёл, то успел ли выскочить за ворота посада до того, как горожане, решившись биться с ордынцами, затворили все городские ворота?
Тверь вчера поднялась вся. Озлобление на ордынцев, копившееся во всех тверских, будь это простой бондарь или кузнец из посада, будь княжеский дружинник или дворовый человек, выплеснулось — татарам, сколь бы ни были велики их сила и ратное умение, справиться со всем народом не удалось. Защищались ордынцы отчаянно, бой кипел на всех улочках, площадях, пустырях; рубились на саблях и мечах, резались на ножах, вздымали противника на копья или вилы, забивали упавших кольями. С кровавой пеной на губах валились на изрытую землю, в последнем усилии стискивали горло противника слабеющими руками, рвали хрипящие рты, выдавливали черными скрюченными пальцами бело-розовые комки из глазниц…
Татары, лишённые в уличной тесноте своего главного преимущества — стремительности конных передвижений, и в пешем строю показывали себя великолепными бойцами. Впрочем, конницы у них не было: табуны низкорослых степных лошадок паслись на лугах за городскими стенами. Туда не долетал шум битвы, но кони недоуменно вскидывали голову, тревожно всхрапывали, втягивая влажными ноздрями ощутимый за много вёрст запах гари тянувшийся через частокол посадской ограды. Татарские табунщики, объезжая выпасы, гортанно кричали друг другу свои догадки, отчаянно махали руками, не в силах решиться без приказа на какое-либо действие. Лишь на закате солнца, валившегося в сизо-багровые тучи, со стороны города к ним добрался полумёртвый от многих ран толмач Мархашка, сын русской полонянки и ордынского тысячника, успевший перед кончиной поведать о гибели всего татарского отряда.
Отправленная на поимку табунщиков сотня княжеских дружинников увидела лишь спины коневодов, бешено работавших плетками по конским крупам. Татары уходили одвуконь — каждый на двух-трех сменных конях — догнать их было невозможно.
…Княжеская дружина до полудня бездействовала. Воины целой стаей, словно галки, расселись на высокой сырой крыше гридницы — своего общинного дома, который располагался в посаде невдалеке от западных ворот кремля — пытаясь разглядеть, что происходит на улочках города. С разных сторон на двор влетали всадники; не покидая сёдел, они кричали самые противоречивые новости боярину Твердиле и вновь уносились, оставляя за собой россыпи грязевых комочков. Несгибаемый по причине застарелого прострела в пояснице боярин-воевода с большими трудами был втащен на дозорную вышку и долго стоял там, кусая усы и ожидая вести от своего великого племянника. Бой внизу к тому времени разгорелся не на шутку, и опытный Твердило всей кожей чувствовал и маялся: «Пора, ой, уйдут, ой, уйдут!». Наконец он не выдержал, приказал, чтоб снимали с площадки.
Очутившись на своем тяжеловесном чубаром коне, обряженном в латы и кольчугу так же, как хозяин, боярин чуть подождал пока выстроятся сотни. Чубарый нетерпеливо скрёб землю копытом и пучил лиловые глаза из круглых дыр посеребрённого нарыльника.
— Братцы-дружиннички! — вскричал старый воин, и голос его враз окреп и помолодел. — Бей супостатов!
Он хотел что-то добавить насчет отеческих святынь, но воины уже сорвались с места и, увлекая его коня, ринулись за ворота.
Удара дружинников поредевшая рать татар не выдержала и отступила в кремль.
* * *
Александр Михайлович во всех мельчайших подробностях запомнил, как прискакал он обратно в кремль, крепко обнимая дружинника, выделившего для князя самую тряскую половину своего коня. Князя болтало и подбрасывало на лошадином заду, как на пустой крестьянской телеге, но остановить скачку, чтобы поменяться с дружинником местами, он не посмел.
Еще он помнил, как торопко воины закрыли ворота огороженного княжеского двора, как под вечер в кремль вбежали татары, отступавшие под напором толпы разъярённых горожан. Это совсем уже не походило на бой: толпа, затиснув себя в улицу кремля, даже не имела возможности сражаться, она просто неумолимо продвигалась, давя все на своем пути. Тщедушный Чол-хан, потеряв утрешнюю спесь, ставил коня в дыбы, тянулся из стремян и кричал через ограду, прося приютить остатки его воинства. И князь, в последней надежде исправить положение, дал команду впустить татар; и они побежали в старый батюшкин дворец, и заперлись в нём, а сам Александр Михайлович, окруженный ближниками, выехал к бесновавшейся толпе.
— Живой наш князь-надёжа! — заликовали тверичи, видя Александра.
— Люди тверские, — кричал великий князь, — Опомнитесь! Чол-хан — посол царя Узбека, лицо неприкосновенное…
— Конечно, — еще больше возликовала толпа и затрясла дрекольем. — Уж мы им лицы-то попортим! Всех перебьём за тебя, Ляксандра Михайлович! Будут знать, как наших девок щупать…
— Я говорю, нельзя же… не можно…
— Не-е-е… Мож-но! Мож-но! — дружно подхватили тысячи луженных глоток. — Бей басурман!
И видел Александр Михайлович, как лезли через тын, становясь на плечи друг друга, большущие мужики. И сверкали ножи, мечи и сабли, зажатые в их зубах. Тогда махнул великий князь рукой, указывая дружинникам открыть ворота, и сам первый вскочил на двор, и помчался к своему терему, где, обмирая от страха, в дальних покоях сгрудилась возле княгини дворовая прислуга.
А толпа хлынула следом и рванулась туда, к старому дворцу, в котором засели остатки ордынской дружины.
Первый приступ оказался, однако, неудачен: татары стреляли так метко, что в мгновение ока выкосили самых бойких из наступавших. После этого наступило небольшое затишье, в середке которого последний час доживали степные батыры Чол-хана, а кругом, на некотором расстоянии — дыша в затылки — плотно стояли тысячи нехорошо блестевших глазами горожан. Ордынцы постреливали скупо, берегли боезапас.
— Может, оттеснить народ? — предложил Твердило, в седую голову которого начали прокрадываться мысли о печальном будущем победителей. — Глядишь, и спасем хана?
— А-а, гори оно синим пламенем! — плача от бессилия что-либо изменить, ответил Александр Михайлович.
Как бы подслушав их разговор, мужики притащили от конюшни несколько охапок сена и принялись выбивать искры из кресала…
* * *
Откуда-то из глубокой синей мглы выплыл татарин на мохнатой чалой лошаденке. Татарин сидел на незасёдланной лошади как на ковре, согнув ноги калачиком. В одной руке он держал пиалу из которой при каждом подскоке лошади венчиком взлетало молоко. Татарин ловил брызги ртом и глотал, улыбаясь. Второй рукой он натягивал огромный роговой лук, и Одинцу было непонятно, как это можно одной рукой и держать лук, и натягивать тетиву. Татарину это было по плечу, и он, сделав улыбку еще гаже, послал стрелу. Одинец слышал певучий звук колеблющейся тетивы, тоненький посвист летевшей стрелы. Стрела ударила ему в висок и отскочила. Облетев вокруг, она снова ударила уже в другой висок. «Видать, тупая, — подумал Одинец. — А больно дерется». И он принялся отмахиваться от назойливой стрелы как от овода. Тогда татарин, который подскакал совсем близко, нахмурился и сказал: «Слюшай, урус, зачем моя стрелка больно делаешь, обижаешь? Что она тебе — мух?». — «Это вовсе мне больно, а не ей», — тоже обиделся Одинец. Но татарин решил обидеться больше, гораздо больше, чем Одинец, и, чтобы показать, как он совсем-совсем сильно обиделся, стал плескать в лицо Одинцу молоко из пиалы. «Ну, мокро же!» — сказал Одинец. И татарин, смутившись, извинился и принялся промакивать влагу оторванным от халата рукавом. Он теперь был не верхом, а висел в воздухе, всё так же поджав под себя ноги. И за его плечами Одинец увидел два больших белых как у лебедя крыла. «Ты — ангел?» — удивился Одинец. «Ага, — утвердительно кивнул татарин, — архистратиг Михаил в воинство небесное зачислил, служу вот…» — «Разве ты христианской веры?» — «А там и не разбирают, кто какой, всех под одну гребёнку гребут…»
— Всех под одну гребёнку… — услышал Одинец, очнувшись, обрывок тихого разговора. На его лицо, вылетая из непроглядной тьмы сверху, падали крупные капли. По невидимой крыше мерно барабанил дождь. Мозжило раны, ломило в висках; Одинец чуть отодвинулся, чтобы просачивающаяся через худую кровлю капель пошла мимо, и едва не застонал: боль раскалённым обручем охватила голову. Он затих, ожидая, когда она отступит.
Позавчера его доставили на дружинный двор полуживым. Дьяк, принимавший арестантов, которых толпами пригоняли отовсюду, предпочел не тратить время на едва державшегося на ногах Александра: «Тащите в сарай, пусть отлежится».
Теперь, к исходу второй ночи, Одинцу полегчало. Если не шевелиться, боль почти затихала. Настоящей пыткой были только походы к устроенной в углу сарая уборной. Кроме Одинца в сарае задержались ещё несколько человек, большую часть допрошенного народа отпускали по домам. Власти вели следствие по делу о восстании. О том же вели речь и невидимые Александру в темноте собеседники:
— Тысяцкого-то князь указал на глаза не пущать, сильно сердчает на него. На Щетнёвых опалу наложил, так они уехали в свою вотчину и носу не кажут. Слышал, будто слезную челобитную прислали, мол, прости, государь, за твое спасенье бились, как лучше хотели…
— Да-а, наломали мы дров! Как оно все аукнется? Что теперь в Орде Азбяк порешит?
— А вот всех и порешит! Одно слово: ели, пили, веселились, подсчитали — прослезились…
В разговор включился третий голос:
— Вроде как зачинщиков драки ищут. Но и тех хватают, кто попутно у некоторых бояр дворы разнес, да ордынских купцов побил!
— Говорят, ни одного живым из города не выпустили.
— А че их в дёсна целовать, что ли?
— Они что ж, разве виноваты? Это все Щелкан согрубил народу.
— А то не виноваты! Ты жалостливый больно. А я вот хари эти на дух переносить не могу. Все зло от них. Ничо! Я-то повеселился: там у нас на Торговой улице семейка проживала, старшая девка у них лет семнадцати, чернявая… когда её отца, сволочь жирную, на воротах повесили, она пислявенько все выла-причитала, а как поняла зачем её в дровяник потащили, так не поверишь, обмочилась, ну будто ведро в ей было!
— А потом?
— Потом суп с котом. Прирезали сучонку…
Эх, встать бы, дать в морду, да сил нет. Веки Одинца сами собой смежились, явь начала путаться с забытьем. Он снова оказался на том пятачке торговых рядов, где их, отбивавшихся от ордынцев, застало вступление в бой вооружившегося веча и княжеской дружины. И хотя сражение и после того длилось еще много часов, в его памяти удержалось немногое…
…Какая-то улица, по которой он бредёт, пытаясь вывернуть на тот тупик, где стоит заезжий двор. Разбитые ворота домов, выдранные рамы окон, снятые с петель двери, поваленные прясла вытоптанных палисадников; по воздуху серой метелью кружит пух вспоротых подушек и перин, он покрывает лужи, набивается каймой вдоль обочинной травки.
…По всей мостовой, выложенной толстым настилом из деревянных плах, рассыпана какая-то лузга, ошметки соломы; в беспорядке, кучками и поодиночке валяются трупы убитых. Вперемешку, слоями лежат и русские, и золотоордынские ратники. Некоторые из тел уже раздеты донага — постарались мародёры. Собирать и хоронить павших будут потом, завтра. Женское население посада схоронилось в дальних углах изб, в подполах, где, напряженно ловя приглушенные звуки извне, жёны прижимают к груди послушные ребячьи головки: «Тише, тише…». На белом свете сейчас — время хищников. Одинец знает: так бывает всегда — за львом следуют шакалы…
Снова провал и снова воспоминание… Страшно хочется пить. Одинец входит в один из разграбленных дворов. Посреди двора — груда окровавленных тел, видимо, семья: несколько детей — худенькие ручонки с маленькими прозрачными пальчиками, наверху лежит нестарый черноволосый мужчина в разрубленной почти напополам расшитой тюбетейке. «Недалеко ты, бедолага, убежал», — думается Одинцу, ему даже кажется, что он узнаёт в убитом одного из торговцев с рынка, золоторемесленника, к которому на днях заглядывал в лавку, прицениваясь купить серебряное монисто для Марии. Ремесленник этот сидел на низеньком чурбачке, улыбался на покупателей, напевал что-то весёлое и дробно стучал молоточком по чекану. Под его умелыми руками из медной полоски уже рисовался облик наручного браслета…
Одинец слышит какую-то возню в подклети, заглядывает в распахнутые двери и видит прямо у порога невзрачного мужичонку и отбивающуюся от него полную смуглую женщину. Татарка отбивается молча, в ее чёрных восточных глазах плещется даже не ужас, а что-то другое, запредельное и невыразимое в крике или рыдании. Одинец брезгливо пихает ногой в оголенный зад мужика: «Пошел, сволочь!». Тот сваливается с женщины, в полутьме блестит озверевший взор. Не успевает Одинец что-либо предпринять, как насильник по самую рукоять всаживает в шею женщине толстое длинное шило и шмыгает на двор…
На углу улицы Одинца настигают несколько человек. Дробят по настилу торопливые шаги… Одинец оборачивается: среди окруживших его полупьяных громил стоит и тот, с шилом. «Вот этот самый и есть…», — поскуливая, говорит недомерок. Главарь ватаги оценивающе смотрит на Александра… Нет сил, нет жажды жизни. Только непомерная усталость… Одинец молча вытаскивает меч из ножен. Эту схватку ему не выиграть, но и уйдет в небеса он не один… Шайка, потоптавшись в нерешительности, вдруг пятится и тает среди разоренных строений: добыча показалась не по зубам.
Который день в думной палате княжеского терема сидели бояре. Вот пожилой, но еще бодрый Еремей Алпатьич Дорога, вот молодой Иван Акинфич Сито, сын Акинфа Великого, того, что когда-то рассорившись с московским князем, перебежал служить тверскому и погиб под Переяславлем от московской руки, там, в углу — окольничий Семён Булай, князь, из обедневших князей бохтюжских. Князь Александр обвел взглядом благородное собрание, общей думой которого был поиск выхода из той мышеловки, в которую загнали взбунтовавшиеся тверичи собственное правительство. Дядя Твердило, чьё место обычно было рядом с золоченым троном-седалищем тверских князей, теперь сидел вдали, возле самой двери и, виновато помаргивая, поминутно обтирал потеющее крупное лицо.
— Так что, бояре, — Александр Михайлович нервно подёргал себя — зачесалось — за кончик носа, — как перед ханом оправдываться будем?
Советники закряхтели, озираясь.
— Да разве теперь оправдаешься? — тяжело вздохнул боярин Дорога. — Теперь только и остаётся, что гостей из Орды ближе к зиме ждать. Приедет их тыщ сто и — прощай, матушка-Тверь. По бревнышку разнесут. Помнится, в Городце жители тоже так-то вот ханских баскаков покрошили в капусту…
— Ты, Еремей, не накаркивай допрежь времени, — буркнул конюший Парамон Зверев. Он по годам был почти ровня Дороге, зато званием выше, и всегда оскорблялся, когда Дорога успевал что-то молвить раньше, — может и откупиться получится. Щелкан Дюдентьевич, земля ему пухом (и про себя: «Жердь ему в глотку»), конечно, Узбеку родственником приходился, но золотишко, бывало, и не такие грехи покрывало!
— А может, проще сделать? — подал голос сидевший на лавке возле растворённого окна молодой Акинфиевич. — Пошлем хану головы зачинщиков. Штук сто или двести…
В палате повисло молчание. Бояре ошарашенно переглядывались.
— Ты как, Иван Акинфиевич, здоров сегодня? — осторожно спросил конюший. — Может, тебе лучше пойти полежать? Покуда твою голову первой в мешок не склали. Ты хоть знаешь, сколько оружия посадским мужикам роздано и до сей поры не собрано? Они нам всем, коли узнают про такой бред, не только головы поотрывают, но и то, что всякому плясать мешает.
— И чем некоторые думают, — вполголоса добавил ехидный Булай.
— Тих-а-а! — пристукнул Александр Михайлович по подлокотникам трона, упреждая готового сорваться молодого боярина. — Дядя Твердило, ты чего там за спинами прячешься? Скажи чего-нибудь. Нет? Нет, ты скажи, скажи. Это ведь не я дружину взбаламутил…
Твердило обречённо поднялся с лавки:
— Чего тут скажешь? Оплошали! Ну и… это… народ подгадил.
Бояре согласно закивали головами: «Верно! Верно! Подгадил!»
— Ну, всё, бояре — испотиху свирепея, сказал великий князь, — народ, конечно, подгадил, но где я вам другой найду? Давайте обходитесь каким есть. Ваше дело думать, чем великого хана улещить. А с чернью я сам разберусь: сейчас еду на дружинный двор, где мои тиуны следствие ведут.
* * *
В недальней Москве со своими ближними боярами пировал удельный князь Иван Данилович Московский. Через его град нынче днём пронеслись табунщики Чол-хана, сломя голову скакавшие в Сарай, чтобы донести до великого хана вести о тверских событиях. Иван Данилович, только что пускавший у всех на виду на дворе слезу по новопреставленному царскому двоюродному брату, теперь лежал грудью на подоконнике распахнутого косящатого оконца в верхней светлице княжеского терема и, глядя как оседает пыль на коломенской дороге, по которой ускакали ордынцы, счастливо крестился:
— Господи, сподобился! Теперь крышка Сашке Тверскому.
* * *
Назначенный княжий пристав, боярский сын (так называли не действительных сыновей, а тех, кого в будущем станут именовать дворянами) Степан Самохвал, в чьё ведение отдал великий князь розыск по делу об избиении ханского посла и его отряда, за эти дни спал с лица: подозреваемые шли косяком. Великий князь не без причины отстранил от расследования всю городскую власть, ходившую под тысяцким. Дураку ясно, что прикормленные тысяцким градские тиуны да приставы все заволокитят — рука руку моет.
Князь Александр хотел до мелочей знать всю картину происшедшего, ибо, по его разумению, даже ничтожнейшая мелочь могла сейчас помочь ему, попавшему перед Ордой в столь щекотливое положение. Срочно требовались те, на кого можно было свалить всю вину. В конце концов, зашиканное на боярской думе предложение младшего Акинфича не было уж столь глупым. Прямо можно сказать, дельное предложение — выдать зачинщиков бойни головой великому хану. Только не осуществимое, если не доказать народу тверскому, что в его интересах отделаться малой кровью. Скажем, виноват тысяцкий…
Был, конечно, и другой путь, по которому пошел батюшка нынешнего великого князя: девять лет назад, когда тверская рать, отбиваясь от Юрия Московского, попутно перебила и отряд ханского вельможи Кавгадыя, да взяла в полон Юрьеву жену, татарскую царевну, позже внезапно умершую здесь, в Твери, такая же гроза надвинулась на тверскую землю. Но батюшка Михаил Ярославич сам лично понёс свою повинную голову в Орду. Узбек, казнив Михаила, утолил свой гнев и не послал на Русь войско — жечь да грабить.
«Батюшка, надо думать, всё ж надеялся в живых остаться! — князь Александр, опустив поводья и не понукая коня, ехал улицами города, оглядывая разрушения. — Ныне начинают поговаривать, мол, в святые его записать надобно. Святым навеки прославиться, спору нет, вещь приятная, — князь представил, как рисуют во всех церквах на Руси его, Александра Михайловича Тверского, с нимбом над головой. И содрогнулся. — Нет, в другой раз как-нибудь!».
Об это время в тесной караульной избе дружинного двора Степан Самохвал разглядывал приведенного из каретного сарая Одинца.
— Сам сознаешься, или как? — пристав кивнул ярыжке, мол, готовься записывать…
— Лучше б твоя милость мне рассказала: в чем вина моя? — Одинец поискал глазами, куда бы сесть, ноги тряслись от слабости. Мало того, что ослабел от ран, ещё и кормили за эти дни один раз: стражник бросил в кучу арестантов два каравая хлеба. При братской делёжке караваев разбили не одну губу, но, как ни странно, крошечный кусок выделили и лежачему. Каким-то чудом об Одинце были уже наслышаны все узники.
— Ну, что ж… — пристав выложил перед собой на стол малый листок бумаги, только начинавшей входить в оборот, стал читать: — «А прибыл он Алексашка прозвищем Одинец в тферь оружным и конным с московским обозом и на торгу в день успенья на реке изби до смерти татарина почто и случилась замятня».
— Поклёп, — возмутился Одинец, — можно я на лавку присяду?
— Можешь хоть лечь, но после того как всю правду выложишь, — Самохвал, шевеля губами, принялся вновь вчитываться в записку, — сказано: «с московским обозом», а?
Уж в этом-то Сашка признаваться не боялся.
— Это верно. С обозом московского купца Егора Рогули, — сказал он, опускаясь на вожделенное сиденье. Пристав удивленно поднял брови, оглянулся, словно ища причину арестантского нахальства.
— Ты чего? — шепотом спросил он.
— Чего «чего»? — тоже шепотом вопросом на вопрос ответил Одинец.
— Ну…это… чего уселся? — озадаченный пристав осаживающе замахал рукой, останавливая стражника, стоявшего при дверях и уже потянувшегося к торчавшему из голенища сапога кнуту.
— Подожди, — сказал стражнику, — успеется.
— Так я всю правду выложил, — сказал Одинец, кивая на грамотку, — остальное там неправда. Прибыл с обозом, верно, конно и оружно, верно. Признаю. А что, тверские купцы и охранники в караванах инако ездят?
— Оружие-то где твое?
— Потерял, — не сморгнув, на голубом глазу соврал Одинец. Меч он припрятал под стрехой одного из амбаров, присыпав толстым слоем сухого голубиного помета, место надежное. — И меч потерял, и коня. Конь у меня был каурый. Замечательный конь. Таких коней больше не делают. На лбу лыска белая, и задняя правая бабка тоже бе…
— Про коня не пиши, — сердито остановил пристав ярыжку, — про коня оне придуриваются, — он с трубным звуком высморкался под стол, растер содеянное и промакнул покрасневшие глаза несвежим полосатым платком-ширинкой. — Невиновного из себя строит: злые люди доброго человека в чужой клети поймали! Мы его сейчас про другого коня спрошаем. Сходи-ка, приведи этого… Ценителя кобыл.
Судейский помощник бросил перо на стол и, выйдя из комнаты на самый краткий миг, вернулся не один. Перед собой он гнал приземистого толстячка.
«Судя по остаткам рясы, дьякон, — определил Александр, — не тот ли про которого мужики рассказывали?»
— Вот, — сказал Самохвал, поднимая Одинца с места и ставя их носом друг к другу, — узнаешь?
Дьякон белотроицкой церкви Паисий Дюдко поглядел снизу вверх на стоявшего перед ним человека и отрицательно помотал заплывшими от ордынского мордобоя, в синяках и коростах щеками:
— Не… — осипло дыхнул он, — тот росту с меня. И на подбородке шрамик.
«Как там Битая Щека? — подумал Александр. — Выжил, не выжил?».
— Тьфу ты пропасть, — ругнулся пристав, — все ему не подходят!
— Отпусти ты меня, Христа ради, — уныло и привычно затянул отец Паисий. — Ведь матушка ждет. И детки.
— Обождут! — отмахнулся Самохвал. — Твою судьбу князю решать.
Именно при этих словах уличная дверь караулки отворилась, и в комнату шагнул, долгой ему жизни, великий князь тверской и владимирский Александр Михайлович собственной персоной.
— Государь! — вскричал дьякон, валясь князю в ноги так скоро, как будто ожидал его появления ни раньше, ни позже. — На твою милость уповаю…
Все бывшие в комнате согнулись в низком поклоне, Одинец тоже: «С волками жить, по-волчьи выть».
— Ну, что? — спросил князь у Самохвала, не обращая внимания на прочих.
— Того, кто драку затеял, покуда не нашли.
— А эти чьи будут?
— Свои мы, свои, государь! Я дьякон из Белой Троицы, — торопливо подхватил дьякон, — второй день тут держат, на разбойников глядеть заставляют, а у меня жена опять же, дети…
Князь поморщился:
— Так это из-за твоей кобылы весь сыр-бор разгорелся?
Дьякон покаянно швыркнул распухшим носом:
— Ну да…
— Удавить вас вместе с кобылой мало! На твоих кишках ее повесить. И наоборот.
Дюдко замер, обхватив князев расшитый бисером сапог. Самохвал указал на Одинца, одновременно подавая князю донос:
— Есть, правда, вот один… Хоть и не опознали его.
Александр Михайлович бегло пробежал бумагу глазами. «Неужто повезло? Вот бы московских на этом прихватить!»
— На дыбу вздень, шкуру плеткой спусти, но правду выбей.
Листок затрясло в побелевшей руке князя, его охватила волной бешенства. Сам бы резал по живому, сам бы жилы рвал. Уму непостижимо: какая-то лошадёнка, какой-то занюханный дьячишка, какой-то мужичонка, случайно притащившийся из вонючей московской деревушки; и вот судьба-злодейка сводит эту троицу вместе, и все его великие мечты, честолюбивые дерзания летят кобыле под хвост! (Александр Михайлович даже не подозревает в этот миг гневного раздумья, что только что родил чеканную русскую формулу, она — «кобыле под хвост» — станет на века преобладающим итогом деятельности большинства российских самодержцев…). Из-за какой-то подлой черни он, великий князь, вынужден трепетать при одной мысли о ханском гневе. Его, законного наследника отческих и дедовых прав, могут повергнуть в прах, в небытие, как раз тогда, когда волей небес, он вознесён на вершину власти!
— Делай что хошь, но правды добейся! — князь бросил листок потерявшемуся Самохвалу, с яростью отпихнул согнутого Дюдко и выскочил из караулки.
Только когда подскакивали к кремлю, Александр Михайлович вдруг вспомнил: образ высокого рыжего арестанта, молчаливо и горько усмехнувшегося на обещание дыбы и кнута, совпал в его памяти с другим образом, мимолетно мелькнувшим в суматохе восстания. С образом того мужика, кто спас его в бою на торговой площади.
Утром, сидя за семейным столом — были там только свои: мать-инокиня Анна, принявшая постриг после убиения в Орде мужа Михаила, жена со старшим четырехлетним сыном на руках, младший брат Константин, и так, кое-кто по мелочи, родственнички — Александр велел позвать думного дьяка и, когда малое время спустя тот явился, сказал ему:
— Там, на дружинном подворье держат дознание над одним… э-э… Одинцом зовут… Передай Самохвалу, пусть живым оставит. Сам говорить с ним буду.
К тому времени Одинца, потерявшего сознание, второй раз сняли с дыбы и отливали водой…
Глава шестая
Холодный западный ветер гнал по низкому осеннему небу нескончаемую череду серых лохматых туч. Оголенные рощи, позванивая заледеневшими ветвями, стряхивали на стылую землю последнюю листву. Листья вмерзали в хрупкий ледок дорожных луж, усеивали стерню придорожных полей, чернели, истлевали, уже нисколько не напоминая об ушедшем летнем тепле, а наоборот, навевая безрадостные думы о предстоящей зиме.
— Ух и холодрыга! — сказал вошедший в избу дружинник, присовываясь к большой забеленной печи и грея об её тёплый бок шершавые иззябшие руки. — Слыш, Игнат, там за росстанями народишко какой-то показался, богомольцы, что ли, ползут, не разглядел. Ты сходи, встреть, поспрошай, куда и откуда…
Сменщик Игнат не спеша вытянул с загнетка печи сапоги, проверил — просохли? — и оставшись недоволен обнаруженным, пробурчал:
— Ну бы их к ляду… Целыми днями идут-бредут, шалыганы. Чего дома не сидится? Одно дело купцы, это понятно, иль там работнички отхожие; а этим что надо? Нищебродят, калики перехожие: в одном монастыре покормятся, в другой шкандыбают! Нехрен было столько грехов копить… Да и какие у деревенского мужика или бабы грехи могут быть? Ну, с кумом по-пьянке подрался… Ну, дала разок соседу, не разобравшись, в темноте в амбаре. И что?! По такой малости Господа всякий раз тревожить? Вот взять боярина какого или князя: тут, конечно, грехов нажито — всей епархией не отмолить.
— Эт верно, — первый дружинник полез на печь, — слышал, Иван Данилович из Орды вернулся? Говорят, война будет.
— Кому война, кому мать родна. Может, сюда, до Можая, и не докатится!
Игнат, накинув на плечи широкий нагольный полушубок — сабля торчала сзади как хвост дворняги — двинулся к двери. Вернулся он довольно скоро и не один, за ним в тепло избы протиснулся странного вида человек. Сказать, что человек этот был плохо одет означало бы искажение истины — бродяжка был почти раздет: сквозь прорехи грязного зипуна виднелось голое тело, ниже зипуна все заканчивалось намёком на порты той же расцветки, что и зипун, еще ниже не было обуто даже лаптей — были кули из рогожи, перетянутые сыромятными ремешками.
— Какого рожна… — удивился первый дружинник, принюхиваясь.
Незнакомец, не смущаясь недобрым приемом, прильнул к печи всем телом, сипло сказал:
— Что, Мартын, своих не узнаешь?
Дружинник, свесив голову, вгляделся в нежданного гостя:
— Не десятский ли Александр Степаныч? — неуверенно спросил он.
— Пожрать дадите — стану Александр сын Степанов, а до сей поры беглый тверской колодник Алексашка Одинец.
— Да ну?!! Мать честная! Сколько лет, сколько зим!
Ни баня, ни отысканный бывшими сослуживцами кое-какой наряд — старенькая рубаха висела вдоль исхудавшего тела тысячью складок — ни сытный ужин в доме десятника пограничной стражи Мартына Нянка (два года назад, после ухода Одинца, Мартын заступил на его место) так и не смогли вернуть беглецу окончательный человеческий облик, требовалось время.
— Похож на кошку, весь полосатый, — подытожил в бане Мартын, оглядывая иссечённую шрамами спину Одинца.
— Ничего, кошки живучие, да не все это помнят, — загадочно ухмыльнувшись, ответил Одинец.
Вечеряли впотьмах, в хозяйкином куте горела лучинка, хозяйка трудилась над пряжей, теребя кудель и привычно и ловко крутя веретено. На полатях вповалку лежали дети, блестели любопытными глазёнками. Мужчины, разомлев от душноватого тепла избы, сидели за столом.
— Больше месяца сюда добирался, кружным путём пришлось, по краю новгородских земель. Спасибо добрые люди надоумили напрямик из Твери на Москву не идти. Там сейчас наглухо весь проезд закрыт.
— Что же в Твери теперь?
— Страшно в Твери… Как прознали, что хан войско собирает, приуныли. Бояре, понятно, добро — на подводы, жён-детей в кибитки и — айда! — по дальним вотчинам и монастырям, куда татарам не вдруг добраться. А вот простому народишку деваться некуда. Разве в церковь сходить, помолиться перед смертью.
— Ратиться с татарами будут?
— Кто будет, кто нет. Князь Александр сначала хорохорился, грамоты строчил к удельным князьям, мол, давай вместе против татар… Да похоже, никто не откликнулся: за чужой щекой зуб не болит.
— А у нас, поговаривают, Иван Данилович тоже рать собирать будет, в помощь татарам. Тверь зорить пойдут. Ты как, Александр Степанович, коль ополчение призовут, пойдешь? Я вижу хоть под лохмотьями, а меч свой всё едино припрятал?
Одинец задумчиво погладил насечённую костяную рукоять меча, стоявшего рядом с лавкой:
— Да уж, намучился, пока сюда тащил. Тяжёлый для нежрамшего, гад… А тверских мужиков грабить не пойду. Навоевался, хватит. Эх, знал бы ты, Макар, как домой хочу, истосковался. Зачем в люди по печаль, коли дома плачут?
— Детишек-то ещё родил, или всё один малец у тебя?
— Два парня: Мишка да Стёпка…
Ночью, в полуяви-полусне, ворочаясь на мягком перовом тюфяке, уступленном ему хозяином, Одинец видел Марью. Вспоминалась до мельчайших подробностей первая ночь их любви, любви грешной, запретной, тогда еще не освящённой церковной сенью. Машка, испуганная своим бесстыдством и счастливая от своего безрассудства. Слёзы на ее лице, едва различимом в свете просачивающегося на сеновал розового летнего восхода. И сквозь слёзы — улыбка: «Ты — мой? Милый…Мой?» А он, дурак, молол какую-то чушь про удачно начинающуюся службу при князе, дурак, трижды дурак. Она же, эта новая народившаяся на белый свет баба, женщина, ждала совсем-совсем других слов…
Дети… Первенец Мишаня, светловолосый, весь солнечный, смешной и шустрый Мишаня, затем Степанко, крохотный тёплый комочек, который и не знает толком, что у него есть большой и сильный отец, а чувствует лишь мать, ее ласковое живительное тепло. Степанко… Беззубый маленький ротишко с беленькими острыми каемочками на розовых дёснах, которые он обнажает, улыбаясь материнской груди. Ему страшно нравится, уже сытым, держать ртом тёплый мокрый сосок и притворяться спящим. А мама водит своим соском по крохотным его губёшкам, оставляя на них капельки молока. И он разевает рот в улыбке и вновь хватает, хватает мамину грудь… Одинец чуть не стонет от досады, что столько лет упустил в погоне за призрачными благами во всех своих болтаниях по большой земле. Хорошо, что грех прикрыл венцом, хотя он знает: в душе жены так навсегда и осталась та саднинка, полученная ею в первую их ночь. «Ты — мой?» Да кричать надо было на весь свет: твой, твой! И уже утром, не откладывая, надо было умыть дядьку, отправить на порог к Яганам: «У вас — товар, у нас — купец!» А он: «Подожди маленько, не время сейчас…»
…Когда оно, время-то, бывает для самого важного? Кажется: и это надо свершить, и то, и то. Ну, ещё чуток поднакоплю, подзаработаю. И потом — как сыр в масле покатится вся жизнь. Тогда и о душе подумаем, родных обогреем. Вот и ныне в Тверь попёрся! Обогрел, называется.
…На детские образы застилающей пеленой наползают другие воспоминания, совсем недавние… Великий князь владимирский и тверской сидит на своем позолоченном престоле. Одинца, едва-едва пришедшего в себя после пыток и кнута, доставили прямо в покои княжеского терема. Даром, что Одинец не чист, рван и космат; ничего, служки опосля подотрут этот навощенный узорный пол. Князь явно узнал Одинца, узнал, но виду не подаёт, не княжье это дело — благодарить смерда за спасение. Ибо спасение бесценного великокняжеского живота и есть величайшая благодарность для смерда. По гроб жизни теперь обязан князю Одинец…
…Что-то все же унюхали княжеские ищейки; Александр Михайлович дотошно выспрашивает у невольника, не знает ли он об оружии, кем-то привезенном в город? Одинец отрицает. Первая заповедь на допросе: отнекивайсь! Вторая: упорствуй! Хоть и нечасто Одинец по тюрьмам ночует, а все ж знает… Князь, утомлённый беспробудной тупостью арестанта, дает знак дружинникам: уведите!
…Да! А что говорил князь о той рукописи? Вообще при чём тут рукопись? Дескать, во время боя на княжьем дворе неведомые злоумышленники проникли в тайную комнату государева терема. И ни злата, ни яхонтов не тронули. Унесли с собой только пергаментную старинную книгу, оставив на полу два остывающих тела удушенных верёвкой сторожей.
«Чудеса, — удивляется Одинец, уже окончательно засыпая, — такие книгочеи на свете бывают, что только держись… подальше».
Спозаранку Одинец распрощался с гостеприимными хозяевами. Жена десятника, под строгим взглядом супруга не выдавая огорчения, пошарила по сундукам, и теперь Александр был одет вполне прилично для нищего, нашлись даже старые сапоги с обрезанными по щиколотку голенищами. Свой драгоценный меч Одинец, дабы не позорить благородное оружие такой одеждой, завернул в рогожу и нёс под мышкой, как полено. На душе было светло, остававшиеся до родных осин михайловской слободы семьдесят вёрст он рассчитывал пройти дня за три.
Придёт, упадёт Машке в ноги. И скажет: «Прости!» А потом взлохматит, как бывало, вихры старшему сынку, посадит его на свои плечи, укачает в руках спелёнатого Стёпушку и, приникнув ночью к тугому животу беременной жены, услышит тихое шевеление новой жизни. Нет, точно девка будет, похожая на Марью. Ну, сколько можно парнишек рожать!
* * *
В начале рано набравшей силу зимы из ордынской столицы, города Сарай-Берке, стоявшего выше устья Волги, вышли первые обозы войска великого хана. Туда, вверх по реке, где за дремучими малопроходимыми лесами лежат земли русского улуса, самого большого и богатого из всех данников Золотой Орды, отправлялась степная армия хана Узбека. Великий хан, уязвлённый доставленными из Твери вестями, а более всего чёрной неблагодарностью со стороны этого мальчишки, Александра Тверского, которому он вручил верховное управление русскими землями и который даже в своем собственном городе не смог удержать нужный порядок, был готов покарать мятежных тверичей не откладывая дела в долгий ящик. Будь он помоложе, то, наверное, поддался б первому порыву.
Теперь при утреннем одевании из веницейского зеркала на хана смотрело лицо смуглого сорокалетнего мужчины с умным и волевым выражением, в котором кроме ранней усталости уже отмечался отпечаток житейской мудрости. Пятнадцатилетний опыт управления весьма непростым хозяйством такого великого государства, каким является Золотая орда, не прошел даром. «Поспешишь — людей насмешишь», — мог бы сказать русской поговоркой сарайский властитель, знай он её. Он не знал, но действовал в её духе. Тем более первая жажда мести была утолена прокатившейся по Сараю волной русских погромов. Русские мастеровые и купцы, оказавшиеся в ту пору в городе, были вырезаны почти поголовно. Русские служители Бога, правда, уцелели: при всей готовности к священной войне против неверных мусульманин Узбек заветы предков, никогда не стремившихся воевать с чужими богами, не нарушал. Кто его знает, что на уме у этих непонятных богов?
В один из последних дней ноября, в ранний час, когда на синем небосклоне продолжала холодно сиять утренняя звезда, а узенький серп луны ещё не окончательно утонул в свете восходящего дневного светила, на крутом берегу реки остановилась группа всадников. Ниже них, по заметной проторённой дороге спускавшейся наискось к берегу бесконечной лентой двигались конники головного отряда — десять тысяч нукеров царевича Сюги, племянника великого хана. Разрывая блестевшие железом доспехов и оружия колонны воинов, двигались сотни повозок со съестными припасами и свёрнутыми в огромные коконы походными шатрами. Над рекой стоял неумолчный шум от сотен скрипящих колес, ржания лошадей и рёва недовольных жизнью верблюдов из еврейских купеческих караванов, что снабжали армию на первом этапе пути, вплоть до русских границ. Дальше армия переходила на кормёжку за счет побеждённых, а все верблюды с их вьюками, повозки, арбы, сани и подводы могли пригодиться для вывоза награбленного.
Царевич Сюга, заметив на пылающем в лучах восхода обрыве знамя великого хана, заставил коня лихо взлететь по круче и, не доскакав нескольких шагов, соскочил на обдутый ветрами песок.
— Мои воины готовы выполнить твою волю, хан!
Продрогший Узбек, успевший изругать себя за легкомысленное желание напутствовать армию перед походом, как бы в знак особой милости спешился навстречу: «Заодно согреюсь…». Он перекинул ногу через холку коня и сошел на подстеленный расторопными рабами ковер по согнутым спинам челядинцев. Там, внизу, великий хан, сунув левую руку за отворот утеплённого, на горностае халата, правой слегка приобнял юного родственника и громко сказал:
— Будь достоин нашего великого предка — потрясателя вселенной Чингис-хана! — хан скосил глаз на писцов, успевают ли записывать? — Тебе, одному из немногих чингизидов, я предоставляю честь вновь привести наших данников к покорности.
— Будь покоен, великий хан… — царевич склонил голову, прижав к груди ладони. «А главным на поход назначил безродного Хонгор-Сюке», — мелькнула обидная мысль.
Темник Хонгор-Сюке, пожилой, крещеный по несторианскому канону монгол, прославился в прежнее царствование хана Тохты победами над персами. Он уже давно не водил войск, жил на покое, но по-нынешнему случаю Узбек вытащил его, как старую шубу из сундука, и поставил во главе всех пяти туменов, отправлявшихся зорить Русь.
Насчёт немногих чингизидов это была сущая правда: расплодившиеся потомки величайшего воителя десятками гибли в беспрестанных попытках завладеть большими и малыми престолами малых и больших ханств, султанатов и княжеств, на которые раскололась самая огромная из когда-либо существовавших империй. Узбек и сам пришел к власти, переступив через труп родного дяди. Претендентов на Золотую Орду была такая уймища, что и сейчас, через много лет, приходилось отлавливать по бескрайним степям мятежных родственничков-«царевичей». О небо! Всякий отпрыск любого из великих ханов, хоть бы и от шестнадцатой жены, величался «царевичем» и только и глядел, как влезть на трон…
Введение в Орде мусульманства дало Узбеку прекрасную возможность сократить численность «царского» поголовья.
Великий хан был наслышан, что по христианской Европе гуляют сплетни, якобы он приказал казнить семьдесят царевичей, не согласившихся принять единственно правильную веру. Врут, конечно, псы. Не более десятка праправнуков Чингиза и Батыя были замотаны в белую кошму и удавлены без пролития бесценной ханской крови. Скажут же, семьдесят! А хорошо бы…
Узбек взобрался по живой лестнице обратно на коня, натянул рукавицы и поднял руку. Снизу раздался восторженный рёв воинства. Крики продолжались и тогда, когда великий хан поехал от берега прочь. За ним тесной толпой отправились приближенные.
* * *
Слёзы на глазах — это от ветра… Одинец промакивает их рукавом, теперь ясно видны и колокольня старой церкви в центре села, и улицы, и купа высоких раскидистых тополей на въезде, и там, чуть сбоку от них — кузня, а за ней, через огороды — родная крыша. Ноги сами ускоряют ход, и Александр почти бегом направляется к дому.
— Здорово, тётка Пелагея! — в пустом вечернем проулке Одинец обогнал неторопливо идущую от колодца женщину с коромыслом и, не задерживаясь, заспешил дальше.
— Здравствуй, мил человек! — откликнулась соседка, не сразу узнав путника, а когда узнала, ойкнула и долго стояла, разглядывая его следы на присыпанной первой порошей земле. Александр этого не видел, как не обратил он внимания и на то, что над его домом не вился дымок из трубы.
Распахнутая половинка ворот, грядка снега на входе в сени; Одинец рывком открыл дверь в избу и недоуменно замер, оглядывая внутренности дома. Печь не топилась, в помещении было холодно, от его дыхания шел легкий парок.
— Маша? — осторожно позвал Александр. — Марьюшка!
Ему никто не ответил, лишь в углу под образами, на лавке шевельнулась куча тряпья. Одним прыжком Одинец оказался рядом с ней, рванул, сбрасывая верхнюю овчинную шубейку, и увидел лицо дядьки-кузнеца. Тот спал на спине, из открытого редкозубого рта по бороде тянулась нитка слюны. В нос Александра ударило запахом перегара.
— Батя, батя… Батя!
Старый кузнец заморщился, слабо отмахиваясь от тормошившего его Александра. Наконец он открыл один глаз; зрачок описал дугу и остановился:
— Чур меня… — невнятно прошептал старик и вновь закрыл глаз.
— Батя, это я — Сашка…
— Со святыми упокой! — ответил кузнец, крепче зажмуриваясь.
— Да проснись ты! Это я — Сашка.
Кузнец просыпаться не желал, он хитро и пьяно улыбнулся, пошарил неуверенной рукой, ухватившись за стену, перевернулся на другой бок и уткнулся носом в бревна.
— А нету Сашки, — пробормотал он, снова собираясь впасть в спячку, — был Сашка, да весь вышел, и-ик…
Одинец, поняв тщетность усилий, оставил дядьку в покое и поспешил в соседнюю избу. Старую Яганиху, свою тещу, на которую при его появлении накатило помутнение рассудка завершившееся обмороком, Одинец смог привести в чувство, только прыснув водой в обмершее лицо. С трудом дотащив не такое уж и тяжёлое, сухое тело матушки до лавки, он уселся рядом. Картины одна ужаснее другой вставали перед его мысленным взором.
— Ты же помер! — очнувшись, сказала старушка, потрогала его за плечо и горько заплакала.
— Да живой я, живой… Где мои-то все?
Слезы старухи полились еще обильнее. Александр струхнул не на шутку:
— Что случилось?!
Услышанное в ответ, если и потрясло его своей нелепостью и невероятием, то одновременно свалило с души камень.
— Как тебе бы вернуться по срокам-то, приехал в слободу Рогуля… И говорит, мол, бой в Твери случился и, говорит, что убили тебя. Что прям у него на руках ты и скончался. Всё шапку твою показывал в крови.
— Да наплевать нам на Рогулю… Дочь твоя где? И дети? — торопил Одинец, усаживая тещу. Бабушка понемногу приходила в себя.
— Увёз он её, всех увёз.
— Как увёз? Куда?
— А так, сказал, будто по твоей вине он весь товар потерял в Твери, и что есть у него кабальная запись от тебя. Что отрабатывать Марья будет долг.
Одинец выслушал всю эту чушь уже совсем спокойно. Главное — живы все. А с Егором он поговорит. Может, Яганиха и недопоняла чего…
— Что? — переспросил Александр, выходя из раздумий.
— Ты, поди, поисть с дороги хочешь? Посмотри сам, чего в печи есть. Я ныне, как Марью увезли, обезножела. Дочка старшая приходит стряпать да покормить меня. Никифор — тот, почитай, ни одного дня с той поры трезвым и не бывал. Кузню закинул… с утра — и за кружку… мерина вашего и корову с овцами Рогуля тоже свел со двора.
Утром Александр прошелся по пустому двору, вернулся в избу, подкинул дровишек в давно нетопленую и оттого дымящую печь и стал собираться в дорогу. Под потолком, на жердине мяукал одичалый и голодный кот. Дядька сидел за столом, глазея на воскресшего племянника. Еще ночью он осознал Сашкино возвращение и несколько раз пробирался в запечный кут, где тот спал, чтобы потрогать Александра: явь или почудилось? В конце концов Одинец спросонья так руганул старого кузнеца, что это сняло все вопросы: живой! Последние сомнения развеялись, когда Сашка на рассвете вылил в помойную лохань остатки бражки.
— Эх ты… Так с отцом обращаешься… — всплакнул Никифор по пропавшей опохмелке. От надрывного укора, прозвучавшего в голосе дядьки, у Одинца все перевернулось в душе, но он выдержал.
— Всё, батя. Трезветь будем.
Заскрипела и стукнула входная дверь.
— О-о! — кузнец утёр покрасневшие глаза. — Вот и власть заявилась. Щас она заступится, найдет управу на бессовестного сынка, который старика обижает. Проходи, проходи, Влас. Полюбуйся: мало того, что с того света вернулся, так еще и всю бражку у меня изничтожил!
Влас, седой, усушенный прожитыми годами старикан, как и прежде тянул на себе воз забот посельского старосты. Большая часть слободских жителей, родившихся уже на его веку, была уверена, что сколько существует село, столько существует и староста дядя Влас, и что когда помрут они и вырастут их внуки, старостой всё так же будет Влас.
— Здорово, блудный сын, — дребезжащим голоском сказал посельский, обращаясь к Одинцу, — услышал еще вечор о твоем возвращении, вот и зашёл.
Влас сердито оглянулся назад: в двери вслед за ним лезли и лезли соседские мужики. Все истово крестились, переступая порог. Толпа прибывала, помалу выталкивая старосту на середину избы.
— Где ж ты слонялся все это время, Лександр?
— Где был, там уж нет. Проходите, гости дорогие! Рады бы к столу пригласить, да в доме и укусить нечего.
— Э-э! — отмахнулся староста, — обойдутся без разносолов. Ну-ка, раздайтесь, навалило вас такую прорву… Они ведь чего все притащились? — староста покрутил головой, удивляясь человеческой глупости. — Кто-то слух по селу пустил, мол, а верно ли, живой ты вернулся?
— Как, как? — недопонял Одинец.
— Ну, это… упырь там вдруг, аль вурдулак какой…
Столь дикое измышление чуточку развеселило Александра: что взять с людей, с малолетства слушавших страшные истории, без рассказа которых не обходились долгие зимние вечера? Кое-кто из них и села не покидал во всю свою жизнь. А у таких, что соломина к курьей заднице пристала, что ворона раскаркалась на церкви, что мышь за пазуху упала, все к одному сходится: непременно быть покойнику.
Одинец, скрючив пальцы, зацарапал грудь и завращал выпученными очами.
— У-у, — завыл он, принюхиваясь, — чую, чую: чесноку наелись! Пришла смертынька мне, упыришке бедному…
Общество побелело с лица. В наступившей полной тишине с потолка избы на пол свалился оттаявший таракан. Одуревшее животное полежало на половичке, затем перевернулось и поковыляло на слабеньких ножках прочь.
— А тень-то вот она, — прошептал кто-то.
И тут все увидели, что стоящий возле окна Одинец отбрасывает хорошо различимую тень…
— Живой! — радостно вскричал друг детства Ерёмка Сметана, сунул в чьи-то руки осиновый кол, который до того старательно прятал за спиной, и кинулся с объятиями.
— Ну-тка, давайте отсель, — дядька Влас, как дубинку, вознёс над головами свою клюку, — нанесла нелёгкая! Ведь и верно, не продыхнуть в избе: не то что упырь, а и здоровый человек помереть может. Идите, идите с Богом, мне с Лександром всерьёз говорить надобно.
Когда порядок был восстановлен и утих скрип лаптей расходящегося по домам народа, староста, усевшись на лавку, долго молчал, потом сказал:
— Вот ведь какое дело!
— Да уж… — принимая старостино соболезнование, откликнулся Сашка.
— Мы ведь что… А у Рогули приговор княжий на пергамене… Мы и ничего, — сказал Влас.
— Да и не виню, — сказал Сашка. — Сам разберусь.
Помолчали.
— Слыхал, Лександра Степаныч, что с Тверью воевать будем?
— Слухами земля полнится… А что ты меня по отчеству-то величаешь? — насторожился Одинец.
— Нет, не слухи: пришла в волость грамота от Ивана Даниловича — по ратнику от каждых семи дворов выставить…
— Мне-то что?
— Одёжу каждому обязаны справить, оружье, харчей… — гнул свое, далёкое, староста.
— Не виляй, дядя Влас…
— От ваших домов долгую соломинку Тетерька, сын Гераськи Пискуна, вытянул, — огородами пробирался к цели старик.
— Да он же совсем парнишка еще! — поразился Одинец. — И сын единственный у матери.
— Вот и я говорю: малец, да что поделаешь — шестнадцать годков минуло, стало быть, годен для службы. А какой он служака? До первой схватки. И — карачун молокососу. Ну, и ржи мы семь кулей дадим… Нонче зима ох трудная будет, пропал летось урожай.
— Э-э, — подал голос старый кузнец, до сей поры в задумчивости нависавший над злополучной лоханью. Он решительно плюнул в ёмкость, отошел и встал перед старостой, уперев руки в бока:
— Ты, Власий, стыд бы поимел, ай совсем Бога не боишься? Сашка дня не прошло как с войны воротился, и на тебе — опять в пекло?!! Ему семью надо ехать выручать.
— Да я что, — стушевался староста, — оно ведь как Лександра Степаныч решит… Всё едино на Москву ему ехать. Сапоги яловые справили бы. Почти новые. Так что уж ты подумай, Ле…
— Знаем, знаем, подлиза — «Лександра Степаныч!» — заорал кузнец. — Уйди, Влас, от греха: что-то я сегодня не с той ноги встал!
Маленький староста обиженно прошествовал к двери у него под локтем. Кузнец, широко крестясь, успокаиваясь, обернулся к божнице. На четвертом поклоне в горницу с улицы просочилось сопливое создание — соседский пострелёнок Митька — пропищало:
— Дедушка Власий велел передать: и бараниху стельную в хозяйство. Для приплоду…
— А-а! — взвыл старый кузнец.
Многие на улице видели и слышали, как вынес Одинец со двора Митьку, поставил у ворот, погладил по рассыпающимся белым кудряшкам, накрыл их шапкой, сказал:
— Ответь дедушке Власу, мол, думать Одинец будет…
* * *
Думай не думай, а в Москву всё едино надо. Там семья… Поход, который затевал князь Иван Данилович, был для Одинца делом десятым: «Ладно, время покажет, авось выкручусь».
Он с изрядной долей смущения воспринимал искреннюю благодарность Пискунов. Пискун-старший явился в избу кузнеца с целым коробом съестного, Пискуниха все норовила повалиться Александру в ноги и слезными поцелуями измочила оба рукава Сашкиной рубахи. Тереха, правда, глядел на Одинца волчонком, как на человека, отнявшего у него верную воинскую славу. Старый Никифор, впрочем, тоже не сиял от счастья. Его хмурь не прогнала даже принесенная крынка медовухи.
— Что дуешься, Терёха? — сказал Одинец. — Погодь, войн на твой век хватит. Иль не терпится тверича какого прикончить? Он хрипит, а ты ножом… ножом… ему горло перепиливаешь… Или кистенём по голове, а? Кровь брызжет, косточки хрустят… Хорошо! Можно еще мечом живот вспороть… Кишки сизые вздутые лезут. Я видел.
Тереха позеленел и, удержав первый рвотный приступ, кинулся из горницы на двор.
— Эка штука! — удовлетворённо сказал отец. — Как ты моего дурачка двумя словами уговорил! А мы с матерью не могли… Вояка нашелся! Давай, мать, нарезай закуску.
Под ратников староста выделил несколько подвод: предзимье затягивалось, снега было мало и сани в ход еще не шли. Ратников, которых со слободы набралось более двух десятков, грузили в телеги более трезвые братья и кумовья. Причитали бабы, кто-то горланил удалую песню, но большинство было озабоченно-зло. Гадкое, пакостное висело в воздухе, это чувствовали все.
— Глянь, глянь Мотня-то на своей лошади явился, мироед… Видать, думает, что на коняге побольше награбленного привезет.
— Ясное дело, не в бой же он на ей собрался. При воеводе каком-нито пристроится: люди молотить, а он замки колотить.
Одинец, похрустывая по заиндевевшей траве складчинными сапогами, забросил на одну из телег мешок с барахлишком — броня у него была своя, с прежних времен — обнял затужившего дядьку:
— Припасов, батя, теперь тебе надолго хватит. Машку с ребятишками встречай через неделю. Ну, и я через месячишко, думаю, возвернусь… Хрена ли я на этой войне забыл? Пооколачиваюсь в писарях, да и спишусь за каким недугом.
Московское войско собиралось на большом лугу, в семи верстах от столицы по Владимирскому шляху. Полковые писцы, отогревая иззябшие руки у огромных, день и ночь полыхавших костров, расписывали прибывающих по отрядам. На ночь начальство разъезжалось по окрестным деревенькам, пьянствовать в тепле. Рядовые ратники мёрзли в шалашах и полуземлянках, наспех отрытых в торфяной почве. Грелись тоже питьём, но оно быстро позаканчивалось. Одинец уже в первый день удачно пристроил привезённый с собой жбан браги и получил увольнительную от сотника:
— На два дня в Москву? Валяй… Только уговор помни.
В тот же вечер купец Рогуля был неприятно поражён явлением живого покойника. Покойный вел себя непотребно. Он шумно колотил в тесовые ворота, пока к трещавшей калитке не сбежалась дворня. Ему отворили, опознали, и в полном молчании Одинец проследовал по двору. У высокого крыльца, ведущего в хозяйские палаты, его перенял вездесущий Силантий, подкреплённый двумя вооружившимися холопами.
— Живой, значит… — не скрывая досады, сказал приказчик.
— Можешь прижать меня к груди, если истосковался. Рогуля дома? — Александр поправил пояс, ножны стукнули по перилам.
— Тебе он зачем? В отъезде хозяин… Но хозяин уже подал голос с высоты:
— Впусти его, Силантий.
Одинец поднялся.
Сидели за длинным хозяйским столом, смотрели глаза в глаза. Силантий с холопами устроился у дверей, в темноте, куда не доставал свет сальной свечки, позвякивал цепочкой с висевшей на ней рогатой гирей.
Одинец всегда завидовал тем, кто сначала делал, а потом думал. Едучи в Москву, он готов был на половинки порвать Егора. Теперь, когда дошло до дела, он дал половинкам, покуда они вместе, объясниться.
— Не думал, не гадал я, что ты живой остался. Мне ведь и шапку твою принесли…
— Марью с детишками зачем забрал? Где они?
— Говорю же, думал, и в живых тебя нет… Сказали…
— Кто сказал? Не тот ли, кто дьякам в Твери грамотку подкинул?
— Какую грамотку?
— «Прибыл конно и оружно, убил татарина на торгу»… Надеялись, в бою не погиб, так под пыткой добьют?
Даже при слабеньком свете колеблющегося огонька свечи было видно, как лицо купца заливает гневный румянец.
— Ничего я не писал, — раздельно, по слогам выговорил Рогуля.
— Ну не ты, дак кто другой из твоей кодлы. У тебя есть кому пакостями заниматься.
Затронутый обиняком, Силантий ещё пуще загремел из угла цепочкой. Одинец продолжал:
— Я тоже никакой кабальной грамоты с тобой не подписывал, да ведь ты же тряс ею перед нашим старостой. Решил свалить на меня потерю своего товара?
Одинец чувствовал, что начинает излишне горячиться, но поделать с собой ничего не мог. Купец тоже напрягся:
— А на ком же вина? Я тебя предупреждал, что за товары из жалованья вычитать буду? Предупреждал? Вот…Ты же мог все наши телеги с торга угнать? Но тебе ордынцев бить загорелось. Так что ответ на тебе.
Разговор принимал совсем дурной оборот. Александру и верилось, и не верилось, что его односельчанин вырос в такую сволочь.
— Ты Марью отдай! И уж если на то пошло: это не я помог тверякам на ордынцев восстать.
А вот это была ошибка, и Александр в пылу перепалки не сразу понял её. Он лишь злорадно убедился, как пронял Егора его намёк. Рогуля замолчал, не отвечая, затем заговорил совсем другим голосом:
— Полно, Сашка… Ты что ж думаешь, я враг тебе? Да если хочешь знать, я в первую голову о твоей семье и заботился. Ведь им этой зимы не пережить бы, пухли б с голоду.
— Где они сейчас?
— Тут недалече починок у меня куплен, вёрст двадцать. Марья там ключницей на дворе. Завтра с утра отвезу тебя, — купец поднялся, миролюбиво предложил, — пойдём по единой, что ли, выпьем. За возвращение твое чудесное. Силантий! Ты нам в малой гостевой накрой. Слышал?
Он первым, прихватив подсвечник, шагнул в низенький дверной проём, ведущий из горницы в небольшую боковую комнатенку. Комната была проходной, в дальнем углу ее располагалась ещё одна, слегка приоткрытая дверь.
— Садись, Александр, пойду потороплю этих пентюхов.
Рогуля поставил свечу на лёгкий колченогий столик, составлявший вместе с единственной скамейкой всю обстановку комнаты и вышел. Одинец не поверил ушам, когда услышал звук плотно запираемой двери и стук задвигаемой щеколды. Он ринулся за Егором, но тщетно: крепкая дубовая дверь и не дрогнула от его толчка. За второй, лёгкой и обманчиво открытой дверью его ожидало ещё большее разочарование: это был крохотный нужник со стоявшей в нем бадьёй с крышкой.
— Ну, огляделся? — голос Рогули дошёл откуда-то сверху. — Бежать и не думай, не удастся…
— Стерва ты… — крикнул Одинец в пустоту. Его благородная ярость всем весом обрушилась на ни в чём не повинный столик, гнутые ножки которого не выдержали и Александр повалился на пол.
— Стол-то тебе чем мешал? — съехидничал сверху Рогуля. — Свечу долго не пали, она денег стоит. Ложись почивать, гость дорогой. Поутру будем разбираться.
Одинец открыл рот, намереваясь высказать всё, что думал о Рогулином гостеприимстве, но в стену рядом с его головой со щелчком вонзилась стрела. Он дунул на свечу и закатился под лавку…
Глава седьмая
«Ништо! Будут знать теперь тверячки, как на Москву задираться! Это им не прежнее время…» — Иван Данилович, в последний раз окинув взором воинский стан порядком, загадивший луг, на котором расположили его воеводы, тронул коня и порысил лесной дорогой в направлении долетавших и досюда московских звонов. За ним трусили бояре-воеводы, их застоявшиеся на морозце кони дышали паром и всхрапывали в предвкушении стойла в душном и желанном тепле конюшни.
Сразу же после получения известия о тверском мятеже Узбек вызвал к себе в Сарай всех подвластных русских князей. Тон ханских грамот, писанных по-русски, был столь грозен, что ослушаться никто не посмел. И суздальский, и ростовский, и муромский, и галицкий — управители наибольших княжеств — не считая мелкоты, вроде князей вандбольских или шилишпанских, пряча под высокими шапками вставшие от ужаса волосы и написав духовные завещания, тронулись в неблизкий путь. Явился пред великим ханом и московский владетель, предварительно убедившись, что первый гнев Узбека прошел и опасность попасть под горячую руку ему не угрожает. Не явились только двое: Александр Тверской — понятно почему, и Иван Рязанский, по неясной причине.
— Ну, с Рязанью потом разберемся, — буркнул великий хан, принимая Ивана Даниловича в розовом зимнем дворце, дивном творении дамасских мастеров, взмывающем к небу ажурными башнями. Большую часть года ханская ставка колесила по всем степям Золотой орды от Крыма до Балхаша. Тем не менее отыскать в степном море хана с его двором и, главное, с многочисленными чиновниками, цепко державшими в своих руках нити управления огромным государством, было проще простого. Достаточно было спросить любого из встречных кочевников. «Хан Узбек?» — владелец стада или пастух изображал на обветренном задубелом лице приторную улыбку, долго кланялся в сторону предполагаемого местопребывания земного солнца и давал исчерпывающе точный ответ: «Восемь дней в эту сторону ехать, две реки переехать, потом, однако, назад два дня воротиться…» — «А ворочаться-то зачем?» — «Степь большая, вы, урусы, обязательно проскочите!» И верно, не мазали русские редко.
Только осенью хан оседал в своей столице. Ну, тут все ясно. Доскакал до Нижнего города, уселся в струг и — плыви. А коли зимой — дуй на санках прямо по льду. Вот тебе и Сарай-Берке, вот и хан великий.
— Собирай войско, князь, — говорил Узбек допущенному лицезреть его царскую особу. Ханские жены, непременно присутствовавшие на этих приёмах, сидели на подушках подле властелина, поблескивали чёрными жгучими очами на занавешенных по-мусульмански лицах и ревниво глядели на подарки, подносимые каждой из них княжескими слугами. Сам князь до блеска натирал коленями узорный пол тронной палаты перед великим ханом.
— На второе полнолуние мои темники будут Тверь воевать, наказывать неверного слугу нашего Александра, — продолжал хан, — так что не опоздай с помощью.
То же самое он сообщил и московскому князю. Теперь, после падения тверского князя, в распоряжении великого хана как-то неожиданно и неприятно для него оказалось очень мало князей, коих можно было ставить на коноводство в этом дремучем и диковатом русском улусе. Если считать по головам, князей было завались, но требовался ещё и вес, подкрепленный богатством личного княжеского удела, и хорошая родословная. Что толку назначить в великие владимирские князья кого-либо из муромских или пронских князьков? Эти захудалые рюриковичи, чьи отцы и деды никогда не сиживали на золотом владимирском столе, на какое уважение они могут рассчитывать со стороны более матёрых соседей? Оставались, пожалуй, только двое: князь суздальский и московский.
— Ты, князь Иван, возглавишь вспомогательное войско из русских дружин.
Вспомогательное — вовсе не значило, что в то время как ордынские нукеры будут класть головы, штурмуя укрепленные грады тверской земли, русским позволят отсиживаться в тылу. Скорее наоборот, как раз их, помогальщиков, и погонят в бой первыми, щедрой рукой расходуя накопившуюся воинскую силу русских княжеств и ослабляя не только заведомо побежденную Тверь, но и своих союзников-победителей.
Узбек снова пристально вгляделся во взволновано-порозовевшее лицо москвитянина, на нем не читалось ничего, кроме обожания его ханского величества. В любовь со стороны вассалов хан не верил, по крайней мере — в долговременное и постоянное обожание лично его, хана Узбека, но тут случай был особый: назначение для московского князя было большим подарком. «Уж кого-кого, а тверского князя будет трепать как собака варежку», — подумалось хану.
Великий хан милостиво оставил князя Ивана на подоспевший обед, последствия которого бурно обсуждались остальными князьями, все ещё толокшимися в ставке. «Вот вертляв Ванька! В него и в ступе пестом не угодишь…» — кричал, упившись пьян, суздальский князь, узнав, что хан неожиданно изменил первоначальное намерение и теперь татарские силы пойдут на Тверь не более коротким путем через московские земли, а с крюком, через его суздальщину и Нижний Новгород. Было отчего пить и негодовать: даже простой проход пятидесятитысячного войска ордынцев означал разорение хозяйства на полосе в сто вёрст шириной. «Эти акриды диавольские ведь все наши княжества обожрут по пути!», — вторили суздальскому остальные неудачники-князья. Но поделать уже ничего было нельзя. С тем и покинули Орду, обязавшись быть с дружинами в Городце к концу никольского поста.
…На подъезде к московскому детинцу Иван Данилович вспомнил о деле, занимавшем сегодня его мысли не менее прошедшего смотра войск.
— Сотник, — поманил он пальцем тащившегося в конце свиты Василья Биду, — возьми своих людишек и — одна нога здесь, другая там! — на двор к купцу Рогуле. Который утром с челобитьем приходил… Доставишь его и того мужика, что у него под замком сидит.
Сотник Бида, сглотнув голодную слюну, поворотил в боковую улицу. Еще через час московский князь, успев наскоро перекусить, спустился вниз, в гридницу, где голодный сотник развлекал себя тем, что попеременно целился из лука в доставленных на княжескую беседу.
— Все вон, — коротко и выразительно сказал Иван Данилович. Свободные от службы дружинники горохом сыпанули за дверь, при князе остались только двое рынд-телохранителей. Эти были немее рыб: Иван Данилович умел использовать даже недостатки людей, не говоря уж про пороки — князь отыскал их среди осужденных к отрезанию языка и вырыванию ноздрей. По княжьему помилованию обоим татям ноздри оставили в сохранности, а языки, конечно, оттяпали, иначе зачем бы они князю нужны?
— Где я видел тебя? — князь остановился перед согнутым в поклоне мужиком, вглядываясь в смутно знакомое лицо. В покоях было темновато, за слюдяными оконцами, рядком тянувшимися по стене гридницы, уже мерк свет уходящего заката.
— Вспомнил! — память у Ивана Даниловича — на зависть. — Бывший дружинник и грамотей…
«Грамотей» Иван Данилович выговорил так, словно помоями облил. Но Одинец почувствовал по легкой запинке, что это обстоятельство — их давнее знакомство — может сейчас иметь важное значение. Сбоку засопел Рогуля, но промолчал, гнида.
— Обиду от тебя купец имеет, — князь прошёлся по комнате и вновь остановился перед Александром, покачиваясь с носка на пятку в мягких домашних сапожках.
— Его обида не горше моей…
— Да? Ну, послушаю…
Иван Данилович за те несколько лет, что его не видел Одинец, изменился сильно: он погрузнел и округлился в поясе. Залысины на белом высоком лбу и раньше, в молодости, бросавшиеся в глаза, ныне продвинулись еще дальше, грозя слиться в значительную лысину. «Сколько же ему сейчас? — подумалось Одинцу. — Верно, скоро на пятый десяток перевалит».
— Жену он у меня увёл. Вместе с детишками…
— Не понял, — Иван Данилович вопросительно поднял брови, — как увёл?
— Известно как… — Одинец волнуясь, сначала сбивчиво, затем всё более выправляясь, рассказал, как было дело. И, странно, но князь терпеливо выслушал его до конца. К концу рассказа он уже сидел на своем привычном месте, на возвышении в дальнем углу гридницы, где был установлен личный княжеский стол, на тот случай, если князь надумает отобедать с дружиной. За этим же столом в особые приёмные дни глава московской земли отправлял и высшее правосудие, поскольку разбор тяжб в наиболее тяжёлых случаях тоже лежал на князе. Делами попроще занимались волостные старосты и тиуны.
Собственно, на большее, нежели судилище у крючкотвора средней руки, Одинец и не рассчитывал. Ещё под лавкой в гостеприимном Рогулином особняке он понял, что купец при всем своём вероломстве вряд ли покусится отправить его к праотцам: уж больно много свидетелей. Но чтобы разбором их личных счетов занялся сам князь московский, это было слишком…
Объяснилось все просто.
— Что ты намекал купцу вечор о какой-то помощи тверякам? — в вопросе князя прозвучала скрытая угроза.
Александр ее услышал. «Так вот в чём штука… — мелькнула мысль, — потому Рогуля и не поволок меня судиться к прикормленному городскому тиуну. Уж там-то бы он сумел повернуть всё в свою пользу. Но забоялся, что я про мечи для тверяков разболтаю».
— Я видел оружие, которое Рогуля тайно провёз в Тверь.
— Кто ещё знает о нем? На допросах в Твери сказал?
— Чтоб смерть была быстрой и лёгкой? Не, не сказал… Решил еще помучиться на этом свете.
— Помучаться… это я не сходя с места могу обещать, — князь плавил Одинца тяжёлым задумчивым взглядом. И как много лет назад во время одного их разговора Александр почувствовал, что поговорку «пан или пропал» придумали как раз на этот случай. Было видно, что князь нащупал какое-то решение и теперь тянул время, давая мысли отстояться.
— Ты, Егорий, выдь покуда в сени, — вдруг неожиданно сказал Иван Данилович. — И вы оба тоже.
Князь обернулся к истуканам позади него. По недоумевающим разбойничьим рожам охранников было видно насколько они обескуражены необычным поведением повелителя, но приказание выполнили незамедлительно. Рогуля стоял как громом поражённый. И до тех пор, пока один из бывших татей не потянул его за рукав, увлекая прочь из гридницы, не очнулся.
— Батюшка! Иван Данилович, да как же это… А я-то как же?!! — воскликнул обеспокоенный купец с такой страстью, с какой, наверное, кричали евреи, не взятые на борт Ноева ковчега.
— Я сказал: погоди в сенях! — повысил голос князь. Он дождался, когда за Рогулей закроется дверь и — «Садись!» — указал Одинцу на ближнюю лавку.
— Слушай внимательно и соображай…
Александра уговаривать не пришлось, хотя он тоже был слегка сбит с толку.
— Вот какой у тебя выбор: или я сейчас присужу вам поле и завтра лучший боец, какого наймёт твой «друг» Рогуля, снесёт тебе башку…
— Или? — спросил Одинец. «Полем» назывался поединок, к которому судьи принуждали тяжебщиков в тех случаях, когда затруднялись вынести верное решение. Они переваливали его на Божье провидение. Кто в «поле» выживет, тот, стало быть, и прав. А что проспорившего чаще всего уносили с этого судилища вперёд ногами, так на то — что поделаешь! — Божья воля. Самое обидное: спорщикам в иных случаях — по болезни или по старости — разрешалось нанимать вместо себя другого бойца.
Одинцу было ясно, что биться с ним купец самолично не станет. И противника — с его-то тугой мошной! — подберёт такого, что только держись… Иван Данилович же и поспособствует купчику в этом, чтоб навсегда закрыть рот ненужному свидетелю. У него в дружине есть лихие парни. А Сашка какой боец после голодных месяцев нищенства? Одинец, конечно, и мысли не допускал, что Господь встанет на сторону кривды, но рисковать не хотелось.
— Или? — переспросил Александр.
— Что «или»? — князь сказал недовольно.
— Или — что?
— Это ты мне скажи, чего выбираешь: поле или…
— Лучше я вот это «или» выберу.
— Правильно! — лицо Ивана Даниловича в полутьме, сгустившейся в гриднице и особенно в княжеском углу, было почти невозможно разглядеть, но Александру почудилась ехидная улыбочка, скользнувшая по нему. — Тогда слушай. Ты должен разыскать двух мужиков, которые служили с тобой вместе у Рогули в охране.
— Это которых? Нас пятеро было.
— Ты слушай. И не перебивай князя. Так вот, зовут этих двоих заср… Жуком и Толстыкой. И должны были они мне кое-что привезти из Твери. Да вдруг пропали по дороге. Рогуля показывает, что в первую же ночь, как обоз из города бежал, отбились они от него. Уразумел?
— А что привезти-то должны были?
Князь с ответом не спешил. Он встал, запалил свечу от лампадки, висевшей под иконами на стене, затем, приблизив к Александру («рыбку жареную откушивал» — определил голодный Одинец) лицо с набрякшими мешочками под глазами, свистящим шепотом сказал:
— Книжечку такую пергаментную.
— Книжку? — Александру показалось, что ослышался. — Просто книжку?
— Ага, просто книжку. Если встретишь где, волоки сюда.
— Хорошо, — сказал озадаченный Одинец, — только охранники от Рогули отстали ещё на той стороне, на тверской. А там не сегодня-завтра бой начнётся.
— Вот и поторопись. Чего бы ради я тебя посылал на поиски, если бы в моем московском селе они дёру дали? Без тебя бы обошелся. Да и, признаться, не первый ты за ними едешь. Уж два раза туда людей наряжал. И все — как в воду! А ты, — князь ехидно прищурился, — с тверскими, коза их забодай, пуд соли съел. Почти што свой ты там. Так что пробирайся и ищи. Хоть грабь, хоть кради, хоть милостыню проси…
— Как с семьёй моей будет? — спросил Одинец.
— С семьёй? Да… С семьёй… — спохватился Иван Данилович о досадной мелочи. — Ну-ка, кликни купца.
— Мне же надо поговорить с теми, кто тех двоих знал… Как же иначе розыск начинать?
— Как хочешь, так и начинай.
— Вот что, Егорий, — сказал князь явившемуся на зов Рогуле, — бабу вернуть придётся.
Рогуля тихо ахнул, всплеснув руками. Но князя мало волновали переживания купца:
— И не вздумай баловать. Утром пошлёшь кого из своих приказчиков с моим десятским забрать её с хутора. Коня ему тоже вороти. За остальную живность серебром рассчитайся. Овцы ему покуда без надобности, а деньга пригодится, — и пригрозил: — Проверю.
Сердце Александра подпрыгнуло в груди, он насилу сдержался, чтоб не кинуться князю в ноги. Но дальнейшие распоряжения Ивана Даниловича пресекли порыв благодарности в корне.
— Баба с детишками, покуда не воротишься, будет жить в монастыре… За крепким караулом.
— Повидаться-то хоть с ними можно? Князь поморщился, молвил:
— Нет. Что, свербит?! Никуда твоя баба не денется. Вернёшься с удачей — повидаешься. Тут дело государево, а он — бабу!
* * *
Мягкий лёгкий, как пух, снег укрыл всё вокруг. С вечера и признаков для такого снегопада не было. А утром Марья открыла дверь и застыла поражённая нестерпимой белизной, исходившей от сугробов, от укутанных в толстые белые подушки кустов, деревьев, заборов. Снег, казалось, светился сам по себе, без вмешательства дневного светила, висевшего над кромкой леса.
И это ожидаемое, но все равно, как всегда, неожиданное изменение в природе, вдруг остро кольнуло в сердце. То, что было до него, какой-то глупый переезд сначала в Москву, затем, после отказа Рогуле, переезд сюда, на заимку, всё проходило в одинаковом тускло-сером мире, почти не менявшемся, застывшем. Дни сливались в недели, скользя по краю сознания. Осень тянулась и тянулась. И под стать этим промозглым однообразным дням в душе Марьи, замершей от известия о смерти мужа, также тягуче жила ноющая боль. Она не прекращалась ни днём, ни ночью. Ночами было хуже всего. Днём хоть немного отвлекали заботы о детях.
— Что же будет с вами, мои горемычные? — шептала Марья, прижимая к заметной горке живота головёнки сыновей.
— Вот вырасту и весной тятьку пойду искать! — угрюмо сопел Мишаня. В смерть отца парнишка верить отказывался. Его слова временами будили в сердце какую-то безумную надежду. Но надежда быстро гасла, оставляя тяжкие раздумья. Что могла женщина в этом мужском мире? Кто мог дать кров и защиту и ей, и детям? Она, как четки, перебирала в уме одни и те же воспоминания, силясь найти хоть какой-то выход из тупика. Что она сделала неправильно? Перед мысленным взором появлялся Егор Рогуля, по-барски рассевшийся на лавке в доме кузнеца…
Его пятерня с короткими холеными пальцами придавила к столешнице грамоту, в которой она и дети ее приговором боярской Думы объявлялись кабальными холопами купца такого-то…
Вот старый кузнец, просивший Рогулю принять за долги и дом его, и кузню…
Вот прибывшие с купцом стражники за волосы оттаскивают рассвирепевшего на отказ старика… Егор, потирающий алеющую щеку: со вторым ударом кузнец не поспел… Клейкая слюна старикова плевка в самой середке кабальной грамоты…
Впрочем, с разбоя Егор начал не сразу. Он явился в дом через несколько дней, после того как деревенская молва разнесла весть о гибели Саши. Стоял, вздыхал, мял принесённую Сашину шапку, тёр глаза, блестевшие взаправдашней слезой, винился: «Не уберёг…» Обещал позаботиться о них, сулил ей золотые горы, если согласится переехать в Москву на правах ключницы. И только после решительного отказа Марьи на свет явилась злополучная грамота. Загодя припас, милостивец…
Что могла она? Егор, привезя их в свой московский дом, несколько дней не показывался на глаза. Или уехал по делам, или давал остыть. Она жила в купцовых хоромах на правах почётной пленницы. Выходить из палат ей было строжайше запрещено, а у дверей беспрестанно сидели охранявшие запрет купцовы люди, подлое дворовое племя, повизгивающее от удовольствия, когда хозяин снисходил почесать ему брюхо. Раз в сумерках в горницу вошла женщина. Невысокая, худенькая, одетая в какой-то по-монашески скромный темный наряд она показалась Марье послушницей. Она возникла тихо, не потревожив покоя затихшего перед ночью дома ни скрипом двери, ни звуком шагов. В полном безмолвии это видение приблизилось к сидевшей перед колыбелью Марье и встало напротив, близко — руку протянуть. Пораженная Марья отметила про себя лишь удивительную бледность сухого скуластого лица. Несколько времени женщина стояла перед Марьей, затем прошептала только одно слово: «Красивая». И исчезла. Той же ночью скончалась хозяйка дома, жена купца Егора Рогули, урождённая дочь купеческая Миловзорова Анна, из рода коломенских именитых гостей. До сей поры Марья так и не может твёрдо сказать, была ли ночная пришлица явью или привиделась она ей в неверном свете жирника, мерцавшего меж ними на столе.
Дворня чесала языками, что покойную тяжело болящую хозяйку, уже долгое время не встававшую с ложа, нашли на пороге её спальни с зажатым в окоченевшей руке пузырёчком. Было ли в той склянице какое лекарство иль снадобье, не знает никто. Рогуля после похорон несколько дней подряд разъезжал по окрестным церквам, истово молился, вкладывался на помин души усопшей. По прошествии сороковин он появился перед Марьей.
— И ты вдовая, и я вот овдовел, — сказал и, видя, как вскинулась женщина, поторопился добавить: — погоди, погоди… Я ж не со злом к тебе. И ничего от тебя не требую. Просто судьба так сложилась, что нас вместе сводит. Может, знак в этом какой?
Стоял перед ней во всем своём роскошном наряде какой-то растерянный, опростевший. Даже жаль его немного стало.
— Какой знак, какая судьба, Егор? О чём говоришь, если сам же такую судьбу делаешь. Сам Сашку в Тверь уманил, сам меня из дома забрал.
— Забрал, спору нету… Силом забрал, отпираться не стану. Да только для твоего же блага.
— Какое же в этом благо ты нашел?
— А ты поживи, поживи здесь. Может, когда и поймёшь, что я правый был. Может, когда и взглянешь на меня по-другому. Тебе о детях заботиться надо. Я тебя не стесняю. Отказа ни в чем знать не будешь. Вот только отпустить тебя пока не отпущу…
Именно детьми, даже тем, не родившимся, Егор и вязал волю Марьи. «Что же будет с ними?» — думала она, с ужасом осознавая полную безвыходность своего положения. Иногда к горечи утраты примешивалась и горькая обида на ушедшего мужа: он, желанный и любимый её человек, ныне заставил делать нелёгкий, невозможный выбор. И где-то в глубине души Марья чувствовала, что в этих обстоятельствах она может решиться. Боже всеблагий, сделай так, чтоб не было этого выбора. Бог молчал…
Теперь это резкое изменение мира, этот снег изменивший его вдруг с неизбежной ясностью дал понять, что возврата к прошлому нет, что надо жить;. Жить хотя бы ради детей. Все проходит… Марья не ведала, что в каких-то нескольких верстах от запорошенной заимки десяток конников торит дорогу, направляясь к ней.
Ближе к полудню в дверь жарко топлёной горницы заглянул хромой Кузьма, один из трех мужиков-работников, живших на заимке с семьями и работавших тут по хозяйству:
— Марья, верховые какие-то у леса показались, вроде как сюда направляются. Мы ворота заложили, чёрт их разберет, кто такие, а время начинается неспокойное.
Марья, торопясь, накинула шубейку, вышла на крыльцо. Всадники уже подъехали к воротам, и один из них окликал через высокий тын жителей заимки. Мужики, узнав голос младшего из Рогулинских приказчиков Андрюхи Щегла, с облегчением взялись разгораживать въезд.
— Что, сиволапые, струхнули? — хохотал Щегол, когда конники втянулись на большой двор.
— Так это… оно… конечно… — ёжились мужички-работники.
Один из приехавших, грузный дядька в толстом как одеяло простеганном тегиляе с высоким стоячим воротником подъехал к Марье, стоявшей среди двора: «Ты, что ли, кузнечиха Марья будешь?» — «Я» — «С нами поедешь… Князь Иван Данилович велел» — «Куда?» — «Там узнаешь».
* * *
«осударю ивану даниличу челом бью нижайший бречислав десятский твоей милости который за бабой кузнечихой под лыткарино слан с дружиниками а жонка та как приехали рожать учала а сказывал ей что муж ее живой не я а дружиник клепка того ради бил я оного клепку но обратно она родить не стала и через то везти ее до монастыря не можно неделю али более того и сани нанимать приплод получился девка и здорова».
Все было писано без препинаний. «Приплод девка и здорова», — перечёл обескураженный князь московский и уставился на привёзшего грамоту воина. Воин сомлел от нехорошего княжеского глаза и, мелко задрожав ляжкой, обильно вспотел, хотя миг назад, входя в княжеские палаты после многовёрстной скачки по ветряной стуже, напоминал большую сосульку.
— У меня поход на носу, а они там рожать вздумали! — утробно прорычал Иван Данилович и запнулся. Его поразила им же воображённая и обрисованная картина происшествия: вповалку рожающий десяток дружинников. — Ладно, скачи обратно, скажи Бречиславу, мол, князь неделю велит отсрочить, а затем бабу с детишками, как и говорено, в монастырь свезти.
Гонца выпроводили со двора, не покормив, снабдив на дорогу лишь караваем хлеба. Дружинник, здраво рассудив, что на вымотанной лошади ему всё едино сегодня не доскакать до заимки, выбрался в посад и заночевал у знакомой вдовы. Разрумянившаяся от большого внутреннего волнения вдовица прибавила к казённой краюхе жареных карасей, утку, фаршированную гречишной кашей, пироги с черёмухой и ендову пива, после чего с чувством слушала о том, что геройский Бречиславов десяток назначен на самый что ни есть передний край начинающегося сражения с Тверью.
Кто бы мог знать, что в это же самое время через две избы от засыпавшего на мягкой перине служивого, за столом в крохотном домишке-развалюхе сидел Одинец! В комнате кроме него были трое: Рогулинский дворовый дурачок Илюха, невысокая черноволосая девка-перестарок лет двадцати да её отец, полулежавший на подстеленном тулупе на длинной лавке вдоль стола. Угощение здесь было скромнее: отсутствовали караси, утка и пироги с пивом. Хозяин, мужик лет сорока пяти, летом ходивший с Рогулей в Тверь, гостям был рад, но застигнутый врасплох, мог предложить лишь жиденькую просяную кашку с куском хлеба.
Илья, посидев для приличия несколько времени с мужчинами, как-то необременительно для всех перекочевал на бабью половину и пытался наладить разговор с дичившейся молодайкой. Девка потупляла взор, прыскала смешком и преувеличенно усердно протирала посуду. Одинец притворно сурово супил брови и грозил Илье пальцем. Всем было хорошо.
Ночевал и подхарчился Одинец в кремле, в гриднице княжеской дружины, среди той особенной мужской холостяцкой обстановки, от которой он уже порядком отвык. Свободные от стояния на страже кремлёвских палат или сопровождения Ивана Даниловича в его поездках дружинники косились на незнакомца, но с расспросами особо не лезли.
— Что, дядя, на старости лет решил в дружину записаться? — только спросил с насмешкой один из младших.
Одинец холодно ответил:
— Я в неё уже тогда был записан, когда твой тятька мамку на сеновал завлекал тебя строгать. Не предполагал он, что такой невежа уродится.
Проходивший мимо десятник погасил ссору. Больше к Одинцу не приставал никто.
Рогуля через Силантия утром отдал Сашкиного жеребца. Каурый, что-то почуяв, ещё не слыша голоса хозяина, к удивлению конюхов, принялся ломиться в дверцы денника и умоляюще ржать. Когда же Одинец зашагнул в тёмную конюшню, жеребец смолк, отвернулся и потупился. У Александра повлажнели глаза:
— Ты извини, скотина, не мог я раньше никак. Хлебца вот принес…
Каурый понюхал, тронул корку щетинистой нижней губой, но жевать не стал, а замер, уткнувшись в хозяйскую ладонь. Илюха, извещённый дворней, примчался на конюшню и завершил торжество примирения.
— Дядя Саша! — по-щенячьи взвизгнул он и, оттолкнув конягу, кинулся Одинцу на шею. — Мне ещё позавчерась сказали, что живой ты, — тараторил парнишка, — прям, и не верилось. А в самом деле — живой! Я Карьку-то летом насилу из города увёл. Такая страсть была! По нам татары стреляли, — прихвастнул он, — да шиш им с маслом…
Улыбка впервые за эти дни тронула губы Александра:
— Уймись, малый, звону развёл — в ушах гудит. Я тут гостинец тебе припас, пошли хоть присядем где-нибудь.
— А ты где остановился на Москве? — спросил Илья и с всегдашней пугающей Александра быстротой переходов от мысли к мысли сообщил: — Дядю Потапа помнишь? У него заночевать можешь… Ну, горшечника, у которого в селе-то под Тверью сапог украли? Ещё все смеялись, мол, вора легко и найти будет: одноногий, не иначе. Потап в скорняжном конце живет, дом евонный за предтечинской церковью стоит. Да я покажу, только отпрошусь у конюха.
В одиночку Одинцу стоило бы немалых трудов разыскать домишко Потапа.
— Вырвался, значит! Кому клин, кому блин, — подал он Сашке руку. — Мы ещё тогда поняли, что ты везунчик.
— Свезло как утопленнику, — Одинец рассказал о событиях последних дней. Потап откликнулся живо:
— Вот сука Рогуля. Он ведь ни с кем из народа не расплатился, ни с нанятыми возчиками, ни с охраной. Всю обратную дорогу убивался, мол, сколь товару пропало. «Разорён!» — кричал. Да так жалостливо… А тут стороной надысь узнал: новый дом в Москве прикупил.
Потап откинулся на подушку, заботливо взбитую и подправленную дочерью: «Спину, понимаешь, прихватило, ни вздохнуть, ни охнуть. Хозяйка эту неделю у сестры погостить отпросилась. Мы вот с младшенькой дочкой и домовничаем. Главное, работать-то не могу, просто беда, вот и сидим на кашке без маслица».
«Да, — подумалось Одинцу про Рогулю, — наш пострел везде поспел. Барыш, что потерял он в Твери, сторицей вернулся ему в Москве. Иван Данилович, наш трижды любимый князь (всей земли московской надёжа и прочая, прочая…) расплатился за оружие, что было тайком завезено в родственную столицу, к троюродному братцу Александру Тверскому. Князь Иван мастер в чужом огороде свою капусту садить».
Одинец кивком головы поблагодарил девицу за поставленную перед ним кружку с кипятком на сушёной малине.
— Слушай, Потап, ты обратно-то ведь с Рогулинскими охранниками возвращался. Они, случаем, не говорили: эта ссора с татарами на берегу, она что, подстроена была?
— Не-е, случайно все получилось. Хотя чему быть, того не миновать, ты же помнишь, экие тверяки в те дни нагретые ходили.
— Слушай, а Жук и этот… Толстыка… ты их хорошо знал?
— Не-е… Я несколько раз с Егором ходил, но их он впервые взял. Битую Щеку вот жалко…
— Я как раз хотел спросить…
— Так ведь оставили его в деревне, э-э-э… дай Бог памяти… В общем, ехать дальше он уже не мог, благим матом кричал от болей: дорога тряская. Ну и остались они там, и Жук с Толстыкой с ним. Вернее, как утром мы собрались дальше двигать, а их и нету нигде. Кто-то сказал, мол, остаются.
— А Рогуля?
— И он с нами. Этот без остановок на Москву гнал. Что ему Битая Щека? А ты чего ими интересуешься?
— Да так, к слову пришлось. С Битой Щекой мы вроде б даже задружились.
— Да-а… — вздохнул Потап, — такие дела. Ну, давайте, гости дорогие, почивать. Вам тут, на лавках, Любава постелет. А мне помогите на печь перебраться. Ой, ой, полегче, полегче…
Не спалось, шли мысли. С выпитого взвара его два раза гоняло на двор, что тоже развеивало сон. Одинец лежал, копался в себе, сам задавал вопросы, сам отвечал: «Сидишь ты эти дни меж двух лавок. Обида тебя гложет: как так, всю жизнь ради князя старался, кровь мешками проливал, а князь — на тебе: ищи то, не знаю что, а покуда ищешь, семья твоя в заложниках будет! Ясное дело, обидно: нашим же салом, да нам по сусалам. С другой стороны крест целовал на верную службу, когда в дружину поступал. Правда, дело прошлое, и уже не дружинник, но, видать, осталось что-то: совесть и этот, как его… долг! От этого раздрая и погано у тебя на душе. Так или нет?
— Так. И что ж мне теперь делать? — рождался новый вопрос.
— Начхать с высокой колокольни. Князь наш, дай Бог ему прибавленья в сундуках, всё за тебя решил. Никакой ты ему не вольный слуга. Ты даже не холоп. И веры тебе нет на щепоть. Как ты там сбежал от тверичей, неизвестно… А может, купили тебя тверяки с потрохами? А?! Так, что детишек твоих под замок, жену туда же, а тебе — выбирай: иль завтра в поединке сдохнешь, иль будешь делать, что скажу! Знаешь, как кошку заставить самой себе зад облизать? Помажь горчицей. И горько, и никто не принуждает, а стараться будет — удивишься!
— А вот хрен в скипидаре! Я не кошка и стараться буду только для виду.
* * *
В последующие дни Одинца видели во всех концах Москвы. В городе по случаю близкого выступления дружины и ратного ополчения в поход царили толчея и суматоха. Одинец посчитал большой удачей, когда ему удалось перехватить на пути в отхожее место самого ценного для него сейчас человека — уже знакомого сотника Биду.
Сотника рвали на части: за ним гонялись дружинники, просившие разрешения перековать коней или выдать новую сбрую. Дружинники постарше, семейные, просились на побывку у родни и при этом поминали недоданное за прошлый год жалованье. Те, что помоложе, ночами убегали в отлучки по собственной воле, а, появляясь днём с опухшими от гульбы личинами, тоже требовали денег. Бида сажал их в холодную для протрезвления, но это помогало мало, проспавшись, они клянчили с еще большим напором.
Нашлись среди дружинников и те, кто на эту войну вообще идти не желал. Необходимость бить своих же братьев-православных не вызывала у них радости. Жизнь, не взирая на все перегородки между обособленными княжествами, оказывалась сложнее, и многие имели родню далеко за пределами московских земель. В дружине неожиданно обнаружилась целая пропасть больных и недужных. Сыпь, язва, лихорадка, кила и грудная жаба направо и налево косили цвет московского войска. Целыми днями эта золотая рота с пристанываниями ползала за начальством всех мастей, не исключая и самого начальника дружины боярина Василья Кочёву, умоляя дать годичный отпуск на поправку здоровья.
Сотник Бида, распаренный, в расстёгнутом полушубке из которого росла толстая красная шея, торопливо шагал через утоптанный дружинный двор. «Не ради пригожества, ради крепости» — можно было сказать и про широкий нос, и про мясистые оттопыренные уши, приделанные природой к лику сотника. Очумевший от всех треволнений, Бида едва смог припомнить Александра.
— А-а… Это ты с купцом намедни у князя был?
— Князь мне порученье дал.
— Князь всем порученье дал, — сотник, размахивая комком льняной пакли, вскочил в дощатую будочку, на ходу отстегивая ножны.
Дальнейший разговор велся через щелястую дверь.
— Толстыка — сирота, никого у него нету… — с большими остановками сообщал Бида, — а Жук у нас, если не ошибаюсь, валдайский. Мне государь сказал прислать ему самых боевых, я и послал. Воины знатные были… Им на мечах равных не было. Толстыка на спор гвоздь в колоду по шляпку голой рукой всаживал.
— А кто из дружинников с ними больше всего знался? Мне б поговорить.
— Десятский Бречислав… только нет его сейчас тут… Иван Данилович в Лыткарино услал…
У Одинца екнуло внутри в предвкушении нечаянной удачи:
— Зачем?
— Чёрт его знает… за бабой какой, что ли. Ты чего привязался? — осердился сотник. — Иди давай, иди… Не мешай службе.
И Одинец ушел, пожелав сотнику освобождения от всех тягот военного времени.
Чумазый Илюха, не отстававший от Александра в протяжении всех этих дней, среди своей обычной косноязыкой и обильной болтовни, вдруг тоже сообщил нечто про бегство из Твери:
— А Силантий тоже всё с Толстыкой пил да пил, мы уехали, а ён с имя остался в деревне, потом ужо нас догнал, как в Москву въезжать.
И сваливая всё в одну кучу, обидчиво добавил:
— С Карьки, гад, меня согнал, сам на ём стал скакать.
* * *
Теплая, угадываемая даже в темноте по источаемому ей теплу печь. Длинная полоска красноватого света, которая, выбиваясь из-за заслонки, прочёркивает округлый печной зев. Иногда она почти пропадает, иногда, когда в печи запоздало вспыхнет недогоревший уголёк, отдает золотом. В соседней комнатке ледяно светится проём окна от навалившегося на него месяца. Стрекот сверчка…
Александр осторожно повернулся на постели, стараясь не шевелить той рукой, к которой плотно прижалась щека спавшей Марьи. Через ореол распушившейся прядки жениных волос он одним глазом видел висящую рядом детскую зыбку крохотной дочки, иконы с горящей перед ними лампадой, пучок богородицыной травки, привязанный на стенке киота… Марья лежала с краю, вынужденная несколько раз в ночь вставать к беспокойно кряхтевшей малышке. Младшего Степку до сей поры всегда ночевавшего у матери под боком, переложили на лавку в головах, для верности — чтоб не свалился — оградив её со свободного конца поставленным «на попа» большим сундуком. Мишаня расположился на полатях за печью, обычном лежбище крестьянской ребятни. Счастливо возбуждённый приездом отца, он долго крутился, сыпал из-за печи десятками вопросов. Александр принужден был, сдерживая бурное дыхание, отвечать. Но рук из-под ночной рубахи жены не высвобождал. Марья горела под его ладонями во всех своих потаённых местах. Когда же, наконец, отрок затих, наступили счастливые, но, увы, короткие часы родителей…
— Я сплю. Это сон. Только ты не буди меня… Хороший сон… — шептала Марья, ерошила его волосы, осторожно трогала шрам на плече, — правда, уже не болит?
— Правда.
— Я ждала. Какого угодно: хворого, раненого, увечного… А дни идут, идут, а тебя нет и нет.
— Прости, ладушка моя…
Как не простишь? Марья теснее придвинулась к мужу, зарываясь лицом в его подмышку, вздохнула:
— Снова уезжаешь…
— Не моя воля. Это война. На нашем веку такой еще не было.
О новом отъезде Александр сообщил, лишь только схлынула бурная радость встречи. Непросохшие полоски слёз счастья на лице жены тут же заблестели слезами огорчения. Она на миг даже оттолкнула его от себя, но счастье все же взяло верх и, рыдая, Марья вновь припала к мужу: «Господи, похудел-то как…» Десятский Бречислав, присутствовавший при свидании, почувствовал себя лишним и пошел из горницы, неосознанно вертя на толстом пальце колечко с синеватым камнем — дар Одинца за ночь с семьей. В придачу к колечку десятский поимел и конскую узду в серебряных бляхах. Но и после этого Бречислав, раздираемый жадностью и трусливой осторожностью, не сразу дал увидеться с семьей. Только в глубоких сумерках подал сигнал — приезжай.
Благородства, целиком основанного на дорогих подарках, десятскому еле-еле хватило дождаться первых петухов. Ещё не было ни намека на утреннюю зарю, когда он застучал в дверь к арестантке. Все караульные спали в другой избе и слышать этого не могли. «Давай, давай! — поторапливал он одевавшегося Александра. — Головой же рискую!». Десятский не врал: он, действительно, вот уже две недели рисковал головой, находя все новые предлоги, чтобы не уезжать с заимки. Его докладные писульки на имя князя Ивана, как сестры, походили на описание казней египетских, но ныне свалившихся не на фараоново племя, а на подведомственную десятскому округу — он описывал то жуткую шестидневную метель, то бездорожье и сугробы выше конских голов, то, наконец, всеобщее расстройство живота своего войска «с пишши скудной и залежалой». «Ясно дело, животы занедужат, коль столько свинины жрать!» — сказал про тот случай хромец Кузьма.
Дул колючий ветерок, скручивая по низинкам змейки позёмки. Одинец смахнул выжатую ветром слезу. С детишками и Марьей он распрощался в доме: десятский запретил провожать даже до крыльца. Одинец обнял жену: «И то верно — ты сырая еще, поберечься надо. Да и мне так легче. Вот посмотрю на вас, чтоб в памяти остались все вместе».
Горло у Марьи сжали спазмы. Десятник за полуоткрытой дверью в сенках маялся: не войдет ли кто ненароком? Бубнил, как филин, мол, давай поскорей, мол, эх, знать бы… Одинец крутил портянки, кряхтел, бессвязно шептал в потёмках:
— …к весне закончится… вернусь… ты верь, верь… заберу вас… покуда в монастыре… тут я ничего не могу… прости… дядьку предупрежу и матушке передам… в деревне голодно будет… главное, детишек сохрани…
— Мы будем ждать, — еле смогла выговорить она.
Каурый удалым скоком прошел вдоль русла замерзающего ручья, по обоим берегам которого опушённые сказочным инеем гнулись долгогривые ивы. Ветер срывал этот пух, и он мириадами блестящих иголок сыпал на едва заметную дорогу.
Углубившись в лес, Одинец придержал коня:
— Можешь не показывать, какие мы с тобой молодцы…
Каурый, по голосу хозяина чувствуя, что порадоваться жизни придётся как-нибудь попозже, принялся рысить, затем и вовсе перешел на шаг. Хотя странно, конечно: он прекрасно видел, как грузилась на его спину позади седла перемётная сума — два крепких волосатых дерюжных мешка, доверху набитых овсом из запасов Рогули. Мужику-конюху, не из дружинных, Бречислав сказал, что это срочный гонец из Москвы, утром он сам его проводит. Мужик подумал, убавил из мешков по горсти зерна, закрыл конюшню на щепочку, позёвывая ушел влево, где низко над сугробами светилось оконце его избы.
Так что причина для радости у жеребца была. И не одна: хозяин за последнее время очень сбавил в весе. С таким седоком хоть на край света. Если, конечно, там трава растет…
— А что про Егорку Рогулю я расспрашивать не стал, — хозяин как бы продолжил прерванный разговор, за неимением других собеседников обращаясь к лошади, — и так все ясно: чего баба могла? Спросил только: не ссильничал? Нет, говорит, куда же с таким пузом? Даже, говорит, наоборот, ласково обращался. Слышал: ласково?!! Вот гусь, вот скотина…
Животное под ним, заслышав знакомое слово, приобернулось. Александр поправил под чёлкой жеребца сбившуюся веревочку латаной-перелатаной уздечки, найденной в купеческой конюшне:
— Это не про тебя. Ты просто скотина. А он зловредная скотина. Хотя… Неужто до сей поры по моей Машке сохнет? И с детишками за себя взять хотел? Вот и понимай как хочешь… Одно и остаётся: вернуться живым с двумя молодцами в запазухе… Ну, конь-огонь, чего встал? Забыл, которая дорога на Москву? Вот эта, левая. Давай, пошел, пошел…
Уже совсем рассвело. Навстречу им из-за крутого поворота в ельнике выскочил свадебный поезд. Несколько низкорослых крестьянских лошадок с вплетёнными в гривы лентами и бубенчиками промчали мимо, пронося в санях развесёлых мужиков и принаряженных баб. Мужички помоложе стояли на задках и с лихим посвистом крутили над головами концы вожжей. Бабы и молодки верещали. Пьяный хохот, визги, трещание бубна, гнусавое «у-а, у-у-а» дудок еще долго, после того как сани скрылись с глаз, звучало в ушах Сашки. «Вот, блин, — позавидовалось, — народ с утра гуляет! Видать, с другой деревни невеста просватана. Будто ни чумы, ни войны».
— Эх-ма, ехала кума-а-а! — заорал Одинец в безмолвие леса. — Да неведомо куд-а-а!!!
Шарахнувшийся в сторону жеребец задел сумой ствол сосёнки, обрушив лавину снега с высоты. «Куда-а, куда-а-а?..» — вопросом откликнулся лес.
* * *
Как вскользь упомянул сотник Бида, Жуку и Толстыке, пропавшим княжеским дружинникам, податься было некуда, кроме как к родственникам на Валдай. Это подтвердил и Брячислав, их десятник. Хотя почему некуда? Свет большой… Знать бы, зачем понадобились князю два простых дружинника? Опять же: такие уж простые ли они? С чего бы Иван Данилович лично сам, да ещё при большой тайне, к Рогуле их определил? Чтоб оружие в бочках охранять? Может, и так. Князь-батюшка наш скуповат и уж коль куда денежки вложил, вернёт впятеро. Но мечи и самострелы из бочек до места добрались, так что Жук и Толстыка свою задачу выполнили. А вернутся воины назад или нет, вовсе не так и важно. Значит, причина отпадает…
Предположить, что эти вояки как соглядатаи посланы были? Тут тоже претыкание: кому нужны их наблюдения через три месяца? Спустя лето, да в лес по малину.
Так… Христианскую любовь к человецем тоже отметем. Скоро будет Иван Данилович своих братьев человеческих сотнями в землю класть, и дружинников своих, и тем более жителей тверских. Двумя больше, двумя меньше, эка важность.
Значит, что? Что? Значит: дружинники должны были привезти из Твери, что-то важное для князя московского. Александр снова и снова возвращался к допросам, что чинил ему тверской князь. О какой-то книге, неведомой рукописи, якобы пропавшей из княжеской сокровищницы. Не слишком верится, чтоб тверской князь был обуян любовью к чтению, этим и все предыдущие-то великие не грешили. Но, определённо, для Александра Тверского она была очень важна. Может, дорога как память о предках? Так памяти сколько угодно, скажем, в том серебряном троне, что видел Одинец в их думной палате. Столько деды-прадеды на нём дум передумали — вся обивка державными задами истёрта.
Может, та книга в золотых досках, а по ним камней самоцветных натыкано как звезд в небе?
* * *
В монастыре всё было по-прежнему. Зима, уже всерьёз и полновластно распоряжающаяся на всей московщине, не внесла в жизнь обители коренных изменений. Если не считать, что послушникам, усердно трудившимся все лето на капустных грядах выпала хоть малая пора отдохновения. Новый игумен оказался приверженцем этого замечательного овоща и продлил бывшие и прежде гряды до самого горизонта, благо землицы у Даниловской обители подбавилось в сравнении с прошлыми временами: один за другим ушли в царствие небесное несколько престарелых представителей древних московских фамилий, успев отписать на помин души изрядные суммы. Серебро игумен потратил на прикуп земли в окрестных селах, а братии предложил усилить поминальную составляющую их повседневных обращений к Господу. Алексий вообще показал себя за те полгода, что руководил монастырём, более хозяином, нежели это могли предполагать монастырские насельники. «Даром, что молод, — вздыхая, говорили послушники и монахи нередко гостевавшим у них посланцам других обителей, — но — хозяин!». Имя игумена вкрадывалось даже в их молитвы на сон грядущий, с кроткими указаниями, что человек столь ранней и яркой святости непременно достоин райских кущ не токмо в отдаленном будущем, но — хоть прямо сейчас…
Одинец, как и летом, заехал в монастырь перед дальней дорогой. И крепко поссорился с Алексием. Игумен, уже начавший входить во вкус власти, уже укрепившийся в чувстве весомости своих слов и действий, к тому же покровительствуемый иерархами таких санов, что при взгляде на их высоту шапка падала с головы, с трудом мог терпеть нравоучения бывшего старшего товарища юности.
«Эх, парнишка, штаны на лямках. Все мы подрастаем, задача только не забыть, кто тебя на помочах водил, да сопли подтирал, — усмехнулся Одинец про себя, — и хотя бы благодарность сохранить». Про мокрый нос будущего игумена — это была большая натяжка, познакомились они, когда послушник Елеферий миновал и детство и отрочество, но всё равно их прежние отношения были отношениями младшего и старшего братьев. А ныне младший несоизмеримо вспрыгнул по служебной лестнице. Мимолетно вспомнился дядька Никифор, когда-то казавшийся и могучим, и мудрым, теперь по мере заметного старения всё чаще не принимавшийся в расчет. «Чего я кинулся бражку у него выливать?» — с запоздалым раскаянием ругнул себя Одинец.
А сцепились они с Алексием после мимоходного замечания Одинца, мол, он не видит большой вины Александра Тверского в том, что случилось летом. Дальше, как водится, слово за слово…
— Александр не мог не понимать, — жёстко ответил Алексий, — что с татарами нам не тягаться. Он подвёл всю Русь.
Одинца уязвила просквозившая в голосе инока неприязнь. С удивлением заметил он и намечающиеся суровые складки у губ духовного брата.
— Да он как мог пытался утихомирить своих людей, — миролюбиво сказал Одинец, — сам тому свидетель.
— Пытался? У него под рукой была дружина, которой хватило б, чтобы разогнать всех тверских бузотёров по домам!
— Что ж они должны были заодно с Чолханом своих избивать? — поразился Сашка. — Тех горожан, которые столько от татар натерпелись?
— Я не сказал избивать, не переиначивай… Разогнать надобно было, подавить бунт в зародыше. И не было бы большой крови. А какая нас ждет впереди!
— Легко сказать «разогнал бы»!
— Московский князь же смог уберечь всех своих ордынцев, а ведь и здесь нашлись бы горячие головы, бунтовать готовые.
— Да уж, наш Иван Данилович кругом молодец, всегда в выигрыше остаётся. Из блохи голенище скроит. Теперь вот вместе с Узбеком будет тверской край разорять. И Александра с престола скинет, и кой-какое барахлишко Москве перепадёт.
Алексий непроизвольно оглянулся, словно ожидая увидеть за спиной сонм свидетелей Сашкиной крамолы. В келье однако никого не было.
— Я не слышал, ты не говорил, — сказал он, снижая голос до шёпота.
— Да говори я, не говори, истина от этого не изменится, — Одинец из противоречия усилил голос.
— Ты уверен, что истина на твоей стороне? — монах овладел собой. — В чём же она?
— Сегодня в том, что единственный народ среди православных, дерзнувший заступиться за самого себя, идут наказывать не только ордынцы, но и дружины из соседних православных княжеств. И главным вождём выступает Иван Данилович. И это ему явно нравится, быть главным. Даже если и в неправом деле. Зато прибыльном.
— А тверичи, стало быть, правы? И мужички тверские, побившие всех торговцев ордынских ни в чем не виноватых, и князь великий Александр, год назад руки хану лобзавший, в верности клявшийся?
— Мне Александр Тверской до одного места… Лобзал не лобзал — дело его совести. Ты скажи ещё, что всякая власть от Бога и Узбек — его помазанник, — возмутился Одинец. Как ни пытался он оставаться в рамках гостевого и братского приличия, дело начинало продвигаться к полному неприятию сторон.
— Могу и так сказать.
— Знаешь, когда-то учитель наш, отец Нифонт, по-другому учил. Татары — это кара небесная за прегрешения. А про то, что власть — она от Бога, я слышал уже из другого источника: не от кого иного, как твоего крёстного, князя Ивана. Не знаю, верит ли в это сам князь, но так удобней и, что важней всего, выгодней.
Тридцать лет назад, еще отроком, князь Иван Московский был послан своим отцом, князем Даниилом, в Великий Новгород. Вольный город Новгород призывал на княжение князей из разных земель по своему усмотрению. И князья еще и гордились подобной честью. Хотя не всегда могли переселиться в Новгород сами. Зачастую посылали вместо себя сыновей, естественно, придавая им значительную боярскую свиту. Вот одним из бояр-советников двенадцатилетнего княжича Ивана и был отец нынешнего игумена Данилова монастыря, боярин Федор Бяконт. В Новгороде у него родился сын, младенец Елеферий, названый так по святцам, а в домашнем обиходе носивший заурядное имя Семен. И был он, действительно, воспринят от купели отроком-княжичем Иваном. А крёстный, как известно, всегда крёстный, даже если прошло три десятка лет и княжич стал могущественным князем Иваном Даниловичем, а младенец — игуменом Алексием.
— От Бога или нет, но Узбек — правитель законный, признанный всей Русью, — раздражённо проговорил Алексий, задетый намёком Одинца на близость к князю, — уже одно это должно было сдержать тверяков. И второе: сила солому ломит. На кого они замахнулись? Разве есть у тверичей даже малая надежда одолеть ордынцев? Ну, побили тысячу, теперь пятьдесят тысяч прискачет! Ведь половину русской земли разорят.
Одинец возразил:
— И это я когда-то слышал. Вернее, когда-то я сам также ответил одному ярому борцу за народное счастье, упокой Господи душу его.
— Правильно ответил…
— Тогда казалось, правильно. А сейчас начинаю задумываться, что сопротивление никогда не бывает бесполезным. Даже если и бессмысленно на первый взгляд. Слышал, может, какие восстания по городам прокатились незадолго до нашего с тобой рождения, когда народ везде ханских баскаков-сборщиков дани побил?
— И что?
— А то: с той поры баскачество ханы отменили. И дани для Орды теперь собирают свои, русские, князья.
— Хрен, как известно, редьки… — Алексий запнулся, увидев выпученные в притворном испуге Сашкины глаза. — Да ну тебя, — вознегодовал он, — с тобой, действительно, согрешишь и на собственного князя наклепаешь.
Тут-то и ляпнул Одинец то, что говорить совсем не следовало, даже в пылу спора:
— «Собственного князя!». Что ж вы, пастыри духовные, князей и народ на своих и чужих делить стали? Все мы православные. А вы наперед войска с хоругвями пойдёте: «Господи, даруй благоверному князю Ивану Московскому победу над окаянным князем Санькой Тверским. Помоги избить его воинство на поле брани, жонок и детишек в их домах…»
Задохнувшийся от ярости иерей совсем не по-иерейски указал Одинцу на дверь.
Ночь Одинец проворочался на жидком соломенном тюфячке в странноприимном доме, куда сбежал от впавшего в неистовство друга юности. Невзирая на всю свою, как ему казалось, правоту, ему было стыдно. Утро он ждал с нетерпением, давя поднимающиеся позывы немедленно идти в келью Алексия с покаянными извинениями. И не заметил, как уснул с последней мыслью: «Что-то совсем душа расшаталася, на себя не похож… нужно встряхнуться… рано нюни распустил…».
Утром он дождался конца храмовой службы и, когда снявший ризы Алексий показался из алтаря, подошел.
— Бог простит, — сказал Алексий, стараясь не встречаться с Сашкой взглядом. — Может, поговорить мне с Иваном Даниловичем, чтоб семью твою отпустили?
— Зачем? Только неприятностей себе наживешь, — Одинец тоже чувствовал себя не в своей тарелке и был рад переводу разговора на простые житейские вопросы. — В деревне голодно, а тут, станется, легче на княжеских харчах перезимуют.
Расстались не врагами, не друзьями, а так — в обиде.
Случилась в тот день и нечаянная радость: на монастырском подворье Одинец встретил своего дядьку. Кузнец одетый по-дорожному тепло, с длинной клюкой в руке и мешком за спиной, сидел у тележного сарая.
— Ты откуда, батя? — удивился Одинец.
— С кудыкиных гор, — старик обрадованно ухватил Сашку за рукав. — Чем дома сидеть, дай, думаю, до города пройдусь, может, чего о вас разузнаю. Как сердце чуяло тебя тут найти, слава Богу. Пимы вот твои принес, в сапогах-то уже холодновато. А Марьюшка-то где?
Глава восьмая
В канун Рождества полыхнула тверская земля. Объединённое татаро-московско-суздальское войско вступило в ее пределы. Первоначально назначенное соединение сил в Ярославле не состоялось: москвичи, как водится, припоздали. Иван Данилович, с немногочисленной свитой прибывший в походный стан великого темника, оправдывался снежными заносами на дорогах. Темник Хонгор-Сюке («непобедимый топор» означало это имя, быстро переделанное русскими в Федорчука), сам немало претерпевший от ужасающих снегопадов за две полные луны, что татарское войско было в пути, оправданий не принимал, но поделать ничего не мог — урусский князь, облечённый высоким доверием хана Узбека, по своему положению был ему ровня, и наказать его мог только лично великий хан.
Темник лишь мстительно не пригласил князя к столу и, пока сам неторопливо и вдумчиво пережёвывал кусок отваренной конины, Иван Данилович подпирал опорный столб утеплённого полководческого шатра. Царевич Сюга, деливший трапезу с Федорчуком, тоже не счел нужным опуститься до приглашения.
— Хорошо, князь, — темник взглядом показал одному из двух вооружённых нукеров, дежуривших в шатре, на жаровню и нукер подвинул ее ближе. — Хорошо, мы перенесём место встречи. От Ярославля мое войско двинется напрямую на Углич. Мы будем там через один, два… через девять дней. И если к тому времени твои ратники не поспеют и туда, это будет означать, что великий хан тебе не указ.
Звучало грозно. Московский князь, почтительно согнувший выю при упоминании имени хана, торопливо воскликнул:
— Поспеют! Как не поспеть!
Иван Данилович сознательно остановил московскую рать в окрестностях Переяславля в надежде, что татары не устоят перед искушением и начнут боевые действия, не дожидаясь её подхода. Теперь было ясно, что брать граничные городки-крепости, закрывавшие выходы на богатые внутренние тверские земли, придётся все же и ему, то есть, вернее сказать — московскому ополчению. Самолично карабкаться на обледенелые стены под дождём стрел князь и в уме не держал, и никак не числил себя полководцем. Для этого кто поглупее есть.
— Что ж, князь, поспеши к своему войску, и жду тебя в Угличе, — завершил разговор Хонгор-Сюке.
Иван Данилович, сопровождаемый воеводой Миной, пошел прочь из шатра, мысленно желая всему татарскому генералитету разом подавиться.
— Хитрит московская собака, — сказал царевич. Он вытянул из груды кусок посочнее и через пар посмотрел на полог, только что опустившийся за москвичами, — я насквозь вижу этих жадных и трусливых урусов.
«Я тебя тоже насвозь вижу, молокосос», — неприязненно подумалось темнику. Не далее как вчера он получил крепкий тычок в спину от великого хана, раздраженного медленностью похода и приславшего грамоту, в которой хан в изысканных восточных выражениях интересовался здоровьем своего главного полководца. Намёк был столь ясен, что старый темник второй день не мог спокойно смотреть на розовощекого царевича Сюгу и все прикидывал, в какую тверскую дыру он сможет загнать соперника, чтоб тот с наибольшим уроном для бунтовщиков сложил там свои молодые косточки. Пока же приходилось терпеть ежедневное присутствие ханского отпрыска; более того, старый и опытный царедворец Хонгор-Сюке намеренно держал царевича на короткой привязи: в то время как остальные темники находились в рядах своих тысяч, пользуясь достаточной свободой в распоряжениях и организуя их движение по собственному усмотрению, Сюга безотлучно находился при главнокомандующем. Стороннему человеку могло бы даже показаться, что и верховодит в ставке монголов именно царевич. Он закатывал шумные пиры на больших стоянках после трудных переходов, либо отправлялся на облавные охоты во главе двух-трёх охранных сотен. На пиры после каждой охоты были приглашаемы все чины его личного тумена старше сотников. Выезды приносили иногда столько волков, что их доставляли в ставку полными санями.
Непобедимый Топор только крякал, глядя, как лихо расправляется подгулявшая молодежь с подвозимым в ставку продовольствием. Запасы, взятые из Сарая, давно окончились, и снабжение войска целиком зависело от старания и доброй воли урусских князей, по чьим землям двигались все пять татарских туменов. Князья, отдать им должное, старались вовсю. Добрая воля тоже лилась рекой, особенно после показательного повешения за ногу одного из удельных князьков, при народе плюнувшего на возок с битой птицей, отправляемый татарам. Полководец Хонгор был удивлен количеству подданных того князя, пожелавших донести на господина.
Но пропитания всё едино было в обрез. Оставалось только одно: как можно быстрее войти на тверские земли и начинать кормиться за счет побеждённых…
* * *
Дядька Никифор, несмотря на ясно выраженное Одинцом пожелание чтобы он без заминок вернулся под крышу родного дома в слободу — «Ты на кого дом и кузню оставил?» — мешкал и тянул время. Сначала старик вынудил племянника до мельчайших подробностей пересказать события последних дней, затем долго что-то обдумывал, бродя по монастырским закоулкам и греясь возле печей то в одном, то в другом храме. Молился.
Дождавшись в гостевой избе Сашку, вернувшегося из города с припасами для дальней дороги, старик твердо заявил:
— В село покуда не вернусь. Возле Машки где-нито устроюсь, пригляжу, как под княжеской милостью жить начнут.
Одинец, уже открывший рот для возражений, глянул ему в глаза — жёсткая решимость стояла в них — свёл всё к шутке:
— Ладно, уговорил… Ты только в храм божий со своим тесаком не ходи, нехорошо при засапожном ноже с Господом разговаривать!
— Каким тесаком?
— Вон у тебя в правом валенке засунут и ступать мешает. Это не тот кинжал, что ты от меня всегда прятал в тайнике за притолокой?
— Ты и про тайник знаешь? — смутился Никифор.
— «Достал — бей!» на нем написано. Всю жизнь тебя хотел спросить: откуда у простого кузнеца нож с золотой ручкой?
— Ба! — вскричал старик, хлопнув себя по лбу. — Вот дурень старый! Совсем забыл, я же тебе в дорогу сала припас! — он скинул котомку, с которой и по монастырю ходил, не расставаясь, и преувеличенно внимательно стал рыться в ней. Одинец рассмеялся и больше о том не продолжил.
Утром следующего дня, еще затемно, Александр взнуздал коня. Каурый в нетерпении мелко перебирал ногами, тревожно фыркал.
— Чует дальний путь, зараза! — добродушно сказал Никифор. — Ну, посидим перед дорожкой и — с Богом!
Кузнец долго стоял за воротами обители, вглядываясь в серые в начинающемся рассвете всхолмленные поля. Конь и всадник превратились сначала в далёкую точку, но потом и она пропала. Старик корявой рукой помял полушубок напротив сердца, шумно вздохнул, и промычал «у-гу-гу», разумея что-то недосказанное. После чего в большой задумчивости побрел обратно. Вечером через брата-ключника кузнец испросил разрешения на посещение игумена в его келье.
Входя в покои настоятеля, Никифор даже немного оробел: сказывалось долгое житье в деревне вдали от всяких, и мирских, и духовных властей. Староста Влас в счет, понятно, не шел. Но молодой игумен встретил его более чем радушно. До сего мига виделись они лишь третьего дня, в день прихода кузнеца в обитель, когда Одинец коротко представил своего «батю» Алексию. Сейчас же игумен сам помог старику освободиться от котомки, дождался, когда тот разденется, огладит волосы на голове и в бороде, и пригласил к столу. «Медовуха», — с одного взгляда на кувшин определил старик. От Сашки он слышал, что игумен «этого дела ни-ни!». Тем приятнее было осознавать, что вся ёмкость — на него на одного! Алексий тоже, похоже, испытывал какую-то неловкость, но ничего, мало-помалу разговор завязался. Крутился он, конечно же, вокруг так и не открытой ни тому ни другому цели Сашкиной поездки в Тверь, не сегодня-завтра вступавшей в войну. Понятно было только, что московский князь придавал всему этому настолько важное значение, что пошёл на удержание за собой заложников-аманатов, как обеспечение надёжного возвращения своего бывшего мечника.
— Ладно, князя понять можно, дело государево, — говорил монах, глядя, как освоившийся кузнец расправляется с содержимым объёмистого сосуда. На самом деле поступок князя не выглядел в его глазах бесспорным, ибо преданность слуг покупают и более простыми и дешёвыми средствами. — Но вот чего уяснить не могу, а у Александра и спрашивать неудобно было: откуда купец…
— Рогуля?
— Да… Рогуля… на головы ваши свалился? Он ведь первопричина ваших бед.
Старик закряхтел, медля дать ответ, прошёлся по комнате, остановился перед киотом. Пупырчатая лампадка греческого розового стекла ровным легким светом освещала иконы. С центральной доски тройного складня-деисуса чернооко и грозно взирал Спас: «Смотри у меня, старик, не лги пастырю!»
Глубоко вздохнув, кузнец сказал:
— Внук-то первый мой — Мишка — вроде как сынок Рогулинский. Таки вот дела…
— Как это — сынок? — обескуражено спросил Алексий. — Я знать не знал!
— Долгая история, — Никифор опять вздохнул, еще горше, — тебе, отче, расскажу. Вроде как исповедаюсь. Только ты помочь мне должен.
— Чем могу.
— Ты проведал бы на Москве, отче, куда невестку с детишками увезли, а? У меня там ни свата, ни брата, а у тебя и к князю в дом ход есть. А про Рогулю: это выдумки и сплетни у нас в селе ходили, будто покуда Саньки в селе не было…
— Сплетни?
— Как оно сказать… Только верно знаю, Мишка — наш. Одинцовский…
* * *
Весь переезд свершили в несколько дней. Десятник где-то в селе раздобыл лёгкий крытый возок — крохотную деревянную будочку на санях, обитую давно осыпавшимися коровьими шкурами — загрузил Марью с детьми и с невеликими пожитками (почитай только и было что пелёнки да кое-что сменное для старших), и — «Трогай!» — поехали. Уже через самое малое время Марья сообразила, что, устраивая их в эту душегубку, десятник более беспокоился о потаённости, нежели удобствах переезда. Морозы хоть стояли и не трескучие, а все ж в кибитке было холодно, только что без ветра. В темноте повозки, непрерывно болтаемой с боку на бок на переметённой сугробами дороге, Марья настрадалась свыше всяких сил. Кормить и перепелёнывать обоих малышей приходилось чаще всего на ходу. Десятский почти не делал остановок, спешил: дни коротки и от зари до зари успевали покрыть верст не более двадцати. А когда просили остановить по нужде орал как бешеный и останавливал только после слёзных просьб. Мишаня выпрыгивал первым и делал свое малое ребячье дело прямо тут же на полозья санок. Затем Марья передавала ему в руки младшенькую и устраивалась за санями сама. Обычно к тому времени десятский терял терпение и подскакивал к повозке торопить. Так и сидела перед ним с задранной шубой и сарафаном. Стыдно-то как, Господи…
Мишаня эти дни был не в себе. Неожиданный отъезд отца, о котором его хоть и предупредили, но который он проспал (а взрослые не разбудили!), повлиял на парнишку самым несчастным образом. Когда же при отъезде с заимки пришлось оставить и единственного тамошнего друга — шуструю собачонку Белку, парень разрыдался так, что у Марьи чуть сердце не разорвалось от жалости.
За эти дни она отчаянно устала от холода и недосыпания. В полутьме, на границе яви и сна наплывали воспоминания. Были они горькими, под стать теперешнему времени.
Было это, страшно подумать, почти десять лет назад. В тот самый год, когда в Орде казнили великого тверского князя Михайлу. Земля содрогалась от распри тверских и московских владетелей. И хотя михайловская слобода и стояла в стороне от торных военных дорог, по которым туда и сюда сновали кованые рати воевавших княжеств, волны братоубийственного половодья доплескивали и сюда. То в одной, то в другой избе села начинали выть без срока овдовевшие бабы.
На той войне пропал и Одинец. Много позже Марья от него самого узнала, что Александру пришлось каким-то боком быть связанным с расследованием смерти княгини Агафьи, жены тогдашнего московского и великого владимирского князя Юрия Даниловича. Агафья была родной сестрой хана Узбека и по рождении звалась Кончакой. В семнадцать лет хан отдал ее за Юрия Московского. Одновременно хан провозгласил новоиспеченного зятя самым главным князем на Руси, то есть великим владимирским.
Юрий, добившись главенства, хоть и с некоторыми досадными издержками, вроде прилепленной к этому княгини-азиатки, вообразил, что поймал Бога за бороду и первое, что сделал, явившись из Сарая на родную сторонушку — пошёл войной на своего предшественника Михаила Тверского, ну, чтобы показать, «кто теперь в доме хозяин». Никто не знает, как случилось, что на поле брани очутилась и молодая жена Юрия Даниловича: не имелось такого в обычае, чтоб баб на войну таскать. Войско Юрия было разгромлено под Тверью и юная Агафья-Кончака попала в тверской плен, где через несколько месяцев отдала Богу душу.
Вот тогда Одинец и был послан в Тверь разузнать об обстоятельствах смерти Кончаки.
Рассказывал Одинец историю своего расследования скупо, на все позднейшие расспросы жены отвечал шутейно. И в этом был весь Одинец: мол, много будешь знать — скоро состаришься. «А кто ж хочет, что у него жена старухой была!» — хохотал он, хватая Марью на руки и кружа по комнате. Но до тех счастливых минут еще надо было дожить! А тогда… Прошел год, начался второй и — ни одной весточки. Был человек, да сгинул.
В это время и оказался подле Марьи Егор Рогуля. Ровня Одинца по годам, Рогуля выгодно отличался от своих деревенских наперсников, теперь двадцатипятилетних мужиков, давно оженившихся и тянувших лямку тяжелейшего крестьянского труда. За несколько лет до того Егор уже делал попытку сватовства к Марье, да девка наотрез отказалась, а её отец, очень любивший свою младшенькую, и не думал ей приказывать. На селе, конечно, осуждали такие нежности — «куда катимся, православные, яйца курицу учат!», но с хлебосольными Яганами всё равно водились. Тем более что за исключением упорного нежелания идти за кого-нибудь замуж, Марья удалась всем остальным: была и красавицей, и рукодельницей и из отцовой воли не выходила.
Позднее Егора взял к себе «на Москву, в обученье» его дядька, подвизавшийся в столице торговлей суконным и кожевенным товаром. На толстого, задыхавшегося от необъятной своей ширины «моцковкого» купчину в его приезд сбегалось поглядеть полсела. «Авраамию Семёнычу, наше почтение!» — дергали с себя шапки мужики, завидев узнаваемые дрожки, в которых горой восседал купчина. «Пых, пых, — отдувался с кожаной лавки позади кучера торговец, — вам того же, православные!»
Рогуля снова появился в селе уже другим человеком. Даже его будничная одежда с лёгкостью затмевала собой самые дорогие праздничные наряды местных парней. Обнизанные бисером сапоги и пояс с серебряной пряжкой были таранами, пробивавшими ряды деревенских лапотных женихов, сплотившихся, было, перед невиданной допрежь угрозой. Деревенские гулянки холостой молодежи в присутствии этого молодого купца уже не напоминали ристалища равных меж собой особей мужского пола, но превратились в охоту, где главнейшим охотником выступал, конечно, Рогуля. Белые лебёдушки слободских улиц и переулков стаями падали под его выстрелами. Женихи клялись перебить ему ноги, отцы обманутых девок бегали жаловаться купцовой матери на непотребства сынка, но положение не изменялось ни на йоту. По крайней мере, до тех пор пока ухарь-купец с лёгким возмущением не обнаружил, что есть на селе девичье сердце, не трепещущее при его приближении. Марья, а это была она, никак не хотела его замечать. Это было гибелью сердцееда Егора Рогули. Он снова заслал сватов.
«Марьюшка, я тебя не неволю, — сказал Яган, — а только подумай и о нас с матушкой, упокой нашу старость. Сашка твой, видать, никогда не вернется, Бог весть, где голову сложил». И Марья поддалась. С окаменевшим сердцем восприняла она обрученье и последовавшие за этим домогательства нетерпеливого жениха. Чего уж хранить, давно не девка…
Егор вскоре умчался в Москву, готовить хоромы: свадьбу назначили на Покров. И тут в село явился Одинец. Такого коловращения «обчественных» умов слобода не помнила со времен случайного заезда сюда князя Юрия, упокой, Господи, душу его. Бабы метались из избы в избу, сыпали свежайшие сплетни, мужики, не сговариваясь, отменили завтрашние выезды на покосы. Деревенский дурачок по прозвищу Митя-Орел сказал: «Быть пожару…» Посельский староста Влас обругал его, но две пожарные бочки, стоявшие на волостном дворе, велел наполнить водой.
…Возок резко накренился и вновь выправился, Марья почувствовала, что лошади пошли шагом. Она пошарила рукой, нашла край шкуры, слегка отодвинула: впереди, шагах в ста, виднелись стены монастыря и главы двух или трёх его храмов. Обшитые железом ворота распахнулись, отряд и повозка втянулись в узкое чрево надвратной башни и затем выехали на широкий внутренний двор. С крыльца бокового терема к ним вышла монашка, сухая старая женщина в чёрной душегрее поверх чёрной же рясы, и повела всех за собой. За теремом оказался ещё один двор, совсем крохотный, образованный меж двух продолговатых строений.
— Вы, воины, стоять в той избе будете, — перст старухи указал направо, — лошади там дальше в конюшне, а раба Божия со детьми в этой подклети.
Старуха-ключица ввела Марью, нёсшую обоих младенцев, в невеликую комнату — печь, две лавки у стола, сундук для сна — запалила лучину, укрепила в железной рогати, вбитой в паз каменной стены.
— Дров много не жги, чай не дома живёшь, — голос у старухи трескучий, как горох в сушёном бычьем пузыре, — вода вот в ведре, а по нужде — бадейка у двери.
— Холодно тут, матушка. А у меня младшенький что-то дышит тяжеловато, не застудился бы в дороге.
— На всё воля Божья. Вечером зайдёт к тебе матушка-игуменья, ей и жалься.
Монашка вышла, недовольно бормоча что-то под нос. Звякнула наружная щеколда. Марья развязала шубейку в которую был укутан Степушка: так и есть — жар у парнишки…
Глава девятая
Четыре верхоконных воина пробирались по дороге, ведущей из стольной Твери на полдень. Раскидистые чёрные ели теснили дорогу, по обочинам толстыми пластами лежали глубокие сугробы. Навстречу конникам то и дело попадались большие обозы, запруживавшие всю проезжую ширину. Конники вынужденно съезжали с дороги, ожидая их прохода. Даже когда обозы кончались, встречное движение на пути не замирало: в сторону недалёкого города тянулись как одиночные возки, так и пешие группы народу. По большей частью это были люди крестьянского обличья, шли зачастую семьями: следом за санями-розвальнями, в которых, как правило, сидели одна-две бабы с младенцами на руках и лежало несколько мешков и коробов, ковыляли старики и старухи с посохами, крепко державшие свободной рукой ручонки отроков-парнишек или девок. Попадались и небольшие стада. Под ногами устало бредущих коров путались бестолковые блеющие овечки. Коровы, зимой животное стойловое, испугано таращились на сугробы.
— Эй, дядя, далеко ли до Яскино будет? — один из вершников нагнулся из седла к проходившему мимо мужику, навьюченному двумя кулями, висящими на ремне через шею.
— Да недалеко, версты четыре, — куленосец остановился, подпрыгнул, поудобнее прилаживая ремень, — только не ездить бы вам туда. Говорят, татарин уже Городню взял.
Другой из конников, подъехав ближе, недовольно погрозил мужику кулаком и обратился к первому:
— Пустое болтают, Степан Игнатьевич, рано татарам тут быть. Да нам и много времени, думаю, не понадобится.
Степан Игнатьевич, в котором и без всякого упоминания имени-отчества половина Твери узнала бы бывшего дознавателя по тяжким разбойным делам Степана Самохвала, озабочено почесал кожаной рукавицей по заросшей щеке:
— Лёгок ты на обещанья, москвичок. Тебе, может, и всё едино, в чьей петле болтаться, а вот мне с татарами видеться не с руки. Ох, смотри у меня, Одинец, коль что… Сам себе дивлюсь, как меня с тобой угораздило связаться!
Самохвал махнул рукой двум приотставшим воинам и, когда те подтянулись ближе, сказал:
— Ладно, едем! Авось Господь не попустит до беды…
* * *
Одинец въехал в Тверь не без некоторой опаски, хотя все увиденное им на подъезде к городу подсказывало, что столице осаждённого княжества сейчас не до мелкого бывшего арестанта. Тверь ломилась от прибывающих час от часу беженцев. Толпы людей на улицах, дворы, забитые повозками со скарбом, сонм калек и юродивых на папертях. Церкви и кабаки, два верных пристанища русской душе в годины испытаний, так наполнялись народом, что из них вываливались как из бани — вспотевшие и красные…
Надо ли говорить, что и прежде не шибко расторопные городские власти в таких условиях окончательно растеряли бразды правления. Относительный порядок сохранялся лишь среди военных: отряды княжеских дружинников без видимой цели проскакивали то туда, то сюда, у оружейных амбаров шла раздача оружия призванным в ополчение горожанам, да на ночь привычно запирались городские ворота.
В суете и толчее столичных улиц Одинец приободрился, окончательно удостоверившись, что его решение не миновать города было правильным. Ехать кружным путём в одиночку сейчас было слишком опасно, в малолюдстве сёл любой чужак оказывался на виду и вызывал подозрение. Выдерживать допросы в волостных правлениях было не с руки, хотя, наверное, отбрехался бы… Вот если ты с отрядом воинов да с какой-никакой охранной грамоткой тогда другое дело! Оставалась малость: добыть отряд и грамоту в чужом городе, воюющем с твоим князем.
В Твери Одинца знали двое. Первым был тверской князь Александр Михайлович. Но его Одинец исключил из списка сразу. А второй, пристав Самохвал, мог и пригодиться.
Самохвала он стерёг на улице полтора дня, за это время к вящему своему удовольствию выведав, что бывший грозный пристав ныне находится в опале и его не велено пускать на глаза великого князя тверского: князь Александр не простил Самохвалу неудачно окончившегося следствия по делу о зачинщиках бунта. Редкий самовластец способен примириться с мыслью, что в иных случаях причиной возмущения народа может быть искреннее чувство самого народа. В самом деле, неужели вот этот туповатый и покорный черный люд, которого во множестве перевидело княжеское око, способен вдруг сам по себе решительно кинуться в драку на грозных татар? Конечно, подбил его на это кто-то…
Андрей Борисович, тверской тысяцкий, глядел на дело проще. «Князь, — винясь, сказал он, — рубь за сто даю, всё едино татарам не жить было: уж больно надоели своими шалостями». Ему что, тысяцкому, ему перед Узбеком ответ не держать!
В общем, Самохвал оказался не у дел. Его можно было брать тёпленьким. После скоропостижной отставки он по обычаю всех больших людей, не мыслящих своей жизни без любимого дела, запойно запил. Безрадостное будущее обозревалось им сквозь мутную пелену похмелья и выглядело, особенно по утрам, отвратительным. Тут-то перед ним и предстал бывший колодник.
Узнал Александра он не сразу, но стоило Одинцу напомнить про горячие успенские дни, как сердце ревностного служаки радостно вострепетало. Хватай беглого мужика — и в кутузку! Колодник, впрочем, знал, что делает — опальный пристав в тот миг шёл один, а на улице царила такая толкотня, что Одинец при опасности мог легко скрыться в толпе.
— Да не беглый я, Степан Игнатьевич, — остудил его Одинец. — Если думаешь с моей поимки какой навар иметь — не выйдет. Продержал меня князь Александр Михайлович в чулане на своем дворе, а потом за ворота, да — в шею! Так что чист я аки слеза.
— Ну и что тебе, лебедь белокрылый, надобно от меня? — опечалился кудесник сыска.
Одинец давно уже для себя решил, что расскажет Самохвалу всё (ну, почти всё) без утайки. Так он и поступил, вкратце поведав злоключения на родной московской стороне. На сочувствие и жалость он при этом не рассчитывал. Расчет был исключительно на ощутимую выгоду для бывшего дознавателя. Да и вообще так было проще, нежели ломать голову, что врать в следующий раз.
— И, думаешь, их теперь разыскать возможно? — засомневался Самохвал, подразумевая Жука и Толстыку. — Времени-то прошло столько!
Но зёрна надежды были посеяны, и Одинец с жаром развернул перед неудачливым приставом блестящие дали:
— Понятное дело, разыщем! Не успеет стриженая девка косы заплесть. А дальше — тебе от князя повышение. Награды, почести и небо в алмазах… В шёлковых штанах ходить будем!
— Щас нашему князю не до нас с тобой, — кисло сказал Самохвал, и было приятно слушать это «нас с тобой», значит, зацепило. — По слухам, собирается князь Лександр Михайлыч съезжать из Твери. То ли в Новгород, то ль в Корелу…
— Так ведь без сундуков своих не поедет. А к сундукам и верные слуги пригодятся. Или ты остаешься город защищать?
— Куда мне, больному! — Самохвал неопределенно указал на грудь, где, по всей видимости, притаился недуг. — Колотье у меня…
— Вот видишь, самое время к сундукам!
Самохвал задумался, но, впрочем, ненадолго.
— Пошли ко мне на двор.
— Пошли.
Жил пристав не богато. Дом был хорош, но внутренней обстановкой не поражал. Удивило только многолюдство семьи, одних дочерей Одинец насчитал с полдесятка.
— Шесть, — уточнил Самохвал, очищая от домочадцев горницу, — кыш, кыш отсюда, курицы! Двоих, слава Богу, пристроил замуж, а эти покуда при мне.
Жене своей, полноватой невысокой бабе лет сорока в потрёпанном плисовом сарафане, вопросительно поглядевшей на супруга, сказал кратко:
— Угощенья пока не надо.
Самохвалиха уточкой просеменила к дверям. Одинец вновь обозрел жилище грозного пристава. Про семейные обстоятельства Самохвала сведения он собрал самые точные, тверской народ уверял, что мзду тот всегда брал самую малую, не кровопийствовал, за честь служил. Похоже, народ не врал. Это тоже ободряло.
А сердце пристава раздирали крючки сомнений:
— И ты вот так землячков сдать готов? Да и князю Александру теперь, боюсь, всё равно кто первый начал ордынцев резать!
Одинец постарался не отвести взгляда:
— Сдам, Степан Игнатьевич, сдам… Моему князю надо, чтобы я отыскал их. Я не обещался привезти их с собой обратно в Москву. Вернусь, доложу, мол, нашёл: сидят в плену. И всё — с меня взятки гладки. А у тебя повод предстать перед своим князем появляется. Глядишь, и зацепишься за его сундуки!
Окончательно дозрел пристав, когда пили по четвертой:
— А-а-а… черт с тобой (прости, Господи!) едем!
«Вот так, служишь верой-правдой, — крупная слеза катилась из опьяневшего пристава. — А потом — бац! — и пшёл вон! И куда я пойду с моей оравой?!! На черный день не скопил, кому ж я в Литве иль в Новгороде нужен?!! Только и остается сидеть тут да татар дожидаться».
Отъезд назначили на следующее утро. И теперь, ввечеру, перед ними замаячили едва различимые разрозненные огни нужного села. Ехавшие чуть позади двое Самохваловых холопов, одетые по такому случаю в воинские железные шапки-мисюрки (издаля ни дать, ни взять взаправдашние воины), подтянулись и в село въехали все вместе. Встреченная на окраине старуха указала дом местного посельского старосты.
Посельский, довольно молодой светлобородый мужик в одних исподниках и накинутом на плечи тулупчике, вышел на двор, поразглядывал в сгущающихся сумерках их четверку, сказал:
— Поезжайте пока к Митьке Чоботу. Это на второй улице третий дом, становитесь постоем. Я позже подойду. Там и поговорим.
И ушёл, дожевывая. Самохвал сплюнул, сказал: «Попался бы ты мне…», но мысли не докончил и поехал со двора.
У Чоботовых их встретили гораздо радушнее. Хозяин, привычный сдавать на ночлег старый домишко (который выходил сенями на тот же двор, что и новый, недавно рубленый, где жила его семья), засуетился:
— Располагайтесь, гостенёчки дорогие. Туточки, правда, не топлено. Да мы это сейчас, — он сбегал к себе, принёс горшок с углями, сунул под заранее припасённые в печи дрова трещавшую от огня бересту, — это мы сейчас, сейчас…
Говорил часто, как зерном сыпал:
— Из Твери, значится, едете? Это редко, кто сейчас из Твери. Всё больше туда едут. Последние недели так прямо отбою от постояльцев не было. А вот дня два уже никого! Тишина… Мимо, по тракту, видим, что бегут и бегут. А к нам и не заворачивают. Чего бы это?
Самохвал, уставший от дороги, полулежал уже на лавке, не раздеваясь, и на вопросы словоохотливого хозяина не отвечал. С утра он не принял ни капли, ему было тяжело. Слуги ушли на конюшню пристраивать лошадей. Для разговора оставался только Одинец.
— А ты чего вместе со всеми не едешь? — Александр поддержал беседу, с блаженством грея руки теплом начинавшим распространяться от печи. Когда заможжило в кончиках пальцев, он расстегнул, наконец, пояс, отбросил ножны и стянул свою короткую кольчужку.
— Дык и рад бы уехать, — ответил Митька, — да куды? У меня дома семеро по лавкам. Сын вон еще неотделившийся со снохой беременной. Куды поедешь? А хозяйство кинем, потом что? К головёшкам вовращаться?
— Татар, значит, не боишься?
— Кто ж не боится? Ясно — боюсь. Только наша волость ордынскую десятину завсегда исправно платила, а ордынцы, хоть и нехристи, а, говорят, коли им не перечат, не трогают.
— Думаешь, будут они разбираться, кто платил, кто нет? В лучшем случае — обдерут как липку, да голыми пустят…
— Э-эх! — Чобот уныло закрестился на образа. — Чему бывать, того не миновать. Как говорится, повинную голову меч не сечёт. Да и… того… — он перешел на шёпот, — кабанчиков двух, да телка на мясо пустили, а мяско в ямку, а ямка в лесу…
— Па-а-анятно: игла в яйце, а яйцо в утке! Кто ж у тебя в хлеву мычит и топчется?
— Коровёнка да барашков пара.
— Чего же их тоже не в ямку? Да и самим бы в какой лес отъехать, земляночку вырыть, и живи-пережидай?
— Было б лето, глядишь, и уехали! А зимой что ж, зимой всякий нас по следу разыщет. Чего-чего, а доброхоты, которые ордынцам укажут, всегда найдутся. Так что хоть башкой об пень, хоть пнём по башке. Вот и оставил коровёнку татарам на закусь, авось, съедят да подобреют.
Хозяин умолк и застыл среди комнаты, задумавшись. Александр хотел ещё что-то возразить расчётливому мужичку, но подавил в себе желание. Он вдруг представил себя на месте Чобота и тех тысяч мужиков во всех местечках тверского края, томящихся в этом тягостном и безнадёжном ожидании хоть какого-то конца. Вдоль хребта, от крестца к затылку, прокатилась волна холода: «Не приведи, Господи!»
Меняя разговор, сказал:
— Ты б, Митрий, на стол нам чего сообразил. Мы заплатим.
— Сей… час, — деревянно ответил хозяин, выходя из задумчивости, — конечно, конечно… счас сообразим.
Тут в дверь протиснулся посельский. На этот раз он был при портках и как знак власти на голове его громоздилась несусветная шапка, круглая как чурбан. Шапкой этой он довольно долго цеплял за притолоку низкого входа, но снял ее лишь тогда, когда вполприседа ему удалось одолеть порог. В нагловатых выкаченных глазах Самохвала засветилось даже какое-то уважение: он любил, чтоб всё по форме было.
— Как звать? — рявкнул бывший дознаватель, садясь прямо и привычно сплетая пальцы рук на столешнице. Посельский, по чьим прикидкам беседа с неизвестными людьми в условиях военного времени должна была протекать несколько иначе, мгновенно потерял нить прежних рассуждений и растеряно заозирался по сторонам. Александр, пряча улыбку, поспешил старосте на помощь, представив Самохвала:
— Пристав по разбойным делам Степан Игнатьев Самохвал…
Посельский испуганно взглянул на Одинца и, тут же позабыв о его существовании, ответил столичному чину, что он — староста села Минай Васильев… ну, то есть Василий Минаев… в смысле… он — староста и потому, как есть должен… и… в общем, он рад… и… чем может…
Ещё не пропели первые петухи, когда Самохвалу удалось выяснить у посельского: верно, летом через их село (как раз когда в Твери замятня происходила) скакали спешно московские торговые гости, да заночевали. Тут старосту опять заколодило.
— Ну, не тяни кота за хвост, — недовольно подталкивал Самохвал. — Ели, спали, ускакали?
— Ага, ускакали…
— Прям-таки все-все? — видно было, что дознавателю остро не хватает привычных клещей и плётки, входивших в обязательный набор любого следователя на всей Руси.
Дальнейшие расспросы с трудом, но вывели все общество на искомое: два мужских тела, обнаруженных тремя днями позже вспоминаемых событий.
— На пустыре за овином у Гурьки Будилы обнаружились. Я тогда же и в волость сообщил, волостной дознаватель приезжал. Оказалось, эти двое из московского обозу. Только где же кого нагонишь, купцов уж след простыл.
Это был гром с ясного неба.
— Ты, любезный, не попутал чего?
— Ей-ей, — забожился староста, — да вот и Чобот подтвердит, они ж на его дворе, прям тут и останавливались…
И Самохвал, и Одинец надеялись, однако, на другой исход поездки, оба предпочли бы увидеть бывших охранников Рогулинского каравана живыми и здоровыми. В крайнем случае хотя бы живыми. В самом крайнем — убывшими из села по одной из двух дорог, либо по той, что вела на запад, где Псков и Новгород, либо на восток — на Ярославль и Нижний. А вот два трупа… Такого Александр предположить никак не мог. Самохвал тоже счастья не излучал и хмуро играл бровями.
— А может и не они. Кто знает? — сказал Одинец.
* * *
Богопротивное, но, увы, необходимое дело по раскопке могил решили провести на следующий день. Староста отрядил нескольких мужиков, которых вылавливал по всему большому селу и с великой руганью и угрозами отправлял на кладбище. Сам же он показал и место упокоения: умерших без покаяния, как эти москвичи, хоронили за кладбищенской оградой. Тут же были и могилы самоубийц. Посельский уверенно указал на холмик со стоявшим над ним свежим неструганным крестом: «Мы их в одну яму…».
Мужики собрались один к одному: голь перекатная, по виду готовая за хорошую выпивку убить и ограбить. Но — робели, стояли, переминались, пытаясь всё время спрятаться друг за другом.
— Ну, что, християне, — кратко напутствовал их Самохвал, — дело государево, будете копать…
— Дык ить страшно, — громким шёпотом выразил общее мнение мужичонка с бельмом на глазу.
— Страшно тому станет, кто копать не схочет. Кому зубы жмут, тот может ещё чего-нибудь сказать. Как дело сделаете, всем вина подадим. Начинай!
Кайлы вразнобой ударили в землю, уже промёрзшую на глубину заступа. Ниже дело пошло спорее и легче. Когда первая из лопат ткнулась в гробовую крышку и под ней глухо отдалась пустота, мужиков как ветром выдуло из широкой ямины. Самохвал стоял на краю и, поминая царя Ирода и весь род его, спихивал копателей обратно.
Открыли крышку.
— Толстыка… — опознал Александр. Он отвернулся, и его вытошнило в невытоптанный белый-белый снег.
Угрюмый Самохвал, процедив «закапывайте», пнул вертевшуюся рядом приблудную востроносую собачонку и грузно потопал к лошадям. Одинец тоже побрел с кладбища, предоставив расчёт с мужиками старосте. Конечно, ни Жук, ни Толстыка в число его друзей не входили, но вид знакомой по жизни бренной плоти, еще недавно ходившей по земле рядышком с ним, дышавшей одним с ним воздухом, а теперь лежавшей под слоем земли, плоти раздувшейся и опревшей, не вдохновлял. «Упокой, Господи, души их» — неотвязно, как заклинание, вертелось в голове.
На двор к Чоботу, в духоту избы не хотелось. Александр догадывался, чем заполняет сейчас свой досуг Самохвал. Выпить и помянуть грешные души он и сам был бы не против, но когда он представлял, как опойный следователь будет в тысячный раз плакаться на злую судьбу, ноги сами замедляли шаг. Между прочим, надо было обдумать и свое положение. После такого поражения в надеждах Самохвал мог удумать сдать его, Одинца, тверским властям.
Село укутали ранние зимние сумерки, избы исторгали в стоялый стылый воздух столбы горьковато-приятного дыма, зазывно светили окнами. Деревенская церковь, неожиданно попавшаяся ему на пути, тоже была обитаемой. Одинец поднялся по ступенькам нечищеной лестницы, дернул за ручку двери, дверь подалась.
Внутри помещения ему, зашедшему с мороза, показалось даже тепло. «Свечку бы за упокой поставить», — Александр, не видя пола, в полной темноте осторожно двинулся на пятно яркого света в боковом приделе церкви. Там горели несколько сальных свечей и на высоких неказистых лесах сидел и сосредоточенно выписывал святые лики монах-богомаз. Одинец приблизился, стал сбоку от лесов, глядя как мягко и неторопливо выкладывает живописец краски на грунтованную левкасом деревянную стену.
— Лепо? — спросил монах с высоты, покосившись на пришедшего зрителя.
— Мне б так уметь! — ответил Александр.
Монах отложил кисть, спустился вниз по крутой лесенке, отойдя назад, осмотрел свою работу: «Да, вроде ничего! Прости, Господи, за гордыню…» На вид иноку можно было дать лет двадцать пять. Скуластое лицо, широкий короткий нос, русая не до конца оформившаяся бородёнка — таких молодцев во множестве производит русская сельская глубинка.
— Помолиться зашёл? — иконописец устало потёр виски. — Ну-ну, помолись, скоро всем нам вышняя заступа ой как понадобится. Отец Иона, священник тутошний, вскоре тоже подойти обещался, ночь с молитвой бдеть. Эх, и времена настали!
— А что это вы храм взялися расписывать в такие времена? Татар сюда не ждёте?
— «Марфа, Марфа, ты тревожишься о многом, а нужно одно!»
— Это из евангелия, что ли? — Одинец редко сталкивался с начитанностью «жеребячьего» сословия. — Что же это — одно?
— Исполнять службу свою. А уж сожгут агаряне эту церковь, или, выстоит она — кто знает? Мне от благочинного выпало сию роспись выполнить, я и исполняю. Потому как всё в руке Божьей. А если бегать, то и веру потеряем, и храмы наши не достроим.
— Высоко, отец, сказал! Мужики проще бают: «Помирать собирайся, а рожь сей!»
— Во-во, сей… Вроде не из нашенских будешь? — монашек пытливо взглянул на Одинца. — Я сам-то родом отсюда, всех сельских знаю…
Длинно проскрипела входная дверь, через темный притвор церквушки раздались осторожные шаги.
— Отец Иона? — окликнул инок. Но вместо священника в круг света выступила небольшого росточка женщина. — А-а, это ты, Олёна… Сестрёнка моя младшая, безмужняя. Родителев-то Бог прибрал, остались мы с ней нынче сиротами. Я через то и просился у отче Мелхиседека отправить меня на роспись в родительское село. Что, Олёна, ужинать принесла? Давай, давай узелок-то…
Богомаз перенял у женщины завернутый в старую шаль сверток, развязал испачканными в краске руками, вытащил пирожок и, обнюхав со всех сторон, надкусил. Одинец разглядывал гостью. Одетая в старенькую заячью шубейку и укутанная до самых глаз в тёмный — не разберешь — синий или чёрный тёплый платок, она показалась ему сперва женщиной в годах, но теперь, когда она распустила узел, он различил тонкие девичьи черты и совсем юный румянец на щеках.
— Вот я и говорю, — продолжил общаться инок, видимо, намолчавшись за день работы, — всех в селе знаю, а ты, видать, с тем дознавателем из Твери приехал?
— С ним самым, — Одинец, наконец, сообразил, что смутило его в облике девушки: одно плечо Олёны было несколько выше другого. «Вот не повезло девке, — мелькнула мысль, — горбунья!» А вслух сказал, чтоб покончить с представлениями:
— Сашкой меня Одинцом кличут.
Показалось или нет, что при этом девушка удивлённо вскинула бровь? Да, наверное, почудилось.
— Ну, что ж, раб Божий, Сашка Одинец, садись да угощайся, — монашек пристроился на приступке лесов, теперь уже разложив всё съестное. — Ты ступай, Олёнушка, ступай милая. Я сегодня подольше поработаю, что-то мне у Николы хламида не нравится, переписать придётся.
Святой в неисправной одёжке кротко и прощающе смотрел со стены. Одинец помялся в нерешительности, но голод взял своё, он подсел к тароватому иноку. Это было лучше, чем возвращаться к Самохвалу. Девушка ушла.
Когда спустя довольно много времени, уже в начале темнейшей декабрьской ночи, после отслуженной отцом Ионой службы Александр вышел на мороз, деревня прочно отошла ко сну. Александр, с трудом угадывая направление на улицах освещенных лишь узким месяцем, завернул за угол.
— Одинец! — осторожно окликнул его из темноты переулка смутно знакомый голос. Повернувшись на зов, Александр увидел того с кем никак не чаял встретиться. Перед ним стоял Битая Щека. На изумлённо-радостное Одинцовское «Батюшки! Ты ли…» пропавший наперсник замахал руками: «Тихо! Тихо!» и, не переставая оглядываться по сторонам, повлёк Сашку за собой.
* * *
В середине декабря пали Кашин и Калязин. Кашинский воевода, восемь дней удерживавший с небольшой дружиной полусгоревшие стены крепости, на девятое утро вывел за ворота города оставшихся у него воинов — сотни три человек, большую часть в пешем строю. На последний бой. Почернелые, пропахшие дымом пожарища, с воспаленными красными глазами дружинники поскидывали с себя всё теплое и, кое-как построившись в боевой порядок, двинулись на осадный лагерь ордынцев. Над заснеженным лугом, подступавшим с этой стороны крепости к самым её воротам, висело такое безмолвие, что татары за версту слышали тяжёлое дыхание наступавших. Со стен детинца, безмолвно рыдая, вослед им смотрели чёрные женщины с чёрными малышами на руках.
— Сдаваться, что ли, идут? — тихонько спросил Петруха Зерно, младший из сыновей московского тысяцкого, взятый в свиту князя Ивана для посылок.
— Ага, и подарочки несут! — сердитым шёпотом через уголок губ, не поворачивая головы, прошипел Иван Данилович, нервно похлопывая по шее своего красавца-коня.
Царевич Сюга, успевший отдать все необходимые указания и теперь видевший, что безумные кашинцы уже наполовину окружены его нукерами, обернулся к москвичам:
— Князь Иван, тебе представилась хорошая возможность доказать свою верность великому хану…
Толмач, беспощадно коверкая слова, перевёл. Иван Данилович, понял и без перевода, татарский он знал. Со щёк московского князя отхлынула всегда сопровождавшая их здоровая краснота. «Вот б…! — вырвалось неожиданное, — прости, Господи…»
— Чего он? — осведомился Сюга у переводчика.
— Сквернословит и молится, — пояснил толмач.
— Одновременно? — удивился царевич.
— Урусы! — пожал плечами толмач: дескать, что ж удивительного — дикий народ!
Суздальская дружина на сытых мощных конях, посланная против кашинцев, растоптала всех в полчаса почти без потерь со своей стороны.
Кашинских женщин, после того как тараном сбили ворота, ордынцы изнасиловали и оставили в живых, хотя по заветам Чингисхана убить было положено всех жителей сопротивлявшегося города. Резали, однако, только отысканных стариков, старух и неходячих младенцев, то есть тех, кто не перенесёт долгого зимнего пути в Орду.
— Вот барышники, — вновь сквернословил князь Иван, — вот торгаши! Им, прям, не война, а чисто купи-продай. Да, измельчал татарин, — сокрушался без пяти минут великий князь, — нету уважения к заветам предков, только об прибылях и думают, живоглоты!
Причиной негодования была не особенная кровожадность князя, в ней он меру знал. Просто это был непорядок…
Сам он настрого запретил своим дружинникам мародерничать. Бесчинствовали и рыскали по домишкам посада и суздальцы, и муромцы, и прочая мелкота, а москвичи лишь завистливо провожали взглядами союзников, тащивших в свои станы вороха одёж и скарба. Московские дружинники чуть не в открытую хулили Ивана Даниловича, но он знал, что делает: великому хану непременно донесут о беспримерном бескорыстии московского князя, служащего ему — о, продлит Аллах его дни бесконечно! — великому хану, за честь, а не за злато. А уж опосля князь московский ведал, как перековать доверие и любовь хана в звонкую монету…
Под оставленных в живых отвели несколько вместительных амбаров, где и держали до той поры, пока на рассвете третьего дня в Орду не отправился большой обоз. Татарские сотники с замиранием сердца тянули соломинки из кулака тысячника: а ну как твоей сотне выпадет незавидная доля охранять обоз и сопровождать пленённых!? Ведь это обозначало, что дальнейшее ограбление тверской земли будет проходить без их участия. О, горе, горе! Знать, матери родили тех батыров под несчастливой звездой. Лучше бы им лежать среди бездыханных счастливцев, которых-таки нашли кашинские стрелы и мечи, и коих теперь с почетом доставят на далёкую ковыльную родину, где их похоронят руки близких, и где каждой из семей погибших, по великой милости хана Узбека, да благославит его Создатель, выдадут причитающийся пай добычи.
* * *
Перипетии последних месяцев Битая Щека рассказывал под крышей бедного домишки, куда, соблюдая самые немыслимые меры осторожности, он привел Одинца. Александр почти не удивился, когда на пороге этого дома их встретила уже знакомая ему Олёна. По крайней мере, это объясняло, как Щека разыскал его.
Плотно закрытые ставни позволяли разжечь лучину без боязни быть увиденными и услышанными с улицы. Одинец с жалостью смотрел на бывшего товарища. Тот сильно изменился, заметно исхудал, болезнь заострила черты лица, отметилась резкими складками над переносицей и в углах рта. По той торопливости, с какой Олёна бросилась стаскивать с него зипун и валенки, по его неуверенным движениям, было понятно, что до полного выздоровления должно пройти еще немало времени. Битая Щека, перехватив соболезнующий взгляд Одинца, покривился: «Что? Заволокла кручинушка светел месяц?»
— Да, уж… — качнул головой Александр.
— Ну, обо мне позже поговорим. Ты как тут оказался? — в приглушенном голосе Битой Щеки слышались одновременно недоверие и надежда.
— Искал Жука с Толстыкой. И тебя немножко. Не поверишь, об вас сам князь Иван Данилович беспокоится. По крайней мере об них.
— Иван Данилович?!! Ну, тогда точно — амба мне. Карачун, копец и крышка…
— А не мерещится? — не выдержал Одинец. Он считал бесшабашность единственным жителем в голове товарища.
— Померещится тут… Когда в чистом поле, да при острой сабле, да нос к носу, это — одно. Ты ж меня знаешь! А когда невесть что грозит, тут-то и прослабит. Я ведь всё это время тайком в селе жил. И по сей день, кроме Олёны да её брата, никто обо мне не знает. Олёнушка! — окликнул он девушку, поразительно бойко явившуюся с женской половины на зов. — Олёнушка, поди, глянь, как там, на улице…
Когда девушка выскользнула за дверь, Битая Щека помолчал, затем, преодолевая смущение, сказал:
— Это она меня выходила. Вот и дрожу теперь за себя и за неё тоже.
— Давай по порядку. Я тоже подрожу.
— Ну да. Как привезли меня в село толком не помню, — заповествовал Битая Щека, — очнулся: лежу за печью, перевязан сикось-накось, рана огнем горит. Жук воды подает. Где мы, спрашиваю? Он сказал. И говорит, мол, Толстыка за знахарем пошёл, потерпи. Дальше опять ничего не помню… обрывки какие-то… Вроде б вечером в избе пир горой шёл. Ещё двое или трое мужиков в гости подошли. Кто такие, шут его знает… Личин их я не видел. И пошло-поехало. Все наши, как я понял, на следующий день дальше в Москву уехали. А Жук с Толстыкой остались вроде как при мне. И спасибо им… нет, честно: Жук за мной ухаживал как нянька. Потом бабку какую-то ко мне приспособили, она перевязывала, мыла меня… Только я почти ничего не помню, одни видения смутные. Ну, а они все дни пьянствовали. Их понять можно…
— Угу: кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть! Так ты думаешь, что они по боевой дружбе тебя здесь не кинули?
— Ну, и это тоже. Хотя… В общем, как-то очнулся я средь ночи, слышу разговор у них меж собой, мол, двигать надо отсюда в новгородчину иль того далее. Никита, то есть Жук, и говорит, мол, с такими деньгами, какие они получат, и в Литве жить безбедно можно. Я помню, подумал о каких это деньгах речь, ведь голытьба же казённая, а туда же — «Литва! Деньжищи!». Но ничего не понял из их разговора. Да и не до того мне было, на Страшный суд готовился.
В избу вернулась Олёна, впустив клуб холодного пара. «И впрямь парня переклинило», — подумал Одинец, видя, как дёрнулся Битая Щека при звуке отпираемой двери. Девушка ободряюще улыбнулась, сделав успокоительный жест, и принялась накрывать на стол.
— Все случилось через несколько дней. Дружки мои к ночи опять нарезались до зелёных соплей, тут нас и пришли убивать. Темнота, хоть глаз коли, слышу удары, хруст, булькотенье какое-то. И тащат тяжёлое из избы. Сам не могу объяснить, почему догадался голоса не подать! И, главное, почему-то сразу понял, что Жуку и Толстыке аминь пришел. И голос снутри подсказывает, мол, сейчас до тебя черёд придёт. Ведь только что лежал с жизнью прощался, а вдруг жить захотелось, откуда и силы взялись… Ну, дополз до порога — никого, на двор — никого…
— Они тела на задний двор потащили, — догадался Одинец.
— Наверное… В общем на рассвете, ночки-то летние короткие, меня в своём дворе Олёнкин брательник, ну ты его знаешь, обнаружил. А она, вот видишь, выходила.
Битая Щека поймал руку хлопотавшей возле стола Олёны и погладил. Девушка вспыхнула, но руки отнимать не стала, а мягким движением опытной сиделки провела свободной рукой по курчавой молодецкой макушке. Битая Щека при этом заимел вид довольного кота, только что не замурлыкал.
— Ой, да не слушай ты его, — смущённо сказала она, обращаясь к Александру. — Выходила! Скажет же тоже… Он уж и так на поправку шёл. Только и нужно было спать да кушать.
Её лицо трудно было бы назвать красивым. А в домашней одежде она проигрывала и телом, поскольку высота левого плеча над правым была более заметна. Неразвитая девическая грудь тоже не производила неотразимых впечатлений. Девка как девка, скорей всего, судьбой предназначенная стать «христовой невестой» и найти покой в женском монастыре. И только глаза, вспыхивавшие всякий раз, когда они обращались на предмет неустанных забот последнего времени, предоставляли миру озеро красоты. «Ну-ну, — подумалось Александру, — кто поймёт, в чем бабье счастье? Нашла себе робятёночка — и сияет!»
— Лежу тут как ребенок малый, — неожиданно совпал с ним Щека. — И успокаиваюсь: кто сказал, что Жука и Толстыку не за простые долги кончали? Может, в кости проигрались… Иль опять же мало у нас народу просто так, по пьянке гибнет? Я-то тут при чем? Хотя очевидцев тоже не всяк любит. Но, скорей всего, тех супостатов и след давно простыл, зря страхи раздуваю. И становится мне всё веселей от таких правильных и приятных мыслей. До той самой поры, пока не услышал из-за перегородки голос… Да, забыл сказать, что хоть резали моих дружков в полном молчании, только одно слово все же кто-то молвил: баранами кого-то окрестил. Причем не баранами, а — ба-г-анами. Я хоть и не в себе был, а голос врезался. И представь: вновь его слышу. Поговорил-поговорил тот мужичок и ушёл. Олёну спрашиваю: «Кто был?» — «Да прасол какой-то! — отвечает. — Шкурами на продажу интересовался». И как в лоб меня ударили, понял: самая ценная шкура для этого «прасола» на мне надета! Вот с той поры дверь в чулан — на запор, и на улицу только по ночам. Силы вернутся — а уж скоро! — тогда и выйду, поговорю с тем картавым. Он у меня и «бар-р-ран» и «козья мор-р-да» туда и обратно без запинки выговаривать научится.
— Если он ещё в селе, то я завтра сам ему язык прямить буду, — сказал Одинец. — А других «прасолов» после него не появлялось? Кстати, как тот скупщик выглядел?
Вопрос был к Олёне, она виновато улыбнулась:
— Да вроде обыкновенно. Средних лет дядька, рябой. Волос светлый. А говорит, и правда, «рэ» не выговаривает.
— Про других лучше у брата спросить, — вмешался Щека. — Он как раз в село прибыл на росписи.
— Познакомились, — кивнул Одинец.
— Я и попросил его приглядывать, что за люди в селе появляются.
— Меж ними были и Ивана Даниловича посланцы, их можно б и не опасаться. Не ты князю нужен, а покойнички наши дорогие.
— Зачем?
— Вот бы знать. Но за сведения о них он бы определенно отблагодарил.
— Благодарность это — хорошо, да на хрен мне его благодарность? Слава Богу, кой-какое серебро в поясе зашито было, на него и живём это время. А как выздоровлю, волка ноги прокормят… И на Москву возвращаться передумал. Там у меня никого. А тут… И места воздушные.
— Особенно если телёнка в избе держать! — засмеялся Александр, заглядывая в огороженный у печи угол. — Ладно, спасибо за хлеб-соль. Пойду своего закадычного пристава проведаю. А к вечеру, думаю, сюда переселюсь. Как, хозяюшка, ещё одного постояльца примешь? Вот тут, рядом с телком хотя бы. И ещё, — Одинец уже держался за сучок, служивший дверной ручкой, — на Москву, наверное, всем придётся уходить. Тут до границы рукой подать. А через неё я проведу, минуя стражу. Ну да ладно, вечерком обсудим.
* * *
Самохвал пребывал в том расщеплённом состоянии, в каком Одинец встретил его в Твери. «Ни черта из нашей затеи не вышло», — убито подбил он бабки, лишь ненадолго вытащив свой могучий кривоватый нос из кружки с самым забористым пойлом, что смогли отыскать в селе его служки. «Завтра домой!» — возгласил он с тем трубным звуком, каким лось приманивает лосих. Александр спорить с ним не стал, рассудив, что утро вечера мудренее, и полез на полати.
К утру пьяное воодушевление покинуло бывшего дознавателя и он, десять раз за ночь пытавшийся разбудить Одинца — «Пить будешь?» — уснул мертвецким сном.
День этот прошёл впустую. Самохваловых парней Одинец, уходя из дому, попросил держать коней наготове: «Завтра, действительно, пора отсюда двигаться. Игнатьичу пить не давайте, скажите: нету, мол. Достаньте ему квасу поядрёнее, пусть голову поправляет. А я сегодня заночую у… в общем, есть у кого заночевать». Старший из холопов, долговязый Парфён понимающе улыбнулся, наверное, про бабу подумал. Оно и к лучшему.
Картавого прасола Одинец не нашёл.
«Какие к чомору шкуры?!! Не видишь, к чему дело идёт? — рассеяно отвечал на его расспросы посельский староста. — Как корова языком слизнула. Не до торговлишки, ноги бы унести. Впрочем, того картавого я помню, долго у нас живёт, с осени. А, может, и сейчас ещё тут. Помнится, с неделю назад его встречал».
Александр уломал посельского и время спустя тот привёл его в дальний конец села, где держали постой скупщики скота.
— Их несколько человек было, по всей округе ездили. За старшего коренастый такой мужик с серьгой в ухе. Тот редко в нашем селе появлялся, больше на московской стороне промышлял.
— Так закрыта же граница!
Посельский с превосходством улыбнулся:
— Серебро любые границы отпирает. Война войной, прибыль прибылью…
На дворе прасолов они не застали никого. Хотя по ещё недавно топленой печи можно было догадаться, что хозяева отсутствуют временно. Под навесом во дворе лежали несколько, не больше десятка, задубелых от мороза телячьих и бараньих шкур.
— Негусто, — сказал Александр, — что ж: не идёт торговлишка?
— Прогорят, — с затаённым удовлетворением ответил посельский. После чего удалился с чувством исполненного долга. Александр направился к дому Олёны.
В избе богомаза слоился дым пригоревших блинов — Олёна ждала гостя. Из-под сбившегося домашнего плата торчал её остренький носик, запачканный сажей. Хозяйка, судя по всему, она была ещё та! Битая Щека, воровато озираясь, вылез из печного закута, где было страшно жарко, но соответствовало его нынешним представлениям о безопасности.
— Я пойду до церкви, братцу блинков отнесу, — Олёна споро, как всё у неё получалось, оделась и взяла в руку лукошко.
— Помнишь, — полуутвердительно спросил Битая Щека надёжно запирая дверь за ушедшей, — как я на твою жёнку подивиться хотел? Сильно мне странно казалось, чтоб мужик из-за бабы переживал. Мало ль их на белом свете? А вот оказалось — мало. Вернее, одна.
Александр вежливо усмехнулся.
— Одна, брат! — убеждённо повторил Битая Щека. — Вижу, ты догадался, что не только мази да примочки меня в этом селе держат. Не так уж слабы ноги, до Москвы-то доковылял бы. Да не идут!
— Неужто под венец собрался? — поддразнил Одинец.
— Непременно! — до Битой Щеки подначки не доходили. — Эх, свадьбу отгрохаем! На две недели! В дружки пойдёшь?
Проговорили до поздней ночи, не ведая, какое утро несла судьба.
* * *
Первым углядел татар старикан Аника Первушка, сельский сторож. С колокольни, куда он забрался уже под утро, устав за ночь бродить по пустым улицам, старик рассчитывал полюбоваться на игру утренней зимней зари. А там и спать можно идти.
Заря отыграла и прямо из под ало-жёлтого края неба на деревню выехали всадники. Село уже начинало жить обычным своим днём, орали петухи, мычала, хрюкала и ржала скотина, из труб шёл дым.
— Ордынцы! Мать честная, ордынцы же! — Первушка ухватился за веревку и часто-часто заколотил в малый колокол.
— Ордынцы! — закричал старик, увидев, что внизу появились мужики из ближайших к церкви дворов, и бросился вниз по крутой загогулистой лестнице.
Весть разнеслась по селу мгновенно.
— Время пришло! — возвестил отец Иона. Он стоял на крылечке церкви в лучших одеждах, какие могла предоставить ему служба на небогатом сельском приходе: смуглая позолота риз, должно быть по его разумению, наиболее соответствовала чину пусть и рядового, но ратника христова воинства. В руках батюшка держал напрестольный крест. Крест был тяжеловат для ветхого пастыря, и он положил его на плечо, отчего походил на воина с секирой, собравшегося в поход. Отче свободной рукой благославлял метавшийся народ и наизусть возглашал из откровений евангелиста Иоанна:
— Тот, кто творит несправедливость, пусть ещё творит несправедливость; и тот, кто праведен, пусть ещё творит праведность; и тот, кто свят, пусть ещё будет святым!
Скрипели отворяемые ворота, селяне семьями выходили из домов, становились на колени, бабы в чёрных платках, мужики без шапок. В руках у каждого, вплоть до самых малых детей — иконки. Свечи гасли от ветерка, продолжая ещё какое-то время пускать дымок. И это было самым страшным, миг, когда дымок отлетал и в руке оставался безжизненный никчемный огарок. Все молчали.
В таком же полном молчании небольшой татарский отряд, всего двадцать — тридцать воинов, втянулся в главную улицу села. Ордынцы ехали медленно, кое-кто с луками наизготовку, настороженно вглядываясь в открывавшиеся им переулки. На площадке у церкви несколько из них спрыгнули с коней, примотали уздечки к коновязи и вошли внутрь храма мимо продолжавшего проповедь отца Ионы, словно не замечая его. Был строгий приказ: русских попов не избивать. Встречались, правда, случаи, когда те на нукеров и в драку кидались. Тогда понятно: ножом по горлу. А просто так — ни-ни!
Другие всадники, разбившись на группы, разъехались по ближайшим богатым дворам, теснившимся, как это заведено на Руси, поближе к церкви. Воины не торопились, навидавшись за последний месяц похода вот таких сёл и деревушек. Куда, в самом деле, спешить: сейчас оглядимся да грабить начнём. Слава Всевышнему, служба в дозорном отряде хоть и поопаснее, зато и достаётся всё русское добро ещё нетронутым, выбирай, чего получше.
* * *
Одинец проснулся как от толчка, ещё до набатного звука. Принялся быстро одеваться.
— Ты чё так рано? — высунул из-за занавеси курчавую голову сонный Битая Щека. Олёна возилась у печи.
— Не знаю… Тревога нашла.
Тут и ударил колокол.
— Или пожар, или — ордынцы, — Одинец постоял миг, вслушиваясь в тревожный звон. — Так, ребята, я — за конём, а вы, не мешкая, за мной огородами пробирайтесь. Знаешь, где Чоботы живут?
Олёна кивнула.
На двор к Чоботам Одинец вбежал с заднего хода. Здесь же в проёме калитки он и столкнулся с первым ордынцем.
Сапог пропечатал в ордынской груди, покрытой синеватыми бляхами железного панциря, снежный след, татарин отлетел в середину двора, юзя на заднице, и, поражённый неожиданностью, замер, раскинув руки. Непривязанный шлем, бренча, откатился в сторону. Александр рубанул по беззащитной голове нукера, прикрытой лишь нетолстым войлочным подшлемником. Рукоять меча передала удар на руку, словно он бил по дереву, стало больно в кисти. Ордынец выгнулся телом и тут же опал, хотя удар вряд ли был смертельным. Но добивать его Одинец не стал. На миг от волнения помутилось сознание. Очнувшись, он увидел устремлённые на него взгляды: всё семейство Чобота кучкой стояло здесь же во дворе. Впрочем, очи многочисленных Чоботарёвых, разъехавшиеся от ужаса, смотрели и в другой угол двора. Там под навесом сеновала стоял второй татарский воин. Какой-то миг он показался неживым изваянием, настолько был неподвижен. В руке воина лишь трепетала веревка, которой он только что успел связать Степана Игнатьевича Самохвала. Бывший следователь страдал от боли в перетянутых за спиной локтях, но гордо не издавал ни звука назло врагам и надменно выпячивал подбородок. Даром что лежал на земле в чём мать родила!
Одинец, не сводя с ордынца глаз, медленно присел и подобрал саблю поверженного врага. Молодой татарский воин как завороженный смотрел на кончик Сашкиного меча.
— Господи… — раздался со спины хозяйский вскрик. — Ты что натворил?!!
Мгновения Сашкиного замешательства, вызванного этим криком, хватило ордынцу, чтобы юркнуть в широко распахнутые ворота. Одинец подбежал к Самохвалу и резанул по путам, исторгнув из последнего вздох облегчения.
— Что ж ты натворил, окаянный!?? — вновь послышался голос Чобота. В нём клокотали рыдания. Александр вовремя обернулся: с вилами наперевес Чобот прыгал к ним. Александр, с трудом увернувшись, отбил вилы мечом и ударил мужика в седой висок рукоятью сабли. Тот выронил вилы и упал на четвереньки, мотая головой. Истошный женский крик затопил двор.
— Тиха!!! — заорал Одинец, замахнувшись на окруживших его женщин. — Бегите враз отсюда, пока татар нету! Ну, быстро, я говорю!
Женщины, похватав детишек, кинулись врассыпную. Одинец торопливо заседлал Каурого. Откуда-то с сеновала скатился самохвалов холоп, Парфён, трясущимися руками принялся взнуздывать свою кобылку. Второго холопа рядом не было, да было и не до него.
— Садись охлюпкой, догоняй! — прокричал Парфёну Одинец, вырываясь в снежную ширь на задах хозяйства. Наперерез им, пробираясь по сугробам, спешили Битая Щека с Олёной. Одинец сдержал коня, Битая Щека подсадил Олёну ему за спину. Мимо них, не остановившись, проскакали Самохвал с Парфёном.
— Стой, стой! — попытался задержать их Одинец. Но ездоки лишь набавили скорость.
— … — выругался Одинец, — ладно, хватайся за стремя, — скомандовал он Битой Щеке, и направил коня к лежавшему слева ближнему мыску леса, окружавшего село. Каурый, чуя запах крови, исходящий от хозяина, напряг все силы и в несколько скачков вынес седоков из заваленных снегом огородов на менее заснеженное пространство поскотины, ближнего луга на околице села. Битая Щека вцепился в ремень стремени и волочился следом. На твёрдом лугу ему удалось подтянуться, встать на ноги и бежать рядом. Он прыгал, повисал на стремени и пролетал по воздуху несколько саженей.
«Только б удержался, — подумалось Одинцу. — Дотянуть до леса, а там Бог даст!»
Боковым зрением он видел, что из недалёкого переулка, на самой окраине села выбежали несколько пеших нукеров и, припадая на колена, натянули луки. Он снова глянул на товарища. В этот самый миг татарская стрела с каким-то сверлящим звуком пронзила плечо Битой Щеки. Еще несколько стрел, прожужжав мимо, впились в сугроб впереди. Битая Щека, охнув, опустил раненую руку, но продолжал бежать, видимо, уже не управляя собой. Упал он только тогда, когда первые деревья опушки заслонили их от преследователей. Ордынцев было всего человек пять-шесть, они скрылись за изгородью крайней избы и через несколько мгновений показались вновь уже верхоконными. Между ними и преследуемыми тянулась неширокая низинка, середина которой слабо курилась над тёмными незамёрзшими пока промоинами во льду местной речушки. Ордынцы вынужденно поскакали в обход. Это давало хоть какую-то передышку.
Одинец остановил Каурого, спрыгнул, нагнулся над Битой Щекой; черпанув снега, бросил на побелевшее лицо друга.
— Олёна… — прошептал Битая Щека, приходя в сознание. Его взгляд приобретал ясность. Он смотрел на что-то позади Одинца.
— Олёна… что … с ней?
Одинец оглянулся: девушка полулежала, опершись грудью на луку седла: из её спины торчали оперения двух стрел. Сукно вокруг ранок быстро напитывалось кровью. Одинец снял Олёну с коня, положил на бок рядом с Битой Щекой, лицо в лицо, тронул тонкую девичью шею. Не учуяв под пальцами биения жилки, потянул шапку с головы:
— Всё… Прямо в сердце.
Слабой рукой раненый тормошил Олёну за плечо:
— Олёнушка, единственная моя, что же ты молчишь? Не молчи, скажи хоть словечко… Олёнушка… Олёнка…
— Кончилась Олёна… — Александр отвёл глаза.
— Нет!
— Да…
— Нет…
Битая Щека погладил лицо мёртвой, оставив на нём рубиновые полоски от окровавленных пальцев. И тихонько заскулил: всё понял.
— Её нет больше… нет… понимаешь? — он сделал попытку встать, не смог и обратился к Одинцу. — Подними меня. И дай саблю.
— Ты чего? — не уразумел Александр. — Уходить надо! Ей уже не поможешь…
— Никуда я не уйду, — твёрдо ответил Битая Щека. — Я их сейчас на ремешки резать буду семо и овамо. Дай, говорю, саблю! — его голос сорвался.
Одинец, засопев, выдернул татарскую саблю, в спешке пихнутую в приседельный сагайдак, отдал Щеке. Тот неосознанно, привычным движением воина, ковырнул лезвие, пробуя на остроту. Левая рука его, из плеча которой всё ещё продолжал выглядывать обломок стрелы, повиновалась плохо, но всё же действовала.
— Потом отомстишь, — снова попытался уговорить его Одинец. — Садись в седло, уйдём чащей…
— Эх, брат! Вдвоём не убежать, — на лице друга появилось лихое выражение, так привлекавшее Александра прежде и не оставлявшее сомнений в его намерениях. — А мне куда идти? И зачем идти?! Я уже пришёл, куда Бог начертал, осталось только напоследок дверью хлопнуть! Щас хлопну… А ты езжай. Деткам своим расскажи потом, что был вот такой дядя Миша по прозванью Битая Щека. Да возьми вот, — он вытянул из-за пазухи продолговатый холщовый сверток, — на память.
Потрясённый Одинец стоял в нерешительности.
— Иди, иди, — Битая Щека подтолкнул его в грудь, — не мешай резвиться.
— Прости, брат…
— Иди…
Каурый, сам выбрав торную стёжку, оставленную прежде проскакавшими Самохвалом и Парфёном понёс Одинца вглубь леса. Три десятка махов по сыпучему снегу и, оглянувшись, Александр уже не увидел из-за низко опущенных еловых ветвей ни изб, ни опушки, ни Битой Щеки.
Догнал он бывшего дознавателя версты через две, в самой середине леса. Приморённые кони, утопая в снегу по колена, шли медленным шагом.
— Ты?!! — удивился Самохвал. — А мы думали…
Окончить он не успел, Одинец, поравнявшись, ударил ему в зубы. Дознаватель зажал рассечённую губу и втянул голову в плечи. Парфён виновато моргал и за начальство не вступился. Дальше поехали втроём. Еще через полверсты, там, где по расчётам должна была показаться большая тверская дорога, на них наткнулась такая же выбившаяся из сил кучка беглецов.
— Здорово, служивые! Тоже из Яскино драпаете? — мрачно приветствовал их молодой детинушка, трусивший впереди на низкорослом соловом меринке. — Может, вместях пойдём?
Одинец, потуже стянув концы башлыка, защищавшие щёки от ветра и скрывавшие половину лица, примкнул к ватаге, Самохвал с холопом последовали за ним.
* * *
«Любит — не любит… любит — не любит… прискачут — не прискачут… татары — не татары… остаться — не остаться…»
Великий русский князь Александр Михайлович Тверской оборвал последнюю позолоченную висюльку на подушке, попавшейся под руку в минуту высших раздумий о судьбах родины. Выходило «не остаться». Подушка-думка полетела на своё законное место на княжеском троне, а сам князь принялся шарить очами по Думной палате в поисках какого-либо другого предмета для гадания. Следующей жертвой суждено было стать чучелу любимого княжеского сокола. Александр Михайлович, страстный охотник с самых младых ногтей, получил это набитое сеном рукотворное чудо от кравчего Осипа Мусата как подношенье на именины. Сейчас гордая птица сидела на злащённом столбике позади княжеского седалища и пучила на белый свет два зелёных глаза, искусно выточенных из изумрудов. Князь прицелился и с треском выдрал перо из соколиного хвоста: «Любит…»… Тресь! — «Не любит». Тресь! — «К сердцу прижмёт». Тресь…
— Князь! Князь… — в палату влетел окольничий Сёмка Булай. — Батюшка князь! Александр Михайлович!
— Чего тебе? — недовольно откликнулся великий князь, всерьёз увлечённый пернатым оракулом.
— Та-а-а-т-т-а-а-р-р-ы!!!
Окольничий обнаружил, наконец, князя за столбом и звучно шлёпнулся на колени:
— Татары, батюшка! Татары в Яскино!
— В Яскино?!! Врёшь! Кто принёс вести?
— Дознаватель Самохвал…
— Зови сюда!
Самохвал, подслушивавший за непритворённой дверью, оттолкнул стража и, оставляя следы мокрых валенок на изукрашенном полу, повалился перед ногами великого князя.
— Ну-у-у?!!
Самохвал торжественно перекрестился:
— Как Бог свят, великий государь! Сам видел… Они меня в полон забрать хотели, да я не дался! Троих… пятерых зарубил.
Бывший дознаватель явился в княжеский терем, не заезжая домой. Пар, валивший от его волчьей шубы, источал запахи неудержимого усердия. Под глазом дознавателя доказательством татарских жестокостей разливался припухлый синяк, губа была разбита. Это убедило князя Александра бесповоротно.
Когда через час-два боярская спешно созванная Дума собралась в кремлёвых палатах, князь уже заканчивал с распоряжениями по подготовке своего отъезда. Выезд было решено свершить на завтрашнее утро. (Вообще-то, к этому исподволь готовились не одну неделю, пожитки княжеской семьи по большей части давным-давно были уложены по сундукам и ждали своего часа. Государственную казну, которая была одновременно и его собственной, Александр пересчитал лично и тоже ссыпал в сундуки, прихлопнув своей печатью. Оставалось загрузиться в сани и — айда, пошёл!).
Бояре и ближники, оглушённые Самохваловой вестью, потерянно сидели по лавкам, чесали в бородах. Эк как оно привалило: раньше чем к Сретенью ордынцев и не ждали, а они, поди же ты — под самым носом объявились. В потёмках дворца вытянутые лица придворных создавали впечатление, что происходит тайное сборище упырей. Пришаркал служка-сытник с охапкой свечей, запалил их в общем молчании и ушёл. Сразу стало душновато, зарябило в глазах от цветастых кафтанов дорогой камки и шёлка.
— Ну, ненаглядные мои советнички, — в голосе великого князя разливалась ядовитая горечь, — дождались. Кто у нас тут уверял, что татар морозы испугают? Ты, Булай? Или это ты, Еремей Алпатьевич?
— А чё я-то? — старший боярин выпростал руку из бороды, ткнул пальцем в окольничего. — Булай за разведку отвечает. Он и обмишулился.
— А ты тогда скажи, кто за переговоры с новгородцами в ответе? И когда нам от них слова ждать?
— На следующей неделе грамоту должны привезти…
— И что в той грамоте?
— Верный человек мне весть подал: отказывают новгородцы.
— Что ж ты молчал до сей поры об этом?
— Так буквально вчера гонец прискакал, вот сёдня и говорю.
К вольному городу Новгороду великий князь воззвал среди всех прочих малых и больших княжеств расколотой Руси. Сначала, пока была какая-то надежда, правда, весьма призрачная, что вдруг взыграет русский дух и к сопротивляющейся Твери присоединятся остальные, Александр Михайлович о бегстве помышлять не торопился. Потом стало ясно, что понюхать ордынский кулак желающих нет, а напротив, уйма татарских доброхотов ждёт не дождётся, когда настанет время тащить тверское добро по своим норам. Великий князь (впрочем, какой великий: Александру уже доставили ханскую грамоту, в коей Узбек низлагал его с владимирского великого княжения) обратился к Новгороду с просьбой об убежище. Новгородская старшина, подумав для приличия пару недель, отказала. Оставались еще Псков и Литва.
— Всё, — порешил князь, — отъезжаем в Торжок. Там станем ждать известий из Пскова.
Бояре шумно стали расходиться.
— А ты, — обратился Александр к Самохвалу, которого по причине общей неразберихи забыли выкинуть из палаты и он впервые в жизни удостоился побывать в сонме ближайших князевых советников, — при мне будешь. Сохранность личных имуществ на тебя возложу…
Только доски навощенного пола сдержали глубину благодарственного Самохваловского поклона. «При сундуках… при сундуках!» — глупо-радостно плескалось в гудящей голове бывшего опального следователя, взлетевшего на три ступени по службе.
Это кто же спускается там по красной лестнице? Не дознаватель ли Самохвал идёт? Какой такой дознаватель?!! Не видишь — младший стряпчий Степан Игнатьевич шествуют…
* * *
…Вот она, рукопись. Она лежит на столе перед Одинцом, желтея в свете свечи согнутыми от долгого лежания в свёртке пергаментным полотном. Последний дар Битой Щеки, упокой, Господи, душу его. Длинный пергамент из подшитых друг к другу листов намотан на толстую палку, вроде скалки, какой бабы раскатывают тесто. Всё это вкладывается в соразмерную палке трубу с притёртой по горлышку узорчатой деревянной пробкой. Так внутрь не попадёт никакая влага. Сама труба из золочёного серебра. А на ней, в овальных оконцах — три золотых же грифона. Да и на пробке вроде ручки приделаны два изумительно вырезанных из кости пардуса-леопарда, вцепившихся друг в друга передними лапами в яростном объятии. Тонкая работа, что сказать…
Александр снова покрутил скалку, распуская ленту пергамента. Вчитался. Да-а, в греческом он не силён… Остатки Нифонтовского обучения позволяли только предположительно уловить, что речь в этих древних писаниях идёт о землях полян, древлян и прочих обитателях земли, что в его время зовётся Русью. Мелькали на страницах незнакомые названия, незнакомые имена: каган Друз, каган Хорив… чёрт их знает кто такие. К последним листам дело, правда, шло веселее — каган Аскольд, каган Дир. Хоть что-то знакомое. Одинец свернул рукопись, перед тем как снова втиснуть в футляр и убрать в мешок, зачем-то понюхал. Пахло, естественно, мышами. Сокровище…
В светёлку, что ныне отвёл Самохвал для Александра на втором ярусе дома, не скрипнув ни единой половицей, просочился Парфён. Запахло сивухой и чесноком, но на вид он был трезвей трезвого.
— Заснули, — сообщил холоп.
Одинец ещё раз подивился способности этого мужика разговаривать, почти не шевеля губами. Парфён был ещё и расторопен. А после чудесного бегства из Яскино, его спорота в выполнении Сашкиных просьб увеличилась троекратно. В глаза, правда, не смотрел, виноватился. Самохвал тоже в отношениях с Одинцом опростел, поубрал спеси. Выделил для гостя едва ли не лучшие покои в доме, с высоченной кроватью под пологом из полупрозрачной льняной реднинки (от мух, хотя какие в январе мухи). Александр оценил это своеобразное извинение: так надоело за последние полгода спать по-походному. На брюхо лёг, спиной прикрылся. Хоть ночку-другую поспать как люди.
— На вторых петухах меня разбуди, — попросил Одинец. — И сам будь готов. Да за этим присмотри, чтоб не сбежал…
— Сделаю…
«Этим» Сашка называл того детинушку, что повстречался им в лесу под Яскино. В первый и последний раз Одинец видел парня в памятный день столкновения с дорожными разбойничками, но запомнил хорошо. И вот негаданная новая встреча. Даже имя вспомнилось — Онфим. Не требовалось много воображения, чтоб понять, что отирался юнец под селом Яскино не просто так. Одинец постарался быть неузнанным и уже на подъезде к Твери предложил Самохвалу дать приют на эту ночь всем беглецам в его доме. Самохвал без лишних расспросов распорядился. Сам он, как известно, отправился прямиком в княжеские палаты, а когда поздним вечером вернулся, вся ватага беглецов пребывала в блаженно-покойном сне: Парфён, по Сашкиному наущению, споил мужичков каким-то особо убойным хмельным зельем. Онфима холоп заботливо оттащил в дальнюю каморку, где уложил среди прялок, кросен, тюков льна и другого девичьего рукоделья. В доме уже вовсю кипела предотъездная кутерьма, сновали домочадцы. Паковались сундуки и корзины. Впрочем, Самохвал, по недостатку лошадей и повозок, распорядился собирать лишь самое-самое необходимое. Сам хозяин рассчитывал отъехать не позже полудня, а остальных домочадцев оставлял за сборами ещё на день.
Пробуждение Онфима состоялось на ранних подступах к рассвету, и приятным его назвать было нельзя. В неверном свете лучины над Онфимом склонилась жуткая бородатая харя с двумя носами и огромным жабьим ртом. «Проснись, Онфимушка!» — проквакала жаба и, предупреждая вскрик, крепко прикрыла ему рот мохнатой лапой. Онфим издал мычание и несколько раз дёрнул ногами, придавленными тяжелой жабьей тушей. Когда с глаз окончательно ушла сонная одурь, жабья рожа стала шириться, порвалась на две половинки и оказалась просто двумя человеческими лицами, склонёнными над ним. В одном парень распознал холопа Парфёна, в другом…
«Не ори — убъю…», — прошептал другой, и Онфим сразу вспомнил жаркий летний день, спящего на телеге мужика, Жилу, Елоху. Тут же вспомнилась матушка, ласковые руки, гладившие его по детским вихрам, тёплое парное молоко после вечерней дойки… Ну почему он сейчас не там, в родном родительском доме, почему?!!
Летошнего мужика этот вопрос тоже волновал, видимо, не на шутку, хотя и с несколько другой стороны:
— Ты как в Яскино оказался, недомерок?
Вид у мужика был зловещий. При этом он снова размахивал своим ужасным памятным мечом перед самым носом лежащего Онфима.
— Ма-ма… — прошептал Онфим.
— Лександр Степаныч, давай хоть посадим его, всё ж лучше словам-то выскакивать будет, — подал сбоку голос Парфён. — Да вот водички дать…
Зубы Онфима залязгали по краю железного ковша, поддерживаемого рукой сердобольного холопа.
— Тепереча — другое дело, — довольно сказал Парфён и выплеснул остававшуюся в ковшичке воду Онфиму в лицо.
Александр убрал меч, опустился на лавку против Онфима:
— Говори…
Даже на церковных исповедях Онфим не бывал так искренен. После той стычки на можайской дороге они с великими хлопотами довезли своего полуживого атамана до села. А дня через три на мельницу нагрянули стражники из Москвы. Жилу, только начавшего приходить в себя, без церемоний забросили в телегу и увезли неизвестно куда. Вот тогда-то встревожившийся более опытный Елоха и предложил на время утечь из Ракитовки. Оказалось, что он ещё раньше знал о тайной связи атамана с неким купцом, жившим в столице. Туда они и направились. Имя? Нет, имени купца он не знает. Да и самого ни разу не видал. С ними имел дело только его приказчик. Елоха называл его…
— Силантий Саввыч? — Одинец был почти уверен в ответе.
— Ага…
— Дальше.
А дальше что… дальше им указано было бежать на тверскую сторону и дожидаться в Яскино.
— В тот день, когда в Яскино купеческий обоз из Твери прискакал, — Онфим несколько успокоился, речь его пошла более связно, — мы с Силантием вновь увиделись. Правда, ему не до нас было. Ну, дал денег немного, сказал, поживите покуда тут, потом он нас на Москву вызовет. И всё. Мы на радостях на постоялый двор забрели, отметить это дело хотели. А на том дворе познакомились с одним стариканом. Тот тоже из Твери бежал. Слово за слово, разговорились, посидели. Старикан и выпивку оплатил. А потом и говорит, мол, есть у меня к вам дело, ребятушки. Мол, с московским обозом едут двое охранников, и будто бы охранники эти везут с собой какую-то рукопись. Он когда про эту рукопись говорил, аж трясся весь, и хотел, чтоб мы ту рукопись скрали.
— Вы её так «скрали», что Жук с Толстыгой теперь в земле лежат!
— Это не мы, не мы… — испугался Онфим. — Елоха про старика потом Силантию проболтался. Мы только на карауле стояли да помогали тела, прости Господи, из избы унести. Силантий всё там перевернул, но книжки так и не нашёл. Она, сказал, верно, у третьего охранника, болящего, который неизвестно куда подевался. Вот Силантий и оставил нас да еще двоих своих людишек в селе, чтобы его выследить. А он как в воду канул.
— Дальше я знаю. А старик?
— И старик пропал.
— Ну-ка напрягись: что старик вам о себе рассказывал?
— Поминал, что дом в Твери против Покровской церкви имеет, и что извозом занимается, несколько лошадей у него.
— Ну, это хоть что-то! Давай одевайся, пойдёшь вашего извозчика опознавать.
* * *
Из округлого зева настежь открытых ворот под проходной западной башней тверского кремля выскальзывали гружёные сани. Одна за другой, а то и по две в ряд подводы, не мешкая, перебирались по льду на тот берег Тьмаки, где, сортируя их, с криком и руганью толклись княжеские ближники, начиная от молодых петушистых сотников из старшей дружины до седобородых дьяков. Иных возчиков, на чьих санях из под рогож торчали спинки или ножки дворцовой мебели, заставляли отъезжать в сторону — черед не пришёл — других, гружёных столовым серебром-золотом, мешками с мягкой рухлядью (бобровые, собольи и куньи шкурки) или сундуками с государевой казной строили рядами, пересчитывали и пачками по десятку саней немедля отправляли в дорогу. На каждый возок придавалась охрана: пара дружинников, одетых не по-боевому, а по-дорожному тепло. Распорядился об этом «дядюшка Твердило», и заботился он при том не об удобствах своих воинов.
«Воины — это когда в бой ходють. А когда обозы хранять, то не воины. Вот пущай в тулупах и едють. Штоб народ не смущать. Чё, скажуть, вся дружина с городу съезжяет?» — прищепётывая, прошамкал он венценосному племяннику, привыкшему к красивым пышным выездам. — Не на рать же собралися!»
Князь Александр наблюдал отъезд обоза с высоты птичьего полёта: из светёлки верхнего яруса своего дворца. Твердило был при нём. Они распахнули все окна и могли видеть происходившее на три стороны. Стояли в тяжёлых шубах и шапках, выдыхали пар.
— Ты как, дядя, надумал ехать? — спросил Александр.
— Нет, сынок, не неволь меня…
— Тут и без тебя есть кому распорядиться. Тысяцкий летом всю эту кашу заварил, вот пусть и расхлёбывает, обороняет город.
— Так-то оно так! Да только всё едино кто-то и остаюшшейся полдружиной командовать должон. Стены высокие, вдруг да и отстоим кремль!? Татары ведь долее чем до масленицы воевать не будут: им ишшо в обратный путь до вскрытия Волги поспеть надоть, — Твердило посмотрел вниз на прилегающую к детинцу улицу, где толпами собрался тверской люд, наблюдавший за княжеским отъездом. — Ну, и народ, понимаешь, не поймёт нас. Как, скажеть, усе сбежали?
Князь Александр тоже глянул вниз, плюнул, взгляд безучастно скользнул по двум шапкам, пробиравшимся против течения толпы.
— Ох, уж этот народ…
Ему, конечно, было не разглядеть, что под упомянутыми шапками через толпы зевак пробирались Онфим и Одинец. Парень покорно семенил впереди Александра. Одинец лишь придерживал и направлял его, держа жёсткой рукой за кушак, отчего у Онфима создалось стойкое ощущение, что в спину, того и гляди, воткнётся острый нож. Даже взаправду заболело под левой лопаткой.
Одинец худо-бедно город знал; когда они выбрались из толпы, он почти уверенно повернул в переулок. Вскоре показалась покровская церковь.
— Ну, коль не сбрехал, это где-то здесь, — Александр, — ага вот и съезжий двор.
Вместе они вошли в незапертые ворота. На дворе против ожидания было малолюдно, их встретил лишь один возок, повозничий которого, не пускаясь в разговор, указал, где искать хозяина, после чего укатил, сердито гикая на лошадь. Валы снега, приметённого к основаниям надворных построек, были основательно уснащены комками лошадиного помёта и сенной трухи.
— Лошадей нет, — вместо приветствия сообщила им старуха, выглянувшая на долгий требовательный стук из высоко устроенных сеней дома.
— Нам бы хозяина повидать.
— Болен хозяин. Лежит.
— Мы долг принесли.
Старуха, поколебавшись, распахнула дверь.
Содержатель извозного промысла оказался совсем не похож на того, кого рисовало Сашкино воображение. На лавке в жарко натопленной горнице, полусидел-полулежал не разбойничий богатырь, от свиста которого гнутся деревья, а всего лишь обыкновенный старик с длинной треугольной бородой, тонкий хвостик которой был прихвачен впопыхах завязанным поясом. Старик, видимо, попытался встать, заслышав голоса.
Александр покосился на Онфима; тот кивнул — он!
Одинец не произнося ни слова, всё так же гоня парня перед собой, прошёл к окну, перекрестился на святые образа, висевшие на положенном им месте. Старик с тревогой и недоумением смотрел на незваных гостей.
Александр выложил на стол футляр с рукописью.
— Нашлась, слава тебе, Господи … — старик протянул руку к рукописи. Но Александр, отодвинув, не дал ему коснуться её:
— Из-за этих козлячих шкурок в Яскино зарезали двух людей.
Старик внимательно поглядел на Александра:
— Кто ты?
Голос у старика был ломкий, с отдышкой.
— Родители нарекли Сашкой, люди кличут Одинцом.
Старик выпрямился, сел на лавке основательнее, хотя было заметно, что всякое движение давалось ему с трудом:
— Что тебе нужно?
— Вчера поутру из-за этой рукописи погиб и мой друг. Я хотел найти того, кто виноват в его смерти.
Старик прикрыл круглые белесые глаза голубыми плёнками век, помолчал.
— Ну, что ж, ты бы должен знать, что началось всё не в селе Яскино…
— Я знаю про хранителей, убитых в кремлевском дворце.
Старик снова помолчал. Затем сказал то, что разом обрушило все построения Одинца:
— Одним из этих послушников был мой сын…
Чего-чего, но такого объяснения Александр не ожидал, слова застряли в горле. Готов он был ко всему: к наглой изворотливости, к лживому покаянию, даже к тому, что придётся столкнуться с грубой ответной силой. Шагая сюда Одинец прикидывал свои возможности как при уличной драке, так и поножовщине в самой избе. Онфим при подобных раскладах, конечно, его сторонником не выступал, ладно, если просто свидетелем будет. Исход дела был весьма неочевиден, и в глубине души возникали сомнения: сумеет ли он благополучно удрать из этого дома, представлявшимся ему чуть ли не вертепом разбойников. Проще всего (и правильно, и правильно!) было бы заседлать Каурого да и оставить город, не прощаясь. А чего? Десять дней скоку и — вот рукопись, вот князь московский (исполнил сверх меры твоё повеление, государь), вот Рогуля (эх, морду бы набить). А дальше — воля вольная!
…Тут в памяти всплывала заиндевелая комлеватая берёза и опёршийся на неё Битая Щека, поджидающий ордынцев…
Да и в конце концов, жгла тайна книги. За что страдаю-то, братцы?!!
— Не думал, что моя последняя встреча с этой рукописью будет такой, — сказал старик, — но, похоже, Богу угодно, чтоб её историю узнали два случайных человека…
— Мы как раз не случайные, — дёрнул плечом Одинец, — мы в неё влипли — не отодрать.
— Не случайные, так не случайные, — примирительно сказал старик, — я ж говорю: божья воля… А может, и божий знак: мне-то уж недолго осталось, думаю, на дни счёт пошёл. Так что приходу твоему, Санька Одинец, мне радоваться надо. А моё имя — Радим по прозвищу Ярута.
В каких складках на его морщинистом лице прячется радость Александр угадать не смог. Но, раз говорит, будем верить. Одинец присел на лавку, выбрав место, с которого мог держать под наблюдением входную дверь в горницу и устроив ножны с мечом на коленях. Старик спокойно глядел на Сашкины ёрзанья, потом сказал:
— Отпусти Онфимку, вишь, как ворот ему перетянул, задыхается парень.
— Не задохнётся, — пробурчал Одинец, но руку разжал. — Такие только от жадности задыхаются.
В комнату вошла давешняя старуха (скрип двери заставил Александра привстать), сердито бормоча что-то себе под нос, она прошла к печи, загремела ухватом.
— Ермиловна, ты уж будь добра, подай нам перекусить чего, — попросил хозяин, — у нас тут беседа наметилась. Смотри, нашлась рукопись-то. Слышь-ка, а?
Хозяйка дома ответила как и следовало ожидать:
— Пропади она пропадом, рукопись ваша проклятая.
Старик сделал движение означавшее, мол — что возьмёшь с бабы? — и начал удивительную историю, похожую на те, что рассказывают бывалые странники, расплачиваясь ими за недолгий приют и кров в деревенских избах. Она могла бы называться так:
История, услышанная кузнецом Александром по прозвищу Одинец в городе Твери возле церкви Покрова и пересказанная им сыну Михаилу в лето… от рождества Христова.
В давние времена, настолько давние, что даже устные рассказы о них уже угасли в народе, на тех местах, где теперь, после татар, лежат в развалинах и запустении города Киев и Чернигов, жило многочисленное и грозное для соседей славянское племя полян. Грозными они были не только для своих ближних родственников вроде древлян, бужан, дулебов, полочан или тиверцев, нет: и пограничные крепости римлян, протянувшиеся вдоль большой тёплой реки Дунай, видали под своими стенами шумные и буйные их ватаги. Брали они эти крепости иль нет, доподлинно неизвестно, но что все окрестные сельца и городишки грабили дочиста, будьте покойны. Императоры римские, после переезда в Константинополь, ныне именуемый Царьградом, не гнушались нанимать славянских воинов к себе на службу, и про воинов тех ходила заслуженная слава как о храбрых, выносливых и стойких.
Да и на отчей земле полян в те давние времена дела шли неплохо. Мало помалу обустраивалась отчина: распахивались приднепровские степи, ставились погосты, деревни, сёла и острожки вдоль многочисленных рек, росли и крепли первые города, тот же Киев, к примеру сказать. В общем, народ работал… Стадо не без пастуха, корабль не без кормчего; так что были у народа сего и предводители. Говорят, звались они коганами, переняв это звание у живших рядом печенегов. В мирное и спокойное время правители полян собирали дань, объезжая обширную землю полянскую, следили за порядком, судили и рядили и простых одноплеменников, и богатых вотчинников. А в грозные дни вражеских нашествий выезжали в поле на врага во главе верных дружин и народных ополчений…
Одинец недоверчиво хмыкал в особо цветистых описаниях седой старины, но до поры до времени слушал. Даже Онфим, для которого услышанное было явным отклонением от нормальной мужицкой жизни (вспахал да выпил, скосил да опять выпил, а чего ещё-то?) — все эти древляне, бужане, римляне — и тот притих, переваривая насильно получаемые знания.
— И стали они жить поживать да добра наживать на молочных реках и кисельных берегах, — Александр не хотел обижать рассказчика, но пришёл он сюда всё ж не для выслушивания баек. Сам может рассказать.
Повествователя, однако, это не смутило.
— Что ж, — спокойно ответил он, — можно от сказок перейти к былям. Ты, похоже, летописи в руках держивал. При монастыре обучался?
— В Даниловом.
— Доводилось бывать. Скажи-ка мне, с чего начинаются все ваши летописные своды?
Одинец пожал плечами:
— Как обычно, с Гостомысла: «Земля наша велика и обильна, идите править и володеть нами». Рюрик с братьями…
Настало время старика. Тень усмешки промелькнула на тонких фиолетовых губах:
— Понятное дело! До Рюрика никто не жил, он пришёл и все наладил.
— А не так?
— Так-то так, да не совсем. У тебя в руках рукопись, которую написали ещё до того, как твой Рюрик начал пелёнки пачкать.
— Сколько ж ей лет? — Одинец с невольным почтением покосился на книжку.
— Да почитай, уже пятьсот.
— Пятьсот? — не хотел, да ахнул Александр. — А я думал…
— А ты думал, как тебе втолковывали, что летописанье на Руси началось только при Владимире Красное Солнышко?
— Ну, что-то вроде того, — замялся Александр.
— Всё началось раньше: и обустройство земли, и княжеская власть, и мощь, и победы. Да только знать об этом не всем положено, то есть вообще никому не положено. Потому и летописи начинаются с призванья варяга Рюрика. Греки называли таких узурпаторами. А потомки его сколько лет старались всю память уничтожить, дорюриковские рукописи жгли. Как найдут, так — в огонь!
— Это у них здорово получилось, если тебе верить, хорошо погрелись. Как же эта-то уцелела?
— Много лет род последнего киевского кагана, которого звали Аскольдом, оберегал её. Род этот захирел при Рюриковичах. Да они, Аскольдовичи, не шибко и лезли на глаза. Так себе, бояре средней руки. И родовое имя сменили: стали Кучковичами. Но святыню свою берегли пуще глаза. Кое-кому из покушавшихся на неё Рюриковичей пришлось поплавать в собственной крови.
Одинцу не приходилось слышать, чтоб кто-либо из русских князей расстался жизнью, приладившись почитать запретную книжечку. Правда, князей, больших и малых, на всей земле русской за последние века было столько, что не будь междоусобных войн, на которых с необычайным усердием князья резали братьев, племянников и дядьёв, сейчас бы на каждой печке по князю сидело. Кто б в этом царстве-государстве землю пахал? Так что даже если старик и преувеличивает, всё же двух-трёх князей под шумок можно было за покушение на рукопись отправить на личное свиданье с Всевышним.
— Земля им пухом, — Александр не дал себе труда перекреститься. — Так ты, что же, из Аскольдовичей будешь?
Старик тихо дребезжаще захихикал:
— Ну что ты! Мой прапрадед, служивший последнему из них, дал клятву хранить эту книгу. Правда, он решил, что самое надёжное место для неё будет именно под рукой великого князя. Так рукопись попала к Ярославу Всеволодовичу, предку нынешнего тверского князя. Ну, а мы уж только тайно приглядывали за ней да пыль сдували иногда.
— А почему Ярослав её не сжёг?
— Потому что — последняя. Единственная. Одна-одинёшенькая. Ни у кого такой нет. А у него — есть! Князья, они ведь тоже люди, у них свои слабости. Гордыня, например. Так что — только наследнику в собственные руки…
— Подловили вы, стало быть, князей. А вдруг да однажды какой из наследников полистает, зевнёт и скажет: «На растопку её!»?
Ответить старик не успел. Дверь распахнулась, и через порог в горницу ввалились несколько человек. По густому мату и крепчайшему запаху лошадиного пота легко было угадать княжеских дружинников. Стучали подмёрзшие каблуки, беспорядочно звенели взятые наизготовку мечи и сабли. И в середине этой толпы важно, по-хозяйски, в избу взошёл, не вошёл, а именно — взошёл Степан Игнатьевич Самохвал. Позади всех, притираясь к стене, маячил Парфён. «Сколько волка не корми… Эх, Парфён, Парфён, холопская твоя душонка, успел-таки хозяину доложить!» — мелькнуло в Сашкиной голове.
— Как вижу, — Самохвал, не торопясь, огляделся, дав себе удовольствие убедиться в общей растерянности, — я вовремя. Александр Одинец, Онфим Пройма и Радим Ярута вы пойманы великим князем тверским на умышлении о воровстве рукописи.
На женской половине раздался глухой звук падения: хозяйка выронила сковороду, по полу запрыгали оладьи. Самохвал прошествовал к столу, сбросил меховые рукавицы, взял лежавший футляр с натугой выдернул пробку, убедился, что внутри — манускрипт.
— Говоришь, в топку её? — обратился он к Одинцу, стоявшему через стол от него. Стало ясно, что подслушивал. — Нельзя её в топку.
Самохвал как бы за подтверждением оборотился к старику, чьё лицо в тот миг приняло какое-то высокомерное выражение.
— Нельзя её в топку! — повторил Самохвал. — Удача отвернётся. Любую можно, а эту — нельзя. Поверье такое: у кого из князей эта рукопись хранится, тот и будет главным на Руси. Так?
Старый Радим кивнул.
— Так что не видать Ивану Даниловичу Московскому прочного главенства на Руси. Поелику возвращу я эту рукопись туда, откуда вы, ворюги московские, её спёрли, и тому, кому она и должна принадлежать — семье тверских князей.
На Самохвала было больно смотреть: от удовольствия он покраснел так, что это резало глаза.
— Я-то, положим, летопись не крал, — возразил Одинец и замолчал, устыдившись своего просительно-заискивающего голоса. Это получилось случайно.
— Не крал, не крал, — согласился Самохвал. — Ты просто хотел продолжить воровство. Иль намерен был сам князю Александру её вернуть? Тогда извиняй, что нашёлся дурной следователь Самохвал и лишил тебя этого счастья. Чего молчишь?
Одинец уже владел собой:
— Верно. Жаль, ты вовремя подсуетился. А то бы я сейчас на княжеские очи напрашивался.
Самохвал сложил обеими руками шиши, успев сунуть рукопись в подмышку:
— Вот тебе княжеские очи! Ты, поди, думал — зачем глупый сыщик с тобой в Яскино потащился? Ага-а… Больно нужны мне были два дохлых московских вояки! А я нюхом чувствовал… чувствовал, что ты мне колокола отливаешь: послал князь московский своих любимых дружинников найти, ах, ах, он жить без них не может. Вот что тебе нужно было!
Самохвал рискованно помахал рукописью перед самым Сашкиным носом.
«Выхватить да — в окно?» — подумалось Одинцу. Он примерился: окно было узковато. Да и на улице вполне могли оставаться стражники.
— Ладно, — окончил Самохвал, слегка остывая. Коробку он любовно поглаживал, на среднем его пальце блестел новожалованный перстень с синим камешком, — под стражу я вашу шайку брать не буду. Всё одно — тюрьма закрыта, все в отъезде… Старый гриб и без того не сегодня-завтра копыта откинет. А тебе, Александр свет-Степанович, сроку даю до обеда, чтоб убраться из Твери. Даже коня своего можешь взять. Хотя он бы и мне ой как пригодился. Но сегодня я добрый. И мы в расчёте.
Он совсем было направился к выходу, но вернулся, и не успел Одинец ничего сообразить, как получил такой удар в челюсть, что в глазах закрутились огненные круги.
— Сам знаешь за что! — удовлетворённо сказал Самохвал и теперь уж точно вышел.
Светозарное будущее в один миг разбилось вдребезги, оставив лишь сладковатый кровяной привкус во рту. Александр попробовал языком зубы, вроде целы, будет с чем возвращаться в Москву. Ну, Самохвал, ну, дока… Провёл как младенца…
Одинца захватила такая обида на себя, что горше не бывает. Плохо сознавая, что делает, он нашарил шапку и выскочил из горницы. Самохваловой дружины на дворе уже не было.
Сухой морозный воздух хоть сколько-то освежил его, привёл в чувство. Александр набрал полные пригоршни снега, погрузил в них пылающее лицо. Огляделся: он стоял посредине улицы, вокруг сновали люди, иногда прокатывали сани, обдавая тем особенным теплом всегда исходящим от коней, которое не спутаешь ни с каким другим. И никому не было дела, что в центре чужого города стоит одинокая душа, в одночасье потерявшая все надежды.
Одинец вернулся в избу. Онфимом в горнице уже не пахло, он вполне воспользовался неожиданным отсутствием внимания к себе и, скорее всего, наматывал на ноги не первую улицу.
Ярута был на кухонной женской половине, отделявшейся от общего помещения тонкой дощатой перегородкой. Он хлопотал над хозяйкой. Старуха недвижимо лежала на устроенной там постели, спрятав руки под фартук. По впалым щекам её катились слёзы.
— Вот так и сталось с ней после гибели Милослава, сынка нашего, — у самого хозяина голос тоже дрогнул, — замрёт среди комнаты и слёзы точит. А нынче ещё и эти аспиды напугали. Матушка! — Радим ухватил клюку, стоявшую подле лежанки, требовательно стукнул в пол. — Ну, хватит! Рассиропилась… Вот погляди: не забрали меня. Чего зря пугаться? Ах, бабы, бабы, мозги куриные. Ну-ка перестань! Я тебе сказал, чтоб и не думала раньше моего помирать? А я живой ещё…
Старуха, не отвечая, размазала слезу на щеке сухонькой ладонью и продолжала лежать с закрытыми глазами. Старик, несколько успокоенный, ухватил Одинца за рукав:
— Верни-ка, Олександр, меня на лавку, а то самому не дойти. Да оладьи собери… Ты как, не сильно брезгливый? Если нет — давай их на стол.
— Наша невестка всё трескает, — усмехнулся Одинец, — дай хоть мёд, всё жрёт. Это я про себя.
— Вот и славно. Спешить нам некуда, посидим, поговорим серьёзно.
По старику выходило, что предыдущее было так, забава. Весёлый старикан Радим Ярута, обхохочешься.
— А скажи, детишки-то у тебя есть?
— Как без них? Трое. Из-за них, можно сказать, и попал сюда.
— Ну-ка?
— Под замком моя жена с детишками. Иван Данилович велел, покуда не вернусь с рукописью, в монастыре их держать.
— Ишь ты как строго! — старик воздел палец к небу. — Тоже в книгочеи записался? Да ты ешь, ешь, пока оладушки не остыли.
— Остыли.
— Ну, ешь холодными.
Старик вздохнул, как бы сожалея об упущенной возможности повкуснее накормить непрошеного гостя. Но Александру и горячими они бы не полезли в рот. Однако он всё же взял один из оладьев, стал жевать. Помогало думать. Ярута молча, с прищуром, долго смотрел на него. Одинец зацепил с блюдца добавку — разъелся помалу — отстегнул верхнюю пуговицу ворота. Ярута одобрительно сказал:
— Крепок парень. Быстро в себя приходишь.
Одинец непонятно мотнул головой: то ли соглашаясь, то ли нет.
— Помогу я тебе, парень, — неожиданно молвил старик. — Не обессудь за такую малость, но чем смогу, тем помогу: есть у меня списка с этой рукописи. Сын сделал. Мне она теперь ни к чему, а тебе, глядишь, пригодится.
Глава десятая
После обеда полагалось спать. Новый великий князь земли русской Иван Данилович Калита — ханская пайцза с утверждением его на великом столе ещё не подошла, но это был вопрос времени — проснулся в привычной обстановке своей московской опочивальни. Не открывая глаз, он потянулся в томной неге, с наслаждением зашевелил пальцами ног. Постельничий — сегодня при князе в опочивальне дневал и ночевал Андрюшка Кочевич, сын боярина Василья Кочёвы — вскочил со своего лежака, устроенного при входе:
— Подать чего, государь? Может, квасу?
Иван Данилович, не вполне владея языком, сонно указал:
— Портки…
Вообще-то при одеваниях московский владетель предпочитал обходиться без посторонней помощи, видя в ней умаление молодецкой стати, каковую находил в себе и немало ею гордился. Он и вправду был недурён для своего зрелого — сорок один полный год, не баран начхал! — возраста: широкогрудый, осанистый, но без отвисающего брюшка, руки-ноги тоже не длинные и не короткие, а как раз впору. Может быть, вид несколько портил начавший расти в последние годы второй подбородок, который пришлось скрыть, отпустив на ладонь длины бороду. Прежде Иван Данилович заставлял брадобрея корнать её почти под самый корень, не любил, когда лезла в рот. Предательски отвисающий подбородок, впрочем, не успокоился и полез одуловатостями на щёки, отчего в лице появилось что-то бабье. Это немало удручало князя, да что поделаешь… Но в остальном Иван Данилович был неплох. Потому и обувался-одевался самолично, зная, что в противном случае всегда найдутся острые на язык недоброхоты, над рассказами которых будет смеяться народ.
Но сегодня князь себе изменил, подставив задранные вверх ноги под натягиваемые слугами порты чудесной травяной раскраски. Он всего как два дня назад вернулся с полей тверских сражений и теперь отдыхал от суровой лагерной жизни. Баловал себя: воина и ратоборца-победителя.
— Так что там у нас? — вопрос был к дворскому, который проник в палату вместе с одевальщиками и теперь с выражением величайшей умильности на гладкой роже наблюдал за облачением князя.
— Детки твои, Иван Данилович, здоровы. Матушка-княгиня, храни её Господь, тоже, — дворский не нарушил установленный порядок, начав со здоровья княжеской семьи, даром, что князь Иван поутру уже видел всех воочию, а в опочивальню супруги своей — княгини Елены — наведывался после приезда раз пять, не считая ночной поры. Это только сегодня после обеда что-то разморило, и он улёгся отдохнуть в одиночестве.
— Человек с Твери прибыл, — продолжил дворский, — назвался Одинцом. Ждёт в сенях.
— Ишь ты — человек! Морда мужичья… Ну, прибыл, и хорошо! Проведи его в задние комнаты, пусть ожидает. Челов-е-ек…
Давненько Одинцу не доводилось бывать в княжеских чертогах. Даже и подзабывать стал, что люди этак-то могут жить. В тепле, в покое, среди красоты: стены и потолок небольшой палаты, куда привёл его дворский, были сплошь расписаны яркими, прихотливо переплетающимися узорами, цветами и травами, а большая, не по комнате, печь выложена глазурованными плитками-изразцами булгарской работы.
— Один явился? — князь Иван возник за Сашкиной спиной, как привидение, не иначе — из потайной двери. Задумавшийся Одинец вздрогнул от неожиданности. Но быстро оправился:
— Один…
Поклонился.
Князь, успевший занять излюбленное место с края стола возле самого окна, досадливо морщился, разглядывая далёкий от свежести наряд Александра, затем неодобрительно сказал:
— Мог бы прежде в баню сходить, нежели во дворец переться.
— Я прямиком из Твери сюда. Прости, государь.
— Тверской князь в городе или стрекоча дал?
Сам Иван Данилович не стал дожидаться битвы за Тверь, уехал из ордынского стана до полного окружения города и последующего приступа. Что там делать? На костях плясать? Это было не в привычках его осторожной натуры, он не любил доводить всё до крайности. Кроме, конечно, дел, приносящих явный барыш.
— Неделю назад князь Александр съехал в Торжок. Народ поговаривает, что оттуда он в Псков собирался. Его младших братьев да матушку новгородцы в крепость Ладогу пустили. А его нет. Опасаются ордынцев сердить.
— Сбежал, значит, — брезгливо процедил Иван Данилович, хотя сам при подобных обстоятельствах поступил бы точно так же. — А ты урок свой выполнил?
— Старался, как мог, — Одинец тщательно подбирал слова, — да ведь там такое творилось! Дружинников твоих в сельце Яскино погубили. Там же и схоронены, сам видел. И сделал это приказчик купца Рогули — Силантий…
Князь отмахнулся:
— А рукопись? Видел её?
Эх, сказать бы, мол, знать не знаю, ведать не ведаю, в глаза не видал. Одинец набрал в грудь побольше воздуха:
— Видел.
— И где она?
— Рукопись опять у князя Александра… Я пытался…
— О, Боже! Он пытался! — Иван Данилович воздел руки вверх, как будто действительно обращался к Богу. — Он пытался! Он пытался! Слушай, друг ситный, почему ты всегда проваливаешь любое поручение?!! — руки с грохотом опустились на стол, а сам князь вскочил и навис над Александром. Как ему удавалось производить такое впечатление неизвестно: он был на голову ниже стоящего навытяжку Одинца.
— Смилуйся, государь, я же там один был. А их-то вон сколько, тверяков: и приставы судейские, и дружинники… Да и от Рогули люди мешались. Рогулю-то бы надо взять за цугундер…
— Слышать ничего не желаю, — князь брал взвинченным голосом уже верхи, — и не приплетай сюда Рогулю своего. Ты думаешь, я не понимаю, почему ты его чернишь?!! Столкнулись два барана из-за овечки… То один на другого жалится, то другой. Так вот, запомни: доносчику — первый кнут!
— Государь… — заторопился Одинец, — я список с той рукописи привёз. Вот он.
Оттопырив губу, князь принял поданный Сашкой список: в отличие от подлинной рукописи эта представляла собой стопку листов, схваченных по левому краю суровой ниткой. Князь перелистал самодельную книжицу. Лицо его потемнело:
— Что это?
— Список… копия значит… по-гречески писана.
— И на кой чёрт мне эта копия? Греческому языку учиться? Так это без надобности. Сейчас по-русски прикажу холопам, и они тебя самым русским образом выпорют на простой русской конюшне. Эй, кто там?
Князь распахнул дверь, через которую сюда входил Одинец. В полутемных сенях маячили два темных пятна — караульные:
— Гнать со двора!
И добавил, когда Одинца уже выволакивали из палаты, почти повалив на пол, хотя он и не думал сопротивляться:
— Вот тебе мой суд: завтра у Рогули крепостная записка на тебя будет. На два года в кабалу к нему пойдёшь. За поклёп и клевету.
Одинца так и дотащили до ворот княжьего двора, загнув его руки назад выше головы, отчего ему пришлось постыдно семенить полусогнутыми ногами. Удар в спину, падение, и — вслед — в лицо пребольно прилетел твёрдый корешок рукописи. Холопы засмеялись:
— Свезло тебе, мужичок! С прибылью с княжеского подворья уходишь. Читай больше, умнее станешь. Га-га-га…
* * *
— Да, дела невесёлые… — сочувственно сказал отец Алексий, глядя на сидевшего перед ним нахохлившегося Одинца.
— Сволочи, — неопределённо сказал Одинец.
— Ты про кого?
— Про всех…
Встретил друга игумен со сдержанной радостью. О прошлой размолвке не вспоминали оба. Алексий снова выставил на стол уже виденный Одинцом кувшин. На этот раз Сашка отказываться не стал, кружки с кисловатым форяжским винцом он опорожнял с такой быстротой, что после третьей игумен убрал вино от греха подальше.
— Что за жизнь, — вздохнул на это Одинец, — наешься не досыта, напьёшься не допьяна. Слушай, я тут одну занятную вещицу привёз из Твери, может, хоть тебя она заинтересует?
Он подал Алексию список рукописи. Алексий с интересом залистал книгу.
— Сразу и не разберу всего, давно в греческом не упражнялся, но, похоже, вещь дельная. Оставишь мне? Перевод сделаю, авось кое-что можно в наши летописи включить.
— Сразу предупреждаю, князья-рюриковичи от этих писаний в восторг не придут.
Алексий поднял брови:
— Ишь ты, как оно! Определённо тебе яшкание с тверичами на пользу не идёт.
Увидев, как закаменело лицо Одинца, засмеялся, притворно замахал руками с красивыми тонкими ладонями боярского сына:
— Шучу, шучу, успокойся. Не пропадёт книга. Я буквально завтра собирался к митрополиту Феогносту на поклон по нашим монастырским хлопотам ехать, там её покажу. Он природный грек, оценит. Слушай, заодно и по твоему делу попрошу: пусть церковным судом вас с Рогулей рассудит.
Одинец с сомнением покачал головой:
— Вряд ли митрополит захочет слово князя Ивана отменять. И церковным судом меня судить не за что, я против веры не шёл, церквей не грабил. А если и спёр как-то по-молодости у учителя Нифонта баклажку с медовухой, так это за давностью лет уже проститься должно.
— Кстати, о стариках наших, — перевёл разговор Алексий, — тут у меня буквально неделю назад дядька твой объявлялся, про тебя вызнать хотел. Сказал, что Марья с ребятишками здоровы. Держат их в женском монастыре, от Москвы вёрст сорок-пятьдесят будет.
Договорились так: Одинец отсрочит свой выезд к семье на пару дней, пока Алексий не переговорит с митрополитом. Как ни велико было желание Александра поскорее увидеть родных, он скрепя сердце согласился.
Поездка игумена к верховному пастырю Руси принесла совсем не те плоды, на которые оба рассчитывали. Феогност при всей широкой греческой образованности чистоту веры блюл неукоснительно. Известие о том, что некий бывший дружинник раздобыл неизвестно где сомнительное сочинение языческих времён, архипастыря разволновало. Иконки-панагии на узкой груди митрополита тесно сплотились, затёрлись друг об друга, когда Феогност в волнении зашагал по светлой верхней палате митрополичьего дворца. Алексий даже залюбовался тем особым, истинно христианским величием, какое исходило от всей невысокой и уже по-стариковски щуплой фигуры пятидесятипятилетнего Феогноста: истинная вера светилась в очах архипастыря, постукивал резной посох при каждом шаге, развевалось широкое домашнее облачение…
Но любование было недолгим, поскольку первое, что сделал после краткого раздумья Феогност, был указ митрополичьему наместнику на следующий день «учинить дознание обретающемуся в Даниловом монастыре кузнецу Михаловой слободы Одинцу Александру об привезённой из Твери рукописной книге». Писец-монашек бойко заскрипел гусиным пером по листу (пергаментному, недавно появившуюся на Руси бумагу церковь в оборот ещё не пускала, побаиваясь иноземного ущерба святой православной вере), слушая, что переводил ему толмач митрополита. Феогност, присланный царьградским патриархом на Русь, местного языка изучить ещё не успел, хотя понимать понимал, если говорили медленно и раздельно. В славянских языках у него была кое-какая практика: приходилось живать в Болгарии и Черногории, это помогало.
Алексий, сокрушённо молчал, сообразив, какую непоправимую ошибку он совершил, пытаясь заинтересовать митрополита участием в судьбе Одинца через злополучную рукопись. Про смешные два года холопства у Рогули можно было забыть: какие там копеечные счёты по поводу пропавшего купцовского товара и упущенного барыша, когда речь пошла о подрыве веры? Лишь когда к грамоте приложили митрополитову печать и скороход умчался передавать её наместнику, игумену удалось ввернуть защитительное словцо:
— Рукопись эту, владыко, Одинец искал по приказу князя Ивана. Да и хранилась и хранится она у тверских князей.
— Что мы можем знать о том, сколько таких списков привёз этот простой, как ты говоришь, бывший дружинник сюда. И кому он их раздал? Так что ответить перед церковью ему придётся. Тебе, по юности лет и благорасположению к этому оступившемуся, может казаться, что я сгущаю краски. Но запомни, сын мой, простота его может быть только кажущейся. А в рукописи этой даже при беглом чтении видно, что христианства в помине нет, одни языческие названия — Перун, Стрибог, Даждьбог. Я ведь не ошибаюсь, что это славянские языческие боги?
— Нет. Не ошибаешься, владыко, — вздохнул Алексий.
Лёгкая тёплая ладонь владыки легла на плечо Алексия:
— Всем нам когда-либо приходится делать выбор между душевной привязанностью и долгом. Но любовь к ближнему иногда подразумевает и наказание ради исправления и наставления на путь истинный. Впрочем, если дело обстоит так, как ты сказал, наказания может и не быть.
— Так может сразу обратиться за подтверждением к князю?
— Зачем тревожить Ивана Даниловича по пустякам? У него свои хлопоты, земные, а у нас — свои, небесные.
* * *
Одинец по простоте душевной оценить всей сложности пастырских хлопот о чистоте горнего мира не смог. Потому на прибывшего в монастырь вместе с Алексием посланца митрополита смотрел, мягко сказать, неодобрительно. Игумен не успел обмолвиться с Александром по приезде даже парой слов. Одинца нашли на заднем дворе трапезной, где он колол дрова. Промороженные березовые чурки легко разваливались под колуном, главное было правильно ударить. Александр самозабвенно махал тяжёлой тупомордой железякой с утра и до обеда, удивляясь, как так вышло, что он не больной и не увечный мужик вот уже почти полгода был лишен возможности заниматься таким обыденным, но вместе с тем и таким нужным и приятным делом? Тут его кликнули к игумену.
Пылая наслаждением от телесной лёгкости, Одинец вошёл в келью и озадаченно остановился на пороге. За столом вместо игумена разместился незнакомый иеромонах, судя по величине злащённого наперсного креста, весьма высокого сана. Алексий стоял у сановника за спиной со скучающим видом стороннего наблюдателя. Его показное спокойствие сразу насторожило Одинца: «Мы во что-то вляпались?» — «Ешё как!» — беззвучно подтвердил Алексий: указательный палец его правой руки чуть заметно предупреждающе шевельнулся.
— Доброго здоровьичка, святые отцы! Храни нас всех Господь, — вслух сказал Одинец, строго и тщательно перекрестившись на образа.
Отцов кроме игумена в келье было трое. Главенствующим, вне сомнений, был тот сидевший за столом мужчина с резкими чертами крупного лица и необычайно густыми торчащими бровями. Кроме него на лавке сбоку мостились двое монахов, неясно какого звания, но тоже, верно, не маленького. Своей одинаковой розовощекостью они напоминали близнецов.
— Волею и указом митрополита Феогноста, — начал тот, с бровями. Далее он стал расспрашивать у Одинца его имя, возраст и семейное положение. Да ходит ли он к причастию? Да признаёт ли он святость православной кафолической церкви? Да привозил ли он из города Твери…
— Одинец… Александр… женатый… причащается… признаёт святость родной церкви (и крест во всю грудь поразмашистей, и ещё раз)… привозил какую-то книгу…
Палец Алексия встал торчком. Значит, всё дело из-за рукописи. Вот невезенье, и духовной власти она не угодила! Ладно, слушайте то, чего хотите слышать от мужика. Раздам всем богам по сапогам. Одинец пошвыркал оттаявшим носом, покаянно затянул:
— Книжку привозил, как же, по приказу князя московского. Ага, вот енту самую. Чего? Не-е, книжков мы не читаем, это нам без надобности. Мы, слава Господу нашему Исусу Христу (перекреститься на иконы, так, еще раз, поистовей…) своё место крестьянское знаем, отечество свое где-нито прописать буковками умеем, оно и довольно. А чтоб книжки читать, слава Богу (так, снова перекрестись, с поклоном) не баре! Да неужто книжка в самом деле по-гречески написана? Вот ведь какие чудеса на свете по божьей воле встречаются. Не-е, про что там писано нам не известно. Не-е, одну-единственную привёз. И сразу духовнику своему, игумену Алексию отдал, как надёжа-князь отказался, потому как не тую книжку ему привёз. Поп… попи… (так, морщи лоб, вспоминай в муках, ага, хорошо) попию какую-тось. Копию? Верно, копию, прости, Господи, язык сломаешь…
Ещё с час или более того продолжался допрос, к концу которого всё собравшееся общество так вспотело, что председательствующий, чувствуя мучительные позывы выйти на свежий воздух, чаще и чаще был вынужден обрывать словоохотливого подозреваемого, ответы которого меж тем становились только обстоятельнее и длиннее. Когда же Одинец попытался зримо представить синклиту своё босоногое деревенское детство, посланец митрополита сдался:
— На сегодня, пожалуй, довольно.
Он оглянулся на Алексия. Тот с готовностью кивнул:
— Пожалуй, и отобедать время.
На том и порешили, начав собираться для перехода в трапезную. Одинца никто не удерживал. Он первым вышел из игуменского домика, вдохнул полной грудью, пробормотал вполголоса — «Ищите, ребята, у змеи ноги…» — и вприпрыжку побежал к трапезной: успеть перехватить чего повкуснее до прихода высоких гостей, зря, что ли, дрова колол?
К удивлению Одинца, ни вечером, ни на следующий день пред светлые очи высоких гостей его больше не звали. Но тревога с сердца ушла лишь после того, как наместников поезд отбыл из монастыря. Трое крытых саней, каждые из которых влекли по две лошадки, раззванивая поддужными колокольцами, выбрались за ворота обители и, удаляясь, пошли пылить снежком по узенькой зимней дороге в сторону недалёкой Москвы.
— Отбились! — с чувством сказал Алексий, пеши провожавший их до ограды. Одинец вылез из-за угла конюшни, откуда, не рискуя лишний раз попасться на глаза, он наблюдал за отъездом.
— Храни их Господь в дороге, — поддакнул он и сделал вид, что промакивает слезу на щеке.
— Но-но, полегче: всё ж архипастыри. Мог бы и не скоморошить, висельник, — игумен осуждающе покачал головой.
— А что мне остаётся? — оскалился Одинец. — В прорубь головой?
— От тебя дождёшься! Ладно, пока у меня до вечерней службы есть время, пошли думать, как дальше быть.
* * *
Рано-рано просыпается обитель. По бездонному чёрному небосводу не пролился и самый слабенький отблеск синевы — предшественницы зимней зари, а уже за дверью услышишь то скорые осторожные шаги, то легкий кашель или одно-другое тихо произнесённое слово: насельницы монастыря потянулись в храм на молитву. Марья уже привыкла к этим повторяющимся изо дня в день звукам утра. Она тоже поднимается, отыскивая ногой в темноте на земляном полу свои валенки, накидывает на зябнущие плечи шаль и наощупь пробирается к печи. За печным заслоном тоже тьма, но если легонько ткнуть в её середину с вечера заготовленной длинной свёрнутой в трубку берестиной, то, рассыпая крохотные искры, обнажится красная полоска скрывавшихся под пеплом углей.
Марья складывает на разгорающуюся бересту щепки, на них — чурочки покрупнее, и, убедившись, что не затухнет, бежит снова на сундук, в свою постель, хранящую тепло тела. В иные ночи в их каменном жилище совсем холодно, подтапливать приходится и ночью, когда встаёшь кормить дочь. Из-за этих частых ночных пробуждений, из-за постоянного тетёшканья днями с двумя младенцами, Марья забыла когда и высыпалась, время растянулось в нескончаемую пелену. Слава Богу, теперь уже нет опасений за Стёпушку, мальчишка пошёл на поправку. Спасибо матушке-настоятельнице, костистой старухе, поначалу отнёсшейся к узнице с большой настороженностью — как же, жена государева преступника! Марья отчаянно робела при заходах строгой постницы. Но, узнав, что ребёнок тяжко разболелся, именно настоятельница и помогла, явившись к ним в келью с ворохом лечебных трав. Десятского Бречислава настоятельница прилюдно отчитала за бездушие, назвав Сардонапалом и Навуходоносором. Последнее было тем обиднее, что ни о каких «сарданапалах» бравый воин до этого слыхом не слыхивал, хлеба-соли с ними не водил. Дружинники откровенно скалили зубы, потешались, перемигивались: «Наш Сардонапал!» Не до смеха им стало, когда на второй день матушка указала всем без малейшего исключения по три раза на дню собираться на общую молитву. Сестёр-монашек она рассылала по работам — чтоб не на кого было смотреть, а сама читала бойцам из Евангелия, подробно толкуя отличия саддукеев от фарисеев.
К великому облегчению, вскоре пришел приказ от князя Ивана, и воины спешно выехали из обители ещё до того, как Иисус Христос въехал в Иерусалим.
В одну из ночей, когда Стёпушке стало совсем худо и он метался в жару, матушка пришла к ним в келью и ночь напролёт отстояла на коленях перед иконами. Марья сама была как в бреду, она держала в руке крохотную ручонку сына и сердце её разрывалось. Перед внутренним взором вставало пережитое когда-то горе: несколько лет назад им с Александром уже довелось потерять младенца, среднего меж Мишенькой и Стёпой. Но тот мальчик родился недоношенным и, прожив всего сутки, спешно окрещённый, тихо угас.
Божья воля свершилась, к утру Стёпушке полегчало. Но даже сейчас, по прошествии месяца, Марья отмечала слабость ребёнка. И потому была вынуждена особенно заботиться о нём, повторения болезни он бы не пережил. Хотя настоятельница позволила невольным узникам выходить на монастырский двор, Марье удавалось это нечасто. Лишь иногда, когда одновременно засыпали младшие, она всходила по крутому крыльцу в несколько каменных ступеней из их полуподвала и стояла, прижавшись к столбику навеса над входом. Смотреть-то было и не на что: серый щербатый камень хозяйственных построек, некрутые свисающие соломенные крыши, придавленные сугробами, за ними — густокрашенный синим купол монастырской церкви, да верхушки деревьев, с неизменным десятком голодных крикливых ворон. Постояв чуть-чуть, Марья спешила обратно: а ну как Стёпушка соскочит босыми ножонками на ледяной пол? Относительно свободен был только Мишаня, за эти долгие недели успевший облазить весь монастырь вдоль и поперёк.
Это Мишане удалось однажды повидаться с дедом. От него и узнала Марья, что Никифор всё это время проживал в соседнем селе. Он несколько раз обращался к игуменье за разрешением свидеться с ними, всякий раз получал отказ, но попыток не бросал. Раза три ему везло: кузнец просачивался в обитель с редкими в эту пору группами богомольцев-странников. Впрочем, он быстро примелькался, его стали опознавать, и стоявшему на воротах древнему, как Мафусаил, отставному дружиннику Глебушке по прозвищу Небаба приходилось гнать его за ворота клюкой. Кузнец пробовал найти короткий путь к сердцу земного заместителя святого Петра — приходил к охраняемой твердыне с крынками самых разнообразных напитков — от пива до медовухи — но страж был неумолим.
— Погоди ужо! — грозился кузнец. — Вот возвернётся мой племяш, он вам тут задаст жару!
Старик верил во всемогущество неизвестно где обретавшегося племянника. И эта вера была вознаграждена.
— Саша… — было первое в то утро сорвавшееся с губ Марии слово. Вокруг неё как обычно дремала темнота, едва побивавшаяся мутным светом от крохотного оконца под самым потолком кельи. «Саша?» — позвала Мария. Ничего вокруг не изменилось, но она что-то почувствовала. И это чувство ожидания нарастало и нарастало до самого полудня, когда заскрипела входная дверь и в келью, пригнувшись, вошла матушка-настоятельница. Следом за ней, заслоняя свет, протиснулся высокий статный мужчина. Лица его было не видно.
— Саша? — удивлённо-радостно окликнула Мария, но тотчас поняла, что это не он. Из-под широкой шубы выглядывали края рясы, в руках мужчина держал расширявшуюся кверху шапку священника.
— Вот, отец Алексий, они все тут и есть, — произнесла, открестившись на образа, мать-настоятельница, обращаясь к пришедшему.
— Спаси тебя Бог, сестрица, — сказал монах, как разглядела только теперь Мария, годившийся игуменье во внуки, — ты сама им сообщи.
Судя по торопливой готовности настоятельницы, гость был в высоком сане.
— Что ж сообщать? И так ясно. Приехали, Марья, за вами. От владыки митрополита… Так что собирайтесь.
Гость, не сказавши более ни слова, вышел вон, а задержавшаяся игуменья успела шепнуть:
— Плохого не ожидай. Похоже, оканчиваются испытания ваши. Дай вам, Господи!
Никогда после им не придётся встретиться, никогда не узнает Марья, что двигало этой пожилой женщиной в её заботах о них. Может быть, когда-то и она имела семью, была счастливой матерью и верной женой. Или её с самых юных лет отдали в монастырь и она могла лишь догадываться о всех непознанных ею радостях мирской жизни? Но за всё время Марья слышала от неё лишь с десяток слов, никак не могших что-либо рассказать о прошлом настоятельницы. Впрочем, нужны ли слова, когда дела важнее?
Марья кинулась собирать детей в дорогу. Мишаня, ушедший вместе с игуменьей, вскоре вернулся с корзинкой какой-то снеди, уложенной матушками-поварихами. От волнения Марью кидало то в жар, то в холод. Почти одетый Стёпка расшалился, бегал из угла в угол, уворачивался от матери до тех пор пока не получил несколько шлепков по заду. Теперь он сидел на своей лавке и отчаянно ревел. В общем, отъезд получался на славу.
Тот же монах вошёл к ним в келью, всё так же молча принял на руки враз утихшего Стёпку, подхватил баул с вещами и вывел их на двор. Двое крытых саней уже ожидали их, на облучках сидели монахи-возницы. Один соскочил на снег, откинул полсть, помог Марии протиснуться внутрь.
Возок, ныне предоставленный им, не шёл ни в какое сравнение с тем пыточным приспособлением, на котором Мария прибыла в обитель. В довершение чуда на днище возка обнаружился небольшой клёпаный ларь, в который были уложены два прогретых в печи кирпича. Мишаня, успевший исследовать содержимое ларца, теперь сосредоточенно дул на обожжённые пальцы. «Но!» — возки потянулись один за другим и, миновав распахнутые ворота, выехали в поле. Марья, с трудом оттянув полсть, жадно прильнула к щели. С другой стороны кибитки в свою щёлку глядел Мишаня. Лошадки бойко преодолели открытое пространство, дорога завела в лес, вначале редкий, затем всё более густевший.
«Тпру-у-у» — вскричал возничий Марьиной повозки. Кибитка, дрогнув, остановилась, кто-то торопливо стал расшнуровывать внешние завязки полсти, затем в лицо ударил яркий дневной свет, и прозвучал родной, знакомый до последнего звука голос: «Марьюшка, я вернулся…»
Когда улеглась радостная неразбериха, главенствующую дудку в которой играл Мишаня, рвавшийся из повозки на волю, к отцу на шею, и оравший что-то невообразимое; когда Марья отрыдала своё, бабье-счастливое, а оба младшеньких чуть успокоились и перестали в два голоса заливаться от испуга; Одинец смог чуточку прийти в себя. Дед Никифор, неведомо как очутившийся в общей куче тоже вносил в сумятицу свою немалую лепту, хватая и целуя попеременно всех маленьких одинчат. Старик, видимо, перешёл в жизни ту грань, до которой мужчины не плачут, и вовсю блестел слезами радости на глазах.
— Вот она, моя семейка, — Одинец, смеясь, оборотился к священнику, всё время встречи державшемуся поодаль. — Марья, это — отец Алексий, по-прежнему — послушник Семён, про которого я тебе когда-то рассказывал. Ну, а теперь — наш благодетель…
Лицо молодого монаха вспыхнуло, и он даже попытался слабым жестом остановить Марью, опустившуюся на колени прямо в снег и отбившую ему земной поклон. Несколько смущённый чистосердечием жены, Одинец помог Марье подняться.
— Вот, батюшка, — сказал он, разводя руками как бы в неловкости и недоумении, — теперь ты, почитай, причислен к лику святых. По крайности в нашем доме…
И, видя, что Алексий тоже смущён этим искренним выражением благодарности Марии, добавил:
— А там и до общерусского иконостаса недалеко. Лиха беда начало!
Ещё несколько часов до самого обеденного времени обе повозки ехали вместе. Одинец с дядькой, оба верхом на конях, рысили сзади. Александр, надевший на себя все имевшиеся в наличии доспехи — большую кольчугу с зерцалами по груди, наручи и даже единственную поножь на левую ногу — выглядел очень внушительно. Дядька-кузнец удовлетворился шлемом-шишаком, но тоже олицетворял собой краткий девиз дорожных витязей «Не тронь — зашибу!». Правда, зашибать никого не приходилось. Что было особенно отрадно обоим.
Марья, разомлевшая в тепле кибитки, крепко спала; спали и дети.
На одной из развилок дорог Алексий остановил свои шедшие первыми сани. Вылез прощаться.
— Вот и расходятся опять наши пути, — сказал он спрыгнувшему с коня Одинцу.
— Бог даст, свидимся. Эта, что ли, дорожка на Смоленск?
— Бог даст, Бог даст… Ты как, не изменил решения?
— Нет. Нам пути в свою деревню нет. Так что — в Смоленск, а далее — в Новгород. Поживём, посмотрим, с чем новгородскую вольницу едят. Да мы то — что! Мы устроимся. А вот тебе-то, пожалуй, не поздоровится: всё равно прознает владыка митрополит, как ты себя за его посланца выдал.
— Конечно, прознает. Да я и ждать не собираюсь, поеду к нему виниться.
— Турнёт ведь из игуменов…
— Опять глаголешь неблагопристойно. Не турнёт, а — отставит от игуменства. Буду проситься простым черноризцем в Благовещенский монастырь.
— А ну как и Иван Данилович осерчает на тебя?
Монах вздохнул:
— Опять ты за своё! Что теперь баять, когда сужено-пересужено? Как ты за себя решил, так и я за себя. Не говорил я тебе, сейчас скажу: третьего дня мне покойный учитель снился. Будто иду я каким-то лесом и у меня дети на руках. Не пойму, один или два… ребятёночки такие малые, вроде твоих. И иду я не один. Сначала и не понял с кем. И всё стараюсь спутнику своему в лицо заглянуть. А вокруг ветер, и треск, и воет кто-то по-звериному. Но спутник мой вдруг останавливается. Гляжу — это же отче Нифонт! И он мне так улыбается… И рукой вроде как показывает — «дальше иди!» Так что, не я решил, учитель наставил.
— Врёшь ведь, святой отец.
— Не груби отцу. Не вру, а привираю. Ну, давай обнимемся.
— Дай руку поцеловать, отче.
— Не заслужил ты ещё…
Повозки разъехались, но, оглядываясь, Одинец видел как Алексий, откинув полог, часто и мелко крестил их, пока его возок не съехал с косогора и не пропал с глаз.
Эпилог
В самом начале первой мартовской оттепели, запаздывавшей в эту весну, к полуденной городской заставе Новгорода подъехала крытая повозка, сопровождаемая вооружённым верховым. Город, уже несколько часов маячивший на горизонте, теперь приблизился и неистово сиял многочисленными луковицами своих храмов.
— Вот, наконец, и добрались! — сказал всадник.
— Аж и не верится, — откликнулся второй, старый, натягивая вожжи и останавливая возок, — а это что — Святая София?
Он указал узловатым коричневым пальцем на особенно внушительный приземистый купол.
— Наверное. Приедем, разберёмся на месте. Главное, добрались!
— Охо-хо! Что-то ждёт нас в этом твоём Новгороде? — старик в крепком сомнении покачал головой.
— Не журись, батя! Живы будем — не помрём! Работка в руках есть, глаза глядят, чего ещё надо?! Кстати, помнишь, я рассказывал тебе о рукописи, за которой меня Иван Данилович в Тверь посылал?
— Это которую у тебя тверской пристав отобрал да по морде дал?
— Ага! Нако вот полюбуйся! — молодой всадник вытащил из-за пазухи продолговатый сверток и, развернув холст, показал старику свёрнутую пергаментную трубочку. Старик недоумённо поглядел на неё, молодой весело засмеялся: — Представляю, какая рожа была у Степана Игнатьевича Самохвала, сто лет ему такой жизни, когда он обнаружил, что у его древней рукописи только первый лист настоящий, а остальное — моя портянка!
— Дорого стоит? — деловито и заинтересовано спросил старый.
— Бесценная. Но продавать мы её ни в жизнь не будем! Пока не припрёт. А перевод я с неё всё же обязательно сделаю.
— Ладно, — старик вытащил что-то из-за голенища вконец рассыпающегося валенка: — Вот, ножичек продадим. Всё ж золотой!
— А как же память об той мурзаихе? Ведь жалеть после будешь…
— Не буду. Украл я энтот ножичек у неё. Как сбежать собрался, так и свистнул тесачок. Хорош, а?
— Это что, батя, получается: мы с тобой воры?!
— Прежде думал, что только я среди нас вор. Честно скажу, нехорошо себя даже чувствовал, неудобно. А теперь вижу — яблоко от яблони недалеко катится.
— Вот прикатились: сейчас станем грабить этот святой город. Ты с молоточком, я с кувалдой. Тюк-тюк. Кому вилки-ложки-сковородки?!! Налетай, подешевело. Московская работа…
Молодой легонько постучал по крыше возка:
— Эгей, кузнечата… Глядите: Новгород… Великий Новгород! Вольный город!

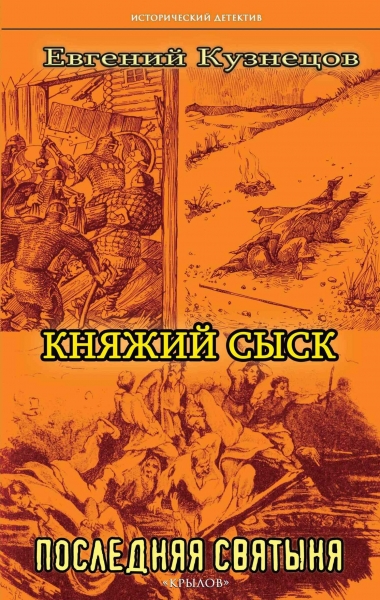
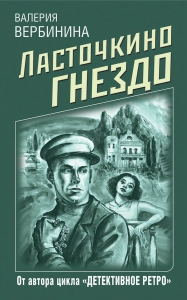

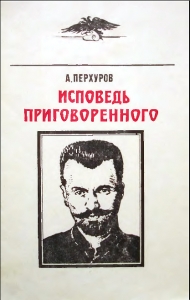




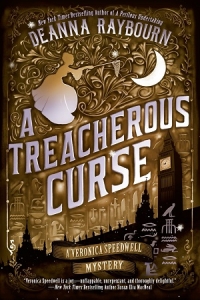
Комментарии к книге «Последняя святыня», Евгений К. Кузнецов
Всего 0 комментариев