Валерия Вербинина Похититель звезд
Пролог
Они сидели на вокзале. Мимо них катился мутный поток пассажиров первого класса – женщины в шелестящих платьях и легкомысленных шляпках, мужчины, излучающие солидность, чинные дети, горничные с собачками в руках, немолодые дамы, громко переговаривающиеся по-французски. Мария смотрела на шляпки, на длинные, до локтя, перчатки женщин, и сердце ее замирало от восторга. Ах, какая вуалетка с цветными мушками – как смело, как очаровательно! А полосатый турнюр – ведь всем известно, что в мире нет ничего капризнее полосок, но как он сшит, как божественно смотрится, сразу же выделяя его обладательницу среди окружающей толпы!
Мария услышала сухой кашель и оглянулась на брата. Алексей взглядом указал на окно, которое только что открыл высокий благообразный лакей. Его хозяйка, туго схваченная черным платьем монументальная особа, обмахивалась веером и плачущим голосом жаловалась на духоту соседке, худощавой даме с мышиного цвета волосами. Мария покраснела и поднялась с места.
– Я скажу им, – проговорила она и направилась к монументу в черном.
Алексей отвернулся. Кашель все не отпускал его, клекотал где-то в горле, но неимоверным усилием поэту удалось справиться с собой. Он не хотел показывать свою слабость, особенно здесь. Суета и толкотня, царившие вокруг, раздражали его, но еще более раздражали люди. У молодых женщин были лица содержанок, а старые не вызывали ничего, кроме омерзения. Что же до мужчин, то все они чем-то неуловимо походили на его бывшего полкового командира, который всегда жаловался на тяжелые времена, и чем больше он жаловался, тем богаче становился его дом, тем наряднее одевалась его супруга. Алексей ненавидел вспоминать об армии. Он почувствовал, как новый приступ кашля подкатывает к горлу, но тут, к счастью, вернулась Мария. Алексей поглядел на лакея и увидел, что тот закрывает окно.
– Госпожа Садковская просила извиниться, она не знала, что ты болен, – сказала сестра. – Она еще спросила меня, не поэт ли ты Нередин.
– Я надеюсь, ты ей не сказала, кто я? – довольно резко спросил Алексей.
Мария обиженно покосилась на него.
– Нет, Алеша, ну право же…
– Я не желаю ни с кем общаться, – зло выпалил Алексей, и его щеки окрасились кирпичным румянцем. – Сколько раз тебе повторять? Я болен и не хочу, чтобы меня тревожили.
– Я ничего ей не сказала, – пробормотала Мария. Она чувствовала себя виноватой, хоть и не знала, в чем именно ее вина; и все же это неотвратимое, гнетущее ощущение не отпускало ее. Алексей дернул щекой и допил воду из стакана, стоявшего перед ним на столе.
– Да-да, конечно, я понимаю, – саркастически промолвил он. – Я должен делать вид, что ничего особенного не происходит, что моя болезнь – так, досадное недоразумение. Мне полагается улыбаться и заверять всех, что месяца через два-три, самое большее через полгода, все будет в порядке. А между тем я вовсе не уверен, что через полгода не буду лежать в земле, к вящему удовольствию своих наследников.
– Алеша! – Мария была готова заплакать, ее губы дрожали.
– Я вовсе не тебя имел в виду, – устало сказал брат. – Просто у меня нет сил, да и желания, изображать из себя героя. Я очень болен, Маша, и мне не до всех этих глупостей в театральном духе. Легко говорить, что надо быть стойким и терпеливо переносить несчастья, когда сам ты сыт, доволен и не кашляешь кровью каждый день. Я и сам когда-то думал, что… – Он умолк. – Впрочем, неважно. Теперь все уже неважно.
Алексей ссутулился в кресле и опустил глаза.
«Боже мой, – мелькнуло в голове у Маши, – ведь он меня ненавидит! Он всех нас ненавидит – и меня, и Федора». Федор был ее мужем, и сейчас его полк стоял возле Курска. Он не хотел, чтобы жена уезжала в столицу ухаживать за заболевшим братом, но в конце концов Мария переубедила его. Нет, Федор всегда с пониманием относился к Алексею, просто ему не хотелось отпускать жену. Да и потом, он был уверен, что болезнь Алексея – блажь, пустяк и вообще всему виной петербургский климат, но ежели в столице от каждой простуды «караул» кричать, то голоса не хватит.
Многое бы изменилось, если бы она приехала раньше? «Многое», – сказала себе Маша. Алексей никогда себя не берег, и если бы она заставила его раньше пойти к врачам, то, может быть… может быть… Но что теперь толку гадать, если диагноз – чахотка – уже поставлен и подтвержден, если драгоценное время упущено. И в нынешнем состоянии больного не остается ничего, кроме как поехать на юг Франции, в санаторий, и надеяться, крепко надеяться, что болезнь отступит, что недуг окажется не таким страшным, как они думали, что все каким-то непостижимым образом устроится и ее брат останется в живых. Только останется в живых – о большем Маша не осмеливалась и мечтать. «Я буду молиться за него», – подумала она, и ей стало немного легче.
На сидящих наплыла, щекоча ноздри, волна флердоранжа. Поэт поднял голову. Какая-то красивая дама в сопровождении горничной только что прошествовала к выходу, четверо слуг несли за ней громоздкий багаж. Алексей покосился на Марию. Он не был особым знатоком женской моды, но сейчас его отчего-то резануло, до чего провинциальной кажется его сестра по сравнению с петербургскими вертихвостками. Ах, Маша-Маша, вечно она одевается то в серое, то в черное, немаркое и безвкусное! Хотя он же дал ей деньги, все, что получил от последнего издания «Огненной башни», – огромную сумму, несколько тысяч рублей[1]. Но у нее невыносимая манера все припрятывать, благодарить и уверять, что ей ничего не нужно, что она обойдется. Просто невыносимая! А в конце концов деньги окажутся в руках ее мужа, тупоголового непрошибаемого здоровяка, который тайком просадит их в карты, а жене опять скажет, что неудачно вложил деньги. И Маша снова сделает вид, что поверила, и не станет задавать никаких вопросов. Интересно, как скоро зять спустит наследство Алексея, когда он умрет?
– Ты к нам несправедлив, – тихо проговорила сестра, и Алексей вздрогнул, словно она могла угадать его мысли. – Если бы ты знал, как Федор ценит твои стихи! Он от них в восторге. И, мне кажется, некрасиво…
Маша говорила что-то еще, но Алексей перестал слушать.
Сам-то он отлично помнил, как Федор, тогда еще жених его сестры, с невыносимой фамильярностью спрашивал у него: «Ну, батенька, когда вы бросите заниматься этой чепухой, виршами вашими?» Они все хотели, чтобы он ничем не отличался от прочих; и суровый отец-полковник с тяжелой (о, какой тяжелой!) рукой, и мать, которая почти не разговаривала с родными, только целыми днями читала французские романы, и робкая, всегда со всеми соглашающаяся Маша, и теперь еще этот самоуверенный, чугуннолобый тип. И то, что Алексей вопреки всем им добился известности, а затем и большого, настоящего успеха, поразило и озадачило их. И отца, который перестал с ним разговаривать с тех пор, как сын отказался от карьеры военного, и мать, которая всем любопытным отныне со вздохом говорила, что Алексей возгордился и не желает знать родителей, и Машу, которая не знала, как себя с ним держать, и Федора, который прежде в глубине души считал брата жены ничтожеством, что его в принципе вполне устраивало, потому что позволяло воображать себя самого о-го-го каким молодцом. Еще вчера Алексей был хорошо им понятный и, скажем прямо, вполне заурядный человек, член их семьи, а сегодня его портреты печатают журналы, его стихи читают со сцены, и автору прочат славу продолжателя славных поэтических традиций российской словесности, маститые литераторы и литераторы не без таланта пожимают ему руку, зовут собратом, осыпают похвалами… А вслед за славой приходят деньги, вслед за деньгами – женщины. Ах, как судачил в году 1886-м Петербург о его романе с певицей К.! И едва ли не прежде, чем он покупал ей пять дюжин белых роз, которые она любила, весь город уже знал, сколько именно цветов он ей пошлет. И вот все это ушло, и остался только безнадежно больной человек, который едет во Францию умирать…
– Алеша, – проговорила Мария, – ты слышишь меня? Твой поезд сейчас подадут.
Он очнулся от своих невеселых размышлений и сделал попытку улыбнуться. Попытка не удалась.
– Извини. Я думал о…
Сестра положила руку в перчатке на его рукав. Перчатка была залатана, и Алексей разозлился. Боже мой, сколько денег он потратил на эту К., которая обманывала его со всеми антрепренерами, вместо того чтобы помогать сестре! Как легко принимал на веру ее слова «Нам ничего не нужно», отлично зная, что нужно, очень нужно, причем сразу же, сейчас, потому что жизнь уходит, потому что второй молодости не будет, никогда, никогда, как и второй жизни!
– Все будет хорошо, – проникновенно сказала Мария. – Верь мне. Не зря же у доктора Гийоме такая репутация. Он обязательно поставит тебя на ноги.
Алексей не поверил. Он помнил еще, как однажды утром кашлял так страшно, что едва не задохнулся. Но сейчас посмотрел на лицо сестры – и у него не хватило духу разочаровывать ее.
– Я буду писать тебе, – неловко пробормотал он.
Некрасивое лицо Марии осветилось улыбкой.
– Ты мне пришлешь свои новые стихи? Да?
– Обязательно, Маша.
Подошел служитель, напоминая о том, что поезд уже прибыл. Алексей поднялся. В последнее время, когда он вставал с места, у него на долю мгновения темнело в глазах, но сейчас он пересилил себя и улыбнулся. Сестра с тревогой смотрела на него.
– Наверняка там будет ужасно скучно, – проговорил поэт. – И мне придется пить ослиное молоко.
Он искал, что бы такое сказать в прощальные минуты, быть может, самые важные в его жизни, и ничего не приходило ему в голову.
– Ты позаботишься о Трезоре? – наконец спросил он. Так звали его собаку, подарок той певицы, которую он когда-то любил и воспоминание о которой теперь не вызывало у него ничего, кроме горечи.
Мария кивнула:
– Я заберу его домой. Мы уже говорили об этом. Когда ты вернешься, я тебе его отдам.
«Я не вернусь, – обреченно подумал Алексей. – Вернее, вернусь, но то, что вернется, будет уже не я».
Он закашлялся и, опираясь на руку сестры, медленно зашагал к выходу из зала ожидания первого класса. Монументальная дама в черном прервала животрепещущий разговор о театральных премьерах, недавнем затмении, смерти богемского кронпринца Руперта и непокорном молодом поколении, чтобы проводить Алексея пристальным взглядом.
– Как хотите, – сказала она худощавой даме, – но готова поклясться, что это именно Нередин. Я его видела однажды в опере, и вы знаете, рядом с ним была такая особа… Ни за что я бы не хотела оказаться на ее месте! Про нее такое говорят…
Худощавая дама механически кивнула, а про себя подумала, что если бы даже ее собеседница очень захотела, то все равно не смогла бы занять место К.
– Что-то он неважно выглядит, – заметила она.
– И не говорите! Вы тоже заметили? – подхватил «монумент». – Ходили слухи, он дрался из-за нее на дуэли. Вот я и думаю, что даром для него это не прошло, хоть он и бывший офицер… А вы читали его стихи? Я его «Северные поэмы» просто обожаю! – И без перехода: – Интересно, что за дама была с ним? Сама с обручальным кольцом, а он не женат…
Так под аккомпанемент толков и досужих сплетен продолжатель поэтических традиций нашей словесности уезжал из России. Впереди, впрочем, его ждали куда более интересные события, чем он мог себе вообразить.
Глава 1
Перестук колес. Свист пара из трубы локомотива.
– Остановка десять минут! Буфет!
Но ему не хочется ни пить, ни есть, и даже название станции ничуть не интересно. Просто глупый перрон, по которому ходит глупый важный жандарм, суетятся носильщики и снуют бестолковые пассажиры. А в окне зала ожидания сидит пестрая кошка – вся в бело-рыже-черных пятнах – и с любопытством смотрит на поезд. Тяжелая дрема наваливается на Нередина.
…Три звонка, лязг, тряска, перестук колес. Попутчик с дамой. Еще бы ничего, но даме душно, и она требует открыть окно. Мол, август нынче такой жаркий, такой тяжелый…
– Сударыня, прошу прощения… Я болен, видите ли… и… словом…
Почему он извиняется? К чему весь этот балаган, неужели по его нездоровому, типично чахоточному румянцу и по одышке не видно, в чем дело? Но молодая и, в общем-то, красивая дама смотрит на него с нескрываемой злобой, даже с гадливостью, словно он представляет для нее нешуточную угрозу или только что смертельно оскорбил ее. На следующей остановке она принимается вполголоса пилить своего спутника, и еще через четверть часа парочка переселяется в свободное купе.
Оставшись один, поэт вновь проваливается в сон. Будит его стук отворяемой двери.
– Ах! Вы Алексей Нередин, не правда ли? Я узнала вас! Вообразите, мы уже встречались! У Мими на вечере, помните?
Черт возьми, поклонница! Он разом стряхивает с себя остатки дремы. Мими – это К., самое лучшее и, может быть, самое худшее воспоминание его жизни, но только что вошедшую трещотку у нее он точно не встречал. А дама уже уселась напротив него и взяла в осаду по всем правилам. Здесь и хлопанье ресницами, и нарочито наивные вопросы, и намеки на обстоятельства его личной жизни… Пару раз она даже цитирует его стихи, чем заставляет Алексея окончательно их возненавидеть.
Почему, ну почему он так не любит своих поклонниц? Ведь, если говорить по справедливости, разве не они покупают его книги, не они жадно дожидаются новых строк, что выливаются из-под его пера, не они шлют ему пылкие признания в любви на шести страницах (порою с грамматическими ошибками в каждой строке)? Разве не благодаря им в итоге он, бывший поручик пехоты, получил наконец возможность жить если не по-царски, то хотя бы по-человечески, закатывать роскошные обеды для друзей-актеров и писателей, давать бедствующим поэтам деньги в долг, пользоваться любовью К. и дружить с самыми умными и талантливыми людьми столицы? Однако факт остается фактом: Алексей терпеть не может своих преданных почитательниц. Ему претят их преувеличенные восторги, их экзальтированность, их потные руки, которые так и норовят вцепиться в него. Претит их преклонение перед его стихами при полном непонимании поэзии, их поверхностность, их непременное желание, чтобы он и только он указал им какую-то дорогу, дал ответы на те вопросы, которые даже толком сформулировать невозможно: что есть жизнь, что ждет Россию в будущем и куда вообще катится мир?
Вначале это забавляло его, но потом стало раздражать. Когда-то он и впрямь считал, что поэт обязан указывать человечеству путь (куда – вопрос другой) и служить неким идеям; однако теперь он вовсе не был уверен, что человек, занимающийся литературным трудом, должен быть еще и философом, публицистом и по совместительству критиком существующего строя.
Последние недели, когда Алексей хворал и все время лежал в постели, он только и делал, что читал стихи – самые разные, от Тредиаковского и Державина до современников, большинство из которых знал лично; и его неожиданно поразило, до чего жалкими выглядят как неумеренные восхваления, так и гневные обличения – вне зависимости от того, что их вызвало. Не лучше дело обстояло и с самыми прогрессивными, самыми положительными идеями; спору нет, до отмены рабства (которое стыдливо именовалось крепостничеством) все громы в его адрес казались ужасно смелыми, но сейчас они выглядели на редкость куце и беспомощно. Вся беда в том, подумал Алексей, что история не стоит на месте и идеи, донельзя актуальные сегодня, через десяток-другой лет выглядят уже милой нелепостью; но и через сто, и через триста лет люди по-прежнему будут любить друг друга, и оттого «Шепот, робкое дыханье…»[2] скажет им куда больше, чем сотни обличительных строк какой-нибудь некрасовской поэмы. Потому что прошлое мертво и предано забвению; читателю интересно лишь то, что лично ему говорит тот или иной текст, и ему так же мало дела до высоких мотивов автора, как и до него самого. Каждый хочет найти в чужом стихотворении, поэме, романе лишь себя, свои незатейливые проблемы и неглубокие чувства, которые кажутся ему самыми важными на свете; и, если он встречает в этом лабиринте слов подобие своего отражения, он готов признать автора гением, а если нет – отказывает ему даже в намеке на талант.
Алексей вспомнил критическую статью, которая на днях появилась в одном из журналов, куда он необдуманно отказался посылать свои стихи, – уж в ней-то определенно утверждалось, что таланта у него нет и не предвидится. Статья была отточенно-язвительная, как и все, что писал знаменитый критик Емельянов. Маша, добрая душа, пыталась спрятать ее от брата, но к нему заглянул приятель – просить денег в долг – и проговорился. Алексей прочитал дышащие ядом и недоброжелательностью строки и пожал плечами – после выхода нашумевшей «Деревянной России» ему доводилось читать и не такое. Но отчего-то сейчас, когда он вспомнил о Емельянове, ему сделалось трудно дышать и в груди словно образовался плотный ком, мешающий сердцебиению. Он достал платок и украдкой вытер лоб.
– Я читала, – щебетала меж тем попутчица, преданно заглядывая ему в глаза, – будто вы сказали, что в России все поэты делятся на две категории: на Пушкина и на всех остальных. Скажите, вы это серьезно? Ведь на самом деле Пушкин ужасно груб! Да и стихи его, по правде говоря, простоваты…
Терпение Алексея истощилось, он извинился и выскользнул из купе. Встретив кондуктора, поэт сунул ему в руку бумажку и попросил пересадить его в другой вагон, объяснив, что у него болит голова.
А ведь другие поэты еще завидуют мне, думал он с горечью, когда кондуктор исхитрился-таки освободить для него целое купе и Нередин смог наконец остаться один. О, эта яркая манящая заплата, именуемая славой, – заплата, которая любое ветхое рубище превращает в королевскую мантию![3] Но к чему притворяться, к чему строить из себя моралиста? Разве не мечтал он сам об этой самой славе, когда был поручиком? Разве не грезил о ней, исписывая целые тетради первыми, еще беспомощными, стихами? Ни один поэт, ни один писатель не пишет для того, чтобы остаться безвестным; литература – не та профессия, где можно просто работать как все, не требуя признания, и быть довольным своей жизнью. Он не чиновник, не штукатур, не возчик, а поэт; он не может существовать без публики, без читателей и почитателей, и если часть их оставляет желать лучшего – что ж, таковы издержки славы; и если критики нападают на него даже сейчас, когда он устал и смертельно болен, – это тоже издержки славы, и, может быть, даже в сто раз хуже, чем самая бестактная из почитательниц. Он вспомнил слова из статьи Емельянова – «пишущий господин, который мог стать известным лишь в наше поэтическое безвременье» – и дернул щекой.
Состав замедлил ход – они подъезжали к границе. По соседним путям бойко прогрохотал нарядный поезд, летящий на всех парах в обратном направлении, и у поэта сжалось сердце. «А ведь все это в последний раз, – подумал он. – И мое путешествие – тоже последнее; когда меня наконец повезут обратно, я уже ничего не увижу, ни вон той погнутой березы, ни синичек на телеграфных проводах – ничего». Он чувствовал себя опустошенным, словно вынутым из жизни, как если бы душа настоящего Нередина осталась где-то далеко, в окутанном туманами Петербурге, отдельно от него, в то время как его тело, его оболочка продолжала свой путь туда, откуда уже не будет возврата. «А у Емельянова наверняка отличное здоровье… – с внезапной злостью подумал он. – И уж верно, именно он первым тиснет прочувственную статейку, когда меня не станет. Еще и будет врать, как он ценил мой талант, – с него станется».
Почему-то сразу же на память пришла последняя встреча с К. Алексей хотел, чтобы она проводила его на вокзал, но ей было некогда даже говорить с ним – беседовала с какими-то хлыщами. И только когда он уходил, весело-сердечно бросила ему: «Поправляйтесь!» И доктор Ермолов, пряча глаза, тоже обнадеживал его, что в тамошнем климате, да при надлежащем уходе… Но зачем обманывать себя? Все началось еще в армии, в той самой проклятой армии, куда он пошел по настоянию отца. Скверное обмундирование, вороватые физиономии подрядчиков… Там-то он и простудился первый раз и запустил болезнь, которая затаилась, выжидая своего часа, и лишь на двадцать девятом году жизни взорвала его изнутри. Однако Лермонтову было суждено еще меньше, двадцать семь, а Пушкину всего лишь тридцать семь. Благосклонна смерть к поэтам – ничего не скажешь…
Вздор, одернул себя Алексей, ничто же не помешало Тютчеву прожить с толком все семьдесят лет, а ведь он тоже поэт не последний; Плещеев, Майков, Фет, Полонский вполне себе живы и здравствуют, и даже стихи пишут, хотя им под шестьдесят и за шестьдесят; и только он, Нередин, попался так нелепо, так глупо… И, тоскуя, он стал вспоминать все, что было в его жизни, все, чего в ней не было, то, чего ему удалось достигнуть, то, что так и не успел сделать и что теперь, наверное, ему уже не удастся наверстать. Он никогда не испытывал потребности в семейном уюте, но теперь ему было безумно жаль, что у него нет ни жены, ни детей, которые носили бы его фамилию. Он не написал многое из того, что хотел, слишком мало был любим, слишком сильно любил тех, кто не дорожил им, и так и не увидел Италию, где мечтал побывать всю свою жизнь. Юность его съела нужда, а остаток прикончила суета. И еще он внезапно осознал, что никогда толком не видел моря. У него даже не было стихов, посвященных этой стихии, – все поэтические бури, шквалы и ураганы прошли мимо него. Само собою, он бывал на берегу Финского залива, но южные моря с их аквамариновыми волнами и великолепием красок так и остались для него недосягаемы. И отчего-то в то мгновение именно это показалось ему особенно обидным и несправедливым.
Глава 2
Оно было сапфировым, лазоревым, восхитительным. Над водой с криками носились чайки, а вдали на волнах покачивался белоснежный парусник, шедший к Монако. Слева за мысом были видны еще несколько лодок, и солнце щедро поливало морскую гладь расплавленным золотом.
«Вот он, белеет парус одинокий… – угрюмо размышлял поэт, сдвинув шляпу на затылок. По шее и по вискам струился пот. – Итак, здравствуй, свободная стихия[4]. Ну и что, что море, ну и что, что Средиземное? Скучно. В сущности, неинтересно. Похоже на безвкусную акварель неумелого художника. И эти яркие краски, пальмы, брр… – Он поежился. – Зелень какая-то неживая. – Он проводил взглядом островерхий кипарис, попавшийся им по пути. – Слишком много всего. Кипарис – дерево смерти… так считали древние. А впрочем, не все ли равно, где умирать?»
Коляска, управляемая умелым возницей, ехала вдоль берега под ровный перестук подков. Алексей снял шляпу и платком вытер лоб. Наедине с собой ему становилось совсем уж невыносимо. О чем бы ни думал, мысли его неизменно возвращались к одному и тому же.
– Много сейчас больных в санатории? – спросил он у возницы на вполне сносном французском.
– О да, месье, – откликнулся тот. – Тех, что живут постоянно, человек тридцать, и еще доктор принимает у себя. Да вы и сами все увидите.
– А русские среди них есть? – быстро спросил Алексей. Ему вдруг показалось невыносимо, что он умрет в чужой стране, среди совершенно посторонних людей, не видя ни одного соотечественника и не слыша родной речи.
– Русские? Конечно, месье. Заведение доктора Гийоме всем прекрасно известно. Сейчас в санатории две дамы из России. Одна, кажется, художница, а вторая… – Возница на мгновение задумался, подбирая слова, которыми можно было ее поточнее охарактеризовать. Наконец нашел: – Вторая – настоящая дама.
«И зачем я приехал сюда? – обреченно помыслил Нередин. – Ведь ясно же, что все это совершенно бесполезно».
Коляска завернула направо и подкатила к дому в два этажа, выкрашенному в белый цвет. Слуга, стоявший возле дверей, помог поэту выйти, другой принял его багаж.
– Прошу вас, месье… Сюда.
Высокий прохладный холл, лестница на второй этаж, двери, двери… Из-за одной вырвался раскат женского смеха, и Алексей невольно вздрогнул.
Нет, не таким он представлял санаторий, совсем не таким.
Всюду светлые краски, со вкусом подобранная мебель, статуи… положим, гипсовые копии, но все равно, оставляющие очень приятное впечатление. Казалось, он попал не в санаторий для чахоточных, над которым витала незримая темная птица-смерть, а на виллу к радушному богачу-меценату – одному из тех, которые не знают, куда девать свои деньги, и со скуки вкладывают их в искусство и литературу.
– Сюда, месье, – повторил слуга, отворяя дверь. – Вот ваши комнаты. Доктор Гийоме примет вас через несколько минут. Я зайду за вами.
Он сделал знак второму слуге, который нес багаж, и вышел.
– Вам помочь, месье?
Нередин ответил, что справится сам, и второй слуга тоже удалился, оставив его одного. Алексей осмотрелся. Ореховая мебель, удобные кресла, на стене – натюрморт с цветами. Из комнаты-гостиной дверь вела в спальню, и он остановился на пороге, глядя на кровать. Значит, здесь его и постигнет смерть…
Он подошел к окну. Так и есть – отсюда видно все то же невыносимое Средиземное море. Только здесь оно казалось хмурым и неприглядным; возможно, виною тому были торчащие там и сям крутые скалы, о которые бились сердитые темные волны.
«А у моря-то, оказывается, два лица», – с неожиданным удовлетворением понял поэт. Он подумал, что это могло бы стать неплохой темой для стихотворения (как и все пишущие люди, во всякой мысли, во всяком происшествии он видел прежде всего тему для сочинения и уже потом – собственно мысль или происшествие), но перед ним вновь возникло лицо той глупой дамочки из поезда, которая считала стихи гениального, неповторимого Пушкина простоватыми. Для кого сочинять? Для кого стараться? Для читающего стада? Пожав плечами, Алексей отошел от окна. «И потом, море – слишком заезженная тема».
Вошел слуга и, почтительно поклонившись, доложил, что доктор Гийоме ждет господина Нередина.
Они спустились на первый этаж, и слуга ввел Алексея в просторный, ярко освещенный кабинет. При появлении поэта человек, сидевший за столом, поднял голову.
Доктору Пьеру Гийоме было около сорока пяти лет. Резкие черты лица, черные живые глаза и черные же волосы. Быстрым взором он окинул своего нового пациента и поднялся из-за стола.
– Благодарю, что вы предупредили телеграммой о своем приезде… Можешь идти, Анри.
Слуга удалился, бесшумно прикрыв за собой дверь.
– Прошу вас, – сказал доктор.
В следующие полчаса он провел самый тщательный осмотр пациента. Однако тщетно Алексей пытался понять по его лицу, что именно доктор думает о его болезни, – Пьер Гийоме был совершенно замкнут и непроницаем.
– Что ж, – сказал он наконец, убирая стетоскоп, – разумеется, если бы лечение было начато раньше… Вы жили в Петербурге?
«Я живу в Петербурге», – хотел было ответить поэт, но поглядел на утомленное лицо врача, на круги под его глазами и понял, что поправка была бы явно лишней.
– Я… да.
Гийоме пожал плечами:
– В мои привычки не входит критиковать власти, да еще не моей страны, но если бы ваш царь Петр был на самом деле велик, он бы не раз подумал, прежде чем выбирать для столицы такое неподходящее место. – Доктор вернулся за стол и стал стремительным почерком писать что-то в карте больного. – Каждый год ко мне обращаются десятки ваших соотечественников… Чем вы болели в детстве?
Алексей перечислил, на ходу вспоминая французские названия болезней. Он оделся и застегнул рубашку, но не сразу смог справиться с запонками. Что-то доктор ему скажет о его болезни…
– А тех, кто по разным причинам не может обратиться, конечно, во много раз больше… – продолжал Гийоме и поморщился. – Прошу вас, сядьте, месье. Итак…
– А что, кроме русских, у вас нет других пациентов? – не удержался поэт.
– И англичане, конечно, – пожал плечами доктор. – Особенно женщины, потому что английские мужчины много занимаются спортом, а вот для женщин тамошний климат просто губителен. Впрочем, чахотка ведь не разбирает национальностей и сословий, ею болеют все, даже короли и принцы… Кстати, кто-нибудь из вашей семьи болел чахоткой?
– Никто, – ответил Алексей.
– Друзья, знакомые, слуги?
Но Алексей смог вспомнить лишь учителя в гимназии и одного сослуживца по полку.
– Когда вы впервые заметили у себя симптомы болезни?
Нередин подробно рассказал. Он был на даче… у знакомой дамы… и вдруг на него напал жуткий кашель. Поскольку незадолго до того он был простужен, то решил, что все еще сказывается простуда… Но на платке оказалась кровь. Потом он хворал, на него навалилась слабость… Приехала Маша, вызвала лучших врачей, и они сказали… сказали ему…
Пьер Гийоме рассеянно кивнул.
– К врачу надо было сразу же обратиться, – произнес он, глядя мимо поэта. – Сразу же, а не ждать… Итак, месье Нередин, – как и все французы, он делал ударение на последнем слоге, – мои условия вам известны. Вы живете здесь, я наблюдаю вас и лечу. Относительно платы мы уже условились…
– Скажите, – несмело начал поэт, – а разве я… разве я не смогу покидать санаторий?
– Вам сначала придется объяснить мне, для чего вы его покидаете и надолго ли, – отрезал доктор. – С вашими соотечественниками невероятно тяжело иметь дело. Я говорю одно, они делают другое… Я говорю: необходимо вести умеренный образ жизни, не гулять в дождь, не выходить на лодке в море – так нет, они делают все наперекор. И что в результате? А в результате наживаются гробовщики. Недавно еще я лечил одного вашего великого князя. Замечательно образованный человек, цитировал наизусть чуть ли не всего Мольера и Монтеня, но не соблюдал курс лечения. Я сказал: прекрасно, monsieur grand-duc[5], я умываю руки, потому что до конца лета вы не доживете. Он меня выгнал. Его жена со слезами вызвала меня обратно через некоторое время, но было уже поздно: он умирал. А ведь я предупреждал его! На той неделе его похоронили. Так что, если вы собираетесь своевольничать, месье, то можете даже и не начинать курс лечения. Я верну вам деньги, и на том покончим. Вы должны понимать: если я требую чего-то, то вовсе не для собственного удовольствия, а для того, чтобы вам же было лучше. В конечном итоге я делаю это для того, чтобы спасти вашу жизнь.
– Я ценю вашу откровенность, – пробормотал Алексей, – и у меня нет никакого желания вам перечить… Я готов лечиться так, как вы скажете. Но я хотел бы… хотел бы узнать… – Он замялся.
Доктор Гийоме взглянул на него, и улыбка тронула его губы.
– Понятно. Что ж, я не сторонник теории, согласно которой врач во имя каких-то высших соображений имеет право утаивать от больного сведения о его здоровье. Пациент должен знать, с чем ему придется иметь дело. Так вот… – Он нахмурился. – Если бы вы обратились ко мне на три или хотя бы на два месяца раньше, я бы сказал, у вас было шесть шансов из десяти.
– Остаться в живых? – прошептал Алексей, глядя на доктора во все глаза.
Гийоме кивнул.
– Именно. Сейчас время упущено, так что шансы поменялись: четыре из десяти. Это не много, но и не мало, учитывая ваш возраст и конституцию, так что выздоровление вполне возможно. Вы чем-то недовольны? – спросил он, заметив тень, которая промелькнула на лице поэта.
– Доктор Ермолов… – Алексей собрался с духом: – Доктор сказал… не мне, но моей сестре… что мне осталось жить не более полугода.
Пьер Гийоме пожал плечами.
– Ваш доктор Ермолофф – болван, – с восхитительным спокойствием промолвил он. – Можете при случае прямо так ему и передать от меня. Конечно, если вы будете бродить под дождем и объедаться мороженым, то все закончится даже быстрее, чем через шесть месяцев, но я не вижу смысла это обсуждать.
«Врет или нет?» – напряженно размышлял Алексей. Ему безумно хотелось верить, что для него еще не все потеряно, но он боялся быть обманутым. Он слишком свыкся с сумеречной тенью, которая следовала за ним повсюду.
– Впрочем, – добавил доктор, – вы должны быть готовы к тому, что выздоровление будет отнюдь не легким и займет длительное время, а в случае благоприятного исхода вам все равно придется беречься всю оставшуюся жизнь, чтобы не заболеть снова. И тем не менее я склонен думать, что все не так уж плохо. – Он снова улыбнулся, но его глаза оставались все такими же черными и непроницаемыми. Повернувшись в кресле, он резко позвонил и крикнул: – Анри! Позовите доктора Шатогерена, будьте добры!
Через минуту в кабинет вошел высокий брюнет средних лет с серыми спокойными глазами. Алексей неловко поклонился.
– Мой помощник Рене Шатогерен, Алексис Нередин, наш новый гость, – представил мужчин друг другу доктор Гийоме. – У меня есть еще один помощник, доктор Филипп Севенн, но наблюдать за вами пока будет Рене. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нему. Также в санатории достаточно слуг и сиделок, главная сиделка – мадам Легран, вы еще с ней познакомитесь… Да, Рене, что там насчет мадам Фишберн?
– Все, как вы и думали, Пьер, – отозвался второй врач. – Я даю ей морфий, но… – Он нахмурился и покосился на Алексея.
– Сколько? – лаконично спросил Гийоме. На Нередина он даже не смотрел.
– Четыре дня, самое большое – пять. Вам не в чем себя винить. Вы сделали все, что могли.
– Да, я сделал все, – угрюмо ответил Гийоме. – Но этого всего тем не менее оказалось мало. Филипп еще не вернулся?
– Он приедет с вечерним поездом. Да, и по поводу того итальянского священника… – Рене протянул Гийоме телеграмму. – Его задержал дядя-кардинал, так что он будет лишь в конце недели.
– Что ж, это выбор, – устало сказал доктор. – Сколько я им ни говорю, что болезнь не станет ждать, они все равно не желают меня слушать. С остальными пациентами все в порядке?
– Да, – подтвердил помощник, – но я бы попросил вас обратить внимание на мадемуазель Лоуренс. Она опять принялась гадать на картах, и это пугает больных.
– Очевидно, вам придется опять с ней побеседовать, – поморщился Гийоме. – Итак, месье Нередин, месье Шатогерен проводит вас к остальным пациентам. Среди них есть и ваши соотечественники, вернее, соотечественницы, так что, я думаю, вам у нас понравится. Всего доброго.
Глава 3
– Кто такая мадемуазель Лоуренс? – спросил Алексей у своего спутника, когда мужчины поднимались по лестнице.
– Мадемуазель Эдит Лоуренс – англичанка, – отозвался Шатогерен. – У нее небольшие проблемы с легкими, но ничего страшного. Она появилась тут несколько месяцев назад. Кто-то живет в санатории несколько недель, кто-то задерживается на годы, – пояснил доктор. – У всех по-разному.
– Я слышал, у вас живут несколько русских?
– Да. Госпожа баронесса Корф, очень любезная дама, и мадемуазель Натали, художница. Скажите, вы будете обедать со всеми в общей столовой или предпочитаете, чтобы еду приносили непосредственно к вам в комнаты?
– Наверное, я буду обедать со всеми, – подумав, сказал поэт. – Скажите, а у вас есть библиотека? Я очень люблю читать.
– Да, герцог Савари подарил нам свою библиотеку, – кивнул помощник. – Она вся в распоряжении пациентов. Также к нам привозят десяток газет на разных языках, чтобы пациенты чувствовали себя как дома.
– Герцог Савари? – заинтересовался Алексей. – Кажется, его дочь спас ваш… спас месье Гийоме?
– Да… Сюда, месье.
Они вошли в комнату, похожую на самую обыкновенную гостиную в большом доме. Да, впрочем, это и была гостиная. За маленьким столом с колодой карт сидела миниатюрная русоволосая девушка, а вокруг нее столпились трое или четверо человек. Возле окна на оттоманке устроилась красивая белокурая дама, которая рассеянно гладила лежащую на ее коленях серую кошку. Кошка блаженно жмурила зеленые глаза и тихо урчала от удовольствия. В углу за газетой сидел нахохлившийся рыжеватый юноша, и уже по брюзгливому, недовольному выражению его лица можно было с уверенностью сказать, что он настоящий англичанин. Молодой человек скользнул взглядом по вошедшим и отвернулся, но взоры всех остальных присутствующих незамедлительно обратились на них.
– А вот и вновь прибывший! – воскликнула девушка с картами. – Но он же не брюнет, а карты указывали на брюнета! – добавила она с разочарованием.
– Пустяки, Эдит, – возразил румяный молодой щеголь с военной выправкой, который стоял справа от стола. – Вы постоянно ошибаетесь.
Он улыбался, показывая белые зубы, и вообще выглядел как картинка, но одного взгляда на его румянец хватало, чтобы понять, что на самом деле щеголь серьезно болен. Сам он, впрочем, держался так, словно ничего такого не было и в помине.
– Я не могу ошибаться! – Девушка надула губы. – Карты показали брюнета… И смерть.
Рыжеватый англичанин с хрустом сложил газету.
– Миссис Фишберн, как всем известно, на самом деле очень плоха, – уронил он в пространство. – Но совершенно непонятно, зачем все время твердить о том, что она умрет.
– Я вовсе так не говорила! – возмутилась девушка. – Но карты…
– Мадемуазель Лоуренс, – вмешался Рене Шатогерен, – боюсь, мне придется серьезно поговорить с доктором Гийоме о вас. Дайте-ка сюда карты.
– Но вы же не станете вот так, сразу… – Эдит обиженно глядела на него; казалось, она была готова заплакать. Англичанин презрительно покосился на девушку и вновь уткнулся в свою газету.
– Нехорошо, месье Шатогерен! – поддержала подругу очень высокая, нескладная девушка, стоявшая слева от стола. Третья, темноволосая красавица с газельими глазами, ограничилась тем, что раскрыла свой веер и стала им обмахиваться.
Щеголь пожал плечами и тайком улыбнулся даме, сидевшей на оттоманке. Дама повернула голову, и Алексей оторопел. На мгновение ее карие глаза вспыхнули золотыми искрами, которые совершенно ослепили его; но это длилось всего какую-то долю секунды. Она потушила свой взор, опустила ресницы и вновь принялась гладить кошку. Почему-то красивая молодая женщина показалась Нередину похожей на сфинкса – что-то в ней было загадочное, необычное, непохожее на других. «Сфинкс с кошкой», – подумал он и улыбнулся.
– Так-то лучше, – сказал Рене, когда Эдит, собрав карты, отдала их ему. – Дамы и господа, с сегодняшнего дня у нас в санатории появился новый жилец. Это месье Алексис Нередин, русский литератор. Так что…
– Боже! – ахнула высокая девушка по-русски. – Вы Нередин? Алексей Нередин, поэт?
И не успел он опомниться, как она уже стояла возле него и по-мужски трясла его руку. Англичанин так поразился столь вопиющему отсутствию манер, что чуть не выронил газету.
– Потрясающе! Я так рада! В этом постылом месте! А я еще не хотела ехать сюда!.. – бессвязно восклицала девушка. – Вы один из моих любимых поэтов!
– Один из? – поднял брови заинтересованный Алексей. – А кто остальные?
– О, – покраснела его собеседница, – мне даже неловко… Пушкин, Некрасов, Надсон… и еще другие. – Она умоляюще посмотрела на него.
– Я в хорошей компании, сударыня, – успокоил ее Нередин улыбкой, – простите, не знаю вашего имени…
– Ах, простите, я не представилась! – заторопилась странная и нескладная молодая женщина. – Наталья Сергеевна Емельянова. Я пишу картины… я училась здесь, в Париже и еще…
Улыбка замерла на губах Нередина.
– Я знаю одного Емельянова. Сергея Емельянова. Он литературный критик. Скажите, вы не…
– А, так вы знакомы с моим отцом? – обрадовалась Наталья. – Ну, конечно же! Он пишет в основном о прозе. Кстати, недавно опубликовал статью о графе Льве Толстом…
«И о поэзии он тоже пишет», – хотел сказать Алексей. Но внезапно у него пропала всякая охота разговаривать с этой девушкой о чем бы то ни было – слишком еще свежи были в памяти оскорбительные нападки ее отца. Наталья все еще держала его за руку, но он молча высвободился и отошел к оттоманке. Белокурая дама смотрела на него с сочувствием, и поэт разозлился на себя. У него было такое ощущение, что совершенно незнакомая ему красивая женщина видит его насквозь и читает все его мысли, но, конечно же, это была лишь иллюзия. Шатогерен, который по интонациям незнакомой речи и по выражению лица поэта понял, что произошло что-то неприятное, тотчас же подошел к нему.
– Баронесса Амалия Корф, – поспешно представил он женщину с кошкой.
И баронесса повела себя как настоящая баронесса – протянула ему тонкую кисть для поцелуя, а не стала тискать его руку, как неотесанная мужичка. Кошка скосила на поэта свои узкие черные зрачки и отвернулась. Ей не понравилось, что ее хозяйка отвлеклась на какого-то совершенно неинтересного – с кошачьей точки зрения – человека вместо того, чтобы продолжать гладить ее, и она недовольно дернула кончиком хвоста.
– Мы не встречались с вами прежде, госпожа баронесса? – с надеждой спросил Алексей. – В Петербурге?
– О да, – улыбнулась Амалия. – На вечере у графини Шаховской. Вы еще читали свои стихи… в пользу погорельцев, кажется.
– Ах, ну конечно же!
Наталья Емельянова обиженно смотрела на него, прикусив губу. Вот они, мужчины! Всем им непременно подавай бездушных красавиц, да еще титулованных, и даже лучшие из них ловятся на эту нехитрую приманку… Однако почему поэт так странно отреагировал на известие о том, что критик Емельянов – ее отец? Неужели тот что-то написал о нем… что-то неприятное? Но ведь отец всегда, смеясь, говорил, что в поэзии он ровным счетом ничего не смыслит, для него что Пушкин, что Кукольник, что Минаев – все едино… Нет, наверное, какие-то сплетни их поссорили. Ведь известно же, до чего поэты – мнительный и обидчивый народ!
А Рене Шатогерен тем временем продолжал знакомить вновь прибывшего с обитателями санатория. Мисс (он упорно величал ее мадемуазель) Эдит Лоуренс… Виконт Шарль де Вермон, бывший военный. Мадемуазель Катрин Левассер… Мистер Мэтью Уилмингтон…
– Мадам Анн-Мари Карнавале. Месье Нередин, русский литератор…
Мадам Карнавале оказалась благожелательного вида старушкой с гладко зачесанными седыми волосами. Она тихо сидела в угловом кресле, и при входе в гостиную Алексей ее попросту не заметил. В ответ на приветствие поэта мадам Карнавале улыбнулась и сказала, что она очень высокого мнения о русской литературе и что месье Леон Толстой пишет почти так же хорошо, как месье Золя.[6]
Рене, видя, что новый гость уже освоился, сказал, что заглянет к нему после обеда, и удалился. Эдит Лоуренс спросила у Алексея, какие стихи он пишет и что он думает, к примеру, о Шекспире, но тут вошел Анри и объявил, что с утренней почтой прибыли свежие газеты и письма для постояльцев санатория. Все оживились. Мистеру Уилмингтону пришли целых четыре письма и два пакета, красивая баронесса Корф получила одно письмо, по одному получили также Шарль де Вермон и мадам Карнавале. На имя Эдит пришла телеграмма, которую девушка пробежала глазами и скомкала. Уилмингтон не стал читать свою почту в присутствии посторонних, а забрал письма, невнятно извинился и ушел к себе.
– Деловая корреспонденция, – пояснила, глядя ему вслед, Наталья.
– Что, простите? – резко спросил Алексей.
– Он наследник табачной фабрики, у него большое дело.
В тоне молодой женщины Нередин уловил недоумение. Она явно не понимала, отчего поэт, которым она открыто восхищалась, так резок с ней.
– Мне-то что за дело до этого? – холодно спросил Нередин.
И опять увидел устремленные на него золотистые глаза баронессы Корф, и опять его кольнуло как иголочкой тревожное чувство, что она видит его насквозь и что все ощущения его и мысли для нее как на ладони. У Натальи дрогнули губы. Она отвернулась и больше ничего не сказала.
Растворились двери, вошел слуга (не Анри, а уже другой) и объявил, что обед подан. Шарль де Вермон галантно подал руку Амалии, Нередин повернулся к Катрин Левассер – брюнетке с газельими глазами, но тут Эдит сделала обиженное лицо и объявила, что сегодня все настроены против нее, так что пришлось поэту взять под одну руку француженку, а под вторую – капризную юную англичанку, и так все направились в столовую. Шествие замыкали высокая нескладная художница, изо всех сил старавшаяся сохранить независимый вид, и спокойно улыбающаяся мадам Карнавале.
Глава 4
– Правда, очень странно, что вы не брюнет, – промолвила Эдит. – То есть я была совершенно уверена…
В столовой к пациентам присоединился и Мэтью Уилмингтон, очевидно успевший покончить с деловой перепиской. Всего в зале было три стола, и поэта порадовало, что компания, с которой он успел познакомиться, полностью оказалась за одним из них. Если быть откровенным до конца, он бы не возражал против того, чтобы Натали Емельянова отсела куда-нибудь за другой стол, например за тот, вокруг которого собрались несколько некрасивых женщин лет сорока, какой-то дипломат в отставке и худой костлявый старик. Ее присутствие раздражало Алексея, и он никак не мог заставить себя быть с ней любезным; но тут его закружила карусель общего разговора, и он почти забыл о ее существовании, тем более что поданный обед оказался отличным.
– Какие они несносные, эти англичанки! – вполголоса проговорила художница по-русски после того, как Эдит вернулась к своей излюбленной теме – гаданию, которое на сей раз не оправдалось.
– Вы что-то сказали? – быстро спросила Эдит.
– Rien, mademoiselle[7], – сухо ответила Натали.
Катрин Левассер поймала взгляд Нередина и улыбнулась ему.
– Вы должны извинить Эдит, месье, – сказала она. – Тут, в санатории, не слишком-то много развлечений.
– По правде говоря, – вставил Шарль де Вермон, – их тут вообще нет. Месье Гийоме очень строг во всем, что касается режима. Он вас предупредил, что за малейшую провинность вас могут запросто выставить отсюда?
– Признаться, – ответил поэт, помедлив, – я слышал об этом.
Шарль сделал комическое лицо.
– Прежде всего: никаких интрижек. Даже думать о них не дозволяется. – Он говорил и одновременно улыбался белокурой русской баронессе и француженке с газельими глазами. – Затем родственники. Доктор должен быть осведомлен обо всех, кто приезжает в санаторий. Визиты поощряются не чаще, чем раз в неделю. Чем реже – тем лучше, наверное, потому, что здоровые родственники скверно влияют на самочувствие несчастных больных, а нездоровые родственники влияют еще хуже.
Натали, не удержавшись, фыркнула.
– Затем… что еще? – продолжил де Вермои. – Ах да. Для собственного блага мы должны сидеть в четырех стенах. Гулять – только вблизи санатория и только тогда, когда светит солнце. Если кому-то вдруг понадобится отлучиться, он объясняет доктору, зачем это нужно, и подписывает бумагу, что освобождает его от ответственности, если с больным что-то случится. В общем, месье, в заведении доктора Гийоме у вас есть только два выхода: повеситься со скуки либо выздороветь. Очень многие предпочитают второе. – Он обернулся к соседнему столу. – Видите вон ту даму с жемчугами на шее? Она живет здесь уже шесть лет. Когда она только прибыла сюда, все врачи отказались от нее. Но Гийоме пообещал, что она будет жить, правда, при условии, что не покинет стены санатория и будет все время находиться под его наблюдением. Ее муж, месье Ревейер, души в ней не чает. Он владеет крупными магазинами в Париже, и один бог знает, сколько денег он уже дал доктору на его исследования. И этот человек, который коротко знаком с президентом страны и главой палаты пэров, вынужден раз в неделю приезжать сюда и, как школьник, выпрашивать свидание со своей женой. Но он на все согласен и даже не жалуется. Жизнь – великий дар, месье!
– Однако ведь не все выздоравливают, – возразил поэт, вспомнив разговор доктора и его помощника о неведомой миссис Фишберн.
– Конечно, не все, – вздохнула Катрин Левассер. – Но если даже месье Гийоме не сможет поставить больного на ноги, то, значит, и никто в целом мире не способен. Я сама, когда только приехала сюда, не могла подняться с постели, а теперь… – И она сдержанно улыбнулась Уилмингтону, с самого начала беседы не проронившему ни слова. – Возможно, через какое-то время я смогу вернуться к нормальной жизни. По крайней мере, мне так обещают. И я верю, что так оно и будет.
– И правда, Месье Гийоме – настоящий волшебник, – подала голос мадам Карнавале.
– Вы тоже так считаете, сударыня? – спросил Алексей у госпожи Корф, которая, судя по всему, весьма его занимала.
Баронесса улыбнулась.
– Если бы доктор Гийоме был не тем, что о нем говорят, меня бы здесь не было, – отозвалась она.
– И я тоже очень долго выбирала, к какому врачу обратиться, – подхватила Натали. – Отцу рекомендовали Пюигренье, другие советовали Карне, но я…
Алексей перестал слушать. Он понял, отчего молодая женщина так раздражала его: в ней была неприятная бесцеремонность, очевидно унаследованная ею от отца, – качество того же самого порядка, которое позволяло критику Емельянову судить, рядить и выносить приговоры авторам, ничего, по сути, не понимая в их произведениях, лишь поверхностно ознакомившись с ними. И еще он окончательно понял, что терпеть не может критиков, всех, вне зависимости от того, хвалили они его или ругали, – потому что всего тремя пренебрежительными строчками отзыва они могли уничтожить его работу, на которую он потратил силы, воображение и время. По какому праву получили такую власть люди, ничего, кроме статей и рецензий, в своей жизни не сочинившие и выдающие свои личные вкусы, предрассудки и пристрастия за всеобщую норму? Ведь он же знал, прекрасно знал, чего они все на самом деле стоили! Знал, сколько берет за каждый положительный отзыв маститый критик Букренин, знал, как сводит счеты с людьми более талантливыми, чем он сам, критик Роговцев, в прошлом известный графоман, знал, как старательно прогрессивный критик Маковский топит тех, кто имеет несчастье придерживаться иных политических взглядов, чем он сам. А Каврогин, который хвалил лишь тех, с кем пьянствовал в кабаках и кто платил его долги? А Стечкин, для которого все поэты делились на друзей и всех остальных? Да что там говорить! Алексей мог вспомнить разве что двух честных, бескорыстных критиков, причем один из них обладал совершенно чудовищным вкусом, а второй уже давно перестал что-либо писать…
– Вы нам почитаете свои стихи, Алексей Иванович? – спросила художница, перегнувшись к нему через стол.
Положительно, она делала все, чтобы он ее окончательно возненавидел. Потому что Нередин придерживался той точки зрения, что поэзия, как и любовь, – дело двоих, стихотворения и читателя; вмешивать туда кого-то третьего, пусть даже автора, – преступление.
И еще он очень не любил читать вслух. В глубине его души все еще жил тот невысокий, цепко зажатый тисками жизни армейский поручик, который мечтал лишь об одном – чтобы его оставили в покое все без исключения, начиная от начальства и заканчивая родными. До сих пор Алексей плохо переносил любые проявления публичности. Да, за годы жизни в столице он научился делать над собой усилие, улыбаться и даже завоевывать зрителей, и со стороны казалось, что это выходит у него легко и непринужденно; но на самом деле он бы охотно отказался и от выступлений, и от неискренних (как ему казалось) комплиментов, которые неизменно следуют за ними.
– Простите, Наталья Сергеевна, – сухо обронил Алексей, – я сейчас не в голосе. И потом, здесь только трое понимают по-русски.
– А я многие ваши стихи знаю наизусть, – сообщила Натали, глядя ему в глаза мечтательным, туманным взором.
Любой другой женщине такой взор был бы к лицу, но не этой нескладной, неряшливо одетой и небрежно причесанной девушке. И Алексею показалось почти оскорблением, что такие недоразумения природы, как она, смеют читать его стихи и даже любить их.
Но внезапно их прервали – Уилмингтон, мирно евший свой десерт, поперхнулся и отчаянно закашлялся. Он изо всех сил старался остановиться, но не мог; его широкое, мясистое лицо стало багровым, он кашлял, задыхался, платок, прижатый к губам, стал совсем алым… Но тут распахнулись двери, и вслед за слугой в столовую влетел Рене Шатогерен, помощник доктора. Как кинжал, он выхватил из кармана склянку с какой-то золотистой жидкостью, накапал ее в ложку и не без труда влил в рот несчастного, который корчился на стуле.
– Может быть, позвать месье Гийоме? – пробормотал слуга, глядя на англичанина во все глаза.
– Не стоит, – отмахнулся Шатогерен. – Нет! – резко бросил он, когда слуга повторил свое предложение.
Уилмингтон дышал хрипло, но больше уже не кашлял, и зловещая краснота медленно сползала с его лица. Из-за других столов на него смотрели бледные, испуганные люди. Он попытался что-то сказать, извиниться за происшедшее, но Шатогерен не дал ему раскрыть рта и, крепко держа его за локоть, повел к двери. Слуга распахнул перед ними створку. Еще мгновение – и спотыкающийся англичанин, которого ни на мгновение не отпускал помощник доктора, скрылся из виду.
– Какой ужас, – прошептала Эдит. По ее щекам катились слезы.
Шарль де Вермон был мрачен. И не требовалось быть особым сердцеведом, чтобы понять причину смены общего настроения. То, что произошло с англичанином, могло приключиться с любым из них. Тень смерти по-прежнему витала над этим домом, и она же незримо присутствовала за спиной каждого живущего в нем.
Но тут старая мадам Карнавале шевельнулась и заговорила о парижской опере, о знаменитой австрийской певице Летлинг и о музыке Моцарта. И все с облегчением последовали ее примеру и погрузились в чинный светский разговор, в котором не было места ни болезни, ни тлению, ни тому, что ждет каждого из нас.
Глава 5
– В сущности, с Уилмингтоном давно все понятно. – Шарль де Вермон говорил и щурился на пеструю цветочную клумбу возле платана, который отбрасывал на нее причудливую сгорбленную тень. – Его дни сочтены. Он слишком поздно захватил болезнь, и даже Гийоме вряд ли сможет ему помочь.
Разговор происходил после обеда, когда Нередин решил прогуляться вокруг дома. Офицер вызвался составить ему компанию. Он уже познакомил вновь прибывшего с остальными обитателями санатория и теперь отводил душу, сплетничая о пациентах и докторах. Не то чтобы он по натуре был склонен к злословию – просто у Алексея создалось впечатление, что де Вермону смертельно надоело его привычное окружение, и он был рад любому новому лицу.
– А мадемуазель Левассер? – спросил Алексей.
– Катрин? – Француз пожал плечами. – По-моему, у нее все хорошо. Иногда она кашляет, но цвет лица у нее хороший. Нет, думаю, она поправится. Как и маленькая англичанка. Их здоровью ничто не угрожает.
– Я вижу, вам все обо всех известно, – улыбнулся поэт. – Ну а о баронессе Корф вы что скажете?
– О, баронесса тут недавно, всего месяц или около того, – объяснил офицер. – Она лечится у разных докторов уже довольно долгое время, переезжает из одного города в другой и остается там, где ей больше нравится. Доктор Гийоме нам постоянно ставит ее в пример. По-моему, она единственная пациентка, с которой у него никогда не было хлопот. А вы с ней знакомы?
– Я ее видел один раз, – кивнул Алексей, – в Петербурге.
Шарль вздохнул и подкрутил ус.
– Иногда, – доверительно сообщил он, – я подумываю о том, чтобы нарушить запрет нашего доктора насчет любовных интрижек. Честное слово!
И он рассмеялся так заразительно, что Алексей, которого его замечание немного покоробило, поймал себя на том, что улыбается ему в ответ.
– Вы еще не спрашивали меня о почтенной мадам Карнавале, – поддел Шарль поэта. – Неужели она вас совсем не интересует? Такая милая особа, такая воспитанная! А эта русская художница? За обедом она так на вас смотрела – о! – И он рассмеялся еще громче, довольный тем, что заставил собеседника покраснеть.
Сама же русская художница сидела с альбомом в нескольких десятках шагов от мужчин и быстро-быстро делала карандашом какие-то наброски. Подойдя к Натали, Амалия увидела, что та рисует Алексея Нередина.
– Вам нравится? – спросила Натали, видя, что баронесса рассматривает ее наброски.
Она рисовала неплохо, но Амалии было отлично известно, что в искусстве, как и во множестве других областей, «неплохо» вовсе не значит «хорошо». В рисунках Натальи чувствовалась выучка, чувствовалась достаточно уверенная рука, но – и только. Однако Амалия не считала себя вправе огорчать молодую женщину.
– По-моему, похоже, – честно сказала она.
Натали вздохнула. Плечи ее опустились.
– На самом деле такое лицо, как у него, надо рисовать в цвете, – призналась она. – Видите? Русые волосы, почти золотистые, бородка, голубые глаза… На холсте это смотрелось бы очень красиво. Вы не попросите его позировать мне? – внезапно спросила она.
– А вы?
– Я боюсь. – Натали поежилась, и Амалия увидела, что молодая женщина действительно боится. – Вдруг он мне откажет?
Амалия вздохнула:
– Я попытаюсь. Но ничего не обещаю. Сами знаете, поэты – такой непредсказуемый народ…
– Я была бы счастлива, если бы он согласился, – горячо промолвила художница. – Для меня такая честь! Из всех современных поэтов он самый искренний, самый лучший, самый… – И она покраснела, словно только что призналась постороннему и совершенно равнодушному человеку в своей любви.
– Вы ведь прежде с ним не встречались, верно? – спросила баронесса.
– Нет. – Натали покачала головой и завела за ухо выбившуюся из прически прядь волос. – У нас невозможно для женщины учиться живописи, только во Франции. Если бы я жила в Петербурге…
Амалия задумалась. Значит, недоброжелательность, которая была написана на лице Нередина, вызвана вовсе не Натали, а чем-то другим. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться об истинной причине. Интересно, что такого ее отец, известный своим ехидным пером критик Емельянов, мог написать о поэте, что тот даже не желает общаться с его дочерью…
– О, – встрепенулся Шарль. – Смотрите, она идет к нам! Но смотрит она на вас, – тотчас же поправил он себя. – Отчего я не поэт? Тогда бы ни одна женщина не смогла пройти мимо меня.
Алексей кашлянул.
– Мне казалось, вам и так не на что жаловаться, – с сомнением в голосе заметил он. – Разве нет?
– Не на что? Да я просто умираю от скуки! – отмахнулся офицер. – В Африке были болезни, туземцы с отравленными стрелами и дикие животные, но там, по крайней мере, я ощущал себя живым. А здесь… – Он пожал плечами. – Вы и сами видите, что тут за публика. Одни отвратительные старухи вроде мадам Карнавале, которые до смерти боятся умереть. – Он и сам не заметил, как скаламбурил. – Чего она боится? Ведь ясно же, что ей и так пора… Гийоме – святой, я ничего не говорю, но раз в две недели в санатории все равно кто-то умирает. Похороны действуют мне на нервы. Да и другие пациенты тоже способны вывести из себя кого угодно. Маленькая англичанка – просто сумасшедшая, я не знаю, отчего ее до сих пор отсюда не выгнали. Мадемуазель Левассер – само очарование, но, кажется, она неравнодушна к тому рыжему, а он ведь на ладан дышит. Про мадемуазель Натали я ничего не скажу, вы и сами все видите. Ну а госпожа баронесса… – Но он вынужден был замолчать, потому что Амалия была уже поблизости. В руке она держала кисейный зонтик от солнца и, подойдя к мужчинам, поглядела на них ласково и вместе с тем с легкой иронией.
– Он вас не утомил, Алексей Иванович? Вы уже выслушали историю про тигра и спасенного ординарца? Нет? Ну тогда я больше ничего не скажу: вас ждут десятки историй в таком же духе. Шевалье де Вермон – прирожденный рассказчик. Он воевал в Африке, и нет такого племени, о котором он не мог бы сообщить каких-нибудь леденящих душу подробностей. Вам определенно стоит написать книгу, шевалье!
– Терпеть не могу портить бумагу, – возразил офицер. – А с вашей стороны, сударыня, нехорошо так смеяться над бедным больным. У вас доброе сердце, и, когда я умру, вы будете жалеть о своем поступке.
Тон его, выражение красивого капризного лица – все в тот момент напоминало маленького мальчика, а не мужчину тридцати лет, много воевавшего и наверняка многое повидавшего на своем веку. Алексей был озадачен, и в то же время ему стало немного стыдно. Однако ответ Амалии поразил его.
– Мы все когда-нибудь умрем, шевалье, и никто не знает, о чем мы будем жалеть в свой смертный час, – спокойно произнесла молодая женщина. – Кстати, вы по-прежнему мой верный рыцарь?
– Без страха и упрека, – подтвердил Шарль, поклонившись.
– Тогда добудьте мне красную розу, я ее приколю к платью в вашу честь.
– Красную? – воскликнул офицер. – Но тут кругом одни белые розы!
– Кажется, за домом есть куст красных роз, – подсказала Амалия, улыбаясь поэту. – Весь вопрос в том, хватит ли у вас смелости отправиться в столь далекое путешествие. Потому что мадам Карнавале, которая вам почему-то не нравится, как всегда, сидит на берегу в кресле. А куст как раз недалеко от нее.
– Цербер, стерегущий сокровище… – вздохнул молодой человек. – Ну что ж, я добуду красную розу для самой красивой женщины на Лазурном Берегу, хотя бы мне даже пришлось столкнуть старушку вниз со скалы.
И он склонился в глубоком поклоне, а затем двинулся прочь.
Алексей с любопытством ждал продолжения. Он понимал, что Амалия спровадила своего поклонника не просто так, а явно желая поговорить с ним. Но баронесса молчала и рассеянно чертила концом зонтика по поверхности дорожки какие-то фигуры. Богатая карета подкатила к главному входу санатория, из нее вышел представительного вида господин с тростью и скрылся в доме.
– Кажется, это герб графа Эстергази, – рассеянно заметила баронесса. И без перехода: – Алексей Иванович, я хотела бы попросить вас об одолжении.
Заинтригованный, он сказал, что весь к услугам госпожи баронессы.
– Одна молодая особа мечтает написать ваш портрет… – заговорила Амалия. Нередин сразу же понял и хотел прервать ее речь, но молодая женщина легонько коснулась его руки: – Нет-нет, Алексей Иванович, давайте не будем торопиться. Я знаю, Наташа может показаться немного… странной, но она хорошая девушка, а сейчас к тому же серьезно больна. Я не знаю, чем могла вас обидеть ее семья, хотя и догадываюсь, но я умоляю вас о снисхождении. – Поэт, вспыхнув, промолчал. – Ей и без того нелегко, поверьте мне. Всего лишь одно доброе слово или незначительный жест с вашей стороны, и она будет счастлива, а значит, ее шансы остаться в живых возрастут. Томик ваших стихов лежит у изголовья ее кровати, она постоянно их цитирует. Наташа и не думала когда-нибудь встретиться с вами, и вот – вы здесь, и она может говорить с вами о поэзии, может рисовать вас… ничего другого ей и не надо. Я не прошу вас потакать ее капризам, не прошу исполнять все ее желания. Просто будьте чуть помягче с ней, Алексей Иванович, потому что – только между нами! – здоровье ее в очень неважном состоянии. Не следует огорчать девушку лишний раз.
– Вы так говорите, сударыня, – проворчал Алексей, глядя в сторону, – будто только от меня зависит, поправится она или нет. Воля ваша, но, по-моему, это нелепо. И я не люблю позировать для портретов, ведь фотографии все равно точнее и, главное, делаются гораздо быстрее.
Он покосился на Амалию и, к своему удивлению, увидел, что она улыбается.
– Должна признаться в ужасной вещи, – внезапно промолвила она. – Мне нравится, когда вы сердитесь. У вас становятся такие глаза…
И, совершенно обезоружив поэта чисто женским выпадом, баронесса взяла поэта под руку и повела вдоль цветника, пока ее собеседник не успел – чисто по-мужски – от растерянности перейти к раздражению.
– Но я не хочу никому позировать! – все еще пытался сопротивляться Алексей.
– И прекрасно, – не стала спорить удивительная женщина – его спутница. – Но не надо обижать Наташу прямым отказом. Скажите, что вы польщены, но работаете над большой поэмой и надеетесь, что она вас великодушно извинит… и все в таком же духе.
– Я никогда не писал больших поэм, – возразил Нередин уже сердито. – И вообще в последнее время я пришел к выводу, что стихи должны быть как можно короче. Поэзия все-таки не проза. Это чувство, сжатое в несколько строк… чувство, помноженное на музыку стиха. Вы понимаете?
Конечно, она ничего не понимает. Но разве редко так бывает в жизни, что, беседуя с другими, словно разговариваешь сам с собой, четче уясняя себе некоторые важные вещи?
– Я бы сказала, чувство и мысль, – поправила его Амалия. – Чувство без мысли мало что значит – я имею в виду, в поэтическом смысле. Да и в житейском тоже – ведь нет ничего скучнее слов «люблю тебя», которые беспрестанно повторяет какое-нибудь неумное существо.
И опять в ее глазах полыхнули, закружили искорки, которые сбили Нередина с толку, так что пока поэт собирался и искал слова для ответа, они уже успели дойти до середины сада, где их нагнал офицер с красной розой.
– Стало быть, вы уже столкнули старую даму в воду? – весело приветствовала его баронесса.
– Какое там! – воскликнул Шарль. – Если бы дошло до подобного, бьюсь об заклад, она бы первая скинула меня со скалы! Видели бы вы, каким взглядом меня смерила старуха, когда я появился!
– Бедная мадам Карнавале… – вздохнула Амалия, прикалывая розу к корсажу, пока поэт держал ее зонтик. – Вам не кажется, Шарль, что вы чересчур к ней жестоки?
– Ничего не могу с собой поделать, – признался офицер. – Наверное, когда все время видишь, как умирают молодые, начинаешь дурно относиться к старикам. – Он почувствовал, что сказал лишнее, и поторопился сгладить неловкость: – А между тем мадам Карнавале – самая любезная и достойная женщина среди пациентов доктора… не считая присутствующих, конечно.
– Шарль, вы опасный льстец, – заметила Амалия предостерегающе. – И мы не будем вас слушать, а просто пойдем к мадемуазель Натали. Кажется, она уже закончила свой рисунок.
Они подошли к молодой художнице, которая, заметив приближающегося поэта, захлопнула альбом, снова раскрыла его, пролепетала несколько бессвязных слов и втянула голову в плечи. Со стороны это выглядело довольно жалко, и Алексей почувствовал укол совести. «В сущности, баронесса Корф права… Наталья Сергеевна ни в чем не виновата. И простая любезность меня ни к чему не обязывает». Он посмотрел рисунки, похвалил их – что ему довольно легко было сделать, ведь поэт не разбирался в живописи, – и сказал, что польщен предложением рисовать его портрет, но вряд ли у него найдется время для сеансов, поскольку не собирается прекращать работу и в санатории… Впрочем, там видно будет, но пока он не может ничего обещать. И Натали, порозовев от смущения, стала уверять поэта, что она и в мыслях не имела отрывать его от творчества. Но, если он сможет выполнить ее просьбу, она будет считать себя самым счастливым человеком на свете!
В саду потемнело – тучи закрыли солнце. С моря надвигалась гроза, и вдали в черно-желтой утробе туч уже грозно сверкало. Слуга вышел в сад и попросил всех пациентов вернуться в дом. Последней в двери вошла вернувшаяся с берега мадам Карнавале, и, как только она переступила порог, сплошной стеной хлынул дождь.
Глава 6
«Стихия плачет и тоскует…»
Сначала Алексей зачеркнул слово «тоскует».
Затем «плачет».
Под конец вычеркнул слово «стихия», которое, по его мнению, выглядело слишком претенциозно. Если ты пишешь о море, так и пиши – море. Ни к чему всяческие там излишние украшения в конце-то девятнадцатого века.
Но море ломало размер и превращало его в чистый хорей, который Алексей не слишком жаловал. Все не ладилось, и он еще раз перечеркнул фразу, на сей раз – волнистой чертой.
Это была шестая или седьмая строка из тех, что уже были густо зачеркнуты на листе. Со вздохом Нередин скомкал его и швырнул под стол, где лежали еще несколько скомканных листков.
«Я разучился писать», – сказал он себе. Повторил то же самое еще раз, но не почувствовал ни ужаса, ни горечи, о которых так любят повествовать литераторы, хоть раз в жизни испытавшие жуткое состояние немоты, безмолвия, писательского небытия: и мир вокруг тот же, и ты сам вроде бы почти не изменился, но слова, такие послушные прежде, упорно не желают складываться в связный текст.
Нередин прошел в спальню и рухнул лицом в подушку. Нет, подумал он, все не так. Можно было бы дожать и стихию, и море и выдать неплохие – по крайней мере, вполне ладные – стихи; повозиться с рифмами, пооригинальничать, сделав их менее очевидными: «не тоскует – ликует, к примеру», а «тоскует – поцелуи». Но это была бы не поэзия, а версификация, так, подбор строчек. Он не хотел заниматься версификацией. О да, он знал приемы, которыми мог обмануть любого, даже самого взыскательного, читателя, и даже критика вроде Емельянова; но ведь себя-то самого он бы все равно не обманул. Стихи, настоящие – подлинные – стихи не шли к нему.
Алексей находился в санатории уже пять дней, но часто, слишком часто за прошедшие дни метался между надеждой и отчаянием. На следующий после приезда день ему сделалось дурно, пришел второй помощник доктора – вежливый, обходительный Филипп Севенн, тот самый, который отсутствовал, когда поэт только прибыл сюда. И Нередину показалось, что молодой доктор с ним слишком любезен, что все вокруг лгут ему, а на самом деле он обречен и все, кроме него самого, уже это знают. И, оставшись один, Алексей метался и плакал, думал: а мог бы он отдать все свои стихи только за то, чтобы снова быть здоровым? И сознавал, что да, мог бы, и если бы такая сделка была возможна, он бы пошел на нее не задумываясь.
Но поэт вскоре поправился и вновь обедал в общей столовой, и вновь сидел напротив него рыжий Мэтью Уилмингтон, с которым теперь вроде бы все тоже было в порядке. И мадам Карнавале шепнула поэту, что за Мэтью после его приступа очень трогательно ухаживала хорошенькая Катрин и что, может быть, дело даже идет к помолвке, хотя доктор Гийоме этого категорически не одобряет. И еще она шепнула Нередину, что миссис Фишберн, у которой была скоротечная чахотка, нынче ночью умерла.
– Такая молодая… – вздохнула старушка. – Ей ведь было всего двадцать два года.
Шарль де Вермон посмотрел на нее с ненавистью и завел разговор о другом. Но поэт заметил, что офицер кашлял чаще, чем прежде, хоть и шутил все так же раскованно и дерзко, как в первый день. И Нередину делалось не по себе при мысли о том, что веселый, красивый и, если верить его африканским рассказам, отчаянно храбрый человек обречен. Если даже его не могли спасти врачи, на что тогда может рассчитывать он, Алексей?
С другой стороны, взять хотя бы ту же мадам Карнавале. Разве не дала она понять вчера за обедом, что ее опасения насчет рецидива старой легочной болезни оказались беспочвенными и она скоро покинет санаторий? А ведь ей не меньше шестидесяти лет, и на вид она вовсе не такая крепкая.
Нередин в сердцах стукнул по подушке кулаком и повернулся на постели. Подобные беспочвенные гадания утомляли его и выводили из себя. Душа жаждала определенности. Он выполнял все предписания врачей – Гийоме, Шатогерена и Севенна, – принимал лекарства, пил молоко, взвешивался на весах, покорно мерил температуру, но этого было мало. Он был отравлен ожиданием окончательного решения своей участи. Жизнь или смерть, четыре шанса против шести – ничто другое его не волновало. Он думал о своей молодости, о стихах, которые мог бы написать, о своих родных… Но едва ли не больше всего, по правде говоря, он думал о баронессе Корф.
Прежде он не любил аристократов – ему претили их чванство, их снисходительность по отношению к нему, за которыми легко угадывалось пренебрежение. И он был рад узнать, что Амалия – баронесса всего лишь по мужу, а на самом деле она происходит из обедневших дворян, хотя, похоже, ей доставляло удовольствие перечислять своих предков (скорее всего, никогда не существовавших), которые участвовали в многочисленных войнах и всевозможных европейских заварушках. Еще он узнал, что ей двадцать четыре года, что у нее двое сыновей, родной и приемный, что с мужем она разведена (впрочем, о последнем обстоятельстве рассказала уже Натали, сама Амалия о своем браке не обмолвилась ни словом, как будто его и не было совсем).
Но более всего интриговала поэта некая загадочность, которая словно невидимым флером окружала баронессу Корф – красивую спокойную женщину. По ее словам, она не получила систематического образования, но тем не менее знала несколько языков и очень много читала, поражая Нередина широтой своего кругозора. Знания ее тоже были странными – так, она смеялась над ошибкой какого-то автора приключенческих романов, который путал пистолет и револьвер, и тут же очень доходчиво объяснила разницу между этими видами оружия. Она была отлично осведомлена о лекарствах и знала, когда они способны превратиться в яд; разбиралась в политике, причем не как человек, который лишь следит за событиями по газетам; знала по именам едва ли не всех европейских придворных и государственных деятелей и была в курсе самых различных обстоятельств их жизни.
Поначалу Алексей решил, что Амалия Константиновна – просто скучающая дама, которая до болезни много вращалась в высшем свете. Сведений о политике она могла, к примеру, нахвататься от своего мужа и от него же услышала, как отличать один вид оружия от другого; ну а про лекарства ей мог рассказать какой-нибудь дотошный врач. Но она не походила на светскую даму. Вернее, не походила всего лишь на светскую даму. Для этого она была слишком умна, слишком проницательна и слишком иронична, причем ее ирония была обращена не только на окружающих, но и на себя саму – качество, редкое в любом человеке, а для женщины редкое особенно. И Нередин терялся в догадках, что же было в ее жизни такое, что превратило ее в ту закрытую, насмешливую, в совершенстве владеющую собой особу, которую он видел сейчас. Он вспомнил золотистые искорки в ее глазах и вздохнул.
Внезапно поэту надоело бесцельно лежать на кровати. Он поднялся, пригладил волосы и надел сюртук. Утро обещало быть чудесным. Он вышел из комнат, которые занимал, – и почти сразу же натолкнулся на Натали Емельянову.
– Ах, Алексей Иванович! А я, признаться, только что думала о вас!
Алексей Иванович по натуре не был злым человеком, но, видя ее некрасивое оживленное лицо, все же тихо скрипнул зубами и пожелал про себя настырной художнице много нехорошего. Он попытался сбежать, пробормотав, что, мол, его ждут… и вообще он не смеет отвлекать мадемуазель… Однако Натали не отставала:
– Вы сегодня работали? Много написали? Вы удивительный, просто удивительный! Знаете, я бы хотела вас попросить… Вы бы не могли показать мне свои стихи? Когда вы их закончите, конечно… Я была бы так рада!
Они вышли в сад. На ветвях, на листьях, на чашечках цветов после недавнего дождя сверкали и переливались дрожащие капли влаги. По дорожкам прогуливались обитатели санатория, несколько мужчин сидели под деревом и играли в карты. Но тщетно Алексей искал среди присутствующих баронессу Корф – ее не было.
– Вы кого-то ищете? – спросила Натали, глядя на него восторженным взором.
У него едва не вырвалось: «Во всяком случае, не вас», но он все же сумел сдержать себя. Кошка подошла к нему и потерлась о его ноги. Никто не знал, откуда она взялась, но она уже несколько месяцев жила в санатории, и, хотя доктор Гийоме был против появления любых домашних животных, ему в конце концов пришлось все же сдаться и махнуть на кошку рукой. Алексей наклонился и взял ее на руки. Он не был особым любителем кошек, но ему было приятно думать, что он держит сейчас то же самое существо, которое гладила баронесса Корф.
…А баронесса Корф тем временем кончила завтракать (она поднималась с постели поздно, и завтрак приносили к ней в спальню), бегло просмотрела книги, которые ей доставили вчера из книжной лавки, и вышла из своих комнат, расположенных в дальнем крыле дома на втором этаже. Навстречу ей двигался слуга Анри, на ходу разбирая пачку писем.
– Почта уже пришла? Есть для меня что-нибудь? – поинтересовалась Амалия.
Анри со смущением признался, что еще не знает, и тут на площадке лестницы показался Филипп Севенн. Это был чистенький, вежливый молодой блондин с аккуратной бородкой, но сейчас по его лицу было видно, что он сильно раздражен.
– Анри! – напустился он на слугу. – Ну что вы себе позволяете! Синьор Маркези, итальянец, должен быть с минуты на минуту, а его комнаты еще не готовы! Сколько раз вам повторять, в самом деле?
– Но, месье доктор, – пробормотал Анри, – я полагал, что Ален…
– Ален заболел, у него приступ гастрита, – сердито сказал Севенн. – Ради бога, простите, госпожа баронесса, – повернулся он к пациентке, а затем снова обратился к слуге: – Новый постоялец уже в дороге, он едет сюда, а в его комнатах даже не прибирались. Вы знаете, как месье Гийоме дорожит своей репутацией, однако некоторым, похоже, до нее нет никакого дела!
– Но доктор Гийоме велел мне разнести почту… – попробовал было возразить слуга.
– Вот что, Анри, – вмешалась Амалия, – дайте письма мне, я сама их разнесу. А вы пока приготовьте комнаты для нового жильца (согласно неписаному правилу, пациенты санатория остерегались говорить друг о друге «больной»).
С видимой неохотой Анри вручил всю пачку писем Амалии и зашагал следом за Севенном, который, похоже, еще не исчерпал запас своих сентенций и был настроен и дальше распекать слугу.
– Да, конечно, я понимаю, неприбранные комнаты – такая мелочь! Однако люди видны в мелочах, и сами они видят только мелочи. Не забывайте об этом, Анри!
Амалия проводила мужчин взглядом. Так и есть – они направились к комнатам, которые совсем недавно занимала миссис Фишберн. Невольно Амалия вспомнила, что в санатории считалось дурной приметой занимать комнаты того, кто умер, а не того, кто выздоровел и уехал отсюда. Но ей тут же сделалось стыдно, что она думает о каких-то приметах, которые, как она считала, существуют для того, чтобы восполнять недостаток здравого смысла, и баронесса стала перебирать письма.
Почти сразу же она нашла два послания, адресованные ей, – оба были из дома, от матери Аделаиды Станиславовны. Амалия отложила их и стала разносить остальные письма. Если дверь была закрыта, она подсовывала конверт под нее, если открыта, входила и клала письмо на стол. Больше всего почты, как обычно, пришло Мэтью Уилмингтону – солидные пухлые конверты и пакеты с печатями. На имя художницы пришли два письма из России, оба с ошибками во французском адресе. Дипломат в отставке получил надушенный конверт, надписанный кокетливым дамским почерком. Амалия вспомнила, что с виду дипломат – скучнейший человек, которого все считают примерным семьянином, и ее немало позабавил контраст между адресатом и его почтой. Амалия вообще была склонна считать, что люди состоят из противоречий, что никто никогда не является тем, чем кажется, и чем убедительнее человек играет отведенную ему обществом роль, тем чаще оказывается, что это всего лишь маска, скрывающая его причуды и мелкие – а иногда не такие уж мелкие – грешки. Но она была далека от того, чтобы выводить из данных рассуждений какую бы то ни было мораль. Жизненный опыт научил ее, что нет ничего более опасного, чем однобокие выводы, которые делаются с самыми благими намерениями. Поэтому она просто положила конверт на стол и, выходя из дверей, в коридоре столкнулась с темноволосым господином средних лет с умными глазами. Несколько писем выскользнули из рук Амалии и упали на пол. Досадуя на свою неловкость, она хотела подобрать их, но господин опередил ее, воскликнув:
– А! Госпожа баронесса! А вы что, сами разносите письма? Но где же Анри?
Амалия улыбнулась доктору Шатогерену и сказала, что Анри готовит комнаты к приезду нового жильца, итальянца, потому-то она и вызвалась ему помочь с письмами.
– Кстати, а кто он такой, новый постоялец? – спросила она.
– Мне о нем немногое известно, – отвечал Шатогерен, отдавая ей подобранные с пола конверты. – Он священник, племянник какого-то итальянского кардинала. Из-за дел дяди два раза откладывал свой приезд сюда, но сегодня наконец должен появиться. Констан поехал встречать его на станцию.
Врач поклонился Амалии и двинулся дальше по коридору, а молодая женщина вошла в комнату Шарля де Вермона и положила ему на стол письмо, судя по всему, порядочно попутешествовавшее по миру, конверт был так густо усеян штемпелями и пометками о новых адресах, что первоначальный адрес (где-то то ли в Марокко, то ли в Алжире) был едва различим. Две немецкие дамы, жившие в санатории уже много месяцев, получили на двоих пять писем, которые Амалия просто подсунула под их дверь. Теперь оставалось лишь одно послание, адресованное Эдит Лоуренс, и баронесса, спустившись на первый этаж, вошла в комнату, которую занимала молодая женщина.
Подойдя к секретеру, Амалия положила конверт на видное место и повернулась к двери, собираясь уйти, но тут внимание ее привлек немного выдвинутый и перекошенный ящик стола. То ли из любопытства, то ли из любви к аккуратности Амалия выдвинула ящик, собираясь вернуть его в правильное положение, и замерла на месте.
В глубине ящика, прикрытые стопкой платков, поблескивали несколько флаконов, и цвет их содержимого показался баронессе странным. Поколебавшись, она извлекла один из флаконов на свет, тщательно осмотрела его, зачем-то достала из кармана чистый платок и вытащила пробку, которая поддалась не сразу.
– Да… – пробормотала через минуту молодая женщина, возвращая пробку на место, – очень странно… Даже чрезвычайно странно. Интересно, зачем ей это понадобилось?
Глава 7
– Странно – не то слово, – сказал Шарль де Вермон, улыбаясь миниатюрной англичанке и успевая послать нежный взгляд Катрин Левассер. – Мои дорогие барышни, если бы я вам рассказал все, чему был свидетелем в Африке…
Натали Емельянова отвернулась.
– О боже, – вполголоса заметила она по-русски стоявшему рядом с ней поэту. – Сейчас опять начнется Африка! В который раз!
«А вам не приходит в голову, – подумал, ожесточившись, Нередин, – что делать о присутствующих замечания на языке, которого они не понимают, по меньшей мере невежливо? И, если уж на то пошло, может быть, интереснее слушать, что молодой офицер рассказывает об Африке, чем… чем смотреть на вашу немытую шею. Черт бы побрал богему! Вечные высокие мысли – и грязь под ногтями, нежелание устроить самый элементарный быт… И они еще удивляются, отчего никто не хочет иметь с ними дела!»
Поэт дернул щекой. Кошка на руках показалась тяжелой, и он, нагнувшись, опустил ее на землю. Животное покрутилось на месте, скосило глаза на высокую нескладную девушку и неспешно направилось к клумбам пестрых цветов, над которыми с жужжанием кружили пчелы.
– Самые опасные, конечно, ядовитые змеи, – продолжал разглагольствовать Шарль. – Но местные знают всяческие способы, как спастись даже после укуса кобры. К примеру, мой денщик…
– Что такое денщик? – нерешительно спросил Мэтью Уилмингтон у Катрин. Судя по всему, англичанин не слишком хорошо понимал по-французски.
– Слуга офицера, – пояснила Катрин.
Натали порывалась сказать, до чего же глупы и нелепы разговоры о каких-то змеях и денщиках. Она была уверена, что поэт поймет ее, но он отвернулся и смотрел на коляску, которая как раз подъезжала к крыльцу. На козлах сидел все тот же Констан, который несколько дней назад вез его самого со станции, а в коляске оказался тучный, несмотря на молодость, человек, черноволосый и румяный. Он то и дело бросал заинтересованные взгляды по сторонам, и, судя по выражению его лица, территория санатория, утопающего в цветах и зелени, ему скорее нравилась, чем не нравилась. Рене Шатогерен вышел навстречу новому пациенту.
– Рады вас приветствовать, синьор Маркези… Надеюсь, путешествие не было неприятным?
Итальянец улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и немного смущенно сообщил, что путешествие было замечательным, хотя вообще-то железные дороги такие непредсказуемые – все время ждешь, что поезд сойдет с рельсов или приключится еще какая оказия, однако милостью неба все обошлось, и он рад, что оказался здесь.
– Кто это? – спросила Натали, пораженная до глубины души.
Эдит, подскочив на месте, радостно вскричала:
– О! Вот и брюнет! А вы мне не верили! Я же знала, что карты не лгут!
Уилмингтон укоризненно взглянул на нее.
– Кажется, новый жилец, который все не приезжал. Итальянец.
– Священник из Рима, – поправила его мадам Карнавале, сидевшая в кресле неподалеку от розовых кустов.
– Католический священник? – вырвалось у Натали. – Ну надо же!
Шарль де Вермон пожал плечами.
– Теперь можно будет сразу же согрешить и исповедаться, – уронил он с тонкой улыбкой. – Даже ходить далеко не надо.
– Шарль! – воскликнула Катрин, притворяясь рассерженной.
Мадам Карнавале взглянула на офицера и покачала головой, но все же улыбнулась.
– А карты все-таки сказали правду! – упорствовала Эдит. – Я была уверена, что мы увидим брюнета!
– Сколько угодно, – отозвался неунывающий де Вермон. – К примеру, доктор Гийоме – брюнет, и месье Шатогерен – тоже. Их мы видим каждый день, так что ничего особенного тут нет.
– Я вовсе не то имела в виду! – горячилась Эдит. – Вы просто не желаете понять!
Из дома вышла баронесса Корф, и на какую-то долю мгновения Нередину померещилось, что она держится не так, как обычно, будто какое-то облачко легло на ее чело. Но вот она улыбнулась итальянцу, которого ей представил Шатогерен, и сказала ему несколько любезных фраз на его языке. Священник просиял и поцеловал ей руку.
– Надо же, – уронила Натали. – Духовное лицо, а ведет себя как обычный светский шалопай.
Тут Нередин все-таки не выдержал.
– Почему? – холодно спросил он. – Потому что он целует руку не вам?
Натали даже растерялась – настолько враждебным и неприязненным был его тон. Но все же нашла в себе силы ответить:
– Если вам угодно знать, я вообще против целования рук. По-моему, это старомодно… и унижает женщину.
Однако Нередин не обратил внимания на ее слова, потому что баронесса Корф и итальянец в сопровождении Шатогерена подошли к остальным пациентам. Доктор стал по очереди знакомить вновь прибывшего с теми, среди кого ему предстояло провести следующие несколько месяцев.
– Дамы и господа, позвольте вам представить: синьор Ипполито Маркези, священник церкви Святой Варвары в Риме, племянник кардинала Маркези, о котором вы, вероятно, слышали… Мадам Анн-Мари Карнавале из Антиба.
Старая дама наклонила голову.
– Рада знакомству с вами, сударь. Надеюсь, здесь вы быстро пойдете на поправку.
– Благодарю, синьора.
– Месье Уилмингтон, – продолжал Шатогерен. – Может быть, вы даже знаете – «Табачная компания Уилмингтон и сын».
Англичанин поклонился. Священник повернулся к его соседке:
– Мадам…
– Не мадам, мадемуазель, – улыбнулась она. – Я не замужем.
– Мадемуазель Левассер, – продолжил представление Шатогерен, – просто очаровательная особа. – Катрин присела и порозовела от смущения. – С госпожой баронессой Корф вы уже знакомы… Мадемуазель Эдит Лоуренс, она из Англии. Мадемуазель Натали Емельянофф, художница. Шевалье де Вермон, французский офицер.
– В отставке, – зачем-то уточнил Шарль, хотя и так было понятно.
– Месье Алексис Нередин, русский поэт. Идемте, я познакомлю вас с остальными. Или, может быть, вы хотите побеседовать с доктором Гийоме?
– О нет, продолжайте! – воскликнул итальянец. – Я очень рад, что оказался здесь, правда… Я наслышан о докторе Гийоме, он лечил племянника кардинала Скьяпарелли…
Вновь прибывший говорил по-французски с довольно сильным акцентом, и его прекрасные живые глаза то и дело перебегали с одного лица на другое. Но, кроме черных глаз, во внешности его не было ничего примечательного. Хотя день был не из самых жарких, дородный священник обливался потом, и Шатогерен, которому отлично были известны взгляды его старшего коллеги на здоровое питание, подумал, что Гийоме придется повозиться, чтобы заставить нового больного тщательнее следить за собой.
– Мистер Уилмингтон, – тихо сказала Амалия, – доставили почту… Вам пришли письма и какие-то пакеты.
– О, благодарю, – пробормотал англичанин, краснея. Он извинился и двинулся к дому.
– Разве почта уже пришла? – спросила Натали.
– Да, для вас там два письма из дома.
– Откуда вы знаете? – не удержалась художница.
– Слуги были заняты, – пояснила Амалия с улыбкой. – Пришлось корреспонденцию разносить мне.
– А мне ничего не пришло? – спросил Алексей. Он знал, что ничего не получит – письмо от сестры пришло еще вчера, – но ему нравилось слушать голос баронессы Корф.
– Нет, – тон ее стал извиняющимся, – ничего.
Натали удалилась. Шатогерен повел Маркези знакомиться с прочими обитателями санатория, а офицер подошел к Амалии.
– Интересно, – проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь, – его поселят на второй этаж или на первый?
– На первый, – ответила Амалия.
Эдит зябко поежилась.
– Дурная примета, – пробормотала она. – На первом этаже жила миссис Фишберн.
– Вы верите в такие глупости? – спокойно откликнулась Амалия, и что-то в ее тоне неприятно кольнуло поэта – даже при том, что ее слова не имели к нему ни малейшего отношения.
– А вы нет? – бросилась в атаку Эдит.
– Санаторию уже восемь лет, – легко пожала плечиком Амалия, – и в каждой из комнат наверняка кто-то умирал. Но все же из тех, кто въезжал следом за ними, некоторые оставались в живых.
– И вообще, какая разница? – вмешался Шарль. – В конечном итоге все мы умрем. Так что примета оправдается, хотя она не имеет никакого значения.
Он закашлялся, и Нередин отвел глаза. Алексей ненавидел себя за то, что не может смотреть, как кривит рот и выплевывает кровь такой сильный и вроде бы цветущий с виду человек. Лицо у Эдит, присутствовавшей при этой сцене, сделалось совсем жалкое, красавица Катрин смотрела в сторону, очевидно тоже испытывая неловкость. Только Амалия молча взяла Шарля за руку, усадила его в кресло мадам Карнавале (старушка к тому времени уже ушла) и протянула ему свой платок. Шарль поднял на нее глаза.
– Спасибо, – пробормотал он. – Я… мне уже лучше.
– Может быть, позвать доктора? – несмело предложила Эдит.
– Нет, благодарю, – отрезал офицер, поднимаясь на ноги. – Со мной все в порядке. Я дойду, не беспокойтесь.
– Вам письмо пришло, – сказала Амалия мягко. – Я положила его вам на стол.
– Да? – устало выдохнул Шарль, вытирая рот тыльной стороной руки. – Наверное, это опять тетушка Адель написала. Что ей от меня надо – ума не приложу…
Он поклонился Амалии, вскинул голову и удалился. Но даже по его походке было видно, до чего он устал и измучен.
– Он все время кашляет по ночам, – неожиданно подала голос Эдит. – И постоянно ходит, не может уснуть.
– Откуда вы знаете? – поднял голову Нередин.
– Его комната как раз над моей, и я многое слышу. Он все время говорит нам, что скоро выздоровеет, но я слышала, как Севенн разговаривал о нем с доктором Гийоме. Я не все поняла, но… Они боятся, что скоро ничего не смогут сделать. Он слишком долго не обращал внимания на свое здоровье, а когда наконец пошел к врачу, было слишком поздно.
– Вот и с Мэтью то же… – вздохнула Катрин. – Английский врач с Харли-стрит объяснил ему, что у него просто лопнул сосуд в горле, а на самом деле у него уже была чахотка. Но его опекун, дядя, не хотел его отпускать, наверное, он и велел доктору так сказать…
Амалия поморщилась.
– Скорее всего, дядя просто хотел унаследовать все после племянника, – мрачно проговорила она. – До чего же все это гадко…
– Вы тоже так думаете? – робко спросила Катрин. – И Мэтью… он тоже так решил… Он уже второй год живет в санатории, управляет всеми делами отсюда. Он борется, я знаю, не хочет сдаваться. И я уверена, что его дядя ничего не получит.
Нередин хотел было заметить, что это будет только справедливо, но оглянулся на Эдит Лоуренс, и слова замерли у него на языке. Напряженное выражение лица девушки испугало его. Взгляд Эдит застыл, поперек лба вздулась косая жила. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Алексей поспешно отодвинулся назад. «Черт возьми, – подумал он, – уж не умалишенная ли она?» Он вспомнил ее истерические интонации, подобие одержимости, с которой она швыряла на стол карты во время гадания, ее слезы во время приступа у Уилмингтона недавно за обедом. Нередин уже заметил, что для миниатюрной англичанки характерны резкие перепады настроения, что она то хохочет, то рыдает; может гладить кошку, а в следующее мгновение оттолкнуть ее от себя… И все незначительные признаки, если вспомнить их, складывались в довольно неприятную картину. И снова Алексей увидел пытливый взгляд Амалии, и снова его кольнуло неприятное ощущение, что она видит его насквозь, что ни одна его мысль, ни одно его чувство не является для нее секретом.
– Кажется, погода опять меняется, – обронила баронесса.
И ее простая – незначительная, в сущности, – фраза разрядила обстановку. Лицо Эдит разгладилось, девушка тоже произнесла несколько слов о погоде. И Катрин вставила несколько слов о Гийоме, который не любит дождя, угрожающего здоровью его пациентов.
– Интересно, что сегодня будет на обед? – спросил Нередин.
Показалось ли ему или Амалия действительно слегка сжала его руку в знак благодарности за то, что он таким образом поддержал ее? «Да нет, – отмахнулся Алексей, – глупости, все мое воображение… И никакая Эдит не сумасшедшая, просто очень впечатлительная девушка, которой тяжело видеть, как вокруг нее умирают люди».
– Вы сегодня без розы, – улыбнулся он Амалии. – Подождите, я сейчас вам принесу…
Она хотела его остановить, но он уже двинулся по дорожке, огибающей дом. Дорожка вилась между кустов и в конце концов приводила на берег моря, над которым в томительном предчувствии грозы летали с пронзительными криками чайки.
Поэт сразу же нашел куст алых роз. Он исколол себе все пальцы, но сорвал самую красивую розу и чуть не бегом вернулся обратно.
– Вот, – сказал Нередин, протягивая розу Амалии. – Она для вас… почти такая же красивая, как вы.
Если бы Алексей поднял голову, то увидел бы в окне лицо Натали Емельяновой. И то, что было написано на ее лице, ему бы вряд ли понравилось.
Перед обедом поэт вернулся к себе в комнату и стал переодеваться. Он не сразу заметил, что в окружающей обстановке что-то изменилось. Вернее, не изменилось, а было не таким, как раньше. Это «что-то» подспудно беспокоило его, когда он менял рубашку и завязывал галстук. Какая-то мелочь, деталь, на которую, вероятно, вовсе не стоило обращать внимания, но все же, все же…
И, только дойдя до дверей, он понял, чего на самом деле ему не хватало, – скомканные листки с набросками стихов, лежавшие под столом, исчезли.
Глава 8
– Может быть, их выбросили слуги? – спросила Амалия.
Но поэт покачал головой:
– Нет, я спрашивал у Анри и у остальных. Они клянутся, что никто даже не заходил в мою комнату.
Амалия пожала плечами.
– Весь вопрос в том, можно ли верить их словам, – сказала она. – Допустим, кто-то из слуг в ваше отсутствие прибрался в вашей комнате. А потом вы стали искать листки, слуга вспомнил, что вы поэт, испугался, не уничтожил ли важную для вас бумагу, и решил на всякий случай все отрицать. Вот вам одно объяснение, и вполне правдоподобное. Или другой вариант. – Баронесса слегка поморщилась. – Некто, кто дорожит вашим творчеством, пробрался в вашу комнату и взял себе ваши черновики на память. Но тут доказать что-то будет еще труднее, чем в первом случае.
Они стояли у окна столовой. Прочие обитатели санатория, разбившись на группы, вяло переговаривались между собой. Кто-то читал газету, одна из немецких дам, примостившись за угловым столиком, исписывала пятый лист почтовой бумаги. Обед еще не подали, но мадам Карнавале уже успела всем любопытствующим сообщить сегодняшнее меню, и пациенты заметно приободрились. Кормили у доктора Гийоме хорошо, на поваров он не скупился. Поэт поймал взгляд одиноко сидевшей в углу Натали – взгляд ее, как показалось Алексею, был немного обиженным. Он повернулся к баронессе. Красная роза, которую он сорвал, пламенела на ее груди.
– Я бы не хотел никому причинять неприятности, – промолвил он извиняющимся тоном. – Черновики были пустяковые, но… Мне неприятно само то, что кто-то без спросу взял мои бумаги. Ничего особенного в них не было, и тем не менее… – Он беспомощно развел руками.
– Что-то Шарля долго нет, – неожиданно произнесла Амалия.
Поэта кольнула ревность – как просто, как привычно она назвала офицера по имени, Шарлем, в то время как сам он оставался для нее «вы, Алексей Иванович». И, хотя Нередин отлично сознавал, что это глупо, он с каким-то раздражением стал думать, что шевалье не слишком умен, все рассказы его похожи друг на друга, и даже тот, где говорилось о том, как он спас дочь вождя дружественного французам племени, которого хотели убить англичане, наверняка вранье и хвастовство. Он знал, что несправедлив, но ничего не мог с собой поделать.
Но вот дверь распахнулась, и последним в столовую вошел Шарль де Вермон. Сейчас он был немного бледен, но улыбался и, подойдя к Амалии, поцеловал ей руку.
– А мы уж думали: куда вы могли деться? – полушутливо-полусерьезно проговорила молодая женщина, но и намека на веселость не было в ее глазах.
– Бога ради, извините, – сказал Шарль, – просто я искал письмо.
– Какое письмо? – поразилась Амалия.
– То самое, которое вы мне принесли. Вы же положили его на стол, верно?
– Да. Там оно и должно быть.
– Ну так вот: его там нет!
Алексей прислушался.
– То есть как – нет? – спросил он. – Может быть, его кто-то взял?
– Кому оно нужно? – возразил офицер. – Я обыскал всю комнату, но письма не нашел. Как сквозь землю провалилось!
– Хм, поразительное совпадение… – уронила Амалия. – У месье Нередина пропали бумаги, теперь у вас исчезло письмо…
Теперь пришла очередь удивляться офицеру:
– Какие бумаги? Надеюсь, ничего важного?
– Черновики моих стихов, – пояснил поэт. – Я все утро пытался сочинять, потом вышел прогуляться, а когда вернулся, листки куда-то исчезли.
– Очень странно! – воскликнул Шарль. – А больше у вас ничего не пропало?
– Я проверял, все остальные вещи на местах.
– Прошу прощения, что-нибудь не так? – За спиной офицера как по волшебству материализовался доктор Севенн.
Алексею не хотелось посвящать молодого человека в подробности происшедшего. Для себя он почти уже решил, что черновики наверняка взяла на память художница, и не собирался придавать неприятному факту больше значения, чем он того заслуживал. Но Шарль де Вермон уже рассказывал доктору подробности двух пропаж в санатории. Филипп взволновался, попросил слугу позвать Шатогерена и немедленно ввел его в курс дела. В санатории появился вор! Этого еще не хватало! Надо немедленно допросить слуг, всех, кто мог что-либо видеть! Доктор Гийоме только что уехал к пациенту по срочному вызову, и надо же было, чтобы такое случилось в его отсутствие… Даже бородка молодого врача встала дыбом от возмущения.
– Успокойтесь, Филипп, – вмешался Шатогерен. А затем обратился к поэту: – Скажите, месье, вы очень жалеете о пропаже своих черновиков?
– Да, в общем-то, нет, – сознался Нередин. – Просто как-то неприятно…
– Понятно, – кивнул врач. – Теперь вы, сударь. Скажите, письмо было очень важным?
– Откуда мне знать? – пожал плечами офицер. – Я вообще в глаза его не видел. Скорее всего, его прислала тетушка Адель, которая мне пишет чуть ли не каждый день, так что не думаю, что потеря большая.
– Оно было адресовано в Африку, – сказала Амалия.
– В Африку? – озадаченно переспросил Шарль. – Позвольте, так что, письмо ехало за мной из Алжира в Париж, из Парижа в Шантийи и потом сюда? Нет, тогда оно не может быть от тетушки Адели, та прекрасно знает, где я нахожусь. Может быть, какой-нибудь мой сослуживец написал мне? Но в полку был известен мой парижский адрес. – Он покачал головой и обратился к Амалии: – А вы не видели, от кого было письмо?
– Честно говоря, я не запомнила, – призналась Амалия. – Конверт весь был в штампах и почтовых пометках, на нем едва можно было разобрать даже ваше имя.
– Поразительно, – вздохнул офицер. – Ну если в послании было что-то о наследстве от дядюшки Грегуара, то я буду безутешен.
– В самом деле, там не могло быть что-нибудь ценное? – внезапно заинтересовалась Амалия. – Что-нибудь, из-за чего письмо стоило украсть?
– Сударыня, неужели вы приняли всерьез мои слова о возможном наследстве? – с комической серьезностью воскликнул Шарль. – Успокойтесь, прошу вас. Конечно, дядюшке Грегуару уже хорошо за шестьдесят, но он, знаете ли, вроде тех дубов, которые только разрастаются вширь, и никакие жизненные бури им нипочем. Он уже похоронил дочь и одну из жен… или одну из дочерей и двух жен, точно не помню. Полагаю, он и меня переживет. И если завтра вспыхнет эпидемия чумы или какой-нибудь холеры, то дядя наверняка окажется в числе уцелевших и все так же свирепо будет ругать правительство, которое, по его словам, ничего не стоит. Да и потом, даже если мне повезет и он преставится прежде меня, не сомневаюсь, что завещает мне дядюшка лишь пару табакерок и какую-нибудь чепуху, а основное состояние отпишет господину Пастеру или господину Коху. Он мизантроп и считает, что все кругом – болваны, а ученые разве что поменьше болваны, чем прочие.
– И все же мне не нравится, что письмо исчезло, – откликнулась Амалия, которую шутливый тон собеседника ничуть не убедил. – Я хорошо помню: положила его на стол, и оно не могло никуда деться. Разве что окно было открыто и какой-нибудь сквозняк… Но окно было закрыто, – добавила она.
Доктор Севенн повторил, что присшествие очень странное, в санатории вообще никогда ничего не пропадало. Но доктор Шатогерен покачал головой:
– Вы только недавно заступили на должность, Филипп, а я тут уже несколько лет. Был однажды неприятный случай с одной особой, которая страдала болезненной манией присваивать чужие вещи.
– Клептоманией? – быстро уточнила Амалия.
– Именно так. Конечно, доктор Гийоме в конце концов все узнал и выставил ее за дверь. Насколько я помню, она брала шпильки, пуговицы и тому подобную мелочь. – Он поморщился. – Обещаю вам, мы разберемся в случившемся. Если виновны слуги, они будут наказаны; если кто-то из пациентов – мы тоже не оставим происшествие без внимания. А теперь, господа, и вы, сударыня, прошу к столу. Сегодня наш повар Жюль особенно постарался!
Глава 9
Четыре мятых листка с набросками – и письмо.
Кому понадобилось их брать? И самое главное – зачем?
Если, допустим, черновики взяла Натали, то при чем тут письмо? И вообще, что такого может быть в письме, чтобы им пожелал завладеть посторонний?
Алексей чувствовал, что маленькая тайна занимает его все больше и больше. Стихи не ладились, он скучал, не находил себе места, и тут судьба подбросила ему приключение. Не самое, допустим, интересное приключение, но все-таки…
«Она или не она? – думал он, глядя на Натали, которая ела, широко расставив локти. – Но при чем тут де Вермон? Зачем тогда письмо?»
И внезапно он понял. Ну конечно же… Дело вовсе не в письме, а в баронессе Корф. Письмо пропадает, а всем известно, что разносила письма баронесса. На кого думают тогда? На нее, разумеется. Начнут гадать: может быть, в письме были деньги, может быть, она нарочно украла… Вот поэтому Натали и стащила его. Потому что она ненавидит Амалию… за то, что та является всем, чем Натали хотела бы быть. И потом, пропавшее письмо идеально отводит подозрения от нее самой. Всем же известно, что французский офицер для нее ничего не значит.
Это была не то чтобы логичная версия, а версия прямо-таки неуязвимая, блистательно объяснявшая все неувязки и противоречия. В самом деле, никто из обитателей санатория, кроме Натали, не был фанатичным поклонником русского поэта – по крайней мере, до такой степени, чтобы таскать его поэтические наброски. Да никому подобное просто в голову прийти не могло!
Успокоившись насчет того, кто был вором, Алексей задумался, как бы ему теперь вывести художницу на чистую воду.
«Что, если дать ей понять, что мне все известно? – размышлял он. – В романах, опять же, такой прием всегда срабатывает. Только неизвестно, можно ли романам вообще доверять… – Поэт заметил, что Натали не поднимает глаз от тарелки, и приободрился: – Ага, мы уже страдаем, у нас на душе неспокойно, потому что совесть нечиста… Наверняка она должна как-то себя выдать. Стоит только на нее сурово посмотреть…»
И он посмотрел. Но продолжение оказалось вовсе не таким, как он ожидал. Натали вся засияла смущенной улыбкой. Заметив, что в течение всего обеда поэт не сводит с нее взгляда, она, конечно же, истолковала его внимание самым выгодным для себя образом. А сконфуженному Нередину немедленно захотелось провалиться сквозь землю.
«Нет, это просто… просто черт знает что! – в сердцах подумал он. – Или она совершенно лжива и бессердечна, или… или все-таки ни при чем. – Он еще раз посмотрел на лицо Натали и убедился, что на нем нет и тени угрызений совести или каких-то душевных мук. – Ей-богу, вот если бы я не был уверен, что кража – ее рук дело, то ни за что бы не поверил, настолько у нее безмятежный вид. Однако большой вопрос, можно ли вообще верить женщинам!»
Погрузившись в раздумье, поэт не сразу расслышал, что Эдит обращается к нему с каким-то вопросом, и невпопад брякнул: «Да, конечно». Англичанка воззрилась на него с изумлением, и Нередин очнулся.
– Что такого я сказал, Амалия Константиновна? – быстро спросил он.
– Вы только что подтвердили, что Россия будет воевать с Англией, – безмятежно проговорила Амалия, однако глаза ее улыбались.
Но политика в то мгновение совсем не занимала поэта.
– А мне кажется, что Россия будет воевать с Германией, – веско уронил Уилмингтон. – На стороне Франции.
– Война – ужасная вещь, – вздохнула Катрин, и ее красивые глаза затуманились.
– Может быть. Но Франция наверняка выступит против Германии, – продолжал англичанин. – Не зря же их канцлер заявил, что эта война может случиться через десять лет, а может, и через десять дней.[8]
– Да какая разница, в конце концов, кто с кем будет воевать? – вырвалось у Нередина нетерпеливое.
Но он сразу же понял, какую ошибку совершил, потому что почти все немедленно ополчились против него – с таким жаром, как будто именно за их столом решалась судьба Европы. С одной стороны, Германия и Австрия, с другой – Франция, которая лишилась Эльзаса и Лотарингии и теперь готова перевернуть небо и землю, чтобы вернуть их обратно. Но Франция слишком слаба, чтобы выступить в одиночку, и поэтому вербует союзников, но все тайные договоры за семью печатями… Однако ведь тайны на то и существуют, чтобы их раскрывали. Будет война, потому что Германия не отступится от своих притязаний, потому что Англия не допустит, потому что Россия…
– Россия традиционно связана с Германией, – веско уронила мадам Карнавале. – Взять хотя бы Екатерину Великую…
– Если уж на то пошло, королева Виктория наполовину немка, – насмешливо парировала Амалия.
– Сударыня, я попросил бы вас! – возмутился Уилмингтон. Его негодованию не было предела, как будто баронесса сказала что-то неприличное.
– А у нас больше нет императора, – вздохнул Шарль. – Ни великого, ни малого. Даже претендент на королевский трон – и тот умер[9]. И к чему все это приведет, непонятно.
– А я считаю, что России совершенно незачем воевать за чужие интересы, – резко сказала Натали. – Пусть Европа сама разбирается со своими проблемами, нам собственных хватает.
И Нередина поразило, до чего точка зрения неприятной художницы созвучна его собственным мыслям по данному поводу.
– Но, к сожалению, не все думают, как вы, – отозвался Уилмингтон. Как и большинство англичан, раз начав говорить о политике, он уже не мог остановиться. – Одним словом, война будет непременно, вопрос только – когда.
– Вы так говорите, как будто собираетесь до нее дожить, – буркнул поэт.
Он сказал именно то, что думал. К чему все разглагольствования о европейских интересах и мировом господстве, когда у половины беседующих вместо легких решето, когда в каждой комнате дома, где они живут, затаилась смерть, когда неизвестно, встретятся ли спорщики завтра за столом в прежнем составе? Зачем бесполезное переливание из пустого в порожнее, когда есть дела куда более важные – почитать интересную книгу, до которой раньше не доходили руки, сорвать красную розу для хорошенькой женщины, просто дышать, просто жить и наслаждаться жизнью? Разве обязательно надо выяснять, куда кренится политический флюгер той или иной страны, спорить, тратить время и нервы? Не лучше ли оставить политику политикам, а себе – жизнь, единственную, неповторимую, которая и так висит на волоске?
Нельзя сказать, что Нередин был совсем уж не прав; но форма, в которую он облек свои мысли, была определенно неправильной. И то, что у него вырвалось, получилось нехорошо, грубо, по-скифски. Катрин медленно положила вилку. Тяжелые щеки Уилмингтона задрожали, он дернул нижней челюстью и поднялся из-за стола.
– Простите, у меня что-то больше нет аппетита… прекрасный обед… да.
«Я свинья», – мрачно подумал Алексей. Ему было невыносимо стыдно.
Шаркая ногами, Уилмингтон вышел за дверь. Катрин замешкалась, но в конце концов бросила салфетку на стол и устремилась следом за ним.
– Мне кажется, сегодня будет дождь… – нерешительно начала Эдит.
– Определенно, – поддержала ее мадам Карнавале.
Амалия поглядела в окно.
– Доктор Гийоме вернулся, – сказала она.
И все с облегчением ухватились за новую тему. Интересно, к кому доктор ездил? Ведь он же терпеть не может покидать пределы санатория…
Но вот принесли кофе, и все расслабились. Кто-то отправился к себе подремать после обеда, одна из немецких дам уселась возле окна и принялась вязать. Как она объясняла поэту двумя днями раньше, вообще-то она терпеть не может вязать, но это занятие хорошо успокаивает нервы.
К Нередину подошла Натали.
– Алексей Иванович… Вы еще не надумали насчет портрета?
– Нет, – ответил он, глядя в сторону. Он до сих пор переживал из-за того, что сказал Уилмингтону. Ну англичанин, ну не слишком приятный, рыжий и чванный… И что? Вовсе он не заслужил с его стороны такого отношения. – Мне придется поработать, восстанавливать строки…
– Какие строки? – удивилась Натали.
Он повернул голову и внимательно посмотрел в ее лицо. И похолодел.
Она ничего не знала. Понимаете, ничего… Она даже не подозревала, что кто-то стащил его наброски, которые он высокопарно назвал строками. Натали ни при чем, теперь он был совершенно убежден.
Но если она ни при чем, то кто же тогда?
– Я случайно уничтожил свои черновики, – как можно более небрежно объяснил он. – Теперь придется писать заново…
– А!
И все же в ее восклицании было больше недоумения, чем понимания…
Амалия вышла в сад. В ветвях деревьев переговаривались птицы, легкий ветерок щекотал листья, и они покачивались словно от невидимого смеха. Воробей сел на дорожку, чирикнул, пропрыгал несколько шагов, вильнул хвостом и улетел.
«Ох уж мне эти поэты, – с досадой думала баронесса, – ох уж эти ранимые души, которые сами на поверку оказываются такими бестактными… И Нередин не лучше прочих, даром что сейчас едва ли не первый поэт России. Зачем он обидел англичанина? Того и так жизнь не баловала, мать умерла в родах, отец – когда юноше было пятнадцать лет, вечно он среди чужих людей, вечно один… и тяжелая болезнь, которая теперь уже не отступит, достаточно посмотреть на его лицо… Фи, Алексей Иванович, как некрасиво было с вашей стороны намекать бедняге, что ему не так уж много осталось!»
Она нащупала рукой красную розу на корсаже, которую ей принес поэт, и, сорвав ее, сердито отбросила на траву.
…А в комнате Уилмингтона тем временем сидела Катрин и гладила по голове несчастного, который лежал на диване и рыдал так, словно у него разрывалось сердце.
– Я так и знал… так и знал… Но они же ничего не говорят… наши врачи… И я даже не знаю, сколько мне осталось… А я не хочу умирать! – Он поднял голову, его некрасивое одутловатое лицо было залито слезами. – Катрин, я больше так не могу… И не хочу. Черт с ним, с доктором Гийоме и его запретами, ведь не он же умирает от чахотки! Скажите, Катрин, – он собрался с духом, – вы выйдете за меня замуж? Вы знаете, как я к вам отношусь, вы единственный человек, который… который… – Он искал слов и не находил. – Вы выйдете за меня? Я вовсе не беден, даже наоборот… Обещаю, вы не пожалеете!
Катрин вздохнула.
– Да, – после паузы промолвила она.
Глава 10
– Должен признаться, – сказал Шарль де Вермон, – ваши слова не выходят у меня из головы.
– Вы о чем? – спросила баронесса.
– О пропадающих ценных письмах. Вот уже битых полчаса я ломаю голову над тем, кто из моих родственников мог оставить мне наследство, – и, однако же, не нахожу никого, кто был бы способен на такую любезность.
Они сидели в библиотеке – просторной комнате, целиком заставленной по стенам старинными шкафами с книгами. Амалия рассеянно листала «Век Людовика XIV» Дюма с прелестными иллюстрациями и буквицами работы Лезестра. Что касается Шарля, то он слегка выпадал из окружающей обстановки, потому что его куда труднее было представить себе с книгой в руках.
В дверь без стука вошел Ипполито Маркези. Заметив баронессу и ее спутника, священник в нерешительности остановился.
– Входите, месье, – приветствовал его Шарль. – Как видите, это библиотека. В основном тут книги, которые подарил санаторию герцог Савари, и я уверен, здесь найдется литература на любой вкус.
– Большинство книг расставлено по авторам, – добавила Амалия. Священник подошел к шкафам и стал рассматривать корешки.
– Гм, – вполголоса промолвил Шарль, – он стоит возле буквы Б. Стало быть…
– Стало быть? – в тон ему подхватила Амалия.
– Стало быть, ему нужен «Декамерон» Боккаччо… или я не Шарль де Вермон, – тихо ответил офицер.
Но итальянец уже отошел к другому шкафу.
– Вы проиграли, Шарль, – заметила Амалия. – Он уже возле буквы М. Держу пари, он ищет книгу, которую написал его дядя кардинал. «О необходимости целомудрия» или что-то в таком роде.
Шарль де Вермон самым непочтительным образом фыркнул.
– Если эту необходимость надо обосновывать в увесистом томе… – начал он.
– Шарль! – выразительно прошептала Амалия, делая большие глаза. – Вам помочь, святой отец? – спросила она, повышая голос.
– Благодарю вас, не стоит, – отозвался священник. – Я искал здесь дядину книгу, но ее, похоже, тут нет.
– Зато тут много других книг, – объявил Шарль. И даже столь простую фразу он ухитрился произнести самым что ни на есть двусмысленным тоном.
В дверь постучали, и через мгновение на пороге показалась Натали Емельянова.
– А, Амалия Константиновна, вы здесь! Вы уже слышали новость?
– О чем? – спросила молодая женщина.
– Мэтью Уилмингтон и Катрин Левассер собираются пожениться.
– Что такое? – спросил Шарль, и Амалия перевела на французский слова Натали.
– А он взял Монтеня, – объявил офицер, кивая на священника, который с трудом извлек тяжелый, в металлической окантовке, том с полки и затем едва не уронил его на пол. – Значит, Матьё и Катрин… Что ж, все к тому и шло. Он с нее глаз не сводил.
– Вряд ли это плохо, – продолжала Натали. – Говорят, для чахоточных женщин полезно рожать.[10]
– Доктор Гийоме так не считает, – спокойно заметила Амалия.
– А что случилось с черновиками Алексея Ивановича? – внезапно спросила художница. – Мне он сказал, что случайно уничтожил наброски, а доктор Севенн проговорился, что их украли. Что с ними на самом деле произошло?
– Похоже, слуги проявили излишнее усердие, – уклончиво ответила баронесса. – Ничего особенного.
Натали сердито передернула плечами.
– Это вы так говорите. Но мы же не знаем, какие стихи могли быть на тех листках. Хотя вам, наверное, неважно.
– Почему? – спросила Амалия.
Натали нерешительно взглянула на нее.
– Мне кажется, вам больше по вкусу какой-нибудь Фет, чем Нередин. «Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело».
– «Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло», – закончила Амалия. – Но вы не правы, стихи Нередина я тоже люблю.
Вновь на душу нахлынули звуки, Бередя застарелые раны. Это музыки нежные руки Прикоснулись к лицу фортепьяно. Да, все будет, я верю, я знаю, Если даже забвенье бессильно Перед нашей любовью… Смолкает Лепет клавиш. Вы правы – все было.Шарль беспокойно шевельнулся. Он понял, что Амалия процитировала какие-то стихи, и ему было досадно, что он не понимает их смысла. Священник, прижимая к груди том Монтеня, смотрел на баронессу во все глаза.
– Да, «Северные поэмы» – хорошая книга, – кивнула Натали. – Но…
– Но вы предпочитаете «Деревянную Россию», – заметила Амалия. – Ту, которая из цикла «Прошлое»:
Перелески, ветер синий, Гунны, скифы, трын-трава, Деревянная Россия, Деревянные дома. Не река порой весенней Потеряла берега — Деревянные рассветы, Деревянные снега. На березе, на осине Жаром марево горит — Деревянная Россия, Деревянные дожди.Баронесса сделала паузу. Натали кивнула и продолжила:
Не спеши, наездник вражий, Спрячь свой меч, колчан и щит — Деревянная держава, Деревянные кресты. Мир из слабости и силы, Мир чудес и простоты — Деревянная Россия, Деревянный монастырь. Время жнет и сеет жизни, Вечность – капелька росы — Деревянная Россия, Деревянные часы…– Это гениально! – воскликнула художница искренне. – Просто гениально! Среди всех прочих… которые… – она делала руками беспомощные жесты, словно пытаясь восполнить недостающие слова. – «Средь шумного бала, случайно…»[11] и «У царицы моей есть высокий дворец…»[12] – вроде бы красиво и поэтично, но так искусственно, так оторвано от жизни… и вдруг…
Девушка заметила, что Амалия смотрит куда-то ей за спину, и обернулась. В дверях стоял Алексей Нередин, но по выражению его лица нельзя было понять, слышал ли он, как две молодые женщины читали его произведения.
– А мне нравятся стихи графа Алексея Толстого, – неожиданно промолвил он. – В нашей поэзии он продолжатель пушкинской традиции, что дорогого стоит.
Он посторонился, пропуская Ипполито Маркези, который отвесил общий поклон присутствующим и ушел, унося с собой Монтеня.
– У вас очень музыкальный язык, – объявил Шарль Амалии. – Но очень непонятный.
Баронесса пожала плечами.
– Если языки не учить, то все они так и останутся непонятными, – с восхитительной самоуверенностью парировала она.
– О, помилуйте! – вскинулся Шарль. – Разве я вам не рассказывал, как из меня хотели сделать аббата и только полная неспособность к латыни меня и спасла? Иначе мне бы тоже пришлось писать, как тому кардиналу… о необходимости воздержания. Да я бы умер прежде, чем взялся за перо!
Амалия с укоризной поглядела на него.
– «Деревянная Россия» – первое ваше стихотворение, – горячо заговорила Натали, обращаясь к поэту. – Вы помните, как вы его написали?
Алексей поморщился. Вовсе не первое – до него были десятки, если не сотни, опытов, но полноценными стихами он их не считал. Так, пробы пера, имеющие значение лишь для автора. И рождение этого стихотворения тоже не запомнилось ему; сохранилось лишь ощущение какой-то невероятно унылой поездки по делам полка – то ли на подводах по бесконечной грязной дороге, то ли на поезде. В памяти остались плетни, дома, кладбища… А может быть, и не было никакой поездки, он сам ее выдумал уже потом, когда его стали осаждать со всех сторон вопросами. Просто он написал стихотворение, которое ему самому понравилось, дал ему отлежаться, выправил его, отправил в журнал и забыл. А потом…
А потом грохнул и лопнул оглушительней фейерверка неописуемый скандал, и имя безвестного до того поручика Алексея Нередина прогремело на всю Россию. Номер журнала зачитывали до дыр, стихотворение переписывали, цензора, который пропустил шесть строф с пометкой «Из цикла «Прошлое», вызвали в цензурный комитет для дачи объяснений, а вокруг автора завертелась и вовсе какая-то непонятная чехарда. Каков смельчак, восхищались либералы, вот прямо так, с плеча, взял и рубанул правду-матку, что держава-то деревянная, да еще протащил такую крамолу сквозь цензуру, усыпив ее подзаголовком цикла… Каков мерзавец, вопили ретрограды, гуннов и скифов ему подавай, нет чтобы написать, как Наполеону по шее накостыляли… Это не стихотворение, а вызов здравому смыслу, захлебывались желчью критики. Где, интересно, автор мог увидеть синий ветер? Там же, где и зеленых чертей? Не остался в стороне даже сатирический поэт Дмитрий Минаев, пустивший по рукам эпиграмму про стихотворца «с деревянной головой», которому все видится исключительно в деревянном свете.
В полку тоже было неладно: одни офицеры подходили и поздравляли Нередина, и было видно, что они действительно на его стороне, другие же, начиная с полковника, куксились и при встрече разговаривали исключительно сквозь зубы. Алексея же вся возня вокруг его стихотворения порядком удивила и озадачила. Его не покидало стойкое ощущение, что все, абсолютно все, прочитали в его стихах совершенно не то, что он хотел сказать. Одни видели в его произведении только фигу в адрес существующего строя, другие – оскорбление едва ли не лично себе. Но сам он не имел в виду ничего, кроме того, что было в стихотворении сказано, и его раздражало, что любые попытки объяснить это наталкивались на реплики вроде: «О да, конечно, но вы же не можете говорить иначе!»
А потом его стихотворение прочитал государь и будто бы сказал: «Неплохо пишет». Может быть, даже и не прочитал и, может быть, ничего такого не говорил, но все уверовали, что так оно и было. И либералы сразу же как-то потускнели, и ретрограды подобрели на глазах. Потому что, когда крамола одобрена сверху, это уже не крамола. И будьте благонадежны, все толковые государи отлично сие знают. Как и то, что только слабые правители воюют с поэтами.
А Нередин ушел со службы и начал сочинять стихи – теперь уже не от случая к случаю, а как настоящий поэт. За пять лет он выпустил три сборника – «У камина», «Северные поэмы» и «Огненная башня». И все они имели успех; гимназистки и влюбчивые барышни заучивали наизусть лирические стихотворения, более основательные читатели жадно впитывали его «Все забыть, раствориться в покое…» или «Этот город, это небо…», которые вполне могли сойти за обличительные ламентации. Иные его стихи стали популярными романсами, и самым знаменитым стал тот, музыку для которого написал известный композитор Чигринский. Стихотворение было из первого сборника:
Когда сидишь ты ночью у камина И вспоминаешь умерших друзей, Золу воспоминаний кто незримый Всех чаще ворошит в душе твоей? Кого ты видишь в пепельном налете Под гаснущими струйками огня, Которые в нестройном хороводе Над угольками пляшут, мглу дразня? Кого зовешь ты в темноте кромешной, Чье имя гаснет на твоих губах? Тебя он видит, слышит и, конечно, Одну тебя любил он, лишь тебя…Алексей вспомнил, что романс очень любила К. и исполняла его чаще остальных. Интересно, будет ли она вот так вспоминать его, когда поэт умрет?
«Нет. Не будет. Потому что стихи – всего лишь красивые стихи, а жизнь… Жизнь – это жизнь», – ответил Нередин сам себе.
И увидел прямо перед собой глаза Натали. Кажется, она о чем-то его спрашивала. Ах да, как он написал «Деревянную Россию».
И как ей объяснить, что теперь он вовсе не считал то стихотворение таким уж замечательным, что его представления о поэзии с тех пор расширились, что он открыл для себя другие вершины и другие горизонты, что его интересуют новые возможности стиха – верлибры и опыты французских символистов? Как втолковать, что для него вообще стихи имеют значение, лишь пока он их пишет, и что в момент, когда они рождаются для читателя, для него они уже мертвы? И она все еще хочет знать, как он сочинил то давнее стихотворение?
– Я не знаю. – Впервые в жизни Нередин мог себе позволить быть откровенным. – Стихи сами ко мне приходят. Очень трудно объяснить…
«Или не приходят», – закончил он про себя. Но последнее им было и вовсе ни к чему знать.
На самом деле Алексея куда больше волновало другое.
– А ваша роза, сударыня? – спросил он у Амалии. – Где она?
Баронесса Корф не любила то, что про себя называла «детской ложью», но сейчас ей все же пришлось солгать.
– Кажется, я ее потеряла, – сообщила она с самой очаровательной улыбкой.
– Тогда я принесу вам другую, – объявил поэт, поворачиваясь к двери.
– Не стоит, Алексей Иванович, – бросила ему вслед Амалия. – Будет гроза.
Но поэт не слушал ее и через несколько минут уже шел по дорожке, огибающей дом.
Ветер раскачивал кусты с такой яростью, словно хотел выдрать их с корнем. Чайки, летавшие над морем, жалобно кричали.
Алексей сорвал розу и уже собрался уходить, когда его внимание привлекло опрокинутое кресло впереди, на самом краю скалы. Берег здесь круто обрывался в море, и до воды было не меньше двадцати метров.
«Это, должно быть, кресло мадам Карнавале… – сообразил Нередин. – Кто-то еще говорил, что старушка любит сидеть на берегу одна… Но где же она?»
А да, наверняка уже в доме, тем более что гроза разразится с минуты на минуту. Поэт подошел к креслу, собираясь поднять его и отнести подальше от края скалы, чтобы его не сдуло в море, и машинально посмотрел вниз.
Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы осмыслить то, что Алексей увидел. Но зато теперь он точно знал, что мадам Карнавале никуда не ушла. Ее тело покачивалось на волнах внизу, мокрая юбка облепила ноги. Вокруг головы колыхалось алое пятно.
Глава 11
– Уверен, это был несчастный случай, – сказал доктор Гийоме. Он подошел к столу, взял бутылку и налил в бокал немного вина. – Выпейте, месье Нередин, вам не повредит.
Поэт принял бокал негнущейся рукой. Глупо, твердил он себе, просто ни с чем не сообразно. Ведь он служил в армии, знал, что такое смерть, видел ее в лицо. Но отчего-то нелепая гибель безобидной старушки произвела на него такое впечатление, что поэт до сих пор не мог прийти в себя. И еще он в первое мгновение подумал: неужели ей захотелось поплавать… Но Гийоме, конечно, о той глупой мысли говорить не стоит.
Стукнула дверь, и в кабинет вошел доктор Филипп Севенн, нервно пощипывающий белокурую бородку. Сейчас он был мрачен и строг, как какой-нибудь служащий похоронного бюро.
– Больные уже знают? – спросил у него Гийоме.
Молодой помощник кивнул.
– И, конечно, они взбудоражены, – скорее утвердительно, чем вопросительно, промолвил главный врач.
– Их можно понять, – заметил Севенн. – Совсем недавно она говорила, что здорова и собирается покинуть санаторий, а теперь…
– Да, – уронил Гийоме и стал смотреть в окно. – Полиция уже приехала?
Севенн кашлянул, поправил манжету на рукаве и кивнул:
– Инспектор Ла Буле из города. Шатогерен с ним разговаривает. Я полагаю, у нас не будет хлопот.
– Какие могут быть хлопоты? – пожал плечами Гийоме. – Старая дама сидела на краю обрыва. Возможно, у нее закружилась голова, возможно, женщина потеряла сознание и упала вниз. А внизу острые скалы, которые видны только при отливе. Смерть наступила, я полагаю, практически мгновенно… Что еще?
– Наверное, надо сообщить родственникам, – нерешительно промолвил Севенн. – Я не очень хорошо знал мадам Карнавале, но наверняка у нее должен быть… хоть кто-нибудь. Вы упоминали, она из Антиба, что совсем близко. Если родные захотят приехать на похороны…
– Хорошо, я пошлю им письмо, – вздохнул доктор Гийоме.
– Да, месье, должен вам сообщить, что граф Эстергази снова прибыл, – добавил помощник. Затем покосился на безучастного поэта, обмякшего в кресле. – Сказал, что пациентка опять плохо себя чувствует.
– Невыносимо, – забурчал Гийоме, – просто невыносимо! Я же только что был у них! Что мне теперь, насовсем к ним переселиться? Кроме того, все это вздор, женские капризы. Она вбила себе в голову, что умирает от чахотки. Я прослушал ее – отличные легкие, ни малейшего следа болезни. Она придумывает себе несчастья, потому что в ее жизни что-то не ладится. Скорее всего, женщина несчастна со своим мужем. Но с подобным, уж простите, не ко мне!
Алексею наскучили посторонние разговоры. Он залпом выпил вино, поднялся с места и поставил бокал на поднос.
– Извините, господин доктор… но, если вы не возражаете, я хотел бы вернуться к себе.
Господин доктор не возражал, и Алексей, откланявшись, ушел. В коридоре он столкнулся с Рене Шатогереном.
– Я вас искал, месье, – сказал врач. – Там полицейский инспектор хочет с вами побеседовать, потому что вы нашли тело. Ничего особенного – простая формальность. Он в библиотеке, заполняет бумаги.
Поэт ответил – впрочем, без особой охоты, – что будет рад помочь полиции, и отправился в библиотеку.
Шатогерен вошел в кабинет, где находились два других врача. При его появлении они как раз спорили по поводу вздорной пациентки, жены графа.
– Я уже сказал ей, – раздраженно твердил Гийоме, шагая из угла в угол, – что если она так опасается за свое здоровье, ей лучше поселиться у нас в санатории, где у меня будет возможность наблюдать ее двадцать четыре часа в сутки. Так нет, мадам устроилась на самой дальней вилле с целым штатом бестолковой прислуги и день и ночь изводит мужа своими жалобами. Да, и она сказала, что ни за что не поедет в санаторий, потому что не любит находиться в обществе посторонних. Ну просто замечательно, честное слово, замечательно! В конце девятнадцатого века верить, что ты сделана из другого теста, потому что твой муж какой-то там богемский граф…
– Вы говорите о жене месье Эстергази? – поинтересовался Шатогерен. – Кстати, он заплатил вам за ваши визиты?
– Да, – буркнул Гийоме, – и даже больше, чем мы договаривались. Но это ничего не значит. Мадам ничем не больна, и ездить туда – только зря тратить время. У меня и так достаточно больных, которым моя помощь куда нужнее. Не стойте, Рене, садитесь… Что вам сказал инспектор?
Шатогерен сел.
– Конечно, несчастный случай, – сообщил он. – Но огласка может нам сильно повредить. Поэтому я настоятельно попросил его держать язык за зубами и ничего не сообщать прессе. Сами знаете, как репортеры способны преподнести любое происшествие. Тем более что есть люди, которые спят и видят, как бы закрыть нашу лечебницу.
– Можете мне не говорить, я в курсе наших ученых нравов, – улыбнулся Гийоме. – Жаль, конечно, что все так обернулось, но в происшедшем нет нашей вины. Вы следите за Уилмингтоном и шевалье де Вермоном, как я вас просил? Из всех пациентов они двое внушают мне больше всего опасений.
– Мне тоже, – кивнул Шатогерен. – Да! Уилмингтон огорошил меня сегодня заявлением, что собирается жениться, и как можно скорее.
– Он сошел с ума? – изумился Гийоме.
– По-моему, он просто хочет с пользой прожить оставшиеся дни, – вставил Севенн с улыбкой.
– Не вижу в самоубийстве никакой пользы, – пробурчал Гийоме. – И кто же счастливая невеста? Уж, верно, не мадам Корф?
– Почему вы так думаете? – с любопытством спросил Шатогерен.
– Потому, что она абсолютно разумный человек, – вот почему, – отозвался Гийоме. – Приехав сюда, баронесса сказала: «Доктор, я хочу выздороветь, ради чего готова следовать всем вашим указаниям». Если бы все пациенты были такие, как она, доктора бы на них молились. Это вам не мадемуазель Натали, которая простудилась и чуть не умерла весной, потому что тогда стояла прохладная погода, но ей, видите ли, позарез нужен был закат над морем для картины.
– Может быть, вам стоит поговорить с Уилмингтоном? – предложил Шатогерен. – Вы же говорили, что сейчас станет окончательно ясно, рубцуется ли легкое или процесс все-таки пойдет дальше. У него пока еще есть шансы остаться в живых.
– Да, но не в том случае, если он женится, – возразил Гийоме. – Я два года потратил на то, чтобы остановить процесс. Пока Уилмингтон может жить только в санатории под моим присмотром. Если он вернется к обычной жизни, то погибнет.
– А что мне сказать графу Эстергази? – напомнил Севенн. – Он уверен, что вы бросите сейчас все дела и поедете с ним на виллу. Я ему сказал, что у нас произошел несчастный случай, но мое сообщение его не остановило.
– Я никуда не поеду, – раздраженно промолвил Гийоме. – Госпожа графиня совершенно здорова и от нечего делать выдумывает себе разные болезни. Увольте, но случай не мой.
– Однако граф платит хорошие деньги, – заметил молодой врач нерешительно.
– Я не ради денег сделался врачом, – отрезал Гийоме, и в его голосе зазвенели новые, металлические нотки. – Я стал им, чтобы лечить людей, а не тратить время на мающихся от скуки бездельников.
– Постойте, Пьер, – вмешался Шатогерен. Из всех трех врачей он производил впечатление наиболее рассудительного и уравновешенного человека. – Нам не следует пренебрегать графом Эстергази, когда в санатории только что произошло такое.
– Не вижу связи, – сердито буркнул Гийоме.
– Связь очень простая, – спокойно отвечал Шатогерен. – Если репортеры узнают о происшедшем и раздуют скандал, что в санатории знаменитого доктора Гийоме толком не следят за больными, не исключено, нам придется обратиться к Эстергази за помощью, чтобы заткнуть рот журналистам. Ведь у него большие связи, ничуть не меньше, чем у покойного герцога Савари.
– Вы, Рене, прирожденный политик, – со вздохом промолвил доктор, опускаясь в кресло. – Но я не хочу снова ехать на его виллу. Я уже был там три раза и ровным счетом ничего нового не увидел. Мадам здорова, и оснований для беспокойства нет никаких. Но чем больше доводов я ей привожу, тем меньше она меня слушает.
– Может быть, она послушает доктора Шатогерена? – предположил Севенн с улыбкой. – С его титулом ему гораздо легче укрощать капризных дам!
– Вы преувеличиваете, Филипп, – улыбнулся Шатогерен. – Но, на худой конец, я найду у нее что-нибудь неопасное и пропишу безвредный порошок, чтобы ее успокоить.
– В самом деле, Рене, сделайте одолжение, – сказал Гийоме. – Потому что если я еще раз увижу богемскую графиню, то могу и сорваться, что вряд ли пойдет на пользу санаторию и всем нам. Передаю ее в ваши руки… А кстати, какое у вас мнение о состоянии Эдит Лоуренс? Судя по всему, у нее начало туберкулеза, но странные скачки температуры меня беспокоят…
И трое людей, каждый из которых был специалистом своего дела, погрузились в обсуждение врачебных тонкостей, недоступных пониманию большинства смертных.
Глава 12
– Как все прошло?
Такими словами встретила Амалия поэта, когда он переступил порог гостиной, в которой находились почти все пациенты санатория. Эдит в углу раскладывала пасьянс, Натали стояла у окна, глядя на льющийся за ним дождь. Шарль сидел в кресле неподалеку от Амалии, Маркези уткнулся в книгу, но нет-нет да поглядывал на манипуляции Эдит. Уилмингтон и Катрин тихо переговаривались. Прочие пациенты разбились на группы. Одна из немецких дам писала очередное письмо, а отставной дипломат хмуро следил за маятником в стенных часах, словно тот нерадиво выполнял свою работу. Где-то вдали рассыпался гром, в последний раз хрустнул прямо над крышей дома и угас.
– Странное ощущение, – сознался Нередин. – Я думал, инспектор будет задавать мне разные каверзные вопросы, знаете, как всегда делают полицейские в книжках. Но он, по-моему, хотел только поскорее вернуться домой.
– А какие могут быть вопросы? – устало промолвила Натали. – Произошел несчастный случай – вот и все. Не убийство же.
Алексей поморщился.
– Я не уверен, – наконец сознался он.
– Почему? – заинтересовался офицер.
– Допустим, – принялся вслух размышлять поэт, – вы сидите в кресле, и тут вам стало дурно. Вы падаете на спинку кресла, и… и все.
– Можно и упасть с кресла, – возразила баронесса Корф, очень внимательно слушавшая поэта.
– На землю, – не стал спорить Алексей. – Но упасть со скалы можно, если только кресло стоит на самом краю. У мадам Карнавале была привычка ставить там кресло?
Натали зябко поежилась и обхватила себя руками.
– Странно, что вы про это заговорили, – внезапно сказала она. – Но я никогда не видела, чтобы старушка сидела на краю. Ей нравилось глядеть на море, но сидела она на достаточном расстоянии от обрыва.
– Откуда вы знаете? – поинтересовался Шарль.
– Я рисовала вид из окна на море несколько дней подряд, – объяснила молодая женщина. – И мадам Карнавале… А впрочем, что я говорю? Она же тоже есть на набросках, так что сейчас вы сами все увидите.
И через минуту художница принесла из своей комнаты пухлый альбом, полный самых разнообразных рисунков.
– Вот она в кресле… Это где-то с неделю назад. Видите? Теперь переверните страницу, рисунок сделали уже позже. Смотрите, где стоит кресло, – в нескольких шагах от розовых кустов.
– А ведь верно, – подал голос Шарль де Вермон, тоже разглядывавший наброски. – Я же видел мадам, когда срывал для вас розу, Амели… госпожа баронесса. Она не сидела на краю, до обрыва было шагов десять, не меньше. Странно, очень странно!
Натали нервно завела за ухо непокорную прядь. Щеки ее горели.
– А что, если она покончила с собой? – неожиданно выпалила девушка.
Алексей удивленно посмотрел на нее.
– Но почему? Мадам Карнавале выглядела абсолютно нормальной, собиралась скоро уехать из санатория…
– Она пробыла здесь не меньше месяца, – проговорила Натали, – и все время сидела за нашим столом, но я ни разу не слышала, чтобы она говорила о своих родных, не видела, чтобы она получала письма… Хотя нет, письмо было, но совсем короткое и только однажды. По-моему, она получила его… ну да, в тот день, когда вы приехали, Алексей Иванович…
– Откуда вы знаете, что оно было короткое? – спросила Амалия.
– Я проходила мимо, когда она его читала. Мадам сразу же спрятала листок, но я и так заметила, что на нем всего три или четыре строки. – Натали робко покосилась на поэта. – По-моему, она была очень одинокая… И уже немолодая. Может быть, ей было тяжело? Но что мы можем знать о других людях?
Амалия пристально посмотрела на Натали. Странно, что человек прежде всего подмечает в окружающих или приписывает им свои черты. Натали явно чувствует себя одинокой, и поэтому она прежде всего увидела, что пожилая женщина тоже одинока. А вот если бы ее, Амалию Корф, спросили, что она думает о мадам Карнавале, она бы первым делом отметила, что та определенно умна. Даже так: умнее, чем хотела казаться…
Интересно, на основе чего у нее сложилось такое впечатление? Вроде бы мадам Карнавале ничем не выделялась среди прочих пациентов, не брала в библиотеке заумных книг, не вела серьезных разговоров и вообще, в сущности, мало чем себя проявляла… Просто любезная, вежливая, обходительная старая дама.
Очень вежливая. Очень любезная.
Маска?
Но, так или иначе, все это плохо вязалось с прыжком со скалы по собственной воле. Натали права в одном: что-то неладно с мадам Анн-Мари Карнавале…
– Конечно, – между тем размышлял вслух Нередин, – если бы она была тяжело больна и хотела разом оборвать свои страдания… Но ведь ничего такого не было. – Он вопросительно взглянул на баронессу. – Или, может быть, мы просто не знаем всего?
Он услышал приглушенный вскрик – и повернул голову. В углу Эдит Лоуренс с открытым ртом таращилась на карты.
– Боже мой… – простонала она, – не может быть… Снова смерть! Да, я вижу смерть!
– Она что, опять гадает? – пробормотала Натали. – Неужели англичанка не понимает, как это действует на остальных?
– Чертова истеричка! – злобно выпалил Шарль де Вермон. Щеки его стали багровыми. – Поскорее бы доктор вышвырнул ее отсюда!
Со всех сторон на Эдит обрушились негодующие возгласы. Дрожащими руками она кое-как собрала карты, но уронила половину колоды на пол и, в отчаянии бросив остальные на стол, выбежала за дверь. Мэтью Уилмингтон в смятении поглядел ей вслед.
– Катрин, – нерешительно пробормотал он, – а может быть… может быть, нам отложить помолвку? Сначала мадам Карнавале, теперь еще это… Мне не хочется, чтобы у нас были… были такие мрачные воспоминания.
– Мэтью, – мягко проговорила Катрин, касаясь его рукава, – если вы захотите отказаться от своего намерения, я пойму, уверяю вас.
– Нет, нет! – вскинулся он. – Что вы! Я люблю вас, я хочу жениться на вас… Мои намерения не изменились! Просто… просто все, что происходит вокруг…
«Сейчас или никогда», – подумал поэт и, собравшись с духом, подошел к Уилмингтону.
– Мистер Уилмингтон…
Англичанин поднял глаза, и его щеки слегка побледнели. Но Алексей продолжал – торопливо, словно опасался, что его перебьют:
– Я хотел бы попросить у вас извинения за мое поведение за столом. Я знаю, что повел себя неподобающим образом, и обещаю, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно, что из-за моей выходки вы и мадемуазель Левассер были столь огорчены. И я от всей души поздравляю вас с помолвкой. Желаю вам счастья!
– Нет, сэр, право же… – вяло запротестовал англичанин. – Я не знаю, что заставило вас подумать, будто ваши слова могли меня огорчить…
Но Алексей повторил, что он раскаивается, сожалеет, а кроме того, завидует мистеру Уилмингтону, у которого такая замечательная невеста. И он просит мадемуазель Левассер принять его самые сердечные поздравления.
Искренность поэта сделала свое дело: Уилмингтон растаял и даже пожал ему руку. Да и Катрин, судя по ее сияющему лицу, была рада, что инцидент оказался исчерпан. Следом за поэтом поздравлять жениха и невесту потянулись и остальные пациенты, и до ужина уже никто не вспоминал о мадам Карнавале и ее странной гибели.
Вечером поэт померил температуру, принял лекарство, но спать ему не хотелось. Он устроился у окна, глядя то на луну, то на чистый лист бумаги перед ним. Стихи, новые, еще не родившиеся, блуждали где-то рядом в окружающем пространстве, складываясь из всего, что он видел и прочувствовал за день, – из умиротворяющей луны, прибоя, с размаху бьющегося о скалы, крови на его платке с утра и даже чистого листа, лежащего перед ним. Лист мало-помалу покрывался неровными строчками, и после всех поправок и изменений получилось следующее стихотворение:
Чистый лист, оставайся не тронут, Как весталка, как дух неземной. В белизне твоей буквы пусть тонут, Пусть все мысли размоет прибой, От которого станешь светлее Облаков-кораблей. И другой, Черный лист, тот, что сажи чернее, На котором и кровь не видна, Кровь с чернилами – грозное зелье, От которого мысли без дна, Без конца и начала… Пусть сменит Лунный свет – серость мрачного дня!Перечитав текст и внеся последние мелкие изменения – например, вписав «горького» вместо «мрачного» в последней строке, – Нередин написал сверху дату, поставил заглавие – «Чистый лист» – и тут вспомнил о похитителе чужих бумаг, который успел наведаться и к нему. Но одно дело были незначительные наброски, а другое – готовое стихотворение. Поэтому он переписал стихи набело два раза и вышел из комнаты.
В дальнем крыле было тихо, большинство пациентов уже спали. Нередин хотел постучаться к баронессе, но решил, что не стоит ее беспокоить из-за таких пустяков, как стихи, и просто просунул листок под дверь.
Затем он направился к Натали на первый этаж. Под ее дверью была видна полоска света, и он смело постучал. Дверь тотчас же распахнулась.
– Добрый вечер, Наталья Сергеевна, – сказал поэт серьезно. – Я написал новые стихи, и раз уж вы были так добры, что попросили показать их вам, я и принес.
Натали порозовела от смущения и счастья, когда он вручил ей листок со стихами. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но Нередин сделал таинственное лицо, зачем-то прижал палец к губам (хотя ему было решительно все равно, слышат их или нет) и, коротко поклонившись, отправился обратно к себе. Ему было и смешно, и немного стыдно. Он понял, что все-таки почему-то подозревает именно Натали в похищении его черновиков, и хотел таким оригинальным способом себя обезопасить.
Когда он поднимался по лестнице, ему показалось, что внизу скрипнула дверь комнат, которые теперь занимал итальянский священник. Однако в тот момент Алексей не обратил на это никакого внимания, а просто вернулся к себе и лег спать.
Глава 13
Шаги. Шаги и голоса. Двери: хлоп-хлоп. Снова шаги. Сердитые возгласы.
Амалия повернулась на постели, бросила взгляд на часы. Всего восемь утра, а она никогда не встает раньше одиннадцати. Вздохнув и смежив веки, баронесса попыталась снова уснуть.
Гро-озное зелье… грозное… кровь с чернилами… Все-таки он замечательный поэт. И как человек… (Амалия зевнула) оказался лучше, чем она думала… Нет, все вздор… спать, спать…
Бам-бам-бам!
– Амалия Константиновна!
Боже, ну кто же так ломится в дверь в такую рань…
– Госпожа баронесса, вы не спите?
«Не сплю, щучья холера… Уже не сплю. Выспишься тут с вами…»
– Амалия Константиновна!
Баронесса встала с постели, набросила на себя пеньюар, шагнула к двери. На пороге стояла Натали Емельянова.
– В чем дело? – довольно сухо спросила Амалия.
В глазах художницы застыл ужас, нижняя челюсть дрожала. Молодая женщина несколько раз начинала говорить, прежде чем сумела-таки закончить фразу.
– Амалия Константиновна… произошло… несчастье… он… он убит.
«Нередин? – охнул кто-то в голове Амалии. – Не может быть!»
– Кто? – мрачно спросила она.
Натали сглотнула.
– Итальянец… тот священник, Ипполито Маркези… Амалия Константиновна, что теперь будет?
Амалия глубоко вздохнула, осмысляя услышанное.
– За полицией послали?
– Да… Только что.
– Кто нашел тело?
– Слуга, Анри… Он бросился к доктору Гийоме, и я услышала их разговор… в коридоре… Потом пришли остальные врачи. Гийоме велел послать за инспектором, как его… который уже был здесь вчера…
Амалия мгновение подумала, вернулась к туалетному столику и стала закалывать волосы. Ей не хотелось, чтобы посторонние увидели ее непричесанной.
– Кто еще знает об убийстве?
– Амалия Константиновна, я никому… Я подумала, надо сказать Алексею Ивановичу… но не решилась. – Амалия молчала, и Натали заторопилась: – Я понимаю, странно выглядит, что я пришла именно к вам, но ведь мы же соотечественницы… Я ничего не понимаю, Амалия Константиновна. Вчера бедная мадам Карнавале, сегодня – вот это…
Да, сказала себе Амалия, именно это. Настораживала последовательность смертей: вчера – старушка, которая отчего-то упала со скалы в море, сегодня – несчастный только что прибывший больной.
Но почему Маркези? При чем тут он?
– Куда вы? – спросила Натали, видя, как баронесса направляется к двери.
– Идем, – коротко ответила Амалия.
И художница более не посмела задавать никаких вопросов.
Вдвоем они спустились на первый этаж, и баронесса толкнула дверь комнаты, которую совсем недавно занимала покойная мадам Фишберн. Похоже, в данном случае примета, что нельзя занимать комнаты умершего, оправдала себя полностью…
При появлении Амалии доктор Гийоме, осматривавший тело, резко выпрямился.
– Прошу прощения, сударыня… Сюда нельзя, здесь место преступления…
Натали, стоя в дверях, ахнула и поднесла руки ко рту. Взгляд ее был прикован к тому, что лежало на полу и что еще вчера звалось синьором Ипполито Маркези.
– Подождите меня в коридоре, – велела художнице Амалия. И сама закрыла за ней дверь.
Доктор Гийоме, заложив большие пальцы рук в жилетные карманы, с вызовом поглядел на молодую женщину.
– Сударыня, если вы видели или слышали что-то и хотите мне сообщить…
– Боюсь, пока мне нечего сказать, – ответила Амалия. – Как это произошло?
Гийоме пожал плечами:
– Вам угодно знать? Я полагаю, ночью, не меньше пяти часов назад, кто-то вошел в комнату и размозжил священнику голову. Совершив свое черное дело, преступник ушел.
– Орудие убийства?
– Монтень, – нехотя ответил врач. – Тяжеленная книга из нашей библиотеки. Представьте себе, госпожа баронесса, на пятом десятке лет я открыл, что философия тоже убивает.
Амалия покосилась на испачканную кровью книгу, которая валялась возле дивана, и перевела взгляд на тело.
– На нем халат поверх пижамы, – сказала она. – И тапочки.
– И что нам это дает? – поинтересовался Гийоме.
– Пять часов назад – значит, в три часа ночи, – пояснила Амалия. – В такое время все спят. Но Маркези поднялся с постели и надел халат, чтобы встретить гостя… который, вероятно, и убил его. Из комнаты что-нибудь пропало?
– Понятия не имею, – устало ответил врач. – Впрочем, осмотр помещения уже будет заботой полицейского инспектора.
Амалия нахмурилась:
– Вы спрашивали соседей Маркези? Они что-нибудь слышали?
– Соседи – фрау Шпатц и отставной дипломат Бертье. Он глуховат, а немецкая дама уверяет, что по ночам спит очень крепко. Шатогерен говорил с ними, они ничего не заметили. Я тоже беседовал с ними, но безрезультатно.
– Слуги?
– Опять же ничего. – Доктор потер рукою лоб. – Поразительно… Нет, конечно, я знал, что у меня есть враги, которые меня ненавидят. Но если они дошли до такого, чтобы скомпрометировать меня…
– Вы полагаете, месье Гийоме, – медленно начала Амалия, – что беднягу могли убить, дабы вынудить вас закрыть лечебницу?
– Простите… – Главный врач санатория выдавил из себя вымученную улыбку и тяжело опустился в кресло. – Возможно, я эгоистичен, но… Смотрите, что происходит. Сначала у месье Нередина пропадают его черновики, а у шевалье де Вермона – письмо. Затем несчастный случай происходит с мадам Карнавале, а следом – убийство итальянского священника. Не кого-нибудь, заметьте, а человека, чей дядя – римский кардинал и обладает большими связями. И что будет, если правда обо всем выплывет наружу? Даже если удастся как-то скрыть случившееся от прессы, среди пациентов пойдут дурные слухи, и никто уже не захочет у меня лечиться. Вот вы сами – захотели бы вы оставаться в санатории, где творится черт знает что?
– Не могу говорить за других, месье Гийоме, – улыбнулась Амалия, – но одно знаю точно: я лично никуда отсюда не уеду. Так что можете на меня рассчитывать.
– Очень вам благодарен, – искренне промолвил доктор. Он поколебался мгновение, но все-таки заговорил: – Если бы вы могли… я понимаю, что прошу слишком многого… но если бы вы могли успокоить пациентов…
Амалия покачала головой.
– Это будет сложно, месье. Посудите сами: сейчас мы не можем сказать, что имел место несчастный случай, потому что совершенно точно произошло убийство, и если мы будем лгать, люди начнут подозревать… бог весть что подозревать. В тайне такие вещи сохранить не удастся, тем более что пациентов будет допрашивать полиция. – Баронесса нахмурилась. – Мы не можем даже сказать, что Маркези убил какой-то вор, потому что очевидно: все вовсе не так.
– Но ведь мог быть и вор, – упрямо возразил доктор.
– Да? И как же он проник в дом? И почему священник открыл дверь и впустил его к себе?
– И тем не менее вор мог забраться в дом, – повторил Гийоме. Он задумчиво прикусил изнутри нижнюю губу. – А почему его впустил священник… Не знаю. Может быть, он встал, услышав шум, выглянул в коридор и вор убил его?
– Но тело лежит не у двери, а в середине комнаты, – возразила Амалия.
– Верно, потому что вор перетащил его туда.
– А Монтень? Я же помню, книгу синьор Маркези взял в библиотеке и унес к себе. Как вор мог убить ею священника, если книга была в комнате, а вор, по вашим словам, в коридоре?
– Ну хорошо, – сдался доктор. – В самом деле, если Монтень… то да. То есть вы предлагаете мне поверить, что убийцей является один из тех, кто находится в санатории?
– Да, – сказала Амалия. – Маркези видел его здесь и не боялся. Но тот человек пришел к нему ночью и убил.
– До чего же все это отвратительно, – угрюмо промолвил Гийоме. – Бедняга, – доктор кивнул на тело, распростертое на ковре, – был тяжело болен. Он приехал сюда, надеясь вылечиться, и я обещал ему выздоровление. Но кто-то убил его… сделал то, что не смогла сделать болезнь. Но зачем? Чего ради? Кому он мог мешать? Он ведь только что появился здесь!
– Может быть, у него были враги? – предположила Амалия.
– Определенно, раз его убили, – раздраженно парировал Гийоме. – Но я не хочу плохое выяснять. Есть полиция, вот пусть она и разбирается, кто и за что лишил священника жизни. Лично мне все происходящее глубоко антипатично.
Однако Амалия настаивала:
– Вы же наверняка беседовали с синьором Маркези. Может быть, он упоминал, что встретил в санатории некую личность, что-то имевшую против него?
– Да ничего такого больной не говорил! – отмахнулся Гийоме. – Санаторий ему понравился, он собирался провести здесь несколько месяцев. Если бы что-то такое было, думаете, я бы не заметил?
Без стука в дверь вошел мрачный Шатогерен и доложил, что полиция уже прибыла. На Амалию он покосился неодобрительно, но все же неодобрение свое оставил при себе.
– Я уже ухожу, – сказала Амалия. – Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти.
Она вышла из комнаты и увидела, что Натали с жаром обсуждает что-то с Шарлем, стоя в конце коридора.
– А я-то все ломал себе голову, кто именно окажется следующим, – живо заметил шевалье, когда Амалия подошла к ним. – Малышка Эдит гадает чертовски точно! По крайней мере, все ее предсказания сбываются. Наверное, мне стоит попросить ее, чтобы она разложила карты на мое будущее. – Он закашлялся. – Хотя какое, к черту, у меня может быть будущее! Сегодня я полночи не мог уснуть от кашля.
– Вы что-нибудь слышали? – спросила Амалия поспешно. – Или видели?
– Конечно, слышал, – беззаботно подтвердил офицер. – Как паршивая мышь скребется за обоями да верещат за окном птицы. Потом я все же заснул, и мне снились всякие кошмары. Будто бы мадам Карнавале восстала из мертвых и бродит у себя по комнате.
– Бродит по комнате? – озадаченно переспросила Натали.
– Да, ведь ее комната по соседству с моей, вот мне и приснилось… Что с вами, Амели? На вас лица нет.
– Черт возьми! – вырвалось у Амалии. И с поспешностью, которая немало озадачила офицера и его собеседницу, она бросилась к лестнице.
– Что с ней такое? – пробормотала художница.
Но Шарль, не слушая ее, уже двинулся за Амалией следом.
Со всей быстротой, какую только допускали приличия, баронесса Корф взлетела по лестнице и пробежала по коридору, после чего распахнула дверь комнаты, где жила мадам Карнавале.
– Ничего себе! – пробормотал офицер, заглядывая в дверь поверх плеча баронессы.
А удивляться было чему, ибо в комнате царил форменный разгром. Все вещи были вынуты из ящиков и брошены как попало, на полу валялись какие-то бумаги и газеты. Похоже, тот, кто здесь побывал, долго и упорно что-то искал.
– Что все это значит? – пролепетала догнавшая офицера и баронессу художница, еще не оправившись от изумления.
– Не знаю, – честно ответила Амалия. – Но мне все это не нравится.
Шарль де Вермон глубоко вздохнул и потер лоб.
– Так… – задумчиво заговорил он наконец. – Позвольте-ка мне. Сначала умирает старушка…
– Сначала пропадает ваше письмо, – напомнила Амалия. – И черновики Алексея Ивановича.
– Потом с мадам Карнавале происходит несчастный случай, – подхватила Натали. – Если, конечно, то был действительно несчастный случай, – вполголоса добавила она.
– Затем убивают священника, – продолжил Шарль. – И одновременно оказывается, что в комнате старушки кто-то побывал и что-то искал. Воля ваша, но я ничего не понимаю. Что тут вообще происходит?
– Хм, интересный вопрос, Шарль, но на него у меня пока нет ответа, – усмехнулась Амалия и повернулась к поэту, который только что вышел из своей комнаты. – Доброе утро, Алексей Иванович! А мы тут, представьте, обсуждаем последние события. И чем дальше, тем любопытнее они становятся.
Глава 14
– Значит, вы слышали, как стукнула дверь… – отметила Амалия.
Разговор происходил уже после завтрака. Полиция опросила больных и персонал санатория, тело убитого священника увезли, и вновь – по крайней мере, внешне – жизнь потекла своим чередом. Но люди были неспокойны – сбивались в группы, переговаривались, бросая вокруг себя подозрительные взгляды. Одна из немецких дам уже затребовала расписание поездов и стала его изучать. Отставной дипломат пыхтел и фыркал, что его жизнь в опасности, – в округе наверняка появились какие-то анархисты, которые убивают почтенных людей (Нередин попытался себе представить анархистов, которым могла понадобиться жизнь этого невзрачного, брюзгливого человека, но даже его воображение оказалось тут бессильно). Доктор Гийоме ходил, уговаривал, успокаивал. Вид у него был измученный, он так и не мог избавиться от подозрения, что все это делают нарочно, чтобы уничтожить дело всей его жизни – лечебницу. Филипп Севенн клялся, что убийцу наверняка скоро поймают и вообще никаких оснований для беспокойства нет. Что же до Шатогерена, то он уехал к капризной пациентке, жене графа Эстергази, к которой, судя по всему, ему удалось найти подход. Однако не стоило сомневаться: если бы он был здесь, то наверняка тоже принялся бы убеждать пациентов, что ничего особенного не происходит: ничего особенного, дамы и господа, вчера – несчастный случай, сегодня ночью – вор забрался в дом и схватился с синьором Маркези; ну, убил его, но все люди смертны, и даже племянники кардиналов. Ничего особенного, с кем не бывает, дамы и господа!
Алексей Нередин рассказал Амалии то, что он слышал, когда отнес стихи ей и Натали. Он не мог ручаться, но, как ему показалось, скрипела именно дверь апартаментов, которые занимал священник. Нередину было очень жаль, что он не обратил должного внимания на странный звук в ночи, но он ведь даже представить себе не мог…
– Деньги оказались на месте, как сказал инспектор, – задумчиво произнесла Амалия, – дорогое кольцо, которое синьор Маркези привез с собой, тоже никто не взял. Всего один день в санатории – и все же его оказалось достаточно, чтобы кто-то вынес несчастному смертный приговор. Вы не заметили, может быть, он с кем-нибудь общался больше, чем с прочими?
– По-моему, он вообще ни с кем особо не общался, – подумав, сказал поэт. – То есть он держался вежливо со всеми, но я не видел, чтобы…
– И я тоже не видела, – вздохнула Амалия. – Это все осложняет. Если разгадка таится в его прошлом… потому что я сомневаюсь, что за один день в санатории он мог нажить такого врага, который пожелал бы его убить…
– А если он был свидетелем убийства? – внезапно спросил поэт. – Я имею в виду, если смерть мадам Карнавале – на самом деле убийство и если он видел того, кто его совершил… Тогда ведь все сходится! И то, почему его убили сразу после нее, и вообще…
– Верно, – согласилась Амалия, размышляя о чем-то своем. Затем посмотрела на небо. – Ни облачка… и очень даже кстати. Доктор Гийоме ушел к себе?
– По-моему, да.
– Не буду его беспокоить, бедняга и так весь извелся. Если он спросит обо мне, скажите, что я поехала прогуляться. – Баронесса сделала несколько шагов прочь.
– Амалия Константиновна! – окликнул ее Нередин. – Куда вы?
– В Антиб. Здесь недалеко, и погода более чем благоприятна.
– В Антиб? Но зачем?
– Затем, что таинственная мадам Карнавале приехала именно оттуда. И что-то мне подсказывает: если мы поймем, кем была старая дама, то поймем и все остальное.
Она двинулась по дорожке к воротам, но Нередин нагнал ее.
– И вы поедете туда одна?
– Да, а что такого?
Поэт забежал вперед и остановился перед Амалией, умоляюще глядя на нее.
– Вы не позволите мне поехать с вами? Вдруг я буду вам полезен? Не знаю, право… но чем сидеть в четырех стенах… – Он говорил бессвязно и сердился на себя за эту бессвязность. На самом деле, конечно, он не хотел оставаться тут без нее, один (все прочие обитатели санатория, само собою, в счет не шли).
– Хорошо, – сказала Амалия наконец. – Мы возьмем фиакр. Дождя не предвидится, так что доктор Гийоме вряд ли будет против.
Она взяла поэта под руку, и они вместе зашагали к воротам.
Через час Нередин и его спутница уже были в Антибе.
– Куда мы направляемся? – спросил поэт.
– К священнику, – был ответ.
И они отправились искать местного кюре.
Священник, которого они застали в церкви, оказался молодым человеком лет тридцати. По его словам, он заступил на место сравнительно недавно, но своих прихожан знал уже хорошо. Во всяком случае, он мог поручиться, что среди местных жителей не было ни одной семьи по фамилии Карнавале.
– Вы уверены? – настаивала баронесса. – И в прошлом тоже никого с такой фамилией не было? Мы ищем месье Карнавале и его жену Анн-Мари. Может быть, она уехала из здешних мест… допустим, после того, как овдовела?
Молодой священник задумался и наконец сказал, что им лучше уточнить у мясника Тербуйе. Ему уже под шестьдесят, и он знает наперечет всех жителей Антиба за последние полвека. Если мадам Карнавале и впрямь существовала (а в том, что она существовала, у Амалии не было ни малейшего сомнения), мясник им все расскажет.
Увы, лавка Тербуйе оказалась закрыта, однако напротив, у бакалейщика, Амалии и поэту сообщили, что мясник должен вернуться к вечеру. Он уехал на свадьбу к внуку, а его сын, на которого он оставил лавку, воспользовался отсутствием отца, чтобы пойти к любовнице. В придачу к семейным подробностям мясника нашим героям пришлось выслушать еще и описание характера Тербуйе, который держал в страхе всех домочадцев и не давал детям своевольничать. По словам бакалейщика, мясник до сих пор прилюдно отвешивал им тумаки.
– Мы ищем семью женщины по фамилии Карнавале, – перебил Нередин, которого болтун уже порядком успел утомить. – Вы никого не знаете с такой фамилией?
Но бакалейщик не знал. Не знала и зеленщица, не знала хорошенькая продавщица цветов мадемуазель Роза, не знал владелец галантерейного магазина месье Бокер. Решительно никто из лавочников понятия не имел ни о каких Карнавале.
– Может быть, нам стоит обратиться к мэру? – предложил Нередин. – У него находятся записи и акты гражданского состояния. Кто, как не он, должен знать все о местных жителях!
– Что может знать мэр такого, чего не знают даже лавочники? – проворчала Амалия. – Нет, к официальным лицам всегда следует обращаться в последнюю очередь… – Она прищурилась. – Что там такое – букинистическая лавка? Давайте-ка заглянем туда. Может быть, у ее хозяина найдутся интересные книги?
Но, едва войдя в пыльную, старую, крошечную лавку, Нередин убедился, что никакими интересными книгами тут и не пахнет. Есть приюты для инвалидов-людей, и есть вот такие лавки для инвалидов-книг. Здесь были собраны разрозненные тома, разваливающиеся в руках романы, наконец, книги, которые никто не читал даже тогда, когда они вышли, и которые тем более никому не нужны теперь, когда со времени их издания миновало уже порядочно лет. За прилавком на высокой табуретке сидел крошечный горбун с длинными седыми космами, которые падали на лицо, так что видны были лишь поблескивающие глаза да остренький нос.
– Хе-хе! – проскрипел горбун, завидев посетителей. – Господа хорошие! У меня есть то, что вам надо. У старого Эмиля все есть! Вот, не угодно ли: господин Лакло, второй том. Первый куда-то задевался, но я возьму на себя смелость предложить…
Алексей чихнул и с отвращением покосился на шаткие стопки томов-инвалидов, как попало наваленные на прилавок.
– Нам ничего не надо, – остановила лавочника Амалия. – Мы ищем людей по фамилии Карнавале, которые жили здесь, в Антибе. Можете ли вы нам сообщить что-нибудь о них?
Глаза горбуна сверкнули сквозь космы.
– Хе-хе! – продребезжал он. – Что, Карнавале? Давняя история, бьюсь об заклад, никто из местных их уже и не помнит… А книжка знатная, сударыня. «Опасные связи», роман в письмах… единственный роман в письмах, который можно читать до сих пор! Купили бы вы ее, я б тогда и сказал все, что вам надо…
Амалия бросила взгляд на переплет, испачканный воском, весь в каких-то подозрительных пятнах, вздохнула и полезла за кошельком.
– Вот это дело! – обрадовался горбун. Он спрятал монету в карман и хитро сощурился. – Значит, вам угодно знать о Карнавале?
– Да, – сказала Амалия. – Что с ними такое приключилось?
– Ну не то чтобы приключилось, – оживился горбун, – но тут вот какая история. Никаких Карнавале на самом деле в Антибе никогда и не было. Не водилось тут таких, и все. Зато в десяти лье отсюда проживал один знатный господин, дай бог памяти… маркиз Карнавон. Понимаете, сударыня?
– Пока не очень, – сухо обронила Амалия.
– То была первая часть истории, а вторая вот какая… – важно изрек горбун, выставив сухонький узловатый палец. – В давние времена жила тут, в Антибе, некая Луиза Дюбрей. Добрая женщина, дородная такая, собой видная. Муж у нее был не муж, а впрочем… обычный муж, хотя я его не слишком хорошо помню. Но вот что занятно, сударыня: детей у нее было штук восемь. И если другим их дети влетают в копеечку, то ей, сударыня, они приносили ой какую прибыль… – Лавочник хихикнул.
– Что-то не слишком ясно, – вмешался Алексей, очень внимательно слушавший странного хозяина. – При чем тут Карнавале?
– Вы, сударь, – забурчал горбун, – уж не перебивали бы, коли вам так понадобились Карнавале. Кстати, сударыня, не угодно ли вам Стерна? Отличный Стерн, жаль только, без нескольких страниц. Заглавие – «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Ну до Италии он в книге так и не добрался, как я понимаю, а впрочем, и одной Франции вполне достаточно. Иллюстрации, опять же, весьма занимательные… – И старик протянул Амалии потрепанный, даже слегка погрызенный мышами старый-престарый том.
– Амалия Константиновна, – тихо сказал поэт, – он что же, так и будет нам всякую рухлядь сплавлять?
– Ну, Алексей Иванович, у нас с вами не слишком большой выбор, – возразила Амалия, доставая деньги. – Что касается меня, то лично я намерена все узнать про таинственную мадам Карнавале из Антиба… Кажется, вы рассказывали про некую мадам Дюбрей? – обратилась она к горбуну. – И я правильно поняла, что она брала чужих детей на воспитание?
Тот спрятал деньги и важно кивнул.
– Чужие дети, ясное дело, разные бывают, – объявил он. – Те, которыми она занималась, были сплошь незаконнорожденные. Ну там, отец граф, к примеру, а мать прачка. А бывало и с точностью до наоборот: мать графиня, а папенька форейтор какой-нибудь. Любовь, она же не разбирает, кто какого звания.
– Согласна, – сказала Амалия. – Значит, Карнавале – это измененная фамилия отца, маркиза Карнавон? Потому что настоящую фамилию, разумеется, незаконнорожденному давать нельзя.
– Незаконнорожденной, – поправил хозяин. – Ее звали Анн… нет, Анн-Мари. Именно так. Про мать я никогда не слышал, но, может быть, она и не собиралась возиться с крошкой.
– И ребенка отдали на воспитание Луизе Дюбрей?
– Ваш ум, сударыня, не уступает вашей красоте, – с чувством объявил хозяин лавки. – Если вам угодно, могу рекомендовать…
– Нет, – твердо остановила гарбуна Амалия, – вы и так достаточно от меня получили. Что еще вы знаете о мадам… о мадемуазель Карнавале?
– Боюсь, не слишком много, – с сухим смешком отозвался месье Эмиль. – Очаровательная была девочка, но большая шалунья. Мадам Луиза, помнится, на нее жаловалась: обижала других детей, да и ей самой пыталась дерзить. Правда, с мадам Луизой такие шутки не проходили, у нее рука тяжелая была. Она и мужа поколачивала время от времени, когда он забывался и пытался вести себя как холостой. – Лавочник ухмыльнулся.
– И? – спросил поэт, видя, что хозяин умолк и принялся протирать пыль.
– Что? – невозмутимо осведомился горбун, не прекращая своего занятия.
– Что стало с девочкой, с Анн-Мари, когда она выросла? – с понятным нетерпением спросила теперь Амалия.
Букинист хитро сощурился.
– Этого, сударыня, я вам сказать не могу, но думаю, что вам нетрудно будет получить ответ. Если дойдете до конца улицы и повернете направо, то легко его найдете.
Алексей насупился. В словах букиниста чудился какой-то подвох, да и его глазки-щелочки, поблескивающие сквозь седые космы, не внушали Нередину никакого доверия.
– Что-то мне не по душе такие загадки, – буркнул поэт.
– А Луиза Дюбрей? – поитересовалась Амалия. – Где я могу ее найти?
– Да там же, там же, – нетерпеливо ответил букинист. – Все на самом деле очень просто, сударыня. Вы идите, ну… и сами все увидите.
Амалия пристально посмотрела на него.
– Мы можем и вернуться, – внезапно сказала она.
– Сколько угодно, сколько угодно, прекрасная дама, – продребезжал букинист. – Но таких сведений, как у меня, вы больше ни у кого не получите. Старый кюре давно умер, а новый – шалопай, чистый шалопай! По совести, вы же еще и благодарить меня должны.
– Мы уже отблагодарили, – проворчал Алексей, поворачиваясь к двери. – И все, что мы услышали, гроша ломаного не стоит, – добавил он по-русски.
Горбун хихикнул и пожелал им приятного пути.
– И не забудьте ваши книжки! – задорно крикнул он на прощание.
Амалия и ее спутник вышли из лавки, поэт помог баронессе подняться в фиакр.
– До конца улицы и направо, – распорядилась Амалия.
Фиакр тронулся с места. Теплый прибрежный ветер дул седокам в лицо – ветер, пахнущий морем, теплом и ароматами тысяч цветов. Амалия поглядела на том Стерна, надкусанный мышами, и поморщилась.
– Как-то все не слишком вяжется, – подал голос до сих пор молчавший поэт. – Я имею в виду нашу даму. Если Карнавале – ее девичья фамилия, почему она называла себя мадам?
– Может быть, не хотела, чтобы ее принимали за старую деву? – отозвалась молодая женщина, пожав плечами. – Или вернулась к девичьей фамилии после неудачного брака. Так или иначе, это упростило нашу задачу.
Они проехали десяток домов, украшенных самыми разнообразными вывесками, и фиакр взял вправо. Алексей озадаченно моргнул. Они вновь находились возле церкви, только теперь заехали с другой стороны – с той, где располагалось кладбище. Возница натянул вожжи.
– Тпрру!.. Здесь, сударыня?
Амалия молча озиралась по сторонам.
– Судя по всему, здесь, – наконец кивнула она.
– Что за скверные шутки у старика-букиниста… – начал поэт.
Но его спутница уже соскользнула на землю. Пришлось Алексею последовать за ней.
Они ходили между крестов и потемневших от времени надгробий, читая имена и даты. Дюпон… Мерсье… Батист… прожил 104 года, умер в 1868 году… Леон Ламарш, прожил 18 лет… «И ведь это были живые люди, – думал Нередин. – Они смеялись, танцевали, ходили на лодках в море, любили женщин… и вот теперь все, что осталось от них, – только имена на могилах, куда они унесли все, что успели испытать в жизни…» Он задумался о том, что останется от него, когда он умрет, но внезапно увидел на надгробии знакомое имя.
– Смотрите: Луиза Дюбрей… Умерла в 1865-м, двадцать два года назад… Судя по могиле, у ее семьи и впрямь водились деньги.
Но Амалия, стоявшая в десятке шагов, похоже, не слушала его. Он взглянул на нее и отметил, что вид у молодой женщины растерянный. Да что там растерянный – она словно столкнулась с загадкой, которую была не в силах разрешить.
– Я нашел могилу Луизы Дюбрей, – повторил поэт, подходя к ней. – Не знаю, что нам это дает, но… Что с вами, Амалия Константиновна?
Вместо ответа баронесса указала на скромный крест, почти вросший в землю. Подойдя ближе, Нередин прочел:
Здесь покоится
Анн-Мари Карнавале,
чья душа да пребудет с ангелами.
1843 – 1850
Мы никогда не забудем тебя.
Глава 15
– Ой! – вырвалось у Нередина.
Ему тотчас же стало ужасно стыдно за обывательский и, в сущности, глупый возглас. Но что еще, в самом деле, он мог сказать? Приехали искать местную уроженку, которая погибла в санатории, а она, оказывается, уже давным-давно умерла. И, хотя день был теплый, по позвоночнику поэта прошел озноб. В мозгу его – вот ведь нелепость! – сразу же промелькнули какие-то истории о вампирах, оборотнях и прочей нечисти, которая выходит из могил и живет до отвращения долго. И такие истории, если говорить откровенно, Алексей терпеть не мог.
– Пока я ничего не понимаю, – признался он. – Если букинист нам не солгал…
– Он не солгал, – отрезала Амалия. – Там лежит Луиза Дюбрей. А здесь могила той, кого мы ищем.
– Может быть, какая-то ошибка? – с надеждой предположил поэт. По правде говоря, ему становилось все больше и больше не по себе. Он взглянул в лицо Амалии – и поразился его сосредоточенности.
– Вряд ли, – внезапно сказала молодая женщина. – Нет, как раз никакой ошибки тут нет.
– Тогда что все это значит? Полная тезка? Анн-Мари – вполне распространенное имя, хотя Карнавале… вот как раз фамилия Карнавале не слишком часто встречается.
– Из Антиба, – напомнила Амалия. – Женщина говорила, что она из Антиба, и ее так и представляли. Потом доктор Севенн при вас повторил, что пациентка была из Антиба. Полная тезка – из того же самого городка? И никто из местных никогда о ней не слышал? Быть такого не может.
Алексей достал платок и вытер им лоб. Он пытался придумать хоть какое-нибудь правдоподобное объяснение, но чем больше думал, тем менее правдоподобными объяснения выходили.
– Если допустить, что тридцать семь лет назад умерла не Анн-Мари Карнавале…
– Вздор, – сразу же отмахнулась Амалия. – Луиза Дюбрей получала деньги за живых детей, а не за мертвых. Не надо путать жизнь с романами месье Дюма… потому что в жизни все может оказаться гораздо интереснее, – прибавила она.
– У вас есть какое-то объяснение? – напрямик спросил поэт.
– Есть, но оно ничего не объясняет, – вздохнула баронесса. – Настоящая Анн-Мари Карнавале была незаконной дочерью маркиза, она умерла в возрасте семи лет и похоронена здесь. А дама, которую мы встречали в санатории, просто самозванка, если можно так выразиться.
– Я не до конца понимаю вашу мысль, – признался Нередин.
– Все очень просто, – объяснила Амалия. – Если вы присваиваете себе чужое имя, оно должно что-то значить. Допустим, вы говорите, что вы Людовик XVII, и на этом основании начинаете вымогать деньги у лжеродственников[13]. Или придумываете себе пышный титул, чтобы ослепить окружающих. Но какой смысл называться именем незаконной дочери маркиза, которая умерла много лет назад и даже если бы выжила, по возрасту никак не могла быть мадам Карнавале? Странно, и даже более того – нелогично.
– А может быть, имело место совпадение? – предположил поэт. – То есть мадам Карнавале – самозванка и она просто взяла первое попавшееся имя, которое пришло ей в голову, так что все совпадения случайны?
– Да, но чтобы совпали имя, фамилия и город… Слишком много случайностей, – возразила Амалия. – Нет, тут явно что-то другое. К примеру, кто-то увидел имя на могильной плите, оно ему запомнилось, и впоследствии он его использовал.
– Думаете, именно та женщина, которую мы знали как мадам Карнавале?
– Вряд ли, – сухо ответила его собеседница. – Видите ли, Алексей Иванович, современные люди очень суеверны. Они всячески скрывают это, но тем не менее таковы факты. Чтобы взять имя с чужой могилы, надо обладать очень независимым характером. Да и потом, к чему подобные проблемы, когда имя можно и в самом деле придумать? Не понимаю я, честно говоря.
– И что вы намерены теперь предпринять?
– Niente[14], – отозвалась молодая женщина. – Самое главное мы уже узнали: кем бы ни являлась наша милая старушка, Анн-Мари Карнавале она точно не была. А кем она была на самом деле, еще предстоит установить… Идемте, Алексей Иванович.
Они сели в фиакр, который повез их по направлению к Ницце. В пути Амалия от нечего делать стала рассматривать второй том Лакло и Стерна, которые ей навязал букинист.
– Должна признаться, Алексей Иванович, я питаю слабость к «Опасным связям». Во многом поразительная книга, начиная с того, что это единственный роман автора, который написал его, когда ему уже было за сорок. Конечно, конец значительно слабее остального, потому что ясно, что без ужасной болезни или какой-нибудь такой же надуманной чепухи покарать маркизу де Мертей невозможно. Более того, я уверена, что после она могла стать еще опаснее, чем раньше.
– У меня создалось впечатление, – сказал поэт, радуясь, что разговор от странного расследования перешел на более близкие ему литературные материи, – что автор собирался написать продолжение, но по каким-то причинам передумал.
– О, причины эти не составляют тайны, – пожала плечами Амалия. – Оригинальную книгу, такую, как «Опасные связи», написать нелегко, но написать оригинальное продолжение практически невозможно. Хотя не скрою, мне интересно было бы прочесть продолжение, в котором схлестнулись бы коварная маркиза и простодушная Сесиль. Всю вторую книгу последняя казалась бы такой же неисправимой простушкой, а в конце обошла бы маркизу по всем статьям и получилась ее достойной преемницей… Но Лакло ничего такого не написал. А жаль.
Поэт слушал милую болтовню своей спутницы и отдыхал душой. Фиакр катил по дороге, обсаженной апельсиновыми деревьями. Воздух был чист и прозрачен, и в небе не видно ни облачка. «И почему я не догадался приехать сюда раньше? – размышлял Нередин. – Сколько стихов я мог бы здесь написать… Не говоря уже о том, что, если бы я раньше занялся своей болезнью, сейчас у меня было бы больше шансов выжить! И еще я мог бы раньше встретиться с ней…»
– Вы, конечно, читали «Трех мушкетеров», – продолжала Амалия, – и могли заметить, что миледи – прямой потомок нашей маркизы. Обожаю литературные родословные, порой так забавно бывает подмечать, какой герой на самом деле от какого произошел. Вот Евгений Онегин, к примеру, – это недо-Вальмон, если вам угодно. И еще о Дюма: по-моему, единственная ошибка, которую автор допустил в своем бессмертном романе, заключается в том, что он заставил благородных мушкетеров убить женщину. Какая бы она ни была, все равно нехорошо, некрасиво и недостойно их. Особенно Атоса, который все-таки был ее мужем.
Алексей улыбнулся.
– Ну, в жизни множество мужей были бы не прочь избавиться от жен, – шутливо заметил он. – И потом, гибель миледи дает толчок всей линии мести в продолжении истории о мушкетерах, помните? А это едва ли не самые сильные сцены в романе.
– Может быть, – рассеянно произнесла Амалия. – Жаль только, что второй том Лакло, который нам продал всезнающий лавочник, мне вряд ли пригодится. У меня дома есть два издания получше, и с иллюстрациями им больше повезло. Что касается Стерна… – Баронесса со вздохом поглядела на следы мышиных зубов на переплете. – Он тоже никуда не годится. Вам нравится Стерн?
– Пушкин очень его ценил, – заметил Нередин, – и я тоже.
Фраза получилась неудачной и излишне хвастливой. Поэт хотел лишь сказать, что познакомился со Стерном, прочитав отзывы о нем Александра Сергеевича, и оценил его так же высоко. Но Амалия, похоже, ничего не заметила.
– Восхитительный писатель, – сказала она. – Вы знаете, мне всегда безумно жаль книги, которые пострадали по вине людей. Ведь роман замечательный, но предыдущие владельцы… – Она перевернула наугад несколько страниц – и осеклась.
– Что там такое, Амалия Константиновна? – спросил Алексей с любопытством.
– Ничего. Почти ничего.
Но тон баронессы говорил об обратном.
Поглядев поверх ее плеча, Нередин увидел на странице несколько однотипных надписей пером – повторялось чье-то имя. Часть надписей была перечеркнута, и сверху, очевидно, было что-то приписано, но что именно, понять было невозможно из-за оторванного угла страницы. Алексей поглядел на застывшее лицо Амалии. Он ничего не понимал.
– Это имеет какое-то отношение к нашему делу? – отважился он спросить.
– Абсолютно никакого, – твердо ответила Амалия. – Не имеет и не может иметь. Но как странно… – Она посмотрела на дату римскими цифрами на титульной странице. – Нет, все-таки странно. Почему такая подпись? И почему она зачеркнута?
Алексей взял книгу из ее рук. Великолепного качества плотная бумага почти не пожелтела от времени и не покрылась коричневыми пятнышками, хотя из даты – M.DCC.LXXXX – следовало, что книга издана почти сто лет назад, в 1790 году. Несколько иллюстраций были вырваны, кто-то там и сям зачем-то оторвал верхние части страниц. На середине книги, где глава, как водится, начиналась с нечетной страницы, предыдущая оказалась ничем не занята, и на белом пространстве кто-то оставил свою подпись, причем не один раз.
Амелия
Анна-Мария-Амелия
Анна-Мария-Амелия фон Мейссен
Анна-Мария-Амелия фон Мейссен
И дальше точно так же, как в предыдущей строке, еще раз десять, с росчерками и подчеркиваниями. Похоже, кто-то от нечего делать просто пробовал новое перо. Хотя зачем он, нет – она выбрала для этого книгу, оставалось загадкой. Вдобавок ко всему кто-то крест-накрест зачеркнул все «фон Мейссен» – так яростно, что прорвал пером бумагу насквозь, и приписал сверху какое-то другое имя. От него осталась только неполная первая буква – латинское то ли N, то ли R, то ли H, – потому что часть страницы и нескольких соседних кто-то из последующих владельцев книги тоже оторвал. Нередин вопросительно поглядел на Амалию.
– Это имя моей прабабушки, – пояснила она. – Меня назвали в ее честь… почти в ее честь, потому что отец не хотел, чтобы я повторила судьбу его бабушки. И почерк это ее, у нас в семье хранится несколько ее писем.
Баронесса была взволнована, и Нередина в который раз поразили извилистые пути вещей. Почти сто лет книга блуждала по чужим рукам, пока малосимпатичный букинист в Антибе не всучил ее «в нагрузку» заезжей даме, которая хотела узнать подробности об одной из прежних жительниц города. И дама оказалась именно той, чья прабабушка много раз шутки ради расписалась на одной из страниц книги.
– Удивительно, – проговорила Амалия. Глаза ее блестели. – Но почему фон Мейссен? Фамилия девичья ведь, а книга выпущена в 1790-м, когда прабабушка уже была замужем. Первый раз, по крайней мере, точно уже была.
– Первый раз? – заинтересовался Нередин.
– О, она была довольно легкомысленная особа, – отозвалась Амалия. – Всего она ухитрилась выйти замуж семь раз. Ее родные, по-моему, пытались ее образумить, но с ней это было совершенно бесполезно. Она была знакома с Наполеоном, и в семье уверяют, что знакома куда ближе, чем позволяют приличия… хотя я своими глазами видела ее письмо к сестре Шарлотте, где она с совершенно восхитительным апломбом пишет, что видела маленького генерала, который совершенно ничего собой не представляет и что вообще встречала она генералов и получше, повыше ростом. Поразительная женщина! Писать такие нелепости о будущем императоре – не всякому дано, знаете ли… Ее единственная дочь, кажется, была от нее в ужасе и порывалась уйти в монастырь, но кончилось все тем, что вышла замуж за своего двоюродного племянника, внука той самой Шарлотты. Признаться, я удивлена, что Амелия читала «Сентиментальное путешествие». Я знаю, что она на каком-то приеме видела Гете и говорила с ним, но, если она была такой, как я ее представляю, прабабушка точно не могла любить Стерна. И почему она подписалась фон Мейссен? Сколько вопросов, на которые уже никогда не узнать ответов… И какие мерзавцы могли так изуродовать книгу?
Баронесса гладила пальцами переплет, на ее щеках играл румянец, и Нередин видел, что мыслями она теперь бесконечно далека от тайны мадам Карнавале и трагических происшествий, которые всколыхнули тесный мирок их санатория. Но вот Амалия подняла голову и увидела, что они подъезжают к дому. Тотчас ее взгляд стал непроницаемым, а лицо приобрело то замкнуто-спокойное выражение, которое очень шло молодой женщине, но все-таки меньше, чем блестящие глаза и очаровательная улыбка. И Алексей про себя невольно пожалел об этой перемене.
– Я думаю, мы должны рассказать доктору Гийоме о том, что нам удалось узнать, – сказал Алексей. – Ведь вполне может оказаться так, что мадам Карнавале на самом деле мошенница, и тогда у него могут быть неприятности.
– Конечно, я все ему расскажу, – пообещала Амалия. – Кроме того, мне потребуется его разрешение на осмотр вещей нашей незнакомки. Вполне возможно, что среди них удастся обнаружить нечто, что укажет нам на ее настоящую личность.
«А что, очень даже умно», – подумал поэт. Но, как выяснилось, кое-кто оказался еще умнее их.
Глава 16
– Я понимаю ваше желание осмотреть вещи мадам Карнавале, – промолвил доктор Гийоме. – Но, к сожалению, их уже забрал ее племянник, когда вы уехали. Так что, боюсь, я ничем не смогу вам помочь.
– Племянник? – повторил ошеломленный Нередин.
– Племянник? – Амалия была удивлена не менее его. – Но о каком племяннике может идти речь, если… если…
– Он показал мне свои бумаги, они были в полном порядке, – сказал доктор. – Что-то не так?
Амалия и ее помощник обменялись растерянными взглядами.
– Кроме того, госпожа баронесса, я вынужден сказать вам, что вы меня огорчаете, – мягко добавил доктор. – Вы же знаете, что я не люблю, когда больные внезапно покидают санаторий. Что, скажите на милость, заставило вас уехать отсюда и даже не предупредить меня?
– Просто мы поехали в Ан… – начал Алексей, но тут Амалия пребольно наступила ему на ногу, и он запнулся на полуслове.
– Мы прокатились в Ниццу, – объявила она с самой непринужденной улыбкой. – Поскольку погода позволяла нам вылазку, я была уверена, что вы не станете возражать. Просто недавние события выбили нас из колеи, а месье Нередин к тому же поэт, его муза не может сидеть в четырех стенах.
– Что ж, если так… – сдался доктор. – Пожалуй, тут я действительно не вправе возражать. Скажите, вы случайно не видели в Ницце Шатогерена? Он уехал с утра к пациентке, и с тех пор его нет.
– Нет, мы его не видели, – быстро ответила Амалия, посылая поэту предостерегающий взгляд. – А кто его пациентка?
– Жена богемского графа Эстергази. Довольно вздорная особа, которая настаивает на том, чтобы ее навещали на дому. Я предложил ей перебраться в санаторий, чтобы наблюдать ее, но она категорически отказалась.
– Вы говорите о графине Елизавете Эстергази? – переспросила Амалия. – А вы разве не знаете?
– Что именно я должен знать? – с некоторым неудовольствием осведомился доктор.
Прежде чем ответить, Амалия оглянулась на своего спутника.
– Дело в том, что графиня Елизавета давно больна. Но не телом, а… душой. Не думаю, что ее присутствие в санатории желательно. Впрочем, судя по всему, она и сама отлично это понимает.
Доктор Гийоме пристально посмотрел на Амалию.
– Беда в том, что я не слишком силен в том, что касается европейской аристократии, – усмехнулся он. – Значит, графиня – умалишенная?
– Временами, насколько мне известно, – уточнила Амалия. – В ее роду это заболевание не редкость. Еще ее бабушка воображала, будто она стеклянная, и требовала, чтобы никто к ней не прикасался. А дядя не покидает стен своего замка с двадцати лет. Полагаю, вы понимаете, что это значит.
Гийоме тяжело вздохнул:
– Что ж, если так, придется предупредить Шатогерена. Не скрою, поведение графини и в самом деле показалось мне несколько… э… странным, но я был далек от мысли о безумии. Очень вам благодарен, госпожа баронесса, что вы поставили меня в известность.
Как только Нередин с Амалией вышли из кабинета доктора, поэт требовательно спросил:
– Почему вы ему не сказали про Антиб?
– А что бы изменилось? – отозвалась молодая женщина. – Мы в тупике. Нас обвели вокруг пальца. И что мне стоило сразу же осмотреть ее вещи, как только я заметила, что кто-то в них уже рылся? А теперь, получается, мы потеряли время и не узнали ровным счетом ничего стоящего.
Баронесса явно была рассержена, но причины такого ее настроения Алексей не понимал. Сам он воспринимал предпринятое ими расследование как попытку сыграть в сыщиков из детективных романов, и то, что попытка оказалась неудачной, его мало трогало. Алексей был бы сильно удивлен, если бы узнал, что его спутница никогда не играла в сыщиков… потому что на самом деле ей не раз приходилось расследовать чрезвычайно запутанные дела. Но баронесса Корф никому в санатории не говорила об этой стороне своей жизни.
Она поднялась по лестнице и прошла к себе. В ее распоряжение были отданы две комнаты – спальня и подобие гостиной. Но сейчас, едва отперев дверь ключом, Амалия сразу же поняла: что-то не так.
Книги на столе были немного сдвинуты с места, бювар тоже стоял не там, где она его оставила, даже хрустальные флаконы духов переставлены. Амалия выдвинула ящики стола – так и есть, и тут все лежало хоть чуть-чуть, но иначе.
Ее затопила волна холодной ярости, и баронесса была вынуждена опуститься на оттоманку, чтобы хоть немного успокоиться.
Значит, она была права. Кто-то обыскал ее комнаты. Зачем?
Деньги, документы и драгоценности лежали на прежних местах, но это вовсе не успокоило Амалию. Потому что она отлично понимала, что может скрываться за таким обыском.
– Анри!
Слуга явился через минуту. Из всех постояльцев санатория русская баронесса нравилась ему больше всего. Во-первых, она была щедрая и никогда не скупилась. А во-вторых, она была красивая, любезная и к тому же настоящая дама. До кончиков ногтей.
– Анри, кто-нибудь заходил ко мне в комнату? – требовательно спросила Амалия.
Слуга растерялся и сказал, что никто. Ему, да и остальным слугам, отлично известно, что госпожа баронесса не любит, когда к ней заходят в ее отсутствие.
– Хорошо, – промолвила Амалия. – Как выглядел тот господин, который забирал вещи мадам Карнавале?
Оказалось, он был невысокий, рыжеватый, говорил с небольшим акцентом. И еще при нем был слуга, который… подозрительно смахивал на хозяина: тоже невысокий, тоже рыжеватый и тоже не совсем правильно изъяснялся по-французски.
«Так… Стало быть, один забирал вещи сообщницы, а второй проник ко мне в комнаты, – сообразила Амалия. – Но что же, черт возьми, все это значит?»
– Спасибо, Анри. – Баронесса опустила в ладонь слуги золотую монету. – И еще один вопрос. Скажи, в последнее время на территории санатория не замечали никаких посторонних людей? Которые прежде тут вообще не появлялись?
Анри немного подумал и сказал, что садовник недавно видел какого-то типа, который ошивался возле санатория. Но тот тип на бродягу не походил и впечатление производил вполне приличное. Высокий блондин, одет в штатское, но садовнику, который сам являлся бывшим солдатом, показалось, что выправка у незнакомца военная. Когда садовник спустя пять минут снова посмотрел в ту сторону, незнакомец уже исчез.
– Хорошо, Анри, можешь идти. Если еще о ком-нибудь узнаешь, дай мне знать.
Слуга вышел, а Амалия предалась невеселым мыслям. За исключением того, что она нашла книгу, принадлежавшую некогда ее прабабушке, все остальное было из рук вон плохо. И хуже всего то, что у нее не имелось ни единой зацепки. А Амалия терпеть не могла блуждать в потемках.
«Почему я? – думала она, переодеваясь к обеду. – Что он – или они – думали найти в моей комнате? И кто рылся в вещах мадам Карнавале? И самое главное: как связать два факта обыска? Если бы я общалась с пожилой дамой больше, чем прочие, если бы мы подружились или хотя бы наши комнаты соседствовали… Но ведь ничего такого не было!»
Обед в тот день был подан позже, чем обычно, а в конце его появился доктор Шатогерен, который вернулся от графини Эстергази. Вид у него был хмурый и рассеянный. Гийоме через слугу попросил зайти помощника и передал ему то, что сказала Амалия об их высокородной пациентке. Шатогерен поморщился.
– Должен признаться, что-то в таком роде я подозревал, – пробурчал он. – Не зря же ее муж платит за визиты в два раза больше, чем следует, да еще и настаивает, чтобы они держались в строжайшей тайне. Теперь, конечно, все понятно…
– Какое впечатление на вас произвела графиня? – поинтересовался Гийоме. – Мне показалось, что окружающие слишком потакают ее прихотям, отчего выходит только хуже. Стоило мне намекнуть ей, что на самом деле она ничем не больна и может возвращаться домой, ее служанка посмотрела на меня так, как будто именно я сумасшедший.
– Да, служанка ни на шаг от нее не отходит, – усмехнулся Шатогерен, – но при ее болезни это вполне объяснимо. Сегодня как раз произошел неприятный случай. Мы говорили с госпожой графиней на самые невинные темы, пока я ее осматривал, и тут… Нет, представьте себе, Пьер! Речь идет о живописи, о Леонардо, о Рембрандте, о Ван-Дейке, и у нее ни с того ни с сего происходит сильнейший истерический припадок. Тогда, скажу вам честно, у меня и мелькнула догадка, что с пациенткой не все в порядке. Она рыдала и никак не могла остановиться. Пришлось мне ее успокаивать. Я послал в аптеку за каплями, но слуги-богемцы в Ницце совершенно не ориентируются, даже не смогли отыскать аптеку. Бог весть сколько времени я потерял… Что с нашими больными, Пьер? Кто-нибудь решил нас покинуть?
Гийоме заверил его, что никто пока не уезжает, и даже если хоть один из пациентов освободит апартаменты, имеется уже стопка писем от больных, которые мечтают лишь об одном – попасть в санаторий. В общем, пока все по-прежнему.
– За исключением того, – добавил он, – что Уилмингтон всерьез решил жениться на мадемуазель Левассер.
– Вы с ним говорили? – спросил Шатогерен.
– Говорил, но он ничего не хочет слушать.
В дверь постучали. Вошел Анри и доложил, что в санаторий явился посетитель, который хочет видеть госпожу баронессу Корф. Шатогерен удивленно вздернул брови.
– Посетитель, о котором она не предупредила? Что-то на нее не похоже.
– Что за посетитель, Анри? – с неудовольствием осведомился Гийоме.
– Мужчина представился как барон Селени и сказал: если госпожа баронесса занята, он будет ждать, пока она не примет его.
Судя по всему, неведомый барон Селени был хорошо осведомлен о порядках, царивших в санатории.
Доктора переглянулись, и Гийоме пожал плечами.
– Хорошо, Анри. Пойди к мадам Корф и передай: если баронесса и в самом деле не занята, она может принять посетителя.
А мадам Корф была как раз в это время чрезвычайно занята. Стоя в саду с небольшим, но зато весьма удобным зеркалом, она, делая вид, что рассматривает свое отражение, следила за Эдит Лоуренс, находившейся в своей комнате на первом этаже.
Несколько минут назад доктор Севенн принес Эдит градусник, чтобы она измерила температуру, но Филиппу пришлось отвлечься на бывшего дипломата, который уверял, что слишком много съел за обедом, и англичанка осталась одна. Последующие ее действия нельзя было назвать иначе чем странными. Она с отвращением поглядела на градусник и опустила его в чашку горячего чая, которая стояла перед ней на столе. Подержав градусник несколько секунд, она вытащила его, тщательно вытерла платком и с видом мученицы положила на стол. Едва доктор Севенн вернулся, она приложила руку ко лбу, несколько раз кашлянула и стала жаловаться на то, что нехорошо себя чувствует…
– Госпожа баронесса!
Натали Емельянова, которая делала наброски, сидя под деревом, видела, как к столичной вертихвостке (так молодая художница называла про себя мадам Корф), которая не желала расставаться с зеркалом, подошел Анри и сказал ей что-то вполголоса. Судя по ее лицу, вертихвостка сильно удивилась, но все же спрятала зеркало и последовала за слугой.
– А, Наталья Сергеевна! Все рисуете?
Художница вспыхнула и обернулась. Перед ней стоял Нередин, одетый по-летнему во все светлое, и девушка невольно подумала, до чего же поэт похож на ангела.
– Алексей Иванович… – пролепетала она, – я так тронута… такая честь… ваши стихи… – Она стиснула руки и с мольбой поглядела на него. – Если бы вы только согласились мне позировать!
Алексей Иванович окинул взглядом сад, подумал, что баронесса, наверное, куда-то ушла, и милостиво согласился сесть напротив Натали, чтобы она могла набросать его портрет. Не веря своему счастью, Натали поспешно перелистнула страницу в альбоме и от волнения сломала карандаш. Поэт устроился в «позу», закинул ногу на ногу (как он никогда не сидел в жизни) и даже согласился взять на руки кошку, чтобы внести разнообразие в портретную живопись.
А баронесса тем временем переступила через порог библиотеки. При ее появлении гость поднялся с кресла. Амалия обернулась к своему спутнику, и Анри вышел, затворив дверь. Как хорошо вышколенный слуга, он тотчас же удалился, и совершенно зря. Потому что любой, кто остался бы подслушать разговор баронессы с незнакомцем, узнал бы весьма любопытные вещи.
Глава 17
– Должна сознаться, я не имею чести знать вас, сударь, – проговорила баронесса, испытующе глядя на незнакомца.
Это был блондин лет пятидесяти, седоватый, уверенный в себе, с небольшими бакенбардами и пронизывающим взором умных светлых глаз. И хотя держался гость поистине безупречно, Амалия поймала себя на том, что он не внушает ей совершенно никакого доверия. Баронесса привыкла полагаться на интуицию, потому что знала, как легко обмануть любой, даже недюжинный разум, и на сей раз интуиция сказала ей: неожиданный посетитель неприятен, имеет что-то против нее и даже, может быть, по-настоящему опасен. Отметив вышеперечисленное, она не стала задерживаться на собственных ощущениях, а с очаровательной улыбкой ждала ответа.
– Тогда я исправлю оплошность, – промолвил господин, кланяясь. – Барон Селени, Юлиус Селени. А вы, стало быть, несравненная баронесса Корф.
Он говорил по-французски чуть правильнее и тверже, чем говорят настоящие французы, однако слово «несравненная» в его устах прозвучало иронично, что Амалии не понравилось. Она не любила дерзостей и не давала спуску тем, кто имел намерение ее унизить.
– Тем не менее несравненной баронессе ваше имя ни о чем не говорит, – мягко промолвила она, и глаза ее сверкнули золотом.
Барон сухо улыбнулся и положил на стол визитную карточку. Но Амалия не сделала даже движения, чтобы подойти и взять ее.
– Селени – знатная венгерская семья, – пояснил он. – И я отказываюсь верить, что вы никогда не слышали о ней. Тем более что у нас с вами могли быть общие интересы, госпожа баронесса. По роду деятельности, так сказать.
Мужчина говорил неторопливо, но с каждой фразой тон его становился все более и более вкрадчивым. И Амалию не покидала мысль, что он все время настойчиво прощупывает ее, прикидывает, с какой стороны к ней подступиться, – возможно, чтобы неожиданно атаковать, ошеломить и сбить с толку. После намека на род деятельности ничего другого баронесса и не ждала, ибо ее работой в совсем недавнем прошлом было то, что в современных терминах именуется разведкой и контрразведкой (в благословенном девятнадцатом веке разделение их было не таким четким, как сейчас).
– Я рад, что вы согласились принять меня, госпожа баронесса, – продолжал барон Юлиус. – Значит, нам удастся прийти к соглашению. По крайней мере, я на это надеюсь.
И ласково поглядел на Амалию, которая держала на лице улыбку, но ничего не говорила. В сущности, сказать ей было нечего, потому что она понятия не имела, о чем вообще идет речь. У нее только была догадка, что визит к ней венгерского барона может быть как-то связан с событиями в санатории, – и, как оказалось, молодая женщина не ошиблась.
– Скажите, госпожа баронесса, – гость подался вперед, и его глаза сузились, – мои надежды не напрасны?
– Смотря на что, сударь, – ответила Амалия, ничуть не погрешив против истины, ибо, как известно, надежды надеждам рознь. – Хотя после того, как ваши люди обыскали мой номер…
Это был смелый шаг, но он полностью оправдал себя. Барон Селени театрально вздохнул.
– Хорошо, – промолвил он, – разумеется, мы кругом виноваты. Мы чертовски недооценили вас, госпожа баронесса. Наши информаторы клялись, что вы отошли от дел… Но ведь любых информаторов можно перекупить, не правда ли? – Барон пожал плечами. – Конечно, так оно и было. И для вас по-прежнему нет никаких препятствий и запретов. Одно то, как вы избавились от моего агента… Столкнуть со скалы в пучину безобидную старушку – браво!
«Я столкнула?!» – в смятении подумала Амалия.
– Мало кто на свете мог бы решиться на подобный шаг, – доверительно сообщил Селени. – Поделом мне, конечно. Я потерял своего человека, но ведь не конец же света наступил, верно? Найдутся и другие агенты. Потеря незначительная, и я готов закрыть на нее глаза.
Амалия перестала улыбаться. Оборот, который принимала беседа, нравился ей все меньше и меньше. И то, как венгерский барон голосом подчеркнул слово «незначительная», свидетельствовало, что сейчас-то речь пойдет как раз о значительных вещах, об очень значительных… куда более значительных, чем человеческая жизнь.
– И я так и сделаю… если вы пойдете мне навстречу, – добавил Селени.
«Так… Сейчас начнется самое главное, – поняла Амалия, – то, ради чего он явился сюда. Какого черта я не ношу с собой револьвер, как прежде? Будь при мне оружие, я бы чувствовала себя уверенней. Правильно говорил генерал Багратионов: не бывает бывших агентов и не бывает таких, которых считают бывшими. Хотя он сам – негодяй, каких мало, надо отдать ему должное».
– Ваши условия? – резко спросила Амалия.
Со стороны это выглядело так, как если бы она сбросила маску. Но сама-то она отлично знала, что на руках у нее нет ни единого козыря. Она ничего не знала и была вынуждена вести игру вслепую.
– Условия очень простые, – сказал Селени тоном дельца, который обговаривает условия сделки. – Вы отдаете нам письмо и получаете деньги. Сколько, как и где – решайте сами. Кроме денег, могу также предложить вам… к примеру, нескромный герцогский титул. Не в нашей стране, дабы не привлекать излишнего внимания, но, уверяю вас, вы останетесь довольны. Вашему правительству письмо все равно ничего не даст. Я знаю, вы считаете, что приведенные в нем сведения могут многое изменить, но… взвесьте обстоятельства. Кто вам поверит? Не говоря уже о том, что все это попросту нелепо.
И тут Амалия поняла. Письмо, адресованное Шарлю де Вермону в Африку, которое так долго его искало, конверт с множеством штемпелей! То самое письмо, которое неожиданно исчезло… И все знали, что как раз она держала его в руках, ведь сама же вызвалась разносить почту в то утро.
Надо же так попасться, черт побери! Но кто, кто на самом деле мог взять письмо? Конечно, старуха, лжемадам Карнавале. Амалия появилась в санатории месяц назад, одновременно с Шарлем, – и едва ли не на следующий день в санаторий поступила новая пациентка, мадам Карнавале… Она терпеливо сидела в засаде, ни с кем особо не общаясь и производя впечатление одинокой дамы на неопытных дурочек вроде Натали, потому что ее интересовало только письмо… И ее комната была рядом с комнатой Шарля – конечно, для того, чтобы легче было за ним следить… Затем письмо и впрямь появилось, и старуха сумела им завладеть, но, как оказалось, ненадолго – кто-то убил ее и ночью пришел обыскать ее вещи! И наверняка нашел письмо, раз вот этот человек, Селени, находится в полной уверенности, что их опередили… Его агенты забрали вещи от имени несуществующего племянника старой дамы, но среди вещей не было письма… Конечно, не было, потому что его снова похитили, во второй раз!
Но что там за письмо такое? Для чего оно может понадобиться русскому правительству? Почему Селени готов на все ради того, чтобы заполучить его? Почему считает, что из-за густо усеянного штемпелями конверта можно было спокойно убить человека? И ведь вовсе не лукавит, Амалия видела, говоря об этом!
И самое главное: как Шарль де Вермон, лицо, которому письмо было отправлено, может оставаться в неведении относительно его ценности? Амалия заметила, что он ничуть не взволновался из-за его пропажи и если говорил о нем, то разве что в ироническом контексте. Или он настолько хитер, что сумел усыпить ее внимание? Неужели она до такой степени потеряла былые навыки, что любой смазливый военный в отставке может теперь ее обмануть? Нет, надо все выяснить… прямо сейчас!
– Вы кое-что забываете, – уронила Амалия, не переставая наблюдать за своим собеседником. – Вы забыли о… о том, кому письмо было отправлено. Будет только справедливо, если он…
Но господин с бакенбардами даже не дал ей закончить фразу.
– Умоляю вас, сударыня, – на лицо Селени поплыла гримаса скуки. – Перед смертью моя агентша успела отправить мне телеграфное известие. Она перехватила письмо до того, как шевалье де Вермон ознакомился с его содержанием, – как ей и было приказано. Если бы он прочитал письмо, мне пришлось бы принимать срочные меры для того, чтобы тайна не просочилась дальше. Что до вас, то вы слишком умны, чтобы посвящать в свои дела кого бы то ни было, и в особенности такого ненадежного человека, как шевалье. Меня вполне устраивает, что вы знаете тайну, потому что вы умеете держать язык за зубами. Вы и я, мы всегда найдем общий язык, так как понимаем, о чем идет речь. Кроме того, де Вермона мы в любом случае смело можем сбросить со счетов. Он все равно не доживет до следующего года.
И барон мило улыбнулся.
«Стало быть, мадам Карнавале посылала телеграмму в день смерти… Надо будет уточнить, на чье имя та была отправлена», – мелькнуло у Амалии.
Она старалась не думать о последних словах барона, но рука ее сама собой сжалась в кулак, и молодая женщина убрала ее за спину. Будь Амалия мужчиной, барону Селени было бы определенно несдобровать; но, по счастью, он имел дело лишь с хрупкой женщиной.
– Конечно, мы допустили просчет, обыскав вашу комнату, – продолжал венгр, – и я понимаю, почему вы сердитесь. Но раз вы видели письмо, вы должны понимать, что именно стоит на кону. Ведь вы сами без колебаний избавились от двух человек, которые мешали вашим планам.
– Уже двух? – каким-то странным тоном спросила Амалия.
Селени пожал плечами.
– Вероятно, этот несчастный молодой священник что-то видел или просто заподозрил, кто именно столкнул в море милую старушку, – сказал он. – Однако это к делу не относится. Позвольте, впрочем, выразить вам мое восхищение. Я знаю, что у вас редкое чувство юмора, но убить книгой – признаться, такое не каждому в голову придет. Я бы, во всяком случае, не додумался.
И барон поклонился чрезвычайно галантно, словно только что отвесил невесть какой изысканный комплимент.
«Опасная игра, очень опасная… – лихорадочно размышляла Амалия. – Куда же я опять ввязалась? Ему было известно, кто я, и он очень здорово соединил все концы с концами. Шарль де Вермон постоянно находился рядом со мной… стало быть, на взгляд Селени, на самом деле я постоянно нахожусь рядом с ним. Старый, дешевый шпионский трюк. Мадам Карнавале гибнет… Ну да, два плюс два равно четырем. Значит, я тоже следила за Шарлем и ждала то самое письмо… Логично. И я же убила мадам Карнавале и несчастного Маркези. А на самом деле… на самом деле все совсем не так! Только я вряд ли смогу доказать это Селени. Он профессионал, и ему отлично известно, что в нашем деле никому нельзя доверять. И чем убедительнее будут мои доводы, тем меньше он будет им верить».
– Я бы тоже не додумалась, – зло проговорила Амалия в ответ на слова барона.
– Неужели? – с улыбкой обронил тот. – Хорошо, я готов признать, что с моей агентшей произошел несчастный случай, если вам так угодно. А священник просто напоролся на излишне кровожадного ночного вора. В конце концов, это мелочи, не стоящие нашего внимания. Так сколько вам угодно получить за письмо?
– Деньги меня не интересуют, – отрезала Амалия. Она ломала голову, ища способ прекратить бессмысленный разговор, но пока ничего не приходило ей на ум.
– Мне известно, что вы богаты, – понимающе кивнул Селени. – Значит, титул?
– Герцогство за листок бумаги? – бросила Амалия с вызовом. Она и сама не понимала почему, но антипатия к этому неожиданному посетителю разъедала ее, как кислота.
Селени пожал плечами.
– Он того стоит, – заметил он.
– Вот как? А может быть, он стоит больше?
Ее собеседник задумчиво посмотрел на нее.
– Не сочтите за невежливость, госпожа баронесса, но я бы не советовал вам торговаться. Последствия могут быть… могут быть самые непредсказуемые.
– О да, я уже поняла, – язвительно отозвалась Амалия. – Вы приняли бы срочные меры. Вроде тех, которые собирались предпринять в случае, если бы шевалье все-таки прочитал письмо.
– Но вы приняли их прежде нас, – вздохнул Селени. – Правда, в отношении совершенно другого лица. Впрочем, если мы не договоримся…
И барон сделал паузу, чтобы дать собеседнице самой додумать фразу. Продолжение напрашивалось совершенно недвусмысленное, и Амалия, хоть и была храброй женщиной, все же почувствовала под ложечкой неприятный холодок.
– Вы мне угрожаете? – холодно спросила она.
– Господь с вами, баронесса! – Селени сделал непонимающее лицо. – Но ведь в этом мире всякое может случиться. У вас тоже, к примеру, есть свои секреты, которыми вы не хотели бы делиться с окружающими. Что, если они узнают, к примеру, что ваш второй ребенок, которого вы якобы усыновили, на самом деле ваш собственный? Что может подумать ваш муж, господин барон Корф?
– Господин барон ничего не подумает, – отрезала Амалия. – Вы дурно работаете, иначе бы знали, что мы с ним уже несколько лет в разводе.
– Ну, к примеру, он может решить, что это неплохой повод отнять вашего общего сына, который живет с вами, – возразил барон Юлиус безмятежно. – Полно, госпожа баронесса. Вы вовсе не так неуязвимы, как считаете. Признаться, я был удивлен, когда узнал, что вы смешали работу с личной жизнью, следствием чего и явился ваш приемный сын, но все мы люди и совершаем ошибки, а потом платим за них. Достаточно одного письма господину барону, чтобы вся ваша жизнь перевернулась. И я еще ничего не сказал про отца ребенка, герцога Олдкасла[15]. Интересно, он знает о том, что у него есть сын? Почему-то мне кажется, что вы ему ничего не сообщили.
Дверь библиотеки беззвучно приотворилась. Амалия невольно напряглась, но оказалось, что это в щелку всего лишь вошла кошка. Она двинулась было вперед, к знакомому силуэту, но заприметила чужого человека, уловила исходящую от него волну враждебности и в нерешительности замерла на месте, поджав одну лапку.
– Ну так исправьте эту ошибку, – сказала Амалия в ответ на слова барона. – Заодно можете написать письмо и его жене, леди Эмили. Сразу в двух экземплярах, чтобы не затерялось на почте.
– О, – уважительно протянул барон Юлиус, – значит, вам уже и про экземпляры известно. Что ж, похвально, госпожа баронесса. Прекрасная работа. – Барон подался вперед и понизил голос: – Но вам следует знать, что все экземпляры письма, кроме одного, были успешно перехвачены. И теперь, когда остался лишь один, я никому не позволю нарушить покой моей страны. Подумайте об этом хорошенько, прежде чем предпринимать опрометчивые шаги.
«Да, противник, безусловно, опасный», – мелькнуло в голове у молодой женщины, когда она увидела выражение лица своего собеседника. Но дальше ее мысль не пошла, потому что дверь библиотеки распахнулась, с грохотом ударилась о стену и в комнату вошел – нет, влетел – разъяренный Алексей Нередин. Кошка, оказавшаяся на его пути, метнулась прочь, и вовремя. Ибо изящный лирический поэт, певец тоскующих у камина дам и вообще, по версии Натали Емельяновой, сущий ангел подскочил к барону Юлиусу Селени и без всяких околичностей, со всей скифской прямотой заехал ему кулаком в челюсть.
Высокородный барон рухнул на ковер, как мешок гнилой картошки, а поэт, по-прежнему молча, не говоря ни слова, схватил его за отвороты сюртука и рванул прочь. Жалобно ахнул и треснул в хищных руках варвара пошитый парижским портным сюртук, что-то сдавленно прохрипел барон Селени, в тот сюртук зажатый, но преобразившемуся в гунна Нередину было совершенно начхать на всех баронов в мире и на их одежду. Он приложил врага еще раз, как следует пнул его для верности и поволок по ковру к двери. За дверью, убедившись, что баронесса не может их слышать, он прибавил несколько крепких армейских выражений, которые автор повествования опускает из уважения к скромности читателей.
Через мгновение Мэтью Уилмингтон и Катрин Левассер увидели, как какой-то господин скатился по лестнице, причем за скатившимся бежал, перепрыгивая через две ступеньки, знаменитый poète russe, оглашавший воздух возгласами на непонятном языке. Еще через минуту Натали Емельянова, Шарль де Вермон, немецкие дамы, доктор Севенн и все, кто находился в саду, в легком ошеломлении наблюдали, как истерзанного, испачканного и весьма помятого пришельца выталкивают за ворота, причем тот растерян настолько, что даже не смеет протестовать против своего изгнания.
– Вон отсюда! – крикнул поэт. Поперек его лба вздулась жила, похожая на букву «у». Он был страшен и прекрасен одновременно. – Если я еще раз вас здесь увижу, то вам конец, слышите?
– Сумасшедший! – крикнул Юлиус Селени после того, как поднялся с земли и отошел на приличное расстояние. – Ты еще у меня пожалеешь! Вы все у меня пожалеете! А, черт подери!
Он со злостью оторвал лоскут, свисавший с воротника, плюнул в пыль и, так как ничего другого ему не оставалось, двинулся обратно к своей гостинице, расположенной в старом квартале Ниццы.
А высокий блондин с военной выправкой, который, находясь поблизости, наблюдал за тем, как посетитель ретировался, только усмехнулся и покачал головой.
Глава 18
– Что это было? – вырвалось у Шарля де Вермона.
– Алексей Иванович, что случилось? – вторила ему встревоженная художница. – На вас лица нет! Он оскорбил вас?
Девушка искала взгляда Нередина, но поэт только отмахнулся от нее и двинулся обратно в дом. В холле Шатогерен попробовал подступиться к пациенту с расспросами, но тот не был расположен отвечать на них и прошел мимо. Растерянным взглядом помощник обменялся с главным доктором.
– И что на него нашло? – пробормотал он, пожав плечами.
В библиотеке Амалия машинально взяла на руки кошку и села на диван, чтобы собраться с мыслями. За последние несколько дней Нередин уже второй раз ставил ее в тупик, хотя она была уверена, что знает людей слишком хорошо, чтобы те могли преподносить ей какие бы то ни было сюрпризы.
Итак, эта тонкая душа, этот возвышенный молодой человек, который, казалось, был склонен вести беседы лишь о стихах да книгах, на самом деле оказался способным на весьма решительные действия. Конечно, из-за его неуместного вмешательства она приобрела еще одного смертельного врага, но у Амалии было чувство, что барон Селени оставался бы таковым при любом раскладе.
Баронесса услышала, что ее избавитель возвращается, и на всякий случай напустила на себя рассеянно-озадаченный вид. Хвалить его она не собиралась, но и порицать тоже не входило в ее планы.
Нередин остановился на пороге, смущенно кашлянул и все-таки вошел, затворив за собой дверь.
– Простите, сударыня, что я позволил себе… – несмело начал он. – Но я не мог не вмешаться. – Поэт сделал шаг вперед. Его голос неожиданно обрел силу и зазвенел под потолком полутемной комнаты, наполненной старыми книгами. – Если вы одна, это не значит, что за вас некому заступиться. В общем, хочу, чтобы вы знали: я никому не дам вас в обиду. Слово офицера и дворянина!
Амалия покосилась на него. Кошка на ее коленях закрыла глаза и, казалось, задремала.
Нет, внезапно сказала себе молодая женщина, не стоит его вмешивать во все это. Он ничего не знает о ней, ничего не знает о ее жизни. Он не имеет представления даже, чем рискует, помогая ей. Он просто благородный человек, повелитель слов, который снимает звезды с неба и украшает ими свои стихи, человек, которому грезятся синий ветер и деревянные дожди, человек, который может сочинить поэму даже о чистом листе. И ее мир, мир секретов, интриг и предательства, – не для него.
– Должна заметить вам, сударь, – заговорила Амалия, – я не понимаю, с чего вы решили…
– Я слышал его последние слова, – просто сказал Нередин. – Этот мерзавец вымогал у вас деньги? Он шантажировал вас? – Амалия молчала. – Если вы боитесь за ваши тайны, сударыня, вы можете быть спокойны. Я никогда их не предам.
Амалия вздохнула и спросила – без гнева, без раздражения, совершенно будничным тоном:
– Что именно вы слышали?
Нередин замялся. Ему не хотелось повторять то, что он услышал, но раз она хочет знать…
– То, что он говорил о вашем… о вашем приемном сыне. И его угрозу рассказать все вашему мужу. Тут я не выдержал. Если бы я не вмешался, госпожа баронесса, я… я бы считал себя самым жалким из людей.
Поэт попытался улыбнуться, но в глазах его была тревога. Он внезапно понял, что своим поступком, вероятно, спровоцировал оскорбленного шантажиста выполнить свою угрозу. Таким образом его рыцарское вмешательство ни к чему хорошему не привело, и более того, возможно, даже ухудшило ситуацию. Он заметил на столе визитную карточку и взял ее, брезгливо держа кончиками пальцев.
– Барон Отто-Юлиус Селени… Из старинной семьи, судя по всему. Странно, что за нанесенное ему оскорбление он не вызвал меня на дуэль. – Алексей скомкал карточку и бросил ее на стол. – Что ж, тогда я сам вызову его на дуэль и убью, чтобы негодяй больше не мог вредить вам, и дело с концом. – Он повернулся к двери.
– Постойте, – окликнула поэта Амалия. – Сядьте, Алексей Иванович.
– Но, госпожа баронесса…
– Сядьте, прошу вас. Нам надо поговорить.
И в самом деле, ей надо было многое сказать. Конечно, она признательна ему, но не стоит доводить дело до дуэли… потому что она не любит дуэлей вообще, а венгерский барон наверняка на дуэлях не дерется, в их ведомствах к таким вещам относятся весьма неодобрительно. Но про ведомства ни в коем случае упоминать нельзя. И вообще Селени, допустим, ее бывший поклонник, который слишком много значения придает разным слухам. В сущности, он вполне приличный человек, но порою ведет себя так, словно приличия перестали для него существовать. Можно намекнуть, что барон предлагал ей руку и сердце, а когда она отказала, рассердился. В гневе мужчины порой совершают такие необдуманные поступки…
Пока в мозгу Амалии одно за другим проносились все вышеназванные спасительные соображения, Алексей Нередин неожиданно согнулся на стуле и зашелся в приступе кашля. Недавнее напряжение сил не прошло для него даром. Он задыхался, судорожно ловил воздух ртом, лицо его побагровело… Видя, что с ним происходит, Амалия вскочила и, не мешкая, бросилась за доктором Гийоме.
Приступ оказался столь сильным, что Нередин потерял сознание. Слуги отнесли его в спальню, и больные заметили, что доктор вышел оттуда лишь через полчаса. Амалия, шедшая за ним следом, что-то спросила у него, но он ответил ей так резко, что Рене потом пришел извиняться за своего коллегу. Однако баронесса вовсе не сердилась на грубость доктора. Она сама прекрасно понимала, что была причиной приступа у поэта, и ее не на шутку мучила совесть.
– Я не удивлюсь, – заметила Катрин, – если он из-за нее умрет. Есть женщины, которые всем приносят неприятности… И даже несчастья, – добавила девушка вполголоса, но почему-то ее услышали все.
Уилмингтон нахмурился. Он не был поклонником баронессы, но все-таки она была настоящая lady, и замечание невесты немного его покоробило. Шарль де Вермон только улыбнулся и подкрутил ус. Он отлично помнил, что у Амалии в санатории было больше всего почитателей среди мужчин, и успел заметить, что Катрин ревновала ее. Интересно бы еще понять почему. Ведь Катрин и так вытянула самый счастливый билет из всех возможных в ее положении и собиралась выйти замуж за набитого деньгами английского олуха, который к тому же был серьезно болен. Если она его переживет, у нее есть шанс унаследовать приличное состояние; и Шарля забавляло, что маленькая стяжательница будет недолго пользоваться плодами своего расчетливого коварства. Он всегда был о людях невысокого мнения, но почему-то ему представлялось, что Амалия никогда бы не оказалась на месте очаровательной француженки с такими обманчивыми газельими глазами и столь же обманчивым скромным видом.
– Когда вы собираетесь пожениться? – спросила Эдит у Уилмингтона.
И разговор перешел на более приятные темы – платье для невесты, выбор места венчания и возможность бракосочетания в мэрии без излишней помпы. Катрин, смущаясь, говорила, что одной мэрии ей вполне будет достаточно, потому что она не гонится за внешним блеском и вообще так любит Уилмингтона и так дорожит им, что не хотела бы лишний раз утомлять его. Порозовевший англичанин, тайком взяв ее за руку, тотчас объявил, что не посмеет лишать свою невесту свадебной церемонии. Разумеется, они поженятся в церкви, как только уладят все формальности, ведь он все-таки гражданин другой страны.
«До чего же они все отвратительны! – подумала в сердцах Натали, выходя из гостиной, где как раз обсуждали, кто будет подружкой невесты. – Ни до чего им нет дела, кроме их мелких интрижек. Мадам Карнавале умерла, и уже на следующий день о ней никто даже не вспомнил. Про итальянца они тоже забыли, хотя еще утром делали вид, что его судьба их взволновала. Притворщики, кругом одни притворщики! Бедный Алексей, может быть, умирает, а англичанин обжирается кексами, и все ему мало, Эдит хихикает своим противным голоском, а Катрин томно намекает на то, как она будет счастлива. Совершенно никчемные люди, которые никогда не создадут ничего стоящего: не распишут Сикстинскую капеллу, не сочинят поэму, которая останется в веках. Но они будут жить… а человек, который в сто тысяч раз ценнее их, может умереть. Боже, боже, ну отчего так несправедливо? Забери их всех, но пусть только Нередин останется в живых!»
Художница увидела, как доктор Гийоме спускается по лестнице, и поспешила к нему.
– Месье доктор… Моему соотечественнику нехорошо, и… у нас принято поддерживать друг друга… не оставлять в беде… Вы не разрешите мне посидеть с ним? Я так волнуюсь за его здоровье…
Ей показалось, что Гийоме взглянул на нее с раздражением, и она не ошиблась.
– Я уже приставил к нему сиделку, – сухо сказал доктор. – Вам и госпоже баронессе нечего там делать. Завтра утром, если ему будет лучше, можете его навестить, но ненадолго.
Натали достаточно хорошо знала Гийоме и понимала, что спорить с упрямым доктором совершенно бесполезно. Из его слов она уяснила, что Амалия, по-видимому, тоже хотела ухаживать за поэтом, однако Гийоме и ей дал от ворот поворот. Но все же это было слишком слабое утешение. Художница сухо попрощалась и ушла, чувствуя, как на глазах выступают слезы; но она не хотела, чтобы их видели посторонние. Все в санатории, начиная с персонала, – грубые, равнодушные, бесталанные животные, которые не могли идти ни в какое сравнение с ее любимым поэтом. Остаток дня она посвятила рисованию, и на всех ее рисунках была не то Снежная королева, не то злокозненная ведьма, которая кое-кому могла показаться до странности похожей на баронессу Корф…
После приема лекарства поэту полегчало, и он погрузился в сон. Несколько раз Алексей просыпался и снова принимался дремать; и сны его под влиянием снотворного получились цветные, фантастические и диковатые, он невнятно говорил что-то и вскрикивал. В очередной раз проснувшись в поту, привстал на постели. В окна смотрелась сиреневая южная ночь, в кресле у изголовья дремала сиделка, мадам Легран. Он потянулся за бумагой, но опрокинул что-то по пути, и сиделка проснулась.
Это была круглолицая, очень спокойная женщина лет тридцати пяти. Нередин знал, что ее муж был врач, самоотверженно изучавший заразные болезни, от одной из которых он в конце концов и умер. Хотя мадам Легран рано овдовела, она никогда не роптала на судьбу; и ее восторженное отношение к науке, унаследованное от мужа, ничуть не изменилось, хотя самого близкого человека на свете она лишилась именно из-за этой науки. Несмотря на то что она была всего лишь сиделкой, доктор Гийоме уважал ее не меньше, чем врачей. Характер у нее был ровный, больным она внушала доверие и в санатории считалась незаменимой помощницей.
– Вы что-нибудь хотите, месье? – спросила мадам Легран своим глубоким приятным голосом, зажигая лампу. – Дайте-ка я померяю вам температуру. Вы очень нас всех напугали.
– Нет, – сказал Нередин хрипло, – со мной все хорошо. Вы не дадите мне бумагу? И карандаш.
Мадам Легран покачала головой, однако все же дала ему то, о чем больной просил. Нередин набросал на бумаге несколько строчек, но присутствие постороннего человека мешало ему, и к тому же у него начала кружиться голова. Видя, что он побледнел, мадам Легран забрала у него листки.
– Спите, месье… Утром вам будет лучше, тогда вы и закончите вашу поэму.
Поэта почему-то позабавила эта манера французов любое стихотворение называть поэмой. Мадам Легран накрыла его одеялом и выключила свет. И Нередин вновь заснул – на сей раз спокойным, крепким сном без сновидений.
Пока он спал, в одной из комнат дома страдающий от бессонницы человек поднялся с постели. По дороге проехал экипаж, простучали подковы, вдали залаяла собака, и все стихло. Не зажигая света, человек несколько раз прошелся по комнате. Толстый ковер скрадывал шаги, и неизвестный был рад, что никто не мешает ему думать.
Он извлек из кармана сюртука письмо в конверте, покрытом штемпелями, зажег лампу и еще раз перечитал его, после чего долго сидел на постели без движения. Наконец поднялся, достал коробок спичек и зажег одну из них. Держа конверт над пепельницей, он поднес к нему спичку и стал смотреть, как пламя пожирает бумагу. Теперь оставалось лишь письмо – листок почтовой бумаги, густо исписанный с двух сторон неровным, прыгающим почерком. Человек перечитал его и, чиркнув новой спичкой, хотел сжечь и письмо, но заколебался. Спичка продолжала гореть, и он спохватился только тогда, когда пламя опалило ему пальцы. Чертыхнувшись, бросил спичку в пепельницу, сунул письмо в карман, бросил беглый взгляд на часы и стал одеваться.
Глава 19
Я спущусь на самое дно весны, Расскажу, какие тебе снятся сны. В черной глади реки отразится лицо, И померкнет свет заблудившихся солнц. Я пойду вдоль закатов прощального дня, Где никто никогда не отыщет меня. Засмеется кто-то из глади воды, И заплачут пылающие цветы.Нередин поморщился. В окно ломился солнечный день, и чертящие над морем зигзаги чайки перекликались так задорно, так радостно, что у него невольно сжалось сердце. Он сидел в постели, опираясь спиной на подушки, а на стуле возле изголовья примостилась Натали с листком в руках. На листке были набросаны те самые строки, которые он сочинил ночью и потом долго редактировал.
– «Из глади» или «под гладью»? – спросил поэт.
– Не знаю, – смущенно ответила девушка.
Алексей покачал головой и провел рукой по лбу.
– Плохо, – внезапно сказал он. – Все плохо. Не стихотворение, а какой-то бред.
Натали умоляюще посмотрела на него. Самой ей стихотворение очень понравилось. Впрочем, как и все, что выходило из-под пера поэта.
– Слишком вычурно, – продолжил Нередин с ожесточением, – слишком по-декадентски. Никуда не годится.
Он закашлялся, Натали побледнела, как смерть, и приподнялась, чтобы звать на помощь, но кашель быстро прошел.
– Неужели тут всегда такие яркие краски? Еще немного – и я начну сожалеть о нашей зиме… – произнес поэт капризно, глядя за окно. – Он осекся и приподнялся на подушках. – А с кем там баронесса? Опять с французским офицером?
Амалия и впрямь прогуливалась по берегу, а рядом с ней вышагивал Шарль. Вид у шевалье был хмурый, он покусывал изнутри губу и смотрел мимо собеседницы.
– Значит, вы не знаете, кто мог отправить вам то письмо? – уже в который раз спросила Амалия.
– Честное слово, я не понимаю… – проворчал Шарль. Резко остановился и заложил руки за спину. – Зачем оно вам?
– Представьте себе, я по природе очень любопытна, – ответила молодая женщина, ничуть не погрешив против истины. – И мне не нравится, когда пропадают письма.
– Мне тоже, – согласился офицер, – особенно когда эти письма адресованы мне. Однако отправитель не дядюшка Грегуар – вчера я послал ему телеграмму и уже получил ответ. Он жив и до отвращения здоров, так что с его стороны наследства мне ждать не приходится. Тетушка Адель тоже жива, утром пришло от нее письмо. В общем, все чувствуют себя прекрасно… кроме меня, конечно.
– Шарль, – мягко сказала Амалия, касаясь его руки, – меня интересует, кто из ваших знакомых, друзей или сослуживцев мог послать вам письмо в Африку, думая, что вы еще там. Те, кто знает, что вы в санатории возле Ниццы, в счет не идут. Подумайте, пожалуйста, это очень важно. От кого вы получали письма, когда были в Африке?
– Да все от тех же, – с недоумением отвечал офицер. – Родственники, кое-кто из парижских знакомых, дамы… – Он хитро поглядел на Амалию. – Послушайте, уж не ревнуете ли вы меня? Нет, я, конечно, польщен… особенно в моем нынешнем состоянии, когда я представляю собой форменную развалину.
– Некоторые развалины, Шарль, смотрятся гораздо выгоднее многих современных построек, – сказала Амалия, интонацией придав фразе еще больше двусмысленности.
Офицер не выдержал и рассмеялся. Он находил чертовски пикантным, что хорошенькая молодая женщина не лезла за словом в карман и не корчила из себя недотрогу, в отличие от некоторых.
Но смех перешел в кашель. Шарль прижал платок к губам, а когда отнял его, на платке было красное пятно.
– Вот так все и кончается, – произнес он мрачно. – Стоило выжить на проклятом Африканском континенте, чтобы потом умирать в санатории здесь… Лучше бы я там погиб от английской пули, честное слово.
Он спрятал платок и через силу улыбнулся Амалии.
– Расскажите мне о ваших знакомых, Шарль, – попросила молодая женщина.
– Что именно вас интересует? – Шевалье все еще улыбался, но в глазах его застыла смертная тоска.
– Меня интересует, не было ли среди них более или менее значительных людей, – ответила Амалия. – Может быть, вы учились с кем-то, кто потом стал министром, или имеет отношение к командованию армии, или оказывает влияние на дела государства? Кто-то, кто играет важную роль… кто мог написать нечто, не знаю, компрометирующее, или важное, или…
– Понятно, – кивнул Шарль. – Значит, вы полагаете, что в том письме могли содержаться какие-то важные сведения. Если говорить откровенно… – Офицер немного подумал. – Ну, положим, Сертен – третий или четвертый секретарь военного министра… то есть был им, потому что министерство уже давно сменилось. Но он никогда мне не писал, просто мы когда-то учились вместе. Или Ла Палисс – хотя он всего лишь полковник, но его жена дружит с любовницей президентского зятя, насколько я помню.
– Президент? – быстро спросила Амалия. – Вы имеете в виду Жюля Греви?
– Да, старика Греви, – кивнул Шарль. – Если иметь в его окружении своего человека, можно недурно вкладывать деньги, и Ла Палисс через свою жену узнает много чего интересного. Впрочем, он всегда был оборотистый малый, и армия только развила в нем данное качество. Но он очень редко мне писал. Да и потом, мы виделись в Париже, и он знал, что я вернулся.
Нет, подумала Амалия, это точно был не Ла Палисс. В каких бы спекуляциях он ни участвовал, они не могли быть настолько значительными, чтобы агент чужой разведки месяц выслеживал посланное им письмо. Кроме того, благодаря оговорке шпиона Амалии стало ясно, что автор для предосторожности направил несколько одинаковых посланий разным людям. Стало быть, дело и впрямь было серьезное.
– Хорошо, – сказала она. – Кто еще, кроме них двоих, мог вам писать?
…А из окна на нее смотрел обиженный до глубины души поэт. Ах, женщины! Беззащитные, но коварные создания! Стоило ему заболеть, и вот пожалуйста – она уже забыла о нем и вовсю флиртует с каким-то жалким офицером, глупым, как все представители армии… Нередин был сейчас так сердит, что начисто забыл, что и сам был когда-то поручиком.
– Может быть, лучше закрыть окно? – робко предложила Натали.
– Вы хотите, чтобы я задохнулся? – желчно парировал поэт.
Он взглянул на ее несчастное лицо, и ему сделалось стыдно. Ведь девушка не виновата, что некрасива и нескладна, не виновата, что ее отец – критик, которого он от души презирает. Но шедших от ума «не виновата» было слишком мало для того, чтобы испытывать к добровольной сиделке хоть какое-то чувство, кроме раздражения. Алексей видел, что Натали боготворит его, видел, что она готова на все ради него, но сам он ни капли не любил ее и, что гораздо хуже, сознавал: никогда и не полюбит.
– Извините, – сказал поэт мрачно. – Я устал.
– Вы уверены, что не надо позвать сиделку? – встревожилась Натали. – Я могу сходить и за Гийоме, если нужно…
Нередин отрицательно покачал головой и закрыл глаза. Художница положила листок на стол, но сделала неосторожное движение рукой – и опрокинула вазу, которая с грохотом упала набок. Поэт дернулся от неожиданности и открыл глаза.
– Простите, ради бога, – пролепетала девушка, вся красная, и стала собирать рассыпавшиеся по столу цветы.
Нередин повернул голову и посмотрел в окно. Амалия уже ушла. Но поэт увидел, как Шарль де Вермон подошел к тому месту, с которого упала в море мадам Карнавале, и долго смотрел вниз.
«Интересно, что бы это могло значить?» – подумал заинтригованный Нередин.
А Амалия тем временем отправилась на поиски Анри.
– Скажите, Анри… Перед смертью мадам Карнавале отправляла кому-то телеграмму. Вы случайно не помните кому?
Анри немного подумал.
– Да, она попросила послать телеграмму. Адресат – ее племянник, месье Карнавале. Я запомнил, потому что за несколько дней до того ей пришло от него письмо, а больше ей никто не писал. Что-нибудь еще, мадам?
– У вас прекрасная память, Анри, – заметила Амалия, вкладывая в руку слуги приятно хрустнувшую бумажку. – Но текст телеграммы вы, конечно, не помните?
– Почему же? – возразил слуга, покосившись на бумажку. – Отлично помню: «Полностью выздоровела, приеду завтра». Обычный текст, ничего особенного.
Так-так, сообразила Амалия, «полностью выздоровела» означало, скорее всего, что задание успешно выполнено. Ибо лжемадам Карнавале, конечно, не могла предвидеть, что успех окажется лишь временным и что некто, кто тоже охотился за таинственным письмом, не остановится перед тем, чтобы столкнуть ее со скалы. Подумав о предвидении, Амалия сразу же вспомнила, кем из обитателей санатория ей следовало заняться в первую очередь.
– Анри, вы не знаете, где мадемуазель Лоуренс? Она обещала научить меня гадать на картах.
Эдит Лоуренс сидела в гостиной, раскладывая пасьянс. Амалия остановилась в дверях, рассматривая англичанку. Невысокая, миловидная русоволосая девушка, но нижняя челюсть тяжеловата и изобличает недюжинное упрямство. Эдит метнула на Амалию быстрый взгляд и смешала карты. Кроме них двоих, в гостиной никого не было.
– Как вы себя чувствуете, мисс Лоуренс? – спросила Амалия. – Доктор Севенн сказал мне, что беспокоится за вас.
Положим, помощник Гийоме ничего подобного ей не говорил, но Эдит же не могла о том знать. Девушка кашлянула.
– Благодарю вас, мадам, вы очень добры, – сказала она. Вид у нее был кроткий, как у тяжелобольного, давно смирившегося со своей участью. – Мое здоровье такое же, как и прежде: не улучшается, но и не ухудшается. Говорят, при чахотке и это неплохо.
Эдит взяла в руки карты и стала раскладывать их по какому-то странному принципу, быстро отбрасывая ненужные.
– Это какое-то гадание? – спросила Амалия, подойдя к ней и остановившись напротив.
– Если с помощью карт можно заглянуть в будущее, то почему бы не использовать возможность? – вопросом на вопрос ответила Эдит. Она отбросила последние карты и поморщилась. – Так я и знала. Осталась только шестерка пик – неприятности.
– Не совсем так, – мягко возразила Амалия. – Шестерка пик – поздняя дорога.
И что-то было в ее тоне такое, что Эдит покраснела и подняла глаза.
– Дорога, госпожа баронесса? И куда же она ведет?
– Полагаю, из санатория, – ответила Амалия. – Нехорошо вводить в заблуждение людей, дорогая мисс. Тем более таких, как доктор Гийоме, который определенно заслуживает лучшего.
Эдит не сводила взгляда с лица Амалии.
– Право, – проговорила англичанка, стараясь казаться высокомерной, – я не понимаю, о чем вы…
– Некоторые думают, – уронила Амалия, – что изобразить чахоточного больного очень легко. Достаточно лишь время от времени предъявлять окровавленный платок да разыгрывать лихорадку… купая градусник в чае, к примеру. А бутылочки с кровью заблаговременно спрятать у себя в столе.
– Вы рылись в моих вещах! – Эдит вскочила с места, щеки ее горели. – Как вы посмели!
– Нет, как вы посмели? – крикнула в свою очередь Амалия, нимало не заботясь о том, что их могут услышать. – Столько людей мечтает попасть сюда, в санаторий, а вы поселились тут, не имея на то ни малейшего права! Кто вам позволил строить из себя тяжелобольную? Почему вы думаете, что можете дурачить окружающих и вам ничего за это не будет? Я сейчас же отправлюсь к доктору Гийоме! Пусть он узнает все и вышвырнет вас отсюда… как вы того заслуживаете! – Баронесса повернулась к двери.
– Пожалуйста! Нет! – Эдит вдруг подбежала к ней и схватила за руку. – Не надо говорить доктору! Я должна остаться здесь! Я не хочу, чтобы он узнал!
– Должны? – Амалия вскинула брови. – С какой стати? Вы не больны, и на ваших щеках нет и следа того румянца, который господа романисты высокопарно именуют чахоточным. – Вот уж правда, щеки миниатюрной англичанки горели совсем по другой причине. – Что вам здесь делать? Нет, мисс Лоуренс, вам в санатории не место. Не говоря уже о том, что вы можете и в самом деле заболеть, если пробудете тут слишком долго. Так что не отговаривайте меня.
Баронесса выдернула руку, но Эдит забежала вперед нее и снова вцепилась в ее локоть.
– Прошу вас! – взмолилась она. – Я должна… я обязана тут остаться! Иначе я никогда… – Девушка закусила губу.
– Никогда – что? – спросила Амалия.
Эдит тряхнула головой. По ее лицу Амалия видела, что та приняла какое-то решение.
– Если я расскажу вам, вы не выдадите меня доктору? – прошептала Эдит. – Уверяю вас, у меня были веские причины так поступить.
«Это уж я буду судить, веские или нет», – подумала Амалия, но вслух, разумеется, ничего подобного не сказала. Баронесса села за стол, а молодая англичанка вернулась на свое место. Она нервно сплетала и расплетала пальцы и, казалось, не знала, с чего начать.
– Вы сочтете меня фантазеркой, – наконец проговорила девушка.
– Не обязательно, – ответила Амалия. – Итак?
– Все случилось из-за Аннабелл, – начала Эдит. – Аннабелл – моя подруга детства. Мы знакомы очень… очень давно, как говорят, с пеленок. Наши родители были дружны, но ее отец потом умер. Впрочем, на нашу дружбу его смерть никак не повлияла. У нас не было друг от друга секретов, мы говорили обо всем: о поэзии, о музыке, о книгах. Нам всегда нравилось одно и то же, а если наши вкусы расходились, то мы только смеялись над этим. Мы никогда не ссорились. Если бы со мной случилась беда, она бы первая пришла мне на помощь. И я, я тоже бы все сделала для нее. А потом у нее началась чахотка. От отца Аннабелл унаследовала приличное состояние, поэтому найти хорошего доктора не стало для нее проблемой. Она лечилась четыре года, сначала в Швейцарии, потом здесь, во Франции. Каждую неделю подруга присылала мне письма. Очень хорошие письма, как и она сама. Потому что Аннабелл была очень хорошим человеком. – Эдит умолкла и залилась слезами. – Она была добрая, славная, открытая. Люди ее обожали. У нее был знакомый, очень хороший молодой человек, который сделал ей предложение, но она ответила, что сначала должна вылечиться. Это было разумно, но если бы я тогда знала, что будет… Я бы скорее уговорила ее выйти за него.
– И что с ней произошло? – спросила Амалия.
Эдит всхлипнула.
– Я тоже была помолвлена. Я… – Девушка вытерла слезы. – Мне не следовало так поступать, ведь получилось не по-дружески…
Я должна была обратить внимание на ее письмо, в котором она говорила, что встретила одного замечательного человека, француза. Аннабелл лечилась в Ментоне, и там же оказался и он. По его словам, он тоже страдал легкими. Подруга была очень счастлива, написала мне: врач сказал, что ее болезнь почти побеждена. И она собралась замуж за своего знакомого. Аннабелл говорила, он такой милый… Потом, он тоже был болен, что их и сближало. По-моему, он боялся вскоре умереть и торопил ее со свадьбой. А она была такая добрая… И не могла ему отказать. Если бы я приехала на свадьбу… – Слезы текли по щекам девушки, и Эдит уже не вытирала их. – Но мой жених отговорил меня. Я в Лондоне, Аннабелл – в Ментоне… далеко… Никогда себе не прощу, что уступила ему. Впрочем, я сразу же разорвала помолвку после того, как… как это случилось. Единственный раз в жизни я предала ее. Если бы я приехала… Если бы я хотя бы увидела, как он выглядит!
Амалия нахмурилась:
– Что случилось после свадьбы?
Но Эдит не слушала ее.
– Она была почти здорова… Почти, вы понимаете? Аннабелл была так счастлива… Писала мне письма, обещала прислать их фотографию… с мужем… Она его обожала. Но фотографию я так и не получила. Потому что моя подруга умерла. Они поплыли куда-то на яхте, и начался дождь. Они долго не могли вернуться в порт, а когда вернулись, Аннабелл уже промокла насквозь. Вы понимаете, что это значит… после чахотки… И я узнала слишком поздно. Я беспокоилась, что письма прекратились… Мы навели справки через посольство, и мой жених мне сказал… Я его сразу возненавидела, просто не могла его видеть. Это было ужасно… Ведь я была в Лондоне, танцевала и веселилась, а она в то самое время умирала… И я не знала, поймите, ничего не знала! Я все бросила и поехала в Ментону. Но опять опоздала… Тот человек, ее муж… – Эдит закусила губу. – Я навела справки в гостинице, и хозяин сказал, что целый день он не приглашал врача к жене… согласился только, когда она начала бредить. Когда было уже поздно и все понимали, что поздно… Ее похоронили в дешевом гробу в самом дальнем углу кладбища… И рядом никого не было, кроме мужа, даже священника не пригласили. В дешевом гробу! У нее было состояние, несколько тысяч фунтов… Но опять я догадалась слишком поздно. Когда я приехала в банк, оказалось, что все деньги исчезли. Ее муж забрал ценные бумаги, вещи, драгоценности… словом, все. Ну да, имел на это право, потому что Аннабелл была его женой, мало того – она составила завещание в его пользу… И только тогда я все поняла. Я пошла в полицию, но мне сказали, что ничего не смогут поделать… Что нет состава преступления, понимаете, нет! А ведь все так очевидно… Он все продумал, все предусмотрел. И да, с точки зрения закона он никого не убивал. Он лишь женился на девушке, зная, что та только что перенесла тяжелую болезнь и что любая простуда ее убьет. А затем повез ее кататься на яхте… Осенью, понимаете, осенью! И когда Аннабелл простудилась, муж не вызывал врача, пока не увидел, что она умирает. Это… это же ужасное преступление. – Губы Эдит дрожали. – Понимаете, даже разбойник… с ножом… на большой дороге… грабитель… конечно, мерзавец, но не такой… не до такой степени… Чтобы убить так хладнокровно, так гадко, так бесчеловечно… давая ей надежду на любовь, на жизнь, на счастье… Вот что особенно меня и сразило. Кем же надо быть, чтобы… чтобы так поступить? Поэтому я решила найти человека, за которого Аннабелл вышла замуж, найти любой ценой. Он думал, что неуязвим, что никто никогда не вступается за мертвых… Но он ошибся!
Амалия пристально посмотрела на девушку. Во время рассказа Эдит ее мучила одна мысль: правду ли говорит ей англичанка или лжет? Потому что баронесса не исключала того, что милая мисс Лоуренс могла являться агентом англичан и была послана в санаторий опять-таки с заданием добыть то самое письмо. Отсюда и манипуляции с термометром, и бутылочки с кровью в глубине ящика.
«Пока, – размышляла Амалия, – повествование выглядит очень убедительно… как и должно быть в легенде профессионального агента. Но слова девушки всегда можно проверить. Умершая подруга, ее муж, хозяин гостиницы, врач в Ментоне, который подругу лечил… слишком много названо лиц для подтверждения одной лжи».
– Как звали вашу подругу? Я имею в виду ее девичью фамилию?
– Адамс. Аннабелл Адамс.
– А ее врача?
– Пюи… Пюигренье. У французов такие сложные фамилии…
Так-так, стало быть, мы имеем дело со знаменитым Пюигренье… Нет, вряд ли рассказанное девушкой – легенда.
– И последний вопрос, – промолвила Амалия, откидываясь на спинку стула. – Ментона вовсе не по соседству с Ниццей, а доктор Гийоме не слишком жалует своего знаменитого коллегу, хоть и признает его заслуги. Почему вы решили, что убийцу вашей подруги надо искать именно здесь, в нашем санатории?
Эдит обескураженно поглядела на нее. Как просто эта красивая дама произнесла слово «убийца»… А ведь маленькая англичанка ожидала совсем другого – неприкрытых насмешек над собой, заявления, что у нее просто разыгралась фантазия. Вроде того, что ей довелось услышать от своего жениха… особенно когда она объявила ему, что никакой свадьбы не будет. О, тогда Эдит вообще узнала о себе много чего интересного!
– Имя… – прошептала она, – то имя, которым он назвался… Оно и привело меня сюда.
– И что же за имя? – спросила Амалия.
– Матьё Гийоме, – прозвучал тихий ответ.
Глава 20
Пиковый валет с задорным прищуром смотрел на Амалию со своей карты, лежащей на столе. И только сейчас молодая женщина сообразила, что он чем-то неуловимо напоминает ей шевалье де Вермона.
– Вы понимаете, – горячо продолжала Эдит, – Матьё – имя Мэтью Уилмингтона, только на французский лад… а Гийоме – фамилия доктора Пьера Гийоме. Тот, кто выбирал себе имя, наверняка знал их обоих. Значит, он бывал здесь, в санатории.
– Не обязательно, – возразила Амалия, которая привыкла скептически относиться ко всем выводам, от кого бы они ни исходили. – Фамилию Гийоме убийца мог встретить в газете, потому что наш доктор – не последний человек в своем деле, а Матьё, к примеру, – настоящее имя того господина.
Эдит кивнула.
– И поэтому я сначала приехала в Ниццу, – проговорила она, – осмотреться на месте. Мне стыдно признаться, но я подозревала и доктора тоже. Однако почти сразу же выяснилось, что у него… как это называется…
– Алиби, – подсказала Амалия.
Эдит снова кивнула.
– Доктор Гийоме уже несколько месяцев не бывал в Ментоне. Значит, мужем Аннабелл был не он. И кроме того, для моей подруги он слишком стар – в письме она написала, что ее жениху всего двадцать четыре года. Конечно, можно и солгать, но скрыть двадцать лишних лет – вряд ли возможно. И я стала обходить лавки в Ницце.
– Зачем? – заинтересовалась Амалия.
Эдит удивленно взглянула на собеседницу.
– Разве вы не понимаете? Тот человек забрал вещи Аннабелл… Но зачем они ему? Конечно, он должен был их продать… сбыть. И в одной из лавок я нашла то, что искала.
– Что? – подалась вперед Амалия.
«Как все же приятно, что люди еще способны меня удивлять», – думала она. Кем прежде ей казалась Эдит – неуравновешенной особой, излишне склонной к суевериям и постоянно вносящей смуту в их кружок? А на поверку та оказалась храброй, преданной девушкой, решившей самостоятельно провести расследование, чтобы узнать, кто убил ее подругу.
Эдит несмело взглянула на Амалию и сняла с шеи тонкую золотую цепочку, на которой висело узкое кольцо.
– Вот. Оно недорогое, но… Я подарила его Аннабелл на день рождения. Внутри английская надпись: «Diana to Ann». Полностью имя Аннабелл не уместилось бы, как сказал ювелир.
Амалия взяла цепочку. Взглянула на надпись и требовательно спросила:
– Почему Диана?
Эдит покраснела.
– Это мое имя.
– Значит, Эдит Лоуренс…
– Я взяла документы у моей кузины. Понимаете, ведь тот человек… который убил Аннабелл… наверняка же знал, кому она писала письма. Если бы он увидел мое настоящее имя, то…
А девушка вовсе не глупа, подумала Амалия. Очень даже сообразительна для светской барышни, у которой в жизни, судя по всему, не было особых забот.
– Понятно, – уронила Амалия, возвращая Эдит цепочку с кольцом. – Так где вы его нашли?
– В Ницце, в лавке, где продавалась всякая всячина. Хозяин был итальянец и не очень хорошо говорил по-французски[16]. Но его жена сказала, что кольцо принес к ним какой-то господин из санатория. Запомнила потому, что он велел вознице возвращаться туда.
– Как тот человек выглядел? – спросила Амалия.
Эдит беспомощно развела руками.
– А вот внешность его лавочница не помнила… Просто молодой мужчина – вот и все. Объяснил, что кольцо принадлежало его умершей сестре и оно ему не нужно. Взял столько, сколько ему предложили, и уехал.
– Но хоть что-то женщина смогла вам сказать? – настаивала Амалия. – Хотя бы цвет волос?
– Нет, госпожа баронесса, он был в шляпе. Да и потом, все было давно, кольцо лежало в лавке несколько месяцев, прежде чем я его купила.
Амалия вздохнула:
– И тогда вы решили отправиться в санаторий.
– Да. Это было нелегко. Однажды Севенн чуть меня не застал в тот момент, когда я смачивала платок кровью из бутылочки… И еще мне до сих пор трудно откликаться на имя Эдит.
– Неужели вам ничего не удалось узнать? – покачала головой Амалия. – Ваши жертвы были напрасны?
Эдит испуганно взглянула на нее.
– Узнать? О, если бы все было так просто… Сначала я думала на Уилмингтона. Его ведь зовут Матьё, и он несколько раз уезжал из санатория. Но сроки не сходились. И потом, он англичанин, как ему выдавать себя за француза… Я думала на Вермона, но…
– Шевалье появился тут совсем недавно, – напомнила Амалия.
– Пусть так, но мог же он бывать здесь раньше… Однако шевалье не тот… тот гадкий человек, потому что в то время находился в Африке. Я следила, задавала вопросы, подружилась со всеми занудными старухами в санатории… Я даже думала, что это мог быть кто-то из слуг… или, скажем, садовник… Хотя Аннабелл не могла так низко опуститься.
– Вы забыли про врачей, – заметила Амалия.
Но Эдит покачала головой:
– Вы опять о докторе Гийоме? Нет, не он, он слишком стар. И доктору Шатогерену уже тридцать шесть, тоже, знаете ли, не тот возраст. Филипп Севенн здесь всего четыре месяца, а до того год работал в парижской больнице, я видела его рекомендации. Тоже не он. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что пошла по неверному пути, где-то допустила ошибку. Потому что никто из тех, кого я знаю, не может быть тем хладнокровным… тем, кто убил мою подругу. И еще одна вещь. До того как я сюда приехала, в санатории умерли трое мужчин. И один из них был к тому же серьезно простужен, он пробыл в санатории всего несколько недель. Если это тот, кого я искала… и если он простыл под тем же дождем, который убил мою подругу… – Эдит заломила руки. – Но мадам Легран сказала мне, что ему было за тридцать, а выглядел больной на все пятьдесят. Значит, тоже не он…
Амалия смотрела на Эдит, напряженно размышляя о чем-то.
– Скажите, – внезапно спросила она, – а письма Аннабелл сейчас при вас?
– Да, я захватила их с собой. А что?
– Принесите их мне. Может быть, я смогу найти в них что-то, что поможет нам установить личность того… того господина.
Эдит покачала головой:
– Ценю ваше желание помочь, сударыня… Но я перечитала письма раз сто, не меньше. И поверьте, если бы там было что-то…
– Сто первый раз все равно не повредит, – твердо возразила Амалия. – Должна вам признаться: мне немного не по себе при мысли, что где-то поблизости может бродить этот «безутешный вдовец». Если нам удастся его найти, не исключено, что мы спасем еще чью-то жизнь. Потому что тот, кто совершает преступление безнаказанно, всегда испытывает соблазн его повторить.
Эдит кивнула. «Странно, – думала она, – а русская дама казалась мне всегда такой замкнутой, такой неприступной… Но тем не менее она приняла близко к сердцу дело, которое, если вдуматься, совершенно ее не касается». Ведь даже в полиции Эдит сказали, что рассчитывать ей не на что и, даже если ей посчастливится отыскать мужа ее подруги, она никогда не сможет доказать, что он действовал с умыслом. Никакой суд на свете не примет во внимание ее доводы.
– И я думала о том, – несмело проговорила англичанка. – Но больше всего я хотела найти его, посмотреть ему в лицо… Как он мог? Как мог так поступить? Даже если бы его жена была старая, злая и уродливая… Кто дал ему право распоряжаться ее жизнью?
Амалия протянула тонкие пальцы и осторожно коснулась руки Эдит.
– Уверяю вас, когда мы отыщем его и вы посмотрите ему в лицо, ничего особенного вы там не увидите, – сказала она. – Скорее всего, это самый обыкновенный человек. И вы бы никогда по его виду не подумали, что он способен на преступление. Значит, по поводу писем мы с вами договорились? Принесите их мне, и я посмотрю, не удастся ли с их помощью что-то сделать.
Эдит глубоко вздохнула.
– А вы… Сударыня, вы не выдадите меня доктору Гийоме? Мне ужасно стыдно, что я обманываю его и других врачей, они все замечательные люди, но… Но я не имею права уехать отсюда, пока не узнаю правду. Мои родственники постоянно шлют мне телеграммы и письма, уговаривают вернуться, но я… Я не могу.
– И вы готовы пойти до конца?
Англичанка кивнула.
– До самого конца? Учтите, расследование может оказаться не таким легким, как вы думаете.
– Я на все готова, чтобы найти его! – вскричала Эдит.
Амалия предостерегающе сжала ее руку.
– Вот и хорошо. Можно только один вопрос? Зачем вы занимались гаданиями, которые так всех смущали? Или вы думали, что они как-то помогут вам найти убийцу?
Эдит опустила глаза.
– За то время, что я тут, в санатории умерли несколько человек, – пробормотала она. – Я буквально сходила с ума, казалась себе глупой, никчемной, потому что не могла найти того… того человека. И я стала гадать на картах. Мы с Аннабелл часто так развлекались. У нее были две тетушки, которые наизусть знали, какая карта что значит и как раскладывать пасьянсы, чтобы любой сошелся…
– Но ваши гадания постоянно сбываются, – заметила Амалия. – Почему?
– А так оно всегда и бывает, – пожала плечами Эдит. – Если только не гадать точно, а делать общие предсказания: например, дорога, неприятности, деньги… Ведь человек постоянно в дороге, у него каждый день какие-то неприятности, и он все время имеет дело с деньгами. Ну а смерть… странно было бы ожидать чего-то другого в санатории для чахоточных.
– То есть вы плутовали? – с любопытством спросила Амалия.
Эдит покосилась на нее и обиженно покачала головой.
– Нет, уверяю вас. Я просто раскладывала карты и говорила, что они значат. Ничего интересного, в общем-то, потому что выпадало всегда одно и то же.
«Да, – подумала Амалия, поднимаясь с места, – жизнь – вечный круг более или менее повторяющихся обстоятельств. Нет, все-таки эта хрупкая девушка чертовски умна. Но не настолько, чтобы обмануть меня!» И баронесса очаровательно улыбнулась.
Она условилась с Эдит относительно писем и шагнула к выходу. Однако англичанка вопреки всем правилам хорошего тона оказалась у двери прежде ее.
– Миледи Корф, – проговорила она, явно волнуясь, – так странно… Я все рассказала вам… и мне даже стало легче на душе, честное слово… Скажите… вы старше меня и, наверное, лучше знаете жизнь… – Она покраснела, неожиданно сообразив, что напоминание о возрасте может быть для ее собеседницы неприятно. Но Амалия терпеливо ждала. – Вы думаете… вы считаете, мы и правда можем найти его? Потому что… я говорю, чтобы вы знали: я не успокоюсь, пока не найду его. Просто не смогу жить, зная, что все закончилось так.
Амалия посмотрела ей в лицо. Если до сего мгновения у нее были какие-то сомнения насчет Эдит, то сейчас они окончательно развеялись.
– Не волнуйтесь, мисс Лоуренс, мы его найдем. Вы только не забудьте про письма.
И, ободряюще улыбнувшись девушке, баронесса шагнула прочь из гостиной.
Глава 21
– Ну хорошо… – сказал Гийоме, убирая стетоскоп. – А теперь, сударь, послушайте меня внимательно. Я не касаюсь ваших отношений с госпожой баронессой, хотя до вчерашнего дня я считал ее самой уравновешенной пациенткой…
Поэт вспыхнул и хотел возразить, но Гийоме поднял руку и продолжил:
– Однако вам категорически нельзя делать жесты, подобные вчерашним. Под страхом смерти. И запомните, месье: когда я говорю «смерть», я имею в виду только смерть, и ничего более. Вчера вы переволновались, и вот результат. Еще несколько подобных случаев, и вы покинете санаторий через заднюю дверь. Знаете, что это такое?
– Нет, – признался Нередин.
– Это особая дверь, которую я распорядился сделать для выноса гробов, чтобы не травмировать других больных, – сурово ответил доктор. – Итак, я рассчитываю на вашу сознательность. Сегодня вам доставят двойной обед и гранатовый сок, потрудитесь, пожалуйста, съесть все. Лекарство вам принесет Рене. Вы отослали мадам Легран – вы уверены, что сиделка вам не нужна?
Поэт заверил его, что сегодня чувствует себя гораздо лучше, и вообще ему очень жаль, что он доставляет месье Гийоме лишние хлопоты. Но прямодушный, резкий доктор не принадлежал к числу тех людей, которых можно убаюкать словами.
– Смотрите, сударь, – сказал он на прощание, – я вас предупредил… Если вам все же понадобится мадам Легран, звоните два раза. Три раза – придет врач, один – слуги, как обычно. Всего доброго.
Оставшись один, Алексей стал от нечего делать листать том Верлена, который взял в библиотеке еще в первый день своего приезда сюда. Книга оказалась испещренной пометками предыдущего читателя, отмечавшего, с точки зрения Нередина, не самые удачные строки, и поэт отчего-то почувствовал себя оскорбленным. Он отложил том и стал глядеть в окно. Кто-то негромко постучал в дверь.
– Да-да, войдите! – нетерпеливо крикнул Нередин.
Он думал, что увидит Натали, которую попросил принести последние русские газеты, но в комнату вошла баронесса Корф, шурша шелковым платьем цвета слоновой кости. Ее глаза улыбались, и поэт поспешно приподнялся на подушках, пригладив волосы.
– Слава богу, сегодня вы лучше выглядите, – мягко улыбнулась Амалия. – Я бы себе никогда не простила, если бы с вами случилось что-нибудь серьезное.
И она глядела на него так ласково, что у Алексея защемило сердце. И еще он понял, что нисколько не жалеет о том, что спустил того типа с лестницы.
– Тайны множатся, – сказала Амалия, садясь на край его постели. – Я сейчас разговаривала с малышкой Эдит, и она поведала мне очень любопытную историю.
И она пересказала все, что узнала от англичанки. На языке особой службы, где Амалия когда-то работала, это называлось «страховочным вариантом». Все-таки, взвесив обстоятельства, баронесса не исключала совсем-совсем крошечной возможности того, что Эдит могла оказаться не той, за кого себя выдавала. А в таком случае, учитывая предшествующие события, Амалия имела основания опасаться самого худшего исхода. Вот и пусть поэт тоже узнает историю подруги мисс Лоуренс – еще неизвестно, как могут обернуться события.
– Поразительная история, – пробормотал поэт. Амалия видела, что он был потрясен. – Но если полиция считает, что доказать злой умысел невозможно… каким образом удастся притянуть мерзавца к ответу?
– Рано говорить о доказательствах, пока мы его не нашли, – сдержанно ответила Амалия. – И тем не менее полиция не права. Полагаю, тут имела место по меньшей мере подделка документов, а стало быть, большой вопрос: вступило ли завещание той несчастной в законную силу? Так что «безутешного вдовца» все-таки можно будет заставить отвечать за его поступки. Главное – найти сего господина.
– Если я могу чем-то вам помочь… – начал Алексей поспешно.
– По правде говоря, я поделилась с вами историей этой, чтобы уяснить ее самой себе, – призналась Амалия. – Считайте, Алексей Иванович, что вы мне уже помогли.
Однако Нередин стал настаивать. Он хотел во что бы то ни стало принять участие в расследовании, и наконец Амалия дала ему поручение наблюдать за остальными обитателями санатория и, если поэт заметит что-то подозрительное, сказать ей. Ее кольнула совесть, когда больной горячо заверил ее, что сделает все от него зависящее. По правде говоря, ему не следовало заниматься ничьими делами, кроме его собственных.
– Ваза треснула, – сказала Амалия, глядя на букет на столе. – Я принесу вам другую, Алексей Иванович.
Поэт покосился на трещину возле горлышка вазы и окончательно воспрянул духом. Определенно, все, что происходило вокруг, имело для него самые приятные последствия, даже косорукость Натали. Впрочем, он попробовал для приличия возразить, что госпожа баронесса не должна себя утруждать… но госпожа баронесса все же принесла вазу из своей комнаты, а старую отдала явившемуся на звонок Анри, чтобы он ее выбросил. Кроме того, Амалия поправила поэту подушки и подоткнула одеяло, что тому было ужасно приятно. Нередин поймал себя на мысли, что был бы не прочь поболеть подольше, лишь бы эта красивая женщина так же ненавязчиво ухаживала за ним. Она потрогала его лоб и улыбнулась своей лучезарной улыбкой, от которой внутри у Алексея делалось немного щекотно и тепло.
– Я вижу, вы все сочиняете, – сказала Амалия, кивая на листки, лежащие на столе. – Можно?
Нередин покраснел.
– Да, я со вчерашнего дня набросал несколько строчек… Ничего особенного, впрочем, – добавил он быстро. – Это про ангела-хранителя, не читайте, другое еще не закончено… А вот пустячок, но…
Поэт умолк. Сейчас он больше, чем когда-либо, завидовал самоуверенности иных стихотворцев, которые каждое свое новое произведение представляют как признанный шедевр. Сам Нередин всегда конфузился, когда ему приходилось говорить о своих стихах.
Амалия взяла листок, на который ей указал собеседник, и повернулась к окну, чтобы отчетливее рассмотреть набегающие друг на друга косые строки.
Чувства должны говорить о себе, Запахи – опьянять утонченным вкусом, Звуки – окрашивать мир теней, Краски – звучать неземным искусом. Мир, озвученный в семь цветов, Научится слышать чувства — Людям нужна земная любовь И неземное искусство.Амалия опустила листок и пристально посмотрела на порозовевшего Нередина, который ждал ее отзыва, не смея напрямую спросить о нем. Боже мой, мелькнуло у нее в голове, ведь вокруг умирают люди, по санаторию, возможно, бродит хладнокровный убийца, да и сама она впуталась в совершенно дикую историю с пропавшим письмом европейской важности… а в ничем не примечательной комнате с круглым столом и скучным кораблем на скучной картине, что висит над кроватью, человек с тревожными глазами пишет такие пронзительные стихи!
Или все-таки правильно и справедливо, как и должно быть, – каждому свое? Взять хотя бы ее, к примеру, – ведь она же не пишет стихов…
– Мне нравится, – промолвила она просто. – Очень.
И глаза у лежащего заблестели вдвое ярче.
– Я счастлив, что вам понравилось, – сказал он совершенно искренне. – Не похоже на то, что я сочинял раньше, но… В последнее время мне кажется, что поэзия – это то, что могли сказать миллионы, но осмелился сказать лишь один. – Алексей взял листок из ее пальцев. Добавил со злым смешком: – Хотя мерзавец Емельянов, конечно, прежде всего напустится на «земную любовь» и будет на протяжении четырех страниц вопить, что я циник, каких мало… а сам все порывался меня водить по веселым домам, едва я только в Петербург приехал. О, простите, ради бога…
«Ага, стало быть, относительно критика я была права», – мысленно отреагировала Амалия на первую часть фразы. Что же касается веселых домов… Она была достаточно воспитанна, чтобы пропускать мимо ушей то, что приличной даме слышать не следовало.
– Я бы хотел посвятить вам стихи! – внезапно выпалил поэт. И тут же рассердился на себя: переход от веселых домов к посвящению вышел слишком неожиданным.
– Что ж, замечательно, – улыбнулась Амалия. – Вечером Катрин и Мэтью решили отметить помолвку и приглашают всех, кто находится в санатории. Вы будете?
– Думаю, да, – кивнул поэт. – Вряд ли Гийоме станет возражать. И мне уже гораздо лучше.
Но тут их прервали – явился Анри и доложил, что к баронессе приехал посетитель.
«Еще один! – мрачно подумала Амалия. – Интересно, кто на сей раз?»
– Как его зовут? – спросила она вслух.
– О, прошу прощения, гость дал мне свою карточку, – отвечал слуга. – Его имя – граф Рудольф фон Лихтенштейн. Он говорит, что вы с ним родственники, хоть и дальние.
Поэт встревожился. Обладая тонкой душевной организацией, он легко подмечал (когда хотел) оттенки чужих ощущений, и ему показалось, что на лице Амалии, когда прозвучало имя гостя, мелькнула сложная гамма чувств – от удивления и радости до недоумения и легкой настороженности. Впрочем, тотчас же ее лицо замкнулось, словно сошлись воды озера, поглотившие брошенный камень. Миг – и камень уже лежит на дне, и ничто более не выдает его присутствия.
– Что-нибудь не так, Амалия Константиновна? – быстро спросил Нередин.
– Все хорошо, Алексей Иванович, – беспечно отвечала Амелия, поднимаясь с места. – И не забудьте: вы обещали мне стихи.
Но когда баронесса шла по лестнице вслед за Анри, она вовсе не была уверена, что все действительно будет хорошо.
Глава 22
– Кузина!
– Кузен!
– Как я рад вас видеть!
И широкоплечий, широколицый, на диво крепко скроенный кузен с типично тевтонской внешностью уже кланялся и целовал протянутую ему руку. Не успела Амалия опомниться, как он завладел уже другой рукой и тоже ее поцеловал. Таков уж был Рудольф: он никогда не удовлетворялся половиной, если мог безболезненно захватить все.
– Дайте-ка я на вас погляжу, кузина, – молвил гость, подводя Амалию к окну библиотеки. – Вы хорошеете не по дням, а по часам. Я слышал, вы опять свободны?
– Как птица, – ответила Амалия, улыбаясь.
– Гм, – обиженно поджал губы Рудольф. – И почему я на вас не женат? Странно, просто странно, потому что я всегда испытывал к вам симпатию. Сколько лет мы не виделись?
Амалия подумала.
– Почти семь, – наконец сказала она.
– А, так вы не забыли то дело о картине![17] – развеселился Рудольф. – Ну а я уже давно о нем не вспоминаю. Дела, семья…
– Вы все еще занимаетесь своими историческими изысканиями? – спросила Амалия.
– Да, – подтвердил Рудольф, – и на досуге пишу книжку о генеалогии нашего рода и его ответвлений – фон Мейссенов, фон Лихтенштейнов и прочих. Никто никогда ее не прочтет, но я хотя бы ее напишу всем назло. В конце концов, только так и становятся учеными.
– Я думала, кузен, – сказала Амалия после того, как ей удалось (не без труда) отнять одну руку (другую Рудольф никак не хотел отпускать), – что вы живете в кругу вашей многочисленной семьи в вашем прекрасном замке.
– Так оно и есть, – молвил Рудольф беззаботно. – И если вы читали мои письма, то должны знать, что у меня уже пять детей и я счастлив до того, что совестно признаться. Оказалось, что никто еще не придумал радостей лучше, чем самые простые из них – крепкая семья, верная жена и улыбки твоих детей.
– Ну да, – кивнула Амалия, – и однажды, когда вы ехали в экипаже из своего замка в ближайший городок, вы решили завернуть ко мне в гости. В Ниццу.
Рудольф немного смешался. Оно и понятно, учитывая то, что его замок (который он заново отстроил на средства богатой жены) находился далеко по ту сторону Рейна и до Ниццы оттуда было ехать и ехать. Гость тяжело вздохнул и вскинул руки, словно смиряясь с поражением.
– Значит, вы снова на службе? – спросила Амалия, не переставая пристально наблюдать за ним.
– Черта с два! – свирепо выпалил немец. – Но меня попросили об одолжении. А так как дело касалось вас, то я не смог отказаться. – Он подошел к Амалии почти вплотную и продолжил чуть тише: – Умоляю вас, кузина, если то чертово письмо у вас, отдайте его, и дело с концом! Вы и сами не понимаете, во что ввязались!
Амалия молча отвернулась к окну. Значит, предчувствие ее не обмануло. Кузен Рудольф (по правде говоря, родство их было слишком далеко, чтобы иметь какое-то значение) явился к ней не просто так.
– Знаете, кузен, – устало сказала баронесса, – мне это все надоело. Что за письмо, в конце концов?
– Но… – Рудольф застыл в изумлении. – Так вы что же, не читали его?
– Даже вообще не видела, – сердито проговорила Амалия. – Я держала заклеенный конверт в руках только раз, когда принесла в комнату того, кому письмо было адресовано. А после начались очень странные вещи.
– Поклянитесь! – потребовал Рудольф. И тут же спохватился: – Прошу меня извинить, кузина. Старые привычки, знаете ли, профессиональная недоверчивость и все такое. Просто скажите мне, что вы его не брали.
– Я его не брала.
– Честное слово?
– Честное слово. Более того, я понятия не имею, что в нем находится. Я пыталась узнать у того, на чье имя письмо пришло, но он, похоже, знает не больше моего. Если, конечно, говорит правду.
Рудольф тяжело вздохнул и сел. Только тут Амалия разглядела, что вид у него уставший – очевидно, из-за долгих часов, проведенных в дороге.
– Так что за письмо, кузен? – повторила вопрос Амалия. – Почему все хотят во что бы то ни стало завладеть им?
– Ну, надо полагать, оттого, что письмо не представляет никакой ценности, – фыркнул Рудольф. – Вот все, что я знаю: оно затрагивает интересы Богемии и в меньшей степени Германии и Австрии. Больше мне ничего не пожелали сообщить. Я только понял, что если письмо будет опубликовано, то разразится какой-то несусветный скандал и многие высокопоставленные люди будут скомпрометированы. Именно поэтому его и необходимо уничтожить.
– А-а… – протянула Амалия. – Так барон Юлиус Селени работает на Богемию? Потому что всех крупных австрийских агентов я знаю.
– Селени – сволочь, – коротко бросил Рудольф. – Барон из венгерского рода, чьи представители живут в Австрии и Богемии. Я бы не советовал вам с ним ссориться, потому что он не тот человек, которого желательно иметь своим врагом. Если вы имели несчастье с ним повздорить, Юлиус не успокоится, пока не сживет вас со свету. Что, вы уже?.. – спросил кузен, заметив выражение лица Амалии.
– Да уж, я не люблю терять времени даром, – призналась молодая женщина. – Барон начал мне угрожать, и один… один человек спустил его с лестницы. Что еще вам известно об этом деле?
– О, всякие пустяки, – небрежно отвечал Рудольф. – К примеру, вы сбросили с высоченной скалы старую даму – агента Селени. После чего разделались со свидетелем, у которого оказалось слишком острое зрение, размозжив ему голову не то подсвечником, не то полным собранием сочинений бессмертного господина Дюма. Но я вас защищал как мог. В конце концов, мое начальство знает вас плохо, а я – хорошо. Вы, кузина, существо утонченное. Вы не стали бы толкать старушку со скалы, это неэстетично и к тому же ужасно хлопотно. Вы бы тихо-мирно удавили ее во сне подушкой, и никто бы ничего не заподозрил. – Рудольф заметил, как сверкнули глаза Амалии, и поспешно добавил: – А вообще вы не обидите и мухи… если она первая на вас не нападет. Но потом от мухи останутся только воспоминания.
– Ах кузен, кузен… – покачала головой Амалия. – Вы шутите, а мне не по себе, честное слово. Потому что… потому что я, видите ли, окончательно отошла от дел. Но сейчас ваши коллеги думают на меня, что я всему виной.
– Вообще-то я тоже думал, что окончательно отошел от дел, – фыркнул Рудольф. – И тем не менее я здесь. Знаете, что? – Он подошел к двери, посмотрел, не стоит ли кто с другой стороны, и тщательно закрыл ее. – Изложите-ка мне еще разок все обстоятельства. Потому что если письмо не у вас, значит, оно у кого-то другого. И это мне уже совсем не нравится.
– Я расскажу вам все, – кивнула Амалия. – Но вы должны все же навести справки, что же такого важного содержится в письме. Иначе мы можем слишком поздно понять, кому именно было выгодно его исчезновение. Если оно оказалось в руках шантажиста, его можно выкупить. Если оно попало к враждебным службам, все будет гораздо сложнее.
– Те же соображения я изложил моему начальству, – объявил Рудольф. – На что мне было велено не интересоваться тем, что меня не касается. Таким образом, нам придется искать черную кошку в темной комнате. Ну ничего, справимся. В первый раз, что ли?
Амалия усмехнулась:
– Проблема в том, кузен, что в темной комнате может находиться вовсе не кошка, а крокодил. Так что надо быть поосторожней с блужданием в потемках.
– Кузина, вы, как всегда, сама мудрость, – сознался Рудольф. – И знаете, что? Я лично не исключаю того, что тайна, которая содержится в том письме, не стоит выеденного яйца. Слишком уж много секретности его окружает! Плохой признак, настоящие секреты всегда известны всем, кому надо. Вы понимаете, что я хочу сказать?
– Имеете в виду, мол, никакой черной кошки вообще нет? – чуть недоуменно вскинула брови Амалия.
– Именно, – подтвердил Рудольф. – Ну а теперь приступим к делу. Прежде всего просветите-ка меня насчет адресата. Что он за человек?
Амалия начала рассказывать о Шарле де Вермоне, но неожиданно дверь растворилась, и без стука вошла Натали. Машинально баронесса отметила, что лицо у художницы весьма мрачное, но в тот момент мадемуазель Емельянова не слишком интересовала Амалию.
– Прошу прощения, – вяло проговорила Натали, даже не обратив внимания на Рудольфа, который нахмурился при ее появлении. – Алексей Иванович просил принести газеты, а среди них почему-то не было «Нового времени», которое он так хотел прочесть. Вы не видели издание здесь?
Амалия ответила, что не знает, и Натали, перебрав стопку газет на столике, была вынуждена в конце концов признать, что «Новое время», по всей вероятности, не пришло вовремя. Волоча ноги, она вышла за дверь, которую тихо затворила за собой.
– Какая странная девушка, – недовольно буркнул Рудольф. – Кто она такая?
– Художница, – объяснила Амалия. – Учится живописи в Париже. Ее отец – известный в нашей стране критик.
– Хм… – Лицо Рудольфа расплылось в улыбке. – Как говорила одна очаровательная парижанка, которую я имел честь знать, «критик и золотарь – это не профессии». – И он победно улыбнулся Амалии.
– Бьюсь об заклад, кузен, – вздохнула та, – что парижанку вы придумали только сейчас, желая блеснуть остроумием. Полно, Рудольф. Поговорим лучше о наших делах.
– И это называется – навсегда покинуть службу? – молвил Рудольф в пространство. – Ах, кузина! Вы разбиваете мне сердце подозрением.
– Я сказала правду, кузен, – откликнулась Амалия с непривычной для нее кротостью. – Можете думать все, что вам угодно.
– И вы поможете мне найти письмо? – настойчиво спросил немец.
– Более того, – отозвалась Амалия, – я не буду вам мешать.
– Что ж, разумно, – согласился Рудольф.
И они принялись обсуждать события, которые предшествовали появлению графа фан Лихтенштейна в санатории. Следует отдать должное Амалии: она действительно ничего не пыталась скрыть. В той ситуации, в которой баронесса оказалась, ее могла спасти только полная откровенность – или безоговорочное запирательство. Она выбрала первое. Путь тем более безопасный, что, по сути, ей мало что было рассказывать.
…А Натали тем временем заглянула к поэту и сообщила ему, что нерасторопные французы не доставили или запамятовали привезти «Новое время». Но Нередин уже забыл обо всех газетах на свете и увлеченно сочинял. Глаза его горели, перо стремительно летало по бумаге, которую удобства ради он положил на том Верлена. Алексей поблагодарил художницу, почти не глядя на нее, и попросил оставить его одного, чтобы он мог поработать. Девушка замешкалась у двери, но поэт того и не заметил. Она бросила на него взор, полный той невыразимой тоски, которую можно встретить лишь во взгляде маленьких беззащитных животных, которых обижают, и вышла.
У себя в комнате Натали развернула… последний номер «Нового времени». Литературную часть занимал новый рассказ господина Чехова, а также там имелась статья Сергея Емельянова о поэте Нередине, перепечатанная из другого издания со значительными добавлениями. Из нее можно было, в частности, узнать, что как поэт господин Нередин давно кончился, если можно так выразиться о том, кто толком и не начинался. В небольшом примечании сообщалось, что, как стало известно редакции, певец околокаминных красавиц в настоящее время находится на Лазурном Берегу, где вовсю прожигает жизнь с какой-то французской любовницей. Прочитав статью, Натали скомкала газету, уронила голову на руки и зарыдала.
Теперь девушка знала, почему в разговоре с баронессой тот, кем она восхищалась больше всего на свете, назвал ее отца мерзавцем. В тот миг Натали случайно оказалась у двери в спальню и услышала слова, которые, конечно же, вовсе не предназначались для ее ушей. Если бы предубеждение Нередина против критика не основывалось ни на чем конкретном, у нее еще была бы надежда расположить к себе поэта; но после оскорбительной, жестокой статьи у нее не оставалось ни малейшего шанса.
Натали не покидало ощущение, что она потеряла двух самых близких ей людей на свете, а с ними и саму себя. Она не видела, ради чего ей стоит дальше жить. Да, Гийоме обещал ей долгое, но все же возможное выздоровление, но к чему все эти бесплодные мучения? Она никому не нужна, ее рисунки – посредственность, картины ее не переживут. У нее нет ни семьи, ни детей, ни одного человека, который был бы к ней по-настоящему привязан, никого. Даже кошка, которая приблудилась к санаторию, предпочитает общество блистательной баронессы Корф – даже жалкое, никчемное животное!
Вспомнив об этом, Натали зарыдала еще горше, словно вся ее жизнь зависела лишь от этой серой кошки с узкими зрачками и пушистым хвостом.
Глава 23
Доктор Гийоме покончил с левой запонкой и принялся за правую. Он не сразу справился с ней и сердито чертыхнулся.
– Вам помочь, Пьер? – спросил Шатогерен, который сидел возле стола, читая какое-то письмо.
– Нет, благодарю, – сердито буркнул Гийоме. Сердитый тон относился вовсе не к помощнику, в чьих достоинствах доктор уже успел не раз убедиться, а к поводу для сегодняшнего торжественного вечера, который он находил смехотворным. – Как здоровье вашей уважаемой матушки, Рене?
Шатогерен пожал плечами.
– Кажется, она отыскала мне очередную невесту, – уронил он, складывая письмо. – Мадемуазель де Сент-Илер. Происходит из хорошего рода, недурна собой и после смерти тетки, которой сейчас восемьдесят три, должна унаследовать пять тысяч франков ренты в год. – Доктор улыбнулся, но глаза его оставались серьезными.
– На вашем месте, Рене, – рассеянно заметил Гийоме, – я бы не слишком доверял престарелым теткам, которые вот-вот готовы отдать богу душу. Помню я одно железнодорожное крушение… ах, черт… возле Валансьена… то есть не крушение, а так, неприятное происшествие с несколькими сломанными руками и ногами, – там состав сошел с рельсов. Так вот, первой из вагона выбралась, отталкивая всех, очаровательная дама… чертова запонка… шестидесяти восьми лет от роду. – Гийоме поглядел на себя в зеркало затем сердито пробурчал: – И все-таки это несусветная глупость. Глупость, и только!
– Вы говорите о свадьбе Уилмингтона? – Шатогерен пожал плечами. – Но сегодня будет только помолвка, а пока утрясутся все необходимые формальности, пройдет время. Может быть, он успеет и передумать.
– Вряд ли, – хмуро возразил Гийоме, поправляя воротник фрака. – Женщины, мой дорогой Рене, женщины! Смута – их стихия, они обожают вносить смуту во все, к чему прикасаются. Даже самые разумные среди них…
– Такие, как баронесса Корф? – улыбнулся помощник. – Полно, Пьер. Она красивая женщина, неглупая, образованная, и вполне естественно, что мужчины к ней тянутся. Все-таки санаторий для чахоточных – не самое веселое место, согласитесь.
– Если мадам будет и дальше дурно влиять на моих больных, я вынужден буду предложить ей переехать, – отрезал Гийоме. – Да, кстати, баронесса Корф попросила разрешения для своего кузена присутствовать на помолвке. Я согласился, рассудив, что один здоровый кузен все же лучше, чем двое больных поклонников, у которых полтора нормальных легких на двоих.
Шатогерен нахмурился:
– Значит, Шарль де Вермон…
Гийоме покачал головой:
– Никакой надежды.
– А другой, русский поэт? – спросил помощник. – Что с ним?
– К концу сентября все будет ясно, – отозвался Гийоме. – Шансы есть, хотя и слабые. Уилмингтон не протянет и полугода после своей женитьбы, но я его предупредил и умываю руки. За здоровье остальных я ручаюсь. – Главный врач подошел к двери кабинета и остановился. – Знаете, Рене, что в людях самое невыносимое?
– Что?
– Непроходимая глупость и непрошибаемая уверенность, что первая сойдет им с рук, – с ожесточением бросил доктор. – Но мне-то какое дело? Все, что мог, я сделал. Идемте, поднимем тосты за счастливую невесту, а потом я засяду в лаборатории. Кажется, мне удалось найти, как повысить свертываемость крови, но не уверен, что мое открытие будет иметь значение для лечения чахотки. А впрочем, чем черт не шутит…
Беседуя, они дошли до столовой, где уже находились доктор Севенн, мадам Легран, обитатели санатория и Рудольф фон Лихтенштейн, через Амалию напросившийся на помолвку, чтобы понаблюдать за присутствующими. Пока, впрочем, он не заметил ни одного знакомого лица, ни одного, кого можно было бы назвать агентом более или менее враждебной державы. И это, если говорить откровенно, нравилось ему меньше всего. Граф терпеть не мог пребывать в неизвестности.
– Мы не опоздали? – спросил Гийоме.
Он отыскал глазами счастливую, светящуюся Катрин в желтом платье и издали поклонился ей. В волосах у девушки была белая роза.
«Война Алой и Белой розы», – мысленно скаламбурил Шарль де Вермон. Он помнил, что баронесса Корф предпочитала красные. Сегодня, впрочем, Амалия была без цветов.
– Кажется, я должен представить вам нашего гостя, – сказал Филипп, поднимаясь с места. – Граф Рудольф фон Лихтенштейн – доктор Гийоме. И доктор Рене Шатогерен, наш уважаемый коллега.
– Черт возьми! – вырвалось у Рудольфа. Он так и впился взглядом в лицо Шатогерена, который, впрочем, ничуть не выглядел смущенным. – Вы ли это, виконт?
– Рад снова встретить вас, герр фон Лихтенштейн, – ответствовал Рене, пожимая руку Рудольфу. – Как ваше плечо?
– Замечательно. Вы проделали отличную работу. Мы с господином виконтом встречались раньше, – пояснил гость присутствующим, – в Париже… то есть неподалеку от него, много лет назад. Господин виконт превосходно заштопал мое плечо – после того, как сам же и прострелил его.
Амалия нахмурилась. Она едва ли не быстрее прочих сообразила, что речь идет о прусско-французской войне 1870—1871 годов, которую французы проиграли, причем проиграли обидно, унизительно, с потерей пограничных территорий – Эльзаса и Лотарингии. Стало быть, Рудольф воевал на одной стороне, а замкнутый человек с серыми спокойными глазами – на другой. Сколько же ему было лет тогда? Восемнадцать? Девятнадцать?
Шарль де Вермон покосился на Рудольфа и дернул щекой. Взгляд шевалье можно было назвать каким угодно, только не дружелюбным. Присутствующие, большинство которых составляли французы, тоже ощутили некоторую напряженность, которая воцарилась в комнате. Даже Нередин и тот отвел глаза и стал смотреть на бронзовую женщину в основании большого старинного подсвечника.
– Так вы виконт, доктор… – протянула Эдит капризно. Она вновь вжилась в роль взбалмошной юной леди, от которой можно ждать каких угодно выходок. – А вы никогда нам не говорили о своем титуле!
– Ваша скромность делает вам честь, доктор, – заметила мадам Легран своим прекрасным выразительным голосом и улыбнулась.
И отчего-то после ее слов все почувствовали себя значительно легче.
– Рудольф, в чем дело? – спросила Амалия у своего кузена, улучив момент. – Вы и впрямь знаете месье Шатогерена по той войне? Или…
– Никаких «или», кузина, – ответил Рудольф, безмятежно улыбаясь. – Не зря у меня сегодня с утра плечо так и ныло. По правде говоря, он зашил меня с поразительным равнодушием, словно я был порванным мешком. На редкость хладнокровный был молодой человек. Двум офицерам из моего полка повезло меньше – он их просто убил. Отменно стрелял, надо отдать ему должное! Потом я сбежал из плена, но любезности не забыл. Если он остался таким, каким я его запомнил, то наверняка стал отличным врачом.
– А вы, оказывается, герой, месье, – заявил Шарль де Вермон Шатогерену. – Почему вы не упоминали, что сражались в той войне?
Шатогерен пожал плечами:
– Я пошел добровольцем, как поступил бы всякий честный человек на моем месте. Не вижу смысла делать из этого подвиг. – Он повернулся к Катрин и поклонился ей. – Поздравляю вас, мадемуазель. И вас, месье, – добавил доктор, обращаясь к Уилмингтону.
Тот порозовел от удовольствия.
Амалия оглянулась на Натали, которая с момента своего появления в столовой держалась словно бы в стороне от остальных. От баронессы не укрылось, что у молодой художницы был потухший, на редкость подавленный вид. Она не принимала участия в общем разговоре и, казалось, мыслями витала где-то бесконечно далеко.
«Что с ней такое?» – подумала Амалия. Но ее отвлек поэт.
– Амалия Константиновна, вы помните наш… наш разговор о посвящении?
– Разумеется, – улыбнулась баронесса, у которой в тот момент мелькнула забавная мысль: лучше бы им разговаривать по-французски, чтобы Рудольф понимал смысл разговора и его не терзало подозрение, будто при нем обсуждают нечто, что ему знать не положено. Однако разговаривать с соотечественником на чужом языке – какая нелепость!
– У меня будет новый сборник, – сообщил поэт. – Наверное, я назову его «Санаторий», в него войдут стихи, которые я пишу здесь, во время болезни… Если не возражаете, я хотел бы… хотел бы посвятить его вам.
– Хорошо, – кивнула Амалия, – только не стоит упоминать мое имя, Алексей Иванович. Просто инициалы. А я буду знать, что они значат, и гордиться этим.
Конечно, Нередин хотел бы поставить именно ее полное имя, но улыбка баронессы его утешила. Натали метнула на поэта мрачный взгляд и отвернулась.
– Секретничаете? – осведомился Рудольф. И, по правде говоря, осведомился довольно-таки сухо.
– Руди! – сердито шепнула Амалия. – Он хочет посвятить мне сборник стихов.
– Только-то? – усмехнулся кузен. – Мог бы не жадничать, полного собрания сочинений как раз было бы достаточно.
Амалия не удержалась и улыбнулась. Но тут Гийоме на правах хозяина пригласил всех к столу, и присутствующие оживились. Свет дробился в хрустале бокалов, сервировка поражала изысканностью. Судя по всему, Мэтью Уилмингтон не пожалел денег, чтобы устроить роскошный пир.
Шарль де Вермон предпринял сложный стратегический маневр, чтобы занять место рядом с Амалией. Он оттеснил Шатогерена, ловко опередил поэта и устроился-таки по левую руку от очаровательной баронессы. Теперь, когда шевалье узнал, что Рудольф воевал против его страны, отставной офицер решил во что бы то ни стало посадить его в лужу и для начала занял Амалию разговором о том, что невеста хороша, но есть за столом кое-кто, кто значительно прелестнее ее. А Рудольф, который видел француза насквозь, только посмеивался про себя.
«Поразительный вечер… Я сижу за одним столом с приговоренными к смерти, – подумал он, оглядывая сотрапезников, их яркие щеки, лихорадочно блестящие глаза, и его охватила жалость. Граф и сам когда-то изучал медицину и не успел ее забыть. – Интересно, правду мне сказала кузина или нет о том, что она не имеет отношения к этому делу? Потому что, по правде говоря, маска смертника – отличное прикрытие для любого рода дел».
Но вот Гийоме предложил тост за Уилмингтона и его невесту – слишком краткий, чтобы его можно было считать полноценным тостом. За ним попросил слова доктор Севенн и произнес небольшую прочувствованную речь о любви, которая вся – правда, но вся – иллюзия, о которой можно говорить бесконечно и все равно ничего не сказать и которая одна только способна победить смерть.
«Он правильно говорит, – смутно помыслил поэт. – Только это, и ничего больше… Еще утром я умирал, но одно ее прикосновение вернуло мне жизнь. Какая она все-таки удивительная! А ее кузен – просто дуб, а не кузен… Чистое дерево».
«Деревянный» кузен вежливо улыбнулся и захлопал, когда Филипп наконец закончил речь. Мэтью Уилмингтон почувствовал, как у него горят щеки. Катрин сжала его руку и ободряюще улыбнулась ему.
«Да, я счастлив… – подумал жених. – Вот оно, счастье. Все очень просто… Не деньги, не семейное дело, все это вздор, в конце концов… И я сделаю так, что у нее будет все. Пусть поменьше достается прочим наследникам, которые только и ждут, когда я умру… Или нет, им я не оставлю ничего. Вообще ничего. Все ей, все только для нее!»
Уилмингтон почувствовал, как от вина у него начинает шуметь в ушах, и дрожащей рукой вытер пот с лица; но тот все равно катился по вискам, умудряясь затекать даже в глаза. Черт, а ведь Гийоме предупреждал его, что при его комплекции нежелательно много пить… А, к черту Гийоме! Хоть один час в жизни он проживет как все люди! Он увидел белую розу в волосах Катрин и попытался сфокусировать на ней взгляд. Роза качнулась.
– И самые искренние пожелания счастья, – произнес чей-то голос в вышине.
«Только не сейчас, господи, только не сейчас!» – мысленно взмолился Уилмингтон. Мадам Легран, сидевшая напротив, нахмурилась и пристально поглядела на него. Ей не нравился цвет лица жениха.
«Ах, прав был месье Гийоме – не стоило все это затевать… – мелькнуло у нее в голове. – Что, если за столом с кем-нибудь случится несчастье?»
Катрин улыбнулась и пригубила бокал. В следующее мгновение она закашлялась.
– Что с вами, мадемуазель? – спросила мадам Легран.
Катрин приподнялась с места. Бокал выпал из ее руки и звякнул о стол. Остатки красного вина выплеснулись на белоснежную скатерть…
Все длилось одно или два мгновения, но еще долго присутствующие будут вспоминать ее страшные, остановившиеся глаза, то, как девушка стояла, прижимая руки к груди, словно ей было нечем дышать.
А потом она захрипела и повалилась вперед, головой на стол, царапая ногтями скатерть.
Изо рта Катрин хлынула волна крови.
И тогда женщины закричали.
Глава 24
То, что произошло следом, поэт еще долго вспоминал как какое-то тягостное, навязчивое видение, шагнувшее в жизнь прямиком из горячечного бреда. Одной из присутствующих дам сделалось дурно, и сосед тщетно пытался привести ее в чувство, другая визжала, вытаращив глаза и вцепившись в мадам Легран, которая хотела обогнуть стол, чтобы подойти к забрызганной кровью невесте. Эдит в ужасе поднесла руки ко рту и вжалась в спинку кресла, Филипп Севенн застыл на месте, криво держа бокал, вино из которого текло ему прямо на фрак. Амалия побелела как полотно, да и ее деревянный кузен в то мгновение смотрелся немногим лучше.
– Боже! – закричал Уилмингтон. – Ей дурно! Сделайте же что-нибудь!
Но поэт со своего места отчетливо видел, что Катрин уже не дурно – ее взгляд застыл и веки неподвижны. «Неужели просто – вот так – конец, конец?» – обреченно подумал он. Но тут подоспел доктор Гийоме, всесильный доктор Гийоме, и Мэтью вцепился в него, как та истеричная дама – в мадам Легран.
– Сэр! Умоляю вас!.. Заклинаю!..
Больше он не смог произнести ни слова. Гийоме решительно отодвинул жениха в сторону и занялся Катрин. Тотчас же возле него оказался Филипп Севенн. Гийоме потрогал пульс, поглядел на помощника и покачал головой. И Уилмингтон, поняв, что именно значит его жест, рухнул в кресло как подкошенный.
– Нет… – стонал он, – нет, нет… Боже мой…
Молодой человек разрыдался.
Возле мертвой девушки столпились уже четверо человек, включая Шатогерена и мадам Легран. В дверях стояли бледные, хмурые слуги. Гийоме поглядел на них и обернулся к сиделке.
– Уведите их, – одними губами попросил он.
И мадам Легран поняла. Мадам Легран молчаливо согласилась: да, так будет умнее всего. Она подошла к подавленным, испуганным гостям и вполголоса стала уговаривать их покинуть помещение. Впрочем, никто особо и не желал здесь задерживаваться, кроме одного-единственного человека. Мэтью Уилмингтон упал на колени перед телом умершей, схватил ее руки, которые уже начали холодеть, и стал с видом крайнего отчаяния целовать их. Рудольф фон Лихтенштейн, который в своей жизни успел насмотреться всякого, не выдержал и все-таки отвел глаза. Он предложил руку Амалии, молодая женщина машинально оперлась на нее, и они вышли из столовой.
– Идемте в сад, – сказала баронесса, уже находясь в коридоре. – Честное слово, я не смогу сейчас оставаться в доме.
Ее маленькая свита (а за баронессой как-то незаметно увязались Эдит, поэт Нередин и Шарль де Вермон) последовала за ней. Снаружи вовсю стрекотали кузнечики, а где-то на дереве пробовал голос соловей. Амалия села в плетеное кресло под платаном, и Рудольф тотчас же встал с ней рядом. Граф чувствовал, что в это мгновение она нуждается в защите, понимая, что она вот-вот может разразиться слезами. Ему хотелось сказать ей что-нибудь ободряющее, но все слова в сложившейся ситуации прозвучали бы пошло и нелепо. Шарль прислонился к дереву, Эдит и поэт заняли скамью.
Издалека доносился глухой рокот прибоя. «И ведь ничего не изменилось, – сказал себе поэт, – разве что ее больше нет. Небытие… что оно такое? Только что девушка сидела за столом, улыбающаяся, оживленная, с белой розой в темных волосах; и в один миг все переменилось. Катрин говорила, что пошла на поправку; наверное, она строила планы на будущее, хотела выйти замуж и, уж во всяком случае, не собиралась умирать…» Но все размышления были как-то бледны, выглядели общим местом и ровным счетом ничего не говорили ни его уму, ни его сердцу. «Вряд ли я смогу написать в ближайшие дни хоть одно стихотворение… Что-то неладное творится в санатории, неладное… и мои нервы совершенно расшатаны. Когда подумаешь, что каждый из нас может неожиданно умереть…» Алексей посмотрел на Шарля и увидел на его лице отражение своего страха. Офицер заметил его взгляд и надменно выпрямился.
– Как ужасно… – наконец порушила тишину англичанка. – А ведь она была так счастлива… и вот…
Шарль де Вермон дернул ртом.
– А я считаю, ей повезло, – с вызовом бросил офицер. – Уйти сразу, почти без мучений, в миг твоего торжества… В такой смерти определенно что-то есть. По крайней мере, она не страдала.
– Мне так не кажется, – холодно уронил Рудольф. – Девушка захлебнулась кровью.
– Рудольф! – сердито проговорила Амалия. – Не надо.
И все поглядели на него так, как будто именно он убил Катрин, а вовсе не болезнь.
А в доме меж тем хлопали двери, сновали слуги, и Анри уже отправился к гробовщику с запиской от доктора Гийоме. И мрачный, изо всех сил старавшийся казаться спокойным Шатогерен уже получил указания на завтрашний день – кого встречать и провожать через заднюю дверь. Монашки, которые обмоют тело, потом подручные гробовщика, потом…
– У нее были родственники? – спросил Гийоме у Севенна.
Тот не сразу понял, о чем его спрашивают, но на повторный вопрос отрицательно покачал головой.
– Кстати, мне придется с вами серьезно поговорить, – раздраженно добавил доктор. – Это была ваша больная, вы вели ее с самого начала. И совсем недавно уверяли, что она пошла на поправку и что ее легкие почти чистые. Как же тогда прикажете понимать ее скоропостижную смерть?
– Но, месье… – в ужасе пролепетал Севенн. – Клянусь вам! У меня сохранились записи, данные о ее болезни… Я давал ей все лекарства!
– На кой черт, – нетерпеливо перебил его Гийоме, – мне нужны ваши записи, когда девушка умерла? Умерла, понимаете, месье, окончательно и бесповоротно! У нее была чахотка в последней стадии. В последней, черт вас дери! А вы мне морочили голову своими дурацкими диагнозами…
– Пьер, не надо, – вмешался Шатогерен. – Мы все расстроены случившимся, я понимаю… Не стоит нападать друг на друга.
Но доктора Гийоме было уже не остановить:
– Вот как? Ты считаешь, Рене, это нормально, когда врач скрывает от меня сведения о состоянии пациентки? Что теперь обо мне будут говорить другие доктора, что будут думать больные, на чьих глазах она умерла?
– Вы забываете о человеческой природе, Пьер, – возразил Шатогерен. – Во-первых, все наши пациенты прекрасно знают, что у них за болезнь. И, во-вторых, сегодняшняя смерть далеко не первая, которая случилась здесь.
– Большое спасибо, Рене, – бросил доктор, – вы меня утешили! А вы… – повернулся он к Севенну, – учтите, я очень ценю мнение вашего парижского профессора, но с этого дня вы у меня на заметке. Я буду присматривать за всеми вашими больными, и если еще хоть один погибнет из-за вашей халатности…
– Неправда! – крикнул Севенн. – Катрин вовсе не была больна! Это неправда!
– Ну да, разумеется, а попала девушка к нам из-за пустячной простуды, – саркастически парировал Гийоме. – Я же прекрасно помню результаты обследования, Филипп. Вы слишком молоды, вот в чем беда. Вы недооценили коварство болезни, а она развилась гораздо быстрее, чем вы думали. Но, конечно, и я тоже хорош… – Главный врач умолк и посмотрел на Уилмингтона, который никак не хотел отпустить руку умершей. Его одутловатое некрасивое лицо было залито слезами.
Мадам Легран стояла рядом с ним и мягко пыталась убедить его разжать пальцы.
– Уилмингтону дадите успокоительное, – распорядился Гийоме, обернувшись к Шатогерену. – Женщинам тоже, остальные – на ваше усмотрение. Что же до вас, Филипп… – он поморщился, – завтра же передайте мне карты ваших больных. Три смерти подряд – это, знаете ли, слишком. Да!
Шатогерен хотел было напомнить патрону, что две смерти приключились вовсе не из-за болезни и явно не по их вине, но замечание было бы не слишком уместным в данной ситуации, и он предпочел заговорить о другом:
– Пьер, я назначил завтра в десять утра прием графине Эстергази. Если вам нужна моя помощь, я могу перенести встречу с ней.
– Неужели вы убедили ее покинуть виллу? – хмуро спросил Гийоме. – По-моему, принимать графиню здесь неразумно, учитывая… учитывая обстоятельства.
– Нет, – покачал головой Шатогерен, – тут все по-прежнему, я должен ее навещать. Я прописал ей успокоительное и снотворное, и, по-моему, они подействовали. По крайней мере, пациентка сказала, что впервые за последние недели смогла спокойно спать всю ночь. Ей снятся какие-то кошмары, но какие именно, она не говорит.
Гийоме пожал плечами.
– Чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что заболевание графини – совершенно не наш случай, – устало обронил доктор. – Делайте что хотите, Рене, но будьте осторожны. Некоторые безумцы чертовски непредсказуемы.
И он направился к мадам Легран, которая как раз в то мгновение закрывала глаза Катрин Левассер.
Глава 25
«Дорогая Маша, я приехал в санаторий и нахожусь тут уже несколько дней. Твое письмо я получил. Прости меня, что сразу не ответил, – тут на меня навалилось столько разного. Я рад, что с тобой и твоими детьми все хорошо. Из моих окон открывается великолепный вид. Доктор Гийоме – очень хороший человек, он меня обнадежил…»
Алексей вздохнул и перечитал начало письма. Давно надо было ответить сестре на ее подробное, милое послание, но он все откладывал. Поэт не дружил с прозой и ненавидел писать письма. Его эпистолы выходили сухими, казенными, как перечень полковых лошадей или пушек. Но нынче ночью ему не спалось, и в пятом часу он поднялся. Стихи – Нередин чувствовал – были так же далеки от него, как Южный полюс. После нескольких попыток занять себя книгой или газетами он решил, что скорее с толком потратит время, написав Маше ответ. В самом деле, сестра там, наверное, уже вся извелась, не имея вестей.
Но что же именно ей написать, какими словами заполнить белое прямоугольное поле? И Алексей поглядел на листок бумаги сокрушенно, как на врага, который давно должен бы сдаться, да все никак не желает капитулировать.
Вот шевалье, уж тот-то вряд ли страдает, что ему нечего писать… И письма его наверняка пустейшие, однако поэт мог побиться об заклад, что адресаты от них в восторге. Тут шуточка, там меткое словцо, какая-нибудь цитата, едкий портрет – и все счастливы, все довольны. А он, Нередин, битый час сидит над одним-единственным письмом самому, если вдуматься, близкому человеку на свете и не может придумать ничего путного.
Не писать же, на самом деле, о мадам Карнавале, которая как минимум дважды умирала, или об итальянце, как его звали – Ипполито… да-да, Ипполито Маркези, который пробыл в санатории всего один день; или о вчерашнем ужине, который закончился столь трагически. Не надо волновать Машу попусту, пусть думает, что у него все хорошо. Но о чем же тогда писать?
Можно написать о баронессе Корф, к примеру. А что? Женщины любят читать про других женщин… «В санатории я познакомился с разными приятными людьми. И, между прочим, с баронессой А. К. Корф».
И Алексей тотчас же спохватился, что слова о приятных людях звучат фамильярно, если не двусмысленно.
Но не писать же теперь, что она неприятный человек?..
Нередин испытал сильнейшее желание схватить лист бумаги и порвать его в мелкие клочья. Но как раз в это мгновение кто-то еле слышно поскребся в дверь.
«Кошка? – подумал он. Звук был едва различим и уж никак не мог исходить от человеческого существа. – Наверное, в суматохе ее забыли вчера покормить», – решил поэт и, поднявшись из-за стола, шагнул к двери.
За створкой, однако, обнаружилась Натали Емельянова. Она держалась за стену, и взгляд у нее был такой, что Нередин, в общем-то человек неробкий, внутренне содрогнулся.
– Наталья Сергеевна… – пролепетал он, испытывая мучительную неловкость, поскольку заметил, что его гостья в ночной сорочке.
– Умоляю вас… – прошептала художница. – Я не смогла… пожалуйста…
И повалилась на пол прежде, чем Алексей успел подхватить ее.
Он заметался, едва не оборвал звонок, поднял прислугу, мадам Легран, всех докторов. Гийоме распорядился, чтобы потерявшую сознание художницу перенесли к ней в комнату, пощупал пульс, посмотрел зрачки и с помрачневшим лицом обернулся к помощникам.
– Что с ней? – спросил поэт, у которого от последних событий голова шла кругом. – Девушка умирает?
Но доктор оставил его вопрос без ответа.
– Рене! Посмотрите, она нигде не прятала какую-нибудь отраву? Филипп! Нам придется промывать ей желудок, срочно… Черт знает что!
– Что с ней? – настаивал Нередин. – Что происходит?
– Наглоталась какой-то дряни, вот что, – свирепо ответил Гийоме. – И мне кажется, я даже знаю какой.
Шатогерен, который один за другим выдвигал ящики стола, распрямился и обернулся к Гийоме. В руке помощник держал небольшую баночку с каким-то лекарством.
– Минуточку, – вмешался возмущенный Севенн, – она же моя! Совсем недавно я пересчитывал склянки и недосчитался двух! И надпись на этикетке сделана моей рукой!
– Позвольте, так это что, самоубийство? – опешил поэт. – Натали пыталась покончить с собой?
Но Гийоме лишь махнул рукой и попросил всех посторонних освободить помещение.
Выходя, Нередин бросил взгляд на белое лицо молодой женщины, лежавшей с закрытыми глазами, и его кольнула острая жалость. Возле двери он сразу же натолкнулся на баронессу Корф и был вынужден ответить на ее вопросы.
– Я начинаю приходить к мысли, – внезапно промолвил поэт, – что дом, в котором мы живем, – место проклятое. Сначала мадам Карнавале, затем итальянец, потом Катрин, а теперь…
Но Амалия, судя по всему, не слишком верила в проклятья и потому отмахнулась от его слов:
– Мне кажется, что-то ее не на шутку расстроило. – Уже вчера девушка выглядела как-то странно… очень странно.
Нередин пристально посмотрел на нее.
– Амалия Константиновна, если вы хотите сказать, что Натали могла… из-за меня… что я каким-то образом подтолкнул ее… – Он беспомощно пожал плечами. – Мне кажется, я не заслуживаю такого отношения с вашей стороны. Видит бог, я ничем ее не обидел.
И сразу же пожалел, что произнес последние слова.
– Мы все узнаем, когда Гийоме с ней закончит, – отозвалась Амалия. – Думаю, Натали выкарабкается. Если бы ей угрожала опасность, доктор вел бы себя совершенно иначе. А он был почти вежлив.
И Алексея что-то словно царапнуло, или кольнуло, или задело прямо в сердце, вместилище нежных и прочих чувств; и сердце сказало ему, что баронесса Корф не так проста, как кажется… что она видит слишком много, непозволительно много для обыкновенной светской женщины, что она слишком много знает, и, быть может, то, что она знает, не всегда приятно. И Нередину его открытие не понравилось. Поэт бы предпочел, чтобы баронесса была попроще, не так умна и проницательна. Но не ум и не проницательность раздражали его, а то, что они скрывали. Баронесса Корф что-то скрывает, во внезапном озарении сообразил Алексей, как скрывала тишайшая, очаровательная старушка мадам Карнавале; и лицо ее – лишь маска, за которым может таиться все, что угодно. А он не любил маски. Его неожиданно затопило недоверие к красивой молодой женщине, и от недоверия был лишь один шаг до жгучей, совершенно ничем не оправданной неприязни.
Мимо них прошла Эдит, метнула на баронессу быстрый взгляд.
– Прошу прощения, Алексей Иванович, я на минуту… – поспешно сказала Амалия, вспомнив кое-что.
Она подошла к англичанке.
– Просто невероятно, что творится, – беспомощно промолвила Эдит. – Слуги говорят, что Натали пыталась покончить с собой. Но почему?
Амалия пожала плечами:
– Мне кажется, ее испугала смерть мадемуазель Левассер, и девушка просто решила… решила не ждать чего-то подобного и, так сказать, ускорить события. Да, мисс Лоуренс, вы обещали мне некие письма…
Эдит поколебалась, но все же сделала собеседнице знак следовать за собой. Вскоре Амалия держала в руках довольно увесистую пачку писем, каждое из которых лежало в отдельном конверте.
– Это все? – спросила Амалия.
– Да, – ответила Эдит. – Но уверяю вас, там ничего нет про него… ничего такого, что позволило бы установить его личность.
– Я возьму письма и, может быть, все-таки что-то в них отыщу. Если так, вы узнаете обо всем первой. Вы ведь не собираетесь пока покидать санаторий?
Эдит покачала головой.
– Должна признаться, вы меня удивляете, – внезапно улыбнулась ей Амалия. – Вы очень храбрый человек.
– Нет, – горячо возразила Эдит, – я трусиха. Трусиха и предательница. Вы не понимаете, что такое – ощущать себя как я. Мы дружили с самого детства, мы были как сестры, но в тот один-единственный раз, когда я была по-настоящему ей нужна, я оказалась далеко. Бросила подругу на произвол судьбы. Ужасно знать, что ты могла все изменить, но не сумела… не сумела. И теперь, даже если я найду того негодяя, Аннабелл ведь все равно не воскресить.
– Вы делаете все, что можете, – возразила Амалия.
– Но этого тем не менее мало, – горько отозвалась девушка. – Слишком мало.
И хотя баронесса вовсе не была склонна так считать, Амалия не стала возражать и приводить избитые доводы в защиту своего мнения. Однако Амалия знала то, о чем Эдит, может быть, только догадывалась, что время лечит и что самые ужасные ошибки на расстоянии лет кажутся всего лишь незначительными, блеклыми тенями, историями, произошедшими с кем-то другим, кто, по странному совпадению судеб, был тогда тобой…
Амалия хотела сразу же вернуться к себе, но возле лестницы ее встретила мадам Легран и сообщила, что доктор Гийоме хотел бы с ней поговорить.
– А что с мадемуазель Натали? – спросила Амалия. – Она останется в живых?
– К счастью, месье Гийоме вызвали вовремя, – кивнула мадам Легран. – Да, девушка будет жить. Но… Вы же знаете взгляды доктора, госпожа баронесса. Когда он пытается спасти чахоточного больного, а тот поступает, как мадемуазель Натали… – Женщина смущенно пожала плечами.
Они вошли в кабинет, где доктор Гийоме со злым, перекошенным лицом быстро писал что-то на листке. Возле стола в почтительной позе стоял Анри.
– Отнесите аптекарю, – распорядился Гийоме, отдавая ему листок, – как только аптека откроется. Мадам Легран, будьте добры, присмотрите за мадемуазель Натали. С ней сейчас доктор Шатогерен и месье Нередин, но я почувствую себя спокойным, только если вы тоже там будете.
Мадам Легран улыбнулась, просияла и вышла за дверь следом за Анри, который унес рецепт.
– Прошу вас, присядьте, госпожа баронесса… – Гийоме откинулся на спинку кресла и устало провел рукой по глазам. – Если вы не возражаете, – наконец промолвил он, – я хотел бы спросить вашего мнения, так как вы соотечественница мадемуазель Емельянофф и общались с ней чаще прочих. Что, по-вашему, на нее нашло?
– Я не знаю, – пожала плечами Амалия. – Мне кажется, у девушки слишком впечатлительная натура. Натали не в ладах с миром, да и с собой тоже.
Она чересчур осторожно подбирала слова, что не укрылось от доктора.
– Не в ладах с миром… – задумчиво повторил главный врач. – А я, сударыня? Я похож на человека, который в ладах с миром? Или Рене? Или месье поэт, ваш соотечественник? И что, кто-нибудь из нас пытался свести счеты с жизнью? – Его глаза сверкнули. – В городе о том, что здесь творится, уже идут всякие толки. Еще одно скандальное происшествие – и на санатории можно ставить крест. Но мадемуазель Натали, очевидно, ни до чего нет дела. Кроме ее интрижек, – раздраженно бросил он.
– Месье Гийоме! – вскинулась Амалия.
– О да, защищайте ее, защищайте, – фыркнул доктор. – Женщины всегда стоят друг за друга, не так ли? Ну так вот, госпожа баронесса. Безобразию необходимо положить конец!
– Вы хотите, чтобы мадемуазель покинула санаторий? – перебила его Амалия. – Но ведь девушка умрет!
– А она и так хочет умереть, – парировал Гийоме. – Тогда к чему мне стараться сохранить ей жизнь? Нет уж, довольно с меня скандалов! Сегодня мы ее спасли, а завтра она опять украдет у кого-то лекарство и повторит попытку. Ну так вот, пусть делает что хочет, но не в моем доме!
А ведь Натали и впрямь так сделает, подумала Амалия, холодея. Как только Гийоме выгонит ее из санатория, в котором находится ее любимый поэт. Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить!
Битых полчаса баронесса уговаривала, увещевала, улещивала доктора. Мадемуазель Натали не протянет и трех месяцев без его ухода… (Шести, поправил скрупулезный Гийоме.) Он подписывает ей смертный приговор… Неужели она заслужила такую участь? И потом, здесь, в санатории, находится человек, к которому она привязана, и можно будет убедить ее не делать глупостей. Баронесса лично сама ручается за ее поведение!
– Ну хорошо, – проворчал наконец Гийоме. – Должен признаться, вы умеете уговаривать, сударыня… Стало быть, пока мадемуазель Емельянофф остается здесь, но – под вашу ответственность. И я надеюсь, что впредь она не допустит таких безответственных поступков.
Амалия заверила своего собеседника, что сделает все от нее зависящее, и удалилась, а доктор звонком вызвал Алена, второго слугу, и сказал, чтобы доктор Севенн зашел к нему и объяснил, почему мадемуазель Натали смогла так легко украсть у него лекарство.
Тем временем баронесса заглянула к художнице и убедилась, что та спит. Возле постели молодой женщины сидела одна мадам Легран.
– А где месье Нередин? – удивилась Амалия. Со слов доктора, у нее осталось впечатление, что поэт тоже должен был здесь находиться.
– Он ушел к себе, – сообщила сиделка. – Попросил позвать его, когда больная очнется. Вы говорили с доктором?
– Да, – кивнула Амалия. – Месье Гийоме разрешает ей остаться, но лишь при условии, что она больше ничего такого не предпримет. По правде говоря, он был очень рассержен.
Мадам Легран пожала плечами.
– Вы даже понятия не имеете, сколько месье Гийоме сделал для санатория, – промолвила она с укоризной. – И конечно, такое отношение больных к его усилиям вовсе их не красит.
«А мадам Легран, оказывается, целиком на стороне доктора», – подумала Амалия. Баронесса вполголоса попрощалась с сиделкой и ушла, бесшумно закрыв за собой дверь, чтобы не потревожить спящую.
Амалия хотела немедленно отправиться к поэту, но на полпути ее настиг Шарль де Вермон, который проспал большую часть событий и теперь жаждал взять реванш.
– В кои-то веки я смог уснуть ночью, – говорил он, весело блестя глазами, – и теперь оказывается, что пропустил такое событие! Так что, мадемуазель Натали пыталась покончить с собой? Наверное, слишком часто смотрела на себя в зеркало. Я бы тоже, к примеру, не выдержал.
Амалия поглядела на него с укором.
– Шарль, – попросила она, – не надо.
– Я нарочно так сказал, – тотчас же пошел на попятную коварный Шарль. – Обожаю, когда вы меня отчитываете. Достаточно одного вашего слова – и я буду считать мадемуазель Натали красавицей, каких не видел свет. Хотя многие все равно со мной не согласятся… А что у вас за письма? – поинтересовался офицер, кивая на пачку, которую баронесса держала в руках.
– Идите лучше снова спать, шевалье, – уже сердито велела Амалия, уходя.
Когда она вошла в апартаменты поэта, тот полулежал в кресле, вытянув руки вдоль подлокотников, и Амалии сразу же бросилось в глаза, какие у него тонкие, нервные пальцы. Заметив баронессу, Нередин сразу же встряхнулся.
– Что с Натали? Я надеюсь, она не…
– Нет, с ней все в порядке, – отозвалась Амалия, садясь напротив него. – Алексей Иванович, мы должны что-то сделать. Я с трудом уговорила Гийоме не выгонять девушку из санатория. Но если она снова повторит свою попытку…
Нередин поморщился, как от физической боли, и ничего не ответил. Он внезапно понял, что все ему опротивело. Его поэтической, тонкой натуре решительно претили события последних дней, и едва ли не больше всех событий ему претили люди. Поэт слишком хорошо чувствовал прекрасное, чтобы сочувствовать смерти, несчастью и уродству; на расстоянии еще согласен был с ними мириться, но вблизи они его отвращали. Странная гибель мадам Карнавале, история с украденным письмом, его собственные пропавшие черновики, убийство Маркези, смерть Катрин, необъяснимый поступок Натали были ему глубоко антипатичны. Это были проявления хаоса, который поэт ненавидел. Он – властелин звезд, который все на свете мог вместить в сладкозвучные строфы и измерял бытие гармонией стиха, а хаос уничтожал гармонию, сводил ее на нет, мучил его своей грубой материальностью и лишал вдохновения. И как раз последнего он не мог ему простить.
– Алексей Иванович…
Нередин увидел напротив себя карие глаза в черных ресницах – и очнулся, услышал продолжение.
– Прошу вас, поговорите с ней. Вас она послушает, не то что меня.
Нередин вяло пообещал и покосился на листок, лежавший на столе. Кажется, кому-то он писал письмо… Ах да, Маше!
– Ну, не стану больше вам мешать, – тактично промолвила Амалия и поднялась с места.
За окнами было уже совсем светло. Баронесса вернулась к себе и занялась письмами Аннабелл Адамс. Шел седьмой час утра, но спать ей совершенно не хотелось, несмотря на то что обычно она вставала достаточно поздно.
…К десятому часу утра она уже знала все о мисс Адамс, а также о ее подруге Диане, смысл писем которой легко угадывался из ответов Аннабелл. Это были два бесхитростных сердца, очень привязчивых, по-своему наивных и по той же причине, может быть, способных на самую искреннюю дружбу. Казалось, они так и будут переписываться до самой старости о модах, собаках, общих знакомых и незнакомых друг другу молодых людях. Аннабелл была чувствительна и легко огорчалась, однако ее отличало забавное лукавство, которое тем не менее никогда не превращалось в ехидство или злословие. Дружить с ней было, наверное, очень легко, и, судя по всему, они с Дианой действительно были неразлейвода. Разлучить их мог разве что какой-нибудь франтоватый военный, которым они бы обе всерьез увлеклись… Или смерть. Судьба выбрала второе.
Прочитав письма, Амалия более внимательно стала изучать те, в которых упоминалось о месье Матьё Гийоме. Прежде всего молодой человек являлся французом, и у Аннабелл не было в том никакого сомнения. Он жаловался на больные легкие, но как раз данную подробность Амалия решила пропустить. Еще он был очень мил и обходителен и, наконец, утверждал, что является круглым сиротой.
«Разумеется, – усмехнулась про себя Амалия, – потому что отец Аннабелл умер, когда она была маленькой, а мать последовала за ним через несколько лет. Чтобы втереться в доверие, достаточно показать, что ты сам такой же, как твоя жертва… И, судя по тому, как обдуманно мужчина действовал, жертва могла быть не единственной. Только как бы это установить?»
Баронесса ощутила холодную ярость, как всегда, когда сталкивалась с чьей-то изобретательной преступной волей, и в то же время ни с чем не сравнимый азарт. Ну-ка, посмотрим, как мы сумеем тебя переиграть, месье безутешный вдовец…
«Жаль, конечно, что я в санатории и мои возможности ограничены, – размышляла Амалия. – По-хорошему надо поехать туда, где состоялась свадьба, расспросить мэра, чиновников, зарегистрировавших брак, найти свидетелей… Хоть кто-то должен был что-нибудь запомнить, что привело бы меня к мерзавцу. Потому что, дамы и господа, в сыскном деле главное – не улики и даже не умозаключения сыщика, каким бы гениальным он ни был, а надежный свидетель, который видел, узнал и запомнил».
Конечно, таким свидетелем могла быть и Аннабелл, если бы она удосужилась упомянуть в своих письмах рост, цвет волос или особые приметы поклонника. Но то ли от застенчивости, то ли чисто интуитивно догадавшись, что дружба двух женщин кончается там, где появляется мужчина, девушка была довольно скупа в описаниях, а ее восторженные упоминания о любезности и изысканности манер нового знакомого Амалии ровным счетом ничего не давали.
«Он был так предупредителен, так галантен, как могут быть только настоящие французы… Мы разговаривали о Лондоне, и он сказал, что хотел бы там побывать».
«Мисс Хедли, о которой я писала тебе в прошлый раз, очень плоха. Кажется, ее дни сочтены, а родители ничего не замечают и тешат себя надеждой, что ей вот-вот станет лучше. Доктор Пюигренье попытался намекнуть им, но они не поняли его намека, к тому же они недостаточно хорошо говорят по-французски. Я хотела сказать им, но побоялась… и потом, я не хотела стать причиной их горя. Вечером я на набережной встретила моего нового знакомого Гийоме (помнишь, того француза, который здесь лечится) и, не удержавшись, все ему рассказала. Он был очень мил и замечательно меня понял. По его словам, иногда страх перед дурным поступком вынуждает нас поступать еще хуже, но на самом деле я зря беспокоюсь. Он уверен, что родители мисс Хедли обо всем уже догадались, но не хотят лишний раз расстраивать дочь и показывать ей, что она не выздоровеет. Он замечательный и думает о людях лучше, чем я…»
Амалия поморщилась и взяла следующее письмо.
«В обществе майора Тимберса я пробыла всего полчаса, не больше, но эти полчаса показались мне вечностью. Он был так умен и так превосходно рассуждал обо всем на свете, что мне поневоле сделалось страшновато за свою ограниченность. Едва-едва сумела я улизнуть от него под благовидным предлогом и возле гостиницы увидела месье Гийоме. Он спросил, почему у меня такой растерянный вид, и я не могла не рассказать о майоре. Матьё (его зовут Матьё, и он попросил меня так его звать) заметил, что навязчивое знание хуже незнания, и я с ним согласилась. Да, я нашла себе новую портниху, потому что прежняя берет безумно дорого…»
«Вкладываю в письмо цветок, который сорвала с куста, что растет возле гостиницы. Английских романов здесь нет, вернее, те, что есть, я уже прочитала и скучаю, а перечитывать второй раз не хочется. Моего француза (как ты выражаешься) я несколько дней не видела. Зато видела Пюигренье, и доктор сказал, что я иду на поправку. Раньше он был не уверен, не хотел меня обнадеживать раньше времени и т. д., но теперь вполне за меня спокоен. Он ужасно старый, но, несмотря на это, я чуть не обняла его и не расцеловала».
«На бульваре мы встретили коляску знаменитой певицы, о которой я тебе прежде писала. Она приехала сюда не ради лечения, а просто чтобы отдохнуть. С ней постоянно видят то русского князя, то английского герцога, но никогда обоих сразу. Все прохожие смотрели только на нее, и я сказала вслух, как хорошо, наверное, быть знаменитой. Однако Матьё пожал плечами и сказал, что слава – сомнительное удовольствие быть известным людям, которым в жизни не подал бы руки, и что вряд ли певица счастливее, чем большинство из нас. И я подумала, что и в самом деле не хотела бы оказаться на ее месте».
«Сегодня, когда пришло твое письмо, у меня был Матьё, и мы долго беседовали о тебе и о дружбе вообще. Он говорит, что у него немного друзей, потому что он был долгое время беден и только наследство от рано умершей кузины позволило ему подняться. Матьё утверждает, что друзья вообще делятся на три категории: на тех, кто тобой дорожит, на тех, кому ты безразличен, и старых преданных врагов. «Но у меня даже не было врагов», – добавил он и улыбнулся. Я ему ответила, что нельзя столь мрачно смотреть на мир. Это было немного дерзко с моей стороны, но он ничего не сказал и только поцеловал мне руку. А потом, представь себе… потом сделал мне предложение. Я уверена, ты порадуешься за меня, что я не ответила ему отказом…»
Амалия отложила письмо. Значит, Аннабелл была так сдержанна в своих рассказах о лже-Гийоме потому, что Эдит-Диана с самого начала как-то дала ей понять, что француз ей не по душе; и выражение «порадуешься, что не ответила отказом» больше походило на просьбу понять и извинить, чем на предложение разделить радость подруги. Но не это важно сейчас, размышляла Амалия, а то, какие зацепки можно извлечь из рассказов Аннабелл о своем будущем муже. Упоминание об умершей кузине вряд ли может что-то дать, потому что «Матьё» мог попросту ее придумать, более того, если Амалия права насчет него и он овдовел не в первый раз, наследство должно было оказаться от его предыдущей жертвы. «Но что, если кузина и в самом деле была? – подумала Амалия. – Ведь нельзя же упускать такую возможность… Надо будет попросить Рудольфа навести справки. Хотя нет, Рудольфу не до того, он приехал сюда по совсем другому делу. Проще поговорить с мадам Легран, которая знает все обо всех, кто находится в санатории… Интересно, удастся ли Рудольфу отыскать пропавшее письмо? И что именно в том письме может быть?»
Глава 26
– Должен заметить вам, – холодно промолвил граф Эстергази, – что содержание письма не имеет никакого отношения к делу.
– А я вовсе не склонен так считать, – возразил Рудольф с обаятельнейшей улыбкой, глядя прямо в глаза своему собеседнику.
Граф Эстергази поморщился. Это был невысокий коренастый брюнет лет пятидесяти, с лицом, в котором неуловимо проскальзывало нечто бульдожье. Он носил точь-в-точь такие же длинные холеные усы, как король Богемии, его повелитель, и вообще слыл одним из самых преданных ему людей. Так как Рудольф получил инструкции в случае чего обращаться напрямую к графу, он без промедления воспользовался ими, и теперь мужчины разговаривали в саду, возле высокой стены, которая окружала виллу. В дом Эстергази приглашать гостя не стал.
– То, что вы считаете, не имеет значения, – наконец произнес Эстергази.
Однако Рудольф был слишком опытным агентом, чтобы его можно было сбить с толку подобными высокомерными фразами.
– Вы усложняете мне задачу, граф, – покачал он головой. – Мне сказали, что я могу рассчитывать на полное сотрудничество, а вы молчите о самом главном. Это нехорошо.
– Главное я вам уже сообщил, – бросил Эстергази. – Письмо личное, имеет лишь частное значение, но способно бросить тень… очень нежелательную тень. Больше я вам ничего открыть не могу.
И по упрямому выражению его лица Рудольф понял, что настаивать бесполезно. Бульдог не из числа тех, кто делится своими тайнами.
– Ну хорошо, – вздохнул немец. – Шевалье де Вермон знает о содержании письма?
– Нет.
– Но хотя бы может подозревать? – настаивал Рудольф.
– Вряд ли. Даже так: в нынешних условиях совершенно исключено.
Рудольфу неудержимо захотелось выругаться, что наверняка было бы ошибкой. «Черт возьми, – с досадой подумал он, – я постарел. Кажется, я больше не гожусь для этой работы». Подняв глаза, он неожиданно увидел в окне второго этажа полускрытое занавеской женское лицо. Ему показалось, что лицо было красивое, но все же, вспомнив, какой болезнью страдает графиня, Рудольф невольно вздрогнул. Увидев, куда смотрит его собеседник, Эстергази обернулся, и занавеска тотчас опустилась. Женщина исчезла.
– Кто автор письма? – спросил Рудольф.
Граф покосился на него с явным раздражением и сердито буркнул:
– Вас не касается.
– Черт подери, – разозлился немец, – но должен же я знать хоть что-нибудь!
– Все, что вам должно быть известно, вы и так знаете, – сухо продолжил Эстергази. – Письмо исчезло. Агент барона Селени и свидетель кражи письма были убиты. Кстати, Селени я тоже не могу найти со вчерашнего дня, и это мне совершенно не нравится. А в санатории находится… находится хорошо известное вам лицо. Вам лучше меня известно, на что то лицо способно.
– Она не брала письмо, – возразил немец.
– Она вам так сказала? И вы поверили?
– Письма у нее нет, – с металлом в голосе отчеканил Рудольф. – И я не вижу смысла продолжать разговор на данную тему.
– Допустим, взяла его не она, – согласился Эстергази. – Но кто же тогда?
– Кто-то другой, я ручаюсь, – ответил фон Лихтенштейн. – Вы уверены, что в санатории больше нет подозрительных людей?
– Давайте посмотрим, – задумчиво уронил граф. – Итак, доктор Пьер Гийоме. Окончил курс с отличием, но рассорился с профессорами по причине независимого характера. Любит всегда отстаивать свою точку зрения и идет напролом, даже когда обстоятельства того не требуют. Известен как хороший врач, хотя многие его коллеги утверждают, что он обыкновенный шарлатан. Вылечил дочь покойного герцога Савари, за что был почти представлен к ордену Почетного легиона, но отказался от награды. Мизантроп, но, в общем, куда более безобиден, чем думает сам. В порочащих связях не замечен. Далее: виконт Поль-Рене-Ксавье де Шатогерен, помощник Гийоме. Не любит упоминать о своем титуле, обычно представляется как Рене Шатогерен. Принадлежит к старинному роду, который был почти полностью истреблен во время революции. Доброволец во время войны… на которой, по-моему, вы с ним и познакомились. Был женат, жена умерла от чахотки через несколько месяцев после свадьбы. После ее смерти он поехал в Африку военным врачом и там познакомился с другим врачом, неким Леграном, который изучал местные болезни. Шатогерен был его помощником, а после смерти Леграна его супруга порекомендовала виконта другу мужа, доктору Гийоме. Работает в санатории, предан своему делу, в нежелательных связях не замечен. – Эстергази вздохнул. – Теперь Филипп Севенн, любимый ученик парижского профессора Лафоре. Сватался к племяннице профессора, чей отец – «бессмертный»[18], но она предпочла какого-то маркиза. Профессор и рекомендовал его Гийоме, который тоже когда-то у него учился. Севенн – молодой врач, подающий большие надежды. Педантичный, старательный, судя по всему, далеко пойдет. Связей со службами не имеет. Далее: мадам Легран, главная сиделка…
Рудольф досадливо выдохнул сквозь зубы. Он уже знал все о мадам Легран, единственный недостаток которой заключался в том, что она была втайне влюблена в доктора Гийоме, а также об Эдит Лоуренс, которая устроилась в санаторий под чужим именем, о Мэтью Уилмингтоне, который вчера потерял невесту, Натали Емельяновой, шевалье де Вермоне, поэте Нередине… И, разумеется, знал о баронессе Амалии Корф.
– Хватит, – сказал он. – Все это мне уже известно.
– Боюсь, не все, – бархатно-вкрадчивым голосом ввернул Эстергази. – К примеру, настоящая Эдит Лоуренс…
– Живет в Лондоне, – нетерпеливо кивнул Рудольф. – А в санатории находится ее кузина Диана.
Эстергази усмехнулся:
– Вам баронесса сообщила? И она пыталась вас убедить, что отошла от дел? Нет, Рудольф, я не хочу навязывать вам свое мнение, но… вам не кажется, что вы чересчур легковерны?
Граф словно повторял сомнения самого Рудольфа, в которых тот сам себе не желал признаваться, и немец разозлился. Он терпеть не мог, когда кто-то пытался воздействовать на него, да еще таким способом. А Эстергази глядел на него, и глаза его смеялись.
– Я всего лишь логичен, – упрямо поджал губы Рудольф. – Агентша успела послать Селени телеграмму, что письмо у нее. Значит, она украла его со стола в комнате шевалье. А поскольку почту в тот день по чистой случайности разносила баронесса, значит, она действительно положила письмо на стол и забыла о нем. Если бы ей была известна ценность письма, она бы точно не стала оставлять его на столе.
Эстергази усмехнулся, а затем признался:
– Я не слишком доверяю логике, когда речь идет о людях.
– Ну, с такой женой, как у вас, трудно ждать другого, – возразил фон Лихтенштейн с добродушной улыбкой.
Это был удар под дых – конечно, словесный, но оттого не менее сильный. И немец с удовольствием убедился, что его собеседник изменился в лице.
– И вы забываете, что агентша Селени вполне могла украсть письмо не из комнаты шевалье, а у вашей… родственницы, – дополнил Эстергази после паузы.
– Не могла, – твердо ответил Рудольф.
– Почему? – удивился граф.
– Потому, – коротко ответил немец, не желая вдаваться в объяснения. С его точки зрения, было бы глупо даже предполагать, чтобы баронесса Корф дала обвести себя вокруг пальца столь вульгарным образом. Слишком уж хорошо он ее знал.
– Кроме того, – продолжал граф, – меня беспокоит исчезновение Селени. Братья Хофнер нигде не могут его отыскать.
– Наверное, он до сих пор не может слезть с дерева, – предположил Рудольф.
Граф Эстергази нахмурился.
– С какого дерева?
– На которое залез, чтобы наблюдать за баронессой Корф, – ухмыльнулся. – Я же прекрасно помню это животное, его методы всегда оставляли желать лучшего.
Граф Эстергази не зря считался самым сдержанным придворным Европы, но сейчас его терпение все же истощилось. Он попытался испепелить нахала взглядом, но с таким же успехом можно было пытаться поджечь Средиземное море, которое лениво перекатывало свои волны в нескольких сотнях метров от собеседников.
– Ну что ж, – промолвил Эстергази после затяжного молчания, – думайте что вам угодно, сударь, и даже то, будто госпожа баронесса и впрямь не имеет к происшедшему отношения. Но тогда остается открытым вопрос: кто же все-таки взял письмо?
– Тот же, кто украл черновики поэта, думая, что они представляют ценность, – сказал Рудольф.
Эстергази озадаченно взглянул на собеседника.
– Простите?
– Все очень просто, – принялся объяснять фон Лихтенштейн. – Тот, кто охотился за письмом, наверняка знал о прошлом баронессы. Неожиданно в санатории появляется ее соотечественник, с которым она много общается и говорит по-русски. Считается, что он поэт, но как это проверить? А что, если на самом деле он ее сообщник? И тогда наш вор крадет его наброски. Госпожа баронесса решила, что перестарался кто-то из слуг, но у меня другое мнение. Затем куз… Амалия разносит почту, включая то самое письмо, но мадам Карнавале, хрупкая старая дама, о которой никто бы никогда не подумал, что она выполняет чье-то задание, опережает нашего недруга. Впрочем, он поправляет ситуацию, столкнув ее со скалы. Затем ночью обыскивает ее комнату и находит письмо. В тот момент его видит священник Маркези. Либо Маркези что-то заметил, когда погибла мадам Карнавале. Впрочем, неважно. И нежелательный свидетель был убит. Таким образом, письмо находится в чужих руках, а вы по-прежнему не хотите сказать мне ничего о том, кому оно может пригодиться!
Эстергази молчал.
– Если кто-то захочет его продать нашим врагам, – добавил Рудольф, – или, скажем, опубликовать в прессе…
– Это будет катастрофа, – мрачно произнес граф. – Ни в коем случае нельзя допустить огласки содержания письма.
Он оглянулся на дом, входная дверь которого внезапно отворилась. Появившийся на пороге рыжеватый молодой человек махнул рукой, подавая хозяину какой-то сигнал.
– Это Альберт Хофнер, – пояснил граф. – Значит, виконт де Шатогерен уже уезжает… Отойдем за угол, герр фон Лихтенштейн. Вы же не хотите, чтобы виконт вас видел? Мало ли кому он может о встрече с вами здесь проговориться…
Досадуя на себя, Рудольф вслед за графом двинулся по дорожке и скрылся за углом дома, чтобы не столкнуться с помощником доктора Гийоме. К несчастью, он не заметил коляску, которая неслась по дороге так, словно кучер уже тогда предвидел знаменитые гонки в расположенном неподалеку Монако и задался целью их посрамить. В облаке пыли коляска остановилась возле виллы, и тотчас на землю спрыгнул светловолосый господин с голубыми глазами. Он подал руку изящной даме в платье цвета слоновой кости и помог ей выйти.
У ворот путь им преградил привратник, подозрительно похожий на господина Альберта Хофнера, стоявшего у дверей дома.
– Сожалею, – сухо сказал привратник, – но вы не можете сюда войти. Я…
Он собирался еще что-то сказать, но поэт (а спутником приехавшей только что баронессы был именно Нередин) толкнул его в грудь с такой силой, что молодой человек отлетел к решетке ворот.
– Посторонись, холоп, – презрительно бросил Алексей по-русски.
– Мне нужен только доктор Шатогерен! – крикнула Амалия, проходя мимо двойника Альберта Хофнера.
Судя по ошеломленному лицу привратника, его никогда в жизни не осмеливались не то что толкнуть, но даже непочтительно схватить за руку. Он отлепился от решетки и тоскливо оглянулся в поисках помощи.
– Господин граф! – взвыл рыжеволосый в отчаянии. – Альберт! На помощь!
Но Амалия в сопровождении поэта уже поднималась по ступеням, не обращая никакого внимания на суету лакеев. Навстречу ей шел Шатогерен, за которым следовала темноволосая статная дама в черном платье, похожем на траурное. В роскошных тяжелых волосах сверкали бриллиантовые заколки в виде бабочек. За темноволосой угадывалась другая дама – постарше и попроще одетая, с сурово поджатым ртом.
– И не забывайте капли по три раза каждый день, госпожа графиня, – закончил фразу Шатогерен, обращаясь к темноволосой.
Он повернул голову, заметил Амалию с Нерединым и озадаченно нахмурился.
– Господин виконт, – начала Амалия, волнуясь, – мы приехали за вами, потому что нужна ваша помощь. Дело в том, что доктор Гийоме…
Тут она бросила взгляд на статную даму с заколками в волосах – и осеклась. Затем восклинула:
– Ваше величество!
Нередин был уверен, что после событий последних дней его уже ничто не удивит. Но сейчас он так поразился, что даже причина, из-за которой они с баронессой столь спешно поехали искать Шатогерена, вылетела у него из головы.
Тут же как по мановению волшебной палочки из-за угла дома выскочил багровый господин, чем-то до странности похожий на бульдога. Но еще более странным было то, что за ним следовал кузен баранессы, тот самый деревянный немец. Завидев Амалию, он, впрочем, слегка убавил прыть и последние метры преодолел степенным шагом, почему-то глядя в землю.
– Это недоразумение, – объявил багроволицый, граф Эстергази, широко улыбаясь и поворачиваясь поочередно ко всем свидетелям маленькой сцены. – Право же, недоразумение! Сударыня! Прошу вас, вернитесь в дом!
Вид у него был одновременно умоляющий и жалкий. Дама с заколками оглянулась на Шатогерена, который, казалось, был смущен больше прочих, неожиданно улыбнулась поэту, который, забыв о приличиях, смотрел на нее во все глаза, и раскрыла веер, украшенный все теми же изображениями бабочек.
– Не вижу смысла отрицать очевидное, граф, – с восхитительным спокойствием промолвила она. – Да, я Елизавета, королева Богемии. И теперь, когда вы знаете, кто я, что вы намерены предпринять?
Глава 27
– Ваше величество! – умоляюще простонал Эстергази. Он молитвенно сложил руки, но тотчас же опомнился и убрал их.
«Все оказалось до странности просто, – подумала Амалия, – но совсем не так, как я предполагала». Действительно, дело было вовсе не в сумасшедшей жене графа, а в королеве Богемии, которая захотела инкогнито, без лишней огласки, посоветоваться с врачом из другой страны по поводу своего здоровья. Отсюда и нежелание приезжать в санаторий, и двойная плата доктору за визит на дом, и удаленная вилла на самой окраине города – конечно же, для того, чтобы кто-нибудь любопытный ненароком не узнал королеву и не стал распускать слухи. И, разумеется, граф Эстергази, личность достаточно известная, идеально подходил на роль заботливого супруга, потому что хоть кто-нибудь обязательно сообщил бы Гийоме о странностях графини. Таким образом, все получило бы свое объяснение, и врач не стал бы задавать лишних вопросов… вопросов, которые в данной ситуации совершенно никому не были нужны.
Но на самом деле вовсе не королевское инкогнито волновало сейчас Амалию. Самый главный – и самый интересный! – вопрос заключался в том, что именно мог тут делать кузен Рудольф, который минуту назад так резво выскочил с графом из-за угла дома, а теперь стоял с видом примерного школьника, которого ненароком поймали на краже вишен из учительского сада.
– Они ворвались сюда силой! – прошипел по-немецки рыжий привратник за спиной Амалии. – Это неслыханно!
– Ваше величество, – произнесла Амалия, сделав реверанс, – нам искренне жаль, что мы нарушили ваш покой, но дело не терпит отлагательства. Мы искали господина виконта.
– Мы? – с любопытством переспросила королева. Но в ее тоне не было и намека на желание поставить на место или унизить. Казалось, сложившаяся ситуация лишь забавляла ее.
Эстергази метнул на Амалию взор сродни тому, которым он давеча собирался испепелить ее кузена, и сквозь зубы представил королеве баронессу Амалию Корф, российскую подданную.
– А вы, сударь… – граф повернулся к поэту.
– Алексей Нередин, – поспешно представился тот. И добавил: – Русский поэт. Я… я счастлив познакомиться с вашим величеством.
– Вы пишете стихи? – заинтересовалась королева.
– Да, ваше величество.
– Я почти не знаю русских поэтов, – извиняющимся тоном промолвила Елизавета.
С ее стороны это была не обычная вежливая фраза. Нередин знал, что королева Богемии слывет большой покровительницей литературы вообще и поэзии в частности. Она покупала рукописи Гейне, поддерживала молодых поэтов и читала стихи, выходящие на всех языках королевства – немецком, чешском и венгерском.
– Увы, ваше величество, поэзия плохо поддается переводу, – искренне сказал Нередин.
– Хотя я помню, мне попадалось кое-что господина Пушкина на французском, – добавила королева. – И произведение графа Алексея Толстого в немецком переводе. Он хорошо пишет. Помнится, я присутствовала на представлении одной из его пьес, и мне было очень интересно.
– Да, госпожа Павлова много его переводила[19], – подтвердил поэт.
Он спохватился, что уже столько времени беседует с королевой о поэзии и никто не смеет вмешаться в их разговор. Но поразительнее всего было то, что, разговаривая с этой красивой сорокалетней женщиной, Алексей не чувствовал и следа смущения, которое прежде нападало на него, когда ему приходилось общаться со знатью. Не то чтобы королева держалась открыто и дружелюбно – напротив, поэт сразу же заметил, что человек она закрытый и замкнутый, и не только из-за занимаемого ею положения. И еще, глядя на нее, Нередин впервые вполне уяснил себе значение выражения «царственная стать». Все в Елизавете выдавало королеву: походка, осанка, манера держать голову, – сама она, очевидно, не отдавала себе в том отчета.
Эстергази воспользовался образовавшейся в разговоре паузой и сразу же ловко в нее ввинтился.
– Кажется, господа искали месье доктора? – сухо бросил он. На его красном, потном лице было написано раздражение.
– О да, – кивнула Амалия и повернулась к Шатогерену: – Господин виконт, с доктором Гийоме случилось несчастье. Я думаю, только вы в состоянии ему помочь.
Шатогерен метнул на нее быстрый взгляд. Что-то в ее тоне подсказало ему, что баронесса не хочет говорить при посторонних. Он поклонился королеве и вслед за Амалией стал спускаться по ступеням.
Видя, что враги удаляются, Эстергази дал волю своему раздражению.
– Вот, не угодно ли! – воскликнул граф, словно бы обращаясь к Рудольфу фон Лихтенштейну, но на самом деле с таким расчетом, чтобы его слышали все. – Опять в санатории что-то стряслось! Воля ваша, но я не понимаю, зачем вообще было обращаться к этому незаконнорожденному, как будто в Богемии нет приличных докторов!
Однако продолжение речи графа оказалось неожиданным. Шатогерен резко повернулся и двинулся обратно.
– Мне показалось, – холодно спросил он, подойдя вплотную к Эстергази, – или вы только что намеренно оскорбили моего патрона? На всякий случай вынужден вам напомнить, что я дворянин и могу заставить вас ответить за оскорбление.
«Вот уж вряд ли», – ухмыльнулся про себя Рудольф. Он отлично знал, что Эстергази не умел ни стрелять, ни фехтовать и никогда не дрался на дуэли.
– О, господин виконт, – граф изобразил кривую улыбку. – Я не имел намерения оскорбить вас или честнейшего доктора Гийоме. Возможно, меня ввели в заблуждение слухи.
– Хорошо, если так, – обронил врач и повернулся к королеве: – Простите, Ваше величество. Я слишком многим обязан господину Гийоме, чтобы позволять бесчестить его имя.
– Ничего, – отозвалась Елизавета. – Я понимаю, сударь.
Затем улыбнулась ему и, сложив веер, шагнула к двери. Фрейлина с кислым лицом двинулась за ней следом. Кипя яростью, Эстергази смотрел, как они уходят.
– Теперь весь город узнает, что королева здесь, – пожаловался он Рудольфу. Но тут заметил проштрафившегося привратника и обрадовался возможности сорвать на нем свой гнев, а потому взревел: – Карел Хофнер, вы знаете, кто вы такой?
– Знаю, – спокойно отвечал рыжий. – Я дворянин, как бывший здесь доктор, и тоже могу драться на дуэли.
И он с вызовом выдержал взгляд взбешенного придворного.
– Вы бы лучше отыскали барона Селени, – понизил голос Эстергази. – Куда он мог запропаститься?
– Мы с братом уже шесть раз побывали в гостинице, – отозвался привратник, носивший одно из самых аристократических имен Богемского королевства. – Барон Селени исчез.
– Куда?
– Один из слуг вспомнил, что посыльный принес ему ночью записку. Прочитав ее, господин барон собрался и ушел.
Рудольф покачал головой:
– Хм, похоже на ловушку. Слушайте, а у него нет в окрестностях любовницы?
– Где, скажите на милость, вы встречали любовницу, у которой можно проторчать два дня? – парировал Эстергази.
Вообще-то Рудольф встречал и таких, у которых можно было провести и три дня, но почему-то предпочел не просвещать графа в данном вопросе. Он покосился на Хофнера и заметил, что тот ухмыляется. Очевидно, Карелу тоже было что сказать, но и он решил держать это при себе.
По улыбкам своих собеседников граф сообразил, что сморозил глупость, и рассердился еще больше.
– Забудем пока о Селени, – сказал он. – Если барон жив, он вернется. Если же мертв… – Граф пожал плечами. – Кстати, Карел, у меня есть поручение для вас. Отправляйтесь на телеграф и шлите требование доктору Брюкнеру, чтобы он немедленно приехал. Ее величество должна покинуть Ниццу как можно скорее, а доктор должен ее убедить. И, разумеется, более никаких врачебных визитов посторонних.
Карел коротко поклонился и ушел.
– Однако не слишком-то умно вышло, – заметил Рудольф. – Ни в коем случае не следует использовать для прикрытия лицо, которое столь высоко стоит, это чревато многими неприятностями.
Эстергази раздраженно повел плечами.
– Вы не понимаете, в каком положении я оказался, – буркнул он. – Король приказал мне сопровождать Елизавету сюда, и я не мог отказаться. Все началось из-за графини Фекете. Как вы знаете, она дочь герцога Савари, и Гийоме ее вылечил. Графиня все уши прожужжала королеве о кудеснике-докторе, вот та и решила обратиться к нему. Каприз, мой дорогой, чистой воды каприз, но король не смеет ей перечить. Особенно теперь, когда их сын умер от чахотки.
– Однако у королевы есть еще две дочери, – напомнил Рудольф.
Эстергази кивнул:
– Да, но сына она все равно любила больше, и к тому же он был наследником. После его смерти кронпринцем стал брат короля, а его не интересует ничего, кроме английской танцовщицы, с которой он где-то познакомился. Нелегкие нас ждут времена.
– Интересно, что могло случиться с доктором Гийоме? – спросил Рудольф.
– Вы и впрямь поверили, что с ним что-то неладно? – удивился Эстергази. – Разумеется, это был всего лишь предлог, чтобы застигнуть нас врасплох.
– Не уверен, не уверен, – задумчиво проговорил Рудольф.
Меж тем в коляске, которая ехала обратно в санаторий, между Амалией и Шатогереном происходил оживленный разговор, и касался он непосредственно доктора Гийоме.
– Инспектор Ла Балю и его люди… просто пришли и арестовали его! – горячо говорила Амалия. – На глазах у всех больных! Представляете?
Шатогерен рассердился:
– Они что, и впрямь подозревают, что Гийоме мог убить Ипполито Маркези? Вот ведь абсурд!
– Инспектор Ла Балю объявил, что все происходящее в санатории выглядит очень подозрительно, поэтому он пока задерживает доктора для допроса, – сказала Амалия. – Все очень плохо! Севенн отправился к префекту, а мы с месье Нерединым сразу же поехали за вами. Нужно во что бы то ни стало вызволить его оттуда.
– Так… – задумался Шатогерен. – Прежде всего, я полагаю, стоит обратиться к мадам Ревейер, нашей пациентке. Ее муж владеет сетью магазинов в Париже и знаком с президентом, с депутатами и министрами. Полагаю…
– Мадам Ревейер собирает вещи, – перебила его Амалия. – Она уезжает из санатория. Дама сказала, что больше не может здесь оставаться, несмотря на то что хорошо относится к доктору… и все в таком же духе.
– А-а, вот как… – протянул доктор. – И кто еще вообразил себя на тонущем корабле? – Его презрительный тон был еще более оскорбителен, чем слова.
– Одна из немецких дам и дипломат в отставке. – Амалия умоляюще посмотрела на него.
– Скатертью дорога, – отозвался Шатогерен. – Если бы не королева… Я хочу сказать, что раньше думал, граф Эстергази сможет нам помочь, если возникнут трудности. Но теперь вряд ли можно на него рассчитывать.
Амалия немного подумала:
– Значит, получается, что никто…
Шатогерен пожал плечами:
– Если бы я знал хоть одного человека… Есть еще бывший министр, который у нас лечился, но он сейчас где-то в Италии.
– Обойдемся без министра, – внезапно промолвила Амалия, и ее глаза сверкнули. – Констан! Везите нас на телеграф.
– Вы хотите отправить телеграмму? – удивился Шатогерен. – Думаете, она сможет нам помочь?
– Возможно, да, а возможно, нет, – уклончиво ответила Амалия. – Дело в том, сударь, что у меня тоже есть разные знакомые, просто я редко к ним обращаюсь.
Констан остановил экипаж возле здания городской почты, и баронесса ушла.
– Все-таки странно, что вы ее не узнали, – внезапно проговорил поэт, до того молчавший. – Я имею в виду королеву Елизавету.
Шатогерен улыбнулся.
– По-вашему, я часто бываю при богемском дворе? – парировал врач. – И вообще, сударь, да будет вам известно, что хотя я и виконт, но по своим взглядам убежденный республиканец. Потом, вы же сами признали Ее величество только после слов баронессы Корф.
– Верно, – согласился Нередин. – Но мне даже в голову не могло прийти…
– Мне тоже, – заметил доктор. – Хотя теперь мне многое становится понятным. И ее бессонница – как раз с тех пор, как умер сын, и ее припадок, когда мы говорили о Ван-Дейке. Я всего лишь упомянул портрет принца Руперта, а она разрыдалась. Конечно, она ведь подумала о другом принце Руперте – своем сыне. Но я-то не знал этого, и мне ее реакция показалась… мягко говоря, странной.
– У нее тоже чахотка, как и у ее сына? – допытывался Нередин. Он и сам не знал, почему ему были столь важны подробности.
– У нее нет чахотки, – отрезал Шатогерен. – Легкие совершенно чистые, тут мы с доктором Гийоме сходимся во мнении. Ее болезнь совершенно другого рода – нервы. Раньше я не знал причину, думал, ее состояние может быть как-то связано с мужем… то есть с графом Эстергази. И, конечно, меня сбило с толку то, что графиня Эстергази слегка не в себе.
Амалия вышла из здания почты и забралась в коляску.
– Теперь остается только ждать, – сказала она. – Я телеграфировала двум людям, если они откажутся помочь, что ж – задействую других. Да, там Шарлю прибыла срочная телеграмма, и я захватила ее с собой.
Поэт не слушал ее. «Интересно, отчего королева так любит Гейне? – размышлял он. – На мой взгляд, довольно вульгарный поэт, хоть и гениальный». И Алексей досадливо поморщился.
– Похороны мадемуазель Левассер завтра? – спросил Шатогерен.
Амалия кивнула.
– А что с ее женихом? – задал новый вопрос доктор. – Утром на него было страшно смотреть.
– Анри за ним приглядывает, – отозвалась молодая женщина. – Он не расстается с белой розой, той самой, которая на ней была… была в тот вечер. И ни с кем не хочет разговаривать. Мисс Лоуренс пыталась его расшевелить, но безуспешно.
– А мадам Легран по-прежнему с мадемуазель Натали?
– Да. – Амалия повернулась к поэту, как будто витающему в облаках: – Алексей Иванович, вы побеседуете с ней? Вы обещали…
Ей показалось или Нередин и правда взглянул на нее с раздражением?
– Что? А! Да, конечно, госпожа баронесса.
Нет, он не витал в облаках – место, в котором поэт мысленно пребывал, явно находилось куда ближе.
Амалия пристально посмотрела на него. Любопытно, уж не увлекся ли он королевой Елизаветой? Ей всего сорок четыре года, она красивая женщина, по-королевски величавая и к тому же перенесшая недавно такое человеческое, такое понятное горе. Большинству людей хватило бы и одного из перечисленных качеств – королевского сана, – чтобы увлечься той, которая в юности слыла самой очаровательной принцессой Баварии.
Нередин, заметив испытующий взгляд спутницы, рассердился на себя и стал смотреть в сторону. Он не хотел, чтобы кто-то догадался о его мыслях и тем более – о его переживаниях.
Коляска подъехала к санаторию, Констан натянул вожжи, и Шатогерен подал руку Амалии, помогая спуститься.
– Наконец-то приехали… Здравствуйте, мисс Лоуренс! – оживленно заговорила баронесса. – А, вот и вы, Шарль! Кстати, шевалье, у меня для вас есть телеграмма, я забрала ее на почте… Ален, мадам Ревейер уже уехала? Что ж, она сделала свой выбор… Да, и как состояние мадемуазель Натали?
Глава 28
«Бьюсь об заклад, мне предстоит тягостная сцена, – размышлял поэт, идя по коридору к комнатам художницы. – Уж конечно, она будет плакать и каяться. Не выношу таких людей! Если уж делаешь что-то, так нечего останавливаться на полпути. А сделать глупость и потом каяться… Не проще ли тогда не делать глупостей, чтобы не мучить ни себя, ни других?»
Как видим, подобно большинству мужчин, Нередин не выносил сцен, и менее всего ему были приятны те, которые устраивали женщины. Ах, сколько он в свое время насмотрелся таких сцен от К… Она в совершенстве умела их устраивать, для нее было достаточно любого пустяка, чтобы превратить его в трагедию и основательно испортить настроение окружающим. Но, по крайней мере, надо отдать ей должное – она не пыталась покончить с собой.
Не то чтобы поэт был чрезмерно догматичен – нет, он считал, что человек имеет право покушаться на свою жизнь, только если у него есть для этого очень веский повод. Он знал, до чего может довести беспросветная нужда, знал, на что может вынудить потеря того, кого любишь; и эти причины были ему близки и понятны. Однако поступка Натали он не понимал, и даже больше – ее поступок раздражал поэта и не находил в нем сочувствия. Все в девушке было бестолково: и ее высокий рост, и длинные руки, которыми она постоянно размахивала, и ее поведение, и ее действия. И даже ее любовь к себе он находил бестолковой и скучной. Причем понимал, что несправедлив, что попросту жесток, но ничего не мог с собой поделать.
Несмотря на все усилия Нередина, лицо его, когда он вошел в комнату художницы, было хмурым. Однако Натали, лежавшая в постели, так просияла, увидев его, что даже не заметила его раздражения.
– Алексей Иванович… А я так боялась, что вы не придете!
Мадам Легран тактично отсела в угол и стала делать вид, что читает какой-то роман. Нередин сел на ее место у изголовья и постарался напустить на себя непринужденный вид. И то, что он оказался вынужден играть, притворяться, тоже было ему неприятно. По правде говоря, он с удовольствием сейчас очутился бы где-нибудь в другом месте… да хоть на той унылой вилле, где жила необыкновенная женщина с бабочками в волосах. Однако он отогнал от себя это воспоминание.
– Вы нас всех огорчили, мадемуазель… – полушутливо-полусерьезно заговорил Алексей. – Ну посудите сами, что такое вы затеяли? Нехорошо, очень нехорошо… И доктор Гийоме так рассердился, что хотел сразу же попросить вас из санатория. Нельзя же так поступать, в самом деле!
И он увидел, как Натали побледнела, в глазах ее появился ужас… А ведь она даже не подумала о том, что Гийоме, главный врач санатория, вряд ли мог одобрить ее действия; а так как доктор мало с кем церемонился, то, конечно же, логично было ждать, что он попытается избавиться от столь неудобной пациентки. И если доктор ее выгонит, она больше не увидит Нередина, и поэт не будет приносить ей свои новые стихи… Натали схватила Алексея за руки, стала бессвязно умолять его, клясться, что больше никогда, никогда… и она и не понимает, что на нее нашло… Но ей было так плохо, так плохо! Никто даже представления не имеет, как ей было плохо…
– А я уж решил, что вы просто не хотите закончить мой портрет, – тоном фата ввернул Нередин.
Но эта пустейшая, нелепейшая фраза, за которую поэту тотчас же стало стыдно, почему-то окрылила Натали. Конечно, она только будет счастлива сделать настоящий портрет! Ее работа послужит его славе, и она будет так рада, так счастлива…
Алексею сделалось совсем неловко. Он понял, что если бы сейчас попросил ее, скажем, броситься со скалы, девушка бы, не задумываясь, исполнила его желание. Но такое положение не льстило ему, а возмущало ту часть его души, которая превыше всего ценила свободу – и свою, и чужую. И еще он невольно подумал, что, когда человек смотрит на тебя как преданная собака, очень трудно удержаться, чтобы не обойтись с ним как с собакой. Последнее открытие задело его – он вовсе не считал себя циником и не любил думать о людях хуже, чем они заслуживают.
– Месье Гийоме очень сердится на меня? – спросила Натали, заливаясь краской. – Только бы доктор не выгнал меня!
Нередин ответил, что теперь все зависит только от нее. О том, что Амалия убедила доктора не трогать Натали, Алексей умолчал, чтобы излишне не обнадеживать художницу; но по пылкости, с которой девушка поклялась ему, что больше не будет пытаться наложить на себя руки, он понял, что все и впрямь осталось позади.
– Вот и хорошо, – поэт поднялся с места, – я постараюсь Гийоме уговорить.
На лицо Натали набежало облачко.
– Вы уже уходите? – робко спросила она.
Алексей хотел ответить: «Мне надо работать», что было правдой, но по опыту он знал, что ни один человек на свете, кроме поэтов, не считает написание стихов работой, и оттого промолчал. Натали покосилась на окно.
– Странно, – проговорила она, ни к кому конкретно не обращаясь, – вот уже второй раз я его вижу.
– Кого? – быстро спросил Нередин.
– Молодого человека с военной выправкой, – пояснила Натали. – Иногда он появляется на берегу и смотрит на наш дом.
Нередин посмотрел в окно и в самом деле увидел на берегу высокого блондина, которого прежде не видел. «Еще одна тайна, – подумал он. – Интересно, а баронессе Корф о странном визитере известно?»
Он пожелал Натали поскорее выздороветь и вышел из комнаты.
«А что, если… что, если этот человек имеет какое-то отношение к гибели мадам Карнавале? Ведь не зря же он ходит там по берегу один…»
Поэт вышел из дома, но в саду натолкнулся на доктора Севенна, который спросил у него, принимал ли он сегодня лекарства и мерил ли температуру. Когда, избавившись от общества молодого педанта, Алексей наконец оказался на берегу, там уже никого не было.
«Надо будет сказать об этом баронессе. Все-таки что-то непонятное творится в этом доме. И чем дальше, тем хуже все становится», – решил он и отправился на поиски Амалии. И нашел ее в гостиной на первом этаже, где висел портрет Наполеона и стояла небольшая женская статуя с печальным лицом. Войдя в гостиную, Нередин застыл на пороге, да так и остался там.
На диване сидел Шарль де Вермон – и плакал, закрыв лицо руками, а рядом с ним сидела баронесса и гладила офицера по голове, стараясь успокоить. На одноногом столике возле дивана лежал листок, в котором поэт признал ту самую телеграмму, которую Амалия захватила на почте.
– Что случилось? – спросил Нередин обеспокоенно. – Кто-то умер?
Баронесса Корф подняла голову.
– Да, его дядюшка Грегуар. Очень обеспеченный был господин.
И больше она не добавила ни слова.
– Старая сволочь… – наконец проговорил Шарль. – Оставил мне половину состояния! Зачем? Все равно я скоро последую за ним… – Шевалье вытер слезы и покачал головой: – Что мешало ему умереть лет пять назад? Тогда бы я не поехал в Африку и, может быть, не заболел бы. А теперь все кончено, понимаете, кончено! Боже мой, какая насмешка судьбы!
Молодой человек тяжело, хрипло закашлялся, и Алексей отвел глаза.
– Я только что видел Севенна, – сообщил он. – Он уже приехал от префекта. Тот говорит, что ничем не может помочь – дело доктора Гийоме не в его компетенции. И еще, сударыня… Натали видела какого-то человека, который бродит возле дома.
Амалия нахмурилась и уточнила:
– Высокий блондин с военной выправкой?
– Да. Я сам видел его с четверть часа тому назад, но он исчез.
«Наверняка кто-то из людей Селени, – подумала Амалия. – Они следят за домом… и не оставят меня в покое».
– Наверное, кто-то просто гулял, – сказала она вслух. – Не обращайте внимания, Алексей Иванович.
«Нет, я не ошибался, она что-то скрывает, совершенно точно скрывает… И вряд ли то, что она скрывает, может быть чем-то хорошим. А впрочем, не все ли равно? – сказал себе Нередин. – Все это с сегодняшнего дня меня не касается. Довольно тайн, довольно секретов!»
Поэт сухо поклонился Амалии и офицеру, который не поднимал глаз, и вышел.
Едва он оказался за дверью, Шарль раскашлялся еще сильнее. Амалия встала с места и налила в стакан воды из графина, стоявшего на столе.
– Вот… Выпейте, и вам будет легче.
Офицер дотронулся до ее пальцев, державших стакан, и сжал их. Повисла томительная пауза.
– Какой я мерзавец! – проговорил Шарль с неожиданным ожесточением.
– Полно, шевалье, – возразила Амалия. – Выпейте.
Но он упрямо потряс головой:
– Вы заботитесь обо мне лучше любой сиделки, вы так добры ко мне, вы… А я свинья. Никогда себе этого не прощу.
– Чего не простите, Шарль?
Офицер виновато поглядел на нее, полез в карман и вытащил из него несколько смятых листков. Ничего не понимая, Амалия поставила стакан на стол, развернула листки – и увидела строку «Стихия плачет и тоскует…» и еще несколько, густо зачеркнутых.
– Вот, – устало проговорил Шарль. – Я их украл… у вашего друга поэта.
– Почему? – Амалия смотрела на него во все глаза.
– Вы спрашиваете меня почему? – Шевалье пожал плечами. – Потому что я свинья – вот почему. Помните, я рассказывал вам про Ла Палисса, с которым когда-то учился вместе? Он меня и уговорил. Я лечился у дрянного доктора в Шантийи, и мой бывший однокашник обещал устроить мне поездку в лучший санаторий, если я соглашусь им помочь.
Амалия начала понимать.
– Шпионить за мной? Так?
– Ла Палисс сказал, что раньше вы доставили им немало хлопот, – пояснил Шарль, откинувшись на спинку дивана. – Что теперь вы вроде бы отошли от дел, но с вами никогда нельзя быть ни в чем уверенным… И попросил меня проследить, что вы будете делать в санатории и с кем общаться. Я всегда знал, что Ла Палисс – набитый дурак, но подумал… В сущности, у меня не было выбора. Да и потом, у доктора Гийоме отличная репутация… И я согласился.
Амалия вздохнула:
– Вы взяли наброски Нередина, потому что решили, что он тоже шпион? Так, что ли?
– Я не исключал такой возможности, – отозвался Шарль, жалобно глядя на баронессу. – Вы так мило с ним общались… А я ничего не смыслю в поэзии и не знаю ваших поэтов. Мало ли кем он мог оказаться… Но когда он стал всем говорить, что у него пропали бумаги, я понял, что все это глупости. Разве настоящий шпион стал бы на всех углах кричать, что у него что-то пропало… Вы очень сердитесь на меня?
Амалия пристально посмотрела на него. Сейчас она вдруг заметила, что костюм, который прежде сидел на шевалье как влитой, стал ему чуть великоват… И запястье руки возле манжеты было узкое, исхудавшее… Но хуже всего была тень, лежавшая на его лице, – тень смерти. И молодая женщина невольно содрогнулась.
– Нет, шевалье, – покачала она головой, а говорить старалась как можно более убедительно, – я не сержусь на вас. И мне жаль, что вам пришлось изображать… изображать внимание ко мне, чтобы… чтобы…
Она запнулась. Шарль взял ее руку и поцеловал.
– Я ничего не изображал, – тихо промолвил де Вермон. – Но теперь, когда я все рассказал вам, мне гораздо легче. Видит бог, я никогда не хотел обманывать вас.
– А вам в самом деле ничего не известно ни о мадам Карнавале, ни о том письме?
– Ничего. Если бы я что-то знал, то непременно сказал бы вам. Мне-то никакие тайны уже все равно не пригодятся… А вы по-прежнему думаете, будто в письме было нечто важное? – нерешительно спросил он.
– Не знаю, – сказала Амалия. – Просто все случившееся очень странно.
– Да, – вздохнул Шарль, глядя на распечатанную телеграмму, – странно… Впрочем, в этой жизни меня уже ничто не удивит.
Глава 29
Доктор Гийоме вернулся в санаторий менее чем через шесть часов после того, как его арестовали. Он справился у Шатогерена о состоянии пациентов, пожал плечами, узнав об отъезде троих, и распорядился пустить на их место трех других из числа тех, что ждали очереди.
– Инспектор Ла Балю – болван, – сердито говорил Гийоме, меряя шагами кабинет. – Дядю-кардинала взволновала смерть племянника, и он поднял все свои связи, чтобы найти хоть какого-нибудь виновника. То, что я тут совершенно ни при чем, никого, разумеется, не интересовало. Но зато как потом инспектор извинялся передо мной… Жаль, Рене, что вас там не было, – комедия, чистая комедия! Жизнь, Рене, почище любого театра… Как я понимаю, вам пришлось прибегнуть к помощи графа Эстергази?
Помощник покачал головой:
– Нет, помогла баронесса Корф. Она послала кому-то телеграмму… и, как видите, все очень быстро разрешилось.
– Баронесса Корф? – удивился Гийоме. – Странно… Ла Балю намекнул мне, что за лицо распорядилось меня отпустить. Никогда бы не подумал, что у госпожи баронессы такие высокопоставленные знакомые.
– Ну, это еще не самое удивительное, – заметил Шатогерен. – Угадайте, Пьер, кем на самом деле оказалась графиня Эстергази?
– Неужели богемской королевой? – весело предположил доктор.
Шатогерен озадаченно вскинул брови:
– Позвольте, так вы что, узнали ее?
Гийоме перестал улыбаться.
– Я? Нет, но… Так пациентка что, и в самом деле королева? Бог мой! А я, признаться, краем уха слышал, как служанка назвала ее «Ваше величество», но решил, что та оговорилась или потакает безумию мадам. Поразительно! – И он рассмеялся. – Но, во всяком случае, мы можем успокоить Ее величество. Чахотка ей не грозит, по крайней мере, в ближайшие сто лет, организм в отличном состоянии… исключая нервы. Нельзя недооценивать эмоции, Рене, и не смотрите на человека как на машину. Ведь у нее недавно умер кто-то из близких? Я вроде читал в газетах.
– Сын, – кивнул Шатогерен.
Гийоме кивнул:
– Вот вам и истинная причина ее странного поведения. Возможно, отчасти виновата еще и наследственность. Я правильно помню, она из баварских Виттельсбахов?
– Кажется, да.
Гийоме задумчиво прищурился:
– У-у, мой дорогой, так это не облегчает дело. Постоянные близкородственные браки, а как следствие – у потомков через одного психические расстройства. Одним словом, друг мой, аристократия как класс обречена на вырождение… Только не обижайтесь на меня, – быстро добавил он. – Факты – слишком упрямая вещь, а научные факты – и вовсе непреложная.
– Я не сержусь, – возразил Шатогерен, и по его лицу было заметно, что он и в самом деле не сердится.
– Так что, виконт, если будете жениться, упаси вас бог брать в жены наследницу старинного рода, – добавил доктор, садясь за стол. – Особенно ту, у родственников которой встречаются серьезные отклонения от нормы. Природа – очень коварная особа, и никогда не следует пытаться ее перехитрить… Да, кстати, что с Мэтью Уилмингтоном? Завтра похороны его невесты, и я опасаюсь, как бы он не выкинул чего-нибудь в духе мадемуазель Натали.
– Не беспокойтесь, Пьер, за ним присматривают, – отозвался помощник. – Ему нужно лишь время, чтобы прийти в себя. В конце концов, он знал, что мадемуазель Левассер больна, и знал, что от туберкулеза часто умирают. Просто все получилось чересчур неожиданно.
…А тем временем Мэтью Уилмингтон сидел в своей комнате и гладил фотографию, на которой была запечатлена Катрин. На столе громоздились десятки запечатанных пакетов и писем, но англичанин не обращал на них никакого внимания. Через несколько минут он отложил фотографию, вытащил из кармана поблекшую белую розу и поднес ее к губам.
– Какая несправедливость, какая ужасная несправедливость… – прошептал он. – За что? Если бы я только знал…
Похороны состоялись на следующее утро, и на них явились почти все обитатели санатория. Катрин лежала в гробу во всем белом, как невеста. А вокруг были цветы, цветы, цветы. Море цветов, в котором почти тонуло бледное лицо умершей.
От их аромата и запаха ладана у Амалии немного кружилась голова. Эдит плакала, Мэтью стоял как окаменелый, и, лишь когда стали прощаться, его горе прорвалось, затопило несчастного целиком – англичанина долго не могли отвести от гроба, он все шептал что-то по-английски, и лицо у него было безумное, совершенно потерянное. И Амалии сделалось немного не по себе оттого, что остальные находятся здесь со своим показным, в сущности, сочувствием, в то время как молодой человек горюет по-настоящему, неподдельно. И еще баронесса поймала себя на том, что ей хочется, чтобы все поскорее кончилось.
Но все и впрямь кончилось. Могилу на самом красивом участке кладбища, за который, не скупясь, заплатил Уилмингтон, засыпали землей, и все потянулись обратно в санаторий. Шарль де Вермон подошел к Амалии. Ему казалось, что со вчерашнего дня она общается с ним чуть холоднее, чем прежде, но это было неправдой. Даже при всем желании она не могла заставить себя сердиться на него.
– Что-то я отвык от похорон… – Шевалье старался говорить беззаботно, но лицо у него было бледное, напряженное. – Тело мадам Карнавале забрал ее племянник, Ипполито Маркези тоже увезли хоронить на родину… и только малышка Катрин осталась здесь. Красивое ей досталось место. Скоро где-то поблизости будет и моя могила.
Офицер закашлялся. Амалия взяла его под руку и повела за собой. Она прекрасно понимала его состояние и знала, что никакие слова не смогут ему помочь.
– Странно, что она так выглядела, – внезапно промолвил Шарль, когда кладбище осталось позади.
– Выглядела как? – озадаченно переспросила Амалия.
– Вы ничего не заметили?
Но у нее кружилась голова, и ей было не до того, как выглядела усопшая. Шарль посмотрел на баронессу и улыбнулся.
– Глупости я говорю, – объявил он. – Просто глупости. Уилмингтон шатается от горя, а я почему-то уверен, что через полгода англичанин женится. Природа не терпит пустоты, или что-то вроде того. Если я не умру, то буду одним из самых богатых людей в Ницце, но ведь я же знаю, что умру. Скажите, вы не выйдете за меня замуж?
Вопрос прозвучал так неожиданно, так нелепо, что у Амалии даже перестала болеть голова.
– Шарль, я… Я не могу.
– Почему? По-моему, отличная мысль. Во всяком случае, я недолго буду вас стеснять. Мы даже не успеем хорошенько надоесть друг другу. Идеальный брак, я бы сказал. А после моей смерти вы станете очень богаты. Нет, я знаю, что вы и так богаты, но деньги никогда не бывают лишними. Ну так как?
Шевалье улыбался, бросал на нее влюбленные взгляды, и Амалия растерялась, что бывало с ней нечасто. Однако она попыталась свести все к шутке:
– Шарль, ну право… Во-первых, я уже была замужем.
– И очень хорошо, – объявил офицер. – Не помню, говорил ли я вам, но неопытные девицы всегда внушали мне непреодолимое отвращение.
– Во-вторых, у меня скверный характер.
– У меня еще хуже. Положительно, мы созданы друг для друга.
Амалия остановилась. Все-таки ему удалось ее рассердить.
– Зачем это вам? – спросила она, глядя ему в глаза.
– Затем, что я вас люблю, – ответил офицер. – И затем, что мне хотелось бы, чтобы вы были рядом, когда я буду умирать. В смерти среди чужих людей есть что-то донельзя гадкое. Вот видите, я совершенно с вами откровенен.
Баронесса вздохнула и обратила взор на небо, по которому бежали легкие белые облака.
– Хорошо, – кивнула она, – обещаю, я буду с вами рядом, когда настанет час. Но что касается всего остального… – Амалия покачала головой.
– Понимаю, – вздохнул офицер. – Один неудачный брак отбивает всякую охоту повторять опыт.
Показалось ли ему или его спутница и в самом деле слегка изменилась в лице?
– Мой брак был очень счастливым, – возразила Амалия. – До тех пор, пока не ушла любовь. А я не могу оставаться рядом с человеком, которого больше не люблю. Сколько книг написано про рождение любви, но мало кто говорит о ее смерти. А ведь она вспыхивает в одно мгновение… и умирает тоже в одно мгновение, – добавила баронесса словно про себя. – Идемте, Шарль. Становится слишком ветрено.
В санатории было тихо и пустынно, и только по коридору слонялась давно знакомая Амалии серая кошка. Когда баронесса зашла к себе, кошка вбежала следом за ней, и молодая женщина не стала ее прогонять.
Она села в кресло, достала письма Аннабелл Адамс и вновь просмотрела те, в которых говорилось о ловком убийце. Амалия уже разговаривала с мадам Легран, и та заверила ее, что никто из обитателей санатория не получал наследства ни от какой кузины. Так как слуга Анри подтвердил слова сиделки, получалось, что расследование вновь зашло в тупик.
«Но ведь убийца сбыл кольцо бедняжки Аннабелл именно в Ницце… Значит, он действительно живет где-то здесь. Возможно, человек просто заезжал к Гийоме посоветоваться насчет легких… доктор же постоянно принимает в кабинете больных, помимо тех, кто живет в санатории… – И ее мысли незаметно потекли другим чередом. – Бедный Шарль… Интересно, что поделывает сейчас Рудольф? О Ла Палиссе я ему ничего не скажу, иначе он начнет думать бог весть что… И что за офицер в штатском бродит возле дома?»
Приняв какое-то решение, она поднялась, чем потревожила кошку, которая удобно устроилась возле ее ног, и убрала письма в ящик стола. Для начала необходимо прояснить один момент…
Доктор Гийоме изучал карту Эдит Лоуренс, состояние которой его беспокоило. То она казалась совершенно здоровой, то ее платки были красными от крови. Поэтому он сказал госпоже баронессе, что согласен уделить ей лишь несколько минут.
– Если вас беспокоит ваше здоровье, сударыня…
Но сударыня пришла сюда совершенно по другому поводу.
– Я полагаю, доктор, – произнесла она с самой очаровательной улыбкой, – вам уже известно, кому именно вы обязаны своим скорым освобождением.
– Да, – подтвердил Гийоме, – и, смею заверить, моя благодарность не знает границ.
– Услуга за услугу, – промолвила Амалия. – Мне хотелось бы узнать кое-что об одном человеке, который недавно покинул санаторий.
– О мадам Ревейер? – быстро спросил доктор.
Амалия покачала головой:
– Об Анн-Мари Карнавале. А также о той Анн-Мари, что была похоронена на кладбище города Антиб в 1850 году. Вы же знали ее, доктор, не так ли? Так же, как и некую Луизу Дюбрей.
Доктор Гийоме не умел притворяться, и чувства, которые промелькнули на его лице, едва Амалия назвала эти имена, вернее всех слов показали баронессе, что она находится на правильном пути.
– Должен признаться, сударыня, у меня дела…
Но Амалия никогда не позволила бы отделаться от себя столь примитивным способом.
– Что ж, значит, дела подождут. Итак?
– Мне ничего не известно ни о какой Дюбрей и ни о какой Анн-Мари, – раздраженно проговорил доктор Гийоме. – Не знаю, почему вы назвали их имена, но…
– Ее отец был маркиз Карнавон, – перебила его Амалия. – Она была незаконнорожденная, как и вы. И, очевидно, оба вы находились на воспитании у мадам Дюбрей, которая охотно занималась такого рода делами. – Гийоме смотрел на баронессу не отрываясь, и в его взгляде можно было прочесть что угодно, кроме симпатии. – Потом девочка умерла. А через много лет к вам в санаторий явилась некая особа, которая вовсе не страдала легкими. Но каким-то образом она заставила вас дать ей комнату, которая находится рядом с комнатой шевалье де Вермона. Кроме того, месье, вы дали ей имя, чтобы окружающие считали ее француженкой. Почему именно это имя? Почему Анн-Мари Карнавале?
Гийоме поднялся с места, обошел стол и выглянул за дверь. Потом вернулся, сел и долго молчал.
– Я знал, что появление старухи не к добру, – наконец бросил он с ожесточением. – Но если вы считаете, что это я убил ее, то вы заблуждаетесь.
– Вы ее не убивали, – спокойно промолвила Амалия.
– Тогда в чем же вы меня пытаетесь обвинить, сударыня? Должен признаться, я не понимаю вас.
– Вы знали, что она следила за шевалье де Вермоном? Ну конечно же, догадались, когда она потребовала поселить ее с ним рядом. И вы молчали, хотя видели, что она далеко не столь безобидна, как кажется. Но почему такой человек, как вы, мог пойти у нее на поводу? Она чем-то запугала вас?
– Откуда вы знаете, что именно она у меня потребовала? – сердито спросил Гийоме.
– Потому что старая дама должна была потребовать именно это, – ответила Амалия. – И, конечно же, вы должны были делать вид, что считаете ее не слишком здоровой. Ведь ей во что бы то ни стало надо было остаться в санатории, пока… пока не произойдет одно событие.
В комнате наступило напряженное молчание.
– Мадам пришла ко мне на осмотр, – наконец начал рассказывать Гийоме, – и уверяла, что у нее проблемы с легкими, что она когда-то болела туберкулезом. Все это было вздором, я осмотрел ее и заявил, что ей нечего здесь делать. Она хотела мне заплатить, чтобы остаться в санатории, но я отказал. У меня и так достаточно больных, которые должны находиться под моим постоянным наблюдением.
– А что было дальше?
– Дальше? – Гийоме тяжело вздохнул. – Мне пришлось уступить, потому что она знала мою тайну и угрожала ее раскрыть. Вот, собственно, и все.
– Тайну того, что вы незаконнорожденный? – спросила Амалия мягко. – Не обижайтесь, месье, но в наше время такими вещами мало кого можно шокировать.
Доктор поднял голову. Он сидел спиной к свету, и глаза его в тот миг казались двумя черными провалами на лице.
– Вот как? А если бы я сказал вам, что моя мать была кокотка, содержанка, женщина легкого поведения и что она умерла от чахотки, когда мне было всего десять лет? Интересно, как бы тогда вы отреагировали, сударыня? И что бы стали говорить все люди, которые лечатся у меня… которые работают со мной и уверены, что я… что я… – доктор был так взвинчен, что не смог закончить фразу.
– Приличный человек? – договорила за него Амалия.
– Да, сударыня. Вот вы – что бы вы сделали, если бы вам сообщили такое о вашем лечащем враче?
– Видите ли, – очень просто произнесла Амалия, – я придерживаюсь той точки зрения, что дети ни в коей мере не отвечают за своих родителей.
– И вы бы просто прошли мимо данного факта?
– Да, хотя он помог бы мне понять, почему вы стали врачом, который специализируется именно на чахотке и легочных болезнях. Но на мое отношение к вам и на то уважение, которое я к вам питаю, подобные сведения никак бы не повлияли.
Гийоме обескураженно покосился на свою пациентку.
– Большинство людей, госпожа баронесса, устроены совсем иначе, – наконец буркнул он. – И они бы мне не простили столь позорного момента моей биографии. Поэтому я пустил сюда старую даму и дал ей комнату, которую она требовала. Впрочем, в ту пору рядом с Шарлем все равно была одна пустая комната, потому что предыдущий жилец ее незадолго до того умер.
«Ага, – подумала Амалия, – и в этом случае примета оказалась верной… Хотя мадам Карнавале умерла вовсе не от чахотки, которой никогда, впрочем, не болела».
– Но почему вы назвали ее мадам Карнавале из Антиба?
Доктор усмехнулся.
– О, сударыня, это длинная история. Когда я воспитывался у Луизы Дюбрей, – Гийоме едва заметно поморщился, – там были самые разные дети. Бедняков не было – мадам Дюбрей брала за услуги недешево, так что попадались дети богемы, побочные отпрыски богачей и аристократов. Меня они дружно презирали и травили, потому что моя мать… Она изредка приезжала ко мне, и все всё про нее знали, потому что муж мадам Дюбрей не умел держать язык за зубами. Жена скверно с ним обращалась, он пил… Впрочем, это к делу не относится. А что касается Анн-Мари Карнавале… – Рассказчик дернул щекой. – Девочка была самой гнусной, самой отвратительной, самой мерзкой из них всех. Она постоянно надо мной издевалась и хвасталась, что ее отец – настоящий маркиз, а мой… мой неизвестно кто. Другие относились бы ко мне гораздо лучше, если бы не Анн-Мари, да, в общем, когда она умерла, я и впрямь стал ладить с остальными детьми. Но ее я запомнил, да… Запомнил на всю жизнь. Поэтому, когда старуха шипела здесь, в кабинете, сидя на том же месте, где сейчас сидите вы, что она уничтожит меня, раздавит, если я не сделаю так, как она велит, – я сразу же вспомнил Анн-Мари. И когда мадам потребовала, чтобы я непременно представил ее под другим именем, дал ей имя своей давней мучительницы. Они обе были одной породы, понимаете?
– Понимаю, – кивнула Амалия. – Теперь понимаю. Можно вопрос? От чего умерла Анн-Мари?
– От кори, – удивленно ответил доктор Гийоме. – Всего лишь от кори. А вы решили, наверное, что я ее убил? Напрасно.
– А настоящую фамилию старой дамы вы помните?
– Честно говоря, не запомнил. Слишком сложная фамилия, не то богемская, не то австрийская. Кончается на «ски», кажется. Она не хотела, чтобы в санатории знали, что она иностранка, вот я ее и вписал под именем, которое вы знаете. А что, письмо, которое пропало у шевалье де Вермона, и впрямь было так важно?
– Кажется, да. – Амалия поднялась с места. – Но нам даже неизвестно, что было в том письме… Благодарю за откровенность, доктор, и смею вас заверить, что все, что вы мне сказали, останется между нами.
– Я был бы весьма признателен, – проворчал Гийоме. По его лицу было заметно, что он уже остыл и жалеет о своей откровенности.
Амалия дошла до двери и обернулась:
– Кстати, месье, по поводу разоблачений. Не знаю, что бы сказали пациенты или педантичный месье Севенн, но почему-то мне кажется, что мадам Легран никогда бы от вас не отвернулась, что бы ни говорили о ваших родителях. Это так, месье Гийоме, к слову. Всего доброго.
И, поставив эффектную точку в тяжелом, но, безусловно, нужном и полезном разговоре, баронесса выскользнула из комнаты.
Глава 30
Маленькая зеленая ящерица сидела на круглом камне и блаженствовала, греясь на солнце. Неожиданно на камень надвинулась чья-то тень, и ящерица, с невероятной быстротой скользнув на землю, забилась в какую-то щель.
Натали обиженно покосилась на камень, словно он был виноват в том, что красивая юркая ящерица не пожелала позировать для рисунка и самым глупейшим образом куда-то удрала. Однако делать было нечего. Художница вернулась на место и стала набрасывать в альбоме ближайшее дерево. В дереве не было ровным счетом ничего примечательного, но ведь надо же было занять себя чем-то до появления поэта. А Нередин, как назло, заперся у себя в комнате и работал.
К Натали подошел доктор Шатогерен и справился, как она себя чувствует. Получив ответ, хмуро кивнул, пощупал у художницы пульс, посоветовал ей поменьше сидеть на солнцепеке и удалился.
«Еще один, – неприязненно подумала Натали, – который считает себя бог весть какой важной персоной». Она зачеркнула рисунок, который совершенно не получился, перевернула страницу и стала рисовать клумбу с цветами.
Прошло около четверти часа, и за воротами обозначилось движение. С одной стороны к ним подъехала карета с гербом графа Эстергази на дверцах, а с другой показался плечистый и довольно молодой человек, светловолосый и светлоглазый. Впрочем, физиономия у него, как отметила зоркая художница, была довольно-таки траурная.
Блондин вошел в сад, едва не столкнувшись с типом, который как раз вылезал из кареты. Тип – рыжий, как морковка, и примерно такой же невзрачный – смерил плечистого весьма неприязненным взглядом и сквозь зубы пробурчал нечто, что даже издали не смахивало на извинение. Поневоле Натали почувствовала себя заинтригованной, тем более что к тому времени успела уже узнать плечистого. Он был тем самым господином, которого баронесса Корф (та еще штучка, надо сказать) представляла в санатории как своего кузена, хотя гость походил на нее не более, чем зеленая ящерица с камня.
…Кузен Рудольф собирался войти в дом, но тут в саду показалась кузина Амалия, за которой следовала серая кошка. Как и все кошки, она очень умело делала вид, что вышла погулять сама по себе, и равнодушным взглядом проводила рыжего, которому Ален открыл дверь.
– У меня плохие новости, кузина, – объявил Рудольф мрачно. – Очень плохие.
Амалия сказала, что готова его выслушать, и оба медленно зашагали по дорожке в направлении Натали.
– Селени убит, – проговорил Рудольф. – Утром его труп выудили из моря рыбаки. Вы, конечно, непричастны.
– Нет, – просто ответила Амалия. – Как именно его убили?
– Задушили, судя по всему. Впрочем, полицейский врач еще не сказал своего слова. Вскрытие будет только завтра.
– Как это могло произойти? – спросила Амалия. – Он не производил на меня впечатления человека, которого можно застичь врасплох.
Рудольф пожал плечами:
– Мы знаем, что ночью ему принесли записку, после чего он оделся и ушел. Больше его никто не видел. Вероятно, барон пошел на какую-то встречу, и тот, кто выманил Селени запиской, сумел его убить. Братья Хофнер в ярости, а об Эстергази нечего и говорить. И самое скверное, он до сих пор не желает открыть мне, что именно было в том письме.
Кошка застыла на месте, сосредоточившись на большой блестящей стрекозе, которая зависла в воздухе над кустом. Амалия тоже остановилась. Рудольф молчал, хмуро поглядывая на нее.
– Все? – осведомилась молодая женщина.
– Почти, – ответил Рудольф. – Дело в том, что слуга в гостинице вспомнил кое-что еще. Похоже, записка была от дамы. Так сказал посыльный, который ее принес.
– Что за посыльный? – быстро спросила Амалия.
– Слуга не запомнил. Обыкновенный малый, по его словам. Да и не в посыльном дело, кузина, а в том, что все скверно. Если записка была от вас…
– Я не писала барону никаких записок, – холодно перебила графа Амалия.
– Хорошо, – согласился Рудольф, – но если бы она была от вас, это объясняло бы, по крайней мере, его торопливость. Допустим, он думал, что идет на свидание с вами и что вы согласны отдать ему письмо.
– Однако у меня нет письма! – Амалия начала сердиться. – И я не писала барону записок и не отправляла их с посыльным.
– Верю, – тотчас же объявил самый лучший, самый покладистый из кузенов, не переставая зорко наблюдать за своей собеседницей. – А как ваши успехи? Удалось вам узнать что-нибудь?
– Да, например, то, почему шпионка Селени носила имя Карнавале, но нам это ничего не дает.
И вслед за тем Амалия вкратце пересказала то, что узнала от Гийоме, умолчав о его матери и сказав лишь, что шпионка угрожала разоблачить его перед его пациентами как незаконнорожденного.
Шарль де Вермон выглянул в окно и увидел Натали, которая, устроившись на самом солнцепеке, рисовала не то пейзаж, не то натюрморт, а неподалеку от нее беседующих Амалию и бывшего пленника виконта де Шатогерена. Недобрым словом помянув про себя последнего за то, что он когда-то оставил немца в живых, шевалье вышел из комнаты и направился к лестнице, но в коридоре столкнулся с русским поэтом, который о чем-то спорил с невысоким рыжим господином. Глаза у господина были холодные и прищуренные, и взгляд их Шарлю сразу же безотчетно не понравился.
– И тем не менее вы ответите отказом на предложение Ее величества, – закончил фразу рыжий. В его французской речи был заметен довольно сильный акцент, похожий на немецкий. – Вы заняты, больны и не можете прийти.
– С какой стати? – вскинулся Нередин. – Если Ее величество приглашает меня… – Он оглянулся на Шарля и запнулся.
– Боюсь, сударь, – скучающим тоном промолвил рыжий, – вы не понимаете. Вас не хотят видеть на вилле. И вам совершенно нечего там делать.
– Если королева послала мне приглашение, то можете не беспокоиться, я там буду, – отрезал поэт.
Он повернулся, чтобы уйти к себе, но рыжий схватил его за локоть, и тут уж шевалье не стерпел.
– Какие манеры, месье, какие манеры! – насмешливо проговорил Шарль де Вермон.
Рыжий оглянулся, и на лице его мелькнула совершенно отчетливая злоба.
– А вы лучше идите своей дорогой, господин живой труп, – холодно заявил он. – Вас наш разговор совершенно не касается!
– Еще как касается, – ответил шевалье. И в следующее мгновение с размаху влепил рыжему пощечину.
…Зеленая ящерица, улучив момент, вновь вылезла на камень погреться, но ей не было суждено насладиться солнечными лучами. Сад наполнился шумом, возмущенными возгласами, толкотней и прочей чепухой, на которую так горазды люди. Ящерица заметалась и наконец, от греха подальше, юркнула в высокую траву. Там она съела пару кузнечиков, чтобы успокоиться, и стала ждать, когда же неповоротливые двуногие чудовища утихомирятся и уйдут.
– Меня зовут Карел Хофнер, и я научу вас уважать мое имя, хоть бы вы одной ногой стояли в могиле! – орал рыжий.
– Даже стоя в ней двумя ногами, я все равно не буду вас уважать! – парировал Шарль. – Драться так драться!
– Вот и отлично!
– Черт возьми, что тут происходит, Карел? – вмешался Рудольф.
– Я вызвал его на дуэль, – откликнулся рыжий.
– Но вам нельзя стреляться без разрешения… – попробовал вернуть его на землю немецкий агент.
– Плевать я хотел на все идиотские правила, – огрызнулся Карел по-немецки. – Будете моим секундантом? Вторым будет мой брат.
– Господа, это никуда не годится! – попробовал урезонить противников Нередин.
Но ни один из мужчин даже не обратил на него внимания.
– В чем дело, Шарль? – обратилась Амалия к офицеру. Однако Алексей опередил шевалье и в двух словах рассказал о том, что получил приглашение на ужин от королевы… то есть от графини Эстергази, но посыльный как-то странно себя вел и пытался чуть ли не запретить ему являться на виллу. Шарль проходил мимо, его разговор не касался, но он все же вмешался и поссорился с посыльным, следствием чего и будет дуэль.
– Значит, вы согласны быть моим секундантом? – спросил Карел у Рудольфа. – Не забывайте, мы с вами в одной лодке!
Досадуя на то, что эта безобразная сцена произошла на глазах Амалии, Рудольф нехотя кивнул. Карел Хофнер усмехнулся.
– Я так и знал, что могу на вас положиться, герр фон Лихтенштейн, – уронил он.
Шарль де Вермон меж тем попросил Нередина быть его секундантом, и поэт неожиданно для себя согласился. Он не любил дуэли (более всего из-за того, что на двух из них погибли два лучших русских поэта), но ему очень хотелось увидеть, как будет вести себя под дулом пистолета рыжий нахал. Служба в армии наглядно показала Алексею, что тот, кто в жизни без особой причины то и дело демонстрирует силу и уверенность, тотчас же тушуется и теряется, как только становится по-настоящему жарко.
– Нам нужен еще один секундант и доктор, – объявил Карел Хофнер.
Амалия посмотрела на Шарля и покачала головой. Ее не покидала мысль, что, справоцировав дуэль, шевалье ищет легкой смерти и что все происходящее – не более чем нелепое представление для соблюдения приличий. Но она не могла осуждать его, потому что это была его жизнь и он был вправе распорядиться ею так, как считал нужным.
Меж тем в сад, привлеченные скандалом, стекались все новые и новые люди. И Натали, прижимая к груди альбом, с возмущением рассказывала им, что произошло, однако они реагировали вовсе не так, как девушка рассчитывала. Утренние похороны произвели на пациентов санатория гнетущее впечатление, и теперь они были рады отвлечься хоть таким образом. Кое-кто уже вспомнил, что шевалье де Вермон в Африке был отличным стрелком и, если уж на то пошло, мог постоять за себя. Сам Шарль в тот миг как раз просил одного из знакомых по санаторию быть его секундантом, однако почтенный месье Менье огорошил его, заявив, что никогда не имел дела с дуэлями и понятия не имеет, с чем их едят. Неожиданно стоявший неподалеку Мэтью Уилмингтон, который не принимал участия в разговоре, решительно тряхнул головой.
– Я буду вашим секундантом, сэр, – объявил он.
Шарль, немного удивленный, пожал ему руку. Доктор Севенн, присутствовавший при этой сцене, с возмущением вмешался. Он не позволит! Доктор Гийоме наверняка будет против! Что еще за ребяческие затеи?
– Не беспокойтесь, доктор, – сказал ему Шарль весело. – Если меня убьют, обещаю, я не потребую назад деньги за оставшийся курс лечения, – добавил он под общий смех всех больных. – Кстати, нам нужен врач. Как насчет того, чтобы к нам присоединиться?
Севенн всплеснул руками и бросился к Шатогерену, который только что показался в саду. Амалия взяла кошку на руки и стала смотреть, как Севенн, бурно жестикулируя, описывает коллеге смертоубийственную затею их пациента. Дуэль в санатории, подумать только! Мало им несчастного случая, и убийства, и попытки самоубийства, и…
Однако в беседу врачей самым неучтивым образом вмешался Карел Хофнер.
– Кажется, завтра вы собирались ехать к графине Эстергази? – обратился он к Рене. – Имею честь сообщить вам, что ваши услуги более не понадобятся.
– В самом деле? – равнодушно отозвался Шатогерен. – Должен сказать, сударь, ваше лицо мне несколько напоминает тамошнего привратника. Хотя для привратника вы очень смело судите о том, кому нужен врач, а кому нет.
– К госпоже графине едет из Праги настоящий специалист, доктор Брюкнер, который лечит всю ее семью. Так что вам нечего делать на вилле, господин виконт, – злобно сказал Хофнер, побагровев. И тут же не удержался от того, чтобы еще больнее уколоть собеседника: – Можете не сомневаться, за остальные визиты вам тоже заплатят.
Шатогерен вздохнул и обернулся к Шарлю:
– Шевалье, как я понимаю, вам нужен доктор? Я к вашим услугам. Очень хочется увидеть, как вы прикончите этого господина. Хоть я и республиканец, но некоторые привратники определенно действуют мне на нервы.
– Ну-ну, хватит! – грубо оборвал его Хофнер. – А насчет прикончить… Герр фон Лихтенштейн может вам подтвердить, что в Богемии я считаюсь одним из лучших стрелков. На месте шевалье я бы писал завещание.
– Но вы не на его месте, – возразил, вступая в милую беседу, Мэтью Уилмингтон.
– И благодарю за то бога, – с вызовом парировал богемец. – Надеюсь, господа секунданты, вы договоритесь быстро. У меня и помимо дуэли хватает дел!
Он кивнул Рудольфу, бросил уничтожающий взгляд на Амалию и двинулся к карете, по пути пиная ногами мелкие камешки на дорожке.
– Шарль, зачем все это? – подошла к Шевалье Амалия, когда больные разбрелись, обсуждая новость о предстоящей дуэли.
Тот непонимающе взглянул на нее.
– Как – зачем, госпожа баронесса? Я дал ему пощечину, и он вызвал меня на дуэль. Я не могу не драться.
Он улыбался и казался совершенно уверенным в себе, как будто ему предстояла приятная прогулка. Однако Амалию не покидало странное ощущение, что она могла сделать что-то, но не сделала. Будь она понаивней и хуже знай жизнь (и людей), она бы стала горячо отговаривать Шарля от дуэли; но для такой, какой она была, начинать подобный разговор не имело смысла. Амалия знала, что молодой офицер обречен, и Шарль тоже знал; и оба понимали, что никакие деньги на свете, никакое наследство дяди Грегуара ничего не изменит. Де Вермон был приговорен, и если дуэлью он рассчитывал свой приговор приблизить – что ж, баронесса была не вправе осуждать его. И все же ее сердило, что шевалье падет именно от руки Карела Хофнера, который – как она знала – был мерзавцем, и притом мерзавцем опасным.
– Я приду к вам сегодня со вторым секундантом, – обратился Рудольф фон Лихтейнштейн к Мэтью и Нередину. – Его зовут Альберт Хофнер, он богемский дворянин. Полагаю, мы быстро сумеем прийти к согласию.
У всех них в то мгновение был особенный, немного заговорщицкий вид, столь характерный для мужчин, которые обсуждают Очень Важную Проблему, и Амалия рассердилась. Сама она не могла заставить себя воспринимать всерьез дуэль умирающего и одного из первых стрелков Богемии. И, хотя баронесса старалась скрыть это даже от себя самой, на душе у нее было неспокойно.
Глава 31
Несмотря на весьма недвусмысленное предупреждение Карела Хофнера, вечером Алексей все равно отправился в Ниццу и без десяти минут шесть уже был у ворот виллы, носившей весьма поэтическое название «Грезы». Хмурый привратник – на сей раз им оказался не Хофнер и даже не его брат Альберт – впустил Нередина и пригласил следовать за собой.
«Интересно, что я чувствую?» – размышлял поэт, идя по саду. Он повертел головой, но заметил только вольготно раскинувшиеся кусты, яркие цветы и какую-то зелень вроде плюща, которая оплетала высокие стены. Однако Алексей всегда был равнодушен к той части природы, которой занималась ботаника; он не помнил ни названий цветов, ни других растений, и красивый сад показался ему лишь мешаниной пестрых пятен. С моря, вкрадчиво рокотавшего где-то вдали, наползал сырой туман, пахнувший водорослями и русалками. И Алексей подумал, что сырость при его болезни вредна и что женщина, которая живет на вилле, должна была отменно скучать, видя вокруг себя изо дня в день одни и те же лица. Пожалуй, он был чуточку заинтригован неожиданным приглашением, но в глубине его души жили два человека: один – поэтический и легко загорающийся, пылкий и чувствительный, а другой – тот самый неистребимый поручик, основательный, здравомыслящий малый, которого никто и ничто на свете не могло сбить с толку. И в то время как поэт восторженно предвкушал встречу с интересной, начитанной женщиной, поручик, позевывая, твердил ему, что она наверняка увлеклась поэзией от скуки, от пустоты своей царственной жизни, а на самом деле понимает в стихах столько же, сколько все салонные барыньки, которые в свете выглядят такими утонченными, а дома, не обинуясь, бьют горничных по щекам и визгливо спорят с кухарками из-за копеечных покупок. «А впрочем, – усмехнулся Нередин, – какая разница? Вечер с королевой Елизаветой все равно стоит любого другого». Да и, по совести говоря, сколько встречалось людей, которые смотрели бы на поэзию так, как он сам?
Слуга уже открывал перед ним дверь.
Алексей миновал анфиладу полутемных комнат, в которых стояли печальные кресла, закрытые чехлами, и высокие резные шкафы. Почти вся мебель имела вид унылый и заброшенный, как дряхлая-предряхлая семья, которая давно уже ни от кого не получает вестей и сама не знает, зачем еще живет на белом свете. Чувствовалось отсутствие заботливой хозяйской руки, кого-то, кому этот дом и вправду был нужен, кто мог бы искренне любоваться скверными картинами на стенах или уютно расположиться в кресле с трубочкой у камина. «И все-то я фантазирую, – подумал поэт, на мгновение вновь превращаясь в поручика. – Мебель как мебель, и комнаты как комнаты. Мало ли на свете домов и вещей, которые никому не нужны?»
Часы с натугой начали бить шесть, когда слуга ввел Алексея в гостиную, где находилась фрейлина, которую он уже видел раньше возле королевы. Вид у почтенной дамы был холодный, если не сказать враждебный. По ее манерам чувствовалось, что она не слишком ценит любых поэтов и ставит их едва ли выше лакеев. Придворная дама сухо сообщила Алексею, что Ее величество Елизавета Богемская скоро будет и что пунктуальность месье Нередина, которая столь нехарактерна для молодого поколения, делает ему честь.
– Я никогда не опаздываю на встречи с королевами, – попробовал пошутить Нередин, но по взору дамы (который теперь прямо-таки источал ледяное презрение) он понял, что шутка вышла неудачной.
Внезапно Алексею все наскучило, он уже и сам не понимал, зачем вообще пришел сюда. Но вот двери растворились, и вошла королева. Сейчас она была в голубом платье, и в ее темных волосах, как и прежде, заблудились бриллиантовые бабочки. Елизавета протянула Нередину руку, и тот, смутившись, все же нашел в себе силы ее поцеловать. Ладонь была сухая и теплая. Он заметил лишь одно кольцо – с большим изумрудом – и вспомнил, что королева любит только аквамарины. Вблизи было заметно, что одна бровь у Ее величества чуть выше другой, но Алексею показалось, что эта асимметрия только красит лицо Елизаветы, добавляя ей шарма. «Кажется, я уже начинаю думать, как Шарль», – мелькнуло в голове у поэта. Он ни за что на свете не хотел быть невежливым с царственной дамой, даже в мыслях.
– А я опасалась, что вы не придете, – заговорила королева. – Ваш доктор Гийоме – очень суровый человек, я не знала, отпустит ли он вас.
Нередин ответил в том духе, что никакой Гийоме не смог бы его удержать, когда он получил приглашение от государыни, и даже стихийное бедствие не повлияло бы на его решение прийти сюда. «Боже, что за пошлости я несу!» – в смятении подумал он; но Елизавета уже пригласила его сесть. Фрейлина (оказавшаяся герцогиней Пражской) отступила к стенным часам и сделала попытку притвориться, что ее тут нет.
– Ступайте, Елена, – распорядилась Елизавета. – Вы мне больше не нужны.
Спокойный, твердый тон этих слов оказал на Нередина странное впечатление; во всяком случае, ни за что на свете он бы не хотел, чтобы с ним самим так разговаривали. Но герцогиня, очевидно, привыкла к королевским капризам. Она лишь метнула на Алексея неприязненный взгляд и вышла, треща накрахмаленными юбками.
– Вы знаете, зачем я вас позвала? – спросила Елизавета.
– Да, Ваше величество, – ответил поэт. – Вы написали, что хотели бы побольше узнать о поэзии моей страны, потому что раньше вам мало с кем приходилось говорить о ней.
Королева кивнула:
– Вы должны извинить мое невежество, месье Нередин. Боюсь, вам придется начать с самого начала. Наверное, очень утомительное занятие – объяснять то, что другие и так должны знать, но, верите ли, я раньше почти не встречала русских стихов.
– О да, – подтвердил Алексей, – наша литература еще очень молода, и наши писатели пока недостаточно знамениты в Европе. Хотя граф Толстой, по-моему, уже заставил говорить о себе, да и Тургенев, живя во Франции, привлек интерес к русской литературе. Но то прозаики, а проза менее зависима от языка, на котором она написана. Что же до поэзии, то тут все гораздо сложнее.
И он заговорил о Пушкине, создателе великой русской поэзии, солнечном, восхитительном, неподражаемом Пушкине, о байроническом Лермонтове, чья жизнь оборвалась так рано, о баснописце Крылове, рассудительном Тютчеве, Некрасове, Фете, своих современниках… Алексей принес с собой несколько книг и, раскрыв их, стал переводить на французский стихотворения, которые ему самому особенно нравились. Тема была ему бесконечно близка и дорога, его щеки раскраснелись, глаза горели. О поэзии он мог говорить часами, если попадался благодарный слушатель; а Елизавета, по-видимому, была как раз таким слушателем.
– Вы все время говорите про Пушкина, про то, что он дал вашей поэзии столько, сколько не дал никто другой, – заметила она. – Но разве до Пушкина у вас не было поэтов?
Нередин улыбнулся.
– О да, Ваше величество, были, но все они оказались в его тени и теперь интересны разве что самым упорным историкам литературы… Тредиаковский, Державин, даже Ломоносов – нет, они были хороши, но хороши лишь для своего времени, и в нем они и остались. Даже Жуковский, хоть его и ошибочно считают учителем Пушкина, вряд ли будет интересен грядущим поколениям, это уже сейчас заметно…
– Почему ошибочно считают? Ведь вы упоминали, что он дружил с великим поэтом и покровительствовал ему…
– Это так, Ваше величество, – отозвался Нередин, – но на самом деле влияние Жуковского на Пушкина сильно преувеличено. Достаточно почитать их стихи, чтобы увидеть, насколько разные они поэты.
И он объяснил, что Жуковский отталкивался главным образом от идей немецкого романтизма, а Пушкин вбирал в себя все лучшее, что находил в любом литературном течении. В конце жизни Пушкин ближе всего стоял к реализму, но то был вовсе не конец его творческого пути, и остается только гадать, что он мог бы, но не успел написать, когда преждевременная смерть оборвала его полет.
Елизавета вздохнула.
– Да, что-то есть противоестественное в любой преждевременной смерти, – промолвила она.
– Но он предвидел свой конец, – добавил Нередин, волнуясь. – Его стихи о памятнике на самом деле очень страшные стихи, и вовсе не потому, что они – его завещание. Ведь памятники ставят лишь тем, кого больше с нами нет. И Пушкин написал стихотворение, потому что понимал: он обречен. Понимал – и все же наверняка надеялся, что ошибается и все как-то обойдется. Человек никогда до конца не верит в дурное, даже если оно непреложно вытекает из всего хода событий.
Алексею показалось, что пауза затянулась, и он оглянулся на Елизавету. Королева застыла в кресле, но ее глаза были сухи.
– Почему-то мне кажется, что вы пишете очень хорошие стихи, – внезапно сказала она. – Вы так хорошо понимаете людей… – И без перехода: – Прочитайте мне что-нибудь из вашего. Все, что сочтете нужным.
Нередин предпочел бы и дальше говорить о Пушкине – как уже упоминалось прежде, он с большой неохотой читал свои произведения. Но спорить с королевой не представлялось возможным, и он, подумав немного, начал с одного из самых знаменитых своих стихотворений:
– Quand tu es assise la nuit près de la cheminée et tu te rappelles les amis qui ne sont plus de ce monde, qui parmi eux, invisible, remue le plus souvent le cendre de souvenirs?[20]
Елизавета резко выпрямилась и дослушала стихотворение до конца. Однако, едва умолкнув, он сразу же заметил на ее лице легкое разочарование.
– О-о, – протянула она с неопределенной улыбкой. – Все поэты пишут о любви.
Тон ее показался ему… не то чтобы невежливым, но неприятным. И поэт Нередин, живший в его душе, и поручик Нередин, обитавший там же, в одном сходились безусловно: оба были дьявольски горды. Преодолев секундное раздражение, Алексей начал переводить другие свои стихи, которые многие находили малопоэтичными, а кое-кто так вообще возмутительными, но которые зато восхищали поголовно всю прогрессивно настроенную интеллигенцию:
Все забыть, раствориться в покое Величавом, принять и простить Плач детей, безутешное горе И отчаянье крайней черты, Ни на небо, ни на власть земную В безысходности злой не роптать И с каким-то кривым равнодушьем Обращать вбок приученный взгляд, Не жалеть, не любить ненароком, Лицемерие выпить до дна… Так в час вечера одинокий Говорила со мной тишина.Разумеется, вовсе не такие стихи должны были прийтись по вкусу просвещенной европейской государыне, и если ей не нравились стихи о любви, то эти должны были понравиться еще меньше. Однако по лицу слушательницы Алексей увидел, что та взволнована. Он совсем забыл, что в стихах каждый вычитывает лишь то, что близко лично ему, и что одни и те же строки, прочитанные наивной цветочницей, образованной дамой и пресыщенным поэзией критиком, будут восприниматься совершенно по-иному; и настоящая трудность как раз в том и заключается, чтобы написать то, что захотят прочитать самые разные люди, которые несхожи между собой и в жизни почти никогда не пересекаются, то, что взволнует и цветочницу, и даму, и даже критика. Поэт никогда не питал презрения к толпе, к публике, которое так горазды были демонстрировать менее удачливые его коллеги; он всегда помнил, что толпа состоит из отдельных людей и что, несмотря на внешние различия, волнует всех примерно одно и то же – жизнь, смерть, чувства, мечты, судьба человеческая, то есть то, что в конечном итоге волновало его самого, Алексея Ивановича Нередина.
Королева поднялась с места и подошла к окну. Когда она наконец заговорила, голос ее звучал до странности глухо:
– Значит, и вы тоже знаете, что это такое. Да, нет ничего страшнее таких вот одиноких вечерних часов.
Поэт ничего не понимал, но ему почему-то сделалось жутко. Он больше не жалел, что пришел сюда; и все-таки странное настроение королевы пугало его.
– И я тоже была у крайней черты, и мне пришлось пить до дна лицемерие, – добавила Елизавета с неожиданным ожесточением. – Никогда не забуду этого ужаса, как он лежал там мертвый… а на следующий день должен был состояться прием, потому что прибыл сын королевы Виктории. А я не могла, не могла быть там! И я всем говорила, что не могу, но никто не желал меня слушать.
– Кто лежал, Ваше величество? – робко спросил Нередин.
Елизавета повернулась к нему, и в неверном свете вечерних ламп Алексею показалось, что она разом постарела на несколько лет.
– Мой сын Руперт. Он покончил с собой.
Глава 32
– В-вы в своем уме? – в изумлении спросил Рудольф. Волнение его было таково, что он даже начал заикаться. – И что, это и есть ваша великая тайна?
Разговор происходил в гостинице «Золотой якорь», куда на встречу к немецкому агенту явился граф Эстергази. Граф был недоволен тем, что Рудольф слишком тесно общается со своей кузиной, баронессой Корф, и в резкой форме попросил коллегу держаться подальше от «пронырливой особы». В ответ Рудольф вспылил и заявил, что ему осточертело, когда все водят его за нос и заставляют искать какое-то письмо, ничего не говоря даже о его содержании. Он насел на графа, попеременно употребляя то угрозы, то уговоры, и наконец заставил его проговориться: в письме, оказывается, говорилось о самоубийстве богемского кронпринца Руперта.
– Все считают, что он умер от чахотки, но на самом деле он застрелился при весьма печальных обстоятельствах, – объяснил граф. – И данное событие неминуемо грозит бросить тень на весь царствующий богемский дом.
От злости, разочарования и бешенства у Рудольфа аж потемнело в глазах.
– Да вы что, издеваетесь надо мной? – прохрипел фон Лихтенштейн.
Боже мой! Каких только предположений он не строил, какие только гипотезы не приходили ему в голову! Государственные интересы… Планы колониальных захватов, попавшие не в те руки… Грязный шантаж высокопоставленных лиц… Черт возьми, да мало ли что могло оказаться в том проклятом письме? А на самом деле – не угодно ли! – какой-то прохвост двадцати пяти лет от роду, неудачно женатый на немецкой принцессе, предпочел добровольно оставить ее вдовой. И ради такой-то тайны его, Рудольфа фон Лихтенштейна, сорвали с места и погнали через пол-Европы искать дурацкую бумажку, на которой…
– Вы не понимаете! – горячо воскликнул Эстергази. – Самоубийство кронпринца…
Но Рудольф уже закусил удила, Рудольфа было не остановить. Он метался по комнате, пиная ни в чем не повинный ковер и мешая бессвязные восклицания с весьма ядовитыми замечаниями. Принц Руперт, черт возьми! Тихоня принц Руперт, который должен был унаследовать отцовский трон, человек, который увлекался только охотой, вежливый, спокойный, не слишком красивый, не шибко умный, не замеченный ни в чем предосудительном, разве что в привычке изредка швырять тарелки в голову своей супруги, к которой он охладел через несколько месяцев после свадьбы. Ну и что, что наследные принцы не имеют права, не должны кончать с собой? Но ведь мы живем в конце девятнадцатого века, господа! Да, это трагедия, это ужасно, что молодой человек, которому только жить и жить, не нашел иного выхода, кроме как поставить в своем существовании точку. Но при чем тут государственные интересы Богемии? При чем тут интересы Германии? Ну ладно, жена принца, немецкая принцесса, положим, отравляла ему жизнь, но что тут крамольного? Даже если о самоубийстве узнают, можно всегда сказать, что причина была совсем в другом! И вообще, если уж на то пошло, можно не сомневаться, что симпатии народа окажутся на стороне родителей, которые потеряли сына, так что престиж монархии вовсе не пострадает…
Граф Эстергази слушал Рудольфа, плотно сжав губы. Взгляд опытного царедворца был колючим и холодным.
– Боюсь, милостивый государь, вы ровным счетом ничего не понимаете, – уронил граф.
Рудольф резко повернулся к нему – так резко, что чуть не опрокинул стоявшее между ними кресло.
– Вот как? Я не понимаю? Зато я понимаю, что выдавать самоубийство за смерть от чахотки просто глупо! Вы хоть представляете себе, какие слухи пойдут по всей Европе, когда кто-нибудь из слуг или очевидцев проговорится? А хоть кто-нибудь в конце концов непременно проговорится!
Но Эстергази только упрямо покачал головой:
– Никто не проговорится. Мы уже приняли меры. Никаких слуг при происшествии не было.
– Да, но те, кто нашел тело…
– Братья Хофнер, и они сразу же сообщили мне. Можете мне поверить, эти молодые люди умеют держать язык за зубами.
– Но чахотка!
– Доктор Брюкнер подтвердил диагноз, заявив, что принц сам пожелал скрывать свою болезнь, и так длилось несколько лет. Авторитет доктора Брюкнера таков, что никто и не подумает усомниться в его словах. Кроме того, всем придворным прекрасно известно, что принц был не слишком крепкого здоровья.
– И постоянно ездил на охоту, – буркнул Рудольф. – Вздор какой-то!
Эстергази пожал плечами:
– Карл Девятый тоже любил охотиться и тоже умер от чахотки. Не вижу противоречия.
На каждое возражение Рудольфа у Эстергази уже был готов ответ, что и злило немца больше всего. Он никак не мог отказаться от мысли, что в этой истории было нечто нелепое, нечто крайне странное и выходящее из ряда вон.
– Из-за чего вообще все произошло? – спросил фон Лихтенштейн. – Я имею в виду причину, по которой принц Руперт покончил с собой.
– Личные неурядицы, – коротко уронил Эстергази, и во взоре его блеснула тусклая искра, которая немцу, бог весть почему, совершенно не понравилась.
– Из-за жены, принцессы Стефании?
– Там многое было, – уклончиво ответил граф.
По его лицу Рудольф понял, что чертов богемец опять замкнулся и не желает говорить ничего, помимо того, что уже было сказано. Немецкий агент тяжело вздохнул.
– А жена? – внезапно спросил он. – Ей-то известно, что случилось с ее мужем?
– Нет, мы и тут позаботились. То есть… – Эстергази замялся. – Конечно, она знает, что никакой чахотки у ее мужа не было. И понимает, что тот не мог умереть просто так, сразу. Хотя она его не любила, теперь ее мучает совесть из-за того, что произошло. Но по поводу принцессы можете не беспокоиться, – быстро добавил граф. – Ей уже было сделано соответствующее внушение дядей-императором, и, конечно, Стефания ни одному человеку на свете не проговорится о своих подозрениях.
Рудольф рухнул на диван и утер лоб. «Кой черт меня вообще сюда занесло?» – мелькнула у него тоскливая мысль.
И неожиданно он понял. Понял, что именно в этой истории на самом деле беспокоило его больше всего.
– Значит, кронпринц был знаком с Шарлем де Вермоном? – как можно более небрежно осведомился Рудольф.
– Они не были знакомы, – отрезал Эстергази. Но сразу сообразил, в какую ловушку только что попал; но было уже слишком поздно.
– Так… – промолвил Рудольф, скучающе глядя на маятник часов поверх головы графа. – Тогда при чем же тут Шарль де Вермон? Почему чертово письмо было адресовано именно ему?
– Это вас не касается, – повторил Эстергази однажды уже брошенную грубую фразу. – Хотя могу сказать, что, насколько нам известно, адресаты писем были выбраны почти произвольно. Я уже упоминал, что мы сумели перехватить все письма, в которых говорилось о самоубийстве, кроме одного.
Нет, подумал Рудольф, что-то тут не так… определенно не так, и то, о чем столь упорно умалчивает милейший граф Эстергази, наверняка гораздо интереснее того, что он уже рассказал. Если принц не был знаком с Шарлем, значит, и не мог послать ему письмо, в котором, допустим, упоминал о своем намерении свести счеты с жизнью. Но если автор письма не принц, то кто? Ведь в тексте говорилось о самоубийстве. Значит, его послал тот, кто был в курсе произошедшей трагедии; тот, кто что-то видел либо что-то узнал и понял, что кронпринц скончался вовсе не от чахотки. И тем человеком мог быть кто угодно: слуга, офицер охраны, секретарь, садовник, любой свидетель, который оказался поблизости в тот момент. Допустим, он замыслил шантаж и, отлично понимая последствия, решил себя обезопасить – направил нескольким знакомым письма с описанием того, что видел. Черт возьми!
Итак, автор письма не знал, что шевалье вернулся на родину, поскольку, вероятно, некоторое время с ним не общался. Конверт был послан Шарлю де Вермону в Африку, оттуда прибыло в Париж, затем кочевало из гостиницы в гостиницу и наконец нашло его уже в санатории доктора Гийоме возле Ниццы. Логично? «Нет, ни черта не логично», – сказал себе граф фон Лихтенштейн. Прежде всего зачем неведомому шантажисту посылать письмо человеку, который находится так далеко и ни в коем случае не сможет его выручить, если что-то пойдет не так?
– Значит, никто не знает о самоубийстве принца, кроме людей, которые все равно будут молчать? – сухо спросил Рудольф.
– Вы совершенно правы, – ответил Эстергази с неприятной улыбкой.
– В самом деле? А как же быть с автором письма? Насколько я могу судить, он рассылал свои послания вовсе не из желания промолчать.
Улыбка Эстергази сделалась еще неприятнее.
– Об авторе письма можете забыть, – велел граф. – Он больше не станет нам мешать.
«Значит, до него все-таки добрались», – понял Рудольф. И внезапно его охватило отвращение к этим людям и к тому, что они творили. Он всей душой желал бы оказаться в это мгновение дома, болтать с детьми и играть с ними, или хотел быть в санатории, рядом с пронырливой кузиной Амалией, у которой такие умные глаза и умиротворяющий вид – вид человека, который навсегда распрощался с их службой. Рудольф знал, что их работа не допускает проявления брезгливости, но его собеседник сделался ему неодолимо противен.
– А что до Шарля де Вермона, – добавил Эстергази, – то шевалье ничего не знает. Впрочем, уже завтра его знания, как и он сам, не будут иметь никакого значения.
Рудольф понял, что графу уже известно о предстоящей дуэли, и, отвернувшись стал смотреть в окно, за которым сгущался туман.
…Белая пелена нависла над Ниццей, и даже птицы стали перекликаться глуше и реже, чем прежде. Из тумана вынырнул вечерний поезд, тоскливо засвистел и остановился.
Пассажир, сошедший с вечернего поезда, мало чем отличался от остальных, исключая разве что исходящий от него резкий запах лекарств и докторский чемоданчик в руке. Тотчас же к пассажиру подошел человек, который стоял на платформе и, очевидно, кого-то ждал.
– Доктор Брюкнер? Граф Эстергази послал меня за вами. Прошу вас, следуйте за мной.
Доктор проворчал что-то по-немецки по поводу погоды, которую, должно быть, привезли с собой живущие на побережье англичане, и двинулся следом за незнакомцем. Они сели в фиакр, и спутник Брюкнера велел вознице трогать. Тот кивнул и стегнул лошадь. Через полчаса фиакр остановился возле виллы, которая почти не была видна за увитой плющом оградой.
– Спасибо, любезный, – сказал незнакомец, соскакивая на землю.
Затем мужчина помог выбраться доктору, и в тумане вознице показалось, что тот шатается как пьяный, но он не стал задумываться над этим, тем более что незнакомец уже заплатил ему, и заплатил щедро. Возница понукнул лошадь, и вскоре фиакр скрылся за поворотом. Доктор Брюкнер медленно осел на землю возле своего чемоданчика. Взгляд у богемца был бессмысленный, нижняя губа отвисла. Он пытался поднять руку – и не мог.
– Ну, герр Брюкнер, – мягко промолвил незнакомец, подходя к нему, – а теперь познакомимся. Надеюсь, вы не против?
Глава 33
– Я никогда не узнаю, как на самом деле это произошло, – прошептала королева.
Нередин смотрел на нее во все глаза. Он понимал, что ему надо что-то сказать, хотя бы просто выразить сочувствие, и одновременно понимал, что все его слова бесполезны, что ни одно из них не способно залечить рану несчастной матери. Елизавета тяжко вздохнула, поникла головой.
– Они не хотели меня пускать к нему, но я все равно вошла. Оттолкнула Елену и вошла. Они уже перенесли его на кровать, и он там лежал, с закрытыми глазами, такой бледный, каким никогда в жизни не был. Доктор Брюкнер пытался меня убедить, что мой сын умер от чахотки. Какой вздор… Разве я не знала, что у него никогда не было чахотки? Моя сестра да, болела чахоткой и умерла от нее, но не Руперт… не Руперт… Я увидела маленькое пятно крови против его сердца, вот здесь, – королева показала на себе. – Он выстрелил себе прямо в сердце… да… Я спросила, где пистолет. Я хотела видеть комнату, в которой это случилось… А они прятали глаза. Доктор все пытался меня увести и повторял, что обо всем позаботятся, как будто… как будто что-то еще имело значение, кроме его смерти… Но им оказалось не так просто от меня отделаться. Я хотела знать, может быть, мой сын неосторожно обращался с оружием, и оно выстрелило, но… Он же охотник! – Елизавета заломила руки. – Про оружие он с детства знал все. Как он мог… как? Нет, религия права, что запрещает самоубийство… Если бы дети знали, как будут мучиться их родители, как станут терзаться… Утром я видела его, он был такой веселый, такой живой… Почему, почему он решился на это? Чем я его обидела? Я думала, Стефания будет ему хорошей женой, но если бы я знала… если бы я только знала! Видит бог, я бы ее убила своими руками, чтобы не допустить их брака…
Королева плакала, по ее щекам текли слезы. Она стала искать платок, но не могла найти, и Алексей подал ей свой.
– Елена стоит за дверью, – промолвила Елизавета, стараясь говорить своим обычным тоном, – и наверняка подслушивает… Прошу вас, делайте вид, что мы говорим о поэзии. Возьмите книгу в руки и откройте ее… вот так. – Она сделала попытку улыбнуться. Внезапно спросила: – Вы когда-нибудь помышляли о самоубийстве?
– Да, – не колеблясь, ответил поэт.
Елизавета пристально посмотрела на него.
– Почему?
– Первый раз это было в армии, – пояснил Алексей. – Я вдруг понял, что больше не могу там находиться, видеть все окружающее, изо дня в день, изо дня в день… что мне лучше умереть и освободиться навсегда. А второй раз я задумался о самоубийстве, когда… когда мне сказали, что у меня чахотка и я долго не протяну. Но тот доктор был не прав… если, конечно, Гийоме меня не обманывает, – быстро прибавил он.
Елизавета покачала головой, горячо проговорила:
– Никогда, никогда не делайте этого, если не хотите, чтобы ваши близкие терзались всю оставшуюся жизнь. Пусть даже вам кажется, что они не любят вас и не дорожат вами, все равно. Своим поступком вы убьете не только себя, но и их. Я никогда не прощу себе, что в то утро ничего не поняла… не почувствовала… Наверное, мой сын держался из последних сил, но уже тогда в нем что-то надломилось. Он ведь был гораздо тоньше, чем о нем думали… И любил не только охоту, но и многое другое. Однако остерегался показывать другим эту свою сторону… всем, кроме… кроме… впрочем, неважно.
– Он оставил записку? – спросил Алексей.
Елизавета удивленно взглянула на него.
– Записку? Нет.
– Но хоть что-то, что объясняло, почему он так поступил? – настаивал поэт.
Королева взяла у него из рук книгу и стала листать страницы, делая вид, что рассматривает виньетки.
– Нет, – сказала она наконец. – Почему вы спросили?
– Если не было записки, то, может быть, все-таки произошел несчастный случай? – предположил Нередин. – Простите меня, Ваше величество, но мне кажется странным, что ваш сын так неожиданно решился… решился покинуть вас, зная, как вы его любите.
Он запнулся и покраснел, потому что поймал себя на мысли, что ему нравилось находиться в обществе Елизаветы. И уж во всяком случае, мысль о самоубийстве была бы последней, которая могла прийти ему в голову рядом с королевой. Елизавета перевернула страницы и, как бы рассматривая титульный лист, вновь заговорила тихо:
– После гибели Руперта барон Селени нашел его дневник и принес мне. И там мой сын пишет, что матери нет до него никакого дела, что его жена Стефания – эгоистичная, ограниченная женщина и что единственный человек на свете, который его понимает, никогда не сможет с ним быть. Еще он писал, что проклинает свою судьбу, которая сделала его наследным принцем Богемии, и был бы счастлив, если бы его родители были обыкновенные мещане или чиновники. Вот так… После его смерти я не могла уснуть… стоило мне закрыть глаза, и я сразу же видела перед собой его лицо, как он лежал на той кровати… и испуганные лица придворных… и Селени с кровавой тряпкой в руках… я столкнулась с ним в коридоре… Я ничего не могла забыть. И мой муж старался держаться как всегда, но я слышала, как он рыдал потом за дверью… когда думал, что я ничего не слышу. Он весь поседел после похорон… Все слали нам свои соболезнования, а мы должны были притворяться, притворяться… что ничего особенного не случилось, что это судьба, болезнь, чахотка… Я не могла больше оставаться в замке. Я бы сошла с ума, наверное… – Королева протянула книгу Алексею и посмотрела ему прямо в глаза. – Простите, сударь, что я говорю с вами обо всем этом. Но мне было очень тяжело… мне и сейчас тяжело. Ваш врач дал мне снотворное, только оно меня и спасает. Жаль, что он вынужден был уехать.
– Кто, Ваше величество? – удивился Алексей.
– Виконт де Шатогерен, – не менее удивленным тоном промолвила Елизавета. – Граф Эстергази сказал, что поэтому мне придется вновь воспользоваться услугами Брюкнера… хотя бог свидетель, я не желала бы видеть его сейчас. А что, разве виконт не уезжал?
– Нет, – ответил поэт, мало-помалу начиная догадываться, – доктор по-прежнему в санатории… но господин Карел Хофнер уведомил его, что вы решили отказаться от его услуг.
Щеки Елизаветы вспыхнули. Она отвернулась от окна и села.
– Что ж, вы сами видите, как можно доверять этим людям, – с горечью проговорила королева. – Если не возражаете, я хотела бы через вас передать виконту письмо.
– Разумеется, Ваше величество, – поклонился Нередин. – Я непременно ему передам.
Елизавета стала искать чернильный прибор, но в комнате его не оказалось. Пришлось позвать Елену, которая принесла требуемое и с готовностью предложила написать письмо под диктовку государыни.
– Я еще не разучилась писать сама, – сердито бросила королева. – Ступайте!
Фрейлина удалилась, но Алексей заметил, что, уходя, она неплотно притворила за собой дверь. Елизавета написала короткое письмо, запечатала его и вручила Алексею.
– Я хотела бы попросить вас об одолжении, – после короткой паузы промолвила королева.
И опять Нередин почувствовал на себе ее прямой, открытый взгляд. И сказал, что готов исполнить все, о чем его попросят.
– То, что я рассказала о моем сыне…
Алексей заверил ее, что дальше его это не пойдет. Елизавета грустно улыбнулась.
– Кажется, мы еще не говорили с вами про современных русских поэтов, – заметила она.
И разговор вновь вошел в мирное литературное русло, не касаясь более ни материнского горя, ни самоубийства единственного сына, ни видений, которые преследуют по ночам сильных мира сего.
…Когда Нередин наконец покинул виллу, голова у него шла кругом. Поэт жалел Елизавету, потому что женщина была несчастна, и в то же время она была так красива и величава в своем горе, что Алексей невольно восхищался ею еще сильней. Кроме того, он никак не мог взять в толк, какие причины могли побудить ее сына покончить с собой. Из слов королевы стало ясно, что брак принца Руперта оказался неудачным, но ведь ничто не мешало ему разъехаться с женой и держать ее в почтительном отдалении. Да и вообще, если бы все неудачные браки оканчивались самоубийством, то вскоре на земле не осталось бы ни одного человека.
«Нет, там было что-то еще, – смутно подумал поэт. Туман почти съел дорогу, фиакров не было, и он двигался наугад сквозь белую пелену. – Возможно, и впрямь несчастный случай, возможно, припадок безумия… – Тут мысли его приняли совершенно другое направление. – У нее красивые руки и замечательные волосы. А бриллиантовые бабочки очень ей идут».
Он остановился, испытывая смутную тревогу; но тревога эта не была связана ни с его мыслями, ни с видением несчастного молодого человека, который прострелил себе сердце, и вообще явилась откуда-то извне. Нередин не зря служил в армии, и теперь, когда он шел, окутанный туманом, неким шестым чувством учуял, что за ним кто-то крадется.
Кажется, отмахнулся поэт.
А вот и нет, шепнул поручик.
И тут Нередин и впрямь услышал чьи-то шаги, очень осторожные, как будто кто-то ступал едва ли не на цыпочках. И его обдала волна липкого, противного, холодного страха. Он повернулся – и тут увидел в пяти шагах перед собой одного из братьев Хофнер. Карман серого хофнеровского сюртука как-то странно оттопыривался, и обладатель держал в нем свою руку.
«Пистолет или револьвер», – моментально сообразил бывший поручик. Во рту у него разом пересохло. Он сделал шаг назад и почувствовал, что за спиной у него уже кто-то стоит. И, бросив взгляд через плечо, увидел второго Хофнера.
«Нет, это…»
Он не успел подумать, нелепо это, или смешно, или странно, потому что ему внезапно неодолимо захотелось бежать. Бежать немедленно, куда глаза глядят. Но он не мог пошевелиться, потому что недостойно, понимаете ли, поэта, чьими стихами зачитывается вся Россия, мчаться куда-то сломя голову, как заяц. А первый Хофнер меж тем подходил все ближе…
– Господин Нередин!
Рыжие братья застыли на месте, не веря своим ушам. От тумана отделилась тень в голубом платье.
– Ваше величество! – вырвалось у поэта.
– Вы не можете идти пешком, да еще в такую погоду, – проговорила Елизавета, подходя ближе. – Я сказала Елене, чтобы вас отвезли в моем экипаже.
Хофнеры переглянулись с красноречивой яростью в глазах. «Они хотели меня убить, – понял Нередин. – Убить за то, что я…» И ему сделалось по-настоящему страшно. Секреты чужого монаршего двора могли слишком дорого ему обойтись.
Но вот подъехала карета с гербом графа Эстергази.
– Я провожу вас, – обронила Елизавета спокойно, так, словно королеве одного из могущественных государств Европы ничего не стоило проводить русского поэта до санатория. Но что-то было в ее тоне такое, что ни братья, ни фрейлина, тоже вышедшая из тумана, даже не подумали ей перечить.
Хофнер услужливо растворил дверцу, другой помог поэту забраться внутрь следом за королевой. Братья улыбались, но, вероятно, из-за тумана их улыбки походили скорее на гримасы.
– Трогай, – велела Елизавета кучеру.
В руке Нередин по-прежнему сжимал книжки и письмо, которое она ему вручила для передачи Шатогерену. Он положил их на сиденье. В голове у него неотвязно маячила одна и та же мысль: почему королева пошла за ним? Ведь только ее вмешательство спасло ему жизнь, в том нет сомнений.
– О чем вы думаете? – нарушила молчание Елизавета.
Алексей увидел, как в полумраке кареты блестят ее глаза, и ответил честно:
– О вас.
А потом наклонился к ней и поцеловал ее. Так просто, словно они были знакомы много лет.
– Вы сумасшедший, – прошептала Елизавета, когда он наконец отстранился от нее.
– Нет, – ответил поэт. – Вы спасли мне жизнь.
– Значит, только из-за этого?
– Нет, – повторил Алексей.
Он поцеловал ее руку, ее пальцы, ее волосы, ее глаза. Неожиданно она расплакалась, и Алексей стал вполголоса успокаивать ее. От ее платья пахло какими-то тяжелыми, дурманящими духами, от которых у него немного кружилась голова.
– Ты странный. Но ты настоящий, и это хорошо, – неожиданно сказала Елизавета.
И погладила его по лицу – легко, кончиками пальцев, – и на сей раз уже ему захотелось плакать. И еще он подумал, что, наверное, больше никогда не увидит ее.
Карета подъехала к санаторию и остановилась. Нередин вышел, и Елизавета из кареты протянула ему книги и письмо, которые поэт едва не забыл.
– Прощайте, сударь.
Они опять были на «вы».
– Прощайте… госпожа графиня, – пробормотал Алексей.
Он стоял на месте, провожая глазами фонари кареты, пока те не скрылись из виду, и только тогда двинулся к воротам. Но, не дойдя до них, замер на месте.
Возле ворот стоял высокий блондин с военной выправкой – тот самый, которого Алексей прежде видел на берегу.
Глава 34
«Еще один», – мрачно пошутил Нередин-поручик.
Нередин-поэт ничего не ответил. По правде говоря, ему было сильно не по себе.
Меж тем неизвестный блондин, видя, что вышедший из кареты мужчина застыл как статуя и не сводит с него глаз, надменно выпрямился и заложил руки за спину.
«Офицер, точно офицер», – обреченно помыслил поручик.
– И нечего на меня пялиться, – холодно проговорил незнакомец на чистейшем русском языке. – Проходите, месье. А еще лучше, катитесь к черту.
Если бы он сказал еще что-нибудь более крепкое и заковыристое, то и тогда бы радость Нередина на стала больше.
– Вы… вы русский? – пролепетал поэт, не веря собственным ушам.
Офицер перестал улыбаться. Теперь, вблизи, Алексей видел, что перед ним красивый голубоглазый блондин весьма аристократического вида. Одет он был безукоризненно, но манера держаться все равно выдавала в нем военного.
– Вот так штука, – с некоторой растерянностью проговорил офицер. – Послушайте, вы из санатория?
– Да, а что?
– Точно! – вырвалось у офицера. – Ведь я же видел, как вы спустили с лестницы… но из-за тумана не сразу вас признал. Скажите, вам что-нибудь известно о баронессе Корф?
– Об Амалии Константиновне? Да.
– С ней все в порядке? – быстро спросил офицер. – Я имею в виду ее болезнь…
– Доктора говорят, она поправляется. Простите, – спохватился Нередин, – а с кем имею честь?
– Барон Александр Корф, – пояснил офицер. – Я ее муж.
Нередин поглядел ему в лицо и решил не уточнять, что госпожа баронесса, насколько ему известно, пребывает в состоянии развода. И вместо того предпочел назвать свое имя.
– А, наслышан, наслышан о вас… – протянул Корф. – Вы не против, если мы пройдемся? Я торчал тут едва ли не час и успел порядком озябнуть.
Мужчины медленно двинулись вдоль ограды.
– Я вас видел тут раньше, – заметил Алексей. – И другие больные тоже.
– А она?
– По-моему, нет.
Корф пожал плечами:
– Что ж, может быть, и к лучшему. Кстати, что происходит в санатории? В Ницце я такого о нем наслушался, что уши вянут.
– Погиб один из пациентов, возможно, встретил ночного грабителя, – уклончиво ответил Нередин.
Корф коротко взглянул на него и усмехнулся.
– Не завидую я тому… грабителю. Она еще его не нашла?
– Нет, – удивленно откликнулся Алексей.
– Значит, найдет.
Поэт остановился:
– Послушайте, может быть, вы хотите войти? Я приглашаю вас.
– Нет, – коротко ответил Александр, и поэт увидел, как дернулась жилка на его виске.
– Но если вы хотите с ней увидеться…
– Нет. Я хотел только знать, что с ней все в порядке. А видеть меня она все равно не захочет.
– Почему? – поразился Нередин. – Ведь вы проделали такой долгий путь…
– Вы плохо знаете женщин, – снова усмехнулся Корф. – Думаете, ее это тронет? Она решит, что я приехал нарочно, чтобы посмотреть, как она умирает, хотя, видит бог, я жизнь отдал бы, чтобы с ней все было хорошо. Мы расстались не самым лучшим образом… то есть она настояла на разводе, я-то никогда его не хотел. А теперь она знать меня не желает. Если я напишу ей письмо, она порвет его в мелкие клочья и выбросит, не читая. Если я попрошу встречи с ней, ответит, что нам не о чем говорить. Честное слово, мне проще иметь дело с ее взбалмошной матерью, которая тайком передает мне вести о ней, чем с Амалией. Вы женаты?
– Нет.
– Тогда вам меня не понять. Вначале все хорошо, и ты словно ступаешь по облакам, а потом внезапно видишь, что для самого близкого человека превратился в лютого врага. Поневоле начинаешь вести себя как враг. А дальше… дальше все становится все хуже и хуже. Она что-нибудь рассказывала обо мне? – внезапно спросил он.
Нередин покачал головой:
– Никогда.
– На нее похоже, – вздохнул Корф. – Вычеркнуть из своей жизни, как будто тебя никогда не было. Характер! Значит, врачи говорят, что ей ничто не угрожает?
– Да.
– Ну что ж, это все, что я хотел узнать. – Александр крепко стиснул руку Нередина. – Завтра я, наверное, возвращусь в Петербург. Спасибо за добрые вести – и до свиданья. Да, и сделайте одолжение, не говорите ей, что я здесь был. Иначе Амалия навоображает себе бог весть что, а в ее состоянии всякие эмоции все-таки вредны.
Поэт смотрел, как Корф уходит – с прямой спиной, не оборачиваясь. «Еще одна человеческая тайна, – подумалось смутно. – Что же такое могло произойти между ними?» У него было такое чувство, словно весь мир полон странных секретов, больших и малых, которые играют человеческими судьбами, как хотят. А может быть, все дело было в том, что он просто устал?
Анри открыл ему дверь и на его вопрос о Шатогерене ответил, что тот отправился к пациенту, который очень плох, и что вернется доктор не раньше десяти.
– Я чертовски проголодался, Анри, – признался поэт. – Нельзя ли на скорую руку устроить для меня какой-нибудь ужин?
Слуга сказал, что постарается, и удалился.
Нередин поднялся к себе, но ему недолго удалось оставаться одному, потому что к нему заглянул Мэтью Уилмингтон. Англичанин был необычайно серьезен.
– Я надеюсь, вы не забыли о своих обязанностях секунданта, сэр? Они стреляются завтра в восемь утра, как мы и договорились.
Алексей поморщился при мысли, что ему придется завтра увидеть гнусных Хофнеров, которые сегодня чуть не убили его, но пообещал Уилмингтону не подвести шевалье.
– Как Шарль? – спросил он.
– Мистер де Вермон? – Уилмингтон важно повел своими пухлыми плечами. – Он намерен исполнить свой долг, как и подобает джентльмену.
Слуга принес поднос, уставленный всякой снедью. Мэтью поколебался, но попросил разрешения выпить чашечку чаю, если мистер Нередин не возражает. Мистер Нередин не возражал, и уже через минуту он имел счастье наблюдать, как англичанин набивает рот печеньем, ухитряясь одновременно рассуждать о европейской политике.
«А ведь совсем недавно несчастный жених не мог стоять от горя и рыдал у гроба той, которую все уже считали его женой, – со злостью подумал Нередин. – Или я преувеличиваю и так и должно быть – живое остается живым, а мертвое мертвым? Хорошенькая мадемуазель Катрин Левассер с томными глазами газели уже умерла, и никакие слезы, никакое самопожертвование ее не воскресят; через год уже никто не вспомнит, какие у нее были глаза, а через три забудут и имя, и ее могила на самом красивом участке кладбища, обращенном к морю, зарастет травой. Да что там годы – уже сейчас все ее забыли… И точно так же забудут и меня, когда я умру. Ничего не остается от человека, кроме его дел… Если дела значительны, они еще могут вызывать мгновения восхищения у потомства, но только мгновения. Может статься, и мне посчастливится, и от меня останутся несколько стихотворений, которые будет перечитывать, склонившись над книжкой, какая-нибудь мечтательная барышня…»
Поэт попытался представить себе ту барышню, но ее лицо почему-то до странности походило на лицо королевы Елизаветы. Он бы отдал все на свете, чтобы еще хоть раз встретиться с ней…
– Полагаю, у шевалье на дуэли есть неплохие шансы, если он выстрелит первым, – заметил Уилмингтон. – Иначе, боюсь, все может закончиться для него весьма плачевно. Я наводил справки: Хофнер и в самом деле отличный стрелок.
Нередину стало совсем неуютно, но тут появился Ален и доложил, что месье Шатогерен вернулся. Поэт извинился и вышел. Бог весть отчего, но за дверью он почувствовал странное облегчение.
Шатогерен беседовал с Севенном. Лицо у Рене было мрачное, и, насколько поэт понял из разговора врачей, какой-то пациент умер, не приходя в сознание.
– Вы что-то хотели, сударь? – обратился к поэту Севенн.
Алексей вручил Шатогерену письмо королевы и объяснил: произошла ошибка, мадам по-прежнему будет рада визитам доктора.
– Поразительно, – буркнул Шатогерен, распечатывая письмо. – Прежде всего она не больна, я и Гийоме уже устал это повторять. Ей просто нужно время, чтобы прийти в себя после смерти сына, и то же самое ей мог сказать любой квалифицированный врач. К чему еще визиты? – Виконт пожал плечами. – Пустая трата времени.
Нередин едва удержался от искушения высказать Шатогерену все, что сейчас всколыхнулось в его душе. Конечно, сердито думал Алексей, возвращаясь к себе, виконт любит корчить из себя республиканца и подчеркивать, что монархи – такие же люди, как все. Ему никогда не понять, каково это – постоянно быть на виду и не иметь права на самые обыкновенные человеческие эмоции.
Затем поэт вспомнил, что у него сидит Уилмингтон, и решил, что еще одного разговора о политике и дуэлях не выдержит. Поэтому он избрал другое направление и через минуту уже стучался в дверь баронессы Корф.
– Я не потревожил вас? – спросил Нередин, входя. Ему показалось, что у Амалии уставший вид.
– Нет, – ответила она. – Я читала письма.
– Письма Аннабелл?
Молодая женщина кивнула.
– Вы нашли его? – быстро спросил Алексей.
– Нет, – с сожалением отозвалась Амалия. – Похоже, мисс Эдит права, на самом деле это путь в никуда. В них нет ничего, что указало бы нам на личность «безутешного вдовца».
Нередин заколебался, и его колебание не укрылось от Амалии. Кроме того, она заметила еще кое-что. «У него на воротнике едва заметный след от дамской пудры. Любопытно, очень любопытно… Неужели и впрямь то, о чем я думаю?»
– Вы видели королеву?
– Да, – отбросив сомнения, кивнул поэт. – И она рассказала мне очень странную историю. А после… – Он глубоко вздохнул. – Очень хотелось бы ошибиться, но я уверен: меня пытались убить. И теперь я не знаю, что мне делать.
– Кто пытался убить? – быстро задала вопрос Амалия.
– Братья Хофнер.
– Что именно королева вам поведала?
Алексей вспыхнул:
– Я дал ей слово никому ничего не говорить, и…
– История касается ее сына? Кронпринца Руперта?
Что ж, не зря глава особой службы генерал Багратионов уверял, что в умении логически мыслить баронессе Корф нет равных. Сопоставив мелкие, казавшиеся другим незначительными факты, Амалия сделала из них свои выводы, и выражение лица поэта показало ей, что она права. Нередин беспомощно поглядел на нее.
– Вам лучше все мне рассказать, – мягко промолвила баронесса. – Я убеждена, вместе мы найдем выход из сложившегося положения. Потому что… Не знаю, известно ли вам, но Альберт и Карел Хофнеры – очень опасные люди.
Поэт согласился, но тут же пробурчал, что он достаточно взрослый человек, чтобы постоять за себя… а Амалия возразила, что зря он так думает, ведь еще неизвестно, кто стоит за этими людьми и на что они способны. Алексей и сам не заметил, как мало-помалу, слово за словом собеседница вытянула из него все, что ему было известно. В умении разговорить людей баронессе Корф тоже не было равных.
Выслушав поэта, она впала в глубокую задумчивость. Вряд ли причина нападения в том, что поэт узнал о самоубийстве кронпринца, лениво размышляла Амалия про себя. Нет, его хотели убить, потому что сочли ее человеком, ее личным агентом, подосланным к королеве, и убийство должно было служить недвусмысленной угрозой, чтобы баронесса больше не лезла в это дело. Для начала Нередина предупредили, чтобы тот не ездил на виллу, а когда он ослушался (по их мысли, потому что был связан с ней, Амалией, и выполнял ее приказы), решили его наказать. Черт возьми, как высоко, оказывается, ее ставят, хоть она и отошла от дел… Мало о ком еще стали бы так заботиться. И баронесса невесело усмехнулась.
Не подозревая о мыслях, волновавших Амалию, Нередин с тревогой смотрел на нее. Теперь, по правде говоря, поэт был склонен сомневаться, что Хофнеры и впрямь собирались его убить – в конце концов, они дворяне, а не разбойники с большой дороги. Наверное, у него просто были взвинчены нервы, да еще этот туман… вот и вообразил себе бог весть что, хотя ничего такого и в помине не было. А в кармане у Хофнера наверняка находилось не оружие, а… Да мало ли что могло там быть!
– Наверное, я не прав, – несмело проговорил Алексей. – Наговорил вам всякие ужасы, а на самом деле…
А на самом деле, продолжила про себя Амалия, все могло обернуться исключительно скверно, если бы Елизавета не вышла из дома. Ах, везуч, везуч неимоверно Алексей Иванович! И что он плачется постоянно в своих стихах на неразделенную любовь? Ведь ясно же: его любят именно такие женщины, какие надо, а на тех, кто не любит, даже внимания обращать не стоит.
– Вы правильно сделали, что все мне рассказали, Алексей Иванович. В этом деле очень много странного, но, я надеюсь, в конце концов все выяснится.
В дверь постучали, и на пороге показался Филипп Севенн.
– А, месье, и вы здесь! Госпожа баронесса, утром вы забыли принять лекарство… и молоко совсем перестали пить… Доктор Гийоме будет недоволен!
Амалия улыбнулась и ответила, что ни за что не хотела бы вызвать недовольство доктора Гийоме. Она слишком дорожит его обществом, и вообще, здешний санаторий лучший из всех, где она бывала.
– В самом деле? – расцвел Севенн. – Кстати, вы еще не слышали о мадам Ревейер? Она уже передумала и просится обратно, но мест уже нет… И кто ее просил уезжать, спрашивается? – Врач прищурился, со значением глядя на Нередина. – Кажется, вы завтра собираетесь на прогулку? Не забудьте одеться потеплее. При такой погоде, как нынче, днем вполне возможен дождь. Впрочем, насколько мне известно, все будет проходить недалеко от санатория, так что вы успеете вернуться. Да, и не забудьте сейчас измерить температуру! Вы же знаете, как месье Гийоме следит за состоянием своих больных!
Глава 35
Лестница, отдаленно похожая на ту, что в их санатории, ведет на второй этаж.
Но лестницы больше нет. Есть лишь лавка, просто пыльная лавка, заваленная старинными фолиантами, куда не проникает солнечный свет.
Перед прилавком стоит человек в лохмотьях, высокий, плечистый, с веселыми глазами и ямочками на щеках. На боку у него сабля, и лохмотья его смахивают на какую-то странную военную форму. Он улыбается, отвешивает поклон – и исчезает…
Это сон, понимает во сне Амалия. Всего лишь сон.
Книга с прилавка летит ей в руки или как-то оказывается в ее руках – неважно. Удивленная, Амалия открывает ее.
Из книги выскакивает горбун с остренькими глазками, которые поблескивают сквозь длинные пряди волос. Он хихикает, вертится, потирает ручки и шаркает ножкой. Ростом горбун менее ребенка.
Амалия оборачивается и только сейчас замечает возле себя женщину в напудренном парике, с розой в руке, с зелеными глазами и строгим неулыбчивым лицом. Амалия сразу же догадывается, что это ее прабабушка, знаменитая Амелия с портрета, который хранится в их семье.
Амалия хочет у нее спросить, что она делает здесь, в Антибе, в лавке букиниста, но неожиданно просыпается с сильно бьющимся сердцем.
…Поглядев на столик возле изголовья, баронесса Корф увидела на нем тот самый том «Сентиментального путешествия», в котором стояла подпись ее прабабушки и который так изуродовали последующие владельцы. Ну да, она листала книгу перед тем, как заснуть… наверное, именно поэтому прабабушка, о которой Амалия думала, и попала в ее сон.
В окно смотрела золотоглазая луна, часы показывали третий час ночи. Вздохнув, Амалия повернулась на другой бок и, поудобнее подтянув одеяло, снова уснула.
И не слышала осторожного стука в дверь, который раздался примерно в половине восьмого утра. Натали Емельянова, которая стояла у двери, постучала еще раз, погромче. Никто не ответил.
– Вы же знаете, баронесса любит вставать поздно, – заметила Эдит, которая проходила по коридору.
– Да, – сердито ответила Натали, – но хоть сегодня она могла встать пораньше!
Досадуя на себя, девушка спустилась вниз, где уже собрались поэт, Шарль де Вермон, Мэтью Уилмингтон и Шатогерен, который возился со своим чемоданчиком.
– Если кто-то будет ранен, мы доставим его в санаторий, – сказал Рене Севенну, наблюдавшему за приготовлениями к дуэли, и молодой врач уважительно наклонил голову.
Натали заметила пытливый взгляд Шарля и поспешно подошла к нему.
– Госпожа баронесса не отвечает, – сказала сухо. – Должно быть, еще спит. Доктор Гийоме говорит, что здоровый сон так важен для пациентов…
Но, взглянув на обескураженное лицо Шарля, Натали сразу же пожалела о своих словах.
– Может быть, вы хотите что-нибудь ей передать? – спросила Натали.
Шевалье покачал головой.
– Я хотел, чтобы она подарила мне красную розу, – тихо сказал он. – На прощание.
Шатогерен нахмурился. Уилмингтон, казалось, пребывал в смущении.
– Подождите! – внезапно воскликнула Натали и бегом бросилась в сад.
Через несколько минут она вернулась, неся с собой красную розу.
– Вот, – сказала она, вручая цветок Шарлю. – И… и желаю вам удачи, шевалье.
– Мне она очень понадобится, – буркнул тот.
И, не произнеся больше ни слова, направился к двери. Следом за ним зашагали секунданты и доктор с чемоданчиком.
Выйдя за ворота, Шарль размахнулся и бросил розу в кусты. Шатогерен, наблюдая за ним, только покачал головой.
– Надо было все-таки ее разбудить, – проворчал он с ноткой неодобрения в голосе.
Четверо мужчин двинулись к тенистой роще неподалеку от берега, в которой была назначена сегодняшняя дуэль.
Рудольф фон Лихтенштейн привел на место братьев Хофнер с истинно немецкой пунктуальностью – ровно в восемь часов. Карел презрительно улыбался, Альберт поглядывал на часы и деликатно позевывал. Видно было, что он нисколько не опасается за исход поединка для своего брата.
– Ну что, господа, начнем? – весело спросил Рудольф.
…Что-то не так. Что-то не сделано, не окончено, где-то допущена ошибка или промах.
Амалия оторвала голову от подушки, вгляделась в часы. Четверть девятого.
– Боже мой! Я проспала!
И теперь все наверняка кончено. Его убили. И он умер в полной уверенности, что она сердилась на него, что восприняла всерьез его заявление о том, что его завербовал Ла Палисс, и именно поэтому не пожелала с ним проститься, сказать ему хоть пару фраз, когда он ушел умирать. На глазах у нее выступили слезы огорчения, но она знала, что ей не на кого сердиться.
Только на саму себя.
Баронесса села на постели и сжала руками виски. Ей хотелось успокоиться, но успокоения не было. Она нанесла обиду человеку, который вовсе того не заслуживал, человеку, который не сделал ей ничего плохого. И теперь это будет мучить ее до самой смерти.
Хмурясь, Амалия умылась, причесала волосы, заколола их и оделась. По старой памяти она шила у портних всю одежду с таким расчетом, чтобы одеваться и раздеваться без помощи горничных – в ее работе лишние свидетели могли только навредить (уж кто-кто, а баронесса Корф отлично знала, сколько ценной информации можно порой выудить у вроде бы ничего не замечающих, неприметных слуг). Кроме того, сейчас ей особенно не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. Она и так отлично знала все, что должно последовать за сегодняшней дуэлью.
«Его принесут сюда… Хофнер, конечно, не станет рисковать и сразу же убьет. А Шарль не сделает ничего, чтобы помешать ему. В конце концов… в конце концов, именно такой смерти он желал, чтобы не мучиться… – бежали мысли баронессы. Она стиснула руки. – Но боже мой, как же мне будет не хватать его ребяческих рассказов… об Африке, о тамошних шаманах, о диких животных, о том, как он небрежно кого-то спасал, как элегантно кого-то убивал… о злокозненных врагах и преданных союзниках… Проклятая жизнь!»
Ей хотелось плакать. Амалия спустилась вниз и, чтобы не видеть тело убитого, которое должны были вот-вот принести, вышла из дома через заднюю дверь, которую больные между собой называли похоронной, потому что через нее носили гробы с телами умерших в санатории.
«Странно, почему мне приснилась та книжная лавка?»
Она старалась думать о чем угодно, только не о дуэли. Все равно секунданты вернутся, и Нередин все ей расскажет.
Еще несколько шагов, и Амалия вышла на берег моря. Ветер гнал над волнами последние клочья тумана, и вдали коротко прогудел пароход, направляясь в бухту.
«А послезавтра его похоронят», – подумала баронесса с горечью.
Но об этом лучше было не думать. Она вспомнила, что именно здесь, на берегу, так любила сидеть в кресле мадам Карнавале, чьего настоящего имени Амалия не узнала и, наверное, не узнает уже никогда (не потому, что узнать невозможно, а потому, что совершенно лишняя и никому не нужная работа). Просто была старая дама, выполнявшая деликатные поручения, а потом ее столкнули со скалы, и барон Селени смог сберечь часть денег, которые ему отводятся на агентуру. Впрочем, к чему такой цинизм, Амалия Константиновна? Ведь барона Селени кто-то не поленился выманить из гостиницы и убить, после чего бросил труп в море, и ни к чему ему теперь все деньги в мире, да и агентов он будет вербовать разве что в аду.
«Труп в море… – словно бы споткнулась о мысль баронесса. – Странно, как работает воображение. Стоило мне подумать о нем, и в волнах, там, где особенно густо реют чайки, словно мелькнуло нечто вроде тела… Померещилось, конечно. Какую странную историю рассказал мне вчера Нередин… А может быть, все-таки утопленник?»
Амалия стояла теперь у края обрыва, напряженно вглядываясь в волны, и оттого не заметила, что на берегу больше не одна. От удара у нее перехватило дыхание, но хуже всего было то, что она потеряла равновесие. Резкий толчок в спину, земля ускользает из-под ног – и, раскинув руки, Амалия полетела вниз, на острые скалы, притаившиеся под морской гладью.
Глава 36
В лавке было пусто. Ни единой книги, только голый стол, на котором сидела мышь и умывала лапками мордочку.
В следующее мгновение за столом оказался человек в лохмотьях. Как в недавнем сне. Сон повторяется? Человек читал книгу, и, приблизившись, Амалия увидела, что в руках у него «Сентиментальное путешествие», еще целое и со всеми страницами.
– Вообще-то это моя книга, – сказала она и поглядела неприязненно.
Человек поднял голову и спокойно возразил:
– Вообще-то нет.
И Амалия увидела, что у него вовсе не «Сентиментальное путешествие», а какой-то не то словарь, не то список фамилий. Но не успела понять, что именно там было, потому что человек резко захлопнул книгу и посмотрел на нее, как ей показалось, довольно вызывающе.
– Кто вы такой? – спросила Амалия, начиная сердиться.
– А ты? – вопросом на вопрос ответил человек.
Внезапно Амалия кое-что вспомнила.
– Я умерла? – прошептала она. Теперь она уже была вовсе не уверена, что видит сон.
– А ты совсем не похожа на свою прабабушку, – заметил человек.
Ответ прозвучал вполне логично для сна, и Амалия немного успокоилась.
– У меня было четыре прабабушки, – возразила она, стараясь быть объективной (что во сне не так-то легко). – Кого именно вы имеете в виду?
– Все так запутанно, – вздохнул человек. – Кстати, можешь говорить мне «ты».
– Я даже не знаю, кто вы, – возразила Амалия.
– Зато я знаю, кто ты, – отозвался человек. – А Ницца все такая же дыра? Ненавижу этот город.
– Почему? – растерялась Амалия.
– Ничего хорошего он мне не принес, – ответил человек и растаял в воздухе.
Амалия поглядела на мышь и увидела, что на ее месте сидит кот величиной с бегемота. Кот ласково улыбнулся, обхватил Амалию лапами за шею и стал мягко душить. Она заметалась…
– Результат падения со скалы, – раздался голос где-то вверху над ней.
– Поразительно, что баронесса не погибла! – подхватил второй голос, пронзительный и высокий.
– Тише, тише, Филипп, она приходит в себя, – проговорил кто-то, вроде бы Гийоме, но голос был встревоженный, что никак не похоже на доктора.
– Мяу!
Кошка ткнулась носом в шею Амалии и, жарко дыша, легла ей на плечо, которое немедленно заболело.
– Амалия Константиновна!
Она открыла глаза – и почти сразу же встретилась взглядом с Натали, которая стояла, стиснув руки; и лицо у Натали было испуганное и ошеломленное.
– Отойдите, отойдите, дайте ей дышать, – командовал кто-то сбоку глубоким голосом мадам Легран.
И Натали пропала, вместо нее показался поэт, а рядом с поэтом стоял Шарль де Вермон, совершенно целый и невредимый, но белый как полотно.
Тут Амалия так удивилась, что попыталась приподняться, но при столь простом движении у нее заныла вся левая часть тела.
– А, щучья холера! – вырвалось у молодой женщины. Ибо даже баронессам и самым утонченным особам приходится изредка выражать свои чувства посредством не самых утонченных слов. Выражение – скорее смешное, чем ругательное, – Амалия усвоила от своего деда-поляка, о котором ей много рассказывала мать.
– Уберите кошку, ей же больно, – сердито проговорил Гийоме.
– Мне не больно, – упрямо возразила Амалия. Поглядела на свою левую руку и увидела, что та вся забинтована.
– Вы помните, что с вами произошло? – спросил Шатогерен.
Амалия собралась с мыслями.
– Меня столкнули со скалы, – проговорила наконец. – С того же места, где… где упала мадам Карнавале.
– Вы видели того, кто это сделал? – вмешался Гийоме.
Амалия покачала головой:
– Нет. Он подошел сзади, я не успела его разглядеть.
– Значит, придется вызывать полицию, – заметил Севенн.
– Нет, – сказала Амалия, – не надо. Не надо полицию.
– Вы не хотите заявлять о том, что на вас напали? – удивился Гийоме.
– Нет. Не хочу. Санаторию это не нужно, особенно после всего, что здесь произошло.
«И потом, – подумала Амалия с внезапно вспыхнувшей злостью, – я все равно его найду. Сама. Если, конечно, там был именно «он», а не «она». А если второе, найду ее».
– Я не могу пошевелиться, – проговорила баронесса. – Доктор, я хочу знать правду. У меня сломан позвоночник?
Гийоме покачал головой:
– Нет. У вас сломана левая рука и повреждено плечо, но мы наложили швы и бинты. Кроме того, вы ударились о воду, что далеко не так безобидно, как может показаться. Не говоря уже о том, что вода была не слишком теплая, но по последнему поводу я уже дал указания мадам Легран. Она будет следить за вашим состоянием.
– Пока вам надо отдохнуть, – добавил Шатогерен.
Кошка снова попыталась лечь на поврежденное плечо и жалобно мяукнула. Мадам Легран вполголоса стала просить посторонних выйти из комнаты.
– Шарль, останьтесь, – попросила Амалия. Затем обратила взор на поэта: – И вы тоже. Я хотела у вас спросить… Шарль, вы его убили?
– Кого?
– Карела Хофнера.
Офицер с поэтом обменялись растерянными взглядами.
– Госпожа баронесса, – вмешалась мадам Легран, – вам лучше сейчас не говорить много.
– Я не собираюсь говорить, – возразила Амалия. – Я хочу лишь услышать, что произошло на дуэли. Хофнер не пришел? Он отказался от своего намерения? Или… – Она нахмурилась. – А где мой кузен Рудольф?
– Простите, бога ради, – сконфуженно начал Нередин, так как Шарль упорно молчал и не поднимал глаз. – Но… ваш кузен будет позже.
– Что это значит? – сердито спросила Амалия.
И поэт объяснил, что едва они вошли в здание санатория, как прибежала взволнованная Натали. Она собиралась уже выйти из комнаты, чтобы встретить вернувшихся, но случайно бросила взгляд в окно и увидела, как какую-то женщину, кажется, баронессу Корф, столкнули с обрыва. И все поспешили на берег. Шарль был в таком отчаянии, что едва не прыгнул в море, но Шатогерен, который, как всегда, оказался разумнее всех, велел ему не глупить, сбросил сюртук и жилет, спустился вниз по тропинке, подплыл к баронессе и вытащил ее на берег. Рудольф почему-то не спешил ему помочь и вообще вел себя как-то странно, и… В общем, Шарль немного погорячился. Но челюсть у графа фон Лихтенштейна не сломана, только на скуле будет синяк. Совсем-совсем небольшой.
– Вы ударили Рудольфа? – пролепетала Амалия, глядя на офицера во все глаза. – Бедный кузен… Он же не умеет плавать, так что все равно не мог бы ничем помочь!
Шарль изменился в лице, схватил ее за здоровую руку, стал осыпать ее поцелуями и твердить, что он ничего не имеет против немецкого кузена… но его поведение… да любой порядочный человек на месте шевалье заподозрил бы, что с ним нечисто.
– Наверное, у меня нервы были не в порядке после дуэли, – проговорил он извиняющимся тоном. – Всякое мне приходилось видеть, но то, что там случилось…
– А что произошло на дуэли? – быстро спросила Амалия.
Шарль оглянулся на поэта, словно ища у него поддержки.
– Очень странная вещь, – признался Нередин.
– Вы все-таки убили Хофнера? – напрямик спросила Амалия у Шарля. – Или только ранили его?
Рука Шарля, державшая ее руку, была горячая, и Амалия поняла, что она безумно рада – рада тому, что он сидит с ней рядом и заглядывает ей в лицо влюбленным взором, рада, что он жив, еще жив, что она может говорить с ним о пустяках, может улыбаться ему и ловить его улыбку… А все остальное не имело значения. Никакого, никакого значения.
– Нет, – проговорил Шарль, глядя куда-то в сторону, – я его не убил. Он покончил с собой.
Амалия замерла:
– То есть как? Алексей Иванович! Как такое могло случиться?
– Я и сам не понимаю, – признался поэт, разводя руками. – Пистолет шевалье дал осечку. Мы все ждали, что… – Он поморщился. – Карел Хофнер не торопился, стал целиться и… А потом как-то дернул рукой, то ли неловко, то ли, может быть, его ужалила оса… И пистолет выстрелил ему в голову.
– Так все и было, – подтвердил Шарль сконфуженно.
Амалия в немом изумлении переводила взгляд с поэта на Шарля и обратно. Нет, мужчины не шутили, не разыгрывали ее. Карел Хофнер неловко дернул рукой, и неосторожное движение решило его жизнь в тот миг, когда он собирался лишить жизни Шарля де Вермона.
– Его брат был в ярости, – добавил поэт. – Все никак не мог поверить в то, что случилось. Ругался последними словами… простите, ради бога… был вне себя. Ваш кузен пытался его образумить, но Альберт Хофнер его оттолкнул. Он увез тело брата, а мы вместе с вашим кузеном вернулись в санаторий, и тут к нам выбежала Натали. Все остальное вы уже знаете. – Он покачал головой. И вдруг спросил по-русски: – Амалия Константиновна, зачем вы пошли на берег? Что вы надеялись там найти?
– Ничего, – ответила Амалия. – Я… мне показалось, что на волнах покачивается какое-то тело. Наверное, я ошиблась.
Шарль де Вермон спросил, в чем дело, и Амалия повторила свои слова на французском. Затем добавила:
– Думаю, это была игра теней. И еще там над волнами летало очень много чаек, вот я и вообразила, что… – Она поглядела на кошку, которая по-прежнему лежала на ее плече, и вздохнула. – Мадам Легран! Все-таки кошка для меня тяжеловата. Уберите ее, пожалуйста.
Сиделка забрала кошку, которая недовольно заурчала. Но мадам Легран улыбнулась и погладила ее, и кошка умиротворенно закрыла глаза.
– Я могу что-нибудь сделать для вас? – спросил Нередин.
– Да, – сказала Амалия. – Позовите моего кузена, пожалуйста. Мне необходимо с ним поговорить.
Поэт удалился. Шарль сжал руку Амалии и поцеловал ее снова.
– Амели, я больше не оставлю вас, – сказал он серьезно. – Мне не нравилось то, что тут раньше творилось, но то, что произошло с вами, – уже чересчур. Я договорился с Гийоме, что займу соседнюю с вами комнату… Вы всегда можете рассчитывать на меня, – прибавил шевалье, волнуясь.
– Я очень рада, что с вами ничего не случилось, Шарль, – промолвила Амалия искренне. Оглянулась на мадам Легран и понизила голос: – Скажите… Мой кузен все время был с вами, когда вы возвращались после дуэли?
– Да, – удивленно ответил Шарль. – А что?
– Он никуда не отлучался?
– Нет, я готов поручиться.
Амалия откинулась на подушки и закрыла глаза. «Боже, какой вздор я спрашиваю… Уж кто-кто, а Рудольф не способен столкнуть женщину со скалы. Хотя… Если вспомнить некоторые мои поступки… Ведь, по правде говоря, никто в целом свете не счел бы, что я могла сделать что-то подобное. Я и сама иногда уже не верю».
Она закашлялась, и мадам Легран засуетилась. Сиделка отогнала Шарля от постели и принесла какое-то обжигающее питье, которое Амалия покорно выпила. Вслед за тем ей пришлось принять несколько лекарств, которые назначил Гийоме.
– У вас волосы мокрые… Не шевелитесь, я вам их вытру. Простите, что мне пришлось вас переодеть… но ни в коем случае нельзя оставаться в мокром платье при чахотке… – все говорила и говорила заботливая женщина. – Шевалье! Вы мне мешаете!
Шарль объявил, что отойдет в угол и не сдвинется с места, но, как только мадам Легран отошла, снова подсел к постели и взял Амалию за руку.
– Анри готовит для вас горячую ванну… Будем надеяться, что все обойдется. Ах, опять эта кошка, что за наказание! – воскликнула мадам Легран. – Шевалье, возьмите ее и не позволяйте взобраться на постель. Вообще вынесите ее за дверь… Все-таки доктор Гийоме прав – животным в санатории не место.
Нередин привел Рудольфа, как и просила Амалия, но мадам Легран не пустила его к больной, на которую к тому же покушались. Баронесса отправилась принимать ванну, потом ей опять пришлось пить лекарство и грог, чтобы не простудиться, и Рудольф был вынужден ждать несколько часов, прежде чем ему сообщили, что кузина может его принять.
Амалия предусмотрительно услала Шарля, чтобы избежать повторения стычки, и шевалье с большой неохотой удалился, на всякий случай сообщив, что будет поблизости. Мадам Легран впустила Рудольфа и тактично вышла из комнаты.
Амалия хотела произнести «Здравствуйте, кузен», но слова замерли у нее на губах, едва она увидела, во что превратилась физиономия Рудольфа. На скуле немецкого агента красовался роскошный синяк лилового цвета, глаз заплыл зеленым, а возле губы алел свежий кровоподтек.
Услышав смех Амалии, Рудольф вздрогнул и надулся.
– Простите, кузен, – принялась извиняться Амалия, отсмеявшись. – Честное слово, со мной что-то не так после падения в море. Обычно я не столь легкомысленна, уверяю вас.
– Если я найду того, кто столкнул вас со скалы, – проворчал Рудольф, – я ему голову оторву! Честное слово, я хотел как-то помочь вам, но вы и сами знаете, как я отношусь к воде. Счастье, что Шатогерен оказался поблизости. Он так быстро вытащил вас, что вы толком не успели наглотаться воды. А ваш поклонник… – Он дотронулся до скулы и поморщился.
– Шевалье очень сожалеет о происшедшем, – сказала Амалия. – Шевалье не знал, что вы боитесь воды.
– Ладно, дело прошлое, – вздохнул Рудольф. – Вы уже знаете о дуэли? Ничего более странного я не видел. И с чего вдруг Хофнеру вздумалось застрелиться?
– Ну, это не первое странное самоубийство, о котором я знаю, – задумчиво промолвила Амалия. – Вам удалось узнать что-нибудь новое?
– Вздор, – фыркнул фон Лихтенштейн, – чистый вздор! Как я и предполагал, все дело не стоит выеденного яйца. Оказывается, богемский кронпринц покончил с собой, и теперь все они там дрожат, как бы правда не вылезла наружу. Объявили зачем-то, что он умер от чахотки, доктор Брюкнер – вот ведь осел – с готовностью подтвердил, что так оно и было. Кстати, насчет доктора Брюкнера. Он должен был приехать вчера вечером, но почему-то не приехал. Как вам такой поворот нравится?
– Совсем не нравится, – отрезала Амалия. – Но еще меньше мне нравится то, что братья Хофнер вчера пытались убить моего соотечественника, поэта Нередина. Передайте Эстергази: если он еще раз позволит себе что-то подобное, я сразу же напишу письмо куда следует, и их хваленая тайна окажется на первых полосах всех европейских газет. Нередин совершенно постороннее лицо!
Рудольф нахмурился:
– Ну, если Эстергази счел Нередина вашим человеком…
– Это не так, – возразила Амалия.
– Тогда получается, что вчерашнее покушение и сегодняшнее – звенья одной цепи, – буркнул Рудольф. – И я не знаю, верите вы мне или нет, но мне это совершенно не по душе.
– Значит, в воду меня столкнул Альберт Хофнер? – спросила Амалия.
Граф фон Лихтенштейн с недоумением воззрился на нее.
– Вряд ли такое возможно. Он повез тело брата обратно на виллу, а та находится в совершенно другой стороне.
– А не мог Альберт обмануть вас и вернуться сюда каким-то кружным путем?
Рудольф покачал головой:
– По правде говоря, Хофнер был не в том состоянии, чтобы предпринимать что-либо. Они с братцем были неразлейвода.
– Хорошо, Альберт не мог этого сделать, – сдалась Амалия. – А блондин?
– Что за блондин?
– Который бродит возле санатория. Он ведь человек Эстергази?
– У Эстергази больше не осталось здесь людей, кроме Альберта Хофнера, а тот рыжий, – проворчал Рудольф. – Честное слово, я не знаю, о ком вы говорите.
Амалия вздохнула:
– Допустим, просто здесь был какой-то гуляющий. Но кто же тогда… – Она вдруг нахмурилась. – Ах, щучья холера! Я совсем забыла о другом деле!
– О безутешном вдовце? – Рудольф аж подскочил на месте. – Думаете, мерзавец и впрямь находится в санатории?
– До сих пор была не уверена, но если это так… Получается, я каким-то образом выдала себя, и негодяй понял, что я его ищу. И решил от меня избавиться.
Рудольф кивнул:
– Я говорил с фройляйн Емельяновой, и она почти уверена, что вас толкнул какой-то мужчина. Но все произошло так быстро, что она не успела ничего толком заметить. Кроме того, сильно испугалась и сразу же побежала звать на помощь. Конечно, это было самое разумное, что она могла сделать.
– А когда вы были на берегу, вы никого не видели? – спросила Амалия.
Рудольф покачал головой:
– Я бы непременно запомнил. Хотя лучше всего, дорогая кузина, я запомнил кулак бравого офицера, который въехал мне в физиономию, когда я отказался лезть в воду. Вы не поверите, но Уилмингтон с трудом оттащил его от меня. Кажется, шевалье и впрямь к вам неравнодушен.
– Вы очень догадливы, кузен. – Амалия улыбнулась.
– Любовь… – вздохнул Рудольф. – Черт возьми, дорогая кузина, я ведь тоже кое-что знаю о ней, хотя некоторые циники и говорят, что она – всего лишь обмен двумя фантазиями.
– И кто же так сказал? – поинтересовалась Амалия. – Кажется, я где-то читала, но автора не помню.
– Шамфор, – пояснил Рудольф. – Ларошфуко, на мой вкус, все-таки простоват, у него сплошные сравнения: любовь похожа на это, тщеславие подобно тому, и так далее, до бесконечности. А вот Шамфор… Нет, вы только посмотрите, кошка опять нахально лезет в дверь! И чем вы ее приворожили, дорогая кузина? Ума не приложу!
Глава 37
– Поговорим серьезно, Рудольф, – попросила Амалия.
– Я весь внимание, – сразу же отбросил шутки в сторону немецкий агент.
– Вокруг пропавшего письма творится что-то очень странное, – начала Амалия. – Эстергази вам сообщил имя того, кто его отправил?
– Я-то понял, что отправитель письма уже мертв, – угрюмо ответил Рудольф и вслед за тем пересказал Амалии то, что ему удалось узнать от графа.
– На первый взгляд, – продолжал он, – все смахивает на шантаж. Но, если хорошенько поразмыслить… – Фон Лихтенштейн пожал плечами. – Хотя что там может быть, кроме шантажа?
Амалия нахмурилась:
– Рудольф, а вам не кажется, что граф Эстергази лжет?
– В каком смысле? – удивился немец. – Что самоубийство кронпринца тут вовсе ни при чем?
– Что мы вообще знаем о кронпринце Руперте? – вопросом на вопрос отреагировала Амалия.
– Единственный сын королевы Елизаветы, покровительницы искусств, которая в своем отечестве куда более популярна, чем ее супруг, – начал Рудольф. – Что еще? Двадцать пять лет, увлекался охотой, был женат на принцессе Стефании, с которой не ладил…
– А с кем он ладил? – спросила баронесса.
– Вы имеете в виду, была ли у него дама сердца? – хмыкнул ее кузен. – Странно было бы предположить, что кронпринц такой державы чах без женского внимания. У него был роман с графиней Фекете, а она дочь герцога Савари и, кстати, когда-то лечилась здесь, в санатории. Потом с принцессой Евгенией, с некой Мари д’Эвремон, с балериной Недвед, с дюжиной актрис, если не с сотней… Все, молчу, молчу! – быстро добавил граф, увидев, как сверкнули глаза Амалии.
– Это не смешно, – возразила Амалия. – Посудите сами: с женой, которую больше не любил, он фактически разошелся, но без женского внимания все равно не остался. Кто станет сводить счеты с жизнью из-за человека, которого не любит?
– А, так вы о причине его поступка? Должен сказать, и впрямь выглядит странно. Я имею в виду, что у коронованных особ есть при желании тысячи способов, чтобы месяцами не встречаться со своими супругами.
– Вот именно, Рудольф, – тихо проговорила баронесса. – Но что, если речь на самом деле идет вовсе не о самоубийстве?
Кузен открыл рот, да так с раскрытым ртом и остался.
– Нет! – наконец ожил немецкий агент. – Вы что, имеете в виду убийство? Убийство кронпринца Руперта?
– На такую мысль меня навели две детали, – пояснила Амалия. – Первое: утром того злосчастного дня кронпринц был весел и доволен, а вечером ни с того ни с сего покончил с собой. И второе. Свидетель видел в коридоре барона Селени, который нес окровавленную тряпку. Кронпринц стрелял себе в сердце, и крови было совсем немного. Откуда же тогда кровь на тряпке?
Рудольф молчал.
– Более того, – добавила Амалия, – тело сразу же перенесли в спальню и даже мать не пустили туда, где произошло предполагаемое самоубийство. Почему? Что именно хотели скрыть?
– Так, кажется, я понял ход вашей мысли, – объявил Рудольф, обретая свое обычное хладнокровие. – Перед смертью кронпринц сопротивлялся и успел кого-то ранить, прежде чем его самого убили. И кровь того человека, как простому слуге, пришлось замывать барону Селени, потому что слуг, конечно же, звать было нельзя. Ну что ж… – Граф немного подумал. – Тогда мы имеем дело с заговором, в который, скорее всего, вовлечен младший брат короля. Ведь после смерти Руперта он становился наследником… стало быть, он и есть главное заинтересованное лицо. Довольно скверная получается история, вы не находите?
– Более того, – продолжила баронесса, – убийство, а не самоубийство, как раз объясняет все. И то, почему был убит отправитель письма, и чрезмерная секретность, которой окружена смерть кронпринца, и желание богемцев отсечь всех, кого только можно, от опасной тайны. Это не просто скверная история, Рудольф, это преступление.
– Очень может быть, – вздохнул кузен. – Значит, вы думаете, что в письме говорится не о самоубийстве, а об убийстве?
– Да. И бьюсь об заклад, – сверкнула глазами Амалия, – графу Эстергази отлично все известно. Он же видел остальные письма, которые, по его словам, его люди успели перехватить.
– Черт возьми! – усмехнулся кузен. – Простите меня, кузина, но игра положительно становится слишком опасной. В нашем мире убивают и за меньшие тайны, а тут… Теперь понятно, почему Хофнеры так нервно отнеслись к появлению вашего знакомого на вилле. И почему граф все время предупреждает меня, чтобы я ничего вам не говорил.
– И все-таки вы его ослушались, – заметила Амалия.
– Я от рождения чертовски доверчив, – объяснил Рудольф, безмятежно улыбаясь. – Никак не могу избавиться от дурной привычки… Как вы думаете, кто украл письмо?
– Разумеется, тот, кто знал о его содержании, – ответила Амалия.
– А кто убил Селени? Тот, кто украл письмо?
– А смысл? – возразила Амалия. – Письмо – настоящее оружие. Владея им, можно получить большие деньги… очень большие. Зачем рисковать и убивать барона Селени?
– Но ведь убил же до того наш похититель мадам, как ее, Карнавале и свидетеля-итальянца, – возразил в свою очередь Рудольф.
– Да, поскольку они что-то знали о нем и могли его выдать. И оба к тому же находились в санатории. Но барон Селени… – Баронесса покачала головой. – Хотя, если похититель хотел окончательно себя обезопасить, он мог пойти и на такой шаг.
Граф фон Лихтенштейн нахмурился. Если в тот день Селени стоял в коридоре, как говорила Амалия, с окровавленной тряпкой… Если он присутствовал при убийстве… Черт возьми, уж не заметает ли Эстергази следы? Вот и доктор Брюкнер, который дал заключение о смерти принца Руперта, куда-то исчез. И какое совпадение – исчез именно тогда, когда прибыл в Ниццу.
И тут у Рудольфа появилась совсем уж неприятная мысль. А что, если его с Амалией ловко выбрали на роль козлов отпущения? Допустим, всех свидетелей убийства кронпринца перебьют, а граф Эстергази… скажет, что он с кузиной работали на врагов Богемии. Что именно они украли письмо… тогда как письмо уже давно у него. Да-да, мадам Карнавале передала ему письмо, когда граф посещал санаторий, и после он убил ее. Но объявился ненужный свидетель – священник Маркези, который, например, видел графа со старушкой, поэтому пришлось избавиться и от него… Затем Эстергази ночью выманил барона Селени запиской, задушил его, а труп бросил в море. Доктора Брюкнера, предположим, он встретил на вокзале и тоже убил. Что еще осталось необъясненным? Странный ночной обыск в комнате мадам Карнавале? Да все просто, дамы и господа… Старушка прочитала письмо, поняла его ценность и отказалась его отдавать. Ее убили, а письмо нашли потом. Конечно, разве стала бы хитрая дама отдавать такую бумагу? Она предложила договориться, но граф Эстергази не захотел договариваться. И просто столкнул ее со скалы. А ночью сам или люди, выполняющие его волю, обыскали комнату строптивой агентши и нашли письмо, чтобы не рисковать и не ждать до следующего дня, когда уже официально можно было забрать вещи. И какое странное совпадение – сегодня утром на дуэли один из людей, преданных графу Эстергази, погиб самым нелепым образом. В живых остается только Альберт Хофнер. Да, только Альберт. Но ведь и он смертен, не так ли? А потом… Потом граф Эстергази представит куда надо подробный доклад, где выставит в самом выгодном свете свои заслуги и пожалуется на то, что двое предателей, граф фон Лихтенштейн и баронесса Корф, устранили всех его подчиненных и завладели компрометирующим письмом, дабы шантажировать благородную богемскую монархию. И через несколько дней трупы Рудольфа и его кузины вытащат в своих сетях из прекрасного Средиземного моря загорелые французские рыбаки…
Нет, решительно сказал себе Рудольф, это все мои фантазии. В конце концов, кто сказал, что доктор Брюкнер убит? Он опаздывает, выехал другим поездом, только и всего. Да и Альберт Хофнер вовсе не похож на человека, который собирается умирать. А вот если…
– Что с вами, кузен? – встревожилась Амалия, видя, как он помрачнел.
– Мысли, – коротко ответил Рудольф. – Разные проклятые мысли не дают покоя, кузина.
А про себя граф уже вспоминал адрес одной оружейной лавки, где продают отличные американские револьверы. Потому что оружие, что ни говори, – лучший аргумент для защиты своей жизни.
– Не забудьте мне о них рассказать, – заметила Амалия. – Кстати, вас не затруднит принести мне Шамфора из библиотеки? Похоже, в ближайшее время мне придется находиться в постели, так что хочется провести его в обществе умных людей.
Глава 38
Эдит Лоуренс перетасовала карты и стала раскладывать их на столе, часть отбрасывая в сторону. За ее манипуляциями с любопытством наблюдал из угла гостиной Мэтью Уилмингтон.
Затем Эдит смешала оставшиеся карты, перетасовала их, вновь разложила и стала убирать те, которые, очевидно, дополняли друг друга. Отбросив последние карты, девушка недоуменно пожала плечами.
– Нас ждут еще какие-то ужасы, мисс Лоуренс? – решился подать голос Мэтью.
Эдит метнула на него хмурый взгляд.
– Нет. Если верить пасьянсу, очень скоро все кончится.
– О! – глубокомысленно промолвил Уилмингтон.
В глубине души он уже жалел, что начал разговор. Молодой человек совсем не владел искусством беседы, которое позволяет завладеть вниманием хорошеньких девушек; кроме того, он чувствовал себя неуклюжим, некрасивым и неинтересным, и это мучительное ощущение заставляло его еще больше замыкаться в себе. Поэтому он немного удивился, когда Эдит внезапно произнесла:
– А что там случилось на дуэли, мистер Уилмингтон? Вы ведь были секундантом?
Мэтью покраснел. По правде говоря, хоть он и основательно подготовился к своей роли и даже специально взял из библиотеки толстый том дуэльных правил, русский поэт обставил его по всем статьям. Мэтью никогда не подозревал, что поэты такие кровожадные люди, однако факт остается фактом: мистер Нередин знал о дуэлях абсолютно все, причем, похоже, даже не читая толстых пыльных фолиантов. Он уверенно общался с Рудольфом фон Лихтенштейном и вторым секундантом противника, знал, как и когда следует стрелять, и все робкие попытки Уилмингтона вмешаться в разговор не приводили ни к чему хорошему. Однако англичанин скорее умер бы, чем признался в том своей собеседнице.
– Право, мисс Лоуренс, – неопределенно протянул он, – дуэль как дуэль, ничего особенного… – Он запнулся.
– А все-таки? – настаивала Эдит. – Ведь вы же были там, а значит, все видели.
Мэтью покраснел еще гуще.
– Я даже не знаю, мисс Лоуренс, что тут рассказывать… Мы прибыли на место раньше их. Мистер де Вермон казался очень спокойным. Он сказал, что недавно получил какое-то наследство и позаботился написать завещание. Потом подъехали второй дуэлянт, его брат, который выступал секундантом, и мистер фон Лихтенштейн. Место им не очень понравилось, и они стали говорить, что солнце будет светить в глаза одному из противников, отчего второй получит преимущество. Мы перешли в другое место, но тут уже мистеру Нередину что-то не понравилось, и он стал спорить с секундантами. Пока они разговаривали, мистер Хофнер ходил туда-сюда, а потом упал.
– Как упал? – удивилась Эдит.
– Зацепился ногой за какой-то сук, – пояснил Мэтью. – Когда он падал, то распорол левую руку. Мистеру фон Лихтенштейну это не понравилось, мол, плохая примета, но брат дуэлянта ответил, что вздор. Мистер Хофнер выпил воды из фляжки, которая была с собой у его секунданта, и объявил, что готов. Ну… дуэлянты разошлись. Мистер де Вермон выстрелил первым, но его пистолет дал осечку. Тогда мистер Нередин, который стоял возле меня, сказал что-то по-русски… я не понял его слов. Мистер Хофнер хотел выстрелить, но как-то неловко дернул рукой и… Вот так все и кончилось, – добавил он извиняющимся тоном. – Брат убитого… то есть его на самом деле никто не убивал… готов был наброситься на нас с кулаками, но мистер Нередин заявил ему, что все было по правилам, и мистер фон Лихтенштейн подтвердил. Тело погибшего увез брат, ну а мы… мы вернулись в санаторий.
Мэтью ждал, что Эдит скажет что-нибудь приличествующее случаю, но ее замечание ошеломило его.
– Хорошо мужчинам – они могут драться на дуэли, – внезапно произнесла девушка. – А вот я не могу, хотя с удовольствием вызвала бы… кое-кого.
Уилмингтон сначала решил, что ослышался. Однако поглядел в лицо Эдит и убедился: она говорит совершенно серьезно.
– Мисс Лоуренс… – несмело начал Мэтью. – Вас кто-то обидел? Кто? Скажите мне, и я… – Но не закончил фразу, внезапно поняв, что вряд ли сможет помочь своей соотечественнице. И в самом деле, что мог сделать такой безнадежный больной, как он?
– Вы знаете, что случилось сегодня с баронессой Корф? – спросила Эдит. Мэтью, поколебавшись, кивнул. – Я очень боюсь, что на самом деле все произошло из-за меня. Она так хотела мне помочь!
И, не удержавшись, девушка рассказала о браке своей подруги Аннабелл, о ее гибели и о подозрениях, которые мучили Эдит.
– Боже мой! – воскликнул Мэтью, пораженный до глубины души. – Какая ужасная история, мисс Лоуренс! Неужели это может быть кто-то, кого мы знаем? И вы… вы решились вот так, одна, отыскать этого страшного человека?
– Вы забываете, – возразила Эдит, – что Аннабелл была моей лучшей подругой. А теперь я боюсь за баронессу Корф, что она тоже может пострадать. Ведь у доктора Севенна пропали две склянки с морфием. Одну взяла русская художница, а куда делась вторая? Конечно, ее взял убийца. Мало ли какие планы могли зародиться в его голове!
Прежде чем ответить, Мэтью оглянулся по сторонам, и его движение отчего-то крайне не понравилось Эдит.
– За склянку с морфием можете не волноваться, мисс Лоуренс, – сконфуженно промолвил он. – Дело в том, что… ее взял я.
– Вы? Но зачем? – оторопела Эдит.
– Когда Катрин умерла… – Мэтью опустил глаза, – мне было так плохо… никто даже представить себе не может. И я украл морфий, чтобы… чтобы умереть. Но потом я увидел мисс Натали, как она… И мне показалось так гадко… самоубийство и все прочее… У меня просто не хватило духу, я не смог…
– Конечно, никогда не стоит этого делать, – сказала Эдит, стараясь говорить как можно мягче. – И верните склянку доктору Севенну, а то ему крепко досталось от месье Гийоме за небрежное хранение лекарств. Вы… вы меня удивили, мистер Уилмингтон. Вот уж не думала, что вы способны на такое.
– Я тоже не думал, что вы… – начал Уилмингтон.
Но тут дверь гостиной растворилась, и вошла Натали Емельянова. Эдит сразу же заметила, что у художницы на редкость испуганный вид.
– А, мисс Натали! – проговорила миниатюрная англичанка. – Что-нибудь случилось? Я надеюсь, с баронессой Корф все в порядке?
– Кажется, да, – несмело ответила Натали, – но дело в том… Дело в том, что мне нужна помощь. Я… я кое-что нашла там, на берегу.
Пока Натали рассказывала пораженным англичанам, что именно она отыскала, Шарль де Вермон вовсю обхаживал Амалию. Во-первых, он наконец сумел выпроводить бывшего пленника Шатогерена из комнаты, которую Рудольф фон Лихтенштейн оккупировал непростительно долгое время. Во-вторых, шевалье принес виноград, сливы, персики и стал уговаривать Амалию попробовать их, потому что сам лично выбирал их для нее и не переживет, если его выбор ей не понравится. Одновременно Шарль пытался избавиться от кошки, которая путалась у него под ногами и вообще всячески мешала показать свою галантность. Наконец Амалия убедила его поставить тарелку с фруктами на стол. Шарль опустился в кресло и взял кошку на руки.
– Что вы читаете? – спросил шевалье, косясь на листок в руке молодой женщины.
– Объяснение в любви, которое мне написал мой кузен, – ответила Амалия.
Быстрее молнии Шарль скользнул вперед и выхватил у нее листок. Сброшенная на пол кошка негодующе мяукнула и забралась под кровать.
– Шарль! – возмутилась Амалия. – Это уже ни на что не похоже!
– Конечно, – сердито проговорил шевалье, – вам нравится меня дразнить! И это вовсе не любовное письмо, а какой-то список. И что тут такое? «Графиня Фекете, дочь герцога Савари. Балерина Недвед. Принцесса Евгения. Актрисы. Мари д’Эвремон…» Знавал я когда-то одну Мари Эвремон, но без приставки «де». Прелестная была девушка. Что за список, Амалия? Неужели здесь перечислены жертвы обаяния вашего кузена? Ни за что не поверю! Или уж тогда у современных актрис чрезвычайно плохой вкус.
– Шарль, – сердито сказала Амалия, – отдайте листок.
– Не отдам, – отозвался шевалье, отводя руку. – Кто такие эти женщины?
– Знакомые человека, который уже умер, – объяснила Амалия. – Одной из них, судя по всему, он особенно дорожил, и если бы удалось ее найти, возможно, она могла бы многое нам рассказать. А что за Мари Эвремон, которую вы знали?
– Вы ревнуете? – Шарль сделал вид, что возмущен. – Уверяю, у вас нет оснований! Я не видел ее несколько лет и понятия не имею, что с ней стало.
– Но кто она вообще такая? – спросила Амалия.
– О ее отце я ничего не знаю, – ответил Шарль, – он умер еще до ее рождения. Мать – славная женщина, но, похоже, слегка не в себе. Она очень любила говорить, как все их ненавидят и преследуют, но что в конце концов они обязательно прославятся. Сама Мари – хрупкая, мечтательная девушка, очень чувствительная и… Однако я плохо ее помню, – закончил он капризным тоном.
– Шарль!
– Потому что для меня существуете только вы, а раз так, все остальные женщины не имеют значения. – Шевалье вернул Амалии листок. – Вы даже представить себе не можете, что я сегодня почувствовал, когда проклятый пистолет предательски щелкнул у меня в руках. Но бог сжалился надо мной, – добавил он, волнуясь. – Просто чудо, Амалия, то, что там произошло. Я ведь прекрасно видел – мерзавец Хофнер был готов меня убить. А получилось…
Но Шарль не успел закончить фразу, потому что в комнате вновь материализовался Рудольф фон Лихтенштейн, от которого, как надеялся шевалье, он окончательно избавился. Немец вошел так стремительно, что створка двери с грохотом ударилась о стену.
– Кузина, – проговорил он быстро, – дело плохо. Я уже уходил, когда меня нагнали мадемуазель Натали и англичане из санатория. Ваша соотечественница нашла на берегу труп.
– Чей? – насторожилась Амалия.
Прежде чем ответить, Рудольф поглядел на Шарля.
– Никто из них не знал того человека, – произнес он. – А я знал его, потому что мне приходилось встречаться с ним прежде. Это доктор Брюкнер.
Глава 39
Мадам Легран, которая выходила по делам, как раз собиралась вернуться в комнату баронессы Корф, которую сегодня столкнули в воду и которая едва не погибла. По словам доктора Гийоме, бедная женщина в ближайшие два дня вряд ли смогла бы передвигаться самостоятельно. Однако едва сиделка приблизилась к лестнице, которая вела на верхний этаж, ее глазам предстало возмутительное и совершенно противоестественное зрелище, а именно: жертва недавнего покушения мчалась вниз по ступенькам со скоростью, которую ей только позволяли пышные юбки шелкового платья. С левого бока жертву заботливо поддерживал немецкий кузен, а правым, здоровым локтем предусмотрительно завладел Шарль де Вермон.
– Госпожа баронесса, – пролепетала мадам Легран, теряя голову, – куда же вы? Сударыня! Вам нельзя вставать!
Но сударыня только отмахнулась и двинулась дальше. По здравом размышлении мадам Легран решила, что все равно не угонится за госпожой баронессой, и решила пожаловаться на нее кому следует.
В кабинете доктора Гийоме собрались все трое медиков. Главный врач нервно курил, расхаживая по комнате. Шатогерен обмяк в глубоком кресле и прислонился головой к его спинке. Что же до Филиппа Севенна, то он говорил о мадам Ревейер, которая предпринимает отчаянные попытки, чтобы вернуться в санаторий. Ее муж готов дать большие деньги на исследования доктора Гийоме с тем, однако, условием, что, если тот откроет лекарство от туберкулеза, оно будет названо именем его жены.
– Какое лекарство, дорогой мой! – невесело усмехнулся Гийоме. – По-вашему, научная работа – нечто вроде ухода за садом, которым можно заниматься в любое время и в любом настроении? Черт возьми, наука требует самоотречения, ясной головы, колоссального времени, идеальных условий, наконец! Как я могу чем-то заниматься, когда в санатории творится черт знает что? Ах, мадам Легран! Надеюсь, вы не принесли нам дурные вести?
Мадам Легран порозовела от волнения и сказала, что она ни в коем случае не хотела тревожить месье Гийоме, но госпожа баронесса встала с постели и вышла из дома. Шатогерен в изумлении поднял голову.
– Вышла из дома? Сама? – не веря, переспросил Гийоме.
– В сопровождении шевалье и своего кузена.
– И куда она направилось?
– По-моему, на берег, – подумав, ответила мадам Легран.
Гийоме вскинул вверх обе руки, словно сдаваясь.
– Поразительно! Скажите, Рене, вы можете себе представить что-то подобное? Ее чуть не убили, она едва не утонула, и вот – дня не прошло, больная снова идет на берег. Зачем? Женщины, женщины! – Доктор повернулся к Севенну: – Филипп, сходите за мадам Корф. Объясните ей, что, если она простынет на ветру, я ни за что не ручаюсь. И заставьте ее лечь в постель!
– Я пойду с вами, – присоединилась мадам Легран к Севенну.
Они нашли Амалию, ее кузена и Шарля на берегу возле какой-то груды, напоминающей человеческое тело. Но, приблизившись, сиделка поняла, что это и впрямь тело, и ее охватил невольный страх.
– Значит, труп мне не померещился, – проговорила Амалия, ни к кому конкретно не обращаясь. – Он и в самом деле был там… в волнах.
Рудольф обернулся, заметил мадам Легран с молодым врачом и кашлянул.
– Поговорим потом, – негромко уронил он.
Севенн потребовал объяснений. Рудольф рассказал, что художница заметила на берегу тело, сообщила о нем англичанам, а он узнал уже потом. Судя по всему, труп пробыл в воде не слишком долго, хотя чайки и успели его поклевать. Да, и о том, кем является утопленник или убитый, он, Рудольф фон Лихтенштейн, не имеет ни малейшего представления, равно как и его спутники.
Пришлось послать за инспектором Ла Балю, который прибыл через час. Заодно инспектор захотел узнать подробности нашумевшей дуэли, о которой говорила вся Ницца. Дуэль, как утверждали осведомленные источники, состоялась из-за прекрасных глаз некой русской баронессы, находящейся в санатории. Почему-то ни Шарль, ни Рудольф даже не вздумали оспаривать сию версию, что, разумеется, делало честь их скромности.
– Я полагаю, – произнес инспектор, нерешительно поглядывая на труп, – что несчастный… гм… все же утонул.
– Если, конечно, он имел привычку плавать в одежде, – сухо ответил Севенн. – Простите, месье, но я так устроен, что называю кошку кошкой.
– Мужчина мог упасть с палубы корабля, – возразил Ла Балю.
– И его не хватились? – Тон Шарля был самым невинным.
Однако Амалия встала на защиту инспектора. Что бы ни случилось с неизвестным, объявила она, месье Ла Балю наверняка доберется до истины. В конце концов, такова прямая обязанность полиции – разбираться с неопознанными трупами.
– Кузина, – прошептал Рудольф, когда они вернулись в апартаменты Амалии и Шарль на минуту куда-то отлучился, – должен признаться вам, что происходящее нравится мне все меньше и меньше. Если за всем стоит Эстергази…
И он изложил Амалии, почему граф мог быть заинтересован в устранении своих сотрудников.
– Мне пришло в голову то же самое, – спокойно промолвила молодая женщина. – Хотя, насколько я понимаю, похищенное письмо не появилось в прессе, никто не шантажирует правительство Богемии и вообще ровным счетом ничего не изменилось.
– За исключением того, что люди, которые могли знать что-либо о гибели кронпринца, исчезают один за другим, – добавил Рудольф.
– Кстати, о людях, которые могли что-то знать… Как вы думаете, кузен, кто лучше всего знает мужчину?
– Его женщина? – тотчас же предположил фон Лихтенштейн.
– Именно, – кивнула Амалия. – Среди тех, кого вы мне назвали, меня заинтересовало одно имя. Мари д’Эвремон. Что вам о ней известно?
– Мне? Да ничего, по правде говоря, – ответил Рудольф. – Если хотите, могу рассказать вам про дочь герцога Савари, с которой у кронпринца был роман. Что касается Мари, то она, похоже, просто-напросто служила им ширмой.
– Нет, дочь герцога меня не интересует, – возразила Амалия. – Шарль возвращается, я слышу его шаги… Мне нужна именно Мари д’Эвремон. Если вас не затруднит, наведите о ней справки, я буду вам чрезвычайно благодарна.
Шевалье, который вернулся с охапкой пестрых роз, с неудовольствием увидел, что немецкий кузен никуда не провалился (как того хотелось бы офицеру), а смирно сидит напротив Амалии, изучая какую-то русскую газету. Преодолев секундное раздражение, Шарль стал расставлять цветы в вазы. Одновременно он обдумывал вопрос, нельзя ли к чему-нибудь придраться и вызвать Рудольфа на дуэль, чтобы уж окончательно избавиться от него. Хотя, с другой стороны, если Амалия привязана к своим родственникам, такой поступок мог ее огорчить, а офицер ни за что на свете не хотел огорчать баронессу.
– Рудольф, – тихонько сказала Амалия, когда Шарль отошел и не мог ее слышать, – вы держите газету вверх ногами.
Кузен вздохнул, положил газету, поцеловал Амалии руку и нехотя удалился. По правде говоря, ему совсем не хотелось оставлять молодую женщину одну, но он рассудил, что Шарль де Вермон о ней позаботится. Вскоре явилась мадам Легран, которая принесла лекарство для госпожи баронессы. Вслед за сиделкой пришел доктор Гийоме, который выпроводил шевалье и осмотрел больную.
– И все-таки вам следовало сказать инспектору Ла Балю о том, что с вами произошло, – хмуро заметил он.
– Полно, доктор, – улыбнулась Амалия, – ничего ведь страшного не произошло. А рука… рука заживет.
– Я ценю ваше самопожертвование, – возразил Гийоме, – но что, если вы простудитесь? При вашей болезни последствия могут быть весьма плачевными. Вы только начали выздоравливать, и тут этот случай…
Но Амалия спокойно повторила, что не изменит своего решения, и, попрощавшись с доктором, села читать Шамфора.
Когда Шарль де Вермон вернулся, он увидел, что Амалия неподвижно сидит в кресле, глядя куда-то в окно, и выражение ее лица не на шутку его озадачило.
– Что-нибудь случилось? – с беспокойством спросил он.
– Не знаю, – задумчиво протянула Амалия. – Не уверена. То есть… – Она закусила губу. – Получается, не зря мне все время снилась книжная лавка, потому что я не могла понять, что на самом деле не так… Откройте вон тот ящик, Шарль, и подайте мне письма, которые там лежат… Благодарю вас. И еще, шевалье. Помнится мне, в библиотеке был отличный сборник Буало. Вас не затруднит разыскать его и принести мне?
Несколько удивленный, Шарль сходил в библиотеку и исполнил ее просьбу. Дальнейшие действия Амалии показались ему немного странными, но он не стал задавать лишних вопросов. Баронесса перечитала письма и сделала из них какие-то выписки, затем перевела их на французский и открыла книгу. А когда через некоторое время захлопнула изящный том с золотым обрезом, Шарль поразился перемене, произошедшей в ней, – ее глаза сверкали, на губах блуждала довольная улыбка.
– И все-таки я его поймала, – проговорила она. – Щучья холера! Ведь все было так просто, так просто… Но если бы не кузен Рудольф, я бы не догадалась, нет, не догадалась. – Она поднялась с места. – А теперь, пожалуй, мне надо поговорить с мадемуазель Натали.
Глава 40
Человек, который нынешним утром столкнул Амалию Корф со скалы в расчете на то, что она погибнет, как и мадам Карнавале, вошел в свою комнату – и замер на месте. Потому что увидел на столе пропавшую склянку с морфием. Вторую из тех, которые исчезли незадолго до попытки самоубийства художницы. «Черт возьми, откуда она тут взялась?» – в изумлении подумал человек. Он отлично помнил, что, когда уходил, никаких лекарств на столе не было.
– Добрый вечер, месье, – раздался голос Натали. Девушка незаметно вошла за ним следом и теперь стояла у него за спиной, он видел ее отражение в зеркале напротив. – Я хотела с вами поговорить.
– Должен вам заметить, – строго промолвил Филипп Севенн, оборачиваясь, – что вами после того прискорбного случая занимается исключительно доктор Гийоме.
– Я не по поводу лечения, – возразила Натали.
– А по какому же? Прошу прощения, мадемуазель, но у меня дела…
– Я все видела, – внезапно проговорила художница, с вызовом глядя на врача. – Все, понимаете? Потому что именно вы столкнули ее утром вниз.
Кажется, он даже не успел удивиться. Только вот ноги в коленях сразу же сделались какими-то до ужаса гибкими, и мужчина опустился на первый же попавшийся стул.
– Но, мадемуазель… Уверяю вас, вы ошиблись… Там был не я.
– Вы, – упорствовала Натали, – я узнала вашу походку, ваши жесты… Конечно, это были вы. И хотя госпожа баронесса предпочла не предавать неприятный случай огласке… думаю, я все же должна рассказать обо всем доктору Гийоме. – Девушка повернулась к выходу.
Большая, нелепая, с длинными руками – в то мгновение Филипп Севенн ненавидел ее, как никого на свете. Вне себя от ярости он бросился к ней, схватил за горло, повалил на пол… И услышал редкие, спокойные аплодисменты. Хлопала Амалия, стоя в дверях.
– Отпустите ее, – сказал кто-то голосом Алексея Нередина.
Но Филипп Севенн только крепче стиснул пальцы. Перед глазами у него мелькали кровавые круги, он никак не мог поверить, что это конец, конец… конец всему. Его схватили за волосы, стали оттаскивать, он приглушенно взвыл. Шарль де Вермон не без труда вынудил его разжать пальцы, и Натали, растирая шею, повалилась на пол.
– Каков мерзавец! – проговорил потрясенный поэт.
Натали тихо заплакала, но Амалия подошла к ней, погладила по волосам, сказала, что теперь все хорошо, что она замечательный, храбрый человек – помогла разоблачить опасного преступника. Потому что он убивал людей, да, убивал женщин, и Амалия вовсе не первая, кого он пытался убить. Услышав последние слова, Севенн, который сидел на оттоманке под надзором Шарля и поэта, попытался вскочить на ноги.
– Я никого не убивал! – крикнул он. – Никто не сможет меня обвинить!
– Потому что вы все предусмотрели, не так ли? – бросила Амалия. – Успокойтесь. Меня вы точно пытались убить, и у нас есть свидетель. – Баронесса дернула за звонок. – Анри! Позовите месье Гийоме, пожалуйста. Полагаю, месье Шатогерену тоже будет небезынтересно узнать правду о своем коллеге.
Севенн визгливо засмеялся:
– О, какие слова! Ну что ж, да, я попался, как дурак, но и вы не лучше меня! Почему вы убили Катрин?
– Что? – вырвалось у Амалии.
– Что? – вслед за ней воскликнул изумленный поэт.
– Да, да, и нечего притворяться! – кричал Севенн. – Она ведь не была больна чахоткой, никогда ею не страдала, и вдруг… на своей проклятой помолвке с дураком, который должен был ей завещать… все завещать… – Филипп задыхался, из его рта вылетали мелкие брызги слюны.
Амалия распрямилась. Ее лицо было очень бледно.
– Вот оно что… Так вы работали с ней вместе? В паре, так сказать? То она подыскивала жертву, то вы… Красивые слова любви, а потом – прогулка под дождем, простуда, и человек, который болен чахоткой, почти сразу же обречен на смерть?
– Послушайте, – жалобно проговорила Натали, – так, значит, что же получается… Он и… Катрин?
– Они находили жертвы среди больных чахоткой, – пояснила Амалия устало. – Втирались к ним в доверие, оформляли брак по подложным документам, а потом… потом помогали супругам умереть, причем так, что никакой закон не притянул бы их к ответу. И получали наследство.
– Уж кто бы говорил о подложных документах! – возмутился Севенн. – Ведь вы сами никакая не Амалия Корф, а Диана Макферсон! Да, я помню, как идиотка Аннабелл писала вам письма, рассказывала, что да как… И вдруг вчера я увидел их у вас в руках! Я сразу же понял, что дело нечисто, что вы пришли по мою душу. Вы убили Катрин, чтобы сделать мне больно! И за это вы ответите, да, да, ответите!
– Я не Диана Макферсон, – спокойно возразила Амалия. – Диана Макферсон – та, кого вы знаете под именем Эдит Лоуренс. Верно, впрочем, лишь то, что девушка обратилась ко мне за помощью. Она знала, что ее подругу убил кто-то из санатория, но не могла понять, кто именно. Вы сами себя выдали, месье, за что вам большое спасибо. Кажется, вы любите читать Буало и Шамфора? Лично я предпочитаю Шамфора. Определенно он был прав, когда говорил, что некоторые люди способны поджечь чужой дом, чтобы на этом огне поджарить себе яичницу. Вы и сами из таких.
– Убивать людей, чтобы получить наследство… – Шарль поежился. – Отвратительно!
– О! Наследство! – крикнул Филипп. – Можно подумать, нам попадались одни богачи! Вечно врали, что у них есть деньги, а на самом деле… И та английская моль тоже меня обманула, потому что успела спустить почти все на лечение, только пыль в глаза пускала. Лишь однажды выпал хороший куш – олух Уилмингтон, но вы, вы… – Он обернулся к Амалии. – И не думайте, что я буду молчать!
– Какое совпадение, – насмешливо отозвалась Амалия. – Я тоже.
– Ваши угрозы мне смешны! – взорвался Севенн. – Вы ничего не докажете, повторяю – ничего! Ни Аннабелл, ни Маркези, ни…
Он умолк, но было уже поздно: слова, которых ни в коем случае не следовало говорить, уже сорвались с его губ.
– Человек, способный убить томом Монтеня… – вздохнула Амалия. – А ведь я могла догадаться, что убийство итальянца – ваших рук дело. За что вы его, а?
Севенн молчал, не поднимая глаз.
– Амалия Константиновна, ведь Ипполито Маркези… он же был священник, – заметил поэт, волнуясь.
– Верно, верно! – подхватил Шарль. – Получается… погодите! Видимо, он уже знал кого-то из них под другим именем. Потому что когда-то венчал этого человека и… и одну из жертв.
Амалия усмехнулась.
– Бьюсь об заклад, это была Катрин Левассер, – задорно проговорила баронесса. – Помните, Маркези назвал ее мадам, когда только приехал сюда, а так обращаются к замужней женщине. Я права, месье Севенн?
Однако Филипп не успел ответить, потому что в комнату вошел доктор Гийоме в сопровождении Шатогерена. Анри предпочел остаться в коридоре, где, впрочем, все и так было прекрасно слышно.
– Боюсь, месье Гийоме, что ваши злоключения вовсе не кончились, – промолвила Амалия и рассказала, как ей удалось с помощью Натали вывести Севенна на чистую воду.
– Но почему мадемуазель сразу же не сказала, кого именно видела… – начал Гийоме.
– Она не была до конца уверена, – ответила Амалия. – Поэтому пришла ко мне посоветоваться, и я убедила ее, что не стоит оставлять столь опасного человека на свободе. Тем более что он, как выяснилось, к тому же убил одного из пациентов санатория – Ипполито Маркези.
– И, не забывайте, пытался убить саму мадемуазель Натали, как только понял, что девушка его узнала, – сердито добавил Нередин.
– Филипп, неужели все, что здесь говорится, правда? – спросил потрясенный Шатогерен.
– Ложь! – хрипло и злобно огрызнулся молодой врач. – Все ложь! Лучше узнайте у нее, как она убила Катрин! Потому что Катрин никогда не болела чахоткой, я подделывал ее анализы, чтобы ее не выставил из санатория наш великий доктор, – Севенн насмешливо покосился на Гийоме, который изменился в лице. – Она не была больна! Ее убили!
Случайно бросив взгляд на дверь, Нередин заметил, что на пороге стоят другие пациенты санатория, привлеченные громкими голосами. Эдит, опиравшаяся на руку Уилмингтона, вся дрожала.
– Это он? – громко спросила она у Амалии по-английски. – Бога ради, скажите: это он?
– Да, – ответила Амалия.
Эдит расплакалась, Мэтью стал неловко ее утешать. Гийоме, у которого нервно дергалась щека, попросил Анри послать за полицией.
– Как благородно! – вскинулся Севенн. – Один коллега предает другого! Интересно, что вы сделаете, чтобы удержать меня здесь? Закуете в кандалы?
– Довольно, Филипп, – вмешался Шатогерен. Затем повернулся к Гийоме: – Я послежу за ним, Пьер. Обещаю вам, он никуда не денется. – И повысил голос, обращаясь к пациентам: – Дамы и господа, уверяю вас, тут не на что смотреть! Инспектор Ла Балю во всем разберется. Возвращайтесь к себе, дамы и господа! Прошу вас!
Бросив уничтожающий взгляд на Севенна, который злобно кусал губы и смотрел мимо всех, Шарль взял Амалию под руку и повел из комнаты. Вслед за ними двинулись поэт, Натали и доктор Гийоме, лицо которого было таким мрачным, словно он только что потерял близкого человека.
Главный врач сразу же ушел к себе, и Амалия видела, как мадам Легран поспешила следом за ним. Эдит подошла к Натали и горячо пожала ей руку. Наконец-то благодаря ей они избавились от страшного, ужасного человека, из-за которого погибла ее подруга!
– Мне так неловко… – пролепетала Натали, заливаясь краской. – Но я тут ни при чем… я же совсем его не разглядела… Это все Амалия… госпожа баронесса меня научила, к кому надо идти и что говорить. Она была уверена, что это именно он.
– О, мадам Корф! – вырвалось у Эдит. – Боже мой! Если бы вы знали, как я терзалась, что из-за меня вы едва не погибли! Значит, вы все-таки сумели его разглядеть, когда он столкнул вас?
– Нет, – ответила Амалия с улыбкой, – боюсь, я не могу похвастаться тем, что у меня есть глаза на затылке.
– Тогда как вы его узнали? – полюбопытствовал Уилмингтон.
– О, история довольно длинная, – ответила Амалия. – И начать ее, пожалуй, надо с писем…
Англичане, шевалье де Вермон, Нередин и Натали перешли в ее комнату, и Амалия извлекла из ящика стола пачку писем Аннабелл.
– С вашего позволения, мисс Лоуренс… – взглянула баронесса на Эдит, и та наклонила голову. – Вот письма, которые писала мисс Эдит ее подруга, ставшая одной из жертв месье Севенна. К сожалению, в письмах нет никаких указаний на рост, цвет волос или хотя бы глаз, так что для составления портрета убийцы они не годятся. Зато там передается несколько разговоров с месье Севенном, и я долгое время не могла сообразить, что с этими разговорами не так. На самом деле бедняжка Аннабелл неспроста запомнила именно их, потому что как раз в них и заключается все самое интересное. Как вам, к примеру, такой пассаж: «По его словам, иногда страх перед дурным поступком вынуждает нас поступать еще хуже». Вам ничего не кажется в нем странным?
Поэт догадался первый:
– Это не его слова, а какая-то литературная цитата, которую он привел.
– Именно, – подтвердила Амалия, – в самом деле цитата из поэта Буало. Далее: «Матьё (его зовут Матьё, и он попросил меня так его звать) заметил, что навязчивое знание хуже незнания, и я с ним согласилась». У Буало не совсем так: «Незнание лучше навязчивого знания». Одним словом, месье Севенн любил перекраивать цитаты по своему вкусу. Следующее письмо: «Однако Матьё пожал плечами и сказал, что слава – сомнительное удовольствие быть известным людям, которым в жизни не подал бы руки…» Теперь уже цитируется Шамфор, причем у Шамфора фраза звучит гораздо мягче: «Удовольствие быть известным тем, кого не знаешь». И вновь переиначенный Шамфор: «Он говорит, что друзья вообще делятся на три категории: на тех, кто тобой дорожит, на тех, кому ты безразличен, и старых преданных врагов». У Шамфора не враги, а «друзья, которые вас ненавидят». Как видим, месье Севенн питает склонность к мизантропии, потому что его варианты почти всегда резче авторских. По какой-то причине он то и дело цитировал именно этих двух писателей – не Ларошфуко, не Лабрюйера, не Вольтера, не Паскаля, не Лафонтена и даже не Мольера. Чем объясняется такой его выбор, мне неизвестно, однако он существенно мне помог, когда я вспомнила некоторые выражения доктора. Ведь произнесенная им фраза «люди видны в мелочах», которую он как-то употребил при мне, – тоже Шамфор, хоть и укороченный; и то, что «любовь правда и иллюзия одновременно» – опять-таки взято у Шамфора; ну а «называю кошку кошкой» – прямая цитата из Буало. И тогда я поняла, что он и есть тот человек, о котором говорится в письмах.
Баронесса подняла голову и встретилась взглядом с доктором Шатогереном, появившимся в дверях.
– Цитатник Лафоре, – устало промолвил тот.
– Что, простите? – спросил удивленный поэт.
– Академик Лафоре, брат профессора Лафоре, у которого Филипп учился, составлял сборник цитат для одного издательства, – пояснил Шатогерен. – В то время Филипп ухаживал за дочерью академика и вызвался помогать ему в работе. Тот и поручил ему перечитать Буало и Шамфора в поисках подходящих цитат. – Он вздохнул. – А правда, что он назывался именем Гийоме?
– По крайней мере, один раз – да, – кивнула Амалия.
– Странно, – мрачно произнес Шатогерен, – я бы никогда не подумал, что Филипп способен на подобное… Он стажировался здесь еще во время учебы, ему нравилось в санатории… хотя он все время требовал больше денег… Доктор Гийоме считал, что со временем Севенн станет хорошим специалистом. А на самом деле… – Виконт пожал плечами.
Эдит резко выпрямилась.
– Мистер Шатогерен, вы что же, оставили его там одного? Он ведь убежит! Я не хочу, чтобы преступник ушел безнаказанным! Негодяй должен ответить за свои деяния!
– Успокойтесь, мадемуазель, – отозвался врач, – никуда Севенн не убежит. С ним Анри и Ален, так что все в порядке. Они не дадут ему уйти.
– Скажите, месье Шатогерен… – внезапно проговорила Амалия. – Там в комнате на столе была какая-то склянка. Вы не помните, в ней случаем не морфий?
– Склянка? – удивился Шатогерен. – Нет, не может быть. После той пропажи доктор Гийоме отобрал у него весь морфий.
Мэтью Уилмингтон засопел и стал смотреть в сторону.
– А то я было подумала… – начала Амалия.
Однако она не успела договорить фразу, потому что в комнату ворвался бледный Ален.
– Месье Шатогерен! Доктор Севенн… Он умирает!
– А, черт подери! – вырвалось у виконта.
И все гурьбой бросились к выходу.
…Возле лестницы Нередин остановился. «Куда я иду? Зачем? На что там смотреть? Куда все так торопятся?» Его томило неодолимое предчувствие чего-то скверного, настолько скверного, что он не желал иметь к этому никакого отношения. Педантичный доктор Севенн, оказавшийся хладнокровным убийцей, Катрин Левассер с глазами газели, которая была его сообщницей… Поэт попытался вспомнить, не кольнуло ли его душу хоть какое-нибудь предчувствие, когда он впервые познакомился с очаровательной девушкой. Ведь должен, должен он был почувствовать, что с ней не все так просто, как кажется… Но даже тень тревоги или безотчетного сомнения не коснулась его души.
Алексей увидел Натали, которая возвращалась, опустив голову, и понял все по ее лицу.
– Наталья Сергеевна… Он правда покончил с собой?
Она кивнула.
– Отравился морфием. Так сказал доктор Шатогерен. Откуда там взялся морфий – непонятно…
Алексей вздохнул. По правде говоря, Нередин был рад, что все закончилось именно так, как… как должно было закончиться.
– Он прекрасно понимал, что ему грозит в случае суда… И предпочел заранее сам поставить точку. – Художница всхлипнула.
– Наталья Сергеевна, неужели вы его жалеете? После всего, что Филипп Севенн натворил?
– Нет, – призналась Натали сквозь слезы. – Но если бы вы видели… какой он лежал там… жалкий… – Девушка снова всхлипнула и полезла за платком. – А ведь, все говорят, мог бы стать хорошим врачом…
– Но стал тем, кем стал, – закончил поэт. А про себя подумал: «Он выбрал свою дорогу и пошел по ней до конца… Я выбрал свою. И тоже пойду по ней до конца… чего бы мне это ни стоило».
Внезапно ему неодолимо захотелось побыть одному. Алексей попросил мадам Легран принести ужин к нему в комнату (от слуг все равно нельзя было добиться толку), ушел к себе и принялся перечитывать последние русские газеты. В одном из номеров «Нового времени» он наткнулся на письмо читателя, который возмущался резкой статьей критика Емельянова о поэте Нередине. Алексей вспомнил, что не видел такой статьи в предыдущих номерах, но решил, что, должно быть, была опубликована переделка недавней, в которой критик смешал его с грязью. Странным образом, однако, все это сейчас ни капли поэта не волновало.
Он отложил газеты и принялся сочинять длинное письмо к сестре Маше, правда, ни словом не обмолвившись в нем ни о Севенне, ни о покушении на Амалию Корф, ни о королеве Елизавете. Все письмо было сплошное море, песок, здоровый аппетит, приятные соседи, отменные доктора, прибавка в весе и новые стихи. И, когда он нанизывал друг на друга предложения, как гладкие бусины, он вдруг подумал, что Маша никогда не выбрасывает его посланий и что лет через сто сегодняшнее письмо это почти наверняка окажется на страницах полного собрания сочинений поэта Нередина. И, думая о Маше, он одновременно размышлял и о тех сотнях, тысячах посторонних глаз, которые письмо увидят, и старался очаровать тех будущих читателей, старался казаться небрежным, изящным, слегка презирающим докучную болезнь творцом, который единственно из-за нее не может работать в полную силу. И эта маленькая роль приносила Алексею такое удовлетворение, что он совершенно забыл обо всем остальном.
Глава 41
Через три дня после описанных событий Рудольф фон Лихтенштейн вышел из щегольского ландо возле санатория, о котором в последнее время судачила вся Ницца. Граф почти сразу же увидел Амалию Корф, которая сидела в саду, рассеянно глядя перед собой. Она даже не обращала внимания на кошку, которая занималась совершенно непривычным для кошек делом – пыталась поймать кузнечика, который всякий раз успевал ускакать от нее. Невозможно было без смеха смотреть на прыжки кошки по траве, но Амалия, судя по всему, находилась не в том расположении духа, чтобы веселиться. Приблизившись к кузине, Рудольф приветствовал ее самым почтительным образом. Амалия подняла глаза.
– Американский? – осведомилась она, глазами указывая на слегка оттопыривающийся карман кузена.
– От вас ничего не скроешь, – вздохнул Рудольф, усаживаясь с ней рядом. – Да, я купил себе оружие. Как вы, кузина?
– Наверное, скоро уеду отсюда.
– И в самом деле, – одобрил Рудольф. – В конце концов, на Лазурном Берегу есть санатории не хуже этого.
– Нет, – откликнулась Амалия, – я уеду с Шарлем. Шевалье получил большое наследство и теперь хочет с толком прожить те дни, которые у него остались. И, наверное, он прав.
– А как же наше дело? – быстро спросил Рудольф.
– Оно никогда не было моим, – спокойно возразила Амалия. – Я больше не состою в особой службе, и слава богу.
– Понятно, – вздохнул кузен. – Значит, вас не интересуют сведения о Мари д’Эвремон?
– Пожалуй, интересуют, – ответила Амалия после паузы.
– А я думал, это больше не ваше дело, – усмехнулся Рудольф, однако тотчас же сменил тон: – С той Мари, которая, как я понимаю, француженка, какая-то чертовщина. Я не могу отыскать ее следов. Судя по всему, она бесследно исчезла около месяца назад, то есть примерно тогда же, когда принц Руперт имел несчастье скончаться от… гм… огнестрельной чахотки. Вывод? Я не я буду, если сии два события не связаны между собой. Кроме того, я не смог навести о ней самых простых справок. Наш резидент при одном упоминании ее имени так заволновался, словно я запросил у него список любовников его жены. О, простите, кузина…
– Насколько я помню фон Бирхофа, на любовников жены он давно махнул рукой, – уронила Амалия. – Чего не скажешь о его собственных любовницах… Простите, кузен.
И она очаровательно улыбнулась. Рудольф шутливо вскинул руки, показывая, что сдается.
– Кузина, вы язва! – объявил граф. – И тем не менее наше дело осложняется. Я не смог ровным счетом ничего узнать о Мари, как будто ее вообще никогда не существовало. Кроме того, – он сделал крохотную паузу, – граф Эстергази вчера попросил меня о встрече.
– В пустынном месте? – пробормотала Амалия, глядя на кошку, которая опять на долю секунды опоздала накрыть кузнечика, прыгнувшего раньше, чем она начала движение.
Рудольф кашлянул:
– На берегу, вдали от людских глаз. Но я как-то запамятовал о его просьбе, и встреча не состоялась. Не помню, говорил ли я вам, но бываю ужасно забывчив, когда на рандеву меня приглашают не хорошенькие женщины.
– И что вы намерены предпринять? – спросила баронесса.
– Я собираюсь навестить Альберта Хофнера на вилле «Грезы». Справиться о его здоровье, поболтать о добрых старых временах, посмотреть, жив ли он еще… ну и так далее. – Граф подался вперед. – Кузина, у меня к вам просьба. Так, на всякий случай.
У меня ведь пятеро детей… Если со мной вдруг что-нибудь случится, вы поддержите мою жену, хорошо?
Амалия метнула на него быстрый взгляд.
– У меня идея получше: мы навестим Хофнера вместе. Не обессудьте, кузен, но я не хочу отпускать вас одного. Да и утешать вдов у меня плохо получается.
Баронесса поднялась с места.
– Это может быть небезопасно, – хмуро заметил Рудольф.
– Я так не думаю, – спокойно возразила Амалия. – Пока на вилле находится королева Елизавета, Эстергази не посмеет ничего предпринимать.
– Она все еще там? – удивился Рудольф. – Я был уверен, что после убийства доктора Брюкнера ее заставят вернуться на родину.
– Нередин получил сегодня от нее приглашение. Так что королева пока в Ницце.
Они сели в ландо, и Рудольф велел кучеру ехать к вилле «Грезы».
– Кстати, – сказала Амалия, – я забыла поблагодарить вас, кузен. Если бы не ваши слова о Шамфоре, я бы догадалась о проделках доктора Севенна гораздо позже.
– Я весь внимание, кузина, – объявил немецкий агент. – Как все-таки вам удалось вычислить прохвоста?
И Амалия в подробностях рассказала ему, как именно все произошло.
– У меня есть смутное подозрение, – закончила она, – что Мэтью Уилмингтон после смерти Катрин хотел свести счеты с жизнью и стащил склянку морфия. А потом по каким-то причинам передумал и решил вернуть ее на место. Именно поэтому морфий и оказался, что называется, в нужное время в нужном месте.
– Значит, Филипп Севенн ушел от наказания? – буркнул Рудольф. – Жаль.
– Вы считаете, что он и впрямь ушел?
– Ну, на суде он мог рассказать много интересного, – заметил Рудольф. – О других жертвах, к примеру. Или кому первому, ему или Катрин, пришла в голову гениальная идея внушать любовь людям, которые одной ногой стоят в могиле, втихомолку ускорять их смерть и получать наследство. Кстати, почему он обвинял вас в том, что вы ее убили?
– Я ее не убивала, – пожала плечами Амалия. – И никто в санатории ее не убивал. Просто чахотка, дорогой кузен, – заразная болезнь. Считайте, что мадемуазель Левассер покарало провидение.
– И ее друг не заметил, что она больна?
– Только между нами, Рудольф… – шепнула Амалия. – Не таким уж хорошим Филипп Севенн врачом был. Эдит Лоуренс дурачила его, как хотела, а он даже не заподозрил, что она здорова.
– А что с ней стало, кстати? – спросил Рудольф. – Ведь после того, как открылось, что она вовсе не больна, девушка больше не могла оставаться в санатории.
– И тем не менее осталась. Как сиделка, и теперь помогает мадам Легран. По-моему, Эдит – то есть на самом деле ее зовут Диана – неравнодушна к своему соотечественнику Уилмингтону и не хочет оставлять его одного, тем более что у него сейчас сложный период.
– И вы немного удивлены ее выбором, – заметил Рудольф.
– Нет. Вы же знаете мою точку зрения: человек имеет право оставаться человеком даже перед лицом смерти. У Мэтью есть шансы выжить, чуть меньше, чем у Нередина, но есть. Так что всякое может быть, кузен.
Они подъехали к вилле. Солнце обрушивало на нее потоки зноя, ни единого дуновения ветерка не доносилось с моря. Даже кузнечики умолкли.
– Господин Хофнер у себя? – спросил граф фон Лихтенштейн у слуги, открывшего им дверь. – Он назначил мне встречу.
Откуда-то из глубины дома донесся приглушенный фортепианный аккорд, и вслед за тем зазвенел женский смех. «Неужели королева?» – подумала Амалия в изумлении. Но она не стала развивать свою мысль дальше, а просто двинулась следом за Рудольфом.
– Граф Эстергази у себя? – небрежно осведомился тот у слуги.
– К сожалению, он уехал, – последовал лаконичный ответ. – Прошу…
– Мы сами, сами, – нетерпеливо перебил его Рудольф и постучал в дверь. – Альберт! Это Рудольф фон Лихтенштейн. Нам надо поговорить!
Слуга удалился. Прошло несколько минут, но из комнаты не доносилось ни звука. Рудольф нахмурился.
– Кузина, – промолвил он вполголоса, – если это то, о чем я думаю, мы сразу уходим. – И решительно распахнул дверь.
За нею обнаружилась маленькая неказистая комната вроде гостиной, по которой, однако, в беспорядке были разбросаны самые разнообразные предметы мужского туалета. Носки валялись на столе рядом с початой бутылкой коньяка, пепельница была полна окурков и источала удушающий запах. Также Амалии бросился в глаза револьвер, который лежал на полу возле дивана.
– Черт бы его побрал… – буркнул Рудольф, багровея. – Все слуги, наверное, заняты тем, что выполняют капризы королевы, так что остальным поневоле приходится обслуживать себя самим. – Он с отвращением покосился на грязные носки. – Альберт! Альберт, где вы?
Дверь сбоку вела из комнаты в другую, очевидно, в спальню. Снова чертыхнувшись, Рудольф открыл ее – и замер.
Альберт Хофнер неподвижно лежал на кровати. Одна его рука свешивалась почти до пола, рот был открыт, и из него стекала темная струйка крови. «Неужели застрелился? – гулко бухнуло в голове Амалии. – Не может быть». Рудольф подошел к лежащему, потрогал пульс сначала на руке, потом на шее. Но Амалия уже понимала – бесполезно. Черты лица Альберта уже застыли, кожа была пугающе бледной, и вены на шее казались почти фиолетовыми.
– Он уже остыл, – проговорил Рудольф, словно извиняясь.
– Стакан, – прошептала Амалия, указывая глазами на столик.
Рудольф взял стакан, понюхал его, посмотрел на свет и с сомнением покачал головой.
– Могу только сказать, что здесь была вода. И, возможно, что-то еще, яд или какое-то снотворное… Но я не пророк, – промолвил он и поморщился.
Амалия подошла ближе. Итак, план претворяется в жизнь. По-видимому, уже все свидетели смерти кронпринца устранены, кроме одного человека – того, кто и затеял все это. Интересно, какова будет официальная версия гибели Альберта Хофнера? Самоубийство? А что, вполне логично: потерял любимого брата и с горя наложил на себя руки…
– Нет! – выпалил Рудольф, тряся головой. – Нет, нет! Я хорошо знал Альберта, он был последний человек на свете, который стал бы кончать с собой!
Амалия не успела даже удивиться, до чего одинаково направлены их мысли. Впрочем, следующая фраза, которую произнес немецкий агент, тоже выражала то, что баронесса лишь собиралась сказать.
– Так, довольно, – скомандовал Рудольф. – Уходим отсюда.
Он повернулся к двери, и внезапно Амалия услышала сухой щелчок.
Очень, очень знакомый звук! Просто в своей новой, мирной жизни баронесса давно его не слышала.
Возле двери стоял граф Эстергази и трясущейся рукой держал револьвер, который был нацелен в голову Рудольфа. Щелчок, который уловил чуткий слух Амалии, был звуком отведенного курка.
– Так, значит, все-таки вы… – пролепетал богемский граф с хорошо разыгранным ужасом. В то мгновение он больше не походил ни на бульдога, ни на изысканного придворного. – Вы убили его! Как и всех остальных!
Глава 42
Прежде чем ошарашенный Рудольф успел предпринять какие-либо действия, баронесса Корф показала себя во всей красе.
– На помощь! – закричала она так, что ее было слышно, наверное, снаружи виллы, носящей чарующее название «Грезы». – На помощь, Ваше величество! Убивают! Алексей! Кто-нибудь! На помощь!
Эстергази дернулся, но не осмелился выстрелить. Фортепианный аккорд оборвался на середине – значит, Амалию услышали.
– Вы сумасшедший, – твердо произнес Рудольф, глядя в лицо графу и держась так, чтобы максимально загораживать собой Амалию (если немецкий кузен и был создан из дерева, то определенно из самого лучшего). – Зачем вы это сделали?
– Сделал что? – Эстергази облизнул губы.
– Убили их. Неужели вы думали таким образом скрыть истинные обстоятельства гибели принца Руперта?
И тут Эстергази рассмеялся тихим, сипловатым смешком, от которого у Амалии по коже пошли мурашки.
– Ах, Рудольф! – воскликнул он почти весело, хотя его щеку корежил и дергал нервный тик. – Мы же прекрасно знаем друг друга! Кого вы хотите обмануть? Ее? – Он кивнул на Амалию. – Она потом будет свидетелем, который подтвердит вашу невиновность? – Рудольф открыл рот. – Поймите, да я уже давно обо всем догадался! Не так давно, как стоило бы, но… Ведь именно вы убиваете моих людей, потому что вам дан такой приказ! Да, да! Ведь письмо нигде не появилось, нигде не всплыло… Что же, вы думаете, я совсем глупец? Конечно, оно у вас! Баронесса Корф вам помогала? Фрау Разоровски столкнула в море она? – Наконец-то Амалия узнала, как на самом деле звали мадам Карнавале. – А потом появились вы, Рудольф! И сразу же все началось! Сначала Селени, который знал слишком много. Потом доктор Брюкнер, а затем вы убили Карела Хофнера. Но я только тогда понял, почему вас подослали ко мне, почему вы все время вертитесь вокруг! – Рука, державшая револьвер, задрожала еще сильнее. – И теперь Альберт! А следующим должен быть я? Не так ли, Рудольф? Потому что я слишком много знаю, потому что я знаю, что на самом деле случилось в королевском замке в тот субботний вечер? А, Рудольф?
– Послушайте, господин граф, – проговорил немец, изумленный потоком чудовищной лжи, – не надо приписывать мне свои подвиги. Как, интересно, я мог убить Карела, когда все видели, что он выстрелил в себя?
– Вот этого-то Альберт и не мог понять! – задорно выкрикнул Эстергази. – Никак не мог! А я понял! Понял, как только Альберт упомянул, что его брат чувствовал себя отлично до того, как выпил воды из вашей фляжки. А потом он вдруг ни с того ни с сего прострелил себе голову. А все вы, Рудольф, вы отравили его какой-то дрянью… наверняка той же самой, которой сейчас убили Альберта. Да, Карел был отравлен, он забыл, где находится, забыл, что это дуэль. Ему было плохо, он не сознавал, что делает. И, конечно, со стороны все выглядело как неловкость, как ужасная ошибка. Но вы зря думали, что меня можно обмануть! Я сразу же стал вас подозревать, Рудольф фон Лихтенштейн!
– Что здесь происходит? – В комнату вошла королева Елизавета в сопровождении герцогини Пражской и Алексея Нередина.
Завидев труп на кровати, фрейлина ахнула и отшатнулась. Королева, изменившись в лице, обернулась к Эстергази:
– Граф, что с вами? Зачем у вас оружие?
– Государыня! – вскрикнул Эстергази, делая попытку отвесить поклон, что получилось у него довольно неуклюже, так как в руке он по-прежнему держал револьвер. – Меня хотят убить! Вот этот человек и его сообщница злоумышляют на мою жизнь! Они… они…
Граф дернул рукой, и револьвер с грохотом выстрелил. Пуля пролетела возле головы Елизаветы, расколола вазу и ушла в стену.
В следующее мгновение Нередин и Рудольф с двух сторон ринулись на безумца. Фрейлина пронзительно кричала, Елизавета застыла на месте как каменная. На шум прибежал доктор Шатогерен, который только что приехал проведать свою пациентку и не успел даже стряхнуть пыль с сюртука. И без помощи Рене двум мужчинам вряд ли удалось бы сладить с графом: тот сопротивлялся отчаянно и сделал попытку укусить Рудольфа за запястье. Наконец Алексей вырвал у него револьвер, а Рудольф и доктор заломили Эстергази руки.
– Ваше величество! – кричал граф, задыхаясь. – Они убьют меня! Смилуйтесь, ради бога! Они уже убили всех, всех… всех! Всех, кто знал, что на самом деле произошло с вашим сыном! Потому что все, что вам говорили, неправда, неправда, неправда! Вы ничего, ничего не знаете!
Елизавета страшно побледнела и пошатнулась. Фрейлина бросилась к ней, но королева отстранила ее.
– Отпустите его! – велела королева хриплым голосом. – Говорите, граф. Так что произошло с моим сыном? Говорите и ничего не бойтесь!
Эстергази рассмеялся:
– Вот, Рудольф! Видите? У вас не получится переиграть меня! Потому что я расскажу правду, расскажу без утайки, и пусть все знают, что произошло на самом деле! Каша заварилась из-за французской девки, которую звали Мари Эвремон. Ее мать любила величать себя графиней и прибавляла к фамилии частицу «де», но сама была незаконнорожденная, да и дочь недалеко от нее ушла. Мари была знакома с дочерью герцога Савари, которая вышла замуж за графа Фекете и перебралась в Богемию. Там у графини с кронпринцем начался роман, и они решили, что им нужна ширма, чтобы никто не мешал встречаться. И на роль ширмы графиня выбрала Мари, про которую все знали, что она неразборчива в связях и вообще готова влюбиться во всякого, с кем станцует хоть один танец…
– Ваше величество, – в смятении пробормотала герцогиня Пражская, – граф Эстергази явно болен. Может быть, стоит обратиться к врачу? Что он говорит про его высочество… про вашего дорогого покойного сына!
– Молчите! – крикнула Елизавета с такой яростью, что зазвенели хрустальные подвески на люстре. – Продолжайте, граф. Слово королевы, я никому не дам вас в обиду. Говорите!
– Я продолжаю, Ваше величество… – промолвил Эстергази со змеиной улыбкой. – То, что было дальше, вам известно: его высочество влюбился в ширму! Она была противоположностью графине, была противоположностью его жене Стефании – тихая, кроткая, милая девушка, которая никогда ничего у него не просила, никогда ничего не требовала. В своих дневниках он писал, что она единственный человек на свете, который его понимает… Но по рождению Мари была никто! Ее даже не на все придворные балы допускали, только на такие, где не было Его величества вашего мужа и Вашего величества… Любовникам приходилось встречаться тайком, украдкой. Сначала Мари была готова терпеть, но потом… потом она начала страдать. Фрейлины не желали ее знать, слуги разговаривали с ней пренебрежительно. Она стала плакать, а мужчины плохо выносят женские слезы, и его высочество не был исключением… И однажды они поссорились. Это произошло в субботу в старых покоях замка, где они встречались. И его высочество сказал ей, что все кончено, больше он не желает ее видеть. Может быть, он ничего особенного и не имел в виду, а просто сказал так в гневе. Карел Хофнер, его адъютант, сказал мне, что его высочество вышел из комнаты и шел по коридору, когда вдруг услышал выстрел. Кронпринц не поверил своим ушам и вначале решил, что какой-то часовой на посту неосторожно обращался с ружьем. Но выстрел прозвучал слишком близко, и его высочество вернулся обратно в спальню. А там он увидел бедную девушку, Мари, которая застрелилась. Она лежала на постели вся в крови, кровь была на ковре, на подушках… Ужасно! Карел Хофнер испугался скандала – Ваше величество были в замке, и король должен был приехать… Ведь нельзя, чтобы такое происходило… Карел побежал за братом и бароном Селени… Это была его ошибка, ужасная ошибка, потому что он оставил кронпринца в спальне, а там Мари… и пистолет…
Эстергази заломил руки. Все присутствующие потрясенно молчали. Через минуту граф продолжил:
– Я не знаю, что нашло в то мгновение на его высочество. Но он взял пистолет и… И выстрелил себе в сердце.
Когда Карел прибежал обратно, было уже поздно… Поздно. Потом пришли Альберт Хофнер и барон… Барон Селени был в ужасе, он вызвал меня… Он не знал, что делать. Но никогда, никогда бы я не стал предавать огласке столь позорные обстоятельства… И мы решили все скрыть. Пришлось посвятить в дело доктора Брюкнера, и он сказал, что рана на груди не слишком заметна, поэтому можно будет объявить, будто его высочество умер от чахотки. Мы перенесли принца в его спальню… Барон Селени взял тряпку и, как простой слуга, стал замывать следы крови. Тело Мари мы отправили в монастырь, где настоятельницей была сестра Селени, она бы никогда не проговорилась… Мадам Эвремон пришлось заплатить за молчание и за то, чтобы она убралась как можно дальше, в Австралию. По-моему, она была не в себе – все время повторяла предсказание какой-то цыганки, что ее дочь войдет в историю вместе с человеком королевской крови…
Шатогерен с изумлением оглянулся на Амалию.
– Что все это значит? – вырвалось у него. – Что за балаган тут творится?
Но вместо Амалии ответил Рудольф:
– Ради бога, доктор, помолчите! Здесь замешаны государственные интересы… Вам не понять.
Врач пожал плечами и отошел к камину. Алексей не сводил глаз с королевы. Присутствие остальных только раздражало его, и более всего казался неуместным граф Эстергази, взрослый мужчина, по слухам, бывший офицер, который трясся как осиновый лист и бросал затравленные взгляды то на королеву, то на Амалию, то на Рудольфа фон Лихтенштейна.
– Почему, – прошептала Елизавета с усилием, – почему вы не сказали мне? Ведь я… – По ее щекам текли слезы. – Я же заметила, что Мари куда-то исчезла… Бог мой, какие только мысли не приходили мне в голову! Я думала: может быть, она убила его… Думала: может быть, он убил ее и потом покончил с собой… Я перестала спать, вы понимаете, граф? Ни одной ночи… Я видела его там… с пятном крови на груди… Ах, граф! Как вы могли…
– Ваше величество! – Эстергази кинулся к ее ногам. – Я все, все делал, чтобы… Преданность, верность. Это не пустые слова! Во что бы то ни стало надо было избежать огласки… И германский император, на племяннице которого был женат ваш сын, был того же мнения. Чем меньше людей посвящены, тем лучше… Это же… позор! Пятно! Застрелиться из-за… из-за… – Граф искал подходящие слова, чтобы охарактеризовать Мари Эвремон так, дабы не оскорбить монаршую особу, и не мог найти. – Ведь он уже думал о том, чтобы написать письмо римскому папе – просить развода!
– Я знаю, – устало промолвила королева, – знаю. Незадолго до того ужасного дня у Руперта была ссора с королем…
Елизавета взглянула на Рудольфа, который был мрачен, как осенняя туча, и перевела взгляд на бесстрастное лицо Амалии. Граф по-прежнему лежал у ног королевы.
– Простите, господа. Но… Граф, я не понимаю… Вы говорите, кто-то хотел вас убить?
Эстергази сделал попытку улыбнуться.
– Ваше величество… Что я мог подумать, если… если все люди, которые знали истинную причину смерти вашего сына, один за другим стали умирать? Барон Селени… доктор Брюкнер… братья Хофнер…
– Но французский инспектор сказал, что доктора Брюкнера хотели ограбить, при нем не нашли ни денег, ни документов, – нерешительно возразила королева. – А Карел Хофнер… он ведь погиб на дуэли?
– Именно так, Ваше величество! – пылко подтвердил Рудольф. – И вы можете спросить господина Нередина, который тоже там присутствовал… В сущности, имел место несчастный случай. Смешно даже предположить, что его кто-то убил!
Эстергази затравленно покосился на него и утер со лба пот. Правая сторона его лица все еще подергивалась в нервном тике, и Шатогерен, видя это, нахмурился и покачал головой.
– С разрешения Вашего величества я хотела бы задать только один вопрос графу Эстергази, – неожиданно подала голос Амалия. – Письмо, которое должен был получить шевалье де Вермон. Поскольку вы были так откровенны, удовлетворите мое любопытство, скажите, что в нем было? Из-за чего непременно надо было его перехватить?
– Встаньте, граф, – приказала королева. – И ответьте на вопрос баронессы.
Эстергази поднялся на ноги.
– Письмо отправила Мари Эвремон, – с отвращением заговорил он. – Когда-то она была знакома с шевалье, и, насколько мне известно, довольно близко. Мари проведала о предсказании, которое ей сделала цыганка и которое должно скоро сбыться. Также она писала о кронпринце Руперте в выражениях, которые не оставляли сомнений о характере их отношений. Такие письма были направлены нескольким людям, потому что Мари была уверена, что он разведется с женой и женится на ней. Она вообще была чрезвычайно болтлива, герцогиня Пражская несколько раз пыталась ее предупредить, что не следует распускать язык, но…
– Это правда, Елена? – спросила королева, поворачиваясь к фрейлине.
Та вспыхнула и присела.
– Да, Ваше величество.
– В свете того, что случилось с кронпринцем, обнародование писем было особенно нежелательно, – закончил Эстергази. – Поэтому мы приняли меры, чтобы все их перехватить. Но одно из писем ушло в Африку, а там мы никак не могли его достать. Пришлось ждать, когда оно вернется в Европу и… – Граф вдруг побледнел, прижал руку к сердцу и покачнулся.
– Вам плохо, граф? – встревожилась королева.
– Я… да… мне… – пробормотал Эстергази. – Простите, Ваше величество…
– Разрешите мне, – вмешался Шатогерен. Он бросил взгляд на труп на постели и нахмурился. – Нет, тут явно неподходящее место. Вы, Рудольф, и вы, месье Нередин, немедленно выведите графа в соседнюю комнату и усадите в кресло. – Виконт отворил дверь, которая вела в гостиную, и вышел за мужчинами следом. – Сюда, сюда! Вот так… Герцогиня и вы, госпожа баронесса! Откройте окна, прошу вас… Ваше величество! – Он подошел к королеве и понизил голос: – Хотел бы я ошибиться, но есть опасность апоплексического удара, граф находится в крайнем напряжении. Если вам угодно, вы можете удалиться.
Эстергази сдавленно засипел, скрючившись в кресле.
– Я бы хотела помочь, – твердо проговорила королева.
– Тогда я попрошу вас принести стакан воды, – спокойно ответил Шатогерен.
Затем доктор занялся графом – ослабил ему ворот рубашки, расстегнул сюртук и жилет. Рудольф отошел к дверям. Фрейлина огляделась и брезгливым жестом убрала носки и другие предметы одежды, чтобы они не так бросались в глаза.
– Пульс учащенный… Спокойно, месье. Сейчас я дам вам лекарство, и вам станет лучше.
Эстергази приоткрыл глаза. Он дышал тяжело, но Нередину показалось, что ужас, терзавший и душивший графа, стал понемногу отпускать его.
– Доктор… – прошептал Эстергази. – Альберт… что с ним случилось? Отчего он умер?
– Я еще не осматривал его, – хмуро ответил Шатогерен, считая пульс. – Если имела место насильственная смерть, полагаю, это будет заботой полицейского врача… Вы совсем себя не бережете, сударь.
Вернулась Елизавета, неся стакан воды. Шатогерен открыл свой чемоданчик, достал склянку с лекарством, налил половину в воду и слегка встряхнул стакан. Граф с прояснившимся взором наблюдал за его манипуляциями.
– Вот, – протянул ему стакан врач. – Пейте до дна, потом посидите четверть часа в кресле, и я буду спокоен, что у вас не случится удара. А иначе я ни за что не ручаюсь.
Эстергази кивнул, взял стакан и стал пить воду.
Неожиданно он дернулся всем телом и едва не выронил стакан. Шатогерен придержал его руку, которая плясала в воздухе.
– Что с вами, сударь? – с беспокойством спросил врач.
Граф разжал пальцы и поднялся с кресла. Попытался что-то сказать, но не мог. Лицо его налилось кровью. Затем он издал звук, похожий на короткий кашель, упал навзничь и больше не шевелился.
Глава 43
– Черт возьми! – вырвалось у Рудольфа. – Вот черт возьми!
Шатогерен бросился к графу и стал его поднимать, но голова у Эстергази болталась, как у сломанной куклы. Нередин пришел на помощь врачу, и вдвоем они усадили графа обратно в кресло. Фрейлина тихо заплакала. Рене стал щупать пульс, пытался привести Эстергази в чувство, но тщетно.
– К сожалению, он умер, – пробормотал Шатогерен, разводя руками. – Сердце не выдержало.
Рудольф хмыкнул и напомнил:
– А до того, как умереть, он выпил ваше лекарство. Интересно, это совпадение?
И в комнате повисла зловещая тишина – тишина, в которой отчетливо было слышно, как бьется об оконное стекло нечаянно залетевший в комнату большой шмель.
– Сударь, – уже сердито промолвил Шатогерен, – вы в своем уме? Вы что, думаете, что я отравил его? Я дал ему обычное успокаивающее средство. В самом деле, это переходит всякие границы!
Врач схватил стакан, из которого только что пил Эстергази, но в нем оставалось совсем мало воды и лишь на дне болталась какая-то мутная жидкость. Тогда Шатогерен взял первое, что попалось под руку, – недопитую бутылку, принадлежавшую Альберту Хофнеру, долил лекарство коньяком и залпом проглотил его.
– Вот! – объявил он, с размаху стукнув стаканом о стол, – таково было его раздражение. – Честное слово, у меня появилось ощущение, что я попал в дом умалишенных! Что, герр фон Лихтенштейн, я похож на умирающего? По-моему, не больше, чем вы или ваша кузина. А вы, месье Нередин? Может быть, вы тоже сомневаетесь, что я дал несчастному лекарство?
– Нет, месье Шатогерен, – поспешно проговорил поэт. – Я… я ничего такого не думал.
Судя по выражению лица, врачу хотелось в то мгновение сказать что-то особенно резкое, но он сдержался.
– Я должен попросить прощения, Ваше величество, за эту сцену, – проговорил он, вновь, хоть и не без усилия, превращаясь в светского человека, виконта де Шатогерена. – Но, должен признаться, я не привык, когда мои профессиональные способности ставят под сомнение.
Рудольф стал извиняться, Амалия присоединилась к нему. Фрейлина вполголоса спросила у королевы, что ей делать и не надо ли уже идти за слугами. Ведь, раз бедный граф и Альберт Хофнер умерли, кто-то должен будет отвезти их тела на родину, в Богемию. Шатогерен упомянул о формальностях и предложил вызвать полицию. Но Елизавета решительно воспротивилась: она категорически не желает видеть на вилле полицейских. Альберт Хофнер покончил с собой, потому что не смирился с потерей брата, а граф Эстергази умер от сердечного приступа у них на глазах; вот и все, и ничего не надо расследовать. Рудольф согласился, что это было бы разумнее всего, и герцогиня Пражская горячо его поддержала.
Алексей стоял ссутулясь в углу и думал, что каждому есть что сказать королеве и каждый может с нею говорить сейчас о необходимых бумагах, о трагических случайностях и о том, что быстрая смерть лучше любой другой. Но Нередин не хотел говорить с ней о смерти. Он хотел бы говорить с ней только о любви, и его сердило, что теперь между ними будет стоять тень несчастного кронпринца, потому что Елизавета вряд ли забудет, что поэт тоже находился здесь и слышал признание Эстергази.
А ведь, казалось, все начиналось сегодня так лучезарно хорошо! Они беседовали о поэзии, потом Алексей сел за фортепьяно, Елизавета согласилась спеть, противную герцогиню услали под каким-то предлогом из комнаты… И вот чем все завершилось – какой-то нелепой суматохой, выходкой в стиле штабс-капитана Уткина, бывшего товарища Нередина по полку, который, напившись, обязательно влезал на стол, выхватывал огнестрельное оружие и начинал буянить. Всюду казарменный дух, какие-то невнятные секреты, много шума из ничего и ни капли поэзии. Алексей поймал на себе сочувственный взгляд Амалии и сердито отвернулся. Все-таки его не покидало ощущение, что она видит его насквозь. Хотя что на самом деле она могла о нем знать?
Но вот Шатогерена выпроводили, Амалия укатила вместе со своим деревянным кузеном, Елена уехала на почту, отправлять какую-то очень важную телеграмму, и Нередин вновь вернулся в мир музыки, поэзии и женских чар. Они стояли с Елизаветой посреди гостиной, и он видел, как в начинающем сгущаться сумраке белеют на рояле растрепанные ноты; и все-таки это было уже не то, не так, как надо, все было отравлено ненавистной реальностью, тлением, смертью, расставанием. Первым прервал молчание Нередин.
– Я зажгу свет, – сказал он.
– Не надо, – ответила королева.
Алексей видел, как в полумраке колыхнулось и замерло черное пятно ее платья, и догадался, что она поднесла руки к лицу, чтобы вытереть слезы.
– Вы верите в бога? – спросила королева так просто, будто в мире нет ничего естественнее этого вопроса.
– Да, – так же просто ответил поэт.
– Я все время молилась, – прошептала Елизавета. – Я хотела… хотела узнать, как на самом деле умер мой сын. Но никто ничего не хотел мне говорить. Я ломала голову, мне представлялись всякие ужасы… И вот я узнала. Бедный граф… Лучше бы он сразу тогда сказал мне. Боюсь, мой упрек убил его.
Нередину показалось, что Эстергази убил не упрек – он умер от страха, от чудовищного, дикого страха. Но Алексей ничего не сказал.
– Наверное, Руперт был прав, – проговорила королева. – Ему лучше было бы родиться в простой семье. Он все время пытался кому-то что-то доказать… И не выдержал, сломался. А мой муж плохо это воспринимал. Они с Рупертом много спорили. Обо всем: о театре, о женщинах, о будущем Европы. Сын говорил, что союз с Германией и Австрией для нас невыгоден, что нам надо встать на сторону Франции и России. В конце концов король вообще запретил ему говорить о политике. И эта девушка, Мари, которую я не хотела знать, о которой король тоже не желал ничего слышать… Руперта наше отношение обижало. Как же мы обижаем своих близких, сколько они вынуждены терпеть от нас! Больше, чем от любых врагов… И вот так все кончилось.
С моря налетел ветер, зашумел в ветвях деревьев, стоявших в саду. Ноты на пюпитре зашевелились. Алексей поглядел на белые клавиши, и ему показалось, что они похожи на оскаленные зубы, будто рояль ухмыляется, глумится над ним.
– Теперь, когда граф Эстергази умер, мне придется вернуться домой, – сказала королева. – Елена уже поехала отправить соответствующую телеграмму.
Он даже не удивился. В конце концов, разве не знал он с самого начала, что все завершится именно этим?
– А вы? – спросила Елизавета. – Что будете делать вы?
Нередин вздохнул.
– Доктор Гийоме говорит, что мне придется пробыть в санатории по меньшей мере два ближайших года… Так что я никуда отсюда не уеду.
– Вот хорошо, – кивнула Елизавета, и в сумерках Алексею показалось, что она улыбается. – Вы обязательно поправитесь… И напишете много чудесных стихов. Вот… – Она поднесла руку к волосам. – Возьмите это. На память обо мне.
И на ладонь Нередину легла заколка с бриллиантовой бабочкой.
– Я никогда вас не забуду, – горячо проговорил поэт.
Ветер задул сильнее, смел ноты с пюпитра и хлопнул рамой со звуком, похожим на пощечину. Служанка внесла лампу и стала закрывать окно.
Глава 44
– Прекрасная погода, – произнес Мэтью Уилмингтон.
– Великолепная, – подтвердила Натали, ничуть не греша против истины.
Их разговор происходил через два дня после того, как Рудольф фон Лихтенштейн и его кузина покинули виллу «Грезы». Затем Рудольф уехал в Берлин представлять доклад о своем расследовании и о том, как граф Эстергази собирался замести следы, обвинив во всем его, но перехитрил лишь самого себя. Что же до Амалии, то она тоже готовилась отбыть, хоть и в совершенно другом направлении.
Ален и Анри, сгибаясь под тяжестью чемоданов, вынесли багаж госпожи баронессы и погрузили его в прелестный, похожий на игрушку открытый экипаж, который Шарль де Вермон приобрел только вчера. Амалия дала слугам на чай, и наступила очередь прощаться.
– Не забывайте нас! – попросила Натали.
– Действительно, не забывайте, – поддержал ее поэт. – Пишите нам, Амалия Константиновна.
– Мы всегда будем рады получать от вас вести! – добавила Натали.
Амалия попрощалась с доктором Гийоме и его помощником Рене Шатогереном, расцеловалась с Эдит, которую теперь все называли Дианой, пожелала удачи мадам Легран и нашла теплое слово для каждого из остальных обитателей санатория. Шарль де Вермон, в светлом костюме, с тросточкой и в белой шляпе, нетерпеливо взглянул на часы.
– Амели! Мы опоздаем!
– Ничего, будет другой поезд, – весело ответила Амалия и взяла его под руку. Они сели в экипаж, и слуга захлопнул дверцу.
– До свидания, Амалия Константиновна! – крикнула Натали и несколько раз махнула рукой.
Кошка, вышедшая в сад, хмуро поглядывала на кузнечиков и, как всегда, очень умело притворялась, что она тут сама по себе и ей нет дела ни до кого из людей. Экипаж тронулся, и Нередин бог весть отчего ощутил, что у него защемило сердце. Впрочем, так бывало всегда, когда он видел, как уезжает хорошенькая женщина и не был уверен, увидит ли ее еще когда-нибудь.
– А погода и впрямь прекрасная, – сказал Шарль, беззаботно щурясь на дорогу. – Честное слово, я до смерти рад, что больше никогда не увижу стен санатория. Слишком много всего в них произошло. Бывало, я и за полгода в Африке не переживал столько приключений… Что такое, Амели? Вы грустите? Вы уже жалеете, что согласились скрасить мои последние дни? Ну, если так, то на ближайшей станции я прыгну под поезд, чтобы избавить вас от моего невыносимого общества.
– Шарль, – сердито проговорила Амалия, – что за шутки, в самом деле!
– Согласен, у меня нет чувства юмора, – тотчас пошел на попятный шевалье. – Меня вообще в детстве хотели отдать в священники, потому что я был слишком серьезен. Приблизительно так же, как вы сейчас. – Он взял ее за кончики пальцев и сжал их. – Если вас кто-то обидел…
Амалия улыбнулась:
– Нет, Шарль. Просто у меня из головы упорно не выходит одна вещь.
– Какая? – заинтересовался шевалье.
– Фиолетовые вены у… словом, у одного человека. Мертвого человека. Почему у них был такой цвет?
– А-а… – протянул Шарль. – Так вы тоже их заметили? Под цветами, кружевом и прочим их почти не было видно, но мне они показались странными.
– Под кружевом? – удивилась Амалия.
– Ну да, – беззаботно продолжал Шарль. – Я говорю о Катрин Левассер, или как там ее звали, о подруге нашего братца-разбойничка Севенна. Мне это тоже показалось странным. Но все-таки мы находимся во Франции, откуда тут взяться ядовитым змеям, кроме гадюк?
– Шарль, – после паузы неожиданно призналась Амалия, – я ничего не понимаю. Какие змеи? О чем вы говорите?
Шевалье нахохлился:
– Значит, вы совсем не слушали мои истории? О! Амели, вы немилосердны! А я-то старался… Хотя та история… – Он глубоко вздохнул. – В ней мне нечем похвастаться, никого я спасти не сумел. Понимаете, Амели, в Африке… – Шарль говорил, и в глазах его зажигались золотые звезды. – В Африке есть такие твари, которые европейцам даже не снились. Водится там, к примеру, одна змейка… вроде и неказистая собой, и маленькая, но такая ядовитая, что любая кобра ей позавидует. И вот однажды при мне такая змейка укусила нашего лейтенанта Монливе. Это было ужасно! Мы даже не успели принести его обратно в лагерь, чтобы доктор хотя бы попытался оказать ему помощь. Минута судорог, кровь изо рта – и все. Потом доктор объяснил мне, что яд той змейки каким-то особым образом действует на кровь, что она как-то не так сворачивается… или не сворачивается, но, в общем, смерть наступает очень быстро. А после смерти человек кажется белым, как снег, и только вены становятся не синего цвета, а… Амели! На вас лица нет!
– Она не болела чахоткой, – пробормотала Амалия. – Ведь он же сказал, что она не болела чахоткой! И был уверен, что это я убила ее! А на самом деле… на самом деле… – Баронесса приподнялась с места. – Кучер! Поворачивай обратно в санаторий!
– Но, Амели… – попробовал было возразить Шарль, – билеты… поезд! Мы не успеем!
– Шарль, милый, – горячо заговорила Амалия, – вы должны мне поверить: мы просто обязаны вернуться! Но какой же хитрец… какой дьявольский хитрец!
– Кто, я? – изумился Шарль, но Амалия только махнула рукой, и шевалье решил до поры до времени не задавать лишних вопросов.
Нередин, который устроился в саду с кошкой на руках, позируя Натали для портрета, видел, как игрушечный экипаж вернулся обратно и из него вышла – нет, выскочила, подобно чертику из табакерки! – баронесса Корф. Он взглянул на художницу – и машинально отметил, что Натали отчего-то нахмурилась.
– Шарль, подождите меня здесь! – велела Амалия. Затем обернулась к слуге Анри, который открыл ворота: – Я вспомнила… я забыла одну вещь… книгу Стерна… И не хотела бы уезжать без нее!
Анри предложил ей свою помощь в поисках книги, но Амалия заверила его, что справится сама, и вошла в дом.
Баронесса шла по полутемным, прохладным коридорам, и сердце гулко стучало у нее в груди. «Яд! Змеиный яд! И ведь как естественно все выглядело… только Севенн выдал его, сказал, что Катрин не болела чахоткой! Зря я думала, что Эстергази хотел убить всех и представить дело так, что мы с Рудольфом… Достаточно было посмотреть на лицо графа: он сам боялся нас, до ужаса боялся! И, конечно, никакого письма у Эстергази не было… Мерзавец, хладнокровный мерзавец! На кого же ты работаешь, черт возьми? На австрийцев? На французов? На англичан?»
Мадам Легран с удивлением поглядела вслед Амалии, которая вошла, не постучавшись, в одну из дверей. Однако мысли сиделки были весьма далеки от тех, которые волновали молодую женщину, и мадам Легран решила, что баронесса Корф просто-напросто забыла договориться с доктором насчет своего возвращения в санаторий. Ведь после того, как Шарля де Вермона не станет, ей все равно придется продолжать лечение.
…Она закрыла дверь и прислонилась к ней всем телом. Не то чтобы она боялась – просто ей было не по себе от одного того, что находится с этим человеком в одной комнате.
– Я все знаю, доктор, – выпалила Амалия. – Катрин Левассер… и всех остальных убили вы.
Он поднял голову. Поражен? Удивлен? Застигнут врасплох? Ни то, ни другое, ни третье.
– Ну и что? – спокойно осведомился доктор Шатогерен.
Амалия сделала шаг вперед. Шатогерен бросил на нее безразличный взгляд и вновь стал просматривать какие-то бумаги.
– Вы украли письмо? – резко спросила она.
– Что за письмо? – Положительно, доктора ничто не могло выбить из колеи.
– То, которое Мари Эвремон написала шевалье де Вермону. То, которое ездило за ним по свету от Африки до Парижа и Лазурного Берега.
– Я.
Он даже не собирался отпираться. Такое поведение невольно настораживало.
– Вы работаете на французов? – задала следующий вопрос Амалия, решив воспользоваться его откровенностью, чтобы расставить все точки над i.
– Я работаю в санатории доктора Гийоме, – последовал тихий ответ, – что вам, сударыня, должно быть прекрасно известно. А кто мои пациенты: французы, русские или англичане, – не имеет ни малейшего значения.
Он сидел за своим столом как за стеной, этот неулыбчивый и уже немолодой брюнет со спокойным лицом и ясными серыми глазами. Но Амалия чувствовала, что, даже если бы стола не было, Шатогерен все равно был отгорожен от нее словно невидимой преградой. Она вспомнила слова Рудольфа о том, как виконт сначала ранил его, а затем равнодушно заштопал, как порванный мешок, и невольно содрогнулась.
– Отдайте мне письмо, – сказала баронесса.
Шатогерен пожал плечами:
– Письма больше нет.
Что ж, возможно, он и впрямь его уничтожил, чтобы не оставлять улик… хотя правильнее всего было бы предположить, что уже давно передал его своим хозяевам. И в таком случае письмо все равно было для Амалии потеряно.
– Чье задание вы выполняли? – задала она еще один вопрос.
– Ничье, – холодно ответил Рене. – Я старался для себя, если вам интересно.
– Для себя? Для себя уничтожили людей, которые были виноваты лишь в том, что видели, как принц Руперт покончил с собой? – Амалия пошла ва-банк. – И вы хотите, чтобы я поверила вам?
Прежде чем ответить, Шатогерен поправил книги, которые неровно лежали на столе.
– Он не покончил с собой, – промолвил виконт. – Его… убили.
Глава 45
Не сводя глаз с Шатогерена, Амалия села. А доктор продолжил, по-прежнему глядя на свой стол, заваленный документами, выписками и объемистыми научными трудами:
– Да, произошло настоящее убийство, хоть оно и не входило в их планы. Они были уверены, что все предусмотрели. Но оказалось, что не предусмотрели самого главного – принца Руперта.
– Но Эстергази сказал… – начала Амалия и запнулась.
– Эстергази солгал, – отмахнулся Шатогерен. – О, он прекрасно знал, чего стоит эта правда. Никогда в жизни он бы не осмелился произнести ее вслух. Только ради того, дабы эту правду скрыть, ему и требовалось завладеть последним письмом. Поскольку в нем описывалось все, что на самом деле произошло в замке тем субботним вечером.
– Значит, письмо писала не Мари Эвремон? – прошептала Амалия. – Ведь она… ведь она была уже мертва.
– Нет, письмо писала именно Мари Эвремон, – ответил врач. – Она знала, что с ней может случиться. Герцогиня Пражская попыталась предупредить ее… из самых лучших побуждений. Бедная Мари! О, они были согласны терпеть ее как любовницу кронпринца и закрывать глаза на его поведение, но беда в том, что она стала слишком влиять на него. Руперт стал думать, что сближение с Францией было бы полезнее для Богемии, чем сближение с Германией, и это уже было опасно. Опасно, потому что его отец все время болен и никто не сомневался, что кронпринц должен скоро стать королем; а раз так, он стал бы проводить ту политику, которая больше по сердцу его женщине. К тому же он хотел развестись с немецкой принцессой и жениться на Мари – на Мари, чья мать была незаконнорожденной и не имела права на приставку «де», что было ничуть не лучше, чем новые политические взгляды Руперта. И тогда они решили избавиться от нее, имитировав самоубийство.
Амалия начала понимать.
– Значит, Мари Эвремон…
– Не кончала с собой, – закончил фразу за баранессу Шатогерен. – Они собирались, обговаривали все детали – братья Хофнер, барон Селени и граф Эстергази. Им пришлось посвятить в свой замысел доктора Брюкнера, чтобы он подтвердил принцу, будто Мари покончила с собой, и развеял его сомнения, если бы они появились у Руперта. Герцогиня Пражская была близка к семье Селени, узнала, что барон затевает, и пришла в ужас. Фрейлина королевы попыталась предупредить Мари, и та испугалась – настолько, что села писать письма близким, где объясняла: если вдруг обнаружится, что она совершила самоубийство, то это неправда, она никогда не помышляла ни о чем подобном. В письме Мари назвала имена двух человек – доктора Брюкнера и барона Селени, остальные заговорщики были ей неизвестны. Она хотела поговорить и с Рупертом, но не успела, потому что ее послание к нему перехватили, поняли, что ей все известно, и решили действовать быстро. Карел Хофнер, адъютант Руперта, подделал почерк принца и прислал ей записку, в которой назначал свидание в замке. Явившись туда, Мари сразу же поняла, что попала в ловушку. Заговорщики хотели обойтись без крови: доктор предложил ей написать признание, что она умирает по своей воле, и выпить яд. Но Мари отказалась, потому что ждала ребенка и хотела жить… хотя бы ради него. Тогда Эстергази попытался убедить ее какими-то глупыми речами о том, что она должна пожертвовать собой ради блага Богемского королевства… Можете себе представить, как это должно было выглядеть! В конце концов Карелу Хофнеру все надоело, тем более что с минуты на минуту должен был приехать принц, которого ему предстояло по обязанности встречать, и он просто застрелил Мари. Брюкнер был в ужасе… То есть он потом клялся мне, что был в ужасе. – Шатогерен усмехнулся. – У барона сделалась истерика, Селени кричал, что Карел их всех погубил, что надо было отравить ее, а теперь повсюду кровь… Эстергази отмахнулся, что дело уже сделано и девочка больше не сможет им помешать, вот что самое главное. Тем временем во дворе поднялся шум – прибыл принц Руперт. Эстергази и Брюкнер передвинули тело, вложили Мари в руку пистолет, чтобы казалось, будто она действительно застрелилась, и пошли встречать принца. Тот сразу же пошел к покоям, уверенный, что Мари приедет через час, как они условились. И там увидел… все увидел. Брюкнер клялся, что принц словно окаменел и не мог даже слова сказать… Он потерял голос и даже плакать не мог. Тут Эстергази и Селени стали хором его убеждать, что Мари была не в себе, беременность на нее плохо влияла, потому и застрелилась, а они так сочувствуют, так сочувствуют его горю… Брюкнер вмешался, сказал, что в замке королева Елизавета и что она не должна видеть этого, ведь это скандал, позор… Ну да, хороший повод не дать никому как следует изучить место преступления! Принц прошептал, что хочет с ней проститься. Он еле мог говорить и попросил оставить его одного. Последним из комнаты вышел доктор Брюкнер, и когда он обернулся, ему показалось, что принц наклонился к Мари и взял из ее пальцев пистолет. А через мгновение прогремел выстрел… Заговорщики бросились обратно.
Шатогерен вздохнул, на какое-то время замолк. Баронесса ждала, не нарушая тишину. Наконец последовало продолжение:
– И увидели, что Руперт застрелился возле ее тела. Весь их прекрасный, продуманный до мелочей план полетел к черту, потому что они не предусмотрели лишь одно – влюбленного человека, кронпринца Руперта, который не захотел без Мари жить. Брюкнер говорил, что Эстергази совершенно потерял лицо… Он кричал на барона, барон кричал на Карела Хофнера, который убил Мари… Альберт стал на защиту брата… Но делать было нечего. Они оказались в чудовищном положении. Не потому, что убили хорошую девушку и тем самым вынудили застрелиться несчастного молодого человека, а потому, что у них на руках был мертвец королевской крови и вдобавок его мертвая любовница… Однако Эстергази не собирался сдаваться. Он сразу же придумал, что именно они будут говорить королю, королеве, германскому императору, которому вряд ли понравится, что его племянница Стефания осталась вдовой. Главное – ни слова об убийстве девушки. Тело Мари тайком похоронили в каком-то богом забытом монастыре. Но служанка, шпионившая для Эстергази, обнаружила черновики письма, которое Мари послала четырем людям: матери, двум близким подругам и галантному рыцарю, Шарлю де Вермону, в которого когда-то была влюблена. Кстати… Бьюсь об заклад, он уже давно о ней забыл.
– И люди Эстергази перехватили все письма, – проговорила Амалия. – Все, кроме одного.
– Да. Мари не знала, что Шарль уже вернулся во Францию, и написала в Африку, в его полк… Письмо ездило из одного места в другое, пока не нашло его эдесь, в санатории. Вспомните, вы в тот день разносили письма и уронили их… Я помог вам их собрать – и вдруг на одном из конвертов узнал почерк Мари. Я ведь не видел ее… так давно не видел… Я не утерпел, пробрался в комнату шевалье, аккуратно открыл письмо и прочитал. Оно привело меня в ужас. Я хотел как следует обдумать его… Бедная девушка… в конце концов, ей все могло померещиться, Мари всегда была склонна к фантазиям. Я вернул письмо на место – и оно исчезло. Все ломали голову, кто мог его взять, а я вспомнил, что однажды видел, как мадам Карнавале тайком просматривала почту шевалье. Тогда я не придал этому значения, но теперь… Я не выдержал, подошел к ней, когда она сидела на берегу, и потребовал отдать письмо. Старуха взглянула на меня своими хитренькими колючими глазками и стала уверять, что ни про какое письмо не знает. А потом, когда я стал настаивать, попыталась меня ужалить своим гнусным языком, намекнула… Я ведь любил Мари, – беспомощно проговорил виконт де Шатогерен. – Очень любил. Но моя мать не пережила бы, если бы я женился не на аристократке… А моя жена умерла от чахотки. И я поехал в Африку, чтобы все забыть.
– И вы даже не пытались жениться на Мари?
Шатогерен хмуро покосился на Амалию:
– Дело ведь было не только в моей матери, но и в матери Мари тоже. Какая-то цыганка сделала ей предсказание: ее дочь войдет в историю вместе с человеком королевской крови. Поэтому ее мать не хотела даже слышать обо мне.
Амалия покачала головой:
– Не обессудьте, но, по-моему, ей выпал худший из всех способов войти в историю.
– Не могу не согласиться, – отозвался Шатогерен. – Если бы не то предсказание, наверное, я бы сумел уговорить мать… или вообще не стал бы ставить ее в известность… Знаете, когда я видел, как Эдит здесь, в санатории, гадает на картах, меня так и подмывало свернуть ей шею.
– Может быть, лучше вернемся к мадам Карнавале? – подтолкнула рассказчика к нужной теме Амалия.
– Я не хотел ее убивать, – признался Шатогерен. – Но после слов старухи ни капли не жалел, что так получилось.
– А ночью вы обыскали комнату пациентки и нашли письмо. Что было потом?
– Потом я стал думать, что мне пора взять отпуск, – отозвался Шатогерен. – Хотел поехать в Богемию, найти Брюкнера и барона Селени, вызвать их на дуэль и убить. К тому времени я уже не сомневался, что Мари нет в живых, что они убили ее. И тут к нам является посетитель и просит доложить, что к баронессе Корф прибыл… барон Селени. Выходит, судьба уже все решила за меня. И я послал ему записку от вашего имени – мне нравилась мысль выманить его так же, как заговорщики когда-то выманили Мари. Он умер не сразу, но сначала сказал мне остальные имена. Селени тоже, как и вы, думал, что я работаю на французов… или на англичан… Он никак не мог взять в толк, что это мое личное дело. Все складывалось как нельзя лучше, потому что Эстергази привез свою жену в Ниццу, чтобы Гийоме ее обследовал, а Гийоме ничего у нее не нашел… и передал пациентку мне. Конечно, я сразу же узнал королеву, и то, что почти все мои враги оказались в ее свите, меня вполне устроило. Но уже тогда я решил, что не буду драться ни на каких дуэлях, а просто убью их, как они убили Мари. Большего они и не заслуживали. Я стал думать о разных лекарствах, которые в определенной дозе превращаются в яд, но все они могли привести ко мне, потому что я врач. И вдруг я вспомнил о яде змеи, который привез с собой из Африки для исследований. Но яд был старый, я сомневался, что он сохранил былую силу… Надо было на ком-то его испытать. Я хотел дать его кошке, но… мне было жаль убивать животное.
– А человека, значит, не жаль? – бросила Амалия сердито.
– Такого, как Катрин Левассер, – нет, – ответил Шатогерен спокойно. – Тот священник, Ипполито Маркези, был моим пациентом. Он находился в затруднении и поведал мне, что какое-то время назад венчал Катрин – та выходила замуж за одного молодого итальянца, больного чахоткой, причем имя у нее тогда было совсем другое. И когда священника убили, я сразу же понял, чьих это рук дело.
– Вы могли рассказать все полиции. – Амалия сердилась все больше и больше.
– Тогда мне пришлось бы пробовать яд на кошке, – рассудительно возразил Шатогерен. – Так что я испробовал яд на Катрин и убедился, что он сохранил прежнюю силу. Доктору Брюкнеру досталась совсем небольшая доза, но он тоже умер через некоторое время, захлебнувшись кровью.
– А Карел Хофнер? Почему он выстрелил в себя?
Шатогерен усмехнулся:
– Все запомнили, что он пил из фляжки вашего кузена, но никто не обратил внимание на то, что дуэлянт упал и поранил себе левую руку, а ведь перевязывал его я. В ранку я и капнул яд. После смерти брата Альберт Хофнер обратился ко мне, жалуясь, что плохо спит. Он знал, что я прописал королеве очень хорошее снотворное, и попросил для себя несколько пилюль. Ну… я и не стал ему отказывать. Только пилюли были по моему особому рецепту – для вечного сна. – И виконт снова улыбнулся. – Но еще до этого вы раскрыли, чем занимался Филипп Севенн, и я решил, что ему лучше умереть, чтобы не позорить наш санаторий.
– Значит, Севенн… – начала Амалия.
– Нет, он не кончал с собой, если вы об этом. Не знаю, заметили ли вы, но люди, которые с легкостью убивают других, своей жизнью очень дорожат. Он бы никогда не наложил на себя руки. А я не мог позволить, чтобы какой-то мерзавец разрушил дело всей жизни доктора Гийоме.
Амалия вздохнула:
– И Эстергази, конечно, вы отравили заранее, а потом перед нами разыграли спектакль с проверкой лекарства на себе. Не так ли, доктор Шатогерен?
Однако по его торжествующей улыбке тут же поняла, что все было не так.
– Нет, – покачал головой Рене, – я дал ему яд на ваших глазах.
Амалия резко выпрямилась.
– Но ведь вы… Я же своими глазами видела, как вы выпили остатки лекарства… то есть яда! Почему же вы не умерли?
– Все дело в коньяке из моей родной провинции, – хладнокровно отозвался Шатогерен. – В Африке меня научили нехитрому трюку: если змеиный яд разбавить спиртом, к примеру коньяком, то яд разлагается и полностью теряет свою силу. А впрочем, достаточно об этом. Главное – что все те заговорщики, мерзавцы и убийцы, сейчас в аду, где им самое место. А теперь, госпожа баронесса, если вы не возражаете, я бы хотел поработать.
Амалия поднялась с места и только сейчас заметила на столе Шатогерена небольшую фотографию молодой женщины.
– Мари Эвремон? – быстро спросила баронесса.
Врач бросил на Амалию скучающий взгляд и усмехнулся.
– Нет, – моя покойная жена. Красивая была женщина, жаль, умерла от чахотки.
Спокойствие Рене Шатогерена обескураживало баронессу. Да что там – это бесстрастие и непроницаемая самоуверенность виконта буквально сбивали с толку. Амалия видела, что он ни капли не боится ее, не опасается, не воспринимает в качестве угрозы… и от этого сердилась больше всего.
– Как вы поняли, что это был именно я? – спросил Шатогерен.
– Я догадалась, лишь когда Шарль рассказал мне об африканской змее и следах, которые оставляет ее яд, – ответила Амалия. – Из всего санатория только он и вы были в Африке. Но шевалье не сидел рядом с Катрин Левассер на ее помолвке и не имел возможности отравить девушку.
– Жаль, я не сразу понял, что Севенн действует с ней заодно, – вздохнул врач. – Иначе я бы и ему прописал… лекарство от бессонницы.
– И вы думаете, вам все сойдет с рук? – внезапно после небольшой паузы воскликнула баронесса.
– О-о… – неопределенным тоном протянул Шатогерен, откидываясь на спинку стула. – Дорогая баронесса, а я полагал, вы умнее. Вы меня разочаровали.
– Боюсь, мне придется рассказать то, что мне открылось, инспектору Ла Балю, – проговорила Амалия, глядя ему в глаза. – Вы слишком опасный человек, виконт Шатогерен, и я не могу допустить, чтобы вы разгуливали на свободе.
– Что-то в таком роде я, признаться, предвидел, – уронил врач. – Очень смахивает на детективные романы, которые любит читать мадам Легран. Милая дама, если вы полагаете, что ваши смехотворные угрозы способны меня напугать, то глубоко заблуждаетесь. Я видел войну, видел, как умирают люди, в Африке меня два раза брали в плен, а англичане едва меня не расстреляли, когда я им попался. И вы всерьез полагаете, что я стану трепетать перед вами? Вы для меня никто, и звать вас никак, будь вы хоть сто раз бывшая сотрудница особой службы. Да-да, я знаю о вас все, потому что для доктора Гийоме собираю сведения о людях, которые являются нашими пациентами. У вас нет никаких доказательств, а раз так, все ваши действия будут совершенно бессмысленны. И что-то говорит мне, что вы сами отлично это сознаете.
– Доказательства будут, – произнес резкий мужской голос от двери.
Баронесса обернулась и увидела Шарля.
– Мне наскучило вас ждать, Амели, – пояснил он, – вот я и отправился за вами следом. И нисколько не жалею. Какую историю мне довелось услышать, месье Шатогерен! Не сомневаюсь, суду она тоже придется по вкусу. С большим удовольствием дам показания о том, как вы убивали людей. И у вас не было никакого права оскорблять баронессу Корф! – запальчиво добавил шевалье.
Но даже присутствие неожиданного свидетеля не смогло лишить Шатогерена присутствия духа.
– До суда вы не доживете, Шарль, – промолвил он, – так что все ваши показания все равно ничего не значат. Вам осталось жить не больше десяти недель, а возможно, всего месяц. Думаете, стоит тратить столь короткое время на то, чтобы таскаться по крючкотворам и пытаться меня уличить? Бросьте. Живите, как можете, наслаждайтесь, проиграйте в казино половину наследства, делайте, что хотите. А обо мне забудьте.
– И что, вы будете вот так просто жить? После того, как убили нескольких человек? – удивленно спросила Амалия.
– Не понимаю, что вас беспокоит? – отозвался Шатогерен. – Уверяю вас, я не убийца и никогда им не был. Вас утешит, если я скажу, что видел врачей, из-за ошибок которых погибло куда больше народу? А ведь они гораздо более виновны, чем я. Я всего лишь не захотел оставить безнаказанным преступление, о котором никто не знал. Причем если бы о нем и узнали, то притворились бы, что так и должно быть.
– Вы отвратительны, – скривил рот Шарль. – Видит бог, я восхищался вами когда-то, но теперь… – Шевалье качнул головой.
– Наверное, отвратительнее всего я был, когда спас жизнь госпоже баронессе, – усмехнулся Шатогерен. – Вы опоздаете на поезд, сударь, и вы, сударыня. Всего доброго.
– Придет другой, – буркнул Шарль, поворачиваясь к двери. – Но будь я проклят, если соглашусь еще раз оказаться с вами под одной крышей!
– И в самом деле, в жизни лучше избегать взаимных разочарований, – кивнул Рене. – Как врач, должен вам заметить, госпожа баронесса, что климат Ниццы для вас вреден. Вам лучше заканчивать лечение в Ментоне. Если угодно, могу порекомендовать вам кого-нибудь из тамошних докторов.
– Не стоит, сударь, – отозвалась Амалия, невольно подражая его хладнокровному тону. Она потерпела поражение, но ни за что на свете ей не хотелось, чтобы доктор догадался об этом. – Я уже бывала в Ментоне и прекрасно осведомлена о местных порядках. Прощайте, месье Шатогерен.
В коридоре к Амалии подошел Анри.
– Вы уже нашли свою книгу, сударыня? Если угодно, я могу помочь…
– Не стоит, Анри, – обронила Амалия. – Спасибо.
Она улыбнулась и в сопровождении Шарля вышла из дома. Через несколько минут новенький блестящий экипаж снялся с места и покатил по направлению к вокзалу.
Натали проводила глазами экипаж и, с облегчением вздохнув, стала смешивать краски на палитре. Девушка задумалась, какой оттенок лучше передаст цвет глаз поэта, в то мгновение казавшегося особенно задумчивым. Кошка на его руках давно спала, лишь изредка беспокойно шевеля ушами.
Поэт думал о письме, которое получил нынче утром. Письмо было отправлено с границы, но он узнал почерк королевы и теперь предвкушал, как, закончив позировать для скучной картины, поднимется к себе и прочитает строки, начертанные Ее рукой. И в голове его мало-помалу складывались и жили какой-то своей, совершенно особой жизнью зарождающиеся стихи о море, разлуке и любви.
В своем кабинете Рене Шатогерен взял в руки фотографию молодой женщины и долго смотрел на нее, после чего извлек карточку из-под стекла. Надпись на обороте гласила: «Мари – для Рене». Под фотографией лежал мятый листок, заполненный неровными строчками, – то самое письмо, которое у него так и не хватило духу уничтожить, потому что его написала она, а других ее писем у него не сохранилось. Рене бережно расправил его и вернул фотографию на место.
Где-то в Париже наборщики срочно составляли передовицу для вечерних газет. Заголовок гласил: «Трагедия в замке Майнебург. Кронпринц Руперт на самом деле покончил с собой! Сенсационные подробности из уст старого слуги!» И издатель газеты, важно попыхивая трубкой, распоряжался довезти еще бумаги, потому что вечерний выпуск наверняка будет пользоваться огромным спросом.
«И море любви не разлучит нас… не разлучит…»
– Алексей Иванович!
Нередин поднял голову. Ах, какая же она неловкая, эта художница, нескладная, опять спугнула рифму! Ну что ты поделаешь!
– Завтра в то же время продолжим портрет? Если вы не против… – робко прибавила Натали.
Поэт рассеянно кивнул:
– Да, в то же время… Если не будет дождя.
Кошка на его руках шевельнулась и открыла глаза. Воздух дрожал и струился расплавленным золотом, в высоком небе не было видно ни облачка.
А на большом плоском камне сидела зеленая ящерица и грелась на солнце, и ей было хорошо.
Валерия Вербинина Ветреное сердце Femme Fatale
Пролог
– Никаких убийств, – сказала Амалия.
– Абсолютно, – подтвердила Аделаида Станиславовна.
– Никаких преступлений…
– Даже и не думай! – вскинулась ее собеседница.
– Я же там умру со скуки! – возмутилась Амалия.
– Не понимаю, чего тебе надо, – возразила ее мать. – Красивейший край, плодородная земля, вполне приличные соседи… Поверенный пишет, что при надлежащем уходе имение вполне может приносить несколько тысяч в год.
– Так я ему и поверила, – сварливо отозвалась Амалия, которая, очевидно, находилась в прескверном расположении духа. – Наверняка поместье уже заложено и перезаложено, и все долги теперь окажутся на мне. И едва я приеду, как ко мне сразу же явятся господа из земельного банка с требованием платить проценты.
Этот странный разговор происходил прекрасным майским днем 188… года. Сидя в саду у осыпанной белыми цветами вишни, дамы пили чай, а покачивающиеся на ветру ветви отбрасывали на их лица подвижную тень. На Амалии было бледно-розовое платье, которое замечательно шло к ее белокурым волосам и светлой коже. Аделаида Станиславовна, как всегда, была одета в роскошный туалет темных тонов, затканный золотом, и, как всегда, производила впечатление путешествующей королевы, которую застигла буря и заставила сойти с тонущего корабля на утлую шлюпку. Само собой, ни корабля, ни шлюпки поблизости не было, но суть впечатления тем не менее не менялась.
– По-моему, ты преувеличиваешь, – промолвила старая дама снисходительным тоном, глядя на дочь сквозь лорнет. – По крайней мере, в своем письме поверенный ни разу не упомянул ни о каких долгах.
– А иначе во всем этом нет никакого смысла, – возразила Амалия. – К чему вообще завещать свое имущество человеку, которого ты никогда в жизни не видел? Вы, maman, хоть что-нибудь помните о пресловутом Савве Аркадьевиче?
Аделаида Станиславовна наморщила лоб и задумалась.
– Он однажды прислал нам поздравление, – наконец объявила она. – С чем, я не помню, но он точно нам писал!
Амалия покачала головой.
– Только поздравление? А не просил о протекции, к примеру? Не навязывался в гости, не выражал желание погостить у нас в столице, не настаивал на том, чтобы быть представленным моему мужу? Нет?
…Когда в 1881 году Амалия вышла замуж за барона Корфа, блестящего молодого офицера, служившего при дворе, она с некоторым изумлением обнаружила, как много у нее родственников, а у ее покойного отца – друзей и знакомых. Прежде она была всего лишь красивой девушкой из обедневшей дворянской семьи, у которой из близких оставались лишь мать и дядюшка Казимир, родной брат последней; но едва Амалия сделалась баронессой и получила право являться при дворе, как ее со всех сторон стали осаждать четвероюродные братья, троюродные тетки, внучатые племянники двоюродных бабушек и кузены уже совсем каких-то непонятных дедушек. Все это многолюдье улыбалось, льстило, рассыпалось мелким бесом, ссылалось на родство, лгало, предлагало дружбу, молило о протекции, вновь льстило без конца и клялось в вечном расположении. И, хотя Амалия видела людей насквозь и, в общем, ничего от них не ждала, ее все же поражало, как быстро номинальные родичи, напрочь забывшие о ее существовании, когда она в них нуждалась, сразу же вспомнили о нем, едва она сделалась баронессой.
Впрочем, если они рассчитывали извлечь выгоду из ее нового положения, то жестоко ошиблись. Амалия принадлежала к тем людям, которые никогда ничего не забывают, и не давала обмануть себя словами, какими бы красивыми они ни были. Она более или менее вежливо отказала от дома всем неожиданным претендентам на родство, после чего ее хором стали обвинять в том, что она зазналась, не признает родственных уз и вообще ведет себя точь-в-точь как ее маменька, полячка Аделаида, гордячка и ломака. Можно себе представить, как радовались все эти мелочные злопыхатели, когда узнали о разводе Амалии с мужем. Теперь-то, ликовали они, эта высокомерная особа вернется в прежнее ничтожество; теперь-то она точно пожалеет, что отвергла нашу – пусть даже весьма небескорыстную – дружбу.
Однако Амалия в который раз обманула их ожидания. Она по-прежнему жила в великолепном особняке на Английской набережной, решительно ни в чем себя не стесняла и без малейшего смущения бывала при дворе, хоть и не чаще, чем того требовала ее работа в особой службе, о которой очень мало кто был осведомлен. Впрочем, во времена нашего рассказа Амалия уже не состояла в службе, довольствуясь положением частного лица. У нее были слабые легкие, и всего несколько недель назад она приехала из очередного санатория, где провела осень и зиму. А сегодня утром…
– Нет, – решительно объявила Аделаида Станиславовна в ответ на вопрос Амалии, – он никогда ни о чем не просил.
Молодая женщина тихо вздохнула и отставила чашку. Желтая бабочка кружила над травой, и Амалия проводила ее полет взглядом.
– Кто он вообще такой, этот Савва Аркадьевич Нарышкин? – устало спросила она.
– Дальний родственник твоего отца, – с готовностью отвечала Аделаида Станиславовна. – Насколько я поняла, он был в своем уезде мировым судьей.
Амалия скептически покосилась на нее.
– И судья завещал мне свое имение? Ни разу в жизни меня не видя, не пытаясь даже встретиться со мной? Только потому, что я его родственница?
– Дорогая, я тебя не понимаю, – молвила Аделаида Станиславовна обескураженно и даже лорнет опустила. – Что тут такого, в самом деле? Человек умер, перед смертью составил завещание в твою пользу, по всей форме… – Она указала глазами на лежащее на столе письмо, которое пришло сегодня с утренней почтой. – Движимое и недвижимое имущество, пруды, мельница, земельные угодья… Может быть, ты и права, и что-то в самом деле уже заложено банку, но ведь надо сначала выяснить, а потом уж говорить. В конце концов, ты всегда можешь отказаться от наследства, – добавила Аделаида Станиславовна, видя, что дочь колеблется. – И потом, если Савва Аркадьевич Нарышкин пожелал, чтобы ты стала его наследницей, значит, у него для того были свои причины.
Амалия нахмурилась. Причины, как она полагала, были самые прозаические: имение опутано долгами, угодья не представляют особой ценности, стало быть, наследнице не достанется ничего, кроме хлопот и долгой тяжбы с земельным банком, который уж всяко своего не упустит.
К тому же молодая женщина по складу своего характера была человеком городским. Пусть другие сколько угодно радуются тому, что им удалось вырастить на своих десятинах, и хвастаются друг перед другом новыми сортами картофеля или ржи, Амалии все это было безмерно скучно. Даже дачный отдых она не жаловала, потому что при одном слове «дача» ей представлялись тучи комаров, отсутствие привычных удобств и назойливые соседи, бесцеремонно навязывающие вам свое общество на том лишь основании, что вы с ними оказались в одной местности. Так что мысль о том, что ей надо ехать куда-то далеко в провинцию принимать неожиданное наследство, не вызывала у Амалии ничего, кроме глухого протеста.
– Кроме того, – добавила Аделаида Станиславовна, – поверенный же написал, что у судьи не было детей, а его жена давно умерла. Так что он был в своем праве.
В том, что судья был в своем праве делать с собственным имуществом все что угодно, Амалия не сомневалась, но ее возмущало, что в качестве наследницы он выбрал именно ее. Как возмущала и несвоевременность неожиданного подарка судьбы. Ах, как она была бы счастлива, если бы это наследство объявилось несколько лет назад, когда ее отец был еще жив и его можно было спасти! Или еще раньше, когда их семья была разорена бесконечными судами и исками. Им бы очень помогли тогда деньги. А теперь… На что они ей теперь? Она живет в столице, и все ее соседи-аристократы один знатнее другого, когда в гостиной у нее висит на стене подлинный Тициан, которого она привезла из одной из своих служебных поездок, когда она может приказать возвести зимой возле дома настоящий ледяной дворец, чтобы побаловать своего сына Мишу… На что ей чужое имение, наверняка запущенное, с расстроенным хозяйством, расположенное где-то за тридевять земель?
– Глупо, – вырвалось у Амалии, – просто глупо! Как оно называется вообще?
Аделаида Станиславовна взяла письмо со стола и кокетливым жестом поднесла к слабеющим глазам лорнет. И, хотя в то мгновение она ничуть не красовалась, со стороны движение ее выглядело именно как нечто искусственное, как привычная уловка некогда блистательной красавицы, которая в молодости вскружила не одну горячую голову.
– Синяя долина, – прочитала она вслух. – Да, именно так.
– Синяя долина? – удивилась Амалия. – А почему именно синяя?
Ее мать только пожала плечами. В самом деле, откуда она могла знать?
– И как туда добираться? – спросила молодая женщина.
– Тут все подробно объяснено, – отозвалась Аделаида Станиславовна. – По железной дороге, а затем в экипаже до самой Синей долины. – Она поглядела на дочь поверх лорнета. – Я полагаю, можно будет дать телеграмму, что ты едешь, и тебя встретят на станции.
Амалия поморщилась и отвернулась. Она все еще не желала никуда ехать и в глубине души бунтовала против необходимости поездки.
– Наверняка все это будет зря, – проговорила она в сердцах.
– Может быть, – не стала спорить Аделаида Станиславовна. – Но ты подумай: вдруг имение приличное и ты сможешь потом передать его Саше?
Саша считался приемным сыном Амалии и носил ее девичью фамилию – Тамарин. Откуда он взялся, никто толком не знал, а те, кто знал, предпочитали держать язык за зубами.
Амалия сердито взглянула на мать, но Аделаида Станиславовна ответила ей совершенно безмятежным взором.
– Саша и так никогда ни в чем не будет нуждаться, – резче, чем ей хотелось, проговорила Амалия. И тут ей в голову пришла неожиданная мысль. – Послушайте, maman, а что, если нам послать туда Казимира?
Почтенная Аделаида Станиславовна так удивилась, что чуть не выронила лорнет.
– Как, Амели, Казимира?
– Да. А что такого? Он приедет туда, все разузнает и отпишет нам, а мы уже потом решим, что нам делать.
Но Аделаида Станиславовна, похоже, была вовсе не в восторге от идеи дочери.
– Нет-нет, дорогая, только не это! Казимир не может никуда ехать. Ну, ты сама подумай: имение и бедный Казимир… Боже! Он же проиграет его в карты еще прежде, чем доберется до него! Прямо в поезде проиграет случайным попутчикам! А если все-таки случится чудо и Казимир доберется до Синей долины, он же… он же прямо там ее и проиграет. Да! И мы останемся ни с чем!
Амалия невольно улыбнулась. По правде говоря, причина, по которой она так стойко отбивалась в свое время от неожиданно нагрянувших родственников, заключалась вовсе не в ее злопамятности и жестокосердии, как некоторые могли подумать, а как раз в дядюшке Казимире. Это был необыкновенно изворотливый маленький человечек, картежник, плут, бонвиван и, что называется, не дурак выпить. Всю свою жизнь он безотлучно провел при старшей сестре, матери Амалии, и, когда дела самой Амалии значительно улучшились – отчасти благодаря браку, отчасти благодаря пребыванию в особой службе, – ей пришлось, как до того Аделаиде Станиславовне, мириться с присутствием Казимира и выплачивать ему содержание, чтобы он мог по-прежнему баловаться карточной игрой, пить дорогое шампанское и заводить романы с хорошенькими женщинами. Всякий раз, когда очередной непрошеный родственник являлся к Амалии, она представляла себе, что отныне ей придется терпеть не одного Казимира, а двух, и при мысли об этом ее голос становился таким ледяным, а манеры – такими неприятными, что гость, не успев пробормотать свою просьбу о теплом местечке для себя или для сына, уже пятился к дверям.
Не то чтобы Казимир был каким-то подлецом или законченным мерзавцем – Амалия успела достаточно повидать жизнь, чтобы понять: бывают люди и куда хуже него; но он был невыносимо, чудовищно эгоистичен и даже знать не желал о том, что помимо его желаний в мире существуют и другие, с которыми надо считаться. Больше всего на свете он боялся двух вещей – смерти в богадельне и женитьбы. Причем женитьбу, пожалуй, можно поставить на первое место. Казимир прекрасно понимал, что никто не станет так носиться с ним, как сестра, потакавшая его слабостям и заставлявшая дочь с ними считаться, и до ужаса боялся, что однажды, в один далеко не прекрасный день, его свободе придет конец. Кажется, этот страх поселился в нем с тех пор, когда он встретил старого приятеля Болека, заводилу Болека, с которым они славно проказили во время учебы у иезуитов; и Казимир не мог забыть то жуткое чувство, когда лет через семь после окончания школы он вновь увидел своего друга, женатого, плешивого, с синяками под глазами, совершенно облетевшего, как дерево осенью. Боже! Неужели перед ним был тот самый Болек, с которым они лазили к черноглазой Ирене за пирожками и поцелуями? Какой же он сделался старый, несчастный, и как им помыкала его измученная, постаревшая от многочисленных родов жена, и какой у него затравленный вид, и как униженно он говорил о том, где бы ему перехватить денег до рождения очередного ребенка… Казимир никогда никому не рассказывал, но именно после встречи с Болеком он определенно понял, что семейная жизнь – не для него. Он так боялся попасться, так боялся оказаться в положении, когда честный человек просто обязан жениться, что даже романы заводил исключительно с замужними, положительными дамами. И то – не далее как несколько дней тому назад Казимир едва не обжегся, и Амалия, вспомнив об этом случае, невольно улыбнулась.
– Что? – спросила Аделаида Станиславовна, зорко наблюдавшая за ней.
– Так, – беспечно отмахнулась Амалия. – А где дядя сейчас?
– У себя, – вздохнула ее мать. – Второй день почти не ест, бедный. И даже на карты не смотрит, – заговорщическим шепотом прибавила она.
…Причина того, что Казимир даже перестал смотреть на карты, заключалась в миниатюрной хорошенькой даме, которая явилась как-то в особняк Амалии после обеда. Едва старый Яков доложил о прибытии гостьи, как Казимир побелел, покраснел, заметался, выскочил за дверь, впопыхах стукнувшись о створку, и крикнул племяннице на прощание:
– Меня нет! И не будет! Я для нее умер!
Однако через секунду он вновь просунул голову в дверь.
– Умоляю тебя, племянница, – застонал он, – сделай что-нибудь, чтобы она исчезла! Я так с ума сойду!
Амалия сделала Якову знак подождать.
– В чем дело, дядюшка? – довольно сухо спросила она.
– Вот то-то и оно! – просипел Казимир, теряя голову. – У нее муж умер… от грудной жабы[21]… третьего дня. И она вбила себе в голову, что я должен на ней жениться!
– А не должен? – осведомилась Амалия безразличным тоном.
– Я? – отшатнулся Казимир. – Но это же… это… Нет, лучше петля! Сразу! Покончить счеты с жизнью… Или камень на шею – и в воду, да! – И он энергичным жестом показал, как именно станет привязывать себе на шею камень.
– А может быть, вы зря переживаете? – добила его Амалия. – Женитесь, остепенитесь, заведете детей… Не так уж и плохо, знаете ли!
– Ну да, конечно! – возмутился Казимир. – То-то ты сама развелась, племянница…
Помимо всего прочего у Казимира был неприятнейший талант попадать точно в больное место. Заметив, что Амалия слегка переменилась в лице, что могло служить у нее признаком сильнейшего гнева, он, впрочем, сразу же пошел на попятный.
– Я ничего такого не имел в виду, – жалобно пропыхтел дядюшка, кося глазом на противоположную дверь, куда вот-вот должна была войти та, которая покушалась нарушить его покой и насильственным образом, вопреки всем законам и уложениям Российской империи, отволочь его к алтарю. – Но семья… и я… О, я не переживу этого! – со стоном закончил он, хватаясь за голову.
Амалия сердито поглядела на него и сделала ему знак исчезнуть. Казимир с невероятной для его комплекции скоростью взлетел по лестнице и хотел было укрыться у себя в спальне, но тут ему в голову пришло, что Амели все-таки не сестрица Адочка и что с безжалостной племянницы вполне станется выдать его врагу. Поэтому он на цыпочках спустился по лестнице обратно и с замиранием сердца припал ухом к двери, за которой глухо беседовали два женских голоса.
– Мы столько времени были вместе! – стонал первый женский голос. – А теперь он избегает меня, и все из-за чего? Я лишь предложила узаконить наши отношения! Даже мой духовник…
Дальше ничего нельзя было разобрать, кроме сморканий в платок и невнятных сетований на судьбу.
– Всю мою жизнь я была так несчастна! – продолжал тот же голос. – Мой муж был такой тиран… Настоящий деспот!
Казимир вспомнил деспота, который был тишайшим человеком на свете, и мысленно застонал.
Ну почему, почему тот не прожил еще много-много лет, ко взаимному удовольствию жены (которой все равно надо кого-то обманывать) и ее любовника (который все равно не собирается на ней жениться)? Ведь тогда Казимир не попал бы в такое дурацкое положение!
– Боюсь, я вынуждена вас разочаровать, Зинаида Петровна, – теперь говорила Амалия. – Я от всей души сочувствую вашему горю, но дело в том, что мой дядя никак не может жениться. Ни на вас, ни вообще на ком-либо.
За дверью Казимир приосанился и поправил жидкий ус.
– Ах, вы повторяете с его голоса! – плаксиво отозвалась Зинаида. – Он вообще спокойно не может слышать слово «свадьба». Даже когда мы проходили мимо церкви и кто-то венчался, он всегда стремился меня увести!
Амалия вздохнула, и Казимир невольно насторожился.
– Что ж, все понятно, – после паузы промолвила его племянница. – Собственный опыт дяди получился не слишком удачным.
– Опыт? – удивилась Зинаида Петровна.
Амалия вновь вздохнула, и Казимир затаил дыхание.
– Дело в том, что мой дядя уже женат. Именно поэтому он никак не может снова жениться, – пояснила Амалия.
У замочной скважины Казимир в страхе икнул, закусил сустав пальца и вытаращил глаза.
– Как? – в непередаваемом изумлении воскликнула Зинаида Петровна. – Но Казимир мне ничего не говорил!
– Оно и не удивительно, к сожалению, – отозвалась Амалия. – И тем не менее это правда. У него есть жена в Варшаве. Ее зовут Марыся, очаровательная женщина… то есть была ею, пока не согласилась за него выйти. У них трое детей, я высылаю им содержание, потому что заботиться о семье дядя не в силах. И вообще, знаете ли, она столько от него натерпелась…
В полном остолбенении Казимир слушал, не понимая, на каком он свете, а Амалия продолжала рассказывать дальше. Очень спокойно и крайне убедительно она описала, как он проигрывал шали жены в карты, как скверно обращался с детьми, даже поколачивал их, как они ютились в подвале, отчего один из детей заболел рахитом… Племянница лгала так гладко, так непринужденно, что Казимир словно воочию видел тот подвал, освещенный одной тусклой свечой, слышал возню мышей за стеной, видел разводы на обоях от сырости…
– Но я ничего не знала! – то и дело восклицала Зинаида Петровна. – Ах, бедная женщина! Ах, какой же негодяй ваш дядюшка!
Казимир узнал, что и жену, несуществующую Марысю, он поколачивал регулярно, обзывал ее при детях нехорошими словами, и раз, когда ее родственники прислали им денег, он их отнял и пошел в притон играть в карты. И когда его ребенок едва не умер, он шлялся всю ночь невесть где, и вообще…
– Мы с матерью верили, что Марыся его образумит, – закончила Амалия. – Конечно, если бы на ее месте оказалась такая женщина, как вы…
Но Зинаида Петровна отчего-то не пожелала быть на месте Марыси. Напротив, она очень кротко извинилась, что посмела побеспокоить госпожу баронессу. Мол, ей и в голову прийти не могло… И сам Казимир ни разу, ни разу не упомянул даже, что он уже женат… Зато теперь понятно, отчего ему становилось дурно при одном намеке на свадьбу и отчего он избегал любых разговоров об их совместном будущем…
На прощание Зинаида Петровна выразила желание хоть чем-то помочь семье бедной Марыси, но Амалия заверила ее, что в том нет никакой нужды. Хоть Казимир и совершенно никчемный человек, но тем не менее она заботится о его жене и детях и старается делать все, чтобы для их же блага держать его подальше от них. Иначе он пустит их по миру, а детей отдаст в приют. «Ведь наверняка он даже не говорил вам, Зинаида Петровна, что у него есть свои малыши? Вот видите! Такой вот он черствый человек, собственные дети для него ничего не значат…»
Когда Зинаида Петровна уходила, даже по ее спине можно было прочесть, что она считает себя женщиной, которая избегла величайшей опасности, избавившись от негодяя, какого свет не видел. Вскоре вниз спустилась Аделаида Станиславовна, и Амалия, кратко пересказав ей, как она отделалась от objet[22] дядюшки, попросила ее позвать Казимира.
– Наверняка он сейчас подслушивает под дверью, – заметила Амалия, которая вследствие своей работы в тайной службе приобрела совершенно неуместную и неприличную в домашних делах проницательность. – Скажите ему, maman, что он может больше не беспокоиться. Между нами, я сильно удивлюсь, если мадам Воронская когда-нибудь еще пожелает с ним знаться.
Мадам Воронская и в самом деле навсегда исчезла из его жизни, а вот Казимир по совершенно непонятной причине затосковал. Он потерял аппетит и целыми днями лежал на диване, уставившись в потолок…
– Может быть, ты зря ее отвадила? – предположила Аделаида Станиславовна, поднося к губам чашку чая. – Некоторые мужчины сами не знают, что им надо. Может быть, ему и впрямь стоит на ней жениться? Он сам не свой с тех пор, как она ушла.
Если говорить начистоту, Амалия была не прочь раз и навсегда избавиться от дядюшки Казимира, доверив заботу о нем кому-то еще, но она знала, что мать придерживается иной точки зрения, и потому предпочла перевести разговор на другую тему.
– По правде говоря, единственное, что меня беспокоит сейчас, – это Синяя долина, – призналась она. – Как-то некстати свалилось наследство от человека, которого мы ни разу в жизни не видели.
Но Аделаида Станиславовна стала горячо ее разубеждать. Может быть, наследство вовсе не такое скверное, как она думает? Надо бы послать телеграмму, чтобы ее встретили на вокзале, отправиться туда и все разузнать как следует.
– А там уж видно будет, – закончила старая дама. – Не понравится – всегда можно продать, а если совсем дело плохо, то можно и вовсе от наследства отказаться. Имущество твое, тебе и решать.
Так на следующий день Амалия выехала из Петербурга по направлению к загадочной Синей долине, еще не подозревая о том, какие приключения ожидают ее впереди.
Глава 1 Глушь
Они привыкли вместе кушать,
Соседей вместе навещать,
По праздникам обедню слушать,
Всю ночь храпеть, а днем зевать.
«Евгений Онегин», глава вторая.Занятиям деревня учит,
Уединенье хоть кого
Читать в ненастны дни научит
И мыслить вопреки всего.
«Евгений Онегин», глава первая1
Из частного письма
«Погода у нас, Лукерья Львовна, стоит отменная. Жаль, кусты клубники намедни попортил зловредный крот, но кабачки обещают быть весьма аппетитными. Морковь также хороша, хотя и не такая крупная, как в прошлом году. Я недавно посадила тюльпаны, да они что-то не прижились. Федот Федотыч, почтмейстер наш, которому я на то жаловалась, объяснил, что луковицы чрезвычайно лакомы для белок и мышей, которые их и сгрызают, предварительно вырыв из земли. À propos[23], почтенный Федот Федотыч вам кланяется и просил справляться о вашем здоровье.
Марья Никитишна, которой 10 апреля исполнилось 83 года, нечаянно выпала из брички, которой правил пьяный кучер. Кучер сломал себе руку и ногу, а Марья Никитишна теперь передвигается вдвое быстрее прежнего и почти не пользуется тростью. Вот уж воистину: что одному на пользу, другому только во вред. Мой племянник Степан просил засвидетельствовать вам свое почтение. У него все по-прежнему, как и было. Он все дает объявления в газеты, да без толку, только деньги зря уходят. Скоро будет уже пять лет, как скрылась его жена, и я надеюсь, что он все-таки образумится и вспомнит о людях, которые куда больше его супруги достойны внимания. Вы знаете, как я желала бы видеть его с Верой Дмитриевной, нашей соседкой. Такая благонравная девушка, такое отзывчивое сердце – они были бы со Степаном прекрасной парой, но пока мой племянник и слышать не желает о разводе.
Маврикий Фомичев, тот купец, что метит в миллионщики, открыл еще один трактир и выкупил три лавки. Его кум Гаврила – теперь хозяин гостиницы, в которой прежде был управляющим, и все говорят, что на этом они не остановятся. К нам в уезд приехал новый доктор, Владислав Иванович Никандров, интересный брюнет с голубыми глазами. Манеры самые столичные, и обхождение петербургское, а сюда он перебрался потому, что у него самого какие-то нелады со здоровьем и ему предписали побольше бывать на свежем воздухе. Впрочем, то, что он здесь, очень даже хорошо, потому что старый доктор Станицын совсем оглох, а от земского врача толку мало, да и глядит он исподлобья, словно зарезать хочет своим скальпелем, и к тому же от него постоянно пахнет йодоформом.
На днях была у нас Оленька, бывшая невеста Степана. Как вы помните, Лукерья Львовна, она теперь замужем за Пенковским, но и нас не забывает. Жаль, что Степан тогда пошел на поводу у своих чувств и предпочел Оленьке ветреную и весьма легкомысленную особу, о которой вам известно не хуже, чем мне. Оленька тоже просила вам кланяться.
Вчера заезжал доктор Никандров, они говорили со Степаном о разных политических материях и пришли к выводу, что войны в ближайшее время не будет[24]. Ну, дай-то бог. Нового мирового судью еще не выбрали, а в уезде вовсю судачат о завещании Саввы Аркадьевича. Оленькин муж, Пенковский, надеялся кое-что получить, так как приходился Савве Аркадьевичу крестником, да куда там – судья все отписал дальней родственнице, которая замужем за бароном Корфом и в Петербурге живет. Правда, от Федота Федотыча, у которого двоюродный брат в столице, узнала я за доподлинное, что она состоит с мужем в разводе и образ жизни ее далек от примерного. Наши говорят, что имение ей ни к чему и что Синяя долина скоро будет продана за бесценок. Старых слуг, вероятно, попросят со службы, и я уж решила, что возьму к нам кухарку Пелагею, потому как готовить она умеет превосходно. Что же до Дмитрия, лакея покойного Саввы Аркадьевича, то человек он пустяковый, пьет горькую и вряд ли кому-либо подойдет.
Только что пришла горничная Фекла и принесла новость от почтмейстера, что приезд новой барыни ожидается сегодня, потому как прибыла от нее телеграмма. Воображаю, что будет. Пока прерываюсь, а вечером отпишу вам обо всем подробно. Искренне ваша Настасья Сильвестровна».
2
– Дми-итрий! Дмитрий! Погоди, почтенный…
Сидевший на козлах человек натянул вожжи, и лошадь, недовольно мотнув головой, остановилась. К коляске довольно уверенно ковыляла седовласая дама почтенных лет с востреньким носиком и маленькими глазками, почти лишенными ресниц. Это была Марья Никитишна, первая сплетница здешних мест, та самая, что так удачно вывалилась из брички. Она заискивающе поглядела на кучера и облизнула губы розовым язычком.
– Дмитрий, – нежно пролепетала она, пытаясь придать своему лицу самое доброе, самое ласковое, самое умильное выражение, – ты новую хозяйку едешь встречать?
Кучер, угрюмого вида человек лет сорока с мешками под глазами и подозрительно сизым носом, лишь мрачно покосился на ее жеваную шею и пробурчал нечто невразумительное, что, однако, можно было при желании принять за положительный ответ. Марья Никитишна приободрилась.
– Дмитрий, голубчик, – продолжала она, боком подбираясь поближе к коляске, – у нас дверь покосилась, не поглядишь сегодня на досуге? Заодно и про новую хозяйку расскажешь, какова она и что собой представляет, – нежно промурлыкала она.
Кучер дернул щекой, вновь буркнул что-то, что отдаленно смахивало на положительный ответ, и поудобнее перехватил вожжи. Судя по всему, Дмитрий был не слишком разговорчив.
– Так не забудь, сегодня! – крикнула ему вслед почтенная старушка и резвой рысцой затрусила обратно к своему дому.
– Тьфу ты, холеры на тебя нет! – довольно невежливо проворчал Дмитрий, когда коляска была уже на безопасном расстоянии от неугомонной сплетницы.
Он почувствовал потребность выпить, причем немедленно, а для этого вполне достаточно было завернуть в гостиницу к Гавриле Краснодеревщикову, которая находилась как раз по дороге. Впрочем, Дмитрию так и не дали осуществить его намерение, потому что за пять домов до вожделенной цели его окликнула молодая и хорошенькая Ольга Пантелеевна, жена чиновника Пенковского.
– Послушай, любезный…
Дмитрий по натуре был нелюбезен, а когда его так называли, у него и вовсе все нутро переворачивалось от раздражения. Поэтому он только натянул вожжи и пробурчал что-то вроде приветствия.
– Едешь встречать новую хозяйку? Ту, которой Савва Аркадьич все завещал? – допытывалась Ольга, и ее глаза то и дело перебегали с лица Дмитрия на его руки, державшие вожжи. – Послушай, Дмитрий! Мне кажется, тебе скоро понадобится новое место. – Кучер от неожиданности закашлялся так, что лошадь настороженно повела ушами. – Мой муж… ему очень будет нужен хороший человек. Поэтому, как только отвезешь хозяйку, будь так добр, загляни к нам, хорошо? Надо будет договориться об… об условиях.
Откашлявшись, Дмитрий все-таки выдавил из себя несколько слов благодарности и пообещал, что непременно заглянет к Пенковским. Услышав его ответ, Оленька расцвела.
– Да, и не забудь рассказать нам, старая хозяйка или нет! – крикнула она, когда коляска уже отъезжала. – Мне почему-то кажется, что ей должно быть лет шестьдесят, как Савве Аркадьичу, – извиняющимся тоном добавила она.
Избавившись от жены чиновника, Дмитрий ухитрился-таки подъехать к гостинице, где его ждало спасение от всех бед, но у входа, как назло, стоял благообразный старик, который о чем-то увлеченно беседовал со здоровенным рыжебородым малым, причем последнему явно было тесно в цивильном костюме. Едва заприметив старика, Дмитрий почувствовал, как его жажда чудесным образом куда-то испарилась. Кучер ограничился тем, что поздоровался с рыжебородым Гаврилой, хозяином гостиницы, и поехал дальше. «Вот ведь принесла сюда Егора нелегкая!» – с тоской подумал он.
Местный старожил Егор Галактионович был известен своим суровым нравом, а также тем, что на дух не переносил алкоголь и табак. Он неистово обличал тех, кто имел несчастье придерживаться другой точки зрения, а у Дмитрия было не то настроение, чтобы вступать со стариком в перепалку. Вот кучер и ограничился тем, что вздохнул так громко, что лошадь с шага перешла на рысь.
Подъезжая к вокзалу, Дмитрий мысленно пытался представить себе, на кого будет похожа его новая хозяйка. Он помнил, что старый мировой судья, когда его первый раз тряхнуло, начал наводить справки обо всех своих родственниках и велел поверенному составить завещание, где не было указано лишь имя будущего наследника. И Дмитрий вновь, как живого, увидел Савву Аркадьича, – как он сидел в глубоком кресле, прикрывшись пледом, и, брюзгливо оттопырив нижнюю губу, читал ответы на свои запросы. «Гм, в кавалерии числится и в долгу как в шелку. Не угодно ли, его нам только не хватало! А тут кто? Надо же – примерная супруга, семеро детей! Шалишь, матушка, твои семеро мою долину раздерут на семьдесят семь частей да и продадут, с них станется… Башибузуки! А это еще кто? Тридцать восемь лет, и еще не замужем. Нет, не годится, знаем мы их, старых дев, на которых свалилось наследство. Вмиг объявится какой-нибудь прощелыга, фертик, черти б его драли, и все имущество – псу под хвост». И дальняя, очень дальняя родственница с привлекательным и странным именем Амалия судье тоже приглянулась не сразу. «Амалия, ишь чего выдумали! – пыхтел он. – Имя-то какое непотребное, на мысль сразу же приходит веселый дом с ихними мамзелями». Но, очевидно, обладательница непотребного имени оказалась все же респектабельнее, чем кругом задолжавший офицер – сын двоюродного брата, многодетная мать или старая дева. Ни одному из них Савва Аркадьич не оставил ни гроша, зато таинственной Амалии досталось все, чем он владел до тех пор, пока не отправился в лучший мир, где материальные и иные блага не имеют никакой ценности. И именно эта Амалия вскоре должна была решить судьбу самого Дмитрия Пересветова, лакея и по совместительству кучера старого судьи.
«Конечно, выставит за дверь, как пить дать, – мрачно размышлял Дмитрий. – На что я ей? Опять же, выпивон люблю-с, хотя больше наливочки разные, чем водочку. – Он вспомнил, какую наливку готовила кухарка Пелагея, и даже зажмурился от удовольствия. – Тяпнуть бы сейчас того… черносмородинной маленько. А можно и не маленько, – тотчас же поправил он себя. – Небось как явится, так все бутылки сразу же и примется считать, вместо того чтобы за мужиками из Рябиновки приглядывать, которые все лес норовят у нас таскать. Пока судья в силе был, так браконьеры тоже смирно сидели, а как его первый удар хватил, всякую совесть потеряли. Эх!»
Вдали сипло засвистел локомотив. На перроне все оживилось и засуетилось. Дмитрий зачем-то вытянулся в струнку и стал тоже глядеть в сторону приближающегося поезда.
«Ну выгонят, ну и пусть, – подумал он напоследок. – Сбережения кое-какие имеются, Савва Аркадьич нас не обижал. А не пригодимся мы столичной даме – ее дело».
Мимо него пробежал начальник станции в красной фуражке, и лицо у начальника было такое озабоченное, словно поезд собирался провалиться под землю, не доезжая до станции, и только от него, начальника, зависело предотвратить катастрофу. Гремя, пыхтя, плюясь облаками пара, шипя, фыркая и содрогаясь всеми вагонами, поезд протащил свое длинное тулово вдоль перрона и, свирепо лязгнув напоследок, стал.
– Остановка десять минут! Буфет!
Помимо воли Дмитрий ощущал странное волнение. Из первого вагона вышла дама с лошадиным лицом и в шляпе величиной с тележное колесо, строго поглядела на него и направилась в сторону буфета. Дмитрий нервно сбил со лба ладонью пот. Вот из другого вагона показалось несколько десятков пакетов, свертков, картонок и чемоданов, которые волокли за собой маленького полузадохшегося господина в серой паре[25]. За господином величаво плыла дама с кисейным зонтиком, бывшая примерно на полторы головы выше своего супруга.
– Носильщик! – зычно воззвала она к одинокому Дмитрию.
– Простите, сударыня, – быстро возразил он, – но я не носильщик.
– Любопытно, – уронила дама, смерив его взором. – А где же все носильщики?
Полузадохшийся господин описал вокруг себя самого полукруг и изготовился было рухнуть на перрон без сил, но ледяной взгляд супруги вынудил его застыть в вертикальном положении. Шляпа готова была вот-вот свалиться с его головы.
Чувствуя, что он тут определенно лишний, Дмитрий двинулся вдоль вагонов и едва не налетел на согбенную старушку с хищным лицом и орлиным носом. Слуга только глянул на него и закоченел от ужаса.
– Простите… – пролепетал он. – Баронесса Корф?
На что получил сухой ответ, что она урожденная фон Ренсинг и к выскочкам Корфам уж точно не имеет никакого отношения. Благословляя небо, Дмитрий поспешно бросился прочь и только тут заметил носильщиков, которые усердно перетаскивали на перрон багаж очень красивой белокурой дамы в бледно-голубом шелковом платье. Судя по всему, багажа было много, во всяком случае, достаточно, чтобы все носильщики толпились именно здесь, оставив без подмоги маленького пассажира, захваченного чемоданами в плен, и его надменную жену. Блондинка обернулась, смерила Дмитрия взглядом, и в ее карих глазах сверкнули золотые искры.
– Простите, – пробормотал слуга, – я… я жду баронессу Корф.
Взмах тонкой руки, затянутой в перчатку.
– Стало быть, вы меня дождались, – спокойно сообщила дама в голубом. – Еще два чемодана, да, благодарю вас. Надеюсь, в ваш экипаж все это поместится. Впрочем, если нет, тогда наймем еще один.
3
– Едет, едет! – воскликнула Настасья Сильвестровна и в возбуждении потерла руки.
Ее племянник Степан Александрович, к которому она недавно перебралась вести хозяйство, укоризненно покосился на нее.
– Кто едет, ma tante?[26]
– Слуга мирового, – торжественно объявила Настасья Сильвестровна. – И с ним новая хозяйка Синей долины. Да, точно она!
И дама прильнула к окну, чтобы во всех подробностях рассмотреть наследницу судьи, а затем подробно перечислить в письме к вдовствующей родственнице Лукерье Львовне, что именно представляет собой вновь прибывшая.
– Но она же совсем молодая… – разочарованно протянула Настасья Сильвестровна.
То ли ее замечание, то ли естественное человеческое любопытство все же вынудили Степана Александровича подняться с места, но он, отложив газету, тоже подошел к окну.
– Не понимаю я Савву Аркадьича, право слово, не понимаю, – вздохнула тетушка. – Как же ей управиться с таким большим имением? Ведь у судьи были и другие родственники да и крестный его… – Настасья Сильвестровна покосилась на племянника и умолкла.
Амалия уже поняла, что ее прибытие совершило в городке настоящий фурор. За оконными занавесками угадывались любопытствующие физиономии обывателей, встречные прохожие останавливались и, не стесняясь, разглядывали ее. Возле гостиницы с витиеватым названием «Бель Вю»[27] рыжебородый здоровяк в костюме, который был ему тесен, снял шляпу и неловко поклонился молодой женщине. Амалия вопросительно посмотрела на своего возницу.
– Это Гаврила, значит, Модестыч Краснодеревщиков, – охотно объяснил Дмитрий. – И гостиница, стало быть, ихняя.
Плешивый господин лет сорока пяти с лихими кавалерийскими усами, который стоял на противоположном тротуаре, оказался почтмейстером Федотом Федотычем, а голубоглазый брюнет рядом с ним – доктором Никандровым. Молодая девушка, которая выходила из модной лавки, была отрекомендована как Вера Дмитриевна Осокина, дочь покойного брандмейстера. Но тут взор Дмитрия выхватил среди прохожих резвую старушку с востреньким носиком, возница сразу нахмурился и стегнул лошадь.
– Далеко до Синей долины? – спросила Амалия.
– Да уж верст пятнадцать будет, – отозвался Дмитрий.
Он приободрился и заметно повеселел. Новая хозяйка имения оказалась прехорошенькая и к тому же совсем не строгая. Городок остался позади.
– А вот и ваши земли начинаются, – объявил Дмитрий.
Амалия огляделась. По обеим сторонам дороги бежали луга, окаймленные полоской сизого леса. Коляска выехала на простор, и вдали показалась синяя река, которая разбегалась двумя притоками, огибая многочисленные островки. Вид был настолько красивый, что у Амалии невольно захватило дух.
– Значит, вот почему долина синяя! – вырвалось у нее.
Дмитрий важно кивнул.
– Предкам Саввы Аркадьча тут все, почитай, принадлежало, но ему из-за свободы[28] досталось меньше. – Дмитрий приподнялся и повел в воздухе кнутовищем. – Вон тот лес, река и все, что возле реки, – тоже его. Усадьба, мельница, пруды…
– И давно все имение заложено? – как бы между прочим поинтересовалась Амалия.
– Заложено? – Дмитрий удивленно взглянул на нее. – Что вы, сударыня, мы здесь лихоимцев из земельного банка и в глаза не видели.
Это было что-то новенькое. Но молодая женщина никак не могла отделаться от мысли, что в таком роскошном даре просто обязан был крыться какой-то подвох.
– И после судьи не осталось никаких долгов? – допытывалась она. – Он не проиграл имение в карты, не вел никаких имущественных тяжб, ничего?
Дмитрий призадумался и наконец объявил, что о подробностях он не осведомлен, но, надо полагать, Петр Иванович, поверенный, сумеет лучше объяснить госпоже баронессе суть дела. Сам он только может сказать, что судья любил раскладывать пасьянсы, а к азартным играм пристрастия не имел.
Коляска въехала в липовую аллею, описала полукруг и замерла возле крыльца, на котором уже стояли трое человек. Молодой поверенный, розовея от смущения, подал Амалии руку и помог выйти.
– Калмин Петр Иванович, – представился он. – Очень, очень рад чести. Прошу вас…
– А это кто? – спросила Амалия, кивая на двух остальных.
– Пелагея, кухарка, настоящая мастерица, и Лизавета, ее племянница… Лизавета в доме убирается. Судья не терпел другой прислуги, он только трех человек и держал в доме, – объяснил Петр Иванович, словно извиняясь за неприхотливость покойного.
Что ж, подумала Амалия, оглядывая большой, потемневший от времени усадебный дом с гербами, львами и облупившимися колоннами, если тут было всего три человека прислуги, то, пожалуй, можно сказать, что неведомый ей Савва Аркадьич не страдал излишней расточительностью. Возможно, кучер сказал правду и имение на самом деле не заложено, свободно от долгов и каких-либо других обязательств. Да, возможно… но хотелось бы знать наверняка.
– А кто занимался садом? – спросила Амалия, скользнув взглядом по клумбам с заботливо рассаженными розами.
– Сам Савва Аркадьич и занимался, – объяснил поверенный. – Любил он розы, очень любил. Всегда говорил, что цветы лучше людей, и с удовольствием с ними возился. Даже на выставку раз куда-то ездил… Его первый удар как раз в саду и хватил, – добавил Петр Иванович, когда они шли по дому. И тут же спохватился. – Впрочем, вам, сударыня, наверное, это неинтересно…
– Нет, что вы, – совершенно искренне ответила Амалия, – мне все интересно. Продолжайте, прошу вас… Значит, у Саввы Аркадьича не осталось прямых наследников?
– Нет. Жена его умерла несколько лет назад, когда они находились за границей, а детей у них не было. Конечно, имение немного запущено, потому что Савва Аркадьич жил на одно жалованье да кое-что сдавал в аренду, но, я полагаю, толковый управляющий легко сможет распорядиться так, что вы будете получать твердый доход.
– А Савва Аркадьич что же, не держал управляющего?
– Нет-с. Не доверял он никому, такой уж характер… Да и после смерти жены он как-то быстро сдал, знаете ли. Жена гораздо моложе его была… и вдруг такая неожиданность… Вам угодно сейчас ознакомиться с бумагами или потом? Я могу и подождать, если вам угодно…
– Нет-нет, к чему же, Петр Иванович… Мне бы не хотелось заставлять вас ждать понапрасну.
Они вошли в большую, просторную, светлую гостиную с окнами от пола до потолка. Амалия огляделась. Простая, но удобная мебель, на стене – портрет одного из царей, напротив – безыскусные изображения каких-то дам и бабушек в чепцах, написанные, наверное, много лет назад крепостным художником, несколько фотографий в рамках, диплом об окончании университетского курса…
Амалия отвернулась. Ее не оставляло тягостное чувство, что она вторглась самозванкой в чужую жизнь, нарушила странный, бесплотный и вместе с тем незыблемый уклад, который был заведен тут десятилетиями, если не веками, и к которому она не имела решительно никакого отношения. Все вещи вокруг были незнакомы и вид имели сосредоточенный, суровый и враждебный, словно хотели оттолкнуть ее. В самом деле, разве для нее этот кривоватый подсвечник, закапанный воском, или кипа пожелтевших газет, старая трубка, лежащая на столике, хлыст для верховой езды, какой-то плед, порванный и наспех зашитый? Все они словно хотели сказать ей: «Ты чужая нам, и мы чужие тебе». Амалия чувствовала себя словно завоеватель в захваченном им городе, который и покорился, и тем не менее не принадлежит ему. И слова «наследство, завещание», которые для иных людей значат так много, ничего совершенно в этом не меняли.
Петр Иванович сел за стол, разложил бумаги и улыбнулся Амалии. Наследница ему определенно нравилась, и про себя он подумал, что у старого брюзги Нарышкина оказался на редкость хороший вкус.
– Ну-с, – мягко сказал поверенный, – приступим.
4
Никаких долгов. Никаких обязательств по отношению к земельному банку, никакого намека на залог, ничего. Битый час Амалия расспрашивала Петра Ивановича, но так и не смогла добиться от него хоть чего-то, что могло представлять опасность в отошедшем к ней наследстве. Единственная закавыка, которую сообщил ей поверенный, заключалась в том, что покойный судья, похоже, жил в своем имении как собака на сене. Он никому не позволял охотиться в своих лесах, устраивал шумные склоки, если кто-то покушался ловить рыбу в его прудах, а после смерти жены распустил почти всю прислугу, оставив при себе лишь трех человек. Вообще Савва Аркадьич был нелюдим, характер, судя по всему, имел прескверный и раз даже заявил своему крестнику Пенковскому, который служит акцизным чиновником, что жена Пенковского, известная кокетка и модница, может не надеяться выписывать себе платья из Парижа, потому как в ближайшее время наследства им не видать как своих ушей. Пересказав означенную сцену, которая произошла при нем, поверенный сконфуженно улыбнулся.
«Все, конечно, замечательно, – думала Амалия, – но… Почему я? Почему именно я, ведь мы никогда не встречались прежде и не знали друг друга? Если поверенный ничего от меня не утаил, то все это имущество: заливные луга, пруды, лес, где даже лоси водятся, усадьба в два этажа, которая хоть слегка и обветшала, но находится во вполне пристойном состоянии, – стоит очень больших денег. Или Савва Аркадьич надеялся, что я достаточно богата, чтобы содержать Синюю долину и не допустить, чтобы она перешла в чужие руки? Загадка…»
– Скажите, покойный судья… – Она на секунду замолкла, но все же собралась с духом и продолжила: – Он очень любил Синюю долину?
Петр Иванович удивленно посмотрел на нее.
– Сложно сказать, сударыня… Конечно, пока он был жив, к нему многие наведывались, спрашивали, не продаст ли он землю или, допустим, часть лугов. Сахарозаводчик Антипенко из Харьковской губернии, так тот вообще очень хорошую цену ему предложил в свое время. А судья только ногами затопал и выгнал его. Маврикий Алпатыч, опять же, очень хотел у него лес приобрести, но…
– Маврикий Алпатыч – это кто? – полюбопытствовала Амалия.
– Фомичев, купец, – объяснил Петр Иванович. – Вы о нем не слышали? Конечно, нет, вы же только что приехали… Он у нас местный богач и церковный староста. В городские головы метит. Старая церковь XVII века, что в городе Д., на его деньги обновлена, две тысячи он дал в свое время, чтобы все в божеский вид привести… Его отец был крепостным у моего отца, а Маврикий быстро в гору пошел.
Амалия метнула на него быстрый взгляд. Показалось ли ей, или в тоне милейшего Петра Ивановича и в самом деле мелькнуло нечто похожее на сожаление?
– Значит, он хотел купить у судьи лес? – спросила она.
– Да. Но Савва Аркадьич его обругал и тоже выставил за дверь.
Гм, однако и нрав был у бывшего хозяина, подумала Амалия. Впрочем, если он и впрямь был такой мизантроп, что любил все делать наперекор прочим, тогда нечего удивляться, что в качестве наследницы он выбрал именно далекую петербургскую родственницу. Скорее всего, чтобы досадить более близким претендентам вроде Пенковского. Незаметно все происходящее начало ее забавлять.
– Как вам угодно будет распорядиться вашим наследством? – осведомился Петр Иванович, глядя на Амалию добрым, ласковым взором.
Амалия заметила его добрый взор и сразу же поняла, что вопрос задан не просто так, что у Петра Ивановича есть какая-то задняя мысль, и хорошо, если только одна. Поэтому молодая женщина ограничилась тем, что сказала:
– Я пока еще не знаю. Мне надо осмотреться, посоветоваться со знающими людьми. Наверняка содержание Синей долины обходится недешево. Да и все эти луга, леса… – Она рассмеялась и сделала беспечный жест. – Право, я ничего в этом не понимаю!
Петр Иванович покивал с мудрым видом, но его собеседница не сомневалась, что он принял ее слова к сведению. Несмотря на возраст, Амалия отлично разбиралась в управлении поместьем, но считала преждевременным раскрывать свои карты.
– Вы любите охоту? – спросил поверенный.
– До Петрова дня[29] еще далеко, – заметила Амалия. По правде говоря, охота ей совсем не нравилась, однако ей стало любопытно, что скажет поверенный.
– Когда-то Савва Аркадьич знатные охоты устраивал, – вздохнул тот. – А потом – как подменили человека. – И без перехода Петр Иванович продолжил: – Я полагаю, многие здешние жители захотят отдать вам визиты, как новой владелице Синей долины. Вероятно, вам понадобятся еще слуги…
Однако Амалия с лучезарной улыбкой заверила его, что с нее пока хватит тех троих, что есть в наличии. И вообще, она не уверена в том, что надолго здесь задержится.
– Савва Аркадьич был замечательный человек, но все-таки старого склада, – заметил Петр Иванович. – Любой другой извлекал бы из земли доходы да жил себе припеваючи, а он землю запустил совершенно и даже управляющего не держал. Говорил, что они воры и лихоимцы, по всем по ним Сибирь плачет. – Поверенный выдержал крохотную паузу. – Если, сударыня, вам понадобится управляющий…
Но Амалия, которая уже давно сообразила, куда ветер дует, с еще более лучезарной улыбкой объявила, что она еще не думает ни о каком управлении, ей бы хотелось для начала ознакомиться со своим новым имуществом. А там, конечно, она уж решит, что дальше с ним делать – продать ли все с молотка, заложить земельному банку или оставить себе да нанять, в самом деле, толкового человека, чтобы тот за всем приглядывал.
Петр Иванович галантно промолвил, что он всегда к услугам очаровательной баронессы, и если ей понадобится помощь, то он готов ее оказать. Также он попросил обращаться к нему в любое время, когда ей заблагорассудится. Тем более что сам он живет совсем близко, всего в получасе езды от Синей долины.
– Значит, мы с вами почти соседи? – спросила Амалия, и ее глаза сверкнули золотом.
Поверенный с энтузиазмом подтвердил, что именно так.
Старинные часы на стене, кивая маятником, откашлялись и прохрипели три, после чего вновь с одышкой принялись отстукивать минуты. В саду жалобно закричала какая-то птица и умолкла.
– Когда вам угодно подписать бумаги? – спросил Петр Иванович.
5
– Отойди, наказание господне!
Кухарка махнула полотенцем на Дмитрия, но слуга не унимался.
– Ты хоть соображаешь, что творишь, а? – сердито спросил он. – Такой барыне собираешься подавать, прости Господи, щи, кулебяку, карасей и язык с горошком! Деревня!
Пелагея злобно покосилась на него и уперлась кулаком в бок.
– Покойный Савва Аркадьич кушали наших карасей в молоке и не жаловались, – проворчала она. – И жена его, царствие ей небесное, ничего против рыбного не имела. Лизавета! – возвысила она голос. – Ты начинку для кулебяки приготовила?
– Ой, выгонят нас, в шею погонят, как пить дать… – простонал Дмитрий. – Какие щи, Пелагеюшка? Дама деликатная, образованная, сразу же видать – ниже трюфлей ничего кушать не будут-с.
– Где я тебе возьму трюфли, ирод? – вопрошала сердито покрасневшая широколицая Пелагея. – Может, еще птичьего молока прикажете, а?
– Нешто к Алпатычу послать? – вздохнул слуга. – У Алпатыча в лавке все есть.
Пока в кухне происходило сие животрепещущее гастрономическое обсуждение, Амалия подошла к окну и стала рассеянно смотреть на кусты белой сирени, обступившие дорожку. Хотя слуги и постарались приготовить к ее приезду самую лучшую комнату, от Амалии не укрылось, что в этих стенах давно никто не жил. Большое зеркало потемнело от времени, а за резным шкафом таинственно поблескивала паутина, которую Лизавета позабыла вымести вместе с пылью и всяким сором.
Амалия заглянула в один шкаф и увидела там несколько основательно подгрызенных молью меховых салопов. В другом рядами стояли книжки, и, наугад открыв одну, новая хозяйка Синей долины могла убедиться, что та была издана еще до нашествия французов.
«И что же мне с неожиданным наследством делать?» – спросила себя Амалия.
Дама со стенного портрета косилась на нее неодобрительно, поджав губы, и словно недоумевала, что за незнакомка объявилась в этих стенах. Рассохшийся паркет скрипел под ногами, где-то тоненько пискнула мышь и умолкла. Амалия подошла к секретеру и принялась один за другим выдвигать ящики. Крошки табаку. Фиалковые лепестки в шелковом мешочке. Медальон с прядью русых волос. Пачка каких-то пожелтевших от времени листков, исписанных по-французски убористым почерком (Амалия поглядела на дату – 8 juin 1845[30] – и вздохнула). Заржавленное перо, чернильница с чернилами, которые, похоже, высохли еще до рождения Амалии. Пожав плечами, молодая женщина задвинула ящики обратно.
– Лиза!
Произведенная в горничные по случаю приезда новой хозяйки Лизавета явилась на зов через минуту. К ее рукам прилипло несколько кусочков зеленого лука, и она машинально вытерла их о передник.
– Ну так что там с обедом? – спросила Амалия.
Лиза, краснея, ответила, что Дмитрий Матвеич уехал в город за трюфелями, но если барыне угодно, то они приготовят обед по-простому, по-деревенски. Кулебяка, щи, язык, рыбное, слоеные пирожки…
– Зачем мне трюфели? – проворчала Амалия, которая не ела с самого утра и успела прилично проголодаться. – Подавайте то, что есть!
Торжествуя, Лиза упорхнула и через некоторое время воротилась доложить, что кушать подано. За это время Амалия успела переодеться в более простое кремовое платье, снабженное турнюром с тремя перехватами, и Лиза, гордая своей новой должностью, тотчас же решила, что их новая хозяйка – дама хоть куда и даст сто очков вперед задаваке Ольге Пантелеевне, не говоря уже о Вере Дмитриевне и прочих дамах.
Когда Дмитрий вернулся, таща с собой коробку с трюфелями, Пелагея уже мыла посуду.
– Привез? – буркнула кухарка. – Ладно, подадим уж твои трюфели на ужин. Только лошадей зря гонял.
Слуга отдал ей коробку и спросил, чем сейчас занимается хозяйка.
– У, такая обстоятельная, такая основательная дама, – отозвалась Пелагея. – Сразу же видать, что из столицы. Обо всем расспрашивала: и о судье покойном, и о его родичах, и о крестнике, господине Пенковском. Про городских спрашивала, кто да что собой представляет. Потом справилась насчет нашего жалованья и всем его повысила. Лизавета нонче у нее горничная, ей больше всех прибавила, но и нас с тобой не забыла, по пять целковых накинула.
Дмитрий повеселел и ущипнул Пелагею за бок. Дела явно шли лучше, чем он предполагал.
– Уйди, ирод! – прошипела кухарка, делая страшные глаза.
– А теперь она чем занимается? – спросил слуга.
– Известно чем, – фыркнула Пелагея. – Имущество обсматривает, что да как. По всем комнатам ходит и проверяет.
Сверху донесся мягкий фортепьянный аккорд. Последняя нота долго дрожала в воздухе, прежде чем раствориться в безмолвии.
– Настоящая хозяйка, – молвила кухарка с уважением и ничего более не сказала.
…Наверху Амалия опустила крышку рояля, который был совершенно расстроен и покрыт густым слоем пыли. Она уже осмотрела все помещения на первом этаже и теперь обходила второй. Здесь были полутемные комнаты с портретами строгих неулыбчивых людей на стенах, чуланы, забитые рухлядью, бильярдная с большим столом, сукно на котором из зеленого со временем превратилось в сероватое, спальни, в которых стоял нежилой дух и пахло мышами. Амалия наугад открыла один из шкапчиков представительного вида и увидела, что он набит пустыми бутылками. В соседней комнате она обнаружила буфет с наливками, причем каждая бутыль была снабжена точной этикеткой на манер аптекарской сигнатурки.[31]
За окнами меж тем зашумело, сирени затрепетали на ветру. Из-за реки на Синюю долину надвигалась гроза, и внутри толпящихся в небе желтобрюхих туч что-то утробно погромыхивало и жалобно ворковало. Амалия потерла руки и только теперь заметила, что озябла.
– Дмитрий! Разожги огонь в гостиной, я сейчас туда спущусь.
Слуга повиновался. За окнами сделалось совсем темно, и через мгновение сплошной стеной хлынул дождь. Амалия сошла в гостиную и в отблесках огня стала рассматривать фотографии на стене.
– Это Савва Аркадьич? – спросила она, указывая на карточку высокого плотного старика с сердитым лицом и седыми пушистыми усами. Как она могла заметить, в комнате было больше всего фотографий именно с его изображениями.
– Да, это покойный судья, – подтвердил Дмитрий.
Вслед за тем он перечислил всех остальных, кто присутствовал на фотографиях. Матушка Саввы Аркадьича… Сестра его отца, которая была влюблена в офицера, навлекшего на себя гнев царя Николая… Офицер потом сражался в рядах венгерской армии против русских, после чего его возвращение домой сделалось решительно невозможным. Умер он где-то в Париже, забытый всеми, а тетка Саввы Аркадьича так и не вышла замуж… Здесь, конечно, она совсем старенькая, но в молодости, говорят, была красавица. Ее портрет висит на втором этаже, напротив лестницы… А вот сестра Саввы Аркадьича, которая умерла от тифа совсем молодой… Двоюродная сестра, Савва Аркадьич ей предложение делал, но она отказала…
Амалия слушала рассказы слуги и чувствовала, как чуждый прежде дом обрастает призраками и легендами прошлого, которое не хотело отсюда уходить. Сколько поколений жило, старело, страдало, было счастливо, тосковало, росло в этих стенах… И сами они исчезли, и имена их почти забыты, но вещи в доме помнили их, помнили ту или того, чей локон остался лежать в хрупком медальоне, помнили офицера, изменившего отечеству, и, наверное, от него были те пожелтевшие письма со следами девичьих слез на страницах… Все вещи теперь принадлежали ей, Амалии, по прихоти того старика с седыми усами; и вместе с вещами ей отошло то, что не вписывается ни в какие завещания, ни в какие дарственные, – воспоминания о людях, которые оставили в доме свой след, которые прожили здесь свою незаметную, быть может, незначительную жизнь и тихо в свой срок сошли в могилу. И Амалии надо что-то делать со всем грузом прошлого, распоряжаться, обновлять дом, красить крышу, заводить управляющего, чистить пруды… При одной мысли об этом у нее заломило виски.
– Можешь идти, – сказала она Дмитрию.
Слуга удалился, а Амалия устроилась возле огня и стала просматривать бумаги, которые отыскала в разных местах дома. Тут были письма, записки, фотографии, документы, толстые приходно-расходные тетради. Раскрыв одну такую тетрадь, которая остро пахла плесенью, Амалия увидела аккуратно проставленную дату «1818 года мая 16 дня». К концу тетради почерк сделался менее аккуратным, буквы шатались и разваливались на строках. Здесь, в записях о покупке сальных огарков, перин и сбруи для лошадей, была запечатлена целая жизнь, принадлежавшая некоему Кириллу Семенычу Нарышкину. «Жене капор новый… Попу за крестины… Аптекарю за отвар… За крестины… За гробик для Васи… Жене на материю для платья… За крестины…» Все, чем он дышал, все, о чем думал, отразилось в цифрах; и, по сути, ничего больше не осталось от него на земле, никакого следа, кроме столбиков цифр и пояснительных надписей. А это еще что? «Пара пистолетов дуэльных… Доктору за вытаскивание пули…» Ого-го, вот вам и Кирилл Семенович! Весь в жене да в детях, которые попеременно то рождались, то умирали, однако же дрался на дуэли, да еще когда ему было лет сорок, судя по записям, – не мальчик, скажем прямо, но муж; и тем не менее взрослые мужи порою удивляют сильнее порывистых юнцов.
Амалия отложила пахнущую плесенью тетрадь и взялась за фотографии, которые лежали в бюро, стоявшем наверху. Дама с кислым лицом в белом и с белым же зонтиком на фоне каких-то пальм – Ницца, 1880, значилось на обороте. Амалия вопросительно поглядела на карточку Саввы Аркадьича, висящую на стене. Жена? Похоже на то. На других фотографиях была она же, но моложе, под руку с мировым судьей, который вовсе не смотрелся брюзгой с крепко сжатым ртом, а наоборот, улыбался, как довольный жизнью и собою человек. Да уж, помыслила Амалия, ведь жена лет на двадцать пять была моложе супруга и тем не менее оставила его вдовцом. Но дальше размышлять на эту тему не хотелось, и Амалия стала читать письма, помеченные 1845 годом.
За окнами сделалось светлее, дождь для порядку еще побрызгал на розы и кусты сирени, но затем прекратился совершенно. Сквозь разрывы туч показалось солнце. В гостиную заглянула Лизавета, справилась, не нужно ли барыне чего, и бесшумно удалилась. Амалия прочитала письма, написанные безукоризненным французским слогом, и вновь принялась за тетради. Приход… расход… Положительно скучно! Амалия хотела было захлопнуть тетрадь, но тут ей в глаза бросилась надпись наверху очередной страницы: «Философия одерживает верх над горестями прошлого и будущего, но горести настоящего одерживают верх над философией. Ларошфуко».
Заинтересованная, Амалия стала читать дальше. Судя по всему, автору приходно-расходной книги Савве Аркадьичу Нарышкину надоело считать спички и перчатки, потому что он принялся делать выписки из разных авторов. И то, какие именно выписки он делал, куда ярче любых цифр говорило о направленности его ума.
«Не будь у нас недостатков, нам не было бы так приятно примечать их у наших ближних».
«Старики любят давать хорошие советы, потому что больше не могут подавать дурные примеры».
«Раскаяние не обязательно значит, что мы сожалеем о содеянном зле, – скорее, мы просто боимся зла, которое можем получить в ответ».
«Многие презирают жизненные блага, но никто почему-то не торопится ими поделиться».
«Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние».
«Лучшее в добрых делах – это желание их скрыть».
«В долг не бери и взаймы не давай, ибо и в писании так сказано».
Амалия поглядела за окно, где в брызгах дождя на солнечном свету сверкал и переливался омытый грозой сад, и перевернула страницу. Здесь уже не было выписок, а начинался отрывочный и, судя по всему, не слишком интересный дневник.
«19 сентября. Сватался к Наденьке. Отказ. Ее мать имеет виды на офицера, какого-то артиллериста. Унизительное объяснение. Надеюсь, того офицера ухлопают на первой же войне. Зол и расстроен.
7 декабря. Вернулся из столицы. Видел университетских приятелей. Разговаривать совершенно не о чем. Итак, и сия глава моей жизни завершилась.
9 января. Приезжал доктор Станицын. Нашел, что у меня не в порядке нервы, прописал уйму лекарств. Шалишь, голубчик! Как будто я не знаю, что ты женат на сестре аптекаря и делаешь все, чтобы у него покупали как можно больше. Ну да я тебе не старая идиотка Марья Никитишна, которая верит каждому твоему слову. Выкинул все рецепты в огонь».
Дальше шли подряд десять или пятнадцать листов записей – погода, толки о турецкой войне, жалобы на подагру, на здоровье, какие-то отрывочные заметки о прочитанных книгах…
«14 октября. «Вестник Европы» поглупел. Больше не буду его выписывать.
Вечером получил известие, что Наденька умерла. Муж жив-здоров и все после нее унаследовал. Сколько народу поубивало турецкими ядрами, а этой скотине ничего не сделалось.
Для меня – жизнь кончена навсегда».
Далее в записях был большой перерыв, который оканчивался лаконичной заметкой: «Женился», после чего снова начались мелочные расчеты и цифры. Крупа, сахар, ленты, материя для новых занавесок… Последними были записаны подсчеты для очередной поездки в Ниццу, а затем шел чистый лист. Перевернув его, Амалия прочитала:
«13 августа. Вот теперь уж точно – все кончено. Крышка мне».
Значит, новая запись сделана после смерти его жены, сообразила Амалия. Она устроилась на диване поудобнее и стала читать дальше.
«18 сентября. Сильнейшее сердцебиение ночью. Проснулся в тоске. Днем судебное заседание. Видел крестника Пенковского. Разъехидственная рожа. Справлялся о здоровье. Ну погоди, ужо я тебе покажу здоровье!
2 сентября. Весь день – дождь. Ходил из угла в угол. Думал. Ничего не надумал, лег спать. Пытался читать журнал – все писатели вруны. Нет чтобы честно сказать – мы ничего не знаем о жизни и ничего в ней не смыслим, – так нет же, встают в позу, советы советуют. Будь моя воля, я бы их всех упек по 119-й.[32]
10 сентября. Проклятый Д. жужжит, как улей. Жена акцизного чиновника Севастьянова сбежала с каким-то гусаром. Это та Наталья Георгиевна, которую он увидел в Москве и в которую без памяти влюбился. По-моему, пустоголовая бабенка, но Севастьянова жаль. Он уже приходил ко мне, просил совета. Говорил, что хочет застрелиться. Я ему сказал, что так он лишь сделает своей жене одолжение. Вроде одумался. Бывшая его невеста Оленька, которая нынче за моим крестником, тихо ликует. Бабы, черт бы их побрал…
16 сентября. На судебного следователя Замятина поступила жалоба. Целыми днями дует водку, подлец, в месяц имеет 250 целковых и ни черта не делает. Накричал недавно на крестьянина Нифонтова, который выступал свидетелем, и будто бы по лицу его ударил. Вроде хотят перевести Замятина в другой уезд, чтобы замять дело (эк я скаламбурил!). И очень хорошо. Хотя я бы и его упек по 119-й, чтобы впредь руками не размахивал».
В дверь постучали, и вошел Дмитрий. Амалия заметила, что он причесался и надел сюртук поприличнее.
– Госпожа баронесса, – торжественно доложил слуга, – к вам гости.
6
Гостей было трое: один – голубоглазый брюнет, которого Амалия уже видела прежде, проезжая через Д., другой – светловолосый господин с усиками и выражением лица, какое бывает у примерных сыновей и чиновников с незапятнанным формуляром[33], а третий – третий не походил ни на одного из своих спутников. Прежде всего, он был очень высокого росту, широк в плечах и носил великолепные ухоженные темные бакенбарды. У него была добродушная мясистая физиономия из числа тех, которые особенно располагают к себе детей и хрупких барышень, а на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. «Отец семейства», – почему-то сразу же подумала Амалия, скользнув по нему взглядом. Но тут светловолосый с усиками заискивающе улыбнулся, и хозяйка обернулась к нему.
– Очень, очень рад познакомиться с вами, дорогая кузина, – проворковал он, целуя ей руку, и его серые глазки сузились в две крошечные щелочки. – Позвольте отрекомендоваться, Сергей Сергеевич Пенковский, служу акцизным, крестный сын дорогого… покойного Саввы Аркадьевича. А вы, насколько нам известно…
– Баронесса Корф, Амалия Константиновна, – ответила Амалия, незаметно отнимая руку. Она не любила, когда ей слюнявили кожу – как известно, целовать руки дамам тоже надо уметь.
– Я вас такой себе и представлял! – в экстазе вскричал Пенковский. – Полагаю, мне стоит отрекомендовать моих спутников. Вот, не угодно ли: Владислав Иванович Никандров, врач, наш эскулап, так сказать… Не успеете заболеть, как он вас уже вылечит.
Сей образчик провинциального остроумия заставил Амалию едва заметно поморщиться. Зоркий Пенковский, однако, заметил ее гримаску и заторопился.
– А вот, не угодно ли, Степан Александрович Севастьянов, – объявил он, указывая на здоровяка. – Бывший акцизный, ныне в отставке. Прибыл, так сказать, засвидетельствовать вам свое почтение-с…
Амалия пристальнее вгляделась в здоровяка, который не осмелился поцеловать ей руку, а только почтительно и очень осторожно пожал ее. Неужели этот солидный с виду господин, отец семейства, как она назвала его про себя, и есть тот, от которого четыре с лишним года назад сбежала жена и который обещал мировому судье Нарышкину застрелиться? Или тягостная история уже осталась в прошлом и блудная жена давно вернулась к своему супругу, который принял ее так, словно ничего не случилось? «Надо будет навести справки у Лизаветы, – смутно подумала Амалия, – она должна все знать».
– Надеюсь, вам у нас понравилось? – спросил доктор.
Амалия пожала плечами.
– Я пока еще слишком мало видела, – призналась она. – Но то, что видела, мне, скорее, нравится.
– О, вам обязательно понравится в наших краях! – горячо подхватил Пенковский. – Во-первых, обыватель тут хоть и провинциальный, но при том, однако же, вполне культурный. В Д. есть театр, и к тому же время от времени супруга градоначальника устраивает балы-маскарады. Во-вторых, – он сладко улыбнулся, – я положительно не могу себе представить человека, которому бы не пришлось по душе жить в Синей долине. Это же жемчужина здешнего края!
– Да, в самом деле, – пробормотал здоровяк Севастьянов, похоже, от природы не слишком красноречивый, и к тому же он заметно тушевался в присутствии красивой хозяйки.
– Должен вам сказать, – прибавил Пенковский, – что Ольга Пантелеевна, моя супруга, на днях устраивает званый вечер. И она была бы счастлива, госпожа баронесса, если бы вы почтили его своим присутствием!
Госпожа баронесса, которая и в Петербурге ходила в гости далеко не к каждому аристократу, лишь вежливо улыбнулась.
– Право, не знаю, получится ли…
– О, госпожа баронесса, мы обязательно вас ждем! Ольга Пантелеевна мечтает с вами познакомиться. Восемнадцатого мая, к 7 вечера! Мой дом в Д. вам всякий укажет. – Он обернулся к Никандрову. – И вы, Владислав Иванович, приходите непременно. Помните, вы обещали!
Голубоглазый Владислав Иванович дал понять, что побывать на вечере у Ольги Пантелеевны было мечтой всей его жизни и что он ничего так не желал, как этого. Что же до Севастьянова, то он нахмурился и отвел глаза, и Амалия вспомнила, что жена Пенковского когда-то была его невестой.
– И вы, голубчик, тоже, – обратился к нему Сергей Сергеевич. – Будет большой вечер… очень большой! Загляните к нам по старой памяти, сделайте одолжение…
И он снова буквально вцепился в Амалию, став делиться с нею своими воспоминаниями о крестном отце. По его словам, судья был добрейший человек на свете, от которого он не видел ничего, кроме благодеяний.
Примерно через полчаса Владислав Иванович вспомнил, что обещал помочь старому доктору Станицыну с консилиумом, и попрощался с очаровательной хозяйкой. Степан Александрович, судя по всему, был не прочь остаться в ее обществе еще немного, но Пенковский сладким голосом напомнил ему о Настасье Сильвестровне, и «отец семейства» тоже откланялся. Амалия решила, что Настасья Сильвестровна была новой женой Севастьянова, и подумала, что, в сущности, оно и правильно: если ты сделал ошибку, связавшись однажды не с тем человеком, это не значит, что ты должен страдать из-за него всю жизнь. Ошибки на то и ошибки, чтобы их исправлять, в конце концов.
Впрочем, сейчас ее гораздо больше занимал обойденный претендент на наследство. Слишком уж Сергей Сергеевич был до сих пор положителен, чтобы сие долго длилось, – и чутье, как всегда, не обмануло Амалию. После нескольких ничего не значащих фраз Пенковский уронил:
– Признаться, дорогая кузина, я хотел увидеть вас по делу.
Поскольку они остались одни, Амалия решила, что пора поставить настырного чиновника на место.
– Милостивый государь, – спокойно сказала она, – вы мне не кузен. И я вам не кузина. И никаких дел у нас с вами нет и не может быть. Я ясно выражаюсь, надеюсь?
Пенковский с любопытством покосился на нее, загадочно жмуря свои серые глазки.
– Что ж, должен признаться, что я некоторым образом вас понимаю, – молвил он со смешком. – Однако дело есть дело, и от него никуда не деться. Хотите вы того, госпожа баронесса, или нет, но нам придется договориться.
– Вы хотите отсудить у меня часть наследства? – поинтересовалась Амалия с чарующей улыбкой. – Боюсь, у вас ничего не выйдет, милостивый государь. Я видела завещание и убедилась: оно составлено по всей форме. Должна вас разочаровать, но закон окажется не на вашей стороне.
– О нет, – живо возразил Сергей Сергеевич. – Я уважаю волю крестного отца и не намерен ее оспаривать («Еще бы», – подумала Амалия). Боюсь, я неудачно выразился. Дело, о котором идет речь, касается вовсе не наследства.
– Тогда чего же?
Пенковский глубоко вздохнул.
– Видите ли, госпожа баронесса, – медленно проговорил он. – Покойный Савва Аркадьич выдал мне вексель, срок которого истекает через неделю. Поскольку вы некоторым образом унаследовали все его имущество, то…
И он сделал паузу, которая говорила куда больше любых слов.
– На какую сумму вексель? – осведомилась Амалия, и в глазах ее полыхнули золотые искры.
– Девять тысяч восемьсот рублей, – сообщил Сергей Сергеевич, ласково глядя на нее. – Боюсь, если я не получу по нему в ближайшее время, мне придется подавать в суд. Впрочем, я надеюсь, что нам удастся… прийти к соглашению. Не так ли, госпожа баронесса? Иначе закон, как вы изволили выразиться, окажется на моей стороне.
7
– У меня нет таких денег, – сказала Амалия после крохотной паузы.
– Я вам верю, – легко согласился Пенковский. – Зато у вас есть Синяя долина. Полагаю, вы могли бы выделить мне часть земель – в качестве уплаты долга по векселю.
– Лесами или лугами? – саркастически осведомилась Амалия. – А может, начнем дележ с прудов?
О нет, она вовсе не была жадной, ничего подобного! Корыстолюбие было ей чуждо, хотя наша героиня и была далека от мысли о том, что без средств в современном мире прожить куда легче, чем с ними. Однако она ненавидела, когда ее пытались припереть к стенке и вынудить сделать что-то лишь потому, что этого хотелось противоположной стороне. Пенковский, похоже, даже не понимал, какого врага он приобрел.
– Должен признаться, я не понимаю вас, – проговорил Сергей Сергеевич после недолгого молчания, и сейчас уже никто не смог бы сказать, что он похож на примерного сына. – Я навел о вас справки, госпожа баронесса. По моим сведениям, вы весьма обеспечены, так что заплатить по векселю человека, который завещал вам все, решительно все, не составит для вас труда.
– Я не настолько обеспечена, чтобы разбрасываться десятками тысяч рублей, – отрезала Амалия, которую бессмысленная беседа уже начала утомлять. – Кроме того, я не знаю вообще, о каком векселе вы говорите. Может быть, он существует лишь в вашем воображении, как знать?
– Боюсь, что вексель вполне реален, – кротко возразил Сергей Сергеевич. – И если вы мне не заплатите, не взыщите, дорогая кузина, но мне придется подать в суд.
– Покажите вексель, – сухо сказала Амалия, отходя к камину. – Пока я не увижу его, дорогой кузен, я не дам вам ни гроша.
Сергей Сергеевич вздохнул с видом человека, чье терпение подвергается незаслуженному испытанию, но, однако, в карман все-таки полез. Из кармана акцизный чиновник извлек вчетверо сложенную бумажку.
– Как видите, все честь по чести, – объявил он. – Девять тысяч восемьсот рублей.
Амалия нахмурилась. Получается, почтенный мировой судья таки подложил своей наследнице свинью, и свинья эта объявилась в облике его крестного сына Пенковского.
За окнами вновь потемнело и глухо что-то зашаркало. Через мгновение снаружи опять принялся лить дождь.
– Я ничего не вижу, – сказала Амалия, щуря глаза на вексель. – Откуда мне знать, что там написано?
Сергей Сергеевич подошел ближе и протянул ей бумагу, не выпуская заветный листок из пальцев. Амалия наклонилась и прищурилась еще сильнее. А затем произошло то, о чем Пенковский не любил вспоминать до самого конца своих дней: драгоценный вексель выскользнул у него из пальцев и неизвестно как очутился в руках у баронессы, хотя чиновник и помнил строго-настрого наказ своей жены – ни за что бумагу ей в руки не давать. Амалия посмотрела поверх векселя на Пенковского, и глаза ее сделались совсем золотыми. А в следующее мгновение листок порхнул в огонь, горящий в камине.
– Ой, какая я неловкая! – пропела Амалия.
Сергей Сергеевич взвыл от горя и кинулся спасать вексель. Да куда там! Он лишь обжег руки и едва не спалил сюртук. Листок уже почернел и съежился, а через мгновение от него остались лишь хлопья пепла.
С перекошенным лицом Пенковский обернулся к Амалии.
– Вы… вы… – Он искал слов, которые могли передать то, что он чувствовал, – и не находил.
– Да, я, – спокойно ответила Амалия. – И по совести, вы должны меня поблагодарить.
– Я? – задохнулся от негодования любитель делить чужие заливные луга и леса.
– За подделку векселя у вас могли бы быть серьезные неприятности, – спокойно отозвалась баронесса. – Или вы так хотите переселиться в Архангельскую губернию?[34]
– Что вы себе позволяете? – вскинулся акцизный чиновник. – Сударыня, это… это просто возмутительно! Я… я доложу куда следует! Не думайте, что если вы уничтожили… сожгли… – Он находился в таком состоянии, что готов был броситься на Амалию, но остановился, заметив у нее в руке хлыст.
– Вы, Сергей Сергеевич, глупы, – еще спокойнее проговорила Амалия. – Просто глупы. В следующий раз, когда будете подделывать вексель, помните, что слово «восемьсот» пишется с мягким знаком. Покойный Савва Аркадьич обладал скверным характером, но писал он грамотно и грамматических ошибок не делал. Зря вы взялись не за свое дело, малоуважаемый господин Пенковский. А теперь – убирайтесь из моего дома. – Она указала глазами на дверь. – И чтобы я больше вас здесь не видела!
Бормоча какие-то невнятные ругательства, Пенковский попятился к двери, взялся за ручку, хотел на прощание сказать какую-то дерзость, но покосился на хлыст и передумал.
– Вы за это ответите! – только сдавленно прошипел он. И, чтобы отвести чувства, грохнул дверью с такой силой, что она чуть не слетела с петель.
Амалия пожала плечами, положила хлыст на место и кликнула Дмитрия. Когда слуга явился, на лице его было написано такое почтение к новой хозяйке, что Амалии хватило одного взгляда, чтобы понять – тот все слышал.
– Дмитрий, когда бы господин Пенковский сюда ни явился, меня для него нет. И для его жены тоже. – Амалия поморщилась и добавила: – Пусть убираются ко всем чертям!
Она не знала, да и знать не могла, что это было одним из любимых выражений покойного судьи. Услышав знакомые слова, Дмитрий вытянулся в струнку, и почтение на его физиономии сменилось выражением прямо-таки священного ужаса.
– И никаких гостей сегодня больше не принима-ть, – продолжила Амалия в сердцах. – Хватит с меня покамест визитеров!
Однако ей все же пришлось принять еще одного гостя. Вернее, гостью. Ближе к вечеру по аллее, усыпанной желтым песком и покрытой лужами после недавнего дождя, проскрипели колеса элегантного ландо. До Амалии донесся глухой голос Дмитрия, но затем он смолк.
Через минуту в дверь заглянула Лизавета, и ее лицо, искаженное страхом, Амалии инстинктивно не понравилось.
– В чем дело? – довольно сухо спросила она, откладывая в сторону том душещипательного романа, изданного в 1807 году.
– Амалия Константиновна… госпожа баронесса… – Лизавета явно не знала, с чего начать. – Там… там… Вы должны это увидеть!
Амалия поднялась с места и вышла в гостиную. Величественная дама в светлом платье, заслышав ее шаги, обернулась. Возле камина стоял, пошатываясь, Дмитрий, и даже сизый нос его побелел от ужаса.
– А… э… – начал он, когда Амалия появилась, но больше ничего не смог сказать и только беспомощно указал на гостью.
– Наконец-то! – воскликнула дама и, прищурясь, оглядела нашу героиню с ног до головы. – Вы его спутница жизни? Может быть, дальняя родственница? Впрочем, неважно. Я Любовь Осиповна Севастьянова, супруга покойного Саввы Аркадьича. И я приехала сюда из Парижа, чтобы вступить в законное владение Синей долиной и прочим имуществом моего безвременно усопшего мужа.
Глава 2 Юноша
Одной Татьяной поражен,
Одну Татьяну видит он.
«Евгений Онегин», глава восьмаяТут был один диктатор бальный,
Прыгун суровый, должностной;
У стенки фертик молодой
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим.
«Евгений Онегин», глава восьмая1
– Степан Александрович, пойди сюда!
Бывший акцизный поднял глаза от объявления, которое он составлял для очередной газеты, и неприязненно поджал верхнюю губу. В объявлении указывалось, что всякого, кто укажет местонахождение Натальи Георгиевны Севастьяновой, урожденной Лапиной, скрывшейся из дома 9 сентября 188… года, ждет награда от автора объявления, буде сии сведения окажутся верными. Это, конечно, было куда важнее, чем призыв тетки, поэтому Севастьянов нахмурил брови и стал поправлять текст, который, по его мнению, получился недостаточно выразительным.
– Степан Александрович! – плачущим голосом воззвала Настасья Сильвестровна.
Серенькая кошка по кличке Мышка, которую Севастьянов подобрал в прошлом году у городских ворот, подошла к хозяину и стала тереться о его ногу. Степан Александрович рассеянно погладил животное, которое замурлыкало от его прикосновения, и зачеркнул конец фразы.
– Племянник, ну где же ты? – Произнося сей вопрос, Настасья Сильвестровна вошла к нему в комнату. – Вообрази, что такое! Жена Саввы Аркадьича, оказывается, не умирала!
– Как это? – мрачно спросил Степан Александрович.
– А вот так! – И Настасья Сильвестровна развела руками. – Оказывается, она ушла от мужа, когда они были за границей, и все! Ну Савва-то Аркадьевич, ясное дело, мировой судья, уважаемый человек, ему срам ни к чему, вот он возьми и скажи, что она умерла там. Кто бы проверил, в самом деле! И теперь она вернулась!
– Зачем? – уже в изнеможении осведомился племянник.
– Как зачем? – удивилась Настасья Сильвестровна. – Наследство получить, конечно. А зачем же еще? У нее с тем кавалером и детишки имеются, кажется. Деньги не помешают!
Степан Александрович кашлянул.
– Так ведь Нарышкин все уже завещал своей родственнице, баронессе Корф, – буркнул он. – Разве не так?
– Так-то оно так, – с сомнением ответила Настасья Сильвестровна, – только ведь по закону он не был с ней разведен, с Любовью-то Осиповной. И я так думаю, она за свое поборется. – Женщина вздохнула. – Хотя родственница судьи, баронесса, та еще особа, должна я тебе сказать. Ты слышал, что говорила Марья Никитишна?
– Нет! – огрызнулся Севастьянов, которому городские сплетни были в высшей степени скучны и неприятны.
– Савва Аркадьич покойный, – доложила Настасья Сильвестровна, садясь в кресло и одергивая оборку на платье, – выдал крестному сыну вексель на значительную сумму. Тысяч двадцать, должна тебе сказать. – Настасья Сильвестровна сделала большие глаза. – И вот вчера явился Пенковский к баронессе. Так, мол, и так, есть бумага, пожалте денежки. А она возьми да кинь вексель в огонь.
– В самом деле? – в легком ошеломлении спросил Степан Александрович. – А вексель что, подложный был?
– Ну почему подложный? – обиделась было Настасья Сильвестровна. Но тотчас же заинтересовалась. – А ты что, думаешь, он ненастоящий?
– Я не верю, что судья мог дать Пенковскому бумагу на такую сумму, – коротко ответил Степан Александрович. – Сто рублей – может быть, и то если бы Сергей Сергеевич умирал от голода и начал просить подаяние на паперти.
– Степан Александрович, какие страшные вещи ты говоришь! – переполошилась тетушка. – Но так или иначе, заезжей даме пальца в рот не клади. Марья Никитишна говорит, она как увидела Саввину жену, так у нее в лице ни жилочки не дрогнуло. Ах, говорит, так вы его жена? Очень приятно, но завещание в мою пользу, имение пока принадлежит мне, так что потрудитесь убираться подобру-поздорову.
– А Марья Никитишна что, присутствовала при том разговоре? – раздраженно спросил Севастьянов. – Откуда она знает, что именно госпожа баронесса сказала и как себя вела?
– Конечно, не присутствовала, – в легком изумлении отозвалась Настасья Сильвестровна. – Но ей рассказали!
И она пустилась в длинное и довольно сбивчивое описание дружбы, которая связывает Дмитрия из Синей долины с дворником Марьи Никитишны, почему, собственно, Марья Никитишна и оказывается в курсе всего, что там творится.
– Я одного не понимаю, тетушка, – спокойно проговорил Степан Александрович, когда она умолкла. – При чем тут мы? Какое нам дело до Любови Осиповны, или до Синей долины, или…
Настасья Сильвестровна остолбенела.
– Как это какое дело? Степан Александрович, ты меня удивляешь, честное слово! Я двадцать лет была знакома с покойным Саввой Аркадьичем. И его жену, между прочим, тоже хорошо помню. И Синяя долина – великолепное имение, каких осталось в России мало. Разумеется, его судьба мне небезразлична. Тем более что петербургская баронесса… совершенно не понятно, что она собой представляет! Вот скажи: какое впечатление она на тебя вчера произвела?
Степан Александрович скривился, как от зубной боли. Вчера два часа кряду он пытался отнекиваться, приводил самые разные доводы, но все оказалось напрасно – почтенная тетушка все-таки вынудила его нанести визит новой хозяйке Синей долины. Счастье еще, что Севастьянов оказался там не один, и оттого его появление не произвело впечатления неуместной навязчивости, да и так он просто не знал, куда ему деться от смущения. И как будто того было мало – по возвращении домой тетушка подвергла его перекрестному допросу: как петербургская дама держала себя, что говорила, что делала и какие у нее вообще виды на знаменитое имение.
– Любовь Осиповна утверждает, что эта особа – настоящая авантюристка, – с торжеством объявила Настасья Сильвестровна. – Одно то, как она обошлась с бедным Сергеем Сергеевичем…
Степан Александрович закашлялся, посадил Мышку себе на колени и стал гладить ее, с преувеличенным вниманием глядя в окно. Больше всего в то мгновение он хотел, чтобы тетка исчезла куда-нибудь и, по возможности, более никогда не возвращалась.
– Она даже не позволила Любови Осиповне переночевать в собственном доме! – продолжала Настасья Сильвестровна увлеченно. – Бедной женщине пришлось ночью возвращаться в Д. и искать ночлега!
Севастьянов заинтересованно взглянул на тетушку. По правде говоря, чем больше он узнавал о баронессе Корф, тем больше она ему нравилась. Сам он никогда бы не осмелился выставить кого-то, тем более женщину, за дверь, даже если бы мысль о пребывании с ней под одной крышей была совершенно невыносима.
– И где же вдова судьи теперь? – спросил он.
– В «Бель Вю», конечно, – с готовностью отозвалась тетушка. – Кричит, что устроит шум на всю Россию, но все равно отсудит свое имущество. Как ты думаешь, она может?
– Ну, – задумчиво пробормотал Степан Александрович, почесывая правой рукой левую бакенбарду, – насколько я ее помню, с нее станется.
Настасья Сильвестровна с укором поглядела на него.
– О! Мужчины! Так я и знала, что она тебе не по душе, потому что ушла от судьи. Но подумай сам: он совсем старик, а она – молодая женщина!
– Что ж она тогда выходила замуж за старика? – с раздражением, какого сам от себя не ожидал, спросил Степан Александрович. – Он ведь не за один день после свадьбы постарел!
Тетушка всплеснула руками, показывая, что племянник решительно, совершенно не хочет ничего понимать. Но тут вошел лакей Андрюшка и доложил, что Вера Дмитриевна пришла.
– Ах! Прекрасно! Прекрасно! – оживилась тетушка. – Зови!
Она уже предвкушала, как они со Степаном и Верой Дмитриевной будут перемывать косточки баронессе Корф и так кстати воскресшей Любови Осиповне, но у Севастьянова, по-видимому, были свои планы. Он ссадил кошку на пол, поднялся и буркнул, что ему пора нести объявления на почту.
– Степан Александрович! – горестно воскликнула тетушка. – Ну что ж это такое? Ведь невежливо же, невоспитанно, просто моветон какой-то!
Но племянник уже скрылся за дверью. Кошка покрутилась в солнечном луче и улеглась на пол, щурясь на старую женщину в кружевном чепце.
– А ты вообще молчи! – сердито сказала ей Настасья Сильвестровна.
Вошла Вера Дмитриевна, хорошенькая темноволосая девушка, которая жила по соседству с домом Севастьянова. У нее были блестящие ореховые глаза, маленькие розоватые ушки и очаровательная улыбка. Настасья Сильвестровна ничего так не желала, как увидеть дорогую Верочку женой Степана, но тут имелись две сложности: во-первых, племянник до сих пор, несмотря на бегство неверной супруги, числился женатым, и, во-вторых, он не питал к Вере совершенно никаких чувств, кроме дружеских. Повздыхав, Настасья Сильвестровна решила, что мужчины сами не видят своего счастья, и раз так, она сама обязана сделать все, чтобы открыть Степану глаза. Для начала она на всякий случай свела дружбу с секретарем консистории[35] и стала изучать российские законы, в которых говорилось о разводе.
– Ах, Настасья Сильвестровна, – быстро заговорила Вера Дмитриевна, – вы уже знаете про Любовь Осиповну? Просто уму непостижимо, не правда ли? А вексель Сергея Сергеевича? Тридцать тысяч бедного Пенковского в камине сгорели!
– А мне говорили, только двадцать… – вскинулась Настасья Сильвестровна, и обе женщины с увлечением принялись обсуждать то, что произошло вчера в Синей долине.
2
В этот час почтовое отделение было почти пусто. Кроме почтмейстера Федота Федотыча, который зевал за перегородкой, в помещении находился лишь один доктор Никандров, который справлялся, не было ли для него писем до востребования.
Степан Александрович вошел в дверь, хмуро покосился на доктора и, подойдя к Федоту Федотычу, попросил три конверта.
– Все объявления рассылаете? – притворно вздохнул почтмейстер, подавая ему конверты.
Севастьянов быстро вскинул на него глаза и ничего не ответил. Затем сел за стол и начал было писать адреса, когда Никандров неожиданно подошел к нему и протянул руку. Удивленный Севастьянов поднял голову.
– Прошу прощения, если вы сочтете меня навязчивым, – быстро проговорил доктор, – но, будучи наслышан о вашей беде… – Он покосился на почтмейстера (тот сидел с таким видом, словно, кроме мух, его ничто не интересовало), сел рядом со Степаном и быстрым шепотом продолжил: – Я очень хорошо понимаю, каково вам приходится. Ведь и я сам… – Владислав Иванович горестно усмехнулся, – вовсе не для здоровья сюда приехал, а чтобы забыть ее, проклятую.
Минуту Севастьянов смотрел на него, не понимая.
– Позвольте, – начал он, испытывая одновременно мучительную неловкость и странное, ни с чем не сравнимое облегчение, – так вы что же, тоже…
– Никогда ее не обижал, даже в мыслях, – горячо зашептал доктор, и его правильное, породистое лицо исказилось страданием. – И вдруг появился какой-то актер, прости господи… Я-то думал, что моя жена в театр зачастила, а разгадка оказалась очень простой. И она ушла. Ушла и ничего с собой не взяла. Нет, ну посудите сами: как же так можно? Я врач, у меня практика, репутация, больные все обо мне знают, и тут такое…
– Моя тоже ничего с собой не взяла, – буркнул Севастьянов и щекой дернул. – Я и не подозревал даже. Понял уже утром, когда она не вернулась.
– Как же все случилось?
– Жена Пенковского устраивала вечер, – мрачно объяснил Степан Александрович. – Она у нас тут, знаете ли, большая мастерица устраивать всякие суарэ-фикс[36]. А у меня даже предчувствия не было никакого… Хотя с тех пор, как я расторг помолвку, знаю, она меня невзлюбила.
– Это Ольга Пантелеевна? – спросил доктор с сочувствием.
– Она. Я собирался на ней жениться, но потом встретил Натали и… Словом, не устоял. Но Оленька потом вышла за Пенковского, моего сослуживца, и брак у них, по-моему, вполне удачный, хоть и детей бог не послал. И она нас пригласила на вечер… Полгорода у нее собралось, по-моему. Натали казалась такой веселой, и я даже не мог себе представить… – Степан Александрович умолк. – Сказала, что ей стало душно в доме и она пойдет прогуляться. Вот так и ушла.
– Я вам глубоко сочувствую, – вздохнул доктор. – Тоже какой-нибудь актер, наверное? Хотя в такой глуши…
Степан Александрович покачал головой. Глаза его потемнели.
– Нет, не актер. Потом уже я все вспомнил… Она его в Д. встретила и еще так обрадовалась. Но на вечере его не было… предосторожности ради, наверное… Он военный, гусар… Она всегда к военным неравнодушна была.
– Вы пытались его найти? – спросил доктор.
– Пытался. Но он исчез… как сквозь землю провалился.
Доктор кивнул.
– Я свою жену тоже пытался найти, – признался он. – Оставил дворнику адрес, чтобы все письма мне сюда пересылали, до востребования… Вдруг она передумает и вернется? Потому что это… – доктор сделал усилие, чтобы продолжить, – это невыносимо. Просто невыносимо… Какой-то актер… ничтожество…
Севастьянов поглядел на него и подумал, что, если бы жена Никандрова сбежала к какому-нибудь министру, он не так сильно переживал бы нанесенную ему обиду. Но тут Степану Александровичу стало стыдно своих мыслей, и он отвел глаза.
– И давно несчастье с вами случилось? – спросил доктор.
Степан Александрович кивнул.
– Давно… да. Четыре года и восемь месяцев… даже чуть больше.
– По нашим законам пятилетняя безвестная отлучка дает право на развод[37], – вздохнул Владислав Иванович.
– Да, тетушка мне уже говорила, – поморщился Севастьянов.
Но доктор, как оказалось, имел в виду вовсе не его ситуацию.
– Не знаю, хватит ли у меня сил столько ждать, – проговорил Никандров, глядя куда-то в угол потухшим взором. – Моя жена так меня скомпрометировала… Но самое ужасное, что я ее до сих пор люблю. Если бы она вернулась… я бы, наверное, все ей простил. Вы понимаете меня?
Степан ничего не сказал, только крепко сжал губы и кивнул. Доктор оглянулся на Федота Федотыча, который за своей перегородкой весь обратился в слух, поморщился и поднялся с места.
– Однако мне пора. Простите, если я был сегодня… чересчур говорлив… Просто иногда на меня накатывает. Передавайте вашей тетушке мое почтение.
Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и Никандров ушел. Выходя из здания почты, он несколько раз кашлянул, и Севастьянов подумал, что, хоть доктор и уверяет, что не болен, ему явно стоит поберечь себя. Да и цвет лица у Владислава Ивановича неважный.
Попрощавшись с Севастьяновым, доктор пошел обратно в «Бель Вю», где снимал отдельный номер, но внезапно из-за угла вылетел вихрь, который едва не сбил его с ног. Сам вихрь был белого цвета и передвигался на четырех копытах, а на спине у него восседала всадница в лиловой амазонке.
– Доктор! – сердито вырвалось у дамы в амазонке. – Я же могла ушибить вас!
На почте Федот Федотыч вытянул шею еще сильнее и с любопытством уставился за окно.
– Что творится, что творится! – произнес почтмейстер сокрушенно, качая головой. – Видели, как хозяйка Синей долины чуть бедного доктора насмерть не зашибла?
Степан Александрович обернулся и тоже поглядел за окно.
– По-моему, с доктором ничего не случилось, – отозвался он, пожимая плечами.
Вихрь меж тем продолжил свое движение и остановился возле почтамта. Хлопнула дверь, взвизгнул колокольчик, разинул рот почтенный Федот Федотыч. Через мгновение дама в лиловой амазонке уже стояла возле прилавка и, положив на него хлыст, стаскивала перчатки, подобранные строго в тон одежде.
– Мне надо отправить телеграмму, – сказала Амалия. – В Петербург.
Почтмейстер все же нашел в себе силы, чтобы закрыть рот, но тотчас же открыл его снова – правда, для того лишь, чтобы объявить, что он сочтет для себя честью принять телеграмму от столь замечательной дамы. Амалия взяла бланк и, так как в отделении был всего один стол, села напротив Севастьянова, который смотрел на нее во все глаза.
– Это Мушкетер? – спросил он после обычных приветствий, кивая на лошадь возле почтамта. – Покойный судья не мог с ним сладить, никак нельзя было заставить его ходить под седлом. Слишком горяч и объезжен дурно.
– Прекрасно объезжен, – возразила Амалия, заполняя бланк (или, как говорили в те времена, бланок). – Седло, впрочем, никуда не годится. Где-нибудь в городе можно купить приличное седло?
– Думаю, да, – кивнул Степан Александрович. – У Маврикия Алпатыча можно найти все что угодно. Его лавка с желтой вывеской через четыре дома, по этой стороне.
– Благодарю вас, – очень вежливо ответила Амалия.
– А ваш муж – военный, сударыня? – внезапно спросил Севастьянов.
Карие глаза с золотыми искорками обратились на него.
– Да, – ответила Амалия, не вдаваясь в подробности, – военный.
– Скажите, сударыня, а возможно ли… – Степан Александрович оглянулся на почтмейстера и наклонился к молодой женщине через стол. – Возможно ли отыскать военного, если… если известна только его фамилия и род войск, но не известен ни полк, ни чин, ни что-либо еще?
– Разумеется, – отозвалась Амалия. – Все списки личного состава имеются в военном министерстве. Вы хотите кого-то отыскать?
На лице Севастьянова отразилась видимая борьба.
– Нет, – внезапно проговорил он. – Я… я лишь спросил.
– Если вам очень нужно, – мягко сказала Амалия, которая уже успела узнать от Лизаветы историю бегства жены Севастьянова с каким-то гусаром, – я могу попросить мужа, он наведет справки. Официальным путем это будет сделать гораздо труднее, особенно если ни чин, ни полк не известны.
Амалия не стала уточнять, что просить она будет вовсе не мужа, а совсем другого человека, своего старого знакомого из сыскной полиции, для которого в архивах любого министерства не имелось никаких тайн. Да Севастьянову, наверное, и не нужны были такие детали. Он поблагодарил Амалию и повторил, что не имеет намерения обременять ее просьбой об одолжении.
Молодая женщина не стала настаивать. Проверив, все ли она написала, что было нужно, Амалия встала с места и отнесла заполненный бланк почтмейстеру. Прочитав текст, почтенный Федот Федотыч только крякнул, но не выразил ни малейшего удивления, хотя всякий другой человек на его месте точно бы изумился. Ибо телеграмма, которую Амалия посылала своей матери в Петербург, гласила:
«МЕРТВАЯ ЖЕНА СУДЬИ ВОСКРЕСЛА
МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТА
ЛЮБЯЩАЯ ВАС АМАЛИЯ»
Новая владелица Синей долины заплатила за доставку телеграммы по адресу и, забрав перчатки и хлыст, покинула почтамт.
3
Снаружи вовсю полыхало майское солнце. Амалия потрепала по холке Мушкетера, который косил на нее большим черным глазом, и, взяв коня под уздцы, повела его за собой. Раз лавка всего через четыре дома, можно и не садиться обратно в седло.
Настроение у Амалии было преотличное.
Во-первых, приятно, что она нисколько не ошибалась в своем понимании людей. Наследство, столь неожиданно свалившееся ей на голову, и в самом деле оказалось с подвохом, хоть и не с таким, как она предполагала вначале. Почтенный Савва Аркадьич завещал ей свое имущество не зря – он не без оснований полагал, что у богатой столичной дамы окажется более чем достаточно средств, чтобы помешать изменнице-жене завладеть богатством после его кончины. И, думая о старом судье, которого она никогда в жизни не видела и не увидит теперь до самого Страшного суда, Амалия чувствовала, как ее губы безо всякой причины складываются в улыбку. По ее мнению, Савва Аркадьич проявил отменно тонкое коварство и недюжинный ум, а баронесса умела ценить эти качества.
Во-вторых, что было особенно удивительно для женщины, которая любой, самой идиллической глуши предпочитала большие города, Амалия неожиданно для себя влюбилась в Синюю долину. Это была не любовь по расчету, а честная, искренняя привязанность, которая, может быть, родилась, когда нынешним утром Амалия увидела вышедшего из леса пятнистого олененка. Он подошел к усадьбе и недоверчиво понюхал тряпки, которые развешивала сушиться Лизавета. Та звонко засмеялась и махнула на него рукой. Олененок отбежал на несколько шагов, но не торопился скрыться в лесу. Позже Амалия увидела, как Лизавета дает олененку кусочек хлеба и он ест, смешно вытягивая тонкую шею.
«Надо бы мне поближе ознакомиться с моими владениями, – размышляла Амалия. – Пелагея говорит, что мельница совсем развалилась, потому что судья никому не давал ею пользоваться. Дмитрий еще, помнится, жаловался на браконьеров… Ну, уж их-то я не потерплю!»
Она увидела желтую вывеску и, привязав Мушкетера снаружи, вошла. Бодро звякнул колокольчик: тиль-диль-дон. В лавке, заставленной снизу доверху всевозможным товаром, царил полумрак, и глаза Амалии не сразу привыкли к нему. Впрочем, она все же отметила, что в лавке нет ни единой живой души.
– Эй, – на всякий случай окликнула она, – есть тут кто-нибудь?
Под прилавком что-то завозилось. Заинтригованная Амалия подошла ближе, и тут из-под прилавка вынырнул долговязый юноша, головы на две выше нашей героини. Он был рыжий, отчаянно курносый, с девичьим румянцем и белой кожей, густо усыпанной веснушками. В руке юноша держал помятую книжку.
– Простите, сударыня, – начал веснушчатый, часто-часто хлопая рыжими ресницами, – я…
Амалия поглядела на книжку. Юноша покраснел и уронил последнюю, после чего полез под прилавок вторично. По пути он опрокинул чайник, у которого, задребезжав, отвалилась крышка. Веснушчатый приладил ее на место, но тут локтем повалил пирамиду мыла, и куски его разлетелись по полу.
– Ой! – воскликнул он сокрушенно, глядя на произведенный разгром.
Как Амалия ни пыталась удержаться от улыбки, все же ей не удалось. Однако надо было спасать непутевого юношу, тем более что мог вернуться строгий хозяин или приказчик и от души накостылять ему по шее за нерадивость.
– Дайте сюда, – велела Амалия, протягивая ладонь. – И спокойно собирайте мыло. Я подожду.
Рыжий юноша робко покосился на посетительницу, на книгу и с опаской вручил Амалии свое сокровище, после чего стал собирать мыло. Пару раз он едва не поскользнулся на его кусках, но, в общем, все обошлось благополучно.
Пока он складывал липкие куски казанского мыла обратно в пирамиду (которая на сей раз получилась перекошенной и, прямо скажем, весьма сюрреалистичной), Амалия развернула книгу, которая так увлекла юношу, и поглядела на заглавие. Это был какой-то детективно-приключенческий роман без особой претензии на реализм. Пролистав несколько страниц, Амалия уже встретила на них мрачное подземелье, спасенную девицу неземной красы, какого-то Родриго, дравшегося на дуэли с Эрнесто, пару кровожадных злодеев с мрачными физиономиями и много-много расхожих штампов, которые помогают авторам подобного чтива не утруждать себя необходимостью задумываться над тем, что же именно они пишут. Амалия захлопнула книгу и пристально посмотрела на юношу, который стоял перед ней, украдкой вытирая испачканные мылом ладони об одежду.
«Ну да, конечно, все это вздор, – думала меж тем баронесса, – тем более что ты сама знаешь: в жизни злодеи выглядят совершенно так же, как и обычные люди, и не надо никакого подземелья, чтобы попасть в безвыходное положение… Но к чему быть высокомерной, если какому-то отдельно взятому человеку эти сказки помогают жить, дают какую-то надежду в мире, где нет ничего, кроме лавки, гнусного хозяина, который шпыняет его по поводу и без повода, и придирчивых покупателей? Ему бы в гимназии учиться, расширять кругозор, а вместо нее сплошные «чего изволите?», мелкий обман и мелкий обсчет по приказу хозяина… И если плохая книга помогает ему выжить, что ж – пусть безвестный автор под псевдонимом Леопольд д’Аркур пишет свои романы… Потому что давать скверную надежду лучше, чем не давать никакой, потому что тогда уж остается только повеситься».
Не подозревая о том, какие именно мысли роятся у покупательницы в голове, рыжий юноша стоял и думал сразу о тысяче вещей. Во-первых, он думал о том, что вел себя совершенно по-дурацки, во-вторых, что надо было бы ему быть одетым поприличнее, и, в-третьих, ему ужасно повезло, что его заставили остаться в лавке именно сейчас, хоть он и совершенно не хотел.
Амалия протянула ему книгу и спросила.
– Любите читать?
Рыжий кивнул два раза подряд, не сводя с нее глаз.
– Это хорошо, – одобрила Амалия. – А где хозяин, Маврикий Алпатыч?
– Он с Петром Ивановичем сейчас, – сказал юноша, застенчиво косясь на нее.
Ого, как интересно. Уж не с тем ли Петром Ивановичем, что вчера рассказывал ей про ее наследство? Да нет, не обязательно, все-таки имя и отчество очень распространенные…
– То есть с Калминым, поверенным? – спросила Амалия небрежно, улыбаясь и глядя веснушчатому прямо в глаза.
– Да-да, – обрадовался тот. – А вы его знаете?
– Конечно, знаю, – подтвердила Амалия, сделав вид, что рассматривает товар в лавке, – кто же его не знает?..
Стало быть, вчера Петр Иванович намекал ей, что надо взять новых слуг или хотя бы управляющего, а уже сегодня секретничает вовсю с купцом-миллионщиком. Если не сердце, то здравый смысл подсказывал Амалии, что все это неспроста… а Амалия привыкла доверять своему здравому смыслу.
– Вам угодно приобрести что-нибудь? – нарушил молчание юноша.
Он улыбнулся, и на щеках его показались ямочки. Вообще он производил очень славное впечатление, но Амалия про себя решила, что дважды проверит счет, чтобы славный молодой человек ее не надул.
– Да, – ответила она на вопрос своего собеседника. – Мне нужны… – она сделала легкую паузу, собираясь с мыслями, – бумага и чернила. И хорошее дамское седло.
Рыжий юноша задумался и рассеянно почесал книжкой в затылке, но тотчас же сконфузился и опустил руку.
– Бумага есть, – доложил он. – И чернила тоже. А вот седло… – молодой человек вздохнул. – В другой лавке имеется. Очень, очень хорошее.
– Английское?
Веснушчатый кивнул.
– Если хотите, – предложил он, видя, что Амалия колеблется, – я могу за ним послать. Тут недалеко.
– Хорошо, – внезапно решилась молодая женщина. – Посылайте.
Рыжий метнулся в комнату за лавкой, крикнул какого-то мальчика, и через минуту тот убежал с поручением доставить седло. Краснея, юноша вернулся к Амалии, покосился на нее и спрятал книжку под прилавок, в кучу кружев и прочих дамских пустяков.
– Я вас не видел раньше в нашем городе, – сказал он, делая героическую попытку завязать светскую беседу.
– Это потому, что раньше я была в другом месте, – безмятежно отозвалась Амалия. Фраза прозвучала во вполне романном стиле и должна была понравиться ее собеседнику.
– А… – Он поглядел на ее руки, не увидел на них обручального кольца и собрался с духом. – Вы надолго в наши места?
– Как получится, – ответила Амалия чистейшую правду. – А Маврикий Алпатыч что, болен? Зачем ему поверенный, завещание писать?
– Болен? – ужаснулся рыжий и даже рот открыл. – Что вы, сударыня! Нет, с ним все хорошо. Просто он хочет Синюю долину приобрести, ну и вот…
«Однако! – гулко молвил кто-то в голове Амалии. – Как, интересно, он хочет ее приобрести, если я не собираюсь ее продавать?»
– А ведь с Синей долиной хлопот не оберешься, – произнесла вслух коварная Амалия. – Сейчас же вроде эта… вдова судьи, которая вернулась, тяжбу затеять хочет. Разве нет? И охота Маврикию Алпатычу возиться…
– Я тоже так думал сначала, – кивнул юноша. – Но Петр Иванович говорит, в законах есть какая-то штука, по которой вдова может уступить ему право на наследство – за деньги, конечно, – а он будет ее интересы защищать. И если выиграет дело, Синяя долина достанется ему.
Тут, признаться, коварной Амалии даже улыбаться расхотелось. Нет, судите сами: одно дело в Российской империи – судиться с ветреной вдовой, ничего собой не представляющей, и совсем другое – сцепиться с миллионщиком, который все свои деньги употребит на то, чтобы вам досадить и настоять на своем. Но тут – весьма кстати, надо признаться, – вернулся мальчик, таща на плече элегантное дамское седло. Он сбросил седло на прилавок, с любопытством покосился на Амалию и, повернувшись к рыжему, сипло выпалил:
– Маврикий велел, чтобы ты меньше чем за пятьдесят целковых не отдавал!
– Иди уж! – отмахнулся юноша, и мальчик скрылся во внутренней комнате.
«Не куплю», – в сердцах решила Амалия. И в самом деле, что такое? Сегодня она выложит свои пятьдесят рублей, а завтра те же денги пойдут на оплату услуг какого-нибудь пронырливого Петра Ивановича, который станет выступать против нее.
– Нет, пятьдесят рублей – слишком дорого, – объявила она. – Дайте мне бумагу и чернила, и я пойду.
На лице рыжего изобразилась самая настоящая растерянность. Не взрослая растерянность человека, который надеялся на выгодный барыш, а его оставили с носом, – а какая-то детская, немного обиженная растерянность, заметив которую, Амалия почувствовала невольный укол совести.
– Конечно, пятьдесят рублей – слишком дорого… тут хозяин того, заломил… – забормотал юноша, затем глубоко вздохнул и спросил с надеждой: – Может быть, сорок? Или… или тридцать пять? Все-таки седло хорошее, английское…
Молодой человек сделал шаг к седлу, и вдруг его нога поехала на куске мыла, который он забыл поднять и вернуть в пирамиду. Рыжий покачнулся и, ища опоры, взмахнул руками, ухватился за Амалию…
Если бы в то мгновение в лавку вошла Марья Никитишна или, не дай бог, Настасья Сильвестровна, весь Д. уже ввечеру был бы извещен о том, что рыжий недоросль из лавки Маврикия Алпатыча обнимал заезжую даму в лиловом, которая определенно потеряла всякий стыд и даже подобие оного. Но, к счастью, Марья Никитишна и Настасья Сильвестровна оказались достаточно далеко от лавки, чтобы не догадываться о том, что в ней происходит.
Амалия сердито взглянула на юношу снизу вверх, и тот сразу же убрал руки, прошептал, весь красный как рак:
– Ради бога, простите, сударыня… Я… я… – Он наклонился и поспешно подобрал злополучный кусок мыла. Рыжие ресницы дрожали, как будто юноша готов был расплакаться.
Амалии стало его жаль.
– Хорошо, я возьму седло, – сказала она мягко. – Не забудьте бумагу и чернила. Только не разлейте, хорошо? Мне почему-то кажется, что с вами постоянно происходят всякие такие… казусы…
Рыжий исподлобья взглянул на нее, увидел, что она больше не сердится или, во всяком случае, сердится гораздо меньше, и немного успокоился.
– Не всегда, – ответил он на ее замечание, доставая с полки чернильницу и пачку бумаги. – Только папенька очень злится, когда такое происходит.
– Папенька? – машинально переспросила Амалия.
– Ну да, – подтвердил рыжий, – Маврикий Алпатыч. Я Антон, его сын.
4
Дама в лиловой амазонке с любопытством поглядела на недоросля.
Сквозь пыльное окно, заставленное штуками материи, пробился солнечный луч и стал искать подходящего местечка, чтобы приземлиться. Он отверг пузатый самовар, почтительно обогнул портрет Александра III, миновал скособоченную мыльную пирамиду и, устав плутать, приземлился на веснушчатой щеке.
– Сколько с меня? – спросила Амалия.
Рыжий на мгновение задумался и даже глаз зажмурил.
– Тридцать пять рублей за седло, сорок копеек за чернила, пятьдесят – за бумагу, – перечислил он вслух. – Итого тридцать пять рублей девяносто копеек.
– Вы всегда в уме так хорошо считаете? – не удержалась Амалия.
– Я четыре класса гимназии кончил, – объяснил Антон.
На языке у нее вертелся вопрос: «А почему не больше?» – но, понимая, что ее вопрос образования юноши ни в малейшей степени не касается, она все же удержалась от того, чтобы произнести его вслух.
Амалия расплатилась, но тут веснушчатый пожелал лично помочь ей с седлом и, вынеся наружу, кое-как взвалил его на Мушкетера. Амалия взяла коня под уздцы.
– Если вам понадобится еще что-нибудь… – начал юный продавец, краснея.
– Да, я уже знаю, к кому мне обратиться, – улыбнулась Амалия. – До свидания.
Молодой человек поглядел, как она удаляется – тонкая, прямая, держа в руке хлыстик и сверток с покупками, – и, только когда Амалия скрылась из виду, со вздохом побрел обратно в лавку.
«Надо было оставить седло в лавке и велеть Дмитрию потом за ним заехать», – размышляла Амалия. По правде говоря, ей не давало покоя то, что она некоторым образом провела этого мальчика, выведав у него то, о чем он наверняка не сказал бы, если бы знал, кто она такая.
Мушкетер мотнул головой и чихнул.
«А, ладно, – решила Амалия, – на войне, а также в денежных делах как на войне. Все это вздор».
За городом она переменила седло Мушкетеру, а старое выбросила. По правде говоря, оно уже давно никуда не годилось. Что же до нового седла, то, на взгляд Амалии, оно стоило все-таки побольше, чем тридцать пять рублей, так что домой она приехала в отличном настроении.
– Дмитрий! За время моего отсутствия никто не появлялся?
– Нет, госпожа баронесса.
– Вот и прекрасно! Пусть подают на стол…
Дмитрий рысцой помчался выполнять барское приказание, а Амалия пошла к себе переодеться. Когда она сошла в столовую, от ее взора не ускользнуло, что на стол были поставлены расписные тарелки из старинного сервиза, хотя сама она ни о чем таком не просила. Прислуга явно стремилась ей угодить. Или же считала, что она тут надолго?
– Дмитрий, я собираюсь после обеда, если дождя не будет, прокатиться и кое-что посмотреть. Ты едешь со мной.
После обеда небо выдалось почти ясное, и поэтому Амалия вновь села на Мушкетера, а слуга, хоть и не без труда, взгромоздился на самого смирного старого коня судьи, который мог ходить под седлом. Чтобы не пугать Дмитрия, Амалия поехала шагом.
Навстречу им попался пятнистый олененок, тот же, что подходил к дому утром. Амалия невольно улыбнулась. Чем-то – то ли рыжеватым окрасом, то ли пятнышками, то ли любопытным взглядом – олененок напомнил ей сегодняшнего знакомого, рыжего Антошу из лавки.
– Лес сейчас кончится… Зверья тут видимо-невидимо, может, потому, что старый судья никому охотиться не разрешал. А вот-с, изволите ли видеть, озеро… Местные его Русалочьим называют, да только никаких русалок тут никто не видел, ясное дело. Так, байки одни, – прибавил Дмитрий солидно. Сам он, впрочем, отлично помнил, как однажды, после того как он хорошо погулял на крестинах у одного знакомого, из озера вышла русалка и стала упрашивать его спуститься к ней. Но Дмитрий, хоть и был пьян как зюзя, не соблазнился ее предложением.
На поверхности озера покачивались кувшинки. Амалия поглядела на них и вздохнула. Неужели вся эта красота ее?
– А там что? – спросила она, указывая хлыстом в другую сторону.
– Там болото, сударыня. Такая топь, что никто туда не забредает… Раз там Петька-браконьер увяз, да так и пропал, бедняга. Жена его с пятью детьми одна осталась.
– Озеро, болото, река, еще одна река, – перечислила Амалия. – И на тех бумагах, которые Петр Иванович показывал, граница владений проходит как раз по воде. Верно?
– Истинно так, сударыня, только вода в последнее время что-то отступать стала… Видите, какие высокие у озера берега? Раньше ведь не так было. И на речках возле Синей долины – раньше было всего четыре брода, а теперь чуть ли не дюжина. Уходит вода… И рыба обмельчала, сударыня. Раньше щука с руку величиной – тьфу, а теперь постараться приходится, чтобы такую поймать.
– Ну, полно, – сказала Амалия. – На наш век рыбы все равно хватит… Поехали лучше мельницу смотреть.
– Это в той стороне, – отозвался Дмитрий, поворачивая лошадь.
Они проехали с полверсты, когда им навстречу попался высокий сухопарый старичок с корзиной, из которой торчали пучки травы. Старичок строго взглянул на Амалию из-под кустистых бровей и поклонился ей, сняв картуз.
– Егор Галактионыч, – поторопился представить старика Дмитрий. – Святой человек. Мяса не ест, спиртного в рот не берет, табак тоже отвергает. Зато про травы и про грибы все знает – к чему какая трава, какие грибы полезные, а какие лучше обходить стороной. К нему все бабы из Рябиновки бегают лечиться.
«Ага, а земскому доктору потом приходится стараться за двоих», – подумала Амалия. Как и многие образованные люди, она была не самого высокого мнения о народной медицине.
– Здравствуй, сударыня моя, – сказал старичок скрипучим голосом. – Ничего, что я по леску-то твоему хожу, травки собираю? Я не браконьер какой, человек смирный. И покойный судья мне разрешал тут ходить.
Дмитрий смущенно крякнул и почесал сизый нос. Даже если бы судья вздумал запретить смирному Егору Галактионовичу ходить по своим владениям, старик вряд ли бы послушался его. Это был человек, которого никто не смог бы заставить своротить с избранного им пути, особенно когда он считал, что правда на его стороне.
– А одуванчики вам на что? – спросила Амалия, указывая на желтые головки и листья, торчащие из корзины.
– У каждого растения свой толк и своя польза, сударыня, – начал степенно объяснять словоохотливый старичок. – Одуванчик хорошо помогает от бессонницы, а также от желтухи и легкие очищает. Первоцвет незаменим от кашля и при чахотке. Царская свечка и мать-и-мачеха помогают при простуде. Росянка хороша для выведения бородавок… Лапчатка – от расстройства желудка. Ночная фиалка помогает при отравлении и еще ежели кость какую проглотил. Цветы черемухи спасают от глазных хворей. Хвощ, который многие по незнанию презирают, помогает при ревматизме, а также залечивать раны и язвы животных. Отвар цветов кувшинки лечит зубную боль, а лопух помогает при лишае или парше. Донник хорош для припарок при нарывах, и не только… Из земляничных листьев, ежели их должным образом приготовить, получается такой чай, который обычному чаю не чета. Ну да что тут говорить… По милосердию божьему все в природе есть, чтобы человек жил да радовался, а он сам себе нагадить норовит. – И без перехода старичок вдруг спросил: – Правда, что ль, что жена Саввы Аркадьича вернулась? Али брешут люди?
– Какое… – горько отозвался Дмитрий. – Приехала живехонька, и ничего ей не сделалось.
– Эх, эх… – поморщился старик. – Вот, значит, отчего судья в последние годы ничего, кроме роз своих, видеть не желал… Хотя роза – пустяковый цветок. Из нее разве что хранцузы духи делают…
– Извините, Егор Галактионович, нам пора, – вмешалась Амалия. – Мы еще должны сегодня на мельницу успеть, а в небе что-то тучки собираются… Не хотелось бы попасть под дождь.
– И не будет сегодня никакого дождя, – отмахнулся старик. – Потому как цветочки мокрицы раскрылись. Ежели б не раскрылись до 9-го часу утра, значит, днем быть дождю. Такая травка, что почище любого барометра будет… Прощевайте, сударыня. Будьте здоровы…
Амалия тронула поводья и вслед за Дмитрием двинулась прочь по узкой тропинке. Еще через полверсты всадники подъехали к старой мельнице. Амалия оглядела ее и поморщилась.
– Да, давненько тут никого не было…
– Давненько, сударыня, – подтвердил Дмитрий. – Тут Петька раньше мельником был, пока судья его не выгнал… за душегубство.
– Какой Петька? – машинально спросила Амалия.
– Да тот, что потом в болоте утоп… Нехорошее место, сударыня. – Дмитрий поежился. – И труп как раз здесь нашли…
– Что за труп?
– А бог весть… Проезжий человек какой-то. Колесо его подцепило мельничное, так он и выскочил из воды… на колесе, значит… Бабы подняли вой, сразу же к уряднику, то да се… Следователя у нас тогда не было, пришлось Савве Аркадьичу его заменять. Думали, кто-то из своих по дурости утонул, ан нет, незнакомый человек. Вся голова разбита… вместо лица каша, а в карманах – ничего, ну совсем ничегошеньки. И по одежде не понять, кто, но не барин, точно… Бились-бились, искали-искали, а так и не поняли, кто это мог быть. В городе никто не пропадал, в Рябиновке тоже… Похоже, ограбили беднягу, да и убили. А Петька как раз незадолго до того в ресторации крепко гулял. Судья его к себе вызвал, в чем дело, мол. А тот сказал, что на дороге кошелек нашел, с шестьюдесятью рублями. Савва Аркадьич и так его, и этак расспрашивал… А Петька – человек отчаянный, не зря мельником был… способен был на такое. Наверняка он убил да в воду и бросил, само собой… и уж не его вина, что к нему-то обратно приплыло… Его оправдали, вроде как за недостатком улик, но судья после вызвал его к себе и велел убираться с мельницы. Мол, вина твоя хоть и не доказана, но видеть я тебя не хочу и духу твоего здесь чтобы не было. Ну, Петька в браконьеры подался, чтобы судье насолить, а тот его сажать стал. Раз, другой… А потом Петька пропал, и только возле трясины его ружьецо нашли через месяц. Позже, к зиме уж, болото подсохло маленько, ну и того… вытащили его…
Да, вспомнила Амалия. И в самом деле, Савва Аркадьич писал что-то такое в своем дневнике, просто она в тот момент отвлеклась и не обратила на тот странный случай должного внимания. Надо будет перечитать те записи в дневнике покойного судьи, где говорится о происшествии на мельнице.
5
Из дневника Саввы Аркадьевича Нарышкина
«16 сентября. На судебного следователя Замятина поступила жалоба. Целыми днями дует водку, подлец, в месяц имеет 250 целковых и ни черта не делает. Накричал недавно на крестьянина Нифонтова, который выступал свидетелем, и будто бы по лицу его ударил. Вроде хотят перевести Замятина в другой уезд, чтобы замять дело (эк я скаламбурил!). И очень хорошо. Хотя я бы его упек по 119-й, чтобы впредь руками не размахивал.
24 сентября. Еле-еле отделались от Замятина. Прощаясь со мной, был очень ехиден и намекнул о том, что пострадал за правду среди сребролюбцев и взяточников. Жаль, что я только мировой, ужо я посадил бы его за оскорбление при исполнении. Из-за этого молокососа сердце болело всю ночь.
25 сентября. Вспоминал Ниццу, самую первую поездку. Плакал. Осел я, да и только.
28 сентября. Встретил сегодня Егора Галактионовича. Лучше бы не встречал. Напустился на меня за то, что засадил в холодную двух его знакомых богомольцев. А как же их не засадить, когда они в трактире подрались и за бороды друг друга таскать стали? Егор объяснил, что, мол, из-за какой-то бабы, все беды только от них, от баб. Я поинтересовался, кто же тогда его самого вынашивал и рожал, но он, похоже, не понял. Корил меня за то, что я курю и наливками не брезгую. Вроде и правильный он человек, но невыносимый. Еле от него отделался. Пришел домой – конюх Игнашка пьяный валяется. Уволил к чертям собачьим. Теперь Дмитрий будет за лошадьми следить. Не уследит – тоже выгоню в шею.
30 сентября. Черт знает что такое. Следователя пока нет, а новый еще не прибыл. Между тем в реке возле мельницы – моей мельницы, черт побери! – нашли труп. Делать нечего, потащился на вскрытие с доктором Станицыным. Станицын как увидел тело, так ему и стало плохо. Еще бы, наш бонвиван и остряк не приучен смотреть на разложившуюся плоть. Вызвал вместо старого дурака земского врача Голованова. Тот и к оспе, и к тифу привычен. Барыньки местные от него шарахаются, потому что говорит он односложно и не желает с ними любезничать. Однако ж дело свое он знает, и слава богу. По его заключению, тело пролежало в воде около месяца, причем, судя по следам на ногах, к нему был привязан какой-то груз. Потом веревки от воды сгнили, груз оторвался, тело поднялось на поверхность и приплыло прямиком на мельницу. Кстати, мельник Петька был пьян, а когда узнал о происшедшем, только рассмеялся. Не нравится мне все это, честно говоря. Тем более что Петька – такой человек, который за целковый лучшего друга зарезать может. Личность тела (тьфу, окаянство!), личность трупа установить не удалось. Голова разбита, лицо сильно изуродовано, причем Голованов думает, что так сделано было нарочно, чтобы затруднить опознание. Ничего, если этого малого хоть кто-то где-то видел, мы все равно узнаем, кто он таков и откуда взялся. Пока начали дознание с Рябиновки, потому что она к мельнице ближе расположена.
2 октября. В Рябиновке никто ничего не знает. Принялся за Д. На неделе приезжает новый судебный следователь.
4 октября. И в Д. – никто не может ничего сказать. Мистика, тайны Эжена Сю. Велел посадить Петьку под замок.
5 октября. Гаврила Краснодеревщиков вспомнил, что Петька в начале сентября (то есть тогда примерно, когда был убит неизвестный) гулял в «Бель Вю» и был необычно оживлен, потому как разбил стекло и тотчас же заплатил за причиненные убытки. Гаврила потому его и запомнил, из-за стекла. Вызвал половых «Бель Вю» – подтвердили слова Гаврилы. Вот дело и разъяснилось. Петька, конечно, говорит, что под кустом нашел кошелек с деньгами, вот и решил гульнуть. Так я и поверил!
12 октября. Прибыл новый следователь, Чечевицын. Н-да-с… Прежде всего мягко распек меня за то, что я выполнял его обязанности. А кто-то должен же был их выполнять! Кстати, и делал я это лишь потому, что на меня их свалили! Потом следователь выслушал мою версию и объявил, что разберется. Ну, вроде ничего малый, разве что педант.
16 октября. Какой там педант – дурак, набитый идеями, как индейка яблоками. Его чувствительное сердце, видите ли, не может терпеть несправедливости. Коротко говоря, улик против Петьки нет, кутеж ничего не доказывает, и кошелек он вполне мог в самом деле найти. Я прямо-таки вскипел, слушая его ахинею. Оказывается, я должен сочувствовать Петьке, так как народ невежествен и угнетен, а несознательность масс и т. д. То, что он в свое время славно обобрал тестя, чтобы содрать с него побольше приданого, тоже, наверное, от невежества и несознательности. Тьфу! Мочи нет, как тошно.
20 октября. Петьку выпустили. Видел его – ухмыляющаяся рожа, и виновность на ней написана большими буквами. Постой, голубчик! Ты мог провести наивного идеалиста, который только что с университетской скамьи, но не меня, голубь, не меня!
1 ноября. Выгнал его к чертям собачьим с мельницы. Он пробовал протестовать, но мельница моя, что хочу, то и делаю. Уходил обозленный, поклялся отомстить.
8 ноября. Застрелили двух моих собак. Велел взять Петьку и посадить его. На допросе сразу же признался, что его рук дело. Бедные собаки! Они одни были умнее меня, потому как сразу же невзлюбили (край листа оторван). Конечно, я упрячу гаденыша под замок, но кто мне собак вернет?
4 марта. Взяли его с поличным, когда он ставил капканы в моем лесу. Снова упек в тюремный замок. Чечевицын явился ко мне и произнес длинную горячую речь о том, что я не желаю войти в положение забитого и бедного человека и т. д. Верно. Не желаю входить в положение мерзавца. Слишком много чести.
23 июня. Петька исчез. Надолго ли?
7 июля. Похоже, и впрямь исчез. Ну и слава богу.
30 июля. Нашли его ружье возле трясины. Значит, кончено, потому что оттуда даже лось лет пять назад выбраться не смог, что уж тут о человеке говорить. Жена в голос воет. Бабы – дуры. Муж всю жизнь ее колотил, а она чего-то жалеет. Радоваться бы надо, что от него избавилась.
Получил письмо от дальней родственницы. Знать, совсем я сдал. Предлагает приехать и жить при моей особе. Никак на наследство метит… Шалишь!
7 сентября. Видел Севастьянова. Совсем сдал человек. Вроде бы тот, да и не тот, одни бакенбарды остались. Пробовал вразумить его, да без толку. Хочет найти жену и вернуть ее домой. Ушел со службы, рассылает объявления в газеты. Весь извелся от тоски. Я, говорит, ради нее на все готов, пусть она только вернется. Чудно́! Столько кругом барышень и хорошеньких, и образованных, и даже с капиталом, а он, прости господи, свихнулся на той белокурой дряни. Какая-то бывшая артистка, которая состояла в Москве на содержании, а потом для чего-то вышла замуж. Говорил мне, мол, надеется, что она все-таки одумается. И жаль мне его, и глядеть тошно. Ушел к себе. Завтра судебное заседание, а уже сейчас голова трещит, словно в ней гусарский полк в атаку мчится. К черту. Кто мне завтра попадется, всех упеку по 119-й. Будут знать, как мне досаждать. Всех отучу зря таскаться по судам».
6
– Госпожа баронесса!
Амалия подняла глаза от дневника и захлопнула исписанную крупным, размашистым почерком тетрадь. Лизавета, стоя у дверей, на всякий случай присела. Она еще не вполне справлялась со своими новыми обязанностями, но новая хозяйка была на редкость снисходительна и не корила ее за промахи.
– Там приехали… Видеть вас желают-с.
– Кто? – спросила Амалия.
– Маврикий Алпатыч Фомичев, – заторопилась Лизавета. – Говорят, у него до вас дело.
«Так… – принялась соображать Амалия. – Стало быть, он вчера уже успел посовещаться с поверенным и, может быть, найти общий язык со вдовой судьи, а сегодня… Однако сей господин не любит терять время зря».
– Проси, – сказала она.
За окнами вкрадчиво, бархатно зашуршал дождь, а через минуту уже лило как из ведра. Амалия спрятала тетрадь и подошла к огню, весело полыхавшему в камине. Сырая, промозглая погода была вовсе не по ней, тем более при ее болезни, при которой следовало особенно беречься. Голоса. Шаги. Шаги тяжелые, словно ступает медведь. Амалия протянула ладони к огню и сделала вид, что ничего не замечает. Дверь открывается, и…
Амалия повернулась и прежде всего встретилась взглядом с веснушчатым юношей из лавки. Сегодня он был одет куда торжественнее, хотя было заметно, что длинные руки вылезают из рукавов серого сюртука. Увидев Амалию, он стушевался и нервно сглотнул, отчего кадык на его шее судорожно дернулся.
Что же до отца Антона, то он был одет точно так же, как и все подобные ему российские миллионеры. И вроде бы черная пара, пошитая хорошим портным, была безукоризненна, но золотая цепь жилетных часов своей толщиной напоминала кандальную, а перстни на руках заставили бы обмереть от восторга любого цыганского барона. Добавьте сюда сапоги – да-да, сверкающие, начищенные сапоги! – которые были совершенно неуместны и еще меньше подходили к золотой цепи, чем к безукоризненному костюму. Как ни старался Маврикий Алпатыч, сколько ни тратил на портных и ювелиров, он по-прежнему выглядел как выскочка, парвеню, moujik[38], который способен сморкаться в занавески и за столом наверняка не умеет держать вилку в левой руке. Сейчас он изо всех сил пытался произвести впечатление на Амалию, что было совершенно бесполезно. Она не любила людей такого склада, и, могу вас заверить, деньги тут были совершенно ни при чем.
– Вот-с, заглянули к вам, госпожа баронесса, так сказать, в гости, – бодро объявил Фомичев. – Обо мне вы, вероятно, уже наслышаны: Фомичев Маврикий Алпатыч. А это Антоша, мой сын. Антоша, поклонись даме!
– Здравствуйте, – едва слышно пробормотал Антоша, кланяясь.
– Да, мне о вас говорили, – подтвердила Амалия. – Прошу вас, садитесь. Кажется, вы церковный староста?
Маврикий Алпатыч сел на низкий диванчик и, услышав слова Амалии, с удивлением покосился на нее. Но, едва он понял скрытый смысл ее ответа, как странная смесь плутовства и одобрения разлилась по его лицу. Мужчина коротко хохотнул. Рыжий Антоша сидел как на иголках.
– Верно-с, верно-с, и староста тоже, – кивнул Маврикий Алпатыч. – Впрочем, не только этим в наших краях мы известны…
Он пустился в длинное повествование о своих достижениях, заслугах и наградах, а Амалия меж тем тайком поглядывала то на него, то на его сына. Даже внешне это были совершенно различные люди: Маврикий Алпатыч – кряжистый, приземистый, черноволосый, с огромными руками, окладистой бородой и крупными неправильными чертами лица, а Антоша – длинный, рыжий, веснушчатый и, в общем, довольно хрупкого телосложения. Можно было легко представить себе, как на празднике при всем честном народе Маврикий Алпатыч, засучив рукава, гнет подковы, но вот вообразить себе что-либо подобное по поводу Антоши Амалия решительно отказывалась.
«Материнская порода, – смутно подумала она. – Любопытно, как природа порой затушевывает в детях грубую силу и выдвигает на первый план совсем другие качества. Интересно, кто его мать?»
– Должен поздравить вас, сударыня, – сказал наконец Маврикий, – со столь замечательным наследством.
Амалия отвлеклась от своих мыслей и вся обратилась в слух.
– Синяя долина – это же самое красивое место во всей губернии, – вздохнул купец, не сводя с нее глаз. – Владеть им – многое значит, поверьте мне. – Он выдержал крохотную паузу. – Конечно, было бы гораздо проще, если бы у вас не было, так сказать, соперниц…
– Не думаю, что они у меня есть, – заметила Амалия.
Маврикий Алпатыч махнул рукой, и на его руке в отблесках огня из камина ярко сверкнул перстень.
– А как же Любовь Осиповна? Правда, занятно получилось? Все думали, что она умерла и в чужой земле похоронена, а вышло совсем не так. – Его губы, глаза, даже морщинки у глаз озорно улыбались. – Покойный судья-то не успел с ней развестись, а значит…
Тут Маврикий Алпатыч собирался выдержать еще одну крохотную паузу, но Амалия самым бесцеремонным образом паузу прервала.
– Ничего это не значит, – отрезала она. – Есть завещание, и завещание в силе. Вот и все.
– Э, не все так просто, милостивая государыня, – важно отозвался миллионщик. – Нет такого завещания, которое нельзя было бы оспорить, а тяжбы, сами понимаете, могут годами тянуться. То да се, да адвокаты, да на апелляцию, да на кассацию… Адвоката-то Любовь Осиповна уже себе подыскала, слышали? Немец Тизенгаузен Рудольф Рудольфыч, большой знаток своего дела.
– Тизенгаузен в Петербурге, – коротко ответила Амалия.
Фомичев быстро вскинул на нее глаза и уважительно наклонил голову.
– Сейчас-то да, сударыня, да только он обещался вскоре тут появиться, ознакомиться, так сказать, с обстоятельствами дела. А обстоятельства сами знаете какие… Вы раньше тут не появлялись, да и покойному Савве Аркадьичу всего лишь дальняя родственница. А Любовь Осиповна все-таки поближе ему будет, потому как законная жена. – И довольный Маврикий Алпатыч откинулся на спинку дивана.
– Жена, которая от него ушла, – напомнила его собеседница.
За окнами сверкнула молния, глухо прокатился раскат грома, и на мгновение показалось, что между кустов сирени стоит огромный косматый сказочный великан. Но вспышка потухла, и сад вновь провалился во тьму.
– Так-то оно так, – не стал спорить с Амалией Фомичев, – да вот в чем закавыка: развестись он с ней не успел, а может, и не пожелал. И кое-какие права на имущество у нее имеются.
Амалия пожала плечами.
– Полагаю, моим адвокатам не составит труда найти доказательства ее предосудительного образа жизни, – спокойно проговорила она. – Так что на месте Любови Осиповны я бы не стала рассчитывать на многое. То, что она жена Нарышкина, еще ничего не значит, поскольку своими супружескими обязанностями женщина пренебрегла.
Антон слушал разговор старших не дыша, и ему казалось, что он присутствует на словесной дуэли, причем баронесса Корф сражается ничуть не хуже мужчины. На каждое слово его отца у нее уже было наготове два, а то и три.
– И тем не менее… – начал Маврикий Алпатыч.
– В конце концов, почему бы ей снова не выйти замуж? – предложила Амалия. – За какого-нибудь старика. И, конечно, позаботиться, чтобы на сей раз он написал завещание в ее пользу…
Купец озадаченно мигнул. Эта красивая дама, которая столь рискованно и дерзко шутит и которая, ничуть не боясь, смотрит ему прямо в глаза своими золотистыми, прозрачными глазами, все-таки ставила его в тупик.
– Боюсь, Любови Осиповне будет проще побороться за то, что у нее есть, – вывернулся он.
– У нее ничего нет, – отрезала Амалия. – И не будет.
– Однако Тизенгаузен все же согласился взяться за дело, – выложил последний козырь Маврикий Алпатыч. – Значит, оно не так безнадежно, сударыня, как вам кажется… как вам хотелось бы. Не таковский он человек, чтобы тратить свое время на безнадежные дела…
Но Амалия умела держать и не такие удары.
– Значит, будет суд, – равнодушно ответила она. – Вот и посмотрим, кто кого. Лично я от своих прав отступаться не намерена.
– А вам охота тратить свое время на суды? – живо спросил купец. – Можно ведь и проиграть, знаете ли.
– Я никогда не проигрываю. – Со стороны ее слова могли показаться самонадеянной похвальбой, но многие друзья и особенно враги Амалии охотно поручились бы, что это правда.
– Всякое «никогда» когда-нибудь кончается, – назидательно заметил Маврикий Алпатыч.
«Интересно, откуда он взял эту фразу? – подумала Амалия. – Ни за что не поверю, чтобы сам до нее додумался». Но, словно угадав ее мысли, купец кивнул на сына, который застыл на краешке дивана, боясь шелохнуться.
– Сие замечание мой Антошка в книгах вычитал, – пояснил он со смешком. – Читать любит до страсти, совсем как его покойница-мать. Тоже, бывало, не заставишь ее в сенях убраться, все одни книжки на уме.
Антоша нахмурился и отвернулся, наморщив курносый нос. Судя по всему, разговоры о матери были его больным местом.
– А Любовь Осиповна настроена весьма воинственно и своего не упустит, – продолжал Маврикий Алпатыч, – не такая она женщина. Придется вам с ней судиться, глядишь, не один год, а там мало ли что случиться может: к примеру, на имение арест наложат до выявления законного наследника. Да если и не наложат, такое имение одной поддерживать нелегко, сами знаете. Суды столько денег съедят! А вам ведь и лесники нужны, и управляющий хороший, и прислуга, чтобы от людей не стыдно было, и много чего. Так ведь и разориться недолго.
Амалия подумала, что если уж дядюшка Казимир до сих пор ее не разорил, то и никому на свете не удастся. Впрочем, если дядюшка играл, то обычно он выигрывал столько же, сколько и проигрывал, хоть и случались у него временами крупные провалы.
– Я вижу, – сказала молодая женщина Маврикию Алпатычу, – что вы принимаете близко к сердцу мои интересы. У вас есть какое-то предложение?
Антоша надулся. Чисто купеческое, торгашеское слово «предложение» совершенно не шло утонченной даме в лиловом (правда, сегодня она была в желтом). Впрочем, он не мог отделаться от чувства, а если быть совсем точным – от предчувствия, что, несмотря на всю свою хватку, папенька потерпит поражение.
– Есть, – просто ответил Маврикий Алпатыч на вопрос Амалии. – Разумнее всего, сударыня, было бы вам теперь, пока вы еще полностью владеете Синей долиной, продать ее надежному человеку за хорошие деньги. Таким образом, вам не надо будет тратиться на суды, потому что всем этим займется уже тот человек, в чьем владении окажется Синяя долина. Земля – всего лишь земля, и вы ничего не проиграете, а только выиграете. Как вам такое предложение?
«Ай да хитрец, – помыслила Амалия, – ай да хитрец Маврикий Алпатыч! Прежде чем вести тяжбу от имени Любови Осиповны, решил пойти более простым и надежным путем – купить имение у меня. Хотя постойте, при чем тут вообще какая-то тяжба? Маврикий Алпатыч покупает у Любови Осиповны ее права, у меня – имение, и таким образом мы обе оказываемся ни с чем… Вернее, с небольшой суммой денег, а тем временем почтенный миллионщик перестраивает старый дворянский дом по своему купеческому вкусу, вырубает леса, сдает землю в аренду и устраивает охоты, чтобы доказать, что он тоже барин. Молодец, ничего не скажешь! Интересно, он ради сына так старается или ради себя?» И, хотя веснушчатый юноша был тут совершенно ни при чем, Амалия метнула на него такой сердитый взгляд, что тот поежился.
– Если же вы не хотите терять имение, – добавил Фомичев, решив, что она колеблется, – мы можем заключить соглашение о формальной передаче, а после того, как все суды окончатся, я верну вашу собственность вам.
– Сколько? – спросила Амалия внезапно.
– Что? – опешил почтенный купец.
– Сколько вы готовы дать мне за Синюю долину?
Антоша не верил своим ушам. Ему ужасно хотелось вмешаться, но, уже когда они ехали сюда, папенька велел ему помалкивать и набираться ума-разума, глядючи, как дела делаются. Антон смотрел – и набирался, но его грызла тоска. Неужели… неужели она даст себя объегорить?
Маврикий Алпатыч важно погладил свою черную бороду.
– Учитывая, что мне придется вести тяжбу вместо вас, а также запущенное состояние Синей долины, которое ни для кого не составляет секрета… – Он глубоко вздохнул. – Двенадцать тысяч рублей.
– Только-то? – с сарказмом осведомилась Амалия. – И как именно я получу деньги? Может, очередным фальшивым векселем за подписью покойного судьи?
– Право, сударыня, – забурчал купец, не привыкший к подобным намекам, – я не знаю, о чем вы… Двенадцать тысяч – прекрасная цена. Кто еще даст вам столько за имение, которое вот-вот станет предметом тяжбы?
– За двенадцать тысяч, – отрезала Амалия, – я могу продать вам только мельницу. И то без колеса.
– Почему без колеса? – опешил Фомичев.
– Потому что с колесом она стоит дороже, – заявила Амалия. – Вот так-то.
Дождь, с любопытством подслушивавший их странный и ни с чем не сообразный разговор, даже стих за окном, ожидая, чем дело кончится. По лицу Фомичева разлилась краска, глаза сделались холодными и колючими.
– Я к вам с серьезным предложением, сударыня, а у вас все смешки, – с горечью проговорил он. – Нехорошо.
– Нет, – твердо отозвалась Амалия, – это как раз вы намерены посмеяться надо мной. По-вашему, я не умею считать? По-вашему, не знаю, сколько стоит то, чем я владею?
Фомичев медленно поднялся с места.
– Что ж, мое дело было предложить, – проговорил он, стараясь казаться беззаботным. – Любовь Осиповна – бой-баба, своего не упустит. Может, еще пожалеете, что не согласились-то на мое предложение… Идем, Антоша.
Он двинулся к двери, стараясь сохранить беспечный вид человека, который ничего не проиграл, но даже спина у него имела обескураженный вид.
– До свидания, госпожа баронесса, – пробормотал Антон, выходя из комнаты.
Дождь меж тем уже кончился. Амалия подошла к окну и стала следить, как отъезжают гости. Первым в коляску забрался купец.
– Ты чего улыбаешься? – набросился он на сына. Когда Фомичев был не в духе, ему обязательно надо было на ком-то сорвать дурное настроение.
– Я ничего, – поспешно сказал Антон. – Я… я вспомнил, где ее видел. Она к нам в лавку приходила, седло покупать.
– А! Так, значит, ты ей, что ли, дорогое седло за бесценок продал? – вскинулся Фомичев. – Забыл, чей хлеб ешь? Мучение одно с тобой, никак деньги считать не научишься!
– Я нарочно ей подешевле продал, – вдохновенно солгал Антон. – Думал, она к нам расположена будет.
– Тю! – свирепо фыркнул Маврикий Алпатыч. – Ну ты голова! Кого на деньги надули, того уж точно уважать не будут. Одно мучение с тобой, право слово. И какое седло знатное спустил, шельмец! Лучше бы ты ей что поплоше подсунул, чтобы она себе шею свернула, холера!
Последняя мысль так крепко засела в его голове, что он распекал сына весь обратный путь.
7
Не подозревая о ругательствах, которыми осыпал ее несдержанный Фомичев, но, в общем, довольная тем, что отбила первую атаку противника, Амалия вернулась на прежнее место и задумалась. Часы пробили шесть, и только тогда она очнулась.
– Лиза!
Горничная тотчас же явилась на зов и стала у двери, держа руки за спиной.
– Расскажи мне про Фомичева. Сколько у него детей? А жена его кто была?
Лиза немного удивилась любопытству барыни, но все же честно ответила на все вопросы. У Фомичева только один ребенок, Антон. Его мать и соответственно жена Маврикия Алпатыча умерла, когда сын был совсем маленький. Да и то сказать, характеру она была слишком нежного, да и здоровья неважного. Сынок-то в нее больше пошел, если честно. После смерти Марфы Модестовны Маврикий Алпатыч все каялся, что плохо с ней обращался, и пообещал никогда не оставлять заботой ее брата, Гаврилу Краснодеревщикова. Слово свое, надо сказать, он сдержал, потому как, едва его дела пошли в гору, купил Гавриле гостиницу «Бель Вю» и еще несколько трактиров. Вообще если Маврикий Алпатыч кому и доверяет, то только Гавриле. Тот человек надежный, непьющий, работящий, а вот Антоша подкачал. Нет в нем коммерческой жилки, и про то все знают. Маврикий Алпатыч его специально из гимназии забрал, чтобы с юных лет приучать к делу, да все без толку.
– Лучше бы он оставил его в гимназии, – буркнула Амалия. – Спасибо, Лиза, можешь идти.
Горничная повернулась – и громко вскрикнула в испуге.
– В чем дело? – сердито спросила Амалия.
– Там… там… – пробормотала Лиза. – За окном, сударыня!
Кто-то постучал в окно, и Амалия, обернувшись на стук, увидела в саду взъерошенного здоровяка с роскошными бакенбардами. Под мышкой он держал серую кошку.
– Можно к вам зайти, госпожа баронесса? – умоляюще крикнул он. – На минуточку!
– Что ж такое? – пробормотала Амалия, вспоминая свое недавнее видение. – Боже мой, он что, там стоял и ждал, когда они уйдут? А дождь? Он же мог простудиться! – Она вскочила с места. – Лиза! Ставь самовар, неси горячий чай и ром! Этак же можно воспаление легких подхватить!
Через несколько минут серая кошка уже ходила кругами возле ног Амалии, а встрепанный Севастьянов стоял возле камина, с наслаждением протянув руки к огню.
– Вы же совершенно промокли, – сказала Амалия. – Дмитрий! Принеси какую-нибудь одежду судье, живо!
– Я под навесом укрылся, – виновато мигая, объяснил Степан Александрович. – Не беспокойтесь, я уже почти обсох.
– Как вы добрались до меня? Я не видела никакого экипажа.
– Пешком, – сказал Севастьянов. – То есть… – Он замялся. – Я просто люблю гулять за городом.
Амалия вспомнила, что от Д. до Синей долины пятнадцать верст, но не стала ничего более говорить. Лиза внесла дымящийся чай и пузатую бутылку из судейских запасов.
– Выпейте, – велела Амалия. – Я бы не советовала так шутить со здоровьем, знаете ли.
– Пустяки. – Степан Александрович отпил из чашки и насильственно улыбнулся. – Дождь весенний, теплый. Ничего особенного. – Он отставил чашку.
– Вы хотите о чем-то меня попросить? – спросила Амалия напрямик, видя, что ее собеседник колеблется.
– Да, – решился Севастьянов. – Помните, вы говорили… упоминали, что можете навести справки о… об одном человеке. Скажите, ваше предложение до сих пор… действительно?
Амалия кивнула. По правде говоря, именно это она и предполагала.
Севастьянов поглядел на кошку, которая легла на ковер, и правой рукой взъерошил левую бакенбарду.
– Домбровский, – внезапно сказал он. – Его зовут Домбровский, и он гусар. Вот все, что я о нем знаю.
Амалия придвинула к себе листок и записала на нем фамилию.
– Он и есть тот человек…
– Да, тот, с которым скрылась моя жена, – выпалил Севастьянов. – Я должен найти его. Иначе все это… какая-то шутка… дикая шутка…
Амалия подняла на него глаза.
– Простите, – тихо проговорила она, – я не понимаю вас.
Степан Александрович горько улыбнулся.
– Я и сам ничего не понимаю. Просто… – он собрался с духом. – Почту мне приносят на дом, но сегодня… У меня появилось какое-то предчувствие, и я пошел на почту, Федот Федотыч отдал мне два письма. Оба они были на мое имя.
– Покажите письма, – попросила Амалия.
Севастьянов посмотрел на нее и полез в карман, откуда извлек два мятых конверта.
– Вот, – сказал он.
Амалия развернула первое письмо. Оно начиналось без всякого обращения и было очень коротким.
«Хоть ты и не отвечаешь на мои письма, я вынуждена повторить мою просьбу. Во имя всего, что нас связывало, пришли 300 руб. в Крым, Ялту, на мое имя, до востребования. Я не могу больше писать, но надеюсь на твое снисхождение к моей беде. Поверь, если я чем-то провинилась перед тобой, то уже достаточно наказана. Натали».
– Натали – ваша жена? – спросила Амалия.
Севастьянов кивнул.
– Послано из Ялты, – буркнула Амалия, поглядев на отметки на конверте. – Что ж, допустим… Хотя 300 рублей, не скрою, меня настораживают. А почерк ее? – внезапно спросила она.
Севастьянов утвердительно кивнул несколько раз подряд.
– Ее, я готов поклясться. Но я не понимаю… – Его голос внезапно обрел силу и зазвенел. – Я не получал от нее прежде никаких писем! Это первое, которое…
– Не так скоро, Степан Александрович, – перебила Амалия. – Уверяю вас, в делах такого рода… да еще и учитывая объявления, которые вы везде помещали… – Она поморщилась. – В сущности, любой почерк можно подделать. Да еще странная отговорка, что она не может больше писать… Очень подозрительно, я бы сказала. А что во втором письме? – внезапно спросила она.
– Взгляните, – только и ответил Севастьянов.
Амалия поглядела на него, на конверт, на Мышку, которая блаженно жмурила глаза на огонь, и вытащила наружу свернутый вчетверо листок простой бумаги.
– Ничего себе! – вырвалось у нее.
Поперек листа шли огромные наклеенные буквы из газеты. И если первое письмо было коротко, то второе явно сумело превзойти его в лаконичности.
Текст письма гласил:
«ТЫ УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ».
Глава 3 Угроза
Так резвый баловень служанки,
Амбара страж, усатый кот
За мышью крадется с лежанки,
Протянется, идет, идет,
Полузажмурясь, подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Готовит когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.
«Евгений Онегин», глава перваяИ точно: страсти были тут,
Скрывать их был напрасный труд.
«Евгений Онегин», глава вторая1
– Я сойду с ума, – просто сказал Степан Александрович.
– Не так скоро, друг мой, – возразила Амалия. – Итак, у нас есть два письма, и оба без обратного адреса. Одно отправлено из Ялты, другое… – она вгляделась в штемпель на конверте, – из Серпухова. В одном, если опустить незначительные детали, требование денег, а в другом…
– Может быть, все же чья-то шутка? – с надеждой предположил Севастьянов.
Амалия пристально посмотрела на него.
– А это похоже на шутку, по-вашему?
– Не знаю, – пробормотал ее собеседник.
– Может быть, вы знаете какого-нибудь индивидуума с сильно развитым чувством юмора, – в саркастическом настроении Амалия была способна употреблять и не такие витиеватые выражения, – который мог бы потратить свое время на составление анонимного письма, а также деньги на покупку марки и конверта, чтобы удивить вас? Кто-нибудь в вашем окружении способен на такие выходки?
Степан Александрович покачал головой.
– У вас есть враги?
– Думаю, они у всех есть, – пробормотал Севастьянов, глядя на Мышку, которая, как завороженная, смотрела на огонь, весело потрескивавший в камине. – Но… чтобы посылать такие письма… – Он сконфуженно умолк. – Я не знаю, с какой целью вообще…
Амалия пожала плечами.
– С целью шантажа, например, – спокойно заметила она. – Некто считает, что вы убили жену. В своем первом письме он дает вам понять, что знает вашу тайну. Скоро вы получите второе, в котором окажется требование денег.
– Все очень странно, – вздохнул гость. Его широкие плечи поникли, и теперь перед Амалией сидел безнадежно уставший, запутавшийся человек. – Если Натали живет в Крыму с этим Домбровским… Допустим, ей нужны деньги, я многое могу понять… Или он ее бросил, и она стыдится вернуться ко мне? Но второе письмо… Я просто не знаю, что и думать, – беспомощно закончил Степан Александрович.
Амалия нахмурилась. Чем дальше, тем загадочнее становилась его история, а Амалию интриговали загадочные истории.
– Именно поэтому вы и хотите найти Домбровского? – спросила она.
– Да. Я должен убедиться, что с Натали все в порядке. Если она больна или нуждается в заботе… Я ее не оставлю, – заключил он.
Амалия слушала его, и ее разбирали грусть и досада. Неужели это и есть любовь? Удивительная готовность стерпеть любое унижение от существа, которое тебе дорого, странное самоотречение во имя женщины, которая вряд ли способна его оценить…
– И еще одно мне непонятно, – бормотал Севастьянов, глядя на огонь. – Если она мне писала раньше, то куда могли деться те письма? Загадка какая-то…
– Ну, куда делись остальные письма, я думаю, можно выяснить, – заметила Амалия. – А вы спрашивали у Федота Федотыча?
Севастьянов сконфуженно мигнул.
– Я… Нет, мне и в голову не пришло. Думаете, надо было у него навести справки? Но ведь на почту приносят столько писем, разве он может все их запомнить…
Амалия вспомнила, как Федот Федотыч вытягивал шею, чтобы услышать ее недавний разговор со Степаном Александровичем, и улыбнулась.
– Что-то мне подсказывает, вы недооцениваете профессиональную память вашего почтмейстера, – весело сказала она. – Лично я могу биться об заклад, что он запоминает не только приходящие, но и отправленные письма… причем не исключено, что вместе с текстом. Теперь что касается меня… – Она глубоко вздохнула. – Можете быть спокойны, запрос о Домбровском я сделаю. Хотя… – Она подняла со стола первое письмо и тщательно оглядела его со всех сторон.
– Что? – быстро спросил Севастьянов.
– На вашем месте, – спокойно и рассудительно заговорила Амалия, – я бы приготовилась к тому, что господин Домбровский никогда не бывал в Ялте, равно как и ваша жена. Примите мои слова как дружеский совет.
– Почему вы так думаете?
Амалия кивнула на письмо.
– Видите? Конверт из самых дешевых, серая бумага… Писал, очевидно, человек, который находится в очень стесненных обстоятельствах. Человек, которому до крайности нужны деньги, а тут как раз ваше объявление…
– Но почерк! – вскинулся Степан Александрович. – Я же говорю вам: почерк точно Натали!
– Стало быть, у мошенника под рукой оказалось письмо вашей жены, – не стала спорить Амалия. – Скажите мне, только положа руку на сердце: такое совершенно невозможно?
Севастьянов задумался.
– Может быть, – нехотя пробормотал он. – Да и потом, ее просьба… триста рублей… – Он передернул своими могучими плечами. – Я, если вам угодно знать, не слишком богат. И Натали… она тоже знает, что для меня это большие деньги.
– Расскажите мне о ней, – попросила Амалия тихо. – Что она за человек? Где вы с ней познакомились, какое впечатление она на вас произвела?
Севастьянов утер рукою лоб.
– Познакомились? Я ездил в Москву, в гости к Настасье Сильвестровне… Думал, прескучнейшая будет поездка, ан нет. Захотел разнообразия ради прокатиться на конке… у нас-то в городе, сами понимаете, ничего подобного нет… И сел рядом с ней. – Он говорил, и по его широкому лицу разливалась блаженная улыбка. – Слово за слово, так и разговорились… Потом стали встречаться. Она была артистка… но ей тогда пришлось нелегко из-за процесса.
– Какого процесса? – быстро спросила Амалия.
Севастьянов хмуро покосился на нее.
– Можете не воображать себе всякие ужасы, Натали там была вовсе ни при чем. Просто один ее знакомый… очень хороший знакомый… чиновник, уважаемый человек, в министерстве служил… попал под суд за растрату. Оправдаться ему не удалось, слишком о больших деньгах шла речь. Его осудили и приговорили к ссылке в Сибирь. Натали тогда очень переживала…
Амалия кивнула с понимающим видом. В переводе на язык реальности вся эта история звучала бы так: чиновник, уважаемый человек, который содержал Натали, из-за нее проворовался и отбыл в места, прямо скажем, достаточно отдаленные от нее, после чего сладкой жизни содержанки, разумеется, пришел конец. Но тут ей как нельзя кстати подвернулся неуклюжий провинциал, который был готов ради нее даже на большее, чем прегрешение против восьмой заповеди, той, которая звучит как «не укради». Потому что он был готов на ней жениться.
А Севастьянов рассказывал, какая Натали была красивая («немного на вас похожа», простодушно прибавил он), как все в Д. были от нее без ума, как она очаровала местное общество… И все было хорошо до того дня, когда она исчезла. Исчезла внезапно, он даже не мог подумать… Они отправились на вечер к его бывшей невесте, Ольге Пантелеевне, и Натали казалась такой веселой, такой оживленной… Она пожала ему руку, сказала, что выйдет ненадолго подышать свежим воздухом, и…
– Я думал, что сойду с ума… – бормотал Севастьянов, стиснув руки и глядя на огонь. – И сразу же стал искать того человека, Домбровского. Помнится, она увидела его в Д. и как-то странно обрадовалась встрече с ним… и я только потом понял, что это значило… Но он уже исчез, конечно, вместе с ней. Потом Марья Никитишна сказала мне, что видела их вдвоем незадолго до того вечера в лимонадной Шмайхеля и что Натали обещала ему куда-то прийти…
Амалия поморщилась и спросила:
– Марья Никитишна – это кто?
– Старая дама, местная сплетница… – ответил Севастьянов и, хотя его слова были чистейшей правдой, все равно сконфузился оттого, что опустился до невежливости. – Наверное, там они и условились о встрече… Все остальное вы уже знаете. Я ушел со службы, стал рассылать объявления в газеты… все думал, что, может быть, она вернется… бывает же иногда такое… Ведь вот и Любовь Осиповна тоже вернулась, – неожиданно прибавил он.
Амалия хотела, конечно, сказать, что Любовь Осиповна – особый случай, но поглядела на лицо своего собеседника и решила не растравлять его рану.
– Конечно, мне приходили письма в ответ на объявления… То дамы писали, пытаясь меня утешить, мол, моя жена не стоит того, чтобы о ней думать, то какой-то священник прислал целое нравоучение, что я должен радоваться испытанию и извлечь из него уроки… А сегодня…
Амалия слушала его и размышляла. История, рассказанная Севастьяновым, начала ее занимать. С одной стороны, положительный, несомненно неплохой, но скучный уже самой своей положительностью человек; с другой – красавица, бывшая артистка, бывшая содержанка, истинная femme fatale[39]; с третьей – какой-то гусар Домбровский, наверняка отчаянный молодец и еще более наверняка – прохвост, каких поискать; с четвертой – несуразные письма…
Да, вот письма, пожалуй, были интересней всего. Особенно второе.
– Скажите мне, только откровенно, – попросил Севастьянов. – У меня есть шанс, хотя бы один из тысячи, что я найду ее?
Амалия придерживалась того мнения, что Натали они, конечно, найдут, но только Степану Александровичу от этого вряд ли станет легче.
– Я думаю, – вывернулась она, – что если мы отыщем того гусара, то отыщем и Натали. Кстати, я хотела бы спросить у вас… Домбровский – польская фамилия, довольно распространенная, что не облегчит нам поиски, тем более что мы даже не знаем, из какого именно он полка. Вы ничего, кроме фамилии, о нем не помните?
Севастьянов задумался и наконец сказал, что имя гусара Натали при нем не называла.
– А сколько ему лет? Хотя бы приблизительно, – настаивала Амалия. – Вы ведь упоминали, что видели его.
Тут Степан Александрович подскочил на месте и объявил, что да, конечно, Домбровскому на вид примерно столько же, сколько и ему, то есть сейчас должно быть что-то около тридцати, максимум – тридцать с небольшим. Амалия записала данные на своем листке.
– Замечательно… Завтра я пошлю Дмитрия на телеграф, и, думаю, через несколько дней мы получим ответ.
– Благодарю вас, – искренне сказал Севастьянов.
Потом они сидели и пили чай, и Мышка, которая услышала шорох за обоями, внезапно поднялась с места и ускользнула куда-то. Вошла Лиза, принесла еще один чайник, справилась, не нужно ли чего-нибудь, и исчезла. Сумерки столпились в саду и заглядывали в окна, словно им было завидно, что там горит огонь в камине и на полу лежит старый, тонкого рисунка, ковер, а на ковре покоятся дамские ножки в золотистых туфельках с большими бантами. Амалия смотрела на банты и думала о женщине, привыкшей к расточительности и блеску, женщине, которой стало скучно и тесно в пыльном уездном городе, настолько тесно, что она согласилась бежать из дома с первым встречным.
– Домбровский был на том вечере? – внезапно спросила она.
Севастьянов вздрогнул.
– Нет, – ответил он.
Ну конечно же, нет… он ждал в роще неподалеку, с коляской наготове. Прелестница сбегает по ступеням, бежит через сад в рощу, садится в коляску… она запыхалась, она смеется… бросает рядом с собой заветную сумочку, или мешочек, или сверток с самыми дорогими вещами, которые она предусмотрительно захватила с собой из дома…
– Мне бы хотелось знать, какие именно вещи она с собой взяла, – проговорила Амалия. – Я имею в виду, когда бежала с тем гусаром.
Степан Александрович удивленно посмотрел на нее.
– Натали ничего с собой не взяла.
Хм, что-то новенькое… Но Амалия и виду не подала, как много значит на самом деле этот пустячок.
– Я имею в виду кольца, брошки и тому подобные вещи, – настаивала она. – То, что легко взять с собой и можно продать. Так что она забрала из дома?
– Ничего, я же говорю вам, – упрямо повторил Севастьянов. – Она бежала в том же, в чем и была, и ни копейки не взяла.
Под комодом послышалось царапанье и приглушенный писк. Через несколько секунд серая кошка выбралась наружу, неся в зубах убиенную мышь, и гордо положила свою добычу к ногам Степана Александровича.
Итак, Натали, содержанка, чьи прихоти довели до Сибири почтенного человека, оказалась настолько бескорыстной, что ничего не взяла из дома своего мужа. Сказать, что данное обстоятельство не понравилось Амалии, значит ничего не сказать.
– Простите, – проговорила она сухо, едва скрывая раздражение, – но так не бывает. Она просто обязана была что-то взять с собой… хотя бы подарки, которые ей дарил ее сибирский друг.
На скулах Севастьянова проступили алые пятна. По правде сказать, в то мгновение он вообще жалел, что поделился своими проблемами с баронессой Корф.
– Уверяю вас, я проверял все после ее исчезновения, – уже сердито сказал он. – В том-то и дело, что Натали ушла безо всего. И потом, нельзя же всех мерить на один аршин… Вот у доктора Никандрова тоже жена бежала и тоже ничего с собой не взяла.
Был ли это оптический обман или глаза Амалии в отблесках каминного огня ярко вспыхнули?
– Вот как? Значит, у доктора та же беда?
– Да, – подтвердил Севастьянов. – Мы разговаривали с ним на почте, как раз незадолго до того, как вы появились… и он все мне рассказал.
Серая кошка на полу сердито шевельнула кончиком хвоста. Ну почему, почему хозяин ее не погладит за то, как она постаралась? Почему он разговаривает с женщиной вместо того, чтобы сказать ей, Мышке, какая она молодец?
– Хм, интересно… – задумчиво обронила Амалия, но что именно интересно, уточнять не стала. – Очень интересно, хотя и… – Она поглядела на листок, на котором записала данные о Домбровском. – Вы не скажете мне девичью фамилию вашей жены? Если она и живет где-то, то, скорее всего, как раз под прежней фамилией.
– Ее фамилия Лапина, Наталья Георгиевна Лапина, – ответил Севастьянов. – Однако я не думаю, что в архивах военного министерства ваш муж сможет отыскать о ней сведения, – добавил он.
Амалия не стала объяснять собеседнику, что ее так называемому мужу доступны не только архивы военного, но и архивы полицейского министерства, в котором, собственно, он и служит. Раз любовник сей дамы проходил по делу о растрате, то ее имя наверняка должно упоминаться в архивах. Причем, может статься, не только в его деле.
– Ну что ж… Итак, когда я все разузнаю, сразу дам вам знать. А касательно писем… – Амалия поморщилась. – Надеюсь, мне не стоит вам объяснять, что не надо никуда посылать никаких денег. – Севастьянов кивнул. – Второе письмо я, с вашего позволения, пока оставлю у себя, потому что оно мне нравится еще менее, чем первое. Кстати, вы уже рассказывали кому-нибудь о письмах?
Севастьянов сглотнул.
– Нет. Тетушка бы стала беспокоиться, а… А больше у меня никого нет, – как-то беспомощно закончил он.
– Вот и хорошо, что вы никому о них не говорили, – одобрила Амалия и тут только заметила, что серая кошка аж вся извелась от того, что на нее не обращают внимания. – Степан Александрович, ну надо же, ваша кошка поймала мышь! Скажите, вы будете еще чаю? Да? Лиза! Неси сюда еще один чайник!
2
«Его высокородию Александру Богдановичу Зимородкову
В Санкт-Петербург
Невский проспект, дом Бергдорф
В собственные руки.
Дорогой Александр Богданович,
недавно я оказалась в положении Евгения Онегина, унаследовав от дальнего родственника приличное имение. Места самые идиллические, и соловьи поют… нет, это надо услышать, как я слышу сейчас. Однако к делу, Александр Богданович, к делу.
Если г-н Онегин сам себе придумывал приключения, то непонятно для чего ухлестывая за Ольгой, то стреляясь с Ленским, меня приключения находят сами. Сейчас такое приключение явилось в облике самого заурядного акцизного чиновника в отставке, от которого убежала жена. Положение осложняется тем, что ушла она не вчера, а почти пять лет назад. Однако у меня есть свои причины, и весьма веские, заинтересоваться той старой историей.
Поэтому я убедительнейше прошу вас навести справки о следующих лицах:
во-первых, собственно об убежавшей, Наталье Георгиевне Лапиной (по мужу – Севастьяновой), долгое время жившей в Москве. Там еще была какая-то история с растратой, непосредственно с ней связанная, причем лицо, уличенное в растрате, было сослано в Сибирь;
во-вторых, о том самом лице, находящемся в Сибири;
в-третьих, о некоем Домбровском, гусаре, который в начале сентября 188… года находился в Д. и с которым, собственно, бежала жена моего чиновника. О гусаре не известно ничего, кроме его фамилии, рода войск и приблизительного возраста – около 30 лет, возможно, чуть больше или чуть меньше.
Вот все, что я хотела бы знать на нынешний момент. Живя в моем новом имении, я отыскала записки прежнего хозяина, в которых он рассказывает между прочим об этой истории, и теперь она не дает мне покоя.
Я уже сделала кое-какие выводы, но пока они практически ни на чем не основаны, а для того, чтобы действительно разобраться в случившемся, мне нужны факты. Воздушные и песчаные замки, как вы знаете, хороши лишь для господ романистов, в нашем же деле поспешность может только навредить.
Напишите мне, как вы поживаете и как обстоят ваши дела. В жизни, к сожалению, нам нечасто приходится встречаться: то вы уезжаете из Петербурга по служебной надобности, то я скучаю в очередном санатории. Пока эпоха санаториев закончена, но уже осенью мне придется туда вернуться, и до осени я хочу завершить все свои дела здесь. Я пообещала чиновнику, что разберусь в его деле, и намерена сдержать свое слово.
Искренне к вам расположенная
Амалия Тамарина (в замужестве Корф)».
3
– Дмитрий! Будь так добр, отвези письмо на почту и пошли его заказным. – Амалия говорила и протягивала конверт слуге, который почтительно вытянулся перед ней в струнку. – Кстати, я давно хотела спросить. Ближайшая почта только в Д. или есть еще какая-то?
Дмитрий немного подумал и ответил, что, если барыня желает, он может отправиться в главный губернский город и отправить письмо оттуда. Пока Федот Федотыч будет здесь возиться, время пройдет, а из главного города дойдет быстрее. Правда, и ехать туда дольше – полдня уйдет, если быть точным.
– Да, голубчик, сделай одолжение, – сказала Амалия. – Вот тебе деньги на путь туда и обратно. Как привезешь квитанцию, зайди ко мне.
После чего Амалия отправилась к Лизавете и стала спрашивать у нее, кто из местных врачей лучше всего разбирается в легочных болезнях.
Лизавета сказала, что старый доктор Станицын пользуется у дам Д. большим успехом – хотя бы потому, что большинству из них помог появиться на свет. Однако земский врач Голованов ничуть ему не уступает, и, когда у нее, у Лизаветы, болели зубы, только Голованов ей и помог, а Станицын лишь три рубля взял за визит.
Амалия выслушала ее и велела седлать Мушкетера. Делать это пришлось Дмитрию, потому что, кроме него, в усадьбе больше мужчин не было.
«Да, тремя слугами я тут не обойдусь, – размышляла Амалия, отъезжая от крыльца. Солнце светило вовсю, и настроение у всадницы было отличное. – Нужны еще слуги, и управляющий, и садовник, чтобы розы судьи не погибли. Наверное, он хотел бы, чтобы я позаботилась о его цветах».
В дальней аллее на мгновение мелькнул олененок, поглядел на Амалию своими большими, полными любопытства глазами и исчез. Молодая женщина пустила лошадь крупной рысью.
Через некоторое время она уже входила в квартиру доктора Станицына. Больных на прием записывала бесцветная молодая особа с круглыми щеками и крошечным подбородком, которая невнятно отрекомендовалась дальней родственницей доктора.
– Я не хочу, чтобы меня видели другие больные, – капризно сказала Амалия. – Я пока посижу в библиотеке, хорошо?
Когда родственница явилась, чтобы звать баронессу к доктору, госпожа Корф сидела в глубоком кресле и с рассеянным видом просматривала «Календарь для врачей всех ведомств на 188… год», в котором значились фамилии тех, кто имел право заниматься в России врачебной практикой. Если бы родственница догадалась полюбопытствовать, что именно читала Амалия, то она бы заметила, что книга открыта в разделе московских докторов и по странному совпадению как раз на той странице, на которой красуется фамилия Владислава Ивановича Никандрова.
– Доктор готов принять вас, – сказала родственница.
Амалия зевнула, прикрыв рукой рот, небрежно захлопнула книгу, которая, по-видимому, ничуть ее не интересовала, и пошла вслед за молодой женщиной.
– А! – вскричал Станицын, едва завидев Амалию. – Госпожа баронесса! Как я рад вас видеть!
Прикрывая дверь, безымянная родственница видела, как «старый хрыч» (так она обыкновенно его про себя называла) даже встал с места и обогнул стол, чтобы приветствовать новую пациентку, в то время как прежде право на столь немыслимую честь имели лишь трое дам из Д. Не подозревая о том, в какое избранное общество она попала, Амалия лишь мило улыбнулась и протянула старому доктору руку для поцелуя.
Доктору Станицыну было около семидесяти лет. Внешностью он отчасти напоминал моржа или какое-то другое крупное, солидное животное. Он был грузный, величественный, с совершенно седой головой и хитро поблескивающими глазками. Не давая Амалии опомниться, местный эскулап сразу же затараторил о том, как в Д. негодуют по поводу возвращения Любови Осиповны и как восхищаются госпожой баронессой за то, что она не пошла у воскресшей вдовы на поводу и ясно указала ей, кто в Синей долине теперь хозяин.
– Про Тизенгаузена вы уже слышали? Обещал, обещал наш знаменитый адвокат приехать из Петербурга, как только закончит там очередной процесс. Вначале Любовь Осиповна хотела обойтись услугами Петра Ивановича, да он в последний момент что-то на попятную пошел. Хороший человек Петр Иванович, никак не хочет с вами ссориться, – гудел доктор, одобрительно поглядывая на Амалию.
Она слушала его, мило улыбаясь, а про себя думала, что ловкий Петр Иванович уже успел навести о ней справки, узнал кое-что о прежней ее деятельности и решил, что идти против столь влиятельной особы, как госпожа баронесса, себе дороже станет. Весь вопрос в том, захочет ли Тизенгаузен последовать его примеру. Амалия была наслышана о столичном адвокате, знала, что в случае процесса он не преминет вытащить наружу ее прошлое, и это ее совершенно не устраивало. Впрочем, она не сомневалась, что в случае чего ее служба сумела бы ее прикрыть – любая огласка была нужна им еще менее, чем ей.
– Так какие у вас жалобы, госпожа баронесса? – спросил доктор, с надеждой глядя на нее.
В ответ Амалия завела общий разговор о легочных болезнях, и в частности о чахотке. Доктор Станицын оживился. Конечно, другие врачи рекомендуют ослиное молоко, тресковый жир, прижигания и морфий, но если в случае с молоком он полностью согласен, то по поводу трескового жира…
Пожилой врач разглагольствовал четверть часа, а Амалия слушала, кивала головой, время от времени вставляла свои реплики и под конец поднялась с места, положив на стол три рубля. В сущности, то, что она вычитала в «Календаре для врачей», из-за которого и явилась к доктору, стоило означенной суммы.
– Вы не хотите, чтобы я вас осмотрел? – с явным разочарованием спросил Станицын.
– Как-нибудь в другой раз, – ответила Амалия с загадочной улыбкой.
Улыбка была настолько загадочной, что после ухода баронессы старый доктор задумался, уж не влюбилась ли в него новая хозяйка Синей долины. И, несмотря на явную фантастичность подобной мысли, он пришел в такое хорошее расположение духа, что под конец дня согласился даже бесплатно осмотреть маленького золотушного оборвыша, которого к нему принесла плачущая крестьянка из Рябиновки (крестьянка прождала пять часов в надежде, что он согласится ее принять, но это не значило ничего по сравнению с тем, что доктор сразу же определил причину болезни ее ребенка и прописал нужные лекарства).
От доктора Амалия направилась на почтамт, где дождалась, пока посетители разойдутся, и подозвала к себе почтмейстера.
– Скажите, Федот Федотыч, сколько писем приходило к Севастьянову раньше, до вчерашнего дня?
Почтмейстер явно изумился столь странному вопросу и даже начал бурчать что-то о тайне частной переписки, но тут Амалия вытащила из кармана бумажку, до странности похожую на ту, которую она вручила доктору, и положила ее на прилавок, прижав ладонью. Федот Федотыч скосил глаза на бумажку, торжественно кашлянул и как бы невзначай положил свою ладонь на прилавок возле ладони баронессы.
– Да уж несколько штук, почитай, было, – объявил он важно.
– Несколько?
– Четыре, – сдался почтмейстер. – Да, четыре. Одно – в марте, два – в апреле, еще одно – в мае. Это не считая тех двух, которые вы изволили упомянуть.
Амалия достала из кармана письмо с угрозой, которое сохранила у себя, и показала конверт Федоту Федотычу.
– Почерк на конвертах был тот же самый? – спросила она, а про себя подумала: если почерк был тот же самый, значит, Степан Александрович солгал и это не первая угроза, которую он получил.
Но Федот Федотыч только головой покачал.
– Нет, те письма другие были. Из Ялты.
Амалия убрала конверт обратно в карман. «Любопытно, – смутно помыслила она. – Очень любопытно. Отчего же Севастьянов не получил тех писем?»
Федот Федотыч кашлянул. Трехрублевая ассигнация, лежавшая на прилавке, словно по волшебству куда-то исчезла.
– Дайте мне газеты, – внезапно попросила Амалия.
– Слушаю-с, – почтительно молвил Федот Федотыч. – Какие именно вам угодны?
– Все подряд, какие есть, – распорядилась Амалия. – Мне сервиз надо перевозить, а там сорок восемь предметов. Если у вас остались старые газеты, их я тоже возьму.
Федот Федотыч оживился, засуетился, извлек из-под прилавка целую кипу газет и, слюня пальцы, посчитал их. Молодая женщина заплатила, не торгуясь, что почтмейстеру чрезвычайно понравилось. Он приосанился и разгладил усы.
– Должен вам заметить, госпожа баронесса, – неожиданно сказал Федот Федотыч, косясь на Амалию, – вы не первая, кто спрашивает у меня сегодня о письмах господину Севастьянову. До вас уже кое-кто насчет них справлялся.
Амалия и так знала, кто был тот таинственный «кое-кто». Однако ей хотелось, чтобы Федот Федотыч сам назвал имя. И почтмейстер, выдержав паузу, действительно назвал его.
4
– Как вы смели! Как вы… вы…
Степан Александрович задыхался. Перед глазами у него все плыло от ярости, лицо налилось кровью.
– Как вы могли? Да какое вы право имели?..
Настасья Сильвестровна испуганно вжалась в кресло, а он навис над ней, багровый, страшный, и потрясал огромным кулаком перед ее лицом. Перед лицом родной тетки, между прочим!
– Степан Александрович, – лепетала она, – побойся бога, что ты, право! Злые люди напраслину возвели!
– Напраслину? – взревел Севастьянов. – Когда Федот Федотыч совершенно определенно утверждает, что письма поступили к нему на почту и он отправил их, как и следует, обычным порядком на мой домашний адрес? Кто же тогда мог их украсть, тетушка? Может, лакей Андрюшка?
– Степан Александрович, миленький! – стонала Настасья Сильвестровна. – Богом клянусь…
– Оставьте бога в покое! – оборвал ее безжалостный Севастьянов. – Бог не потворствует лжи! Именно вы украли письма, вы! Потому что хотели, чтобы я никогда больше не увидел Натали!
– А что было делать? – взвизгнула тетушка. – Ты из-за этой дряни совсем голову потерял! А тут такая хорошая девушка, Вера Дмитриевна… Просто загляденье!
В каком месте пожелал видеть Веру Дмитриевну разъяренный акцизный в отставке, наверное, не стоит повторять вслед за ним. Но, если бы она и в самом деле там оказалась, ей бы точно не поздоровилось.
– Степан Александрович! – в ужасе взвыла тетушка, осеняя себя крестным знамением. – Что за слова ты говоришь!
Мышка, притаившись в углу, с тоской вслушивалась в рев хозяина. Бедный хозяин, как ему не шло быть таким красным и таким злым…
– Вы жили под моей крышей! – кричал Севастьянов. – Я считал вас порядочной, да, порядочной женщиной! А вы… вы… Вон из моего дома! – неожиданно рявкнул он. – Вон!
– Что? – опешила тетушка.
– Вон! И сейчас же! Если вы не уйдете, я вас вышвырну силой! – И еще раз повторил: – Вон!
Настасья Сильвестровна съежилась и поглядела в лицо племянника. Как она могла так ошибиться? Ведь она считала его малодушным тюфяком, рохлей, которого легко обвести вокруг пальца, как бывало легко обводить вокруг пальца ее собственного покойного мужа-майора. Майор тоже с виду был здоровый и сильный, а дома она выдрессировала его так, что он вел себя тише воды, ниже травы и даже умер столь же тихо, как и жил, не потревожив жену. Но в случае с Севастьяновым дрессура, похоже, дала сбой. Хотя не это волновало Настасью Сильвестровну теперь, а то, что надо покидать насиженное место, куда-то перебираться, суетиться… Вот уж чего ей страсть как не хотелось!
– Но ты же не станешь настаивать, чтобы я ушла прямо сейчас? – заискивающе пролепетала она.
– Стану! – огрызнулся тюфяк. – И чтоб духу вашего здесь больше не было!
Настасья Сильвестровна посмотрела племяннику в глаза, поняла, что он не шутит и теперь уже ни за что, никогда не простит ее, и с достоинством поднялась с места. Она разгладила складку на юбке и поискала, что бы такое сказать колкое, но эффектное, чтобы ужалить дорогого племянничка в самое сердце – так, чтобы и на смертном одре он не забыл ее слов. Подходящая фраза уже вертелась на кончике ее языка, но тут в сопровождении донельзя смущенного Андрюшки в комнату вошла ослепительная баронесса Корф в лиловой амазонке.
– Это она? – уронила Амалия. – Так я и думала.
– Она здесь больше не живет! – выпалил Степан Александрович и трясущейся рукой погладил кошку, которая испуганно смотрела на него, прижав уши. Лицо его мало-помалу начало обретать свой привычный цвет.
– Я бы на вашем месте проверила ее вещи, – сказала Амалия в пространство. – Неровен час, уходя, захватит что-нибудь из безделушек вашей жены. Кто способен украсть письмо, способен украсть что угодно.
– Да как вы смеете? – взвизгнула Настасья Сильвестровна.
Но Степан Александрович только посмотрел на нее и, оттолкнув Андрюшку, побежал в ее комнату…
Через четверть часа Марья Никитишна, занявшая стратегически выгодный пост напротив, в лимонадной немца Шмайхеля, видела, как заплаканная Настасья Сильвестровна выходит из дома, волоча за собой два чемодана. Ее племянник, чьи обычно ухоженные бакенбарды стояли сейчас дыбом, шел за ней и оглашал окрестности совершенно непотребными и несуразными воплями.
– Старая воровка! Два кольца и брошку сапфировую стащила и в игольницу спрятала! Воровка!
– Рогоносец! – злобно крикнула в ответ почтенная тетушка. – Чтоб ты пропал! Чтоб тебя холера стрескала, медведь проклятый!
Она плюнула в пыль и, таща за собой чемоданы, удалилась в направлении площади императора Николая. Там она взяла извозчика и с комфортом доехала до «Бель-Вю», по пути обдумывая, какими словами разукрасит племянника в разговоре с местными сплетницами. В чемодане к тому же лежали две серебряные вазочки, которые она – по чистой случайности, разумеется! – захватила из дома племянника, и мало-помалу Настасья Сильвестровна почувствовала, как к ней начинает возвращаться хорошее настроение. Вечером она напишет Лукерье Львовне письмо о том, что племянник Степа свалился в белой горячке, и напросится жить к ней в Петербург. К черту провинцию и провинциалов! Никакого ангельского терпения на них не хватит. Ты им делаешь как лучше, а они тебе кулак в физиомордию тычут! И, вспоминая, какими словами ее честил племянник Степа, Настасья Сильвестровна тихо всхлипнула от жалости к себе в расшитый кружевной платочек. Платочек тоже был не ее, но кто станет обращать внимание на такие мелочи, не правда ли?
5
– И выгнал ее из дому, представляете, Любовь Осиповна?
В этом месте своего рассказа Марья Никитишна сделала большие глаза, но Любовь Осиповна, хоть и издала приличествующее случаю бессвязное восклицание, в глубине души нисколько не сочувствовала Настасье Сильвестровне. Она вообще терпеть не могла старух – они достаточно успели досадить ей в жизни.
К дамам, по случаю отменной погоды сидевшим на веранде «Бель-Вю», приблизился рыжебородый Гаврила, хозяин гостиницы, и почтительно осведомился, не нужно ли чего. Вопрос был обращен скорее к вдове судьи, которая платила по счетам, не торгуясь, в то время как Марья Никитишна была известна всему Д. как особа, которая помнит все что угодно, но только не свои долги.
– Гаврила, – заискивающе обратилась к нему старушка, – печенье нам подали ужас какое твердое! Ты бы распорядился, чтобы принесли какое посвежее, что ли…
– Вам бы кашки, Марья Никитишна, а не печенья, – хладнокровно отвечал Гаврила.
Марья Никитишна злобно покосилась на него и высказалась в том духе, что она знала его мать и сестру, и обе были приличные женщины, только Гаврила не понять в кого пошел. Однако хозяин «Бель Вю» даже бровью не повел.
– Никита! Неси-ка счет, голубчик.
– Что за счет? – заволновалась Марья Никитишна, заметив ухмылку на лице полового.
– За кофий и конфеты, которые вы на прошлой неделе у нас стрескали, – отвечал подлец Гаврила. – С вас рубль сорок.
Марья Никитишна вскрикнула, прижала ладошку в митенке[40] к груди, объявила, что ее грабят при всем честном народе, просто режут ее без ножа, что конфеты были невкусные, а в кофе она обнаружила – вы только подумайте! – утопшего таракана.
– Ежели конфеты были такие невкусные, – отвечал Гаврила, которому поощрительная улыбка Любови Осиповны придала смелости, – что ж вы все их съели-то? Да и кофию тоже выпили две чашки, – без зазрения совести добавил он.
Марья Никитишна поднялась на ноги и, дрожа не то от старости, не то от праведного негодования, объявила, что она более ни минуты не останется в этом вертепе. И вообще мать Гаврилы, наверное, переворачивается в гробу, когда видит с небес все происходящее.
– Ну, ежели она вас видит, то, может, и переворачивается, – рассудительно заметил Гаврила.
Марья Никитишна замахнулась на него клюкой и, шипя и клекоча, как змея, которой прищемили хвост, удалилась прочь. По счету она, конечно, так и не заплатила.
– Спасибо тебе, Гаврила, избавил меня наконец от несносной особы, – сказала Любовь Осиповна, томно улыбаясь.
Гаврила поклонился и галантно объявил, что всегда рад исполнить любое ее желание.
– Что-то меня жара совсем разморила… – пожаловалась вдова. – Принеси-ка мне, дружочек, стакан лимонаду и к нему мороженого.
Гаврила сделал знак половому, и тот отправился выполнять заказ. Сам хозяин, завидев новых посетителей, подошел к ним. Это были Сергей Сергеевич Пенковский и его супруга.
– Что прикажете, сударь, и вы, сударыня?
– Ах! Гаврила! – вскричала Ольга Пантелеевна с таким выражением, словно видела его впервые в жизни. – Говорят, у тебя мороженое нынче знатное? Ну так неси, неси, неси!
Она обернулась и только теперь заметила Любовь Осиповну, которая критически разглядывала ее полосатое платье.
– Ах! Любовь Осиповна! Вы получили наше приглашение? Будете на нашем вечере?
– Непременно приходите! – поддержал супругу Сергей Сергеевич, лучась улыбкой. – Кстати, какие у вас новости от Тизенгаузена? Я бы хотел, чтобы он и мое дело взялся вести, – прибавил он.
– Какое дело?
– Да о том векселе. Согласитесь, почему я должен терять такие деньги?
– А вы что, их потеряли? – весьма двусмысленно осведомилась Любовь Осиповна. – Смотрите, Сергей Сергеевич, если дело дойдет до суда, я первая дам показания, что никакого векселя мой муж вам не давал!
Сергей Сергеевич, признаться, несколько переменился в лице после такого заявления, но тут же оправился и стал горячо заверять Любовь Осиповну, что событие то произошло уже после ее, пардон, скоропостижной смерти. Любовь Осиповна слушала его, томно щуря глаза, и только посмеивалась.
На веранде становилось все больше народу. Из своего номера спустился вниз доктор Никандров, появился Петр Иванович, поверенный, а немного позже зашла и Вера Дмитриевна в обществе своего старого дядюшки, отставного военного. Глуховатый дядюшка на все вопросы отвечал только «Да-с» да «Что-с?», но в особых случаях мог расщедриться на восклицания «Эх, нравы!» или краткое, но выразительное «Молодежь!».
– Вера Дмитриевна, голубушка! – вскричала Ольга Пантелеевна с улыбкой. – Вы получили пригласительные билеты? Так сегодня вечером приходите к нам с дядюшкой. Будет весело!
Ольга Пантелеевна улыбалась, потому что, раз Настасью Сильвестровну выставили за дверь, значит, Степан не женится на Вере. Но тут она заметила новую жертву – молодого человека с портфелем, в очках и с глубокомысленным лицом, который стоял внизу, на тротуаре.
– Максим Алексеевич! Как я рада вас видеть! Максим Алексеевич, вы придете к нам на вечер?
Ее муж, услышав эти слова, почему-то не выразил особого восторга.
– Оленька, ты что же, и судебного следователя собираешься пригласить? – сердитым шепотом спросил он. – На кой он нам нужен?
– А вдруг к нам воры влезут, как к Лопуховым? – возразила практичная Оленька. – К кому нам тогда обращаться придется?
Любовь Осиповна нахмурилась. Ей не нравилось, что жена какого-то акцизного чиновника стала вдруг царить здесь, на веранде, и забрасывала окружающих глупыми вопросами и неуместными шутками. Она решила, что надо во что бы то ни стало обратить на себя внимание, и тут весьма кстати в поле ее зрения появился здоровяк с бакенбардами, который как раз в то мгновение довольно сухо раскланивался с судебным следователем.
– Степан Александрович! – воскликнула Любовь Осиповна таким сердечным голосом, как будто только его и ждала все это время. – Не подниметесь к нам? Я так рада вас видеть!
Севастьянов стал отнекиваться, ссылаться на неотложные дела (которых у него, разумеется, не было), но отделаться от вдовы судьи было невозможно, тем более что по надутому лицу Оленьки она уже поняла, что удар достиг цели. Поэтому Любовь Осиповна встретила поднявшегося на веранду скучного здоровяка с широкой улыбкой и усадила его по правую руку от себя.
– Ну, рассказывайте, рассказывайте! – самым сердечным тоном велела она. – Как вы поживали тут без меня?
Степан Александрович замялся, пробормотал, что поживал он хорошо… то есть не то чтобы очень… хотя в целом все же хорошо… и все-таки без Натали ему совсем плохо. Он столько объявлений давал в газеты, чтобы разыскать ее, но беглянка как сквозь землю провалилась. Слушая его, Любовь Осиповна щурила глаза и поглядывала на Оленьку, которая сидела, надувшись, и ковыряла ложечкой мороженое.
– А вы знаете, Степан Александрович, – внезапно промолвила судейская вдова, – вам ведь вовсе не надо было объявления в газеты давать.
– В самом деле? – пробормотал здоровяк, глядя на нее во все глаза.
– Да, – подтвердила Любовь Осиповна. – Достаточно было у меня спросить, к примеру. Потому что я совершенно точно знаю, где находится ваша жена.
И она торжествующе улыбнулась, видя, как бедный Степан Александрович переменился в лице.
– Любовь Осиповна! – Он настолько забылся, что готов был схватить ее за руку. – Умоляю вас всем, что вам дорого… Если вы знаете, где она, – скажите мне!
– Нет, нет, – смеясь, ответила его собеседница. – Только не здесь, тут слишком много посторонних. И потом, это долгая история. Вы будете на вечере у Ольги Пантелеевны?
– Я? – оторопел Севастьянов, который совершенно не собирался никуда идти.
– Вот и прекрасно, – объявила Любовь Осиповна. – Там и поговорим.
Поскольку до нее дошли слухи, что несносная баронесса Корф, завладевшая ее наследством, для чего-то приходила сегодня к Севастьянову и даже присутствовала при изгнании его тетушки, Любовь Осиповна решила, что было бы нелишним перетянуть увальня Степана на свою сторону. Она торжествующе улыбнулась Оленьке, которая слышала весь их разговор, и принялась доедать свое мороженое.
6
«Милостивая государыня Амалия Константиновна. Я отправляюсь на вечер к Ольге Пантелеевне, потому что Любовь Осиповна обещалась мне рассказать, где Натали находится сейчас. Думаю, что вам больше не надо наводить справок о Домбровском. Поверьте, я совершенно искренне благодарен вам за все. Степан Севастьянов, акцизный чиновник в отставке».
Прочитав записку, Амалия только пожала плечами и стала вновь изучать ворох газет, купленный ею в Д. (как уже, наверное, догадался сообразительный читатель, никакого сервиза наша героиня на самом деле перевозить не собиралась).
– Нет, это не «Губернский вестник»… – бормотала она себе под нос, поглядывая то на газету, то на наклеенные буквы в письме, которое обвиняло Степана Александровича в убийстве жены. – И не «Петербургская газета»… там вообще нет таких крупных букв. – Амалия вздохнула. – Разве что «Новое время»… там заголовки яркие, броские… Да, и в самом деле похоже, что оно. А это что такое? Ого, в письме в слове «свою» буквы «с» и «в» разрезаны и поставлены отдельно, а между тем… между тем, судя по всему, они в газете тоже стояли в одном слове… Позвольте-ка…
И через четверть часа Амалия смогла вознаградить себя за упорство. В замызганном номере «Нового времени» она отыскала два исходных заголовка, из которых неизвестный шантажист составил свое послание. Первый заголовок гласил: «Либо свет, либо тьма», причем автор статьи, которая шла после него, весьма критически высказывался об освещении столичных улиц и даже дерзал делать намеки на некоторые высокопоставленные фамилии. Вторая статья называлась «Нужны ли народу юмористы», причем рассуждал на данную тему, как водится, писатель, который в жизни не написал ни одной смешной строчки.
– Гм, ну что ж, у нас уже кое-что прояснилось, – сказала себе Амалия Константиновна. – Наш аноним, стало быть, читает «Новое время» и, вероятно, собирает его номера… Сей вывод можно сделать по той простой причине, что газете с заголовками, откуда он вырезал буквы, исполнился уже месяц. Любопытно, кто в благословенном Д. выписывает эту газету?
Конечно, читатель вправе спросить, при чем тут Д., если письмо было отправлено из Серпухова? Но Амалия имела свои резоны не верить почтовому штемпелю. По ее мнению, за письмом стоял кто-то, кто хорошо знал Степана Александровича, кто-то, кого он, может быть, каждый день приветствовал на улице. А что Серпухов – так либо знакомый автора туда ехал, и его попросили опустить там письмо, либо, что еще проще, тому же знакомому переслали письмо в конверте и попросили отправить его по назначению.
«В первом письме, – размышляла Амалия, глядя на огонь, – нет ровным счетом ничего мистического, это обыкновенная мошенническая проделка… А вот второе…»
Она и сама не могла понять, почему, но именно второе письмо больше всего тревожило ее. Угроза? Предупреждение? Или действительно чья-то жестокая шутка? К примеру, бывшая невеста Севастьянова вполне могла бы… Интересно, ее муж выписывает «Новое время»? Наша героиня в нетерпении сорвалась с места и заходила по комнате. Столько вопросов, и хоть бы один ответ!
7
– Добрый вечер, Степан Александрович…
Он неловко поклонился. Фрак зловеще крякнул где-то в швах, и Севастьянов поспешно распрямился.
– Степан Александрович! – К нему уже шла сияющая Оленька. – Как я рада вас видеть!
Хозяйка вечера тотчас же вцепилась в него и повела знакомить с гостями, которых он каждый день встречал в городе, а заодно хвастаться убранством дома и своим супружеским счастьем. Глаза Оленьки ярко блестели, на щеках цвел восхитительный румянец (отчасти естественный, отчасти умело созданный при помощи парижской косметики). Мол, ну что, Степанушка, видишь, чего ты лишился? Мог бы быть женат на образцовой женщине, и она вела бы хозяйство, устраивала вечера, на которые приходит весь цвет Д., и все бы тебе завидовали… а вместо того связался ты, Степанушка, не понять с кем, и опозорили тебя на весь околоток… Оленька, думая об этом, неприлично громко смеялась и кокетливо пожимала локоть Севастьянова, который уже и не знал, куда от нее деться.
– Владислав Иванович, добрый вечер!
– Добрый вечер, сударь… Однако, сударыня, вы просто очаровательны! Разрешите потом станцевать с вами?
– Конечно, конечно, Владислав Иванович! Ах, Верочка! И ваш дядюшка здесь!
– Что-с?
– Мы так рады вас видеть!
– Молодежь!
– Максим Алексеич! Вы все-таки нас не забыли… Ах, какой вы сегодня франт! Федот Федотыч, не забудьте про наше угощение, вам наверняка понравится! Петр Иванович! А вот и наш любимый доктор Станицын! Как поживаете, доктор?
Севастьянов хмуро покосился на следователя, который в свое время ему долго объяснял, что современная женщина имеет право определять, с кем ей жить, мол, нынче не каменный век, так что он, Чечевицын, ничем не может ему помочь. Вообще водоворот гостей не вызывал у Степана Александровича ничего, кроме раздражения. Он отошел от Оленьки, которая строила глазки одновременно обоим докторам, Станицыну и Никандрову, и нечаянно со всей силы наступил каблуком полуштиблета на ногу Пенковскому. Тот тихо взвыл и пошатнулся.
– Простите, ради бога, – пробормотал Севастьянов, чувствуя мучительную неловкость. – Я… я хотел бы знать, Любовь Осиповна уже здесь?
Сергей Сергеевич, чье лицо еще было искажено от боли, только молча махнул рукой куда-то в сторону сада. Степан Александрович кивнул головой и двинулся туда.
Он хотел прийти к самому началу праздника, но фрак куда-то запропастился, и, пока Андрюшка искал его в сундуках с вещами, а потом чистил и гладил, прошло столько времени, что Севастьянов совсем уже отчаялся. Наконец он влез во фрак, который оказался ему узковат, и по плохо освещенным улицам поспешил в дом Пенковских. Идти, впрочем, было совсем недалеко – всего каких-то десять минут.
Кое-как он отвязался от Федота Федотыча, которому во что бы то ни стало приспичило поделиться с ним своими впечатлениями от хозяйки дома, миновал несколько комнат, где ему встретилась одна только бледная, апатичная горничная, и по ступеням сбежал в сад, где надрывался соловей и тонко попискивала какая-то птичка.
– Любовь Осиповна!
Соловей умолк. По верхушкам деревьев пробежал ветерок, и Степан Александрович невольно поежился.
– Любовь Осиповна! Это я, Севастьянов…
Впереди была только темная аллея, которая доходила до ограды, и белая облупившаяся чаша фонтана. Сколько помнил Степан Александрович, фонтан тот работал разве что по большим праздникам, и то с неохотой.
– Любовь Осиповна! – Севастьянов шагнул вперед по аллее.
Конечно, думал он, ей просто стало скучно, и она ушла. Что за глупый вечер! И какое фальшивое, жеманное у Оленьки лицо, как у старой девы, честное слово… все она пытается изобразить ту непосредственную и юную, которая так пленила его когда-то, но ничего не получается, не выходит, не…
Он споткнулся на мысли, как спотыкаются о камень. В заполненной на треть чаше фонтана лицом вниз плавало чье-то женское тело. Темная юбка намокла и облепила ноги. Машинально Степан Александрович отметил, что на одной из них нет туфли.
Преодолев внезапно нахлынувшее отвращение, он подошел к телу и перевернул его лицом вверх.
– Нет… – пробормотал Севастьянов, не веря своим глазам, – этого не может быть…
Глава 4 Концы в воду
Блажен, кто делит наслажденье,
Умен, кто чувствовал один,
И был невольного влеченья
Самолюбивый властелин.
«Евгений Онегин», глава четвертаяМой друг пылал от нетерпенья
Избавиться навек ученья;
Большого света блеск и шум
Давно пленяли юный ум.
«Евгений Онегин», глава первая1
– Все ясно, – сказал Владислав Иванович. – Exodus letalis.
– Простите? – переспросил следователь Чечевицын.
– Летальный исход, – объяснил доктор. – Наступивший, как я могу сказать уже сейчас, вследствие удушения, после чего труп несчастной бросили туда, где его нашел господин Севастьянов.
Он покосился на тело Любови Осиповны, которое уже извлекли из чаши фонтана и положили на землю неподалеку. Вторая туфля убитой была найдена на садовой дорожке, и теперь следователь держал ее в руках. Подумав, он решил, что улика ценная, и на всякий случай спрятал туфлю в портфель.
Шагах в десяти от трупа Любови Осиповны располагалось еще одно тело, подававшее, впрочем, некоторые признаки жизни. Принадлежало оно почтенному доктору Станицыну, которого Степан Александрович призвал на помощь, едва обнаружил свершившееся злодейство. Впрочем, никакой помощи Станицын оказать не смог, ибо, завидев труп, покачнулся и, невнятно что-то пробормотав, самым позорным образом грохнулся в обморок. Сейчас возле него суетились Оленька и Вера Дмитриевна, и обе попеременно подносили к его носу то уксус, то нюхательную соль. Сам Степан Александрович стоял возле них, переводя взгляд с фонтана на убитую. Выражения его лица Чечевицын понять не мог.
– Что здесь происходит? – неожиданно раздался голос.
Следователь поднял глаза. В саду появилось новое лицо – дама в лиловой амазонке, а за ней семенил крайне встревоженный Сергей Сергеевич Пенковский. Едва заметив тело, Амалия остановилась, но тотчас же вновь двинулась вперед.
– Прошу прощения, сударыня, – сказал Максим Алексеевич, загораживая ей дорогу. – Сюда нельзя, здесь имело место преступление.
Он и сам не понял, что произошло, но Амалия отодвинула его взглядом, как ловкий фокусник отодвигает при зрителях какую-нибудь вещь. Судебный следователь Чечевицын не был вещью, и такое обращение ему вряд ли могло понравиться.
– Что тут случилось? – спросила Амалия тяжелым голосом. На хозяина дома она не смотрела.
Владислав Иванович рассказал, что exodus letalis произошел по причине задушения, потому что на горле несчастной остались следы. Затем тело бросили в чашу фонтана, где его и нашел Степан Александрович.
– А когда именно, доктор, вы можете сказать? – вмешался Чечевицын. – Время преступления крайне важно знать для установления alibi присутствующих, – строго добавил он.
– Позвольте, – вскинулся Сергей Сергеевич, которому все происходящее было крайне не по душе, – вы что же, обвиняете в убийстве нас?
– Я пока никого не обвиняю, – спокойно возразил Максим Алексеевич. – Так когда именно это случилось, доктор?
Владислав Иванович замялся, потрогал тело и после некоторого раздумья объявил, что смерть наступила не ранее двадцати пяти минут назад. Следователь глубокомысленно кивнул.
– Благодарю вас, доктор.
Лежащий на земле Станицын тихо застонал и открыл глаза.
– Слава богу, с вами все в порядке! – воскликнула Вера Дмитриевна. – А то мы уже начали волноваться. Вы так долго не приходили в себя…
Станицын попытался встать, но ноги не держали его, и он со стоном опустился обратно на землю.
– Сережа, ну помоги же ему! – сердито воскликнула Оленька.
Совместными усилиями грузного доктора кое-как подняли и отвели в дом, причем Сергей Сергеевич поддерживал его с одной стороны, а Севастьянов – с другой. Шествие замыкали Вера Дмитриевна, которая несла шляпу доктора, и Оленька, которая несла нюхательную соль.
Максим Алексеевич поглядел им вслед, перевел взгляд на мертвую Любовь Осиповну, мокрые волосы которой сбились на сторону, и покачал головой.
– Да, темное дело, – уронил он. – Поразительно, только что она вернулась в город, была полна таких надежд, и вот все кончилось… Интересно, у кого имелись причины от нее избавиться? – он задумчиво покосился на даму в лиловой амазонке.
Амалии не понравился его намек, тем более что она отлично знала: дело о наследстве тут совершенно ни при чем. Но, так как наша героиня за словом в карман никогда не лезла, то она и сейчас не стала колебаться с ответом.
– Я полагаю, у того, кто ее убил, – произнесла она спокойно. – Найдите этого человека, и он вам все расскажет.
После чего повернулась и пошла в дом, по пути сердито сбивая хлыстом ни в чем не повинные верхушки садовых растений.
2
– Она успела сказать вам что-нибудь? – были первые слова Амалии, когда она вновь увидела Севастьянова.
Степан Александрович с удивлением взглянул на нее.
– О Натали? Нет. Когда я нашел ее, она была уже мертва.
– Понятно, – сказала Амалия. – Еще один вопрос. Когда она обещала рассказать вам, где находится ваша жена, кто-нибудь мог слышать ваш разговор?
Севастьянов побледнел, покраснел и наконец признался баронессе, что разговор имел место на открытой веранде «Бель Вю», так что любой, кто находился поблизости, мог его слышать.
– Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили всех, кто находился поблизости, – заявила Амалия. – Не обязательно сейчас, но я должна знать, кто там был.
– Значит, вы считаете, что Любовь Осиповна… – медленно начал Севастьянов. – Ее убили потому, что кто-то не хочет, чтобы я нашел свою жену? – Он покачал головой. – Но ведь это абсурд!
Амалия не стала его разубеждать. Мельком поглядев на доктора Никандрова, который у окна пил коньяк, она подошла к Федоту Федотычу. Отчего-то, завидев ее, почтмейстер расплылся в счастливой улыбке и склонился так низко, словно перед ним была не баронесса Корф, а по меньшей мере особа царствующего дома.
– Федот Федотыч, – без обиняков начала Амалия, – мне бы хотелось узнать у вас, кто в Д. выписывает «Новое время». Есть здесь такие жители?
– Есть, – с готовностью подтвердил почтмейстер.
– Кто именно?
Федот Федотыч сделал паузу, во время которой рука баронессы успела незаметно побывать в его кармане. Почтмейстер сунул руку в карман, убедился, что в нем находится приятная на ощупь бумажка, и приосанился.
– Шестнадцать человек, – объявил он, после чего перечислил имена. Среди подписчиков, как выяснила Амалия, были доктор Станицын, поверенный, Сергей Сергеевич Пенковский, а также… А также еще Степан Александрович, – докончил почтмейстер, глядя на Амалию полным обожания взором.
«Черт побери!» – гулко промолвил противный голос в голове молодой женщины. «Позвольте, а что, если он сам себе послал второе письмо?» – задала она вопрос самой себе.
Амалия впилась в Севастьянова взглядом. Что, если такой положительный с виду, флегматичный человек, примечательный разве что своими бакенбардами, просто-напросто беззастенчиво дурачит ее? Но зачем? Что за дьявольскую игру он затеял, если это и впрямь был он?
Амалия услышала чей-то почтительный кашель – и вздрогнула. Возле нее стоял старичок лет шестидесяти, совершенно лысый, с усами штопором и со Станиславом в петлице. Он шаркнул подагрической ножкой и громко объявил, что имеет честь лицезреть новую богиню. Амалия вопросительно поглядела на почтмейстера.
– Андрей Силантьич, дядюшка Веры Дмитриевны, – поторопился представить их друг другу Федот Федотыч. – А это, гм, баронесса Амалия Корф.
Старичок заулыбался, повторил: «Богиня!» – и почтительно пожал тонкую руку в перчатке.[41]
А доктор Станицын в то же время мешком сидел на угловом диване, его лицо все еще было очень бледно. Он не выносил вида мертвых, хоть при его профессии ему и следовало бы относиться спокойнее к таким вещам, как смерть и разложение. Заметив вошедшего в гостиную судебного следователя, он дернул ртом и ослабил слишком тесный ворот сорочки.
– Сударь, – вскинулся хозяин дома, – если вы не возражаете, мы хотели бы разойтись. Просто кощунство оставаться здесь, когда произошло такое несчастье…
Максим Алексеевич поглядел на стоявшего рядом Петра Ивановича, поверенного, и тот понял, что значит его взгляд.
– Вы хотите допросить нас в качестве свидетелей? – очень вежливо молвил Калмин. – Но сейчас уже поздно, и к тому же время для допроса не самое подходящее… не говоря уже о том, что в доме находилось столько людей…
– Вы правы, – на удивление легко согласился следователь. – Поэтому я прошу вас всех просто сесть и написать, что вы помните о Любови Осиповне, а также не заметили ли вы во время вечера чего-нибудь подозрительного. И я сразу всех отпущу.
Поверенный нахмурился.
– Должен сказать, я вовсе не уверен, что ваши действия законны… – начал он.
– Вы так говорите, Петр Иванович, будто вам есть что скрывать, – спокойно парировал следователь, и, к своему удивлению, Амалия заметила, как поверенный стушевался.
– А что именно нам писать? – капризно спросила Ольга Пантелеевна.
Следователь на мгновение задумался.
– Давайте сделаем так. В начале вы пишете: «Мая месяца восемнадцатого числа 188… года, я, нижеподписавшийся, свидетельствую, что…» Далее излагаете все, что помните о Любови Осиповне. Как она пришла сюда, как вела себя, не заметили ли вы чего-либо странного, и так далее. В конце показаний ставите подпись. Потом я вызову вас для допроса, если понадобится.
Ольга Пантелеевна кликнула горничную и велела ей принести бумаги и чернил на всех.
– Только, пожалуйста, уберите ее оттуда поскорее, – смущенно потупясь, попросила хозяйка дома. – Просто ужасно, что она лежит там, и…
С точки зрения Оленьки, ужасным было, конечно, то, что судейская вдова имела несчастье преставиться именно в ее саду, но так как госпожа Пенковская была хорошо воспитана, вслух она свои мысли не высказала.
– У вас есть какие-то версии? – внезапно спросил Калмин у Чечевицына.
– Есть, – подтвердил тот. – Я осмотрел сад, и мне кажется, я знаю, откуда пришел убийца. Но мне нужна ваша помощь, господа.
Амалия не без оснований полагала, что никакой помощи Чечевицыну никто не окажет, потому что всем больше всего хотелось оказаться дома. Тем не менее она отошла в простенок между окнами, выбрав место с таким расчетом, чтобы видеть оттуда большинство пишущих.
Доктор Станицын, кривя губы от отвращения, написал, что Любовь Осиповна сказала ему «Добрый вечер» и заговорила с Федотом Федотычем. Федот Федотыч, прилежно скрипя пером, каллиграфическим почерком заполнил полстраницы, из которой следовало, что покойная была в восторге от местной погоды. Степан Александрович, дергая бакенбарду, думал, как выразить то тягостное чувство, которое он ощутил, увидев в фонтане труп, и ничего так и не надумал. Петр Иванович Калмин, по привычке полагая, что все сказанное следствию может быть потом использовано против свидетеля, сослался на то, что не видел убитую или не обратил на нее внимания, а потому и ничем не может помочь. Вера Дмитриевна вполголоса переговаривалась с глухим дядюшкой, который по-прежнему косился на Амалию до неприличия горящим взором:
– Андрей Силантьич, надо написать, что именно мы помним о Любови Осиповне! Понимаете? Максим Алексеич просит!
– Что-с?
– Любовь Осиповна! Вы же с ней разговаривали! Помните?
– Молодежь! – вздохнул старик.
Вера Дмитриевна с отчаянием махнула рукой и стала убористым почерком заполнять листок. Что-то в этом листке привлекло внимание Амалии, и она подошла ближе.
– А вы, сударыня, почему не пишете? – Въедливый Максим Алексеевич каким-то образом уже очутился возле нее. – Полагаю, вас моя просьба тоже касается.
– Я приехала уже после того, как женщина была убита, – холодно ответила Амалия. – Право же, не понимаю, чем я могу вам помочь.
– И вам, конечно же, неизвестна причина, по которой ее могли убить?
– Устанавливать причины – дело следствия, – отозвалась Амалия, пожимая плечами. – Боюсь, я тут бессильна.
Чечевицын нахмурился. Чем-то женщина в лиловом неуловимо раздражала его, хоть он и старался быть как можно объективнее к людям. Но, на его взгляд, от богатой петербургской дамы так и веяло высокомерием, не говоря уже о том, что у нее единственной из всех присутствующих как раз и была веская причина раз и навсегда избавиться от Любови Осиповны.
А Амалия смотрела на Севастьянова, который исписывал уже вторую страницу, и думала, правильно ли она поступает, доверяя ему, человеку, который показался ей таким простым и искренним. Ведь она всегда знала, что нет ничего обманчивее внешности.
«Во-первых, странным кажется уже бегство Натали с пустыми руками, в неизвестность. Во-вторых… Во-вторых, он явно не так прост. У него было страшное лицо, когда он обрушился на тетку… Затем газета… да… Но письмо, которое обвиняет его в убийстве? К чему оно? И почему все-таки Серпухов? Интересно, есть ли у него знакомые в Серпухове?»
Один за другим гости отдавали исписанные листки следователю, который благодарил их, пробегал глазами показания и обещал, если что, вызвать их повесткой для более подробного разговора. Гости ежились от одного упоминания о возможном допросе, но Максиму Алексеевичу все было хоть бы хны: в качестве представителя закона он был неумолим.
– Значит, вы ничего не помните? – спросил он у Калмина, который написал самые короткие показания.
– Вы же сами были на вечере, – парировал поверенный. – Многое вы успели заметить? Может быть, вы видели, кто ее убил? Тут было столько народу, что…
Максим Алексеевич задумчиво покусал нижнюю губу. И в самом деле, помыслил он, надо будет хорошенько покопаться в памяти. К примеру, господин Севастьянов, который старательно искал убитую, выглядел не то чтобы подозрительно, но довольно интригующе. Сам Севастьянов, кстати, уже стоял перед ним и с робостью, странной в таком могучем человеке, протягивал два мелко исписанных листа.
«Что такое, зачем?» – ужаснулась Амалия, заглянув в них.
– Так… очень хорошо… – пробормотал Чечевицын, просмотрев показания. – Значит, вы пришли нарочно, чтобы узнать от убитой о своей супруге?
Амалия сделала нетерпеливый жест. Зачем, ну зачем Севастьянову надо было об этом писать? Ведь от такого признания всего полшага до подозрения в убийстве.
– Да, Любовь Осиповна обещала мне… – начал Степан Александрович и умолк.
Чечевицын строго посмотрел на него и поправил очки.
– На вашем месте, милостивый государь, я бы не уезжал далеко из города, – внушительно проговорил он.
По лицу Севастьянова разлилась краска, он тяжело задышал и вскинул подбородок.
– Вы что же, подозреваете меня?.. – начал он.
– Что-с? – скрипучим голосом спросил дядюшка Веры Дмитриевны. Кроме него с племянницей, Амалии, следователя и Степана Александровича, в комнате больше никого не оставалось.
– Дядюшка! – плачущим голосом одернула его племянница.
– Так все из-за его жены? – продолжал Андрей Силантьич. – Верно, говорила мне покойница про нее! Мол, бедный Степан Александрович весь извелся, а только зря, потому как жена без него поживает прекрасно. В Париже, сказала, в прошлом году мимо нее в богатом экипаже прокатила, да еще и вид сделала, будто знать ее не знает, изображала родства не помнящую, а сама когда-то все в гости напрашивалась и вообще…
– Дядюшка! – воскликнула Вера Дмитриевна. – Как вы могли слышать, что Любовь Осиповна вам сказала? Ведь вы же… вы же… – Девушка запнулась.
– Что-с? – спросил дядюшка и посмотрел на нее строго. – Молодежь!
Амалия живо обернулась к старику, и следователь поразился выражению ее лица.
– Что? – вырвалось у молодой женщины. – Так Любовь Осиповна видела ее в Париже? В прошлом году?
– Ну да, – подтвердил Андрей Силантьич, счастливый тем, что в кои-то веки хорошенькая женщина обратила внимание на его подагрическую персону. – Ведь Любовь Осиповна сама там жила, со своим кавалером… Нравы!
3
– По-моему, он все придумал, – сказала Амалия упрямо, когда они с Севастьяновым возвращались от Пенковских.
Мушкетера молодая женщина вела в поводу. Городок давно уже спал, и цокот копыт лошади был единственным звуком, который нарушал царившую вокруг тишину.
– Придумал? – поразился Степан Александрович. – Но зачем?
– А может быть, просто не так расслышал, – продолжала Амалия. – Однако мне вся эта история крайне не по душе.
Севастьянов остановился. В сумерках она видела лишь, как блестят его глаза. Мушкетер вздохнул и ткнулся носом в плечо Амалии.
– Скажите честно, – заговорил Степан Александрович, и голос его (то ли от ночного мрака, то ли от волнения) звучал как-то глухо. – Вы считаете, Любовь Осиповну убили из-за того, что она знала, где моя жена?
Амалия покачала головой и призналась:
– Пока я вообще не знаю, что и думать. Полагаю, как только на мой запрос придет ответ, мы с вами сможем отыскать Домбровского и от него узнаем, что стало с вашей женой.
– Ничего хорошего, – внезапно заявил Севастьянов. – Она пошла по рукам, вот и все. А гусара давно бросила – точно так же, как бросила меня. Но я, глупец, на что-то надеялся, верил…
Он не договорил, однако Амалия и так поняла, что он имеет в виду.
– Уже поздно, – внезапно сказал Степан Александрович. – Вам нельзя в темноте возвращаться в Синюю долину. Там дорога нехороша, ночью можно упасть с лошади. Если вам угодно, я могу проводить вас до «Бель Вю», Гаврила Модестыч предоставит вам ночлег.
– Да, разумеется, – согласилась Амалия, думая совсем о другом. – Надо будет им сказать, чтобы задали Мушкетеру овса.
У входа в гостиницу они столкнулись с рыжим Антошей. Завидев Амалию, юноша так смутился, что все его веснушки буквально вспыхнули.
– Антон, скажи дяде, что баронесса Корф переночует у вас, – проговорил Севастьянов. – И пусть о лошади как следует позаботятся.
– Ты что же, теперь при гостинице состоишь? – спросила Амалия, когда Степан Александрович ушел.
Веснушчатый юноша застенчиво кивнул. И после небольшой заминки объяснил:
– В лавке несчастье случилось.
– Несчастье? – насторожилась Амалия. – Что за несчастье?
– Я на портрет государя чай опрокинул, – признался Антон. – Пропал портрет, совсем пропал. А папенька на меня накричал, что я погибели его хочу.
Амалия поглядела на его сокрушенное лицо, и ее неудержимо потянуло расхохотаться. Но она знала, что это обидит Антона, и героическим усилием сумела сдержаться.
– Сейчас в гостинице уже не топят? – спросила она.
– Нет, – ответил Антон, – но если вам угодно, я могу распорядиться.
– Да, – сказала Амалия. – В мае бывают холодные ночи, и мне не хотелось бы простудиться. За беспокойство я заплачу, не волнуйся.
– Что вы, какое беспокойство! – возразил юноша и, радуясь, что дядя Гаврила уехал по делам на какую-то ярмарку и он, Антоша, единолично может отдавать приказы, побежал распоряжаться.
4
Когда Амалия утром вернулась в Синюю долину, Дмитрий доложил, что для нее пришла телеграмма, а кроме того, с нарочным прибыло письмо. Узнав на конверте почерк Зимородкова, телеграмму Амалия покамест отложила и принялась за чтение ответа, который ей прислал ее друг.
Следует отметить, что Зимородков на редкость дотошно выполнил просьбу Амалии. В письме он перечислил всех Домбровских, которые служили в армии, с названиями полков и описанием мест нынешней дислокации тех самых полков. Всего людей с такой фамилией набралось сорок шесть человек, причем гусар среди них насчитывалось четверо. Двум из них, братьям, было соответственно двадцать два и двадцать три года, еще один был полковник сорока восьми лет от роду, и, наконец, возраст четвертого гусара Домбровского в настоящее время не имел значения, потому что он в прошлом году умер от перитонита. Впрочем, как уточнил Зимородков, последний Домбровский все-таки дожил до тридцати девяти лет.
Таким образом, ни один из перечисленных в письме людей никак не подходил на роль неизвестного похитителя Натали, и Амалия, подавив досаду (которая накатывала на нее всякий раз, когда сложное дело поворачивалось не так, как она рассчитывала), стала читать дальше.
«Что касается вашей госпожи Лапиной (в замужестве Севастьяновой), то сия особа успела оставить по себе довольно значительный след в наших архивах. Что только она ни выдумывала, дабы не выступать свидетельницей на процессе господина Перепелкина, каковой процесс, конечно же, мог нанести серьезный ущерб ее репутации. Потому что именно из-за нее вышеозначенный г-н Перепелкин сначала влез в долги, а потом и вовсе стал употреблять не по назначению казенные деньги, желая обеспечить даме сердца вояжи в Париж и Баден-Баден, хорошо обставленную квартиру в Москве, собственный выезд и т. д. В конце концов все открылось, и получился грандиозный скандал. Замять дело не удалось, хотя Перепелкин и клялся, что вернет деньги, мол, на него нашло временное затмение и т. д. Следует отметить: несмотря на толки о затмении и прочих астрономических явлениях, он до последнего покрывал свою любовницу, чтобы она пострадала как можно меньше. Ни к чему хорошему, разумеется, его поведение не привело. Постановлением суда он был признан виновным и приговорен к ссылке в Тобольск, откуда принялся слать виновнице своего жизненного крушения многочисленные письма. По нашим сведениям, он приглашал ее ехать к нему разделить его судьбу, но Наталья Георгиевна отчего-то не поспешила ответить согласием на сие предложение. Проведя в ссылке несколько лет, ссыльный неожиданно бежал в начале этого года.
В данное время Вениамин Александрович Перепелкин находится в розыске, но так как он всего лишь растратчик, а не лицо, представляющее опасность для государственного строя, нельзя сказать, чтобы искали его особенно усердно. Скорее всего, он либо скрылся за границу, либо проживает где-то по чужому виду. Его жена Нина Антоновна, его отец и родственники (мать умерла в декабре прошлого года) утверждают, что не знают, где он находится, и что они не имели от беглеца каких-либо вестей. Их показания были подтверждены показаниями дворников[42] и прислуги. Насколько им можно верить, я полагаю, вы понимаете не хуже меня».
Дальше в письме были довольно подробно перечислены приметы беглого Перепелкина, а также прилагалась биография Натали, взятая из архива сыскного отделения.
Судьба женщины оказалась вполне обычной для ее круга: отец бросил мать, которая растила дочь совершенно одна, потом у красивой девушки появился первый покровитель, второй, третий… Она пыталась выступать на сцене, но, хоть и называла себя артисткой, таланта у нее не было никакого. История с Перепелкиным наделала много шума, его семья возбудила против нее процесс и потребовала продать квартиру и выезд, чтобы хоть как-то покрыть нанесенный казне урон, газеты стали рисовать на нее карикатуры и открыто называть камелией[43]. Словом, только ленивый не бросил в нее камень. И тут на ее жизненном горизонте появился бесхитростный, не слишком богатый, но зато надежный провинциал, в котором она увидела свое спасение. А потом был вечер у Оленьки Пенковской и исчезновение Натали, которое чем дальше, тем сильнее тревожило Амалию.
Она вздохнула и стала вновь читать бесполезный список Домбровских, который, судя по всему, ничем не мог ей помочь.
Вошла Лиза и объявила, что явился господин Севастьянов и спрашивает, может ли она его принять.
– Пешком? – буркнула Амалия.
– Нет, на двуколке прибыл, – несколько удивившись вопросу, ответила горничная.
Через минуту Степан Александрович уже входил в гостиную, держа под мышкой серую кошку. Едва поглядев на его лицо, Амалия уже знала, что он ей скажет.
– Я получил сегодня еще одно письмо с буквами из газеты, – сообщил Севастьянов после того, как они обменялись обычными приветствиями. И протянул Амалии конверт с отпечатком чьего-то грязного пальца.
Развернув его, Амалия извлекла листок, на котором значилось:
«ТЫ УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ, НО ТЕБЕ НЕ МИНОВАТЬ РАСПЛАТЫ».
– Это уже начинает меня нервировать, – сердито сказал Севастьянов.
Амалия, не отвечая, задумчиво смотрела на конверт.
– На сей раз отправлено из Ярославля? – спросила она.
– Да.
– Однако автор писем чертовски предусмотрителен, – пробормотала молодая женщина. – То Серпухов, то Ярославль… – Она покосилась на Степана Александровича. – Что за газета, у вас нет никаких соображений? Я имею в виду, из которой вырезали буквы.
Севастьянов призадумался.
– Первый раз, когда я получил письмо, мне показалось, что буквы похожи на те, что в заголовках «Нового времени», – признался он. – Я же выписываю эту газету. А тут… – Он глубоко вздохнул и покачал головой. – Нет, точно не «Новое время». Скорее, какая-то дешевая провинциальная газета вроде «Губернского вестника» или «Уездных вестей». Видите, какая скверная печать, какие слепые буквы? Поэтому я и думаю, что тут использовали наше местное издание.
– А вы выписываете местные газеты? – как бы между прочим осведомилась Амалия. – Мне бы хотелось все-таки поточнее узнать, откуда взяты буквы.
– Местные – нет, – отозвался Степан Александрович. – Там, знаете ли, все-таки пищи для ума маловато. Вот «Новое время» читать интересно, хотя я не во всем с ними согласен. И «Вестник Петербурга», который господин Верещагин издает, – любопытная газета.
– Верещагин – мерзавец, – спокойно сказала Амалия.
Степан Александрович поежился, поглядел на ее лицо и подумал, что у нее наверняка должны быть свои причины, чтобы так говорить. Может быть, она даже лично знакома со знаменитым редактором и владельцем нескольких изданий[44]. Но он постеснялся расспрашивать, а у Амалии не было охоты давать объяснения.
– Вы получили сведения о том человеке? – после паузы спросил он.
– О Домбровском? Да. Хотя и… Скажите, вы совершенно уверены, что его фамилия Домбровский?
– Конечно, – слегка удивившись вопросу, ответил Степан Александрович. – Я же прекрасно помню, как мы шли по улице, и вдруг Натали воскликнула: «О, надо же, я готова поклясться, что это Домбровский!»
– Но вы видели его вблизи? – настаивала Амалия. – Ему действительно было столько лет, сколько вы сказали? То есть лет двадцать пять – двадцать шесть, стало быть, сейчас ему должно быть около тридцати?
– Разумеется, – отозвался Степан Александрович. – Я же не слепой! Он сказал, что в городе ненадолго, был очень любезен с Натали, пожелал мне, – тут мужчина поморщился, как от физической боли, – удачи и пошел дальше.
– А с чего вы взяли, что он гусар? На нем была гусарская форма?
– Нет, он был в штатской одежде. Но Натали сказала, что он служит в гусарском полку.
Мгновение Амалия смотрела на него, не понимая. Затем еще раз взглянула на письмо, которое лежало перед ней, – и все для нее сразу же стало на свои места.
– Все ясно, – объявила она, поднимаясь с места. – Значит, мы едем в Звенигород. Дмитрий! Запрягай карету, немедленно! Отвезешь нас на вокзал! – Она обернулась к Севастьянову, глаза ее сверкали. – Только, Степан Александрович, давайте прежде всего условимся. Никаких необдуманных действий, хорошо? Я понимаю ваше состояние, но прежде всего нам необходимо выяснить, что произошло с Натали. Поэтому с Домбровским буду разговаривать я, а вы будете только слушать. Договорились?
Севастьянов кивнул, глядя на нее во все глаза.
– Значит, вы нашли его? – с робостью, странной в таком гиганте, спросил он.
– Думаю, что да, – коротко ответила Амалия. – Едем!
– А как же Мышка? – всполошился Степан Александрович. – Я не могу ее бросить!
– Мышка останется здесь и будет ловить мышей, тем более что их тут видимо-невидимо. – Амалия умела распоряжаться не хуже какого-нибудь генерала. – Дмитрий, да поторапливайся же!
Она в нетерпении схватила со стола письмо Зимородкова, и от резкого движения на пол упала телеграмма. Степан Александрович нагнулся и подобрал ее.
– Ах да, телеграмма… – вспомнила Амалия. Занятая письмом, она начисто забыла о телеграмме из дома. – Дайте-ка ее сюда.
Текст телеграммы гласил:
«КАЗИМИР СОШЕЛ С УМА ПОСЫЛАЮ ЕГО К ТЕБЕ ЖДУ РАСПОРЯЖЕНИЙ НАСЧЕТ АДВОКАТА МАМА»
– О нет! Только этого не хватало! – вырвалось у Амалии сердитое восклицание. – Лиза! Если сюда в мое отсутствие явится маленький господин и скажет, что он мой дядя Казимир, пусть его разместят где-нибудь и кормят, но не более того. Денег ему не давать, карт в руки не давать! А если он начнет возмущаться, скажите ему, что он может возвращаться домой! Дмитрий, ты уже запряг лошадей? В мое отсутствие остаешься вместо управляющего! И не забудь найти мне кого-нибудь, кто бы ухаживал за садом!
5
Учения только что закончились. Раевский, командир 6-го гусарского полка, расквартированного с осени прошлого года в Звенигороде, сделал офицерам напоследок несколько замечаний и разрешил разойтись. Он уже предвкушал роскошный ужин, который ждет его в доме купца Карякина, человека, который благоговел перед армией и сам мечтал когда-то стать военным, но возле дома Раевского встретил денщик и доложил, кашлянув в кулак:
– Ваше высокоблагородие, там дама-с, и с ней господин. Говорят, что желают видеть вас. По делу, – добавил он.
Раевский тяжело вздохнул, сразу же вспомнив историю, которая приключилась полгода назад с одним из его офицеров и закончилась поспешной свадьбой; нервы тогда потрепала Раевскому порядочно. Он смотрел сквозь пальцы на любовные приключения своих подчиненных, но ненавидел, когда ему приходилось держать ответ за их шашни.
«Интересно, кто на сей раз? – мрачно подумал он. – Лосев, что ли? Этот молодец своего не упустит, даром что замухрышка. Или Закревский? Тот на днях хвастался, что закрутил роман с одной из местных дам. Мало ему было дуэли в прошлом году…»
Денщик кашлянул снова, и Раевский сердито покосился на него.
– Дама хоть хорошенькая? – безнадежно спросил он.
– Хорошенькая, – радостно осклабился денщик. – Да вы не волнуйтесь, ваше высокоблагородие. Если у нее и есть дочь, то она еще в куклы играет.
Чувствуя в душе неимоверное облегчение, Раевский все же поставил денщику на вид неуместность его замечания и вошел в дом.
Когда он увидел гостью, все недавние соображения о любовных приключениях господ офицеров его полка, а также прочие сиюминутные и суетные мысли мигом вылетели из его головы.
Как уже понял читатель, причиной того, что Амалия решила зачем-то ехать в Звенигород, было письмо ее друга Зимородкова. А еще точнее, несколько строк в том самом письме: «Домбровский Юлиан Юлианович. 32 года, врач 6-го гусарского полка. Нынешнее место дислокации – Звенигород».
Если человек служит в гусарском полку, то это, согласитесь, еще не обязательно означает, что он является гусаром. В конце концов, он может оказаться и самым обыкновенным конюхом. И, поскольку Амалия имела основания думать, что Зимородков предоставил ей самые точные сведения, она решила, что именно этот Домбровский – единственный, кто имел отношение к гусарам и к тому же подходил по возрасту, – и является тем самым похитителем Натали.
Однако на пути в Звенигород, несмотря на соглашение, Севастьянов несколько раз повторил: «Если он разбил ей жизнь, я убью его», что Амалии не понравилось. Поэтому она заметила, мол, для начала надо навести справки у полковника, – кому, как не ему, знать всю подноготную его людей.
Не подозревая о сложных хитросплетениях судьбы, которые привели к нему красивую даму и ее угрюмого, похожего на медведя спутника, Раевский объявил, что он рад, счастлив, готов служить и вообще находится целиком в распоряжении баронессы Корф. На Севастьянова гусарский командир уже не смотрел.
– По правде говоря, господин полковник, – сказала Амалия, – мы бы хотели навести у вас справки о вашем враче, господине Домбровском.
Раевский немного удивился. Лично он может зарекомендовать Юлиана Юлианыча как добросовестного, знающего свое дело человека. По крайней мере, в полку на него нет никаких нареканий.
– Вы бы не могли послать за ним? – попросил Севастьянов, которому успели наскучить все эти китайские церемонии. – Я бы хотел сказать ему несколько слов.
– Да, конечно, – сказал Раевский. – Мишка! Сходи-ка к Ферье, к портному, да позови Юлиана Юлианыча сюда. Он у портного квартирует, – пояснил он, улыбаясь Амалии. – А зачем вы хотите его видеть, сударыня? Неужели он что-то натворил?
– Возможно, – отозвалась Амалия, ничуть не погрешив против истины. – Кстати, как поживает его жена? Ее зовут Натали, кажется?
– Да, – подтвердил Раевский. И продолжил: – Но насчет его жены я, сударыня, ничего не могу вам сказать, потому что он с ней разошелся, и довольно давно. Да и, насколько мне известно, у них был брак, так сказать, по обоюдному согласию, а не тот, что одобрен церковью.
Степан Александрович сделался красен, как медный таз. Амалия с тревогой покосилась на него. Все было ясно. Или почти все, кроме нескольких деталей, которые не давали баронессе покоя. Например, почему Натали, убегая из дома, не взяла с собой драгоценностей? Содержанка, да еще такая искушенная, она должна была прекрасно знать, что лучше всего забирать с собой то, что еще может ей пригодиться. Или то, что она держала дома, было пустяком по сравнению с ценностями, которые она, скажем, хранила в банке и о которых не подозревал наивный Севастьянов?
В коридоре послышались шаги и голоса.
– А вот и Юлиан Юлианыч, – сообщил Раевский.
Дверь отворилась, и в сопровождении денщика в комнату вошел высокий блондин довольно приятной внешности. Однако прежде, чем он успел сделать несколько шагов, страшно побледневший Степан Александрович сорвался с места – и бросился на него.
То, что последовало за этим, денщик Мишка в компании других денщиков позже описывал так: «Чуть не уходил он, значится, доктора-то. Ты, кричит, ее погубил, я тебя убью, и всякое такое. Еле-еле мы с полковником его оттащили. Полковник-то мой человек сильный, да и он бы не справился, коли купец наш не прибежал бы на подмогу. Только купец, значится, и смог с медведем этаким сладить. А то никак!»
Когда Карякин, Раевский и денщик объединенными усилиями отволокли наконец разъяренного Севастьянова в другой конец комнаты, Домбровский медленно опустился на стул, растирая шею.
– Ну замечательно… – пробормотал он. – Я не понимаю, в чем дело! Я где-то видел этого господина, но чего он от меня хочет? Набросился, как безумец…
– Мерзавец! – крикнул Степан Александрович, порываясь вырваться. – Убью!
– Его жена – Наталья Георгиевна Лапина, – сказала Амалия спокойно. – Знаете такую?
– Знаю ли я? – поразился Домбровский. – Конечно, видел ее в Москве. Она тогда жила с… с одним моим знакомым.
Его спокойствие сбивало Амалию с толку. Чувствовалось, что гусарский доктор не притворяется, а действительно не понимает, чего от него хотят.
– Какое отношение она имеет ко мне? – уже сердито спросил врач, который хоть и был поляком, но говорил по-русски без малейшего акцента.
– Он думает, что вы увезли его жену, – пояснила Амалия.
– Я? – поразился Юлиан Юлианович. – Зачем?
– Нечего врать! – крикнул Севастьянов. – Полковник уже сказал, что твою жену зовут Натали! Это она, она!
Тут Домбровский так удивился, что даже забыл про ноющую шею.
– Сударь, вы в своем уме? Ту даму, о которой вы говорите, зовут Наталья Пригожина, и мы давно уже расстались. Это не ваша жена! Не понимаю, что могло взбрести вам в голову! И вообще вашу жену я не видел уже несколько лет. Верно, я теперь вспомнил, встретил вас с ней в… в уездном городке…
– Почти пять лет назад, – подтвердила Амалия. – И вскоре после того она исчезла.
Домбровский несколько раз озадаченно мигнул.
– Прошу прощения… Я не знал. Но, если она исчезла, я не имею к ее исчезновению никакого отношения, поверьте мне! Тем более что она была… была одно время дорога моему другу. Я бы скорее руку себе отрубил, чем дотронулся до нее!
Молодой мужчина казался совершенно искренним, и даже Степан Александрович, очевидно, наконец-то поверил ему. Могучий Карякин отпустил его, и Севастьянов, всхлипнув, повалился на диван, закрыв лицо руками.
– И тем не менее вам придется кое-что мне объяснить, – сказала Амалия. – Зачем вы тогда приехали в Д.? Только не надо говорить мне, – прибавила она, – что вы случайно оказались там и опять-таки случайно встретили Натали Лапину, в то время жену Севастьянова.
6
Домбровский вопросительно покосился на полковника (чье лицо было совершенно невозмутимо) и перевел взгляд на Карякина. Тот кашлянул, приосанился и, пригладив бороду, пробормотал:
– Ну что ж… Пойду-ка я, пожалуй, насчет ужина распоряжусь. Гхм! Если понадоблюсь, ваше высокоблагородие…
– Мы вас позовем, – кивнул Раевский. – Мишка! Ступай-ка в конюшню, проверь, как там моя лошадь.
Когда Карякин и денщик вышли, в комнате остались только Амалия, Севастьянов, полковник и Домбровский. Последний тяжело вздохнул.
– История очень долгая, – мрачно сказал он. – Но если вы ищете в ней романтическую подоплеку, то, уверяю вас, ошибаетесь.
– Послушайте, пан Домбровский, – вмешалась Амалия. Теперь она говорила по-польски. – Мы ищем пропавшую женщину. До сего дня мы считали, что она бежала с вами, но теперь выяснилось, что это не так. Теперь мы опасаемся, что с ней могло случиться самое худшее, и поэтому мы просим вас все-таки рассказать нам все, что вы знаете. Поймите, она исчезла, пропала бесследно. Если она не бежала с вами, то что же с ней произошло?
Домбровский задумался.
– Хорошо, я расскажу, – внезапно решился он. – Но я даже и подумать не мог… – Военный медик беспомощно пожал плечами. – Господин полковник, я могу рассчитывать на то, что все останется между нами?
– Слово офицера, – спокойно произнес Раевский.
– Тогда… – Юлиан Юлианович снова вздохнул. – Что ж, как я понимаю, вас интересует, почему я оказался в Д. Так вот, еще учась в Москве, я познакомился с одним человеком и подружился с ним. Его звали Вениамин. Вениамин Перепелкин. Он тоже хотел стать врачом, но его семья решила, что он станет чиновником, как и его отец. Потом… – Домбровский дотронулся до шеи и поморщился. Степан Александрович слушал его, почти не дыша. – Потом он стал работать по своей части, я – по своей, но тем не менее мы не раздружились. Как раз тогда он встретил Натали – и потерял голову. Он был уже женат, его родители подыскали ему достойную невесту, но он говорил, что с Ниной у него челюсти сами собой вывихиваются от скуки. А Натали… – Он задумался, и Амалия поняла, что он не хочет порочить имя друга и оттого тщательно подбирает слова. – Ей, знаете ли, многого хотелось. Вокруг нее вертелось много народу, и моему другу пришлось прилагать определенные усилия, чтобы показывать, что он не хуже прочих.
– Мы знаем, – пришла на помощь к нему Амалия. – Он стал занимать деньги, потом занимать их там, где не следовало, а в конце концов пошел под суд за растрату.
Домбровский кивнул.
– Вы уже все знаете… Что ж, тем лучше. Когда начался процесс, Натали испугалась. Во-первых, она дорожила его подарками и не желала с ними расставаться, а кроме того, не хотела, чтобы ее имя валяли в грязи. Конечно, он ее выгораживал… но газеты были к ней безжалостны. Потом я получил назначение и уехал в полк, окончание истории стало мне известно из газет. Вениамина сослали в Тобольск, а через некоторое время я получил от него послание. Он жаловался, что Натали не отвечает на его письма, что, должно быть, полиция их перехватывает и прочее. Но я думаю, все было гораздо проще: она больше не хотела его знать. Через несколько месяцев я получил от него совершенно отчаянное послание. Он умолял меня во имя нашей былой дружбы отыскать Натали и передать ей письмо, которое было вложено в конверт. Ну… – Домбровский замялся. – Я понял, что не смогу ему отказать. Взял отпуск и поехал наводить справки. Узнал, что она вышла замуж, выяснил, где живет, и отправился к ней. На улице я увидел ее вот с этим господином. Мы поговорили, и Натали между прочим сказала, что иногда заходит в лимонадную напротив дома, и пристально на меня посмотрела. По-моему, она подумала, что я к ней неравнодушен, раз отыскал ее. На другой день я пришел в ту лимонадную, и через четверть часа появилась Натали. Я сказал ей, что у меня есть письмо к ней от моего друга. Женщина ответила, что сейчас на нее все смотрят и она не может взять письмо, и сказала, чтобы я пришел вечером к большому дому с фонтаном, там неподалеку березовая роща, и вот в рощу она придет часам к десяти и заберет письмо. В том доме будет званый вечер, и Натали в числе приглашенных, а гостей будет так много, что она сумеет ускользнуть незаметно. По-моему, все это было глупо. Я снова предложил ей взять письмо сейчас, но она сказала, что не может, потому что у нее ревнивый муж и прочее. Ну, я ей и поверил… тем более что там невдалеке сидела такая злобная старуха, которая все на нас косилась…
– Марья Никитишна, – угрюмо уронил Степан Александрович.
– Что было дальше? – спросила Амалия.
– Дальше? – Домбровский поморщился. – А то, что я свалял дурака. Пришел в рощу, ждал, в доме играла музыка, а она так и не пришла. В третьем часу, когда я окончательно продрог, стало ясно, что она меня обманула. Ей не было нужно письмо от моего бедного друга, которого она уничтожила. Он больше для нее не существовал, поймите… Мне было очень больно за него. Но я ничем не мог ему помочь и просто ушел. Я не хотел оставаться в городе и в то же утро уехал. Потом я написал моему несчастному другу, что пытался ее найти и не нашел, но, по-моему, он все понял.
– Вы сохранили его письмо? – спросила Амалия. – То, которое должны были передать ей?
– Оно у меня, – просто ответил Домбровский. – Я хотел его уничтожить, но подумал, что совершу как бы… как бы предательство по отношению к моему другу. Да, я его сохранил. Но не распечатывал! – поспешно добавил молодой мужчина.
– Нам нужно это письмо, – сказала Амалия. – И еще один вопрос, Юлиан Юлианович. Наталья Георгиевна исчезла как раз в ту ночь, когда вы ждали ее в березовой роще. Скажите, пока вы ждали ее, вы не заметили чего-нибудь странного? Может быть, не странного, а просто… ну, не знаю… Там были какие-нибудь другие люди? Что-то необычное не привлекло ваше внимание?
Домбровский на мгновение задумался, но потом решительно покачал головой.
– Ночь была самая обыкновенная, – проговорил он. – Я только слышал, как птицы пели, да в доме играла музыка, и еще где-то лаяли собаки. Больше ничего не помню, к сожалению.
– Спасибо, – искренне сказала Амалия. – Поверьте, вы очень нам помогли.
7
«Уверяю тебя, здесь можно вполне сносно жить. Конечно, зимы здесь суровые, но помнишь, как ты восхищалась женами декабристов, как мечтала сыграть на сцене одну из них… Здесь есть даже театр, так что ты ничего не лишишься. Милая моя, если бы только знала, как я тебя жду! Вся моя надежда на Юлиана, что он отыщет тебя и передаст это письмо. Приезжай, а? Приезжай… Обещаю, нам будет хорошо вдвоем, ничуть не хуже, чем в Москве…»
Как может человек быть таким наивным? Писать продажной женщине, что в Тобольске ничуть не хуже, чем в Москве, и верить, что она соблазнится его приглашением, приедет, не бросит в беде… Амалию стала разбирать злость. Она опустила распечатанное письмо Перепелкина на колени и стала глядеть в окно, чтобы успокоиться.
– Еще две остановки, и мы почти дома, – нарушил молчание Севастьянов.
За те часы, что последовали вслед за рассказом Домбровского, он как-то усох и сжался. Виноватое, смешанное с недоумением выражение не покидало его лица. Амалия видела, что он раздавлен. Раньше, по крайней мере, все было оскорбительно просто – неверная жена сбежала с гусаром, как в скабрезном анекдоте. А теперь оказывалось, что и гусар – не гусар, а только врач гусарского полка, и он всего лишь хотел передать Натали письмо от ее старого друга, причем умыкать чужую жену у него и в мыслях не было. Но куда же она тогда исчезла? Сказала, что выйдет подышать свежим воздухом, улыбнулась и ускользнула в ночь. И ночь скрыла ее следы…
Сто раз, не меньше Амалия допрашивала Степана Александровича, как его жена вела себя в тот роковой вечер. Что она делала, как выглядела, что говорила… И тот снова и снова вспоминал: она была очень весела, много шутила, танцевала до упаду и вообще заражала всех своим весельем.
Одним словом, муж Натали не заметил ничего, что давало бы ключ к ее исчезновению… исчезновению, за которым и прежде Амалии чудилось самое худшее. Теперь же Амалия была в том самом худшем практически убеждена.
– Он говорит, что Натали так и не пришла… – бормотал Севастьянов. – Но она же вышла из дома! Накинула на плечи шаль и вышла… Куда же она могла пойти? – Он даже приподнялся на месте от волнения. – Если, допустим, она все-таки шла к роще и с ней случился несчастный случай… Да нет, исключено! Ведь, когда мы под утро заметили, что ее нигде нет, мы обыскали все вокруг… – Он запнулся. – А что, если она все-таки бежала? Не с Домбровским, а… а с кем-нибудь другим?
– Оставив дома все драгоценности? – хмуро ответила Амалия. – Боюсь, что такое совершенно невозможно.
– Но ведь Любовь Осиповна ее видела в Париже! – горячился Севастьянов. – И узнала!
– Она ошиблась, – терпеливо сказала Амалия. – Или же ее собеседник, тот глухой старичок, неверно понял ее слова.
– А письмо из Ялты? – вскинулся Степан Александрович. – Вдруг его все же Натали написала?
– Нет, – рассеянно ответила Амалия, – его автор – какой-то мошенник, который хочет поживиться на вашем горе.
Почему она была так уверена? И в самом деле, почему? Да потому, что с самого начала, узнав, что Натали не взяла с собой ничего, Амалия заподозрила, что та исчезла не по своей воле. И не вернулась домой потому, что уже не могла никуда вернуться. Ее убили, да, убили, поймите, дамы и господа… И, возможно, ее смерть как-то связана с другой загадочной смертью, которая тогда же случилась в здешних краях. Натали исчезла 9 сентября, а через несколько недель, как записано в дневнике покойного судьи Нарышкина, возле мельницы выловили труп неизвестного с изуродованным лицом… Вроде бы мужчина был убит примерно в то же время, что и Натали…
Нет, одернула себя Амалия, так не годится. Слишком много догадок, слишком много «если». Если Натали и впрямь убили, то куда делось тело? Потому что труп, дамы и господа, не так-то легко скрыть. Допустим, она вышла из дома, кто-то ее подстерег и убил… Но куда делся труп? Ибо ничто на этом свете не исчезает бесследно, все оставляет в окружающем свой отпечаток, надо только уметь его найти.
«Следует послать срочный запрос Зимородкову, не находили ли в губернии неопознанные тела женщин в возрасте около двадцати пяти лет, – подумала Амалия. – Может быть, выловили из воды… не знаю… Если труп утопили точно так же, как и труп того неизвестного, привязав к нему груз, то… то все равно за столько лет останки уже должны были быть обнаружены…»
На станции их ожидал Дмитрий, которого Амалия заблаговременно предупредила о своем возвращении телеграммой.
– Как там дядюшка Казимир? – спросила Амалия. За то время, пока они добирались до Звенигорода и обратно, он уже должен был доехать до Синей долины.
– Никто не приезжал еще, сударыня, – доложил Дмитрий.
Он был очень горд, что во время отсутствия хозяйки ему пришлось быть управляющим, и даже собственноручно поймал двух браконьеров, один из которых клялся, что приходился ему троюродным братом. Но Дмитрий не внял его мольбам отпустить и отволок куда следует.
– Странно… – пробормотала Амалия. – Куда же дядюшка мог запропаститься? Вроде бы он должен был уже объявиться…
Однако она не стала задерживаться на этой мысли, а лишь спросила, что случилось в ее отсутствие.
Дмитрий похвалился, как он поймал браконьеров, объявил, что кошка господина Севастьянова переловила уйму мышей, пока жила у них, и как бы между прочим ввернул, что Степана Александровича искал следователь и очень интересовался, куда тот отправился с баронессой Корф, когда его русским языком попросили не выезжать за пределы губернии.
– Он нашел, кто убил Любовь Осиповну? – сухо спросила Амалия.
– Нет, – ответил Дмитрий. – Но он уверен, что человек, который пришел в сад снаружи. Там сбоку у ограды лопухи были помяты, ну, господин Чечевицын и вынес заключение, что кто-то залез в сад.
И слуга принялся пересказывать местные сплетни. Марья Никитишна, к примеру, уверена, что Любовь Осиповну задушили по причинам романтического толка. Однако Настасья Сильвестровна, тетушка Степана Александровича, объявила, что тут наверняка замешаны деньги, потому как, едва бедная вдова судьи решила бороться за свое имущество, глядь, ее и ухлопали.
– Я только заеду к вам за Мышкой, – сказал Севастьянов, которому надоело слушать болтовню слуги, – и вернусь к себе.
– Да, конечно, – кивнула Амалия. – И не думайте, что я больше не занимаюсь вашим делом, раз мы нашли Домбровского. Я по-прежнему намерена отыскать вашу жену, где бы она теперь ни находилась. Если вы вдруг получите еще какие-нибудь странные письма…
– Я сразу же принесу их вам, – с готовностью откликнулся Степан Александрович.
Коляска миновала аллею и остановилась у крыльца, возле которого болтался длинноногий веснушчатый юноша. Завидев Амалию, он расплылся в широкой улыбке и двинулся прямиком к ней.
– Что ты тут делаешь? – удивилась Амалия.
– Я слышал, вам садовник нужен, – объявил Антоша, глядя на нее преданным взором. – Вот!
– А ты умеешь ухаживать за цветами? – строго спросила Амалия.
– Нет, – беспечно ответил веснушчатый. И отважно добавил: – Но я научусь! А если вам садовник не нужен, то я могу и простым слугой.
– Твоему отцу это вряд ли понравится, – заметила Амалия, испытующе глядя на него.
– Я уже два дня как совершеннолетний, – сообщил Антон, сморщив нос. – И вообще из дому я ушел, так что теперь сам себе хозяин.
– Что, тебе уже двадцать один? – с сомнением спросила Амалия. По правде говоря, она бы не дала ему больше семнадцати.
Антоша кивнул, застенчиво глядя на нее.
– Я и за лошадьми могу ухаживать, – добавил он. – Возьмите меня. Пожалуйста!
– А из дома ты почему ушел?
– Папенька вошел, когда я книжку читал, – вздохнул рыжий. – Накричал и швырнул ее в угол. Не уважает он словесность. Так что я собрал свои вещи и ушел.
Юноша показал на узелок, который лежал возле крыльца. По очертаниям Амалия сразу же определила, что внутри узелка лежит не меньше трех книжек. Почему-то она не сомневалась, что все они принадлежат перу Леопольда д’Аркура.
– Честно говоря, я не знаю… – начала было Амалия и осеклась.
Она отлично помнила, как отец Антоши явился к ней, желая приобрести Синюю долину. Что, если миллионщик не оставил своего намерения и нарочно подослал к ней своего сына? Что, если юноша, такой славный с виду, на самом деле явился сюда шпионить за ней? Особая служба научила Амалию помимо всего прочего осторожно относиться ко всем людям, которые возникали в ее ближайшем окружении.
– Он с Любовью Осиповной соглашение заключил незадолго до ее смерти, – внезапно выпалил юноша.
– Кто? – не сразу поняла Амалия.
– Папенька, – сдал Антоша родителя. – Они договорились, что будут вести дело против вас вместе, а если выиграют, то Синюю долину поделят пополам. Половину – ему, половину – ей. Соглашение у Петра Ивановича заверили, все честь по чести. Теперь папенька хочет Тизенгаузена вытребовать из столицы, чтобы процесс против вас начать. Тот вроде сначала отнекивался, мол, у него дела, а как папенька денег посулил вдвое больше того, что ему обычно дают, адвокат сразу же ответил, что подумает, мол, предложение его заинтересовало. Так возьмете меня в садовники?
Это был уже совершенно новый поворот. Получается, со смертью Любови Осиповны притязания на имение не закончились, а напротив, все еще только начиналось. Амалия пристально посмотрела на Антошу. Он стоял перед ней и переминался с ноги на ногу. В его волосах запуталась белая звездочка с куста сирени.
– Возьму, – сказала Амалия после паузы. – Только чтобы за цветами как следует ухаживал, иначе из жалованья вычту.
– Хорошо, – кивнул Антоша, даже не спросив, какое у него будет жалованье. – А вон и Петр Иванович едет. Интересно, что он тут забыл?
Амалию тоже интересовал этот вопрос. Оказалось, что молодой поверенный явился не один. Вместе с ним в бричке приехал и маленький, кругленький, упитанный господин, в котором Амалия без колебаний признала своего дядюшку Казимира. Судя по унылому виду, Казимир опять проигрался и был в долгу как в шелку.
– Вот-с, – объявил Петр Иванович, кивая на него, – совершенно случайно встретились утром в московском поезде. А потом в городе, где господин Браницкий искал извозчика. Так что я счел своим долгом подвезти вашего дядюшку, сударыня, до Синей долины, на правах, так сказать, друга…
Амалия мило улыбнулась, а про себя пожелала мнимому другу, который заверил направленное против нее соглашение покойной вдовы и здравствующего миллионщика, провалиться в тартарары. Казимир вылез из брички, Лиза приняла багаж, который состоял из одного коричневого чемодана, и понесла его в дом.
– Дядюшка, – с упреком покачала головой Амалия, когда поверенный наконец уехал, несколько раз заверив ее в своей вечной преданности, – мы же ждали вас раньше!
– Я проехал вашу станцию, – капризно заявил Казимир, утирая лоб платком и оглядываясь. – Забыл, как она называется, а кондуктор, шельма, меня не разбудил. Пришлось возвращаться, и я пересел на московский поезд. Там с меня хотели за билет содрать… Жуткие люди! – Он передернул плечами. – Честно говоря, я люблю путешествовать, но вот перемещаться с места на место терпеть не могу. Это кто с кошкой?
Севастьянов только что вышел из дома, неся на руках довольную Мышку, чьи усы стояли дыбом, а шкурка прямо-таки лоснилась. Судя по виду кошки, она и впрямь успела славно поохотиться в старом доме.
– Степан Александрович Севастьянов, акцизный чиновник в отставке… Мой дядя Казимир, – представила друг другу мужчин Амалия.
Севастьянов объявил, что очень рад знакомству. Амалия с тоской предчувствовала вопрос дяди: «А как вы насчет перекинуться в карты?» – но, к ее удивлению, Казимир не сказал ничего подобного. Он лишь посетовал на дорогу, объявил, что прямо-таки разваливается на части, и, попрощавшись с собеседником, шаркающей развинченной походкой двинулся к дому.
– Это правда ваш дядюшка? – спросил Антоша, провожая его полным любопытства взглядом.
– А что, не похож? – вопросом на вопрос ответила Амалия.
– Нет, – честно признался Антоша.
Дмитрий вывел двуколку Севастьянова, которая в то время, пока хозяин ездил с Амалией в Звенигород, стояла у них, и бывший акцизный сел на место кучера. Кошка тотчас устроилась рядом с ним и аккуратно обернула хвостом лапки. Амалия невольно улыбнулась.
– До свидания, Степан Александрович. И помните, если будут еще письма…
– Да, конечно, госпожа баронесса.
Он уехал, а Амалия задумалась о том, каким образом автор угрожающих писем (она была почти уверена, что знает, кто их написал) находит людей, чтобы те отправили их из других мест. «Боже мой, тоже мне задача… – тут же сказала она самой себе. – Как будто ты не знаешь, где он живет! Пара любезных слов, какой-нибудь выдуманный предлог, и человек, который едет в Серпухов или Ярославль…»
Она не успела додумать свою мысль, потому что из дома донесся дикий женский вопль. Кричала Лиза, но в первое мгновение Амалия и не узнала ее голос.
Антоша не успел и глазом моргнуть, как баронесса Корф уже взлетела по ступеням крыльца вверх. Опомнившись, новоиспеченный садовник Синей долины бросился следом за хозяйкой имения.
Они пробежали через ряд комнат и наконец оказались в чистенькой, судя по всему, совсем недавно приведенной в порядок спальне, где на мраморном рукомойнике стоял кувшин воды, а на стуле лежал открытый коричневый чемодан, – тот самый, который Казимир привез с собой. Возле чемодана стояла Лиза с вытаращенными от ужаса глазами, обеими руками зажимая рот. Дядюшка Амалии жался у дверей, и вид у него был малость оторопевший.
Амалия приблизилась к чемодану и бросила взгляд внутрь. Следует признать, что у Лизы были основания для паники, потому что содержимое чемодана могло испугать кого угодно, и не только впечатлительную молодую девушку.
В чемодане, завернутая в окровавленный шарф, лежала человеческая рука.
Глава 5 Рука
Что до меня, то мне на часть
Досталась пламенная страсть,
Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры.
«Евгений Онегин», глава втораяИсполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
«Евгений Онегин», глава шестая1
– Дядюшка! – сурово сказала Амалия. – Что это такое, в самом деле?
Казимир хотел было подать голос, сказать, что он тут ни при чем, но куда там… Все, что он смог, так только жалобно промычать нечто невнятное и энергично потрясти головой в знак того, что он ничего не понимает и не имеет к происходящему ни малейшего отношения.
– В ваши годы, – продолжала распекать его племянница, – вовсе не подобает шутить такие шутки с прислугой! Я прекрасно помню, как вы уже пугали Якова дурацкой рукой из папье-маше, а Дашу чуть не довели до обморока. Постыдились бы! Взрослый человек, а всюду таскаете с собой глупую игрушку. Мало вам того, что вас выставили недавно с публичного маскарада, когда вы вздумали попугать гостей этой рукой…
– Я? – пролепетал Казимир.
– Да, вы! – пригвоздила его Амалия. – Ведь я же знаю вас! Нарочно положили руку сверху и попросили Лизу открыть чемодан. Ведь так? – Она возвысила голос. – И только попробуйте сказать мне, что я не права!
Казимир затравленно покосился на нее, и на мгновение Антоше почудилось, что в его глазах мелькнула и погасла этакая золотистая искорка понимания, навроде тех, что сверкали сейчас в янтарном взоре его племянницы. Дядюшка отлепился от двери и облизнул языком губы.
– По правде говоря, с моей стороны было глупо… – Он слабо улыбнулся. – То есть я не хотел… никого пугать. Честное слово!
Лиза всхлипнула, но выражение ужаса уже покинуло ее лицо. И Амалия, заметив, что девушка приходит в себя, заговорила мягче:
– Не волнуйтесь, Лиза, это всего лишь папье-маше. И извините моего дядю. Он просто… – баронесса свирепо покосилась на него, – просто неудачно пошутил!
– Я могу идти? – спросила Лиза, хлюпая носом.
– Конечно, – разрешила Амалия.
Лиза присела, вспыхнула и поспешила покинуть комнату, где оставался сумасшедший дядюшка новой хозяйки (содержимое телеграммы уже давно не было среди слуг тайной). Что касается Антоши, то он никуда не торопился идти. Прежде всего он рассмотрел руку, лежавшую в чемодане, и теперь готов был поклясться, что никакая она не игрушка, а самая настоящая отрубленная человеческая рука, причем, судя по всему, женская. О том, для чего ее отрубили и как она вообще оказалась в чемодане дядюшки Амалии, которая Антоше чрезвычайно нравилась, ему и вовсе не хотелось думать, но он полагал, что в свое время все разъяснится. Сама же рука ни капли не испугала купеческого сына. В романах, которые он читал, отрубленные части тела попадались в каждом томе, и всякий раз за этим скрывалось какое-нибудь леденящее душу злодейство. Теперь Антоша чувствовал себя так, словно перенесся на страницы любимых им книг, что было куда интереснее, чем обычная жизнь, в которой ему ни разу не встречались чемоданы с чужими руками.
Заметив, что юноша не торопится удалиться, Амалия метнула на него сердитый взгляд. По правде говоря, ей теперь больше всего хотелось остаться с дядюшкой наедине и вытрясти из него душу или, на худой конец, подробности того, каким образом чья-то рука могла попасть к нему в чемодан. Ибо Амалия очень сильно сомневалась, что та могла забраться туда сама по себе. Но Антоша явно не собирался никуда деваться, а по его лицу Амалия уже поняла, что он уже и так обо всем догадался. Поэтому она подбоченилась и вперила в опешившего Казимира суровый взор.
– Ну? – сердито сказала она, переходя на польский. – Я жду ваших объяснений!
– Какие объяснения? – возмутился Казимир, обретая голос. – Мне бы самому хоть что-нибудь объяснили!
– У вас в чемодане отрубленная рука! – стала заводиться Амалия. – Как она могла туда попасть? Думайте!
Казимир нерешительно почесал нос, поглядел на чемодан, на то, что лежало внутри, и отшатнулся с отвращением на лице.
– Шарф не мой, – сказал он. – И вообще…
Амалия вздохнула. По правде говоря, она бы и раньше могла сообразить такую простую вещь.
– И чемодан не ваш? – спросила она, вновь переходя на русский. – Так, что ли?
– Чемодан очень похож на мой, – возразил Казимир. – Я и принял его за мой. Но… он не мой. Потому что в моем не было никаких рук! – сердито добавил он.
– Пока я вижу только одну руку, – осадила его Амалия. – Женскую.
– А под ней ворох какого-то тряпья, – подал голос Антоша.
Амалия мрачно покосилась на него, поправила перчатки на руках и решительно подошла к чемодану. Дядя у двери тихо всхлипнул от ужаса.
– Там в столе газета, – сказала Амалия Антоше. – Постели ее на полу. Нам надо как следует осмотреть содержимое чемодана.
Ей понравилось, что Антоша не стал задавать лишних вопросов, а просто сделал то, что она сказала. Амалия вытащила из чемодана окоченевшую руку, размотала шарф, в который она была завернута, оглядела ее и покачала головой.
– Действительно женская, – сказала она. – Судя по состоянию кожи, принадлежала довольно молодой женщине… вернее, не то чтобы очень молодой, но уж точно до тридцати пяти лет. Шарф, кстати, тоже женский. – Она положила руку и шарф на газету. – Так, что тут у нас? Черный мужской сюртук… – Она подняла его.
– Вот черт! – вырвалось у Антоши. – Простите, – спохватился он.
Под сюртуком обнаружилась разрубленная на две части нога. Обе части были кое-как замотаны в старые тряпки.
– Да уж… – вырвалось у Амалии. – Становится все интересней и интересней…
– Что там? – дрожащим голосом спросил Казимир. Он отыскал на столе графинчик с наливкой и теперь щедро налил себе полный стакан.
– Нога, – доложила Амалия. – Но тут есть сложность. Рука женская, а нога мужская… Или я ни черта не смыслю в анатомии, – в сердцах прибавила она.
Казимир залпом выпил наливку, причмокнул от удовольствия и налил себе еще. Покосился на племянницу и долил стакан доверху.
– Тогда не о чем и беспокоиться, – с апломбом объявил он. – Наверняка какой-нибудь студент-медик позаимствовал в анатомичке части тела, чтобы, значит, дома с ними поработать. Да!
– Дядюшка, ты в своем уме? – сердито спросила Амалия.
– А что такого? – возмутился Казимир. – Какой-то, понимаете ли, лоботряс вез домой учебные, так сказать, пособия… сел в один поезд со мной и случайно перепутал чемоданы. Вот и все!
– А что, такое очень даже может быть, – робко заметил Антоша. – Я однажды видел у дяди в гостинице одного студента, так он живых лягушек резал. По мне – гадость, а он говорил, что так надо для науки.
Вместо ответа Амалия внимательно осмотрела руку и поморщилась.
– Нет, – внезапно сказала она, – студент-медик тут ни при чем. Тела расчленены явно неумело… Руку, например, пытались отрезать по крайней мере в два приема, и только со второй попытки это удалось. – Она вздохнула. – Похоже, мы все-таки имеем дело с двойным убийством.
Казимир в ужасе икнул и налил себе третий стакан. Наливка покойного судьи Нарышкина была чудо как хороша.
– Так что же теперь делать? – спросил Антоша, глядя на Амалию во все глаза. – Идти в полицию?
– И что мы им скажем? – возразила Амалия. – Так, мол, и так, милостивые государи, моему дяде в поезде подсунули чемодан с частями тела? Так его первого же и арестуют.
– За что меня арестовывать? – возмутился Казимир. – Я же ничего не сделал!
– Если бы я не знала, что вы за человек, я бы вас первого велела задержать по подозрению! – отрезала Амалия.
Казимир сокрушенно покачал головой и потянулся к стакану.
– Хватит графин опустошать! – обрушилась на него племянница. – Лучше вспомните, как выглядел ваш попутчик!
– Попутчик?
– Ну да! Тот человек, у которого был такой же чемодан, как у вас! Умоляю, дядюшка, вспоминайте! Это очень важно!
– Я что, должен теперь вспоминать всех своих попутчиков? – снова возмутился Казимир. – Во-первых, когда я уезжал из Петербурга, меня засунули в вагон для некурящих![45] Просто ужас что такое! Какая-то дама все толкала меня в бок… Господи, какая она была страшная! Не дай бог приснится ночью, я сразу же умру! – Он содрогнулся. – Потом мы ехали, ехали… В станционных буфетах подают такую гадость! Потом я заснул и проспал свою станцию. Мне пришлось садиться на поезд, который шел обратно, но он шел куда-то не туда. И еще с меня захотели содрать за билет. Но с какой стати я должен платить, когда просто пропустил свою станцию? Наконец я сел на поезд, который ехал из Москвы, и вот он уже…
– Попутчик! – железным голосом напомнила Амалия.
– Сейчас, сейчас… – забормотал Казимир. – Говоришь, у него должен был быть похожий чемодан? А им не может быть та страшная дама? – Он поежился. – Хотя у нее было пять картонок и сумка с моськой. Собака, между прочим, была симпатичнее, чем она сама, – доложил он.
– Дядюшка, – сердито сказала Амалия, – нас не интересует, как выглядела собака! Нас интересует пассажир, который перепутал чемоданы и который, судя по всему, убил двух человек!
Казимир вздохнул, потер рукой лоб и с тоской покосился на опустевший графин.
– Нет, – объявил он, пожимая плечами. – Говорю же тебе, племянница, я совершенно запутался с поездами. Между прочим, я дворянин, а из второго поезда меня контролер хотел выставить, потому что я билет взять не успел. Насилу я его уломал, и тут оказалось, что поезд едет совсем не туда. Что ты будешь делать! Пришлось опять выскакивать на станции бог знает где… Хорошо хоть мне подсказали поезд из Москвы, который наконец довез меня туда, куда надо. Но как же я измучился, матерь божья! А имение у тебя славное, – заискивающе прибавил Казимир. – Думаешь его продавать или как? За него хорошие деньги выручить можно…
Антоша покосился на лицо Амалии, увидел, каким взглядом она смотрит на дядюшку, и невольно отступил к двери, потому что ему сделалось ну очень не по себе. Однако Казимир, казалось, ничего не замечал.
– Покамест, – сухо произнесла Амалия, – я думаю найти того, кто вместо своего… гм… анатомического чемодана взял ваш. Кстати, что в нем было?
Дядюшка охнул, пробормотал что-то о деньгах с документами и стал лихорадочно рыться в карманах. Однако и портмоне, и бумаги оказались на месте.
– Значит, пропали мои костюмы, – с горечью молвил Казимир. – Ален шил, между прочим, не кто-нибудь! И два цилиндра… – Он чуть не всхлипнул от жалости к себе самому. – Порошки от головной боли, декокт от желудка…
– Впервые слышу, чтобы вы страдали желудком, – не преминула съязвить Амалия.
– Мне лекарство Адочка с собой дала, – объяснил Казимир. – Все-таки дорога, еда скверная, мало ли что приключится?.. Вспомнил! – подпрыгнул он на месте. – Там был шестой том Рокамболя[46]! Господи боже мой, я же не успел его дочитать! Как же я узнаю, чем все кончилось?
– Все кончилось хорошо, – заверил его Антоша, лучась улыбкой. – Он все-таки выбрался из пещеры.
– Да? – усомнился Казимир. – А что было с дочерью герцога, к которой он там в окошко лазил?
– Она вовсе не дочь герцога, ее в колыбели подменили, – объявил Антоша, который почуял родственную душу. – Настоящая дочь герцога, я думаю, будет Сесиль.
– Сесиль мне не нравится, – вздохнул дядюшка, – очень уж у нее манеры неподходящие…
И они принялись обсуждать, что случится дальше с непотопляемым, неотразимым, неунывающим и вообще совершенно бессмертным Рокамболем, пока Амалия не потеряла терпение.
– Хватит! – сердито воскликнула она. – Итак, дядюшка, с вами все ясно. Пассажира с коричневым чемоданом вы не помните, ничего не знаете и вообще не имеете никаких соображений по поводу того, кто мог сыграть с вами столь скверную шутку. Значит, – она глубоко вдохнула, – придется искать любителя анатомии самим. Ох, как же все невовремя! – Баронесса поморщилась. – Но тем не менее надо заняться этим делом. Иначе не исключено, что жертвы будут не последними.
2
– А как же мы его отыщем? – робко спросил Антоша.
– Еще не знаю, – честно ответила Амалия. – Но преступник всегда оставляет следы. Для начала надо как следует осмотреть содержимое чемодана.
Казимир важно поднял указательный палец.
– У меня есть другое предложение, – объявил он. – Я отнесу чемодан куда-нибудь на пустырь, после чего мы его зароем и предадим происшедшее забвению. Как вам такая идея?
– Очень плохая идея, – отрезала Амалия. – Тянет на статью о покрывательстве преступника.
– Хорошо, – тотчас же согласился покладистый Казимир. – Тогда идея номер два: мы относим чемодан в полицию, но не местную, а к твоему знакомому Зимородкову, и пусть они разбираются. В конце концов, – добавил он, – если у нас есть рука и нога, то где-то должны быть остальные части тела. Что, если полиция уже их нашла?
Антоша надулся. Из романов он твердо усвоил, что полицейские – на редкость несообразительный и бестолковый народ, которых с легкостью обводит вокруг пальца блестящий преступник или еще более блестящий сыщик-любитель.
– Не знаю, – хмуро ответила Амалия. – Если бы полиции что-то такое попалось, Верещагин или другие газетчики уже бы о том прознали, и дело выплеснулось на первые полосы. Раз газеты молчат, то… – Она покосилась на чемодан и поморщилась. – Да, конечно, Зимородков молодец, но маме не понравится, если ваше, дядюшка, имя появится в газетах… а упоминания его вряд ли удастся избежать, потому что именно вы нашли злополучный чемодан.
Казимир хотел вставить, что он ничего не находил, что, наоборот, чужой чемодан со своим страшным грузом нашел его, но Амалия не была расположена его слушать.
– Для начала мы попробуем сами во всем разобраться, – сказала она. – Антоша! Запри-ка дверь. Раньше надо было это сделать, да только я что-то забыла.
Дядюшка безмолвно всплеснул руками и забился в угол комнаты, чтобы не видеть то, что творила Амалия. А она вытрясла из чемодана все тряпки и принялась изучать его. Она ощупала все отделения, осмотрела все швы, залезла во все уголки, но не нашла ничего, кроме обрывка старого счета. Оглядев его, Амалия только покачала головой.
«Одна порция стерляжьей ухи – 1 руб. 80 коп… Устрицы… цена оторвана… Одна бутылка финь-шампань – 8 руб…» Названия гостиницы нет, города нет… Ну и что нам это дает? Только то, что кто-то любил сытно поесть и ни в чем себе не отказывал. Ладно, будем искать дальше.
Осмотрев самым тщательным образом чемодан, Амалия стала изучать бывшее в нем тряпье. Оглядела шарф, в который была завернута рука, какие-то грязные простыни и пестрые обрывки, лежавшие на дне чемодана…
– А белье-то батистовое, – задумчиво констатировала Амалия. – Не шелковое, но батистовое, что говорит об определенном достатке хозяина или хозяйки… хотя и спала на простынях редкостная грязнуля, какого бы пола она ни была. – Баронесса вздохнула. – Поздравляю вас, господа, мы имеем дело с очень предусмотрительным преступником.
– Почему? – спросил Антоша, глядя на нее, как завороженный.
– Потому что все метки с белья содраны вместе с тканью, – со смешком ответила Амалия. – Видите? – И она показала на недостающий угол простыни. – Ладно, тут все ясно. Что еще у нас остается – сюртук?
Казимир поежился. Что касается сюртука, то тот от крови превратился в заскорузлую тряпку, так что нельзя было даже с уверенностью сказать, новый он или поношенный, дешевый или дорогой. Амалия ощупала карманы и покачала головой.
– Ничего? – спросил дядюшка.
– Ничего. Хотя… погодите… тут за подкладкой какая-то бумажка…
Повозившись, Амалия не без труда вытащила на свет пятирублевую ассигнацию.
– Синенькая! – радостно сказал Антоша и тут же забеспокоился: – А разве нам это что-нибудь дает?
– Вряд ли, – вздохнула Амалия. – Постойте… Странно, тут краска от крови сильно поплыла.
– А почему, спрашивается, она не может поплыть? – спросил Казимир. Он только что отыскал в комоде вторую бутылку волшебной наливки и блаженствовал.
Амалия поглядела на него загадочным взором и подошла к окну, после чего тщательно принялась разглядывать бумажку со всех сторон.
– Интересно… – произнесла она, оборачиваясь к дяде. – Очень даже интересно!
– Что именно? – полюбопытствовал Казимир. Он уже находился в том состоянии, в котором море человеку не то что по колено, а кажется просто лужей.
– А то, что бумажка фальшивая, – коротко ответила Амалия. – Занятно разворачиваются события, а, господа?
3
Казимир пару раз озадаченно мигнул.
– И что все это значит?
– Хотела бы я знать, – пожала плечами Амалия. – Но теперь, конечно, Зимородкова придется ввести в курс дела. Тем более что ни одна из вещей в чемодане не позволила нам хотя бы приблизительно установить… – Она поглядела на сюртук, который лежал на газете, и умолкла. – Интересно, а портновскую метку с сюртука они тоже догадались сорвать? Раз уж забыли в кармане бумажку…
Не успела она договорить, как Антоша уже был возле сюртука и дрожащими руками разворачивал слипшуюся от крови ткань.
– Есть метка, – сипло объявил он. – На подкладке напротив кармана. – Он поскреб ее ногтем и покачал головой. – Но она вся в крови, ничего не видно.
Амалия вздохнула и потерла рукой лоб.
– Значит, придется отстирывать, – сказала она устало. – Причем чужим людям поручить нельзя.
– Я умею стирать, – встрепенулся Антоша. – Можно я возьмусь?
Амалия пожала плечами.
– Как хочешь. Только сначала надо куда-то убрать… это… – Она подбородком кивнула на чемодан и его содержимое, разложенное на газетах.
– Предлагаю зарыть! – встрепенулся Казимир. – На пустыре!
– Вообще-то лучше, чтобы они сохранились, – извиняющимся тоном сказала Амалия. Она не стала уточнять, но каждый и так понял, что она имеет в виду.
– Если в доме есть погреб и он холодный, их можно пока спрятать там, – объявил Антоша.
– Погреб есть, – кивнула Амалия. – Вот что: там у дальней стены стоит такой особенный шкаф с бутылками, а за ним пустое место. Спрячем-ка чемодан пока туда.
Антоша кивнул и стал собирать в коричневый чемодан лишнее тряпье, после чего уложил туда руку и ногу, которые потеряли хозяев. Затем юноша захлопнул крышку и преданно поглядел на Амалию, которая открыла дверь.
– Идем, – сказала она, – я покажу тебе, где погреб…
Казимир воспользовался ее отсутствием, чтобы прикончить бутылку наливки. Через несколько минут Амалия с Антошей вернулись, причем молодая женщина на ходу стаскивала с рук перчатки.
– Так я заберу сюртук? – спросил Антоша. – Я его замочу, чтобы с него кровь смыть, а когда метка станет видна, я вас позову.
– Только постарайся никому на глаза не попадаться лишний раз, – посоветовала Амалия. – И руки потом как следует помой.
– Я что, не понимаю? – обиделся Антоша и умчался быстрее ветра, унося с собой драгоценную улику.
Амалия вытащила из кармана фальшивую бумажку, еще раз осмотрела ее и покачала головой.
– Послушай, племянница, – вдруг обеспокоился Казимир, – а ты уверена, что она фальшивая? Все-таки пятирублевая, сама знаешь, не радужная[47], чтобы ее подделывать…
– Почти уверена, – ответила Амалия. – Во-первых, краска сильно поплыла, и, во-вторых, бумага на ощупь немного не такая. Хотя рисунок… – Она задумалась. – Вроде бы с рисунком все в порядке. Но я не буду гадать, а пошлю ее Зимородкову вместе с письмом. Как же все некстати… Я же совсем другим делом собиралась заниматься!
– Что еще за дело? – спросил Казимир, садясь на кровать. Сейчас, когда чемодан с его отвратительным содержимым покинул комнату, дядюшка Амалии чувствовал себя значительно лучше.
– Об одной исчезнувшей жене, – ответила Амалия, не желая покамест вдаваться в подробности. – Дядюшка, вы что, и бутылку тоже?
– Она была почти пустая, – объявил Казимир, пожимая плечами. – И потом, должен же был я как-то справиться с волнением! Не каждый день, дорогая племянница, приходится находить в своем чемодане женские руки!
– Дядюшка… – предостерегающе зашипела Амалия, которая имела все основания опасаться, что их могут услышать. – Кстати, я должна вас сразу же предупредить: никаких гостей до полуночи в моем доме, никаких кутежей и никаких карт!
– Можешь не беспокоиться, мне карты уже несколько недель в руки не идут, – вздохнул Казимир. – Как гляну на них, все о Марысе вспоминаю.
– О какой еще Марысе? – машинально спросила его собеседница.
– О моей жене, – признался Казимир, исподлобья глядя на нее. – Которая в Варшаве живет.
– Дядюшка, когда же вы женились? – удивилась Амалия. – То есть… Погодите! Вы что, о той Марысе, которую я выдумала, говорите?
– А кто тебя просил ее выдумывать? – завелся Казимир. – Ты так все описала: как я детей обирал, как они у меня свету белого не видели, – что я их как живых представил! И с тех пор даже есть не могу спокойно, вот! – Он расправил плечи. – Я похудел, понимаешь ты, племянница, прямо весь извелся. Я… я даже спать не могу спокойно! Все мне кажется, что я последний человек на свете, негодяй неописуемый, и в Варшаве у меня жена, которая день-деньской из-за меня плачет.
– Дядюшка, вы сошли с ума! – только и могла проговорить Амалия.
– Ну, до такого еще, слава богу, не дошло, – мигом успокоился Казимир. – И все-таки вот зачем тебе понадобилось такую историю выдумывать, а? Я из-за твоей Марыси последний покой потерял! В карты играть не могу, в клуб не тянет, все думаю, как она там в Варшаве… бедная… без меня… – Он всхлипнул и, достав щегольский платочек, протер им глаза. – И Адочка стала волноваться, поняла, что у меня что-то не так. Тебе-то, конечно, все равно… – И без перехода он спросил: – Кухарка в усадьбе как, хорошая?
– Пелагея? – спросила Амалия, ничуть не удивленная переменой темы. – Вполне.
– Тогда пусть приготовит мне обед, – объявил дядюшка. – А то в станционных буфетах говядина такая, словно ее для подметок готовили, а куры просто кожа да кости. Так что вели накрывать на стол, проголодался я после всех треволнений.
4
По своему характеру, привычкам и складу ума Казимир Станиславович Браницкий, дядя Амалии, был законченный паразит.
Он стал паразитом точно так же, как другие люди становятся кондукторами, лавочниками, писателями или чиновниками какого-нибудь министерства. Такова была его сущность, его призвание и, если быть до конца откровенным, смысл его жизни. Идеальная судьба мыслилась Казимиру таким образом: у него всегда есть деньги на его нужды, причем он совершенно не заботится о том, где их достать, они как-то сами собой приходят к нему; своим временем он распоряжается, как хочет, и делает, что хочет, причем никто не имеет права его стеснять; у него нет ни перед кем никаких обязательств, и он никому ничего не должен. В общем, это была свобода в самом широком и неограниченном смысле слова, подкрепленная к тому же достаточным количеством денег, чтобы о них не думать.
Беда в том, что в жизни свобода одного частенько заканчивается там, где начинается свобода другого. К тому же в грубой реальности нередки были люди, которые вовсе не принимали во внимание чаяния самого Казимира и изо всех сил пытались подогнать его под свои вульгарные представления о том, каким человеком он должен быть и что именно делать. Они хотели, чтобы он вел примерную жизнь, остепенился, нашел себе работу, женился, более или менее счастливо старел рядом со своей женой – словом, жил как все.
Выражение «жить, как все» вызывало у Казимира оторопь, мысль о семье вгоняла его в состояние, близкое к панике, а при слове «работа» он приходил в такой ужас, что начисто терял способность соображать. О нет, он вовсе не был глуп! К примеру, Казимир видел, что «все», которым его призывают подражать, в подавляющем большинстве не удовлетворены своей жизнью и даже глубоко несчастны, что семья, которая считается поддержкой и опорой всякого здравомыслящего человека, со временем превращается в обузу и что работа, которая дает средства к пропитанию, на деле сводится к ежедневному унижению перед вышестоящими. Но если человек иного склада сделал бы из своих наблюдений вывод, что надо не оглядываться на других, не требовать от семейной жизни слишком многого и искать работу, которая тебе по сердцу, то Казимир попросту стал избегать того, что могло хоть как-то помешать ему существовать так, как он хотел.
Конечно, если бы он был богат и независим, никто бы не посмел перечить его воле; но в том-то и дело, что он мог похвалиться чем угодно, только не богатством. От предыдущих поколений Казимиру достались разве что воспоминания о былом величии, звучная фамилия и легенды о более или менее отдаленных предках, которые никак нельзя было конвертировать в звонкую монету. Одно время Казимир даже подумывал жениться по расчету, но так как он был опять-таки неглуп и понимал, что в подобной ситуации всякий норовит заставить отработать за свои деньги вдвое больше того, что они стоят, то в конце концов отказался от мысли о женитьбе напрочь.
Спасла его дорогая сестра Аделаида. Их мать, умирая, взяла с нее клятву, что она не оставит своей заботой непутевого братца, а Аделаида никогда не забывала своих клятв. Она была, пожалуй, единственным человеком в мире, который воспринимал Казимира всерьез. Что бы тот ни сделал, сестра всегда была на его стороне, и не было такой силы на свете, которая заставила бы ее отступиться от него – маленького, необыкновенно изворотливого и, в сущности, совершенно бесполезного человечка.
Все остальные люди, включая дорогую племянницу Амалию Константиновну, принадлежали к тому враждебному, глухому и не поддающемуся чарам Казимира племени, которое так или иначе желало, чтобы он стал как все: пошел на службу, начал бы сам зарабатывать себе на пропитание (Казимир же содрогался при одной мысли о таком повороте!) и оказался бы в полной зависимости от какого-нибудь гнусного столоначальника[48], который имел несчастье появиться на свет раньше него и получить несколько никому не нужных наград.
Отправляясь в Синюю долину, Казимир не без уныния рисовал себе, как его там встретят. Аделаида Станиславовна выпроводила его из столицы под тем предлогом, что на свежем воздухе его здоровье пойдет на поправку, а то он целыми днями только и делает, что слоняется по дому да вздыхает так, что колышутся занавески. И Казимир, который никогда в жизни ничем не болел, дал себя убедить, что у него не все в порядке со здоровьем, собрал чемодан и поехал на вокзал.
Уже в пути он вспомнил, что терпеть не может провинциальное общество и вообще свежий воздух расстраивает ему нервы. Подобно своей племяннице, Казимир признавал только большие города. Он повздыхал для приличия, на очередной станции попробовал курицу, которая позже долго снилась ему в страшных снах, и решил, что жизнь его не удалась совершенно.
В вагоне он уснул и проспал свою остановку, а когда сел на обратный поезд, выяснил, что тот идет не туда, куда ему нужно. Казимир заметался, выскочил на первой станции и уже готов был, несмотря на наказ обожаемой сестры, возвращаться обратно в Петербург, но тут билетер все же удосужился ему объяснить, как добраться до Д., и Казимир воспрянул духом.
Теперь он сидел за столом напротив Амалии и уплетал вторую порцию разварного осетра, которого для него приготовила Пелагея. Его племянница, сдвинув брови, изучала подробную карту окрестностей. Между первым и вторым блюдом Казимир успел вытянуть из нее подробности исчезновения Натали Севастьяновой и убийства Любови Осиповны, так что теперь был в курсе всего, что произошло до его приезда.
– Я разговаривала с Дмитрием, – заметила Амалия, – и он не помнит, чтобы за истекшие четыре с лишним года в окрестностях находили неопознанные трупы, за исключением того, который выловили на мельнице. Так что получается, тело Натали до сих пор должно находиться где-то здесь… вопрос только в том, где именно.
– И охота тебе этим заниматься, племянница? – проворчал Казимир, незаметно расстегивая жилетную пуговку. – Судя по тому, что ты мне рассказала о Севастьянове, он сам во всем виноват. Нечего было жениться черт знает на ком.
Амалия метнула на него быстрый взгляд. Хотя дядюшка и был в своих суждениях недопустимо прямолинеен, она не могла не признать, что та же мысль успела прийти в голову и ей.
– Дом Пенковского находится на окраине Д., а дальше начинаются уже мои земли, – вслух сказала она и очертила на карте неровный круг. – Где-то здесь и следует искать.
– Так ты думаешь, ее убили, а тело спрятали, чтобы его не нашли? – Казимир говорил и думал, не будет ли мовежанром попросить и третью порцию осетра, который прямо-таки таял во рту.
– Да, ее убили, – подтвердила Амалия. – Она не могла бежать, потому что все ее драгоценности остались дома, и тем не менее она исчезла. С ней не мог произойти несчастный случай, потому что ее долго искали. И, конечно, она позвала бы на помощь. Значит, остается только убийство, причем, судя по всему, умышленное. Домбровский вспоминает, что неподалеку лаяли собаки, возможно, оттого, что учуяли постороннего. Тот человек дождался, когда она выйдет из дома, подкараулил ее в сумерках и убил. Причем без кровопролития, иначе следы крови нашли бы, когда ее искали, а Севастьянов ни о чем таком не упоминал.
– Значит, ее задушили? – Казимир незаметно зевнул и прикрыл ладонью рот.
Амалия кивнула и продолжила:
– И это возвращает нас к тому, как была убита Любовь Осиповна. Ведь ее тоже задушили. Уверена, оба убийства – дело рук одного и того же человека. Любовь Осиповна думала, что знает, где Натали, потому что видела в Париже кого-то, похожего на нее. И она пообещала вслух в присутствии многих людей сказать Севастьянову, где его жена. Ее слова слышал убийца – и испугался. Он решил, что вдова судьи и в самом деле что-то знает, и поспешил от нее избавиться. Хотя в то время, когда Натали исчезла, Любовь Осиповна уже была за границей…
– А письма? – спросил Казимир. – Я имею в виду те, которые обвиняют Севастьянова в том, что именно он убил Натали.
– С письмами все понятно, – отмахнулась Амалия. – Я почти уверена, что знаю, кто их пишет.
– Надо же! – пробормотал ее дядюшка. – Послушай, так если воскресшую вдову убили, на сей раз окончательно, получается, что больше она не сможет отсудить у тебя имение?
– Она успела заключить соглашение с одним местным миллионщиком, что они будут вести процесс вместе и в случае успеха поделят Синюю долину пополам, – сухо сообщила Амалия. – А миллионщик уже хлопочет, желая привлечь к процессу Тизенгаузена. Сам знаешь, что тот за адвокат. Думаю, он сумеет найти в законах какую-нибудь закорючку, чтобы все-таки начать дело. Хотя я намерена помешать ему, ведь он слишком любит вытаскивать на процессах прошлое противоположной стороны, а мне это совершенно ни к чему.
– Да? – вздохнул Казимир. – Тогда я, пожалуй, возьму еще одну порцию осетра. Доктора говорят, что рыбное полезно для здоровья, а Адочка послала меня сюда, чтобы я поправлялся.
Амалия бросила на него быстрый взгляд и покачала головой.
5
«Его высокородию Александру Богдановичу Зимородкову
В Санкт-Петербург, Невский проспект, дом Бергдорф
В собственные руки.
Дорогой Александр Богданович, благоволите взглянуть на прилагаемую пятирублевую ассигнацию и отпишите мне, правильно ли я поняла, что она не имеет никакого отношения к Министерству финансов нашей империи. Сама ассигнация была найдена мной случайно в сюртуке, который оказался в чемодане, с коим приехал мой дядя Казимир; но это долгая история, и ее подробности, с вашего позволения, я лучше поведаю вам при встрече.
Кроме того, мне бы хотелось узнать вот что: вы наверняка сумеете навести справки в архивах, не было ли найдено в губернии, в которой я сейчас нахожусь, неопознанных женских трупов приблизительно 25 лет от роду, в период после 9 сентября 188… года и по нынешний день. По моим сведениям, таких вроде бы не имеется, но мне до крайности хотелось бы знать наверняка.
Искренне ваша
Амалия Корф».
* * *
«Санкт-Петербург, совершенно секретно. Шифрованное.
Убедительно прошу ваше превосходительство изыскать средства, чтобы избавить меня от процесса с участием известного адвоката, г-на Тизенгаузена. Хотя я по состоянию здоровья и не нахожусь более в особой службе, я, однако же, полагаю, что услуг, оказанных мной империи, вполне достаточно, чтобы вы пожелали войти в мое положение. У г-на Тизенгаузена слишком громкая слава, и он чересчур склонен искать ненужные детали в прошлом тех, против кого ему приходится выстраивать защиту клиента. Если он предаст огласке мою работу во Франции, Германии и особенно Англии (что он может сделать, поскольку некоторые языки всегда оказываются длиннее, чем следовало бы), в таком случае пострадаю не только я, но и многие люди в нашей службе, чего мне всеми силами хотелось бы избегнуть.
Баронесса А. Корф».
Подпись на расшифрованном сообщении: «Передать для ознакомления министру. Дело имеет слишком частный характер. Генерал Багратионов».
«С текстом записки ознакомлен. С характеристикой генерала согласен, но представленные госпожой баронессой доводы все же вполне убедительны. Предлагаю сообщить е. и.в.[49] Министр…» (подпись неразборчива).
«Записку прочитал. Хоть сия особа и весьма строптива, в обиду ее давать не следует. Примите надлежащие меры. Александр».
«Дело поручено агенту Свиридову. Для успеха оного ему в подмогу выделены агенты Агриппина Селедкина и Агафья Кривошеина. О ходе операции предписано сообщить особо. Генерал Багратионов».
6
– Я получил еще два письма, – сообщил Севастьянов.
Лицо его осунулось, под глазами лежали синеватые круги. Мышка, устроившаяся у него на коленях, жалобно смотрела на него.
– Покажите, – велела Амалия.
Мужчина протянул ей два конверта, и первым делом она стала разбирать, что написано на штемпелях.
– Первое из Суздаля, второе из Рязани, – подал голос Степан Александрович. – Я уже смотрел. Газеты, из которых вырезаны буквы, наши, местные.
Первое письмо гласило: «Ты убил свою жену. Молись, грешник». Второе прямо заявляло: «Скоро грядет час расплаты за то, что ты совершил».
– Да… – медленно проговорила Амалия, – что-то новенькое… Неужели?.. – Она нахмурилась. – Нет, не может быть. Не стал бы он писать таких писем! Не в его стиле, в конце концов!
– О чем вы? – спросил Степан Александрович, с беспокойством глядя на нее.
– Я была почти уверена, что знаю, чьих рук дело – послания на ваш адрес, – объяснила Амалия. – Но теперь…
– Так или иначе, их автор не шантажист, – сказал Севастьянов. – Вспомните, вначале вы утверждали, что он будет требовать деньги. Но он даже не заговорил о них.
– Да, – подтвердила Амалия, – и это-то мне и не нравится. – Она пристально посмотрела на своего собеседника. – Нам придется обыскать округу в радиусе нескольких верст от того места, где пропала ваша жена. Особенно лес и ту его часть, где легко спрятать тело, чтобы его годами никто не мог найти.
Севастьянов сгорбился и машинально погладил кошку.
– Вы рассчитываете найти труп Натали? – хрипло спросил он.
– Боюсь, нам больше ничего не остается, – просто сказала Амалия. – Возьмем с собой карту и начнем поиски. К сожалению, придется обойтись несколькими людьми, потому что мы не можем посвящать в дело посторонних. Тем не менее вы, я и дядя Казимир…
Она бросила косой взгляд на Антошу, который как раз в то мгновение проходил мимо них к крыльцу усадьбы, неся под мышкой пустой таз.
– Простите, – внезапно сказала Амалия. – Я отлучусь на минуту, мне надо отдать кое-какие распоряжения по хозяйству.
Она встала из-за стола, который по случаю великолепной погоды установили в саду возле сиреневых кустов, и подошла к молодому человеку.
– Что с сюртуком? – без обиняков спросила она.
Антоша кивнул своей морковной головой.
– Я его замочил, а потом постирал, – объявил он. – Пришлось несколько раз воду менять.
– Метка видна? – нетерпеливо спросила Амалия, которую не интересовали ненужные подробности.
– Три буквы, – вздохнул Антон. – Но она не наша.
– Покажи, – потребовала Амалия и вслед за рыжим прошествовала к веревкам на заднем дворе, на которых сушилось белье.
– Вот, – доложил Антон, отворачивая мокрый, тяжелый от воды борт и показывая очищенную метку. – Первая буква на нашу «Р» похожа, но не нашенская.
– Да уж, – буркнула Амалия. – Первая буква F, за ней… черт, стерто… то ли три, то ли четыре буквы… И в конце «er». Фидлер? Феррер? – Она покачала головой. – Если бы хоть счет из чемодана сохранился целиком, можно было бы установить гостиницу и город, мы тогда знали бы, с чего начать, а тут… Похоже, тупик.
– Может, когда высохнет, что-нибудь прояснится? – с надеждой предположил Антоша. – Или буквы станут виднее…
– Может быть, – без особого энтузиазма сказала Амалия.
– А вы меня с собой возьмете? – внезапно спросил юноша.
– Ты о чем?
Антоша пару раз моргнул и почесал нос.
– Ну, как же… Вы же хотите лес осматривать, искать тело Натальи Георгиевны? Я могу вам помочь. Вам же люди нужны?
Амалия мрачно посмотрела на него.
– Что, уже все слышал? – спросила она сердито.
– Ага, – подтвердил Антоша. – Да уже и в городе все знают, что она не с гусаром сбежала, а пропала… – Он заметил, как Амалия переменилась в лице, и даже попятился. – Это не я! Просто у Дмитрия Матвеича, когда выпьет в трактире, язык развязывается… А я ни слова, ни полслова! Клянусь вам!
Он еще что-то горячо говорил, убеждая Амалию в своей невиновности, но тут на заднем дворе показалась запыхавшаяся раскрасневшаяся Лизавета.
– Госпожа баронесса, там судебный следователь приехал…
«Так, начинается…» – бухнул противный внутренний голос в голове Амалии. Она махнула рукой, отпуская горничную, и пошла обратно в сад.
При ее появлении Максим Алексеевич Чечевицын поднялся с места. Амалия заметила, что он уже успел разложить на столе бумаги из своего портфеля. Севастьянов смотрел куда-то в сторону, и выражение его лица можно было назвать каким угодно, только не дружелюбным.
– Должен вас предупредить, сударыня, – объявил Максим Алексеич, когда с приветствиями было покончено, – я нахожусь здесь в качестве официального лица, которое ведет расследование убийства Любови Осиповны Нарышкиной, урожденной Бехметьевой, и все ваши показания по делу будут должным образом занесены в протокол.
Он был настолько серьезен, что у Амалии возникло желание рассмеяться – только для того, чтобы посмотреть на его реакцию. Тем не менее она сказала с подобающим случаю видом:
– Боюсь, я слишком мало знала убитую, чтобы мои показания могли представлять интерес для следствия. Почему бы вам не обратиться к тем, кто был знаком с ней лучше, чем я?
Прежде чем ответить, Максим Алексеевич выдержал паузу.
– Конечно, Любовь Осиповну знали многие в Д., – признал он наконец. – Но, согласитесь, не все имели с ней тяжбу из-за наследства.
– Сколько мне известно, – проговорила Амалия тяжелым голосом, – никакой тяжбы пока нет. А если вы намекаете на то, что я обманным образом пробралась в сад к Пенковским и задушила Любовь Осиповну, после чего зачем-то бросила ее тело в фонтан, вам лучше оставить службу и начать сочинять романы. Только в романах женщины, знаете ли, обладают столь недюжинной силой.
И она с торжеством посмотрела на Чечевицына. Антоша, который пришел следом за ней, притаился за кустами сирени, боясь дохнуть.
– Полагаю, – медовым голосом возразил Максим Алексеич, – вам не следует учить меня моему делу, сударыня. Конечно же, физически вы не могли убить несчастную, но вот ваш слуга Дмитрий…
– А что с моим слугой? – спросила Амалия, но под ложечкой у нее противно екнуло.
– Вы так неожиданно назначили его управляющим… – продолжал следователь, безмятежно глядя на нее сквозь очки.
– Только на время моего отсутствия, – отрезала Амалия. – Вы станете указывать мне, что делать с лю-дьми, которые мне служат?
– Конечно же, нет, госпожа баронесса, но странно, что у Саввы Аркадьича он был всего лишь лакеем и кучером, а у вас сразу же вознесся до управляющего. Или, может быть, он оказал вам какие-то особые услуги?
У Антоши руки сами собой сжались в кулаки, но тут до него – надо признаться, весьма кстати – донесся сочный баритон Севастьянова.
– Амалия Константиновна, – очень кротко спросил акцизный в отставке, – что мне будет, если я его выставлю отсюда?
– По-моему, подобное называется покушением на должностную особу, состоящую при исполнении, – ответила Амалия. – Полно вам, Степан Александрович, не связывайтесь с ним. Ясно же: у него ничего нет, поэтому он и ведет себя таким образом.
– Боюсь, – ласково ввернул Чечевицын, – я вынужден занести ваши слова в протокол. Особенно угрозу физического насилия.
В ответ Севастьянов схватил его чернильницу и целиком вылил ее на чистый лист, который Максим Алексеич приготовился заполнять.
– Вот тебе протокол! – рявкнул Степан Александрович. И, словно такого поступка было мало, с силой стукнул кулаком по столу, отчего ваза с цветами, стоявшая на нем, подпрыгнула и завалилась набок, причем вода из нее выплеснулась на следовательский портфель.
Чечевицын медленно поднялся с места.
– Это… это возмутительно… – пробормотал он. – Я… я буду вынужден принять меры…
– Какие еще меры, уважаемый? – холодно спросила Амалия. – И я, и Степан Александрович сами, своими глазами видели, как вы случайно опрокинули чернильницу на свои бумаги. Кто ж виноват, что вы немножечко неловки?
Максим Алексеич поглядел на ее невозмутимое лицо, на красного от злости Севастьянова и решил, что в данной ситуации он и в самом деле ничего не докажет. Поэтому он сел и с отвращением скомкал испорченный лист, испачкав себе руки.
– Я вынужден попросить у вас чернил, сударыня, – сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал естественно.
Но, к его удивлению, Амалия покачала головой.
– Не держим, – объявила она.
– Что, у вас в доме нет чернил? – растерялся следователь.
– Ни капли, – вздохнула Амалия. – И вообще грамотность – ужасный предрассудок. Ведь правда, дядюшка? – обратилась она к Казимиру, который только что спустился в сад.
– Да! Конечно же! – с энтузиазмом подтвердил сначала дядюшка, а потом на всякий случай осведомился: – А что ты спросила?
От наглости маленького человечка у следователя перехватило дыхание. Впрочем, все тут присутствующие явно стоили друг друга – и красивая петербургская дама с хмурым лицом, и Севастьянов, вокруг которого исчезали и гибли люди, и дядюшка хозяйки, сытый буржуа, преисполненный самого противного самодовольства. А хуже всего было то, что он, Максим Алексеевич Чечевицын, оставался один против них. Кроме того, он смутно подозревал (и даже был уверен), что, хотя закон был на его стороне, новая хозяйка Синей долины ничуть его не боялась и все его следственные полномочия для нее не значили ничего.
– Я понимаю, сударыня, – проговорил Чечевицын, стараясь оставаться спокойным. – Поверьте, я все понимаю. И то, что вы вовсе не заинтересованы в том, чтобы я нашел убийцу Любови Осиповны, тоже.
Он медленно поднялся с места и стал собирать чистые листы бумаги обратно в свой портфель.
– Скажите, Максим Алексеевич, сколько убийств вы раскрыли с тех пор, как прибыли сюда? – спросила хозяйка Синей долины.
Чечевицын с удивлением посмотрел на нее.
– Право же, сударыня… Здесь все-таки не Петербург, где каждый день то убийство, то покушение на убийство. Тихий край, патриархальные нравы…
– Да-да, невежественный и угнетенный народ, несознательность масс и так далее, – самым неучтивым образом перебила его Амалия. – Все это мне уже известно. Но вы, конкретно, сколько раскрыли за время работы здесь тяжких преступлений? Взять хотя бы того беднягу, тело которого выловили возле мельницы. Вы нашли того, кто его убил?
Чечевицын покраснел. По правде говоря, он не смог даже установить личность убитого, без чего было бы сложно вообще говорить о раскрытии дела.
– Ничего он не нашел, – вместо него ответил Степан Александрович.
Казимир, отойдя к клумбе, сорвал пышный тюльпан и приладил его себе на сюртук в качестве бутоньерки. Дядюшка Амалии находился в отличном настроении. Положительно, здесь, в старинной усадьбе, призрак никогда не существовавшей Марыси стал от него отступать.
– Сколько вы получаете? – без обиняков спросила Амалия.
Тут Максим Алексеевич натуральным образом побагровел.
– Не понимаю, сударыня, – забурчал он, – какое отношение мое жалованье имеет…
– Вы получаете, – отрезала Амалия, – не меньше двухсот рублей в месяц, как какой-нибудь статский советник в Петербурге. По-вашему, вы оправдываете ваше жалованье? Когда Степан Александрович, здесь присутствующий, пришел к вам и стал просить отыскать его жену, что вы ему сказали? Что в уложении о наказаниях нет статьи, которая предусматривала бы наказание за любовь, и что свободная женщина должна сама решать, с кем ей жить. А ведь она не бежала из дома – нет, она исчезла бесследно! Но для вас было важно произнести высокие слова – и ничего не сделать. Что вы отыскали по делу неизвестного, чей труп нашли на моей мельнице? – Тут, правда, Амалия несколько исказила события, мельница в то время еще не принадлежала ей, но все и так поняли, что она имеет в виду. – Ничего? Вы даже не сумели узнать, кто он такой, опросили хозяев нескольких гостиниц – и успокоились. А вы хотя бы подумали о том, что это был живой человек? У него ведь были мать, отец, девушка, которая его любила, друзья, близкие, люди, которые дорожили им… Вы подумали, что он лежит в безымянной могиле, и никто из близких не может на его могилу прийти, потому что не знает, что он там? Подумали, что его убийца торжествует, потому что благодаря вам ушел безнаказанным? Да, безнаказанным! И вы смеете мне с какой-то астрономической дерзостью заявлять, что раскроете убийство жены Саввы Аркадьича, происшедшее, между прочим, в нескольких шагах от вас! Только вот что-то мне подсказывает, что, если бы оно даже случилось на ваших глазах, вы бы все равно ничего не нашли!
Антоша открыл рот. Он видел, как его отец распекал приказчиков, как отчитывал за провинности половых в своей гостинице дядя Гаврила, но он никогда еще не видел, чтобы взрослого, образованного, слывшего умным человека вот так, несколькими фразами обратили в ничто, уничтожили, стерли в порошок.
Максим Алексеевич дернул щекой. Ему очень хотелось возразить что-нибудь баронессе, совершенно несносной особе, но, как говорят игроки, крыть было нечем. Однако он решил хотя бы попытаться оставить последнее слово за собой.
– Отдаю должное вашему красноречию, милостивая государыня, – промолвил он с легким поклоном. – Еще немного, и вы, пожалуй, убедили бы меня, что не замешаны в убийстве Любови Осиповны. Однако дозвольте вам напомнить, что мы живем в другие времена, и нынче перед законом все равны. Не обессудьте, но если я получу доказательства вашей вины, вам придется отвечать перед судом. И ваши высокородные друзья, которые наверняка у вас имеются, вас не спасут. Если понадобится, – продолжал следователь, воодушевляясь, – я переверну этот дом вверх дном, допрошу всех, кого только можно, но уличу вас. Пока – запомните, я сказал пока! – вы остаетесь у меня на подозрении. Поскольку что бы вы ни говорили, но терять столь дорогостоящее имущество наверняка несладко. Честь имею.
Он холодно кивнул Степану Александровичу, который молча, оторопев, смотрел на него во все глаза, взял свой мокрый портфель и удалился. В аллее следователь влез в шарабан и велел кучеру трогать. Тот кивнул и хлестнул лошадей.
– Я что-то пропустил? – невинно осведомился Казимир, подходя к племяннице и поправляя тюльпан в петлице.
7
Амалия разрывалась на части. С одной стороны, надо было обыскивать лес, так как она была уверена, что именно там они найдут без вести пропавшую Натали. С другой стороны, следовало прояснить кое-что по поводу угрожающих писем. С третьей – обнаруженные в чемодане рука и нога тоже требовали самого пристального ее внимания. С четвертой – Амалии очень хотелось прищучить Пенковского, посмевшего заявиться к ней с фальшивым векселем, тем более что у нее имелись все основания. В общем, работы был непочатый край.
С некоторым сожалением Амалия решила пока отказаться от мести Пенковскому, отложив ее до лучших времен. Письма тоже могли подождать, хотя теперь Амалия окончательно убедилась, что была не права по поводу их автора. Она послала Антошу навести справки в «Бель-Вю» и у Федота Федотыча и таким образом выяснила, что человек, который ее интересовал, вообще не писал никому писем. Стало быть, на повестке дня оставались два дела: то, что касалось бесхозных руки и ноги в коричневом чемодане, и то, которое началось почти пять лет назад, когда Натали Севастьянова накинула на плечи шаль и ушла с вечера Оленьки в неизвестность. Именно с него Амалия и предполагала начать.
Впрочем, ей пришлось почти сразу же столкнуться с разбродом в рядах своих соратников. Потому что только Антоша был готов следовать за ней куда угодно, Севастьянов же нервно ерошил бакенбарды и повторял, что не может поверить в смерть Натали, что она наверняка жива и здорова и находится в Ялте, откуда прислала ему просьбу о денежной помощи. Он даже порывался поехать туда на ее поиски, и Амалия насилу его отговорила, пообещав, впрочем, для очистки совести навести справки через всезнающего Зимородкова.
Что же касается дядюшки Казимира, то, как только он узнал, что ему придется шататься по лесам и болотам в поисках какого-то трупа пятилетней давности, он сразу же опрокинул в себя большой бокал крюшона и объявил, что с младенческого возраста питает отвращение к чащам, рощам и полянам, что в лесу ему становится дурно и трудно дышать, не говоря уже о том, что там могут водиться волки, медведи и прочие четвероногие, которые наверняка спят и видят, как бы обидеть его, Казимирчика. Одним словом, он просит освободить его от поисков, но обещает и торжественно клянется беречь тылы и сидеть в усадьбе на случай, если вдруг опять нагрянут незваные гости вроде того настырного следователя.
Амалия и сердилась, и настаивала, и упрашивала, но бесполезно: Казимир ничего не хотел слышать. Севастьянова она в конце концов сумела убедить, однако понимала: в любых поисках будет мало толку от того, кто скорее заинтересован ничего не найти, чем найти что-то. И тем не менее на следующее утро трое – она, Антоша и Степан Александрович, – захватив с собой на всякий случай ружья, отправились на поиски в лес.
В результате они нашли двух ежей, дюжину перепелов, лисицу, ужа, старичка Егора Галактионовича, который нес лукошко, полное разных трав, и мужичков из Рябиновки, которые деловито пилили господский лес. Тут Амалия вспомнила о праве на собственность, осерчала и потребовала старосту и понятых.
Пока урядник в усадьбе составлял протокол, вдали на дороге возникло облачко пыли, и вскоре стало ясно – едет шарабан следователя Чечевицына. Амалия решила, что ей придется, как до того Савве Аркадьичу Нарышкину, выдержать прочувствованную рацею по поводу народной бедности и несознательности масс, которые вынуждены воровать у нее лес, но все оказалось совсем не так, как она думала.
Максим Алексеевич предъявил ей составленную по всей форме бумагу, разрешавшую ему сделать обыск в ее усадьбе на предмет обнаружения улик, могущих иметь касательство к убийству Любови Осиповны Нарышкиной.
– Вы ничего не найдете, – ледяным тоном сказала Амалия, возвращая бумагу следователю. Но если тон был ледяным, то глаза петербургской дамы, казалось, прожигали его насквозь.
– Это мы еще посмотрим, – хладнокровно возразил не к месту настырный Чечевицын. – Кроме вас, сударыня, кто еще есть в доме?
Амалия бегло перечислила. Степан Александрович у нее в гостях, дядя Казимир приехал поправлять здоровье. И четверо слуг: кухарка Пелагея, горничная Лиза, а также Дмитрий и новый садовник Антоша. Слуги столпились на крыльце, и Амалия не сразу сообразила, что кое-кого среди них нет на месте. Антоша, которого она видела не далее как четверть часа назад, куда-то исчез.
– Ну что ж, – благодушно молвил Максим Алексеевич, – пора, пожалуй, приступать к обыску.
Не мешкая долее, следователь вошел в дом и уверенно двинулся к погребу.
Сердце у Амалии екнуло, а в голове пробежали какие-то бессвязные, но крайне скверные мысли о веснушчатой змее, пригретой (фигурально выражаясь) на груди, и внешности, которая всегда бывает обманчивой. Нет сомнений, Чечевицын знал, куда именно идти. Как знал и то, что именно ему надо искать.
Амалия представила, как спокойный, уверенный в себе следователь откроет сейчас коричневый чемодан, выудит на свет божий окоченевшую руку и точно такую же ногу, и ей стало совсем не по себе. Конечно, разразится неописуемый скандал. Казимир будет врать без нужды и только убедит следствие в своей виновности, купеческий сын с безмятежным взором даст против нее показания… и будет позор, поношение, гнусные пасквили в газетах, тень на имени, смешки в гостиных и черт знает что. А все оттого, что она, Амалия Константиновна Корф, в который раз сочла себя умнее всех прочих и захотела сама вести расследование там, где делом явно должны заниматься компетентные органы.
«Убью рыжего!» – в сердцах решила наша героиня. Но, во-первых, это было глупо, а во-вторых, если уж говорить по справедливости, она сама была во всем виновата. Нечего было приближать к себе человека, отец которого спал и видел, как бы отобрать у нее наследство. Ведь с самого начала было понятно, чем все кончится.
Они были уже в погребе. Урядник, господа, слуги и понятые двигались молчаливыми тенями вслед за Максимом Алексеевичем, который безошибочно вел их. Подойдя к шкафу со сложенными горизонтально бутылками, покрытыми паутиной, следователь на мгновение задумался, но потом посмотрел за него и точным, рассчитанным движением извлек из щели между шкафом и стеной коричневый чемодан. Казимир, наблюдая за его действиями, испустил тихий писк и в немом ужасе закусил костяшки пальцев. Он не хуже Амалии знал, что должно произойти следом.
– Это ваш чемодан, сударыня? – очень вежливо спросил Максим Алексеевич.
Амалия вскинула голову и ответила.
– Да, мой.
– Я могу его открыть? – еще вежливее осведомился следователь.
– Сколько угодно. – И, хотя Амалия считала себя храбрым человеком (и имела на то все основания), голос у нее в тот момент сел.
– Ну что ж… – вздохнул Чечевицын и обратился к усатому уряднику, который нес лампу: – Посветите сюда.
Он отстегнул ремни и откинул крышку.
8
Антоша бежал.
Сердце едва не выскакивало у него из груди, дыхание со свистом вырывалось изо рта. Он споткнулся о лежащий на земле сук и растянулся всем телом, но тотчас же снова вскочил на ноги и продолжил бег.
Вдали на колокольне рябиновской церквушки начал бить колокол. По лесу пронесся холодный ветер, где-то тоскливо заухал филин. Антоша немного отдышался и вновь двинулся вперед.
Он сошел с тропинки, чтобы срезать часть пути, и углубился в рощу. По его расчетам, так он быстрее вернется в усадьбу, где, конечно же, его отсутствие уже заметили. «Она будет беспокоиться», – подумал Антоша. При одном воспоминании о ней на его губах вспыхнула улыбка, а на щеках появились ямочки.
Через сотню шагов он заметил, что деревья впереди поредели, и в нерешительности остановился. Где-то здесь было болото, в котором несколько лет назад завяз местный браконьер, и Антоша решил, что осторожность не помешает, тем более что в этом лесу он был лишь второй раз в жизни. Колокол давно умолк, и теперь юноша не был уверен, правильное ли он избрал направление. Но, подумав, уж не вернуться ли ему обратно на тропинку, он вспомнил об Амалии, о том, что она будет волноваться, и отважно двинулся дальше.
Внезапно его нога ушла в землю едва ли не по щиколотку. С приглушенным воплем Антоша отскочил назад, и как раз вовремя. Земля противно чавкнула, и только теперь Антоша заметил, что оказался на краю болота. С виду лес здесь казался таким же, как и любой другой, но юноша вспомнил, что рассказывали о топи местные старики, и похолодел. Ни в коем случае нельзя идти вперед, надо все же возвращаться и искать тропинку…
Он был слишком поглощен своими мыслями и оттого не заметил: какая-то фигура отлепилась от ствола ближнего дерева и метнулась к нему. Затем Антоша почувствовал сильный удар в спину. Мгновение – и, раскинув руки, он полетел прямо в трясину. Где-то на верхушке сосны затрещал клювом дятел, вдали завела свой унылый речитатив кукушка, но Антоша уже не слышал их. Топь затягивала его. Из последних сил юноша рванулся, пытаясь освободиться, – и ушел в болото по самые плечи. Вернувшись за деревья, человек, толкнувший Антошу, смотрел, как его засасывает в могилу, потом тихо хихикнул – и растворился среди теней, населяющих лес.
Глава 6 Омут
Собою жертвовать смешно.
«Евгений Онегин», глава втораяТак напряженьем воли твердой
Мы страсть безумную смирим,
Беду снесем душою гордой,
Печаль надеждой усладим.
«Евгений Онегин», глава седьмая1
– Что это такое? – прошептал Чечевицын.
Пораженный его тоном, Степан Александрович подошел ближе. Он увидел самый обыкновенный коричневый чемодан, в котором лежало грязное белье, какая-то одежда и несколько книжек. С точки зрения Севастьянова, ни один из названных предметов не мог представлять для следствия интереса, но Чечевицын, очевидно, считал иначе. Он вытащил одну из книжек и с видом крайнего удивления осмотрел ее.
– Право слово, Максим Алексеевич, я вас не понимаю, – сказала Амалия, царственно пожимая плечами. – Ну Леопольд д’Аркур, «Таверна «Золотая лилия», 3 часть. Дальше что? По-вашему, книга как-то доказывает мою причастность к гибели Любови Осиповны?
Судя по всему, автор «Золотой лилии» не вызывал у следователя решительно никакой симпатии. Он вытащил из чемодана все книги и перетряс их, после чего принялся за тряпки.
– Позвольте! – возмутился Степан Александрович, видя, как следователь чуть ли не перед носом Амалии трясет чьими-то кальсонами. – Тут дамы, в конце концов! Извольте вести себя прилично!
Чечевицын кинул на него полный бешенства взгляд и стал разворачивать простыни. Казимир, держась пухлой ручкой за сердце, тихо ликовал.
Покончив с осмотром чемодана, Максим Алексеевич заглянул еще раз за шкаф с бутылками, не нашел там более ничего, кроме паутины и прилежно плетущего ее паука, и обернулся к Амалии.
– Могу ли я спросить у вас, сударыня, – тщетно пытаясь сохранить независимый вид, спросил он, – зачем вы держите в погребе этот чемодан?
– Можете, – отозвалась хозяйка Синей долины. – Затем, что это мой погреб и мой чемодан. – И она с вызовом уставилась на следователя.
Урядник Петренко крякнул и подкрутил ус. Он терпеть не мог следователя и был рад, что городского умника посадили в лужу.
– И тем не менее, – цепляясь за последнюю надежду, упрямо возразил Чечевицын, – погреб все-таки не самое лучшее место для хранения чемоданов, согласитесь!
– Смотря каких, – возразила практичная Амалия. – По-вашему, в чемодане находится что-то, из-за чего я стала бы беспокоиться?
Максим Алексеевич поглядел на ее торжествующее лицо и отвернулся. Боже мой! И как он мог поверить тому, что ему рассказали нынче утром! Ведь знал же он, знал, что можно кому угодно доверять, кроме этой… этой… И, не найдя достаточно крепких слов, чтобы выразить – хотя бы мысленно – свое бешенство, Чечевицын дернул головой и ослабил ворот, который стал казаться ему слишком тесным.
А дело было просто. Лиза, которая так и не смогла забыть отрубленную руку, казавшуюся до ужаса настоящей, проговорилась о чемодане Пелагее, а та, в свою очередь, Дмитрию. Что касается Дмитрия, то он не умел держать язык на привязи и в трактире проболтался своему приятелю, дворнику Марьи Никитишны. Дворник передал ценную информацию хозяйке, а уже та, разумеется, совершенно случайно – довела до сведения следователя.
Узнав, что умалишенный дядюшка новой хозяйки развлечения ради возит в чемоданах отрубленные части тел, Максим Алексеевич воспрянул духом и начал действовать. Он заручился поддержкой нужных людей и с быстротой, изумившей его самого, раздобыл ордер на обыск. Впрочем, если эту быстроту Чечевицын склонен был относить на счет своей профессиональной репутации, то Маврикий Алпатыч, знакомый Марьи Никитишны, скорее всего, придерживался другого мнения. Недаром одна из его горничных тоже была дружна с дворником старой сплетницы.
Чечевицын был уверен, что, стоит ему только получить повод как следует взяться за Амалию и пригрозить ей скандалом на всю Россию, как она не выдержит и наверняка сознается в убийстве Любови Осиповны. Пока, однако, скандал хоть и намечался, но вовсе не в ту сторону. Проклятый чемодан на поверку не содержал в себе ничего, кроме дрянных книжек и еще более дрянных кальсон, пошитых, судя по длине штанин, на форменную коломенскую версту. Отсюда сами собой напрашивались три вывода: первый – что Дмитрию спьяну померещилось невесть что, второй – что Марья Никитишна давно выжила из ума (обстоятельство, о котором Максим Алексеевич давно догадывался), и третий – что сам он осел, каких свет не видел. В формулярном списке его грозно замаячило дело о превышении должностных полномочий, а в янтарном взоре Амалии он прочел желание довести дело до логического завершения и полного жизненного краха следователя Чечевицына. Максим Алексеич с омерзением покосился на чемодан, затолкал в него обратно книжки, застегнул ремни и засунул его на место.
– Желаете осмотреть еще что-нибудь? – осведомилась Амалия.
Чечевицын не желал. Очень вежливо, хоть левая щека следователя и подергивалась от нервного тика, он попросил прощения у госпожи баронессы за то, что посмел ее побеспокоить. До него дошли сведения, которые он счел своим долгом проверить… Максим Алексеич шаркнул ножкой и возненавидел сам себя. Понятые ухмылялись, на роже урядника цвело торжество. Казимир сиял, как фальшивая монета.
Тут вмешался Степан Александрович и довольно сухо попросил у хозяйки позволения отвести гостя к выходу. Разумеется, Амалия Константиновна не имела ничего против.
Все потянулись обратно в комнаты. Урядник стал заканчивать протокол по поводу мужичков, занимающихся незаконной порубкой. Казимир, улучив минутку, подошел к племяннице и с чувством пожал ей руку:
– Племянница, я сражен! Признаться, когда я завидел вновь суровую физиономию следователя, у меня душа ушла в пятки. Но ты здорово все придумала, с чемоданом-то!
– Нет, – ответила Амалия коротко, сверкнув глазами, – не я.
– А кто же? – растерянно моргнул Казимир.
– Похоже, что Антоша, – вздохнула молодая женщина. – Он нас и спас. Интересно только, куда мальчишка запропастился?
2
Рыжая белка качнула ветку, прыгнула на другое дерево и молнией скользнула вниз по стволу. Завязший в трясине Антоша проводил ее тоскующим взглядом, как будто она могла ему помочь.
Почему, ну почему он так попался?
Первые несколько минут он барахтался, как мог, отчего становилось только хуже – уходил в трясину все глубже и глубже. Тина теперь была уже на уровне его шеи.
– Помогите! – крикнул юноша.
Ни звука в ответ. Только дятел: тук-тук-тук. Птицы: фью! фить! фью! И трясина, которая тихо булькает, готовая окончательно поглотить его.
С трудом вытянув одну руку, он уцепился за ближайшую кочку. Та шумно вздохнула, как живое существо, и нырнула вниз. Антоша потерял опору и едва не ушел в топь окончательно, но все же сумел сохранить равновесие и кое-как удержался в том же положении.
– Господи… – прошептал он. – Спаси, спаси, спаси…
Трясина давила на грудь, дышать было тяжело. Он вновь выбросил руку, стал искать хоть что-нибудь, за что можно уцепиться. И нашел – старую кривую палку. Антоша скосил глаза на гибкие ветви дерева, нависшие над ним, и подумал, что если удастся притянуть к себе самую толстую из них, то, может, она вытянет его из трясины. Стиснув зубы, он стал пытаться закинуть палку так, чтобы она зацепила ветвь.
На третий или четвертый раз палка все-таки захватила ветку, но, когда Антоша почти подтащил ее к себе, та начала соскальзывать с палки. Сделав отчаянное движение, Антоша ухватил ветвь за самый кончик и стал подтягивать к себе. Дерево протестующее затрещало. Стиснув зубы, Антоша сумел, несмотря на сопротивление тины, сделать крохотный шаг и поудобнее перехватил ветвь.
Хрррак!
Ветвь треснула и отломилась. Антошу отбросило обратно в трясину. Он почувствовал: еще немного, и его засосет на дно окончательно. Из последних сил юноша забарахтался, забил по жиже руками, закричал что-то… Его затянуло по подбородок, но он сумел выдраться, вцепился в какую-то кочку, сделал шаг, другой… И внезапно почувствовал под левой ногой твердую землю.
Не веря своему счастью, Антоша двинулся в ту же сторону, медленно, по сантиметру, отвоевывая тело у болота. Высокий рост спас его – будь он на голову ниже, давно бы ушел в трясину, а так ему посчастливилось коснуться дна. По-прежнему цепляясь за кочку, он делал крошечные шаги и наконец почувствовал под обеими ногами землю. Еще немного, и он стал подниматься из болота.
Грязный, мокрый, уставший, он выбрался на берег и упал, более не в силах даже шевельнуться. Когда он наконец отдышался и немного пришел в себя, на глазах у него выступили слезы. Кое-как он поднялся на четвереньки, стать на ноги сразу у него не получилось.
Тяжело дыша, Антоша невольно бросил взгляд на топь, которая едва не сгубила его, – и замер. На поверхности болота что-то покачивалось. Он сглотнул и отвел глаза, но не смог удержаться и вновь посмотрел на то место. Внутренняя борьба отразилась на его лице. Минуту назад больше всего он хотел оказаться как можно дальше отсюда, но теперь, увидев это, он знал, что не имеет права так просто уйти.
Антоша поводил рукой вокруг себя и наткнулся на ту самую палку, которой недавно пытался подтянуть к себе ветви спасительного дерева. Очень медленно, не сводя глаз с этого, Антоша подполз к границе болота, а затем хоть и не с первой попытки, но все же подцепил палкой то, что так его заинтересовало. Поборовшись с трясиной, он выволок это на берег и осмотрел свою находку. Пот застил ему глаза, но тем не менее Антоша сразу же понял ее значение.
– Да… – только вымолвил он. – Получается, что… Конечно, она была права!
Шустрая молодая белка, покачиваясь на ветке, смотрела, как рыжий юноша поднялся на ноги и, спрятав что-то под сюртуком, побрел прочь. Щеки его были измазаны грязью, но глаза сияли. Вскоре он исчез среди деревьев.
3
– Где ты был?
Такими словами встретила Амалия Антошу, когда в четвертом часу дня он наконец вернулся в усадьбу. Его одежда источала запах тины, на башмаки налип густой слой грязи. Амалия даже руками всплеснула, когда увидела его.
– Со мной все хорошо, – скороговоркой доложил Антоша. – Нет, правда! Меня пытались убить, толкнули в болото, но я выбрался. А где следователь? Уже уехал?
– Как убить? – опешила Амалия. – Ну-ка, давай рассказывай!
И Антоша, потупясь, поведал, как при виде Чечевицына сразу же вспомнил его угрозы о том, что он перетрясет всю усадьбу, лишь бы уличить Амалию, и решил его опередить. Он спустился в погреб, затолкал свои вещи в чемодан и поставил его на место, а отрезанные руку и ногу унес с собой, чтобы перепрятать в более надежное место.
– Я думал зарыть их в лесу, – объяснил Антоша, застенчиво косясь на Амалию, – но потом решил, что там их звери найдут и попортят… и вы можете на меня рассердиться. Тогда я добежал до домика Егора Галактионовича, который живет за лесом, и закопал руку и ногу под кустами, возле огорода. К нему никакие звери не ходят, боятся его. – И он улыбнулся, уверенный в том, что Амалия обязательно похвалит его.
– Возле огорода? – буркнула Амалия. – А если он начнет грядки копать?
– Я же говорю, там кусты, – терпеливо объяснил Антоша. – И не какие-нибудь, а шиповник с вот такими колючками. Грядки дальше начинаются. Будьте спокойны, с рукой-ногой все будет хорошо. А прикажете – я их обратно принесу.
Он явно был готов на все, чтобы ей угодить. Трогательно и забавно. Амалия поймала себя на том, что улыбается.
– Спасибо, – сказала она. – Признаться, ты нас очень выручил.
– Ага, – кивнул Антоша и вытащил откуда-то из кармана букетик ландышей. – Вот, это я вам.
Ландыши были прелестны. Амалия понюхала их и смутно подумала, что забыла спросить у Антоши о… Ну да, он же упоминал, что его столкнули в болото!
– Очень мило с твоей стороны, – сказала она искренне, – потому что ландыши – мои любимые цветы. Но ты еще не рассказал мне, кто толкнул тебя в болото.
Антоша пожал плечами.
– Я его не видел. Я возвращался от Егора Галактионыча, и вот тут он меня и подстерег. Только он зря старался, я из болота все равно выбрался. – Юноша покосился на Степана Александровича, который сидел в саду за столом рядом с Казимиром. – А в том болоте я кое-что нашел. Вы ведь не испугаетесь?
– Нет, – после паузы ответила Амалия, испытующе глядя на него. – Что именно ты нашел?
Вместо ответа Антоша достал из-за пазухи какой-то лоскут, при ближайшем рассмотрении оказавшийся обычным платком, и развернул его.
– Вот, – сказал он, часто мигая. – Это всплыло со дна болота, когда я там барахтался. Наверное, именно то, что вы искали. То есть… я так думаю.
Амалия поглядела на его лицо и перевела взгляд на лоскут, который протягивал ей Антоша. В лоскуте лежала облепленная тиной кисть руки, от которой остались одни кости.
– Там всплыл весь скелет, – начал объяснять Антоша, видя, что Амалия от неожиданности застыла на месте, прижав к груди букетик ландышей. – Я подтянул его к бережку и выволок на сухое место, чтобы он, значит, опять не утоп. А кисть отвалилась сама, ну, я и забрал ее с собой.
На кости безымянного пальца что-то тускло блеснуло. «Кольцо, – сообразила Амалия. – Обручальное. Неужели…»
– Подержи-ка, – велела она, отдавая Антоше ландыши. – А это дай сюда.
Кольцо медленно, словно нехотя, соскользнуло с желтоватой кости. Амалия очистила его от грязи и тины и оглядела со всех сторон. Ей показалось, что внутри кольца имеется какая-то надпись, но она разобрала ее не сразу. А когда разобрала, сразу же позвала Степана Александровича.
4
«Н. Г. от С. А. 14 дека…»
Перед глазами у него все плыло – от слез, и оттого он не смог прочитать окончание надписи. Это была дата его венчания с Натали. Боже мой, как же он был счастлив тогда!
Мужчина всхлипнул и сжал кольцо в ладони. Солнце садилось за лесом, и в его свете стволы деревьев казались совсем золотыми. Какая-то птица скользнула с ветки и полетела, лениво взмахивая крыльями. Севастьянов проводил ее безумным взглядом.
Скелет по-прежнему лежал на берегу, там, где его оставил Антоша, и несколько бойких мужичков из Рябиновки под присмотром урядника Петренко баграми прочесывали болото. Амалия стояла у дерева, разговаривая с рыжим юношей, который и привел их всех сюда. Она бросила взгляд на Степана Александровича и отвернулась.
– Ищите, ребятки, ищите! – преувеличенно бодрым голосом командовал Петренко. – Хозяйка обещает хорошо наградить, если что еще найдете…
– Да мы и так ищем, – отозвался один из мужичков, утирая пот со лба. – Чудное дело – раньше к болоту и подойти нельзя было, а нонче паренек сам из него выбрался. Сохнет болото, не иначе. И вода в реках отступать стала… Все мельчает! Эх!
Он повздыхал еще немного и вновь принялся за дело. Петренко подошел к Амалии.
– Госпожа баронесса, – начал урядник, – может быть, стоит послать за господином следователем? Все-таки, – он кашлянул в кулак, – дело явно по его части.
– За Максимом Алексеичем всегда послать успеется, – отозвалась Амалия, не забывшая неурочный визит к ней ревнителя закона. – Что-нибудь еще нашли?
– Ничего, сударыня. Только туфлю, да и то совсем испорченную.
– Ищите, ищите! Все-таки странно… Не могла же она никуда деться!
Петренко пожал плечами и отошел. Амалия бросила взгляд на вещи, которые выловили мужички и которые теперь лежали возле скелета Натальи Георгиевны. Золотая цепочка, обрывки шали, в которой Севастьянов без колебаний опознал ту самую, в которой она ушла с вечера, полусгнившая туфля на высоком каблуке… Но самого главного не было.
– Значит, – нарушил молчание Антоша, морща веснушчатый нос, – она ушла с вечера, направилась в рощу на встречу с Домбровским…
– И кто-то ее перехватил, – кивнула Амалия. – Убил, после чего тело привез сюда и бросил в болото, рассчитывая, что тут его сто лет никто не отыщет.
– Но за что? – потерянно спросил Антоша. – Кому это нужно?
– Полагаю, в свой срок мы все узнаем, – отозвалась Амалия. – Но меня беспокоит голова. Почему ее нет?
И в самом деле, скелет, который Антоша вытащил на берег, был без головы. Именно голову и искали теперь с таким усердием рябиновские мужики, и именно отсутствие головы больше всего смущало Амалию.
– А что, если ей… – несмело начал Антоша.
– Отрубили голову? – буркнула Амалия. – Что-то мне не верится. Слишком хлопотный способ убийства. Да и крови при нем много.
Она посмотрела на Севастьянова и мысленно выбранила себя за бестактность. Степан Александрович тяжело осел на землю возле дерева и плакал. Губы его кривились, по щекам катились слезы. Амалия подошла к нему и стала перед ним таким образом, чтобы загородить лежащий на берегу скелет.
– Вы не понимаете… – прошептал Севастьянов, борясь с рыданиями. И вдруг схватил Амалию за руку: – Вы оказались правы… а я не верил вам… не верил… Пожалуйста… я умоляю вас… Если можете, найдите того, кто это сделал!
Он стиснул ее руку так, что Амалии стало больно.
– Я обязательно его найду, – сказала она. – Отпустите, пожалуйста, вы мне руку вырвете…
– Простите, – пробормотал Степан Александрович. – Я… я… – Он посмотрел на кольцо, которое Амалия сняла с пальца убитой. – Я могу оставить его себе? Пожалуйста… Больше у меня все равно ничего нет.
Амалия кивнула. Солнце брызнуло расплавленным золотом, уходя за верхушки деревьев, и в лесу сразу же стало холодно, пасмурно и неуютно. Петренко, посовещавшись с мужиками, подошел к хозяйке Синей долины.
– Сударыня, мы уже тут все обыскали, а головы как не было, так и нет… Может быть, прикажете возвращаться? Ночью-то в лесу не больно весело…
Амалия поежилась и зябко обхватила себя руками. И в самом деле, пора было заканчивать поиски.
– Да, – сказала она, – пора возвращаться.
5
– И голову отрубили, говорю я вам! Топором!
– Ах, какие вы страсти рассказываете, Марья Никитишна! – Хорошенькая румяная Оленька Пенковская сделала большие глаза.
– Отчего же топором? – солидно возразил ее муж. – Может быть, саблей?
Но Марью Никитишну не так-то просто было сбить с толку.
– Топором! – решительно объявила старая сплетница и даже стукнула по столу сухонькой ручкой.
Переполненный «Бель Вю» гудел как пчелиный улей. Новости о страшной находке в трясине, о пропавшей голове и о горе Севастьянова передавались из уст в уста. Сидевшая за два стола от Пенковских Настасья Сильвестровна, которая строчила очередное письмо к Лукерье Львовне, густо зачеркнула два последних написанных слова и решительно приписала, что ее племянник Степа сошел с ума на почве пьянства, что он зарубил свою жену и похоронил ее в болоте. Под конец Настасья Сильвестровна выражала надежду, что бесценная, великодушная, чудесная Лукерья Львовна спасет ее от душегуба-племянника и возьмет под свое покровительство.
– Да нет, дядюшка! – кричала Вера Дмитриевна, оказавшаяся за одним столом с Пенковскими и Марьей Никитишной. – Нашли не браконьера, а жену Севастьянова! Понимаете? Жену!
– Что-с?
– Жену нашли! Без головы!
– Молодежь! – вздохнул дядюшка.
Доктор Никандров сошел вниз и почти сразу же столкнулся с Гаврилой. Хозяин гостиницы, понявший, что его «Бель Вю» стал центром обмена последними новостями, на ходу лихорадочно переписывал меню, заодно в полтора раза задирая цены.
– А, Владислав Иванович! Слыхали новость? Севастьянов-то нашел свою жену!
– Что вы говорите! – пробормотал доктор.
– Да, да, – радуясь, как ребенок, продолжал Гаврила. – В Синей долине, в болоте обнаружили ее косточки. Страшное дело! Говорят, даже следователь по особым делам может из столицы прибыть…
– Ее убил Севастьянов? – неожиданно спросил доктор.
Гаврила сделал значительное лицо и даже лоб нахмурил.
– Гм… Как вам сказать-с! Одни говорят, что он, а другие вроде как и не верят…
– Распорядитесь, чтобы мне подали кофе, – попросил доктор. – Только не цикорный, бога ради. Что за манера у ваших людей поить цикорием, а драть, как за настоящий кофе…
Гаврила поклонился, извинился, сослался на всеобщее невежество и исчез наводить порядок на кухне. Доктор поискал глазами свободное место в зале, но таковых почти уже не осталось. Лишь в углу под чахлой пальмой сидел какой-то посетитель, закрывшись газетой, и возле него стоял пустой стул. Поколебавшись, доктор подошел к любителю чтения и спросил, свободно ли место рядом с ним. Газета с хрустом сложилась и исчезла.
– Свободно, доктор, – сказала Амалия.
Ее тон безотчетно ему не понравился, но отступать было некуда, и Никандров сел.
– Правда, что вам удалось обнаружить несчастную женщину? – начал он, когда лакей принес ему кофе. Владислав Иванович пригубил чашку и поморщился. Положительно, они просто уморят его чертовым цикорием! И куда только Гаврила смотрит?
– Вы о Наталье Георгиевне? – вежливо осведомилась Амалия. – Да, мы ее нашли.
– Ясно. – Доктор отставил чашку. – Ее убили?
– Вряд ли она ушла с вечера, где танцевала и веселилась, чтобы в припадке меланхолии броситься в болото, – отозвалась его собеседница. – Конечно же, ее убили. Exodus letalis, как вы изволите выражаться.
– Если следствию вдруг понадобится моя помощь… – начал Владислав Иванович.
– Понадобится, – не дала ему договорить Амалия. – И прежде всего потому, что летальный исход по-латыни – не exodus, а exitus letalis. И еще потому, что время смерти нельзя определить с точностью до минуты, многоуважаемый Вениамин Александрович.
Доктор нервно сглотнул, не сводя с нее глаз.
– Я не понимаю… – начал он.
– И почему я должна вам все это говорить? – заметила Амалия в пространство, пожимая плечами. – Вы ведь дружили с Домбровским, а он доктор. У него вы нахватались медицинской терминологии – по крайней мере, достаточно, чтобы сойти за врача, но недостаточно, чтобы обмануть меня. И вы никакой не Никандров, хоть данная фамилия и значится в справочнике. Вы Перепелкин, Вениамин Александрович Перепелкин, сосланный в Сибирь за растрату. Вы бежали оттуда в начале нынешнего года и теперь проживаете по чужому виду. Когда Любовь Осиповну убили, вам очень повезло, что доктор Станицын упал в обморок и не слышал всех ваших глупостей про какой-то exodus и смерть, которая наступила не ранее двадцати пяти минут назад. Откуда, кстати, вы вообще взяли эту цифру?
Доктор Никандров, вернее, бывший любовник Натали чиновник Перепелкин, грустно усмехнулся:
– Вот оно что… Да, вы правы. Просто я тогда вспомнил, что закончил свой разговор с Любовью Осиповной примерно полчаса назад. Так что я мог утверждать – не как врач, но как свидетель, – что тридцать минут назад она была еще жива. А вот уже позже я ее не видел. – Он глубоко вздохнул. – Что ж, милостивая государыня, вы вывели меня на чистую воду. Что вы намерены делать теперь – звать жандармов? Обещаю, я не окажу сопротивления.
– Зачем вы приехали сюда? – напрямик спросила Амалия. – Зачем расспрашивали беднягу Севастьянова о его жене?
– А вам не все равно? – с неожиданным ожесточением бросил растратчик.
– Нет, – ответила Амалия. – Впервые я стала вас подозревать, когда вы сказали ему, что у вас случилась точно такая же беда и вас тоже оставила жена. Ведь таков общеизвестный способ втереться в доверие. Вы искали Натали? Зачем? Хотели отомстить ей за то, что она разбила вашу жизнь? Ведь именно из-за нее вы оказались в Сибири, не так ли?
Владислав Иванович закашлялся.
– Нет, – выдавил он из себя. – Я хотел предложить ей бежать со мной за границу. Но ее исчезновение… Я и не знал, что думать. Я стал подозревать Домбровского, в голову мне лезли чудовищные мысли… А впрочем, какая вам разница?
Амалия хмуро поглядела на него.
– У вас чахотка, – внезапно сказала она.
– Да, – усмехнулся ее собеседник. – Сибирское наследство. – Он снова закашлялся и вытащил из кармана платок.
– И поэтому вы бежали из ссылки?
– Нет, – ответил Перепелкин, вытирая рот. На платке осталось несколько красных пятен, и он брезгливо скривился. – Моя мать тяжело заболела, я должен был попрощаться с ней. Но когда я приехал, она была уже мертва.
Верно, вспомнила Амалия, ведь Зимородков же написал ей… И почему она не догадалась тогда связать эти два события?
– Теперь у меня не оставалось никого, кроме Натали, и я принялся ее искать. Нина… то есть один человек сделал мне бумаги, чтобы я уехал за границу, но я не хотел уезжать без Натали. – Амалия вспомнила, что Ниной звали жену Перепелкина, но ничего не сказала. – Это он ее убил? Скажите, он?
Амалия нахмурилась.
– Значит, все-таки вы писали письма? – резко спросила она.
– Что за письма? – удивился растратчик.
Амалия полезла в карман и извлекла листки с угрозами, составленными из газетных букв. Перепелкин бегло просмотрел их и покачал головой.
– Боже мой… Простите, но… я никогда не писал ничего подобного. А что, если… – Он осекся. – Что, если автор писем был свидетелем убийства? Вы пытались найти его?
Амалия поднялась с места.
– Ваш кофе остыл, Владислав Иванович, – уронила она. – Всего доброго.
– Письма получил Севастьянов? – Лжедоктор вскочил на ноги. – Как вы можете утверждать, что убийца – не он?
Он выкрикнул эти слова так громко, что все, кто находился в зале, услышали их. На мгновение множество глаз обратилось на него и Амалию.
– Я могу утверждать, что вам стоит позаботиться о своем здоровье, Владислав Иванович, – сказала Амалия спокойно. – На ранних стадиях чахотка еще излечима. Но, если вы ее запустите, получите летальный исход. Exitus, как говорится. Всего доброго, милостивый государь.
Она кивнула ему и направилась к выходу из зала.
6
– Амалия Константиновна!
Оленька Пенковская трепетала. Колыхались ее ленты на шляпке, дрожали от нетерпения ноздри, маленькая ручка сжимала и разжимала вышитую дамскую сумочку.
– Ах, Амалия Константиновна, я уже наслышана обо всех ужасных событиях! И надо же было такому случиться, что ее нашли на вашей земле! А это точно бедная Натали, вы уверены? Вдруг не она, а какая-нибудь крестьянка? Вы думаете, дело нельзя поручать Максиму Алексеичу? Конечно, он наш судебный следователь и закончил университет с отличием, но ведь бедняжке под силу отыскать разве что мальчишек, которые воруют яблоки!
Оленька говорила и одновременно загораживала баронессе путь к отступлению. Едва Амалия вышла из зала, как госпожа Пенковская устремилась следом за ней и у самого выхода из «Бель Вю» успела-таки перехватить хозяйку Синей долины. Оленька жаждала во что бы то ни стало узнать новости из первых рук, и никто другой не подходил на роль источника правдивой информации лучше, чем баронесса Корф, которую незамедлительно и забросала вопросами. Что она думает о гибели Натали? Правду ли говорят, что тело опознали по обручальному кольцу с надписью, но голову так и не нашли? Как она была убита? Замешан ли в преступлении Степан Александрович?
– Ах, ну конечно же, что я говорю! – вскрикнула Оленька, заметив нетерпение на лице баронессы Корф. – Ведь он же был тогда с нами весь вечер и искал ее, бедный! Он никак не мог ее убить! Но… А что, если у него был сообщник? Боже, в какое страшное время мы живем!
– Ольга Пантелеевна, где ваш муж? – внезапно спросила Амалия.
Оленька несколько озадачилась такой переменой темы, но все же ответила:
– Он разговаривает с Верой Дмитриевной. А что?
– На вашем месте, – внушительно проговорила Амалия, – я бы не оставляла его надолго одного. Особенно с Верой Дмитриевной.
Оленька озадаченно захлопала ресницами.
– А то про них, знаете ли, говорят… – начала Амалия.
– Что говорят? – насторожилась Оленька.
– Да разное, знаете ли, – уклончиво ответила Амалия. – Мне бы не хотелось повторять местные сплетни, но… всякие слухи ходят!
И, ослепительно улыбнувшись, она проскользнула мимо остолбеневшей госпожи Пенковской и покинула «Бель Вю».
Снаружи ее ждала коляска, которой управлял Дмитрий, но едва он помог Амалии забраться в экипаж, как к ним подошел Маврикий Алпатыч. На лице миллионщика было написано беспокойство.
– Сударыня, – начал он после обычных приветствий, – правда, что бедную Наталью Георгиевну нашли? Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие… А Антошка-то мой, Антошка? Говорят, его кто-то в болоте утопить хотел?
Амалия собралась было ответить, но купец подошел ближе и в волнении вцепился в борт коляски.
– Сударыня, заклинаю вас! У меня только один сын, другого нет! И что ему в голову втемяшилось уйти из родительского дома, как будто мало я на него денег тратил…
– С Антошей все в порядке, – успокоила купца Амалия. – Уверяю вас, я не дам его в обиду.
– Тут я вас очень хорошо понимаю, – желчно возразил Маврикий Алпатыч. – Раз уж я с покойной Любовью Осиповной соглашение подписал, то вы, стало быть, его поддержкой заручиться хотите. – Он покачал головой. – Нехорошо, сударыня, нехорошо! Сына на отца восстанавливаете!
– Вы его книжку о стену швырнули, – напомнила Амалия. – По-вашему, это поступок любящего отца?
Маврикий Алпатыч забурчал, заныл, стал жаловаться на свою жизнь, на то, что никто не хочет войти в его положение, что он трудится день и ночь, как проклятый, что конкуренты так и норовят слопать его вместо каши, что он думал воспитать из Антоши достойного преемника, а тот пошел в покойницу-мать и никакой практической жилки в нем не наблюдается. Мальчишке бы только день-деньской баклуши бить да книжки читать, и больше ни к чему он не способен…
– И тем не менее он мой сын. – Фомичев дернул щекой. – Смотрите, сударыня, если с ним что случится, я не посмотрю… Я ни на что не посмотрю! – закончил миллионщик.
Амалии наскучили угрозы. Она сухо попрощалась с купцом и велела Дмитрию трогать.
«А что ты хотела? – обратилась она к себе самой, когда коляска уже катила среди полей. – Деньги – как лакмусовая бумажка, выявляют все, на что человек способен. Купец уверен, что в мире есть только одна правильная дорога – та, которой он следует; если же кто-то отклоняется от нее, то заслуживает самого сурового порицания. И все-таки кое в чем он прав… Это дело вовсе не такое простое, что лишний раз доказывает нападение на Антошу. Нельзя подвергать мальчика неоправданному риску, он еще слишком молод, и, главное, жизненный опыт ему заменяют не самые лучшие книжки… Интересно, откуда он узнал, что я люблю именно ландыши? Сама я точно ничего такого ему не говорила».
На самом деле Антоша был всего на несколько лет моложе Амалии, но столь малая разница в возрасте вовсе не мешала ей смотреть на него как на большого ребенка. И то, что кто-то пытался утопить юношу в болоте, не на шутку беспокоило ее.
«Загадки, загадки, сплошные загадки… – думала наша героиня, когда коляска тряслась по дороге, огибая лес. – Кто убил Натали и за что? Как данное преступление связано, если вообще связано, с убийством того неизвестного, чей труп нашли на мельнице? Почему у тела нет головы? Кто хотел убить Антошу? И кто, наконец, пишет дикие анонимные письма? И как будто всех предыдущих сих вопросов мне мало, я должна еще заниматься коричневым чемоданом, который невесть где раздобыл дядюшка… Почему там была фальшивая пятерка? В чемодане части тела мужчины и женщины – значит ли это, что речь идет о какой-то любовной истории, ревности и мести? И портновская метка, на которой видна лишь часть букв… Ну хорошо, даже если я узнаю фамилию портного, что она мне даст? Сколько портных в Москве и Петербурге, я уж не говорю о провинции… Может быть, откровенно написать обо всем Зимородкову? Разумно, конечно, но огласка… Придется рассказать о том, как чемодан попал ко мне, и наверняка какой-нибудь полицейский писарь, получающий лишь двадцать рублей жалованья, уже на следующий день передаст дядюшкину историю в газеты. Вот уж чего мне не хватало, особенно когда впереди маячит процесс из-за наследства. Если моя служба меня не прикроет (а почему, собственно, они должны стараться ради меня?), об имении можно будет забыть. Тизенгаузен – мерзавец, но дело свое знает хорошо, надо отдать ему должное… Слишком хорошо, судя по тому, какие были у него клиенты – от шулера Рубинштейна до проворовавшихся банкиров…
А что, если бросить все? – внезапно подумала она. – И странные убийства, и Синюю долину. Жила же я без нее как-то до сих пор, проживу и впредь, да и с Фомичевым при желании можно будет договориться… А убийства – пусть Саша Зимородков разбирается, в самом деле. Не с моим здоровьем изображать собой наследницу шевалье Дюпена[50], по правде говоря. И никто не сможет меня упрекнуть, потому что… просто потому, что я – частное лицо. Не сыщик, не следователь и не агент особой службы. Слава богу, больше не агент…
Конечно, можно все бросить, – думала она дальше, – но тогда получится, будто прекратить читать на половине тома какой-нибудь увлекательный роман. В конце концов, нашла же я растратчика, хоть это и была детская задача. Нашла и того, кто изготовил для Пенковского фальшивый вексель. Клубочек потихоньку разматывается, и вскоре, даст бог, в моих руках окажутся все нити. Тогда я узнаю, кто и почему тут замешан. И тень несчастной женщины, витающая над проклятым болотом, наконец обретет покой».
Коляска миновала аллею, и тотчас же возле дверцы материализовался Антоша. Он подал Амалии руку и помог ей выйти.
– Ты никуда не выходил, я надеюсь? – спросила Амалия.
Антоша заверил ее, что не двигался с места, как они и уговорились.
– Вот и прекрасно, – кивнула Амалия, которая больше всего боялась нового покушения на ее друга. – А что с цветами, ты ухаживаешь за ними?
Антоша порозовел и объявил, что он с утра уже два раза поливал розы и снял с них пять гусениц. Амалия вздохнула.
– Идем, – велела она. – У судьи была неплохая библиотека, наверняка там должно быть что-нибудь про то, как ухаживать за цветами.
По правде говоря, Антоша предпочел бы почитать Дюма или того же д’Аркура, но не стал спорить и пошел вслед за Амалией в дом.
– А где дядя Казимир? – внезапно спросила молодая женщина.
Ее собеседник не знал. Она отыскала в библиотеке книгу о цветах и вручила ее Антоше, после чего отправилась на поиски дядюшки, который в конце концов обнаружился в комнате, обставленной пыльной мебелью времен не то Павла, не то последнего Петра[51]. Казимир был не один. Вместе с ним находилась горничная Лиза, которая, судя по всему, объясняла дяде хозяйки что-то по поводу портретов на стенах.
– А вот тетушка Саввы Аркадьича. Она была помолвлена, но ее жених внезапно умер, и она сошла с ума… Правда, она была красивая? А это Кирилл Семеныч Нарышкин. У него была жена, а он влюбился в другую даму и на дуэли из-за нее стрелялся, а потом дама захотела его оставить, так он, говорят, ее того-с, порешил… Очень набожный был человек и на церковь в Д. пожертвовал две тысячи рублей золотом…
Глазки Казимира засверкали – то ли при упоминании о золоте, то ли по какой другой причине, и он придвинулся поближе к хорошенькой горничной. Но тут Амалия громко кашлянула, и дядюшка поспешно отскочил.
– А, племянница! А мы тут, так сказать, знакомимся с историей рода завещателя… Прелюбопытные встречаются типы, да-с!
– Дядюшка, – сказала Амалия после паузы, – вашей жене это не понравится!
– Какой жене? – пролепетал струхнувший Казимир.
– Марысе, которая в Варшаве живет! – сверкнула глазами Амалия.
И, оставив Казимира стоять с открытым ртом, она величественно выплыла из комнаты.
7
– Не получается, – сказала Амалия.
На столе перед ней лежал найденный в коричневом чемодане сюртук, который успел совершенно высохнуть, и молодая женщина, вооружившись лупой, изучала портновскую метку.
– Вторая буква то ли i, то ли a, а может быть, и e, – говорила Амалия. Антоша, не дыша, смотрел на ее манипуляции. – Ты осмотрел чемодан?
Антоша кивнул.
– На нем нет никаких меток, инициалов, ничего? – допытывалась Амалия. – Совсем? Когда я его осматривала, я ничего такого не заметила, но, может быть, ты что-нибудь сумел разглядеть, что я упустила?
– А может быть, удастся что-нибудь по счету установить? – робко предположил Антоша. – Помните, где устрицы и шампанское?
Амалия покачала головой и придвинула к себе лист бумаги.
– Нет, – сказала она, переписывая на листок те буквы с метки, которые не стерлись и еще читались. – Там нет ни города, ни названия гостиницы. А с простынь все метки спороты. Еще у нас есть… то есть была фальшивая ассигнация. Да уж, немного, надо сказать…
– А газеты? – оживился Антоша. – Вдруг где-нибудь полиция уже обнаружила убийство и ведет дело? Если ваш дядя нашел руку и ногу, может, кто другой уже нашел остальное?
По мысли Амалии, два тела разрезали на части как раз не для того, чтобы их кто-то нашел, а с точностью до наоборот. Но в конце концов, если убийца допустил ошибку и перепутал свой чемодан с чемоданом Казимира, почему он не мог ошибиться еще раз? Она взяла кипу газет, которые купила у Федота Федотыча, и поделила ее на две части: для себя и своего собеседника.
– А если их только недавно нашли? – встрепенулся Антоша. – Надо бы и свежие номера посмотреть…
Амалия вызвала Дмитрия и велела ему купить в городе все свежие газеты, а заодно справиться на почте, не было ли для нее каких писем. В ожидании, пока Дмитрий вернется, хозяйка Синей долины и ее помощник стали просматривать старые выпуски.
Там было все что угодно: злободневные политические статьи, объявления о найме прислуги, стихи, фельетоны, сообщения о пропавших собаках, об утопленниках, о подкидышах, о покушениях на самоубийство; реклама парфюмерной продукции господина Брокара и его конкурентов – господина Ралле и господина Любена; описания дамских мод, актуальных в нынешнем сезоне, и объявления докторов, которые, судя по их рекомендациям, могли вылечить все болезни и даже те, лекарства от которых еще не существовало. Были и сообщения о банкротстве каких-то контор, интервью известного (кое-кому) литератора Безнадежного, клеймившего беллетристику, и интервью процветающего беллетриста Скоробогатова, насмехавшегося над серьезной литературой. Имелись результаты скачек, рассказы, более или менее складные, объявление об очередном тираже выигрышей Государственного банка, восторженная статья об успехах электрического освещения и скептическая – совершенно по тому же самому поводу. Но, хотя Амалия и внимательно просмотрела все выпуски, она не нашла ни в одном из них сообщения о том, чтобы где-то некто нашел части тела или тел и что по данному поводу полицией ведется расследование. Да и Антоша в своей кипе газет тоже не сумел обнаружить ничего подобного.
Вернулся Дмитрий, привез свежие газеты, а также срочную телеграмму для госпожи баронессы. Амалия вскрыла ее немедленно. Текст телеграммы гласил:
«ПЕРВЫЙ ВОПРОС НЕ ИМЕЕТ ВТОРОЙ ВОПРОС НЕ БЫЛО ПОДРОБНОСТИ ПОЗЖЕ ЗИМОРОДКОВ».
Значит, пятирублевая ассигнация и впрямь не имела отношения к Министерству финансов, а была фальшивой. Что же касается второго вопроса, по поводу неопознанных женских тел, то ответ на него уже не имел значения.
Амалия прочитала новые газеты, узнала из них много интересного о текущих событиях, но ничего, что бы могло иметь касательство к незнакомцу с коричневым чемоданом, и вновь вызвала Дмитрия.
– Какие новости в городе? Кстати, как поживает доктор Никандров?
Дмитрий объявил, что доктор был вынужден неожиданно уехать, и надо сказать, что Амалию это ничуть не удивило.
– А Степан Александрович чуть смертный грех не совершил, – доложил слуга. – Повеситься хотел. Еле-еле его спасли.
Если бы на Амалию сейчас обрушилось небо, она бы и тогда не была сильнее потрясена.
– Что? Как? Степан Александрович Севастьянов? Он пытался покончить с собой?
– Да, – смущенно подтвердил Дмитрий. – И ему почти удалось. Только вот к нему не вовремя Марья Никитишна заглянула. Увидела, что он уже хрипит, и подмогу вызвала. Она, значит, хотела подробнее о жене его разузнать… да… Сплетница она, конечно, а все-таки помогла человека спасти. Вот и разбирай после такого, кто хороший, а кто плохой.
Но Амалии не было дела до философических выводов ее слуги. Она велела немедленно закладывать коляску, чтобы ехать в город.
8
Он лежал, глядя в потолок, и выражение его лица – покорное, отрешенное, какое-то нечеловеческое – сразу же не понравилось ей. У изголовья неудавшегося самоубийцы сидел судебный следователь. Когда Амалия вошла, Максим Алексеевич поспешно поднялся.
– Что вы тут делаете? – резко спросила Амалия.
– Провожу следствие, – важно ответил Чечевицын. – Должен вам заметить, что вы, сударыня, даже словом не обмолвились мне о письмах, в которых господина Севастьянова называли убийцей его жены.
И он торжествующе поглядел на нее сквозь очки.
– Вы получили еще одно письмо? – Амалия предпочла как бы не услышать слов следователя. – Что там было, Степан Александрович?
Все так же глядя в потолок неподвижным, потухшим взором, он тихо попросил:
– Покажите ей.
Максим Алексеевич кашлянул, покосился на лицо Антоши, стоявшего в дверях, достал из кармана конверт без всяких надписей и протянул Амалии. Поперек листа огромными буквами – на сей раз не наклеенными, а старательно выведенными от руки – значилось:
«УБИЙЦА».
– Так… – произнесла Амалия, возвращая листок и конверт следователю. – Один вопрос, Степан Александрович. Это вы убили свою жену?
Все-таки он повернул голову.
– Я? – пробормотал бесконечно уставший, смертельно измученный человек. – Нет!
– Тогда зачем, зачем вы полезли в петлю? – закричала Амалия в раздражении. – Что за шутки, в самом деле?
Серенькая кошка выскользнула из-под кровати, под которой пряталась, и робко подошла к Антоше. Молодой человек наклонился и погладил ее, и она благодарно потерлась о его ноги.
– Я пришел… – забормотал Севастьянов, – письмо лежало на столе… А веревка… – Он тихо вздохнул. – Она уже висела, – ровным, лишенным интонации голосом сообщил мужчина.
Амалия всплеснула руками и в отчаянии посмотрела на следователя.
– Боже мой! И вы что же, так сразу взяли и решили повеситься?
– А зачем мне жить? – вяло возразил лежащий на кровати. – Ведь Натали убили, поймите… Я столько ждал… надеялся… я… – Его голос ослабел и стих. – Зачем мне жить?
Амалия растерялась. О да, конечно, она чувствовала здоровую злость от того, что этот человек, явно неглупый и уже давно вышедший из юношеского возраста, так вел себя, но, с другой стороны…
С другой стороны, что она могла ему сказать? Что жизнь продолжается? Что завтра будет новый день? Что в мире полно таких, как Натали, и, может быть, в один прекрасный день он встретит женщину, похожую на нее? Что он должен утешиться, стиснуть зубы и существовать дальше, как будто ничего не случилось, как будто не его жену выловили из болота в виде скелета без головы? Что, что она могла ему сказать?
Амалия устало вздохнула и села. Ей все же хотелось кое в чем разобраться. Антоша у дверей взял Мышку на руки и прижался щекой к ее мягкой шкурке. Он тоже ничего не понимал, но надеялся, что Амалия поймет все. В книгах, по крайней мере, так было всегда.
– Итак, – заговорила молодая женщина, – начнем сначала. Вы пришли домой. На столе лежало письмо, и с потолка свисала веревка. Налицо явное доведение до самоубийства. Верно, Максим Алексеевич?
Следователь кивнул.
– Вы хоть понимаете, что было бы, если бы старушка не решила к вам заглянуть? – уже сердито продолжала Амалия. – Вас бы нашли мертвым рядом с письмом, и все бы решили, что именно вы убили жену. А тот, кто на самом деле сделал это, ушел бы безнаказанным, мы бы уже ничего не смогли доказать. Вы понимаете?
Севастьянов прикрыл глаза.
– Вы так говорите, – очень спокойно промолвил он, – как будто и в самом деле рассчитываете найти того, кто ее убил.
– Да, рассчитываю, – твердо ответила Амалия. – Но я не справлюсь одна, мне нужна ваша помощь. Вашу жену убили не с целью грабежа – кольцо, которое она носила на руке, осталось при ней. Не было причиной ее смерти и ее прошлое – человек, который мог желать ей зла, находился тогда в Сибири, да и не в его характере было мстить бывшей любовнице. Значит, имелось что-то еще, и я почти уверена, что это как-то связано с тем неизвестным, которого выловили у мельницы. Оба убийства произошли почти в одно и то же время. Может быть, ваша жена что-то видела. Может быть, о чем-то догадалась. Может быть, она знала погибшего человека. Ведь не зря убийца так боялся его опознания, что изуродовал ему лицо. Она говорила вам что-нибудь? Вспомните, это очень важно, Степан Александрович!
– Но я уже думал… – пробормотал Севастьянов. – Ничего такого не было. Только Домбровский… Больше она никого не упоминала.
– У нее были подруги? Она могла поделиться с ними? – настаивала Амалия. – Может быть, она вела дневник? Писала письма? – Она вскочила с места и подошла к Степану Александровичу. – Поймите же наконец: дело не кончено, вообще ничего еще не кончено. Ведь не зря кто-то убил Любовь Осиповну, которая опрометчиво заявила, будто знает, где находится ваша жена, и не зря кто-то пытался довести вас до самоубийства… Все звенья одной цепи! – Глаза ее горели, щеки раскраснелись, так что Чечевицын, который старался не упускать ни единого слова из речи баронессы, даже отодвинулся на всякий случай к стене. – Почему вы не хотите мне помочь? Почему вы так уверены, что, раз прошло почти пять лет, никто уже не сможет ничего найти?
Некоторое время Севастьянов молчал, но затем отвернулся к стене. Поперек его шеи шла багровая полоса, и отчего-то Амалия только сейчас заметила ее.
– Если бы я что-то знал… – тихо заговорил он. – Если бы мне было что-то известно… неужели вы думаете, что я бы стал скрывать? Но Натали… – Он тяжело вздохнул. – Нет, она никогда не вела дневника. И подруг у нее в городе не было. Я имею в виду, она со всеми была очень любезна, но… Они ее не любили. Ее никто не любил, кроме меня.
Он сделал движение рукой, натягивая на себя одеяло.
– Простите… Мне что-то не очень хорошо. Вы бы не могли… как-нибудь в другой раз… – Севастьянов все-таки бросил взгляд на Амалию, и, наверное, такое у нее было выражение лица, что он прибавил, словно через силу: – Можете не беспокоиться. Я больше не буду пытаться наложить на себя руки. Я поступил глупо… Больше ничего подобного не повторится.
Серая кошка жалобно мяукнула. Антоша опустил ее на пол, и она, нерешительно покосившись на хозяина, легла на ковер посреди комнаты…
– Я бы хотел, сударыня, задать вам несколько вопросов, – начал Чечевицын, когда они вышли из дома. – Если, разумеется, вы не против, – поспешно прибавил он.
Сегодня он вел себя куда более вежливо, чем вчера, и перемена от Амалии не укрылась. Объяснялась же она тем, что Максим Алексеевич получил письмо от одного университетского приятеля, которому успел сообщить о новой хозяйке Синей долины. Приятель кое-что слышал о прежней деятельности баронессы Корф, и, хоть не знал наверняка, была ли эта деятельность связана с поставками в армию, сыскным отделением или ловлей революционеров, настоятельно рекомендовал Чечевицыну не делать глупостей. По его сведениям, госпожа баронесса также состояла на содержании у одного князя царских кровей, пары министров и трех или четырех сенаторов, которые в случае чего могли очень сильно осложнить Максиму Алексеевичу жизнь.
– Вы и в самом деле считаете, что все началось с того убийства неизвестного? – спросил следователь, искоса поглядывая на Амалию и думая, чем она, непримечательная (с точки зрения человека, предпочитающего брюнеток) особа, могла увлечь стольких мужчин. То, что мужчины существуют только в воображении его приятеля, ему и в голову не приходило.
– Да, считаю, – ответила Амалия на вопрос собеседника. – И даже уверена.
9
Но была ли она в самом деле так уверена?
Она не находила ответа на свой же вопрос. Конечно, представлялось соблазнительным объединить два дела в одно, но… Посмотрим правде в глаза: какие у нее основания думать именно так?
Вернувшись в усадьбу, Амалия еще раз перечитала записки покойного судьи, но не нашла в них ничего нового. Чтобы отвлечься, она занялась меткой на сюртуке и попыталась составить различные варианты фамилии портного, но «ребус» ей скоро надоел. Вовсе не находкой в чемодане была в тот момент занята ее голова.
«Что же за задачку ты загадал мне в самом деле, Савва Аркадьич Нарышкин? – подняла Амалия глаза на портрет прежнего хозяина имения. – Жила я, можно сказать, самой обыкновенной жизнью, и тут – нате вам: сбежавшая жена, которая, оказывается, вовсе не сбежала, убитый неизвестный, за которого даже не понять, с какого боку и взяться, тайны, загадки, приключения… И письма, посредством которых некто пытался довести до самоубийства хоть и влюбленного, но все же вполне нормального (до сих пор) человека. И ведь почти добился своего, надо отдать ему должное…»
Машинально чертя на листке, баронесса поглядела в окно. Антоша сидел в саду и прилежно читал книгу о том, как надо ухаживать за садовыми растениями. Над его рыжей головой вилась большая белая бабочка.
Амалия достала угрожающие письма, которые оставались у нее, и перечитала их. Раньше ее интересовало, из каких газет были вырезаны буквы, но сейчас она поняла, что это ничего ей не даст, и решила сосредоточиться на других признаках.
Обыкновенный конверт. Обыкновенная бумага. В романах, которые так любит Антоша, бумага наверняка была бы с какими-нибудь водяными знаками, фантазировала Амалия, на всякий случай разглядывая лист на просвет. Или какая-нибудь особенная, или…
И тут она каким-то изощренным, не шестым, а даже седьмым каким-то чувством сообразила: с листками что-то не так, хоть они и прикидываются самыми обыкновенными, чтобы сбить с толку возможного расследователя. Да, что-то определенно с ними не так… точнее, с одним листком, который держала в руках Амалия.
Она поднесла его к лицу, присмотрелась. Ощущение «не как все» окрепло, но оно все же не было связано со зрением. Имелся некий отличительный признак совершенно иного порядка… Как следует порывшись в памяти, Амалия все-таки поняла, что именно он означает.
Это было чудо. Или, по крайней мере, со стороны оно могло казаться таким. Разрозненные куски мозаики, которые так мучили ее, не желая складываться в единую картину, внезапно стали на место и образовали крайне стройную и логичную версию. Настолько логичную, что в первое мгновение Амалия даже засомневалась, все ли на самом деле так просто. Но она еще раз проверила всю цепочку причин и следствий и снова убедилась: все должно складываться именно так.
– Антоша! – крикнула Амалия, растворяя окно. – Ты вроде говорил, что умеешь управляться с лошадьми? Может, ты и верхом ездить умеешь?
Юноша поднял голову и просиял, почуяв новое захватывающее приключение. По правде говоря, книжка про цветы оказалась ужасно скучной, даже несмотря на то, что в ней было предостаточно картинок.
– Да, Амалия Константиновна, умею, – подтвердил он.
– Тогда собирайся – и едем! И не забудь прихватить с собой ружье!
10
– А косточки-то все так и ломит, Егор Галактионыч, так и ломит… Ты бы отварчик какой посоветовал, что ли… Ведь ты большой знаток трав, про то все знают!
И Марья Никитишна жалобно поглядела на своего собеседника.
Егор Галактионович не стал отрицать, что ему известно много такого, что и не снилось местным докторам, если перефразировать мистера Шекспира. А затем принялся обстоятельно объяснять, как он спас от ревматизма лабазника Евлампьева, от почечуя[52] – каретника Ивана Аполлоныча и от коросты – его лошадь… Антоша не стал слушать дальше и отошел от окна.
– Там он, – доложил юноша, подходя к госпоже баронессе. – В это время он всегда в лавочку заходит – свечей купить и всякое разное…
– Что он делает? – спросила Амалия.
– С Марьей Никитишной разговаривает. – Антоша немного замялся. – О лошадях.
– Вот и прекрасно, – отозвалась его собеседница. – Тогда поехали.
– Мы едем к нему домой? – отважился спросить Антоша, когда они вновь оказались за городом. – Забирать обратно руку и ногу? Вы для того попросили проверить, там ли он?
Амалия пожала плечами и поудобнее переложила поводья.
– По правде говоря, – призналась она, – я боюсь, что мы больше ничего не найдем.
Антоша порозовел.
– Думаете, – начал он несчастным голосом, – Егор Галактионыч меня видел? Но его дома тогда не было, я уверен. Я же сначала постучался к нему.
Амалия ничего не ответила, и Антоша надулся. Но тут она посмотрела на него и улыбнулась, и он мигом забыл обо всем.
– Ты ружье далеко не убирай, – посоветовала она. – Мало ли что…
Через четверть часа они были уже на месте, и Амалия ловко спрыгнула с лошади, не дожидаясь, когда Антоша поможет ей спуститься.
– Где ты их зарыл?
– Вот здесь, – объявил Антоша, показывая на стоящий в стороне куст шиповника, ощетинившийся колючками. – Погодите, я мигом…
Он стал разрывать землю под кустом – и озадаченно нахмурился.
– Странно, – пробормотал Антоша, пожимая плечами. – Я же точно помню, что зарыл их именно здесь!
Юноша оглянулся на Амалию и увидел, что высокородная госпожа баронесса творит нечто противоправное. А именно: она подняла камень, обернула его платком и аккуратно выбила стекло из оконной рамы, после чего нащупала внутри запор и полностью открыла окно.
«Ничего себе!» – подумал пораженный Антоша.
– Вы хотите забраться к Егору Галактионовичу? – пробормотал он, глядя на Амалию во все глаза. – Зачем?
Амалия ответила вопросом на вопрос, и таковой ее ответ был настолько нелогичным, что Антоша растерялся окончательно.
– У Егора Галактионовича много друзей? – спросила она.
– Он хороший человек, – сообщил Антоша, который еще не оправился от удивления. – С ним многие дружбу водят, и даже отец мой его уважает. У него часто богомольцы останавливаются.
– Ах, богомольцы… – со странной интонацией откликнулась Амалия. – Так я и думала.
И, одернув перчатки на руках, госпожа баронесса с непостижимой ловкостью забралась в окно чужого – да-да, совершенно чужого! – дома, где ей вроде бы нечего было делать.
– Ты ищи, ищи, – крикнула она из окна Антоше. – Если найдешь то, что нам нужно, скажи мне.
Дома у Егора Галактионовича было бедно, но чисто. Пахло какими-то острыми травами, на столике стояла заплывшая воском свеча. Амалия немного постояла, оглядываясь, и решительно направилась к низенькому комоду, на котором лежала стопка газет и старых журналов. Их-то молодая женщина и стала просматривать, в нетерпении отбрасывая изученные номера в сторону.
Через несколько минут она нашла одну изрезанную газету, а вскоре держала в руках и вторую. От остальных, судя по всему, хозяин домика уже успел избавиться. Амалия скомкала изрезанные номера и подошла к окну.
– Антоша! – крикнула она.
Рыжая встрепанная голова вынырнула из-за куста шиповника.
– Что?
– Нашел?
– Да нет, Амалия Константиновна! Как сквозь землю провалились!
– Возьми лопату, – распорядилась Амалия, – и обыщи весь огород. Как следует покопайся там, слышишь?
– Но Амалия Константиновна! – жалобно вскрикнул Антоша. – Я же не на огороде их зарыл, честное слово!
– Ты не их ищи, а вообще, – загадочно ответила Амалия. – Что-нибудь интересное, понимаешь? Те руку и ногу, боюсь, мы больше не увидим. Он уже успел от них избавиться.
И она вновь принялась обыскивать дом. В столе нашла пачку конвертов, как две капли воды похожих на те, в которых Севастьянов получал угрожающие письма. В соседней комнате отыскался каравай хлеба, бутыли с какими-то темными жидкостями и чайник с отбитым носиком. Амалия подняла крышку, принюхалась и усмехнулась каким-то своим тайным мыслям.
Она испытывала особое удовольствие, знакомое лишь хорошим сыщикам, – удовольствие от того, что удалось почти распутать дело, которое казалось вначале таким сложным и производило впечатление неразрешимого. И странные письма, и места, из которых они были посланы, и нападение на Антошу – все, все получило свое объяснение. И, хоть сейчас прояснилась лишь часть куда более ответственного дела, Амалия не сомневалась, что ей удастся справиться и с ним.
Она покосилась в окно на своего спутника, который вовсю перерывал грядки с капустой и картофелем. Лицо Антоши сделалось совсем красным.
– Ничего? – крикнула Амалия.
– Ничего, Амалия Константиновна! – Он распрямился и бросил взгляд за ограду. – Ой, сюда идут! Что будем делать?
Амалия вздохнула и двинулась обратно к окну. Антоша уже стоял возле него и помог ей выбраться наружу.
– Вроде обошлось, – доложил юноша, преданно глядя на свою хозяйку. – Наверное, мне показалось.
Он увидел выражение лица Амалии – и медленно обернулся. Возле калитки стоял Егор Галактионович, держа под мышкой лукошко, полное трав.
– Здравствуй, сударыня, здравствуй, – пропел он ласково. – Ничего, что я так без спросу-то пришел в свой дом?
11
– А я думал, вы еще в городе… – начал Антоша и угас.
Егор Галактионович махнул рукой.
– Так меня Петр Иванович подвез. Лошадки у него резвые, особенно коренная… эх! – Егор Галактионович даже причмокнул от удовольствия губами. – Я ему настойку от бессонницы делал, так только она его и спасла. Уж на что доктора старались, что Станицын, что земский, Голованов, ничего у них не выходило. А Егор Галактионович знает, как за дело взяться… Хороший человек Петр Иванович, дай бог ему здоровья.
– Зачем вы это делали? – внезапно спросила Амалия.
– Ты о чем, сударыня моя? – удивился Егор.
– Зачем вы посылали Севастьянову письма? Кто дал вам право обвинять его в том, что он убил свою жену?
Егор Галактионович часто-часто замигал глазками, лишенными ресниц. Все морщиночки на его лице задвигались, заиграли и сложились в плутовскую старческую гримасу.
– Однако, сударыня моя! И ничего я такого не писал. Я, ежели хочешь знать, не шибко грамотный. Что на старого человека напраслину-то взводишь? Постыдилась бы, такая молодая, хозяйка имения… Вот покойный судья, тот меня уважал. Настоящий хозяин был Савва Аркадьич, жаль, с женкой ему не повезло…
– Можете не отпираться, – оборвала его Амалия. – Я отыскала газеты, из которых вы вырезали буквы. Как давно вы нашли ее тело?
– Ась? – Егор Галактионович приложил руку к уху. – Ты о чем, сударыня моя?
– Вы же только и делали, что бродили по лесам, – продолжала Амалия, не слушая его. – Вы и нашли ее труп, ну конечно же! Если бы кто другой на него наткнулся, то сразу же вызвал бы урядника или следователя. А вы нет. Вы решили поступить иначе и стали слать несчастному мужу дикие, ни с чем не сообразные письма. Вы отдавали их своим знакомым богомольцам, чтобы они их опустили в пути, и поэтому все письма прибывали из разных мест. Ловко, Егор Галактионович! Очень ловко!
– Ничего не понимаю, – забурчал старик, исподлобья косясь на нее. Антоша стоял, очень бледный, переводя взгляд с него на Амалию. – Какие письма, сударыня моя? Ты о чем толкуешь-то? – Он сделал вид, что только сейчас заметил разбитое стекло, и всплеснул руками. – Ай, батюшки! Ай, пресвятые угодники! Ограбить хотели, в дом влезли к старому человеку! Сейчас же к уряднику пойду! – Он сделал шаг к калитке.
– Я еще не закончила с вами, – сказала Амалия ему вдогонку. – Где голова, старый мерзавец?
– Ась? – Егор Галактионович медленно обернулся. – Что? Не слышу!
– Куда вы дели голову? Когда вы нашли тело, оно было с головой, я готова поклясться. Я же осматривала скелет и точно могу сказать, что голову забрали уже после смерти. Зачем вы это сделали, Егор Галактионович?
Старик махнул рукой.
– К уряднику, к уряднику! – взвизгнул он. – И нечего тут с вами разговаривать! Пусть он разберется, по закону-то…
– Да, он разберется! – крикнула выведенная из себя Амалия. – И еще он разберется, между прочим с тем, зачем вы толкнули его в трясину, – она указала на Антошу, – и оставили там умирать! Грязный негодяй! Ведь там были вы, вы!
– Ничего не слышу, ничего не знаю! – отозвался Егор Галактионович, с необыкновенной быстротой семеня прочь. – Что мелют, и сами не знают… Пустомеля! У судьи-то покойного тетушка одна сумасшедшая была, так ты небось в нее пошла…
– Задержи его! – крикнула Амалия Антоше. Но ее спутник уже и сам рванулся вперед и схватил старика за локоть.
Егор Галактионович взвыл, как дикое животное, которому грозит смертельная опасность, и отскочил назад. При резком его движении лукошко, которое старик прижимал к себе, упало на землю, и из него выкатилась человеческая голова.
Глава 7 Метка
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго;
Сраженье будет. Не солгу,
Честно́е слово дать могу.
«Евгений Онегин», глава пятаяМосква Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей потчует ухой.
Замечен он. О нем толкует
Разноречивая молва,
Им занимается Москва,
Его шпионом именует,
Слагает в честь его стихи
И производит в женихи.
«Путешествие Онегина»1
Это был желтоватый череп, на который налипло несколько травинок. Он лежал, покачиваясь, среди разбросанных стеблей полевых растений, которые совсем недавно скрывали его от посторонних взоров, и зрелище казалось таким диким, таким нелепым, что любой человек, наверное, растерялся бы.
В полном остолбенении Антоша таращился на него, но тут Егор Галактионович взревел и набросился на него.
– Антоша, берегись! – крикнула Амалия.
Она заметалась, ища ружье, которое ее спутник куда-то дел, а старик тем временем пытался вцепиться юноше в горло, чтобы удавить его.
У Антоши в голове не укладывалось, что можно драться со старым, немощным человеком. Но так как в глазах у него уже темнело, он сделал вполне логичный вывод, что старец вовсе не немощен, собрал все свои силы и наискось приложил противника в подбородок. Егор Галактионович упал. Кашляя и растирая шею, Антоша поднялся, однако старик снова бросился на него и сделал попытку вцепиться зубами в его ногу.
– Ама… Амалия! – взвыл Антоша, опять падая на землю.
Боже мой, мелькнуло у него в голове, ведь в книгах всегда поединки между благородными господами, на дуэли, все честь по чести! А тут, возле Синей долины, какой-то безумный старик норовит укусить его, как взбесившийся пес, и он, Антон Фомичев, ничего не может с ним поделать. Ничего, ничего!
– Егор Галактионович, отпустите его! – Амалия наконец нашла ружье и теперь нависла над стариком, держа ружье в обеих руках. – Оставьте его, ваше поведение ни на что уж не похоже!
Но старик только захрипел и, хватая воздух когтями, как крючьями, бросился на нее. Она ударила его прикладом по руке, по спине, еще раз по руке, и еще раз, не глядя, и еще раз… Это было гнусно, это было отвратительно, но она чувствовала себя так, будто на нее и впрямь пытается броситься бешеная собака, которую надо уничтожить во что бы то ни стало.
– Амалия Константиновна!
– Сударыня, не надо, ради бога!
Распахнулась калитка, зазвенели совсем рядом мужские голоса, но Амалия все-таки ударила для верности еще раз. Егор Галактионович заскулил и скрючился на земле. Из его рта текла пена, глаза остекленели. Он окончательно потерял человеческое подобие.
– Боже мой, – пролепетал подбежавший поверенный, отшатываясь, – да он просто сумасшедший!
– Я не понимаю… – пробормотал следователь, глядя на лежащего во все глаза. – Он всегда казался таким рассудительным… Что на него нашло?
Амалия покачнулась и, опустив ружье, оперлась на него.
– Зовите доктора, – хрипло распорядилась она. – Придется надеть на вашего любителя трав и цветов смирительную рубашку.
Максим Алексеевич нагнулся и подобрал с земли череп.
– Простите, сударыня, но это… это… – Он искал слов и не находил.
– Пропавшая голова Натали, – кивнула Амалия. – Егор Галактионович нашел тело и забрал ее с собой.
– Зачем? – простонал Антоша, растирая шею.
Амалия пожала плечами.
– По-моему, у доктора есть термин mania grandiosa, мания величия. Ему нравилось думать, что он один знает то, что никому более не известно. А потом он захотел большего. Так как старик был в конечном счете неумен, то решил, что ему известно, кто убил Натали и почему. Именно он слал письма Степану Александровичу, и он же пытался утопить моего садовника в болоте, когда тот случайно пересек его огород. Я думаю, что именно здесь, может быть, под шиповником, – Амалия кивнула на пышный куст, – безумец и хранил голову. Когда старик увидел Антошу, он решил, будто тот знает его тайну, а Егор Галактионович не хотел ею ни с кем делиться. Позже он выкопал голову и стал для верности носить ее с собой, что, согласитесь, уже определенно указывает на психическое заболевание. И, хотя он очень старался, чтобы письма, которые он слал, не привели к нему, я все равно поняла: автор их – он.
– Как? – пробормотал Петр Иванович.
– По запаху, – объяснила Амалия. – От них исходил тонкий аромат, похожий на запах земляники, но не совсем он. Я не сразу поняла, но потом догадалась – бумага пахла земляничным чаем… а Егор Галактионович как-то раз о нем упоминал. Если вы обыщете его дом, то увидите, что он пьет только такой чай. И изрезанные газеты я тоже у него нашла. Думаю, ему знакомые отдавали старые номера, вот он и пустил их в дело.
– Позвольте! – встрепенулся Максим Алексеевич, поправляя очки. – Но если он носил с собой голову… Что, если это вовсе не оттого, что он нашел тело Натали? Что, если он и убил ее?
– Нет, – коротко ответила Амалия.
– Но почему? – заинтересовался Петр Иванович.
– Да потому, что такая женщина, как Натали, не позволила бы ему даже подойти к себе, – ответила Амалия, пожимая плечами. – Нет, убийца – кто-то другой.
И хотя ее довод казался совершенно нелогичным, мужчины, поразмыслив, все же вынуждены были с ним согласиться.
2
– Боже мой, племянница! – восклицал Казимир. – И как только тебе удалось во всем разобраться! Болото, убийство, пропавшая голова… И сумасшедший старик! Кто бы мог подумать! Горничная мне говорила, что у него в здешних краях была репутация святого человека!
Амалия передернула плечами.
– Ни один умный человек не станет всем и каждому твердить, что он умен, а святой – навязывать свою святость, – ответила она. – По-моему, Егор Галактионович в какой-то момент стал верить, что стоит выше всех, и решил, будто ему больше никто не указ. Сказалось, конечно, и то, что он жил на отшибе, совсем один, разве что иногда богомольцы к нему заглядывали. И тем не менее я не считаю, что все эти обстоятельства его оправдывают. Он ведь чуть не убил Антошу, который вообще ему ничего не сделал.
– А за что он, в самом деле, хотел его убить? – спросил дядюшка.
– Я думаю, Егор Галактионович зарыл голову под шиповником, – объяснила Амалия. – А потом туда же пришел и Антоша, чтобы спрятать части тела, которые ты привез в чемодане, и старик решил, что тот о чем-то догадался. Не исключено, что, найдя отрезанную руку и ногу, он окончательно лишился последних остатков разума. Хотелось бы знать, конечно, куда он дел наши части тела (Казимир при слове «наши» нервно поежился), но, боюсь, этого мы уже никогда не узнаем. Он безумен и не подлежит допросу.
Вошла Лиза и доложила, что приехала Марья Никитишна, чтобы лично засвидетельствовать госпоже баронессе свое почтение и поздравить ее с тем, что она наконец-то разрешила загадку, мучившую весь уезд. Казимир поглядел в окно на старушку, которая довольно бойко выскочила из брички и ковыляла по направлению к крыльцу, и вздохнул.
– И как она не рассыпалась по дороге сюда? – пробормотал он себе под нос по-польски.
Амалия не смогла удержаться от улыбки.
Вскоре почтенная старая сплетница уже сжимала в своих паучьих лапках тонкие руки баронессы и осыпала ее комплиментами. Ах, какая она умная! Не чета местному следователю, который только и знает, что жалованье получать, а если что случится, так его сто лет не дозовешься. И как же она во всем разобралась, и Егорку, бесстыдника этакого, уличила? Ведь сама-то Марья Никитишна уже давно чуяла, что его правильность наносная, гордыней попахивает. И вообще слишком хорошо он в травах разбирался, одно слово – колдун, да и только. Глазки Марьи Никитишны лучились от удовольствия, она уж и забыла, что не далее, как нынешним утром, умоляла Егора Галактионовича дать совет, что ей употреблять от ломоты в костях.
– А про Пенковского-то, про Сергей Сергеевича, слышали новости? – трещала резвая старушонка, примостясь на софе и ласково поглядывая на баронессу. – Такой пассаж у него приключился, такой пассаж! Даже и молвить неловко! Жена-то его, Ольга Пантелеевна, с Верой Дмитриевной супруга застукала! Никто и не подозревал даже, а она их застукала! Ух, как она Веру за волосья оттаскала! А про мужа и говорить нечего. Тише воды, ниже травы стал теперь Сергей Сергеич и на службу сегодня не пошел! – И Марья Никитишна аж зажмурилась от удовольствия.
Положительно, даже в старости жизнь хороша, когда соседи все время подкидывают такие сюрпризы…
– Мне показалось, племянница, или ты улыбнулась, когда она рассказала о том домашнем скандале? – спросил Казимир, когда старая сплетница наконец истощила запас своего красноречия и укатила восвояси, подняв на дворе тучу пыли.
– От вас, дядюшка, ничего не скроешь! – засмеялась Амалия.
– А в чем там дело? – загорелся любопытством Казимир.
– В том, что он произошел из-за меня, – призналась Амалия. – Я же ведь выдала жене Пенковского Веру Дмитриевну… за то, что она тот вексель подделала.
Казимир открыл рот.
– А как ты узнала, что именно она? – отважился он спросить.
– У нее нелады с числительными, – объяснила Амалия. – В векселе было написано «восемсот» вместо «восемьсот». А когда произошло убийство Любови Осиповны, следователь попросил всех написать, что они помнят, и дату поставить. Так вот, Вера Дмитриевна сначала написала «восемьнадцатое», потом исправила на «восемнадцатое», а потом и вовсе зачеркнула слово и написала дату цифрами. Тогда я и поняла, что подделывала именно она. А с какой стати ей было стараться для Пенковского? Ну, я подумала немного и решила, что причина могла быть только одна.
Казимир насупился. Слов нет, ему было приятно, что племянницу Амели просто так вокруг пальца не обведешь, и все же чисто по-мужски было жаль неведомого ему Пенковского, которого жена наверняка не пощадила. «Как хорошо, что я не женат!» – в который раз с облегчением помыслил Казимир.
В тот день Амалии пришлось принять еще множество визитеров, которые наперебой спешили уверить ее в своей преданности и выразить свое восхищение по поводу того, как ловко она все распутала. И хотя Амалия вначале и говорила, что ничего еще не раскрыто, что дело только начинается, никто не желал ее слушать. По всеобщему мнению, убил несчастную Натали именно Егор Галактионович, и именно он и похоронил тело в болоте, предварительно для чего-то отрезав от него голову. Не исключено, что безумный старик стоял также и за убийством неизвестного, которого выловили возле мельницы.
И даже Степан Александрович, который вечером заехал в Синюю долину, придерживался данной точки зрения. Севастьянов выглядел неважно, щеки его ввалились, под глазами лежали черные круги, но все же было заметно, что благодаря богатырской конституции здоровье его скоро пойдет на поправку.
– Я так и думал, – твердил он, глядя в огонь, пылающий в камине, – что только безумец мог причинить ей зло… Конечно, убийца он. Но теперь он уже ни в чем не сознается…
– Если он убил Натали, то зачем же тогда писал вам письма, обличая вас? – спросила Амалия. – Ведь он был уверен, что уличает вас в смертном грехе, насколько я представляю себе ход его мысли. К чему тогда было вас донимать?
Севастьянов мрачно посмотрел на нее.
– К чему? Да ведь он безумец, Амалия Константиновна. Посудите сами: взять голову от тела, хранить ее на огороде… – Он брезгливо передернул своими могучими плечами. – Его больное воображение не могло принять того, что он совершил, и он стал искать другого виновного. Чего ж вам боле?
– Не знаю, – после паузы ответила Амалия. – Но я все же не уверена, что убийца он.
Степан Александрович вздохнул.
– Я должен вас поблагодарить… Вы приняли в моих делах такое участие… и вы ведь нашли ее, хоть и… хоть и… да. – Он не смог складно закончить фразу и выразить то, что его мучило. – И я вам обязан… – Севастьянов замялся. – Помните, вы спрашивали, не могла ли Натали написать кому-нибудь? Так вот, я кое-что вспомнил. Она действительно писала письма одному человеку…
– Какому человеку? – мгновенно заинтересовалась Амалия, обратившись в слух.
Севастьянов покачал головой.
– Я не знаю. Натали говорила, что это ее родственница. По-моему, она называла ее сестрица, хотя, мне кажется, родных сестер у нее не было… Может быть, то была двоюродная сестра?
– Имя, имя, Степан Александрович! – в нетерпении вскричала Амалия. – Мне нужно имя!
– Я просмотрел ее вещи, – с той же невыносимой медлительностью продолжал Севастьянов. – И нашел несколько писем, которые она получила. По-моему, они как раз от… от родственницы… Впрочем, наверное, вы сумеете разобраться во всем лучше меня…
Он достал из кармана связку писем и протянул их Амалии.
– Вот… Больше она никому не писала. Я знаю, к ней приходили еще какие-то другие письма, но она то рвала их, то не отвечала. Это важно?
– Пожалуй, нет, – ответила Амалия, подумавшая, что другие письма, скорее всего, были от несчастного растратчика и Домбровского, писавшего по просьбе друга. – Я могу оставить их себе? – спросила она, показывая на пачку.
– Да, разумеется, – кивнул Севастьянов. – Для того я и принес их вам. – Он поднялся с места. – Простите, мне надо идти, готовиться к похоронам жены… Но я всегда в вашем распоряжении, сударыня. Если вам что-то понадобится, скажите только слово, и я…
– Разумеется, я немедленно обращусь к вам, – сказала Амалия.
Они распрощались, и Степан Александрович ушел.
3
«…и очаровательный офицер с длинными ресницами. А потом мы пили лимонад с коньяком… Ты любишь лимонад с коньяком? По-моему, ужасная гадость, но некоторые мужчины считают иначе. Лично я предпочитаю просто лимонад…»
Амалия подавила в себе сильнейшее искушение немедленно, сию же секунду швырнуть, не глядя, всю пачку в огонь – таким вздором, такими пустяками были заполнены эти письма. Балы, гулянья, тут милый Огюст, там милый Франц… Мужчины, мужчины, мужчины – в больших количествах, на каждой странице. Упоминания о счетах от портних, об украшениях, о дорогих подарках, каретах, зависть, колкие замечания о более удачливых и обеспеченных содержанках… И снова мужчины, глухие намеки на аборты, на женские болезни, но как бы между прочим: издержки ремесла, что уж там говорить…
А, в сущности, чего она ждала? Натали была содержанкой, так что более чем естественно, что ее то ли подруга, то ли родственница, с которой она регулярно переписывалась, тоже была содержанкой. Она колесила по Европе – письма прилетали то из Одессы, то из Берлина, то из Трувиля; называла себя то Дельфиной, то Эльвирой, письма подписывала «твоя дорогая сестра», а на конвертах значились имена то мадам Лорансен, то фрау Патт, то госпожа Иванова, хотя почерк был везде один и тот же. И поскольку Амалия считала, что слова – великие предатели, то, о чем и как писала неведомая «госпожа Иванова», выдавало ее с головой. Она использовала накладные волосы, панически боялась морщин, откладывала себе кое-что в банк на достойную старость, была не то что глупа, но умна тем узким умом, который позволяет лишь не потонуть в жизненной клоаке; пару раз в ее письмах мелькали сообщения о поэтах и художниках, с которыми она сталкивалась на вечерах, но не было ни одного стоящего замечания о них. Зато она благоговела перед банкирами, мечтала о том, чтобы ее взял замуж какой-нибудь обеспеченный человек, и поддразнивала Натали тем, что та вышла замуж за простого чиновника, хотя могла добиться в жизни куда большего, продав себя подороже. От ее потаскушечьей морали у Амалии сводило скулы, однако, пересилив себя, она все же прочитала письма до конца.
Вечерело, Лиза внесла лампы и, спросив, не нужно ли чего, удалилась. Немного позже заглянул Антоша и робко спросил, можно ли ему взять в библиотеке судьи очередной том Рокамболя. Амалия не возражала. Взяв со стола первый попавшийся листок, она написала на нем памятку – не забыть навести сведения о русской, которая часто бывает за границей, если не проживает там постоянно, называет себя то Лорансен, то Патт, то Иванова, а еще любит именоваться Дельфиной и Эльвирой.
На обороте листка были какие-то строки, и Амалия перевернула его. То оказались варианты прочтения портновской метки с сюртука, найденного в чемодане с отрубленными частями тела. Она вновь перечитала свои заметки.
«F (три или четыре буквы не читаются) er
Fidler, Ferrer, Farmer, Fecher, Felier, Ferier, Fodier, Finier, Fessier, Fourier[53]
И это наверняка еще не все».
Минуту Амалия смотрела на листок, и внезапно в ее мозгу забрезжил свет, как написал бы автор любимых Антошей романов. Каким образом, по правде говоря, в мозгу может гореть свет – сие наукой не установлено, но господ романистов подобные соображения никогда не смущали.
– Боже мой! – в волнении воскликнула Амалия. – И как же я прежде не заметила? Ферье! Ну конечно же, Ферье!
4
– Куда, говоришь, ты едешь, племянница?
– В Звенигород.
– Почему в Звенигород? – спросил Казимир, предчувствуя недоброе.
– Потому что именно там живет портной по фамилии Ферье, – объяснила Амалия. – Конечно, я ни в чем не уверена, и метка может быть вовсе не его, но – как знать?
– А с чего ты взяла, что он живет в Звенигороде? – уже с тоской осведомился дядюшка Казимир.
– Когда искала Домбровского, его полковой командир сказал, что врач квартирует у француза Ферье, портного, – пояснила Амалия. – Тогда я никакого внимания не обратила на его слова, но все-таки что-то в памяти осталось.
– А… – протянул Казимир. По правде говоря, он ничего не понимал, но видел, что его племянница напала на какой-то след. «И когда она все успевает?» – с некоторой завистью помыслил дядюшка.
– Стало быть, – продолжала Амалия, – сейчас мы позавтракаем, а после завтрака отправимся на вокзал вместе с Антошей. А вы, дядя, останетесь в Синей долине вместо управляющего. Следите как следует за соседскими мужичками, а то они любят у нас лес рубить между делом, да и пострелять дичь тоже. Что еще? Да, если тут ненароком заявится кто-нибудь воскресший или с еще какими претензиями на имущество, отвечайте, что ничего не знаете, и выпроваживайте его.
Казимир разволновался, сказал, что он не привык быть управляющим и вообще все очень сложно, ему на хозяйство нужны деньги, не говоря уже о расширенных полномочиях. Однако при слове «деньги» у Амалии сделался такой задумчивый вид, словно она впервые в жизни слышит это слово и вовсе не уверена в понимании его значения. Дядюшка настаивал, Амалия отмалчивалась, и только появление горничной положило конец ненужному спору.
– Госпожа баронесса, – доложила Лиза, – там господин почтмейстер явился. Говорит, для вас срочная телеграмма.
Это уже было что-то новенькое, и Амалия поднялась с места навстречу Федоту Федотычу, который приветствовал ее очень почтительно и отвесил поклон чуть ли не в пояс.
– Вот-с… Телеграмма, архисрочная, с особой пометкой, для вас пришла, сударыня… Я уж и поторопился сам, так сказать, доставить-с… нам не сложно-с…
Он шаркнул ножкой и заискивающе улыбнулся. Телеграмма, которая пришла для Амалии с пометкой Министерства внутренних дел, гласила:
«ДЕЛО О ПЯТИ ОСЛОЖНЯЕТСЯ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ВСТРЕТИТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ БЛАГОВОЛИТЕ НАЗНАЧИТЬ ДАТУ ЖДУ ОТВЕТА КАК МОЖНО СКОРЕЕ ЗИМОРОДКОВ».
Так, сообразила Амалия, стало быть, нашлось что-то новое по поводу той фальшивой ассигнации. Нечто такое, что нельзя поверить ни бумаге, ни секретному сообщению с нарочным, а можно сообщить лишь при встрече. И тут же она нахмурилась, вспомнив о том, что по этому же делу ей надо сейчас ехать в Звенигород, искать портного Ферье, который, возможно, и сшил тот замечательный сюртук из коричневого чемодана.
Никак, ну никак нельзя ей разорваться! Ехать в Петербург, а потом в Звенигород? Наоборот, судя по сообщению Зимородкова, невозможно – не зря же он послал телеграмму с особой пометкой.
Или все-таки сначала в Звенигород, а потом в столицу? Но и до Звенигорода путь неблизкий, а оттуда до Петербурга…
– Дядя Казимир!
Тот подскочил на месте, предчувствуя недоброе.
– Вы правы, – быстро продолжала Амалия по-польски, – вам не стоит быть управляющим – очень уж хлопотное дело… Пожалуй, вместо этого вы прокатитесь в Петербург.
– Я? – изумился Казимир.
– Да, вы. Мне обязательно надо быть в Звенигороде, а вы вместо меня встретитесь с Зимородковым в столице. Потом передадите мне все, что он расскажет, и я приму решение, что делать дальше. Договорились?
– Племянница, ты в своем уме? – возмутился Казимир. – Я только что приехал, между прочим, – и опять должен куда-то ехать? В Петербург? К Зимородкову? Почему я?
– Потому, что никто другой не может вас заменить! – отрезала Амалия. – Если Саша пишет, что дело срочное, значит, так оно и есть. Но я не могу сейчас ехать в столицу, мне надо совсем в другую сторону! Я с Антошей еду в Звенигород наводить справки насчет сюртука, а вы поедете в Петербург и узнаете от Зимородкова, в чем там дело. И что тут особенного, скажите на милость?
Но Казимир не был бы паразитом, если бы его было так просто сдвинуть с места. Только что он приехал, устроился в приличном доме, только-только познакомился с хорошенькой горничной и даже сыграл пару партий в стуколку с лакеем Дмитрием, как нате вам – опять надо куда-то ехать, трястись в вагонах, которые каждую минуту могут сойти с рельсов, подвергать свою жизнь опасности и питаться в станционных буфетах! Нет, ни за что, ни за что, ни за что!
– Я никуда не поеду! – в запальчивости заявил он. – Это твое дело, племянница, ты им и занимайся. И вообще, я немолодой человек, я стар, устал и болен! Ты не имеешь права меня заставлять!
Когда Казимир вспоминал, что он немолод, сие значило, что он уперся и ни в какую не желает идти на попятный. Амалия пристально посмотрела на него.
– Значит, дело мое? – после крохотной паузы спросила она.
– Именно!
– Хорошо, – пожала она плечами, – тогда я выдам вас Зимородкову, и пусть он вами занимается. В конце концов, мое дело – сторона.
– Ты о чем? – насторожился Казимир.
– О том, что именно вы приволокли проклятый чемодан в мой дом! – отрезала Амалия. – Так что я все ему расскажу, и пусть заключает вас под стражу. Потому что ваш рассказ про то, как чемодан к вам попал, выглядит на редкость подозрительно.
– Племянница, но я же рассказал тебе, как все было! – вскрикнул Казимир, теряя голову. – Я ни в чем не виноват!
– Меня вы не убедили, – пожала плечами наша героиня. – Может, вам удастся убедить Зимородкова, но лично я не уверена. Что, если вы в очередной раз проигрались, убили своих партнеров по картам и решили по частям увезти их в разные стороны? Во всяком случае, верещагинские репортеры выдвинут именно такую версию. Ваша фамилия сразу же всплывет в газетах, и мама от вас откажется. Тюрьму, думаю, вы вряд ли выдержите, даже всего лишь предварительное заключение. И никто не придет к вам в тюремную больницу, когда вы будете там умирать.
Казимир представил себя умирающим, и ужасная картина так на него подействовала, что он даже почувствовал легкое головокружение и вынужден был сесть.
– Племянница, – простонал он, – ты жестока! Сама же знаешь, что я ничего подобного не делал!
– Полно вам, дядюшка, упрямиться, – продолжала Амалия, смягчаясь. – Ну что тут такого? Поедете в Петербург, встретитесь с Зимородковым, передадите ему от меня записочку, выслушаете все, что он вам скажет… Потом поужинаете в хорошем ресторане… наверняка в меню будут такие лакомства, каких тут вы сто лет не увидите. Вечером можно в театр сходить или еще куда-нибудь… Ей-богу, не понимаю я вас!
Казимир вздохнул.
– Что мне лакомства? Я человек скромный, мне и разварного осетра хватит… с хреном… – проныл он. Затем глубоко вздохнул и, достав из кармана платок, вытер глаза. – Опять куда-то ехать… Мучение, честное слово! Может, твой юный поклонник вместо меня с Зимородковым встретится, а?
– Нет, – твердо ответила Амалия, – Антоша не может встречаться с Зимородковым. Вы знаете Сашу и все ему объясните, а Антоша – ведь посторонний человек.
– Никак не можешь ты без меня обойтись, как я погляжу, – проворчал Казимир. И тут его осенило. – А деньги ты мне дашь? А то я поиздержался, рестораны же денег стоят… И вагон мне нужен первого класса, для курящих!
– Дам, дам, на все дам, – ответила Амалия, чувствуя, что дядюшка уже смирился с необходимостью поездки. – Ну так что? Едете? Вот и хорошо! – Она обернулась к Федоту Федотычу и снова перешла на русский: – Простите, Федот Федотыч, семейные дела… Я вам сейчас текст напишу, отправьте, пожалуйста, телеграмму, и как можно быстрее. Дело действительно срочное… и очень важное!
5
Мишка, денщик полковника Раевского, шел по дощатому тротуару, неся за жабры здоровенную рыбу. Ему надо было перейти через улицу, но напротив, возле лавки портного Ферье, шившего только для мужчин, мелькнуло какое-то зеленое платье. Заинтересованно прищурившись, Мишка увидел прехорошенькую даму, за которой двигался долговязый веснушчатый юнец со свертком в руке, и если юнца Мишка видел впервые в жизни, то что-то подсказало ему: даму он видит отнюдь не в первый раз. Поэтому денщик изменил маршрут и переулками, ускоренным маршем добрался до дома купца Карякина.
– А дама-то вновь сюда приехали, – доложил он Раевскому. – Та баронесса, помните? С немецкой фамилией… И опять к Домбровскому пришли.
Полковник повернул голову и подкрутил ус.
– Опять, говоришь? Точно она? Однако!
Тем временем в лавке Ферье, высокий тощий француз с портновской меркой на шее, уже приготовился объяснять заезжей даме, что шьет исключительно на господ, а если ей нужно платье, то он с удовольствием порекомендует свою соотечественницу из лавки напротив. Однако дама опередила его:
– Видите ли, сударь, с моим дядей на железной дороге случилась небольшая неприятность… Кто-то взял его чемодан, а он по ошибке взял чужой. В том чемодане не было документов, только вот этот сюртук с вашей меткой… то есть я думаю, что она ваша. – Амалия сделала знак Антоше, и тот развернул сверток, который держал в руках. – Я была бы вам очень признательна, – продолжала наша героиня, лучась улыбкой, – еcли бы вы помогли мне найти, так сказать, законного хозяина того чемодана и вернуть дяде его вещи.
Ферье кивнул головой в знак того, что понял суть проблемы, и взял сюртук в руки. Амалия уже ждала, что он ответит: «Простите, сударыня, но вы ошиблись, метка вовсе не моя, и сюртук шили не у меня», но то, что в действительности сказал портной, оказалось гораздо интереснее.
– Харитонов, – важно изрек портной.
– Простите? – Амалия решила, что ослышалась.
– Сюртук я шил для месье Харитонова, – объяснил француз так, словно узнать с первого взгляда, для кого ты что шил, – самое пустяковое и привычное дело. – Три… нет, три с лишним года назад. Прекрасная ткань. Кто-то очень дурно выстирал ее, – добавил он, хмурясь, – но видите, материя все равно почти не испорчена. Разве что подкладка…
– А как вы узнали, что сюртук именно Харитонова? – не удержался от вопроса Антоша.
– Милый юноша, – снисходительно промолвил Ферье, – как поэт узнает свои поэмы? По тому, как они написаны, разумеется. Вот, посмотрите… – И портной повернул сюртук к окну. – Одно плечо чуть выше другого, потому что месье Харитонов получил небольшое ранение на войне. И рукава – они чуть короче, чем должны быть при таком росте. Конечно же, это сюртук месье Харитонова.
Амалия глубоко вздохнула. Итак, она на верном пути. Весь вопрос заключался в том, куда именно сей путь ее приведет.
– Мне бы хотелось побольше узнать о господине Харитонове, – сказала она. И пояснила: – Для того, чтобы вернуть ему чемодан. Он живет в Звенигороде?
Ферье нахмурился.
– Боюсь, что в данный момент нет, – ответил он. – Месье Харитонов вышел в отставку в прошлом году и уехал. Больше я его здесь не видел.
«Ах, черт побери!»
– Но кто-нибудь может знать о том, где он находится? – настаивала Амалия. – У него есть родные, друзья, жена, дети? Просто в чемодане у дяди были ценные вещи, и мы боимся, что они могут пропасть, – быстро добавила она, чтобы оправдать свое любопытство.
– Полагаю, вам лучше спросить о нем у его бывшего командира, – ответил француз. – Кстати, вот он идет. Думаю, если ему известно о Харитонове, он вам все расскажет.
Звякнул колокольчик, и полковник Раевский вошел в лавку.
– Добрый день, сударь! – сказала Амалия, улыбаясь.
Раевский театрально всплеснул руками, изумился, восхитился, объявил, что он рад, счастлив, бесконечно восхищен, добавил, что их пути все время пересекаются, что является, наверное, знаком свыше. И хотя Амалия не имела привычки мешать высшие силы в свои земные дела, она не стала с ним спорить.
– Что за дело у вас на сей раз? – весело спросил полковник. – Надеюсь, Домбровский не увел больше ничью жену? А то репутация нашего полка пострадает, знаете ли…
– Нет, – сказала Амалия, – на сей раз дело вовсе не в вашем враче. Просто мой дядя Казимир по рассеянности взял в поезде чужой чемодан. Там не было никаких документов, только сюртук с меткой портного. А в чемодане дяди были ценные вещи, и он волнуется.
– Это сюртук Харитонова, – пояснил Ферье, чтобы ввести полковника в курс дела.
– Ростислава Афанасьевича? – удивился Раевский. – Конечно же, я прекрасно его помню.
– И где я могу его найти? – спросила Амалия.
Раевский замялся, объявил, что не помнит, и вообще, сейчас время обеда. Не окажет ли госпожа баронесса ему честь отобедать с ним вместе? И ее спутник, разумеется. Он лично знает одно место, где готовят так, что даже московские повара умерли бы от зависти.
– Ваше предложение весьма кстати, сударь, – заметила Амалия. – Мы только что с поезда и, надо признаться, не откажемся немного перекусить.
Раевский предложил баронессе руку, Антоша засунул сюртук обратно в сверток, и они отправились по шатким тротуарам в местный ресторан «Париж», где, к удивлению Амалии, и впрямь оказалась весьма сносная кухня. Между первым и вторым полковник рассказал ей историю заведения.
Оказывается, во время войны двенадцатого года местные жители взяли в плен француза, и такой он был тощий и несчастный, что им стало его жалко. Его пригрели и накормили, после чего тот не преминул влюбиться в одну из местных уроженок и не стал возвращаться на родину. Француз женился, какое-то время пытался быть помещиком, но без особого успеха, а потом открыл ресторан. У него оказался настоящий талант к приготовлению блюд, как, впрочем, и у его потомков. Теперь ресторан содержал внук того самого француза, взятого в плен, и, судя по всему, дела его шли хорошо, потому что он подумывал уже открыть свое собственное заведение в Москве.
– Ваш рассказ очень интересен, – сказала Амалия, – но мне хотелось бы все же узнать поподробнее о господине Харитонове. Повторяю: в чемодане дяди были очень, очень ценные вещи.
Раевский выразительно кашлянул, покосился на Антошу, который во время обеда не произнес ни слова, объявил, что за едой не принято говорить о делах, и вообще… Но Амалия, которой уже успели наскучить гусарские маневры, поднялась из-за стола.
– Что ж, господин полковник, раз вы не можете мне ничем помочь, стоит ли мне отнимать ваше драгоценное время…
Господин полковник сделался лицом пасмурен, как осенний день, кликнул Мишку и велел ему принести красную шкатулку.
– Он оставлял мне свой адрес на всякий случай, – пояснил Раевский, принимаясь за котлетку. – Сколько я помню, Харитонов должен жить в Москве у сестры, но, сами понимаете, столько времени прошло…
Вскоре явился Мишка со шкатулкой, полной всяких бумажек, и среди них Раевский отыскал одну, на которой значился московский адрес Харитонова.
– Вот, не угодно ли… Москва, Большая Садовая, дом Морозовой. Буду рад, сударыня, если помог вам.
– Как зовут его сестру? – спросила Амалия, переписывая адрес в свою записную книжечку. – Она замужем?
– Насколько мне известно, нет. У нее та же фамилия, Харитонова. Зовут… зовут, кажется, Антонина. Да, именно так. Антонина Афанасьевна.
– Благодарю вас, господин полковник, – сказала Амалия искренне. – Вы очень мне помогли. По правде говоря, не знаю, что бы я делала, если бы не вы!
6
«АЛЕКСАНДР ПРИЕХАТЬ НЕ СМОГУ СРОЧНОЕ ДЕЛО ВМЕСТО МЕНЯ БУДЕТ ДЯДЯ КАЗИМИР С ПИСЬМОМ ДЛЯ ВАС РАССКАЖИТЕ ЕМУ ВСЕ АМАЛИЯ КОРФ»
Александр Богданович Зимородков с досадой скомкал телеграмму и сунул ее в карман. Он договорился встретиться в ресторане с Казимиром Браницким в пять, а была уже половина шестого. За стеной кто-то все время хихикал, и посторонние звуки мешали Зимородкову сосредоточиться. Кроме того, как человек, привыкший быть пунктуальным, он не любил, когда другие опаздывали.
Придя в ресторан, он попросил отдельный кабинет, и, так как для полиции в том заведении все время оставляли один – для разных случаев, секретных и не очень, – его просьба была выполнена беспрекословно. Однако теперь было уже без четверти шесть, а Казимира все не было.
Наконец в коридоре послышались голоса, официант распахнул дверь, и дядя Амалии, потирая ручки, вкатился в кабинет.
– Прошу прощения, подзадержался! – промычал Казимир, глядя на часы. – Отправился в одно… гм… местечко… а там компания, стали уговаривать в карты перекинуться… Насилу ушел, клянусь честью. – Он сел на стул и улыбнулся собеседнику. – Вот-с, прибыл по распоряжению племянницы…
– Письмо, – тихо напомнил Саша.
– Ах да, – встрепенулся Казимир, – письмо… – Он полез в один карман, в другой, нахмурился и стал перерывать все карманы подряд. Наконец письмо обнаружилось в кармане брюк, уже изрядно помятое. Саша вскрыл его и углубился в чтение, а Казимир стал изучать меню, поглядывая на своего собеседника.
Внешне Александру Зимородкову было около тридцати лет. Это был коренастый брюнет с лицом, которое поначалу могло показаться угрюмым, но которое замечательно оживляла улыбка, и тогда становилось понятно, что угрюмость – лишь следствие замкнутости, то ли врожденной, то ли ставшей профессиональной привычкой. У него были крупные, резкие черты лица; верхняя губа рассечена поперечным шрамом, который плохо зажил и который не скрывали даже темные усы. Он дочитал письмо Амалии до конца и нахмурился.
– Странное дело, очень странное… – проговорил он. – Значит, вы нашли чемодан с рукой и ногой?
От ужаса, что племянница все-таки выдала его и написала о нем высокому полицейскому чину, Казимир даже выронил меню.
– Я? Ну да, конечно же, я. Но я ни в чем не виноват… Чемодан был очень похож на мой, ну просто до ужаса похож! Как две капли воды!
– И фальшивая пятерка была в сюртуке? – продолжал Зимородков.
– Синенькая? Да… верно.
Александр Богданович вздохнул. Казимир воспользовался передышкой, чтобы нырнуть под стол и поднять меню, причем едва не утащил на пол скатерть со всем, что на ней стояло.
– Случай не единственный, – сказал наконец Зимородков.
– Что, простите? – насторожился Казимир. – Вам уже попадались чемоданы с руками и ногами?
– Нет, это все вздор, – отмахнулся Александр Богданович. («Ничего себе вздор – целых два смертоубийства», – подумал Казимир, но возражать не стал.) – Я о фальшивых деньгах. Несколько лет назад Министерство финансов заметило, что кто-то производит фальшивые ассигнации очень хорошего качества, практически не отличимые от настоящих.
– Пятирублевые? – Казимир, как и Амалия, обладал способностью все схватывать на лету.
Зимородков усмехнулся и покачал головой.
– В том-то и дело, что не только. Ассигнации были разного достоинства – от пятирублевых до сторублевых, так что ущерб казне, сами понимаете, был нанесен немалый. Судя по всему, тут поработали настоящие мастера своего дела. Мы сначала подумали на варшавских, это их специальность – подделывать деньги, так уж повелось…
Казимир почувствовал нечто вроде национальной обиды, однако уже в следующее мгновение решил, что подделывать деньги не каждому дано, не то что какую-нибудь старушку-процентщицу топором ухлопать. И вообще, раз поляки в области изготовления фальшивых ассигнаций оказались впереди всех, надо этим гордиться. А посему он расправил плечи и стал слушать дальше.
– В Варшаву[54] были отправлены соответствующие распоряжения, и там сразу же арестовали всех аферистов, когда-либо замеченных в подделывании денег. Нуте-с, казалось бы, дело сделано… но следствие показало, что все задержанные господа были ни при чем. Они мирно занимались своими обычными делами – шантажом, сводничеством, ограблениями и прочим, – но никто из них не имел касательства к тем фальшивым ассигнациям, о которых мы говорим. Так что следствие оказалось в тупике… в котором и пребывает до сих пор. Хотя розыски были проведены, уверяю вас, немалые.
– Понятно, – вздохнул Казимир. – А как деньги можно отличить от настоящих?
Зимородков усмехнулся.
– То-то и оно, что никак. Я же говорю вам, бумажки оказались отменного качества, разве что краска немного подкачала. Но, согласитесь, не будешь же каждую ассигнацию водой проверять…
Казимир кивнул с умным видом, а про себя подумал, что не отказался бы иметь в своем распоряжении такой вот станочек, который производит банкноты по щучьему велению, по казимирчиковому хотению. Конечно, подобная мысль была не к лицу дворянину и потомку крестоносцев, зато она вполне подходила человеку свободному, каким любил представлять себя дядя Амалии.
– И тут – странная история с чемоданом, в которую вы оказались замешаны… – Зимородков вздохнул. – Значит, там были части двух тел, мужского и женского?
Казимир поежился и почувствовал, что даже малость потерял аппетит.
– Да. То есть моя племянница так сказала. Я-то их, сами понимаете, не рассматривал.
– И она думает, что по метке на сюртуке сможет найти его хозяина? – допытывался Зимородков.
– Н-ну, – промямлил Казимир, – она надеется… то есть рассчитывает…
– Передайте ей все, что я вам рассказал, – проговорил полицейский. – В конце концов пятерка еще ничего не доказывает. Может быть, здесь мы имеем дело с обыкновенным убийством, а может быть, напали на след тех фальшивомонетчиков и наконец-то поймем, кто стоит за аферой. Только, пожалуйста, предупредите Амалию Константиновну. – Зимородков подался вперед. – Там, где речь идет о подделке денег, замешаны обычно очень влиятельные интересы. И расследовать такие дела во много раз опаснее, чем обычные убийства. Изготовление фальшивых денег карается беспощадно, и оттого те, кто идут на подобное, изворачиваются как могут, чтобы не попасться. Если речь и впрямь идет именно об этом, ваша племянница очень сильно рискует. Я бы предпочел, чтобы она постоянно держала меня в курсе происходящего. Потому что, если с ней что-то случится, я уже не смогу ей помочь. Надеюсь, Казимир Станиславович, вы ей в точности мои слова передадите.
Казимир замахал руками и объявил, что Александр Богданович может на него рассчитывать, для того Амалия и послала его сюда, чтобы он ей все и передал потом при встрече, слово в слово.
– Хорошо, – успокоился Зимородков. – Что же касается той особы, которую она просит разыскать, то ли родственницы, то ли знакомой убитой Натальи Севастьяновой, то я попытаюсь. Но, боюсь, потребуется некоторое время.
– Конечно, конечно! – воскликнул Казимирчик, которому сделалось совсем уж не по себе от всех полицейских подробностей. – Кстати, я хотел у вас спросить: как вы находите суфле, которое тут подают? А ростбиф? Должен вас предупредить, дорогой Александр Богданович, в гастрономическом смысле я чертовски щепетилен!
7
Лестница была величественна, лестница была огромна. Судя по всему, когда-то этот дом был процветающим частным особняком, но потом он попал в чьи-то равнодушные руки, и обладатель сих рук решил разделить дом на квартиры и сдавать их внаем.
За каждой дверью теперь билась своя, особенная жизнь. Где-то кашлял ребенок, где-то тонко поскуливала собака, где-то ссорились супруги, и женщина визгливо кричала, что муж всю душу ей выел, что она потратила на него свою молодость и до сих пор не видела никакой, ну совершенно никакой благодарности. Горничная несла навстречу Амалии и ее спутнику свернутый в трубку небольшой ковер. Завидев хорошо одетых господ, она отошла к стене, чтобы пропустить их.
– Харитонова на четвертом? – на всякий случай спросила Амалия. От дворника они уже узнали, что сестра офицера живет на последнем этаже.
– Да, сударыня, – подтвердила горничная. – Первая дверь слева. Антонина Афанасьевна дома, только не всегда открывать любит. Кредиторы брата ее замучили.
В большом городе Антоша отчаянно робел. Сколько здесь было домов, вывесок, экипажей! А людей! В своем городке он знал наперечет всех жителей, но что касается Москвы, то он сомневался, чтобы тут можно было узнать всех, даже если проживешь здесь всю жизнь.
– Пришли, – сказала Амалия, когда они наконец добрались до четвертого этажа. И постучала в дверь.
– Кто там? – донеслось с той стороны глухо и неприязненно.
– Мы ищем вашего брата, – ответила Амалия. – Он у вас?
Дверь заохала и стала жаловаться, что ее замучили посетители, которым ее брат должен, и она не видит свету белого, и вообще…
– Мы хотели бы вернуть Ростиславу Афанасьевичу карточный долг, – прервала бесконечный поток жалоб Амалия. – Десять рублей, которые мой брат проиграл вашему.
Дверь пораженно умолкла и наконец приотворилась. За ней обнаружилась женщина с очень худым, почти костлявым лицом и лихорадочно блестевшими глазами. Амалия достала из кошелька десять рублей.
– Ростислав Афанасьевич дома? – спросила она спокойно. – Антоша хотел бы вернуть долг ему лично. – И она кивнула на своего спутника.
Антонина Афанасьевна запахнула выцветшую шаль и ответила, что брат должен быть у своей… у своей… словом, у знакомой.
– У Арины Викторовны, что ли? – небрежно поинтересовалась Амалия.
– Не знаю я никакой Арины Викторовны. Он у Лебедкиной, Юлии Ларионовны, – сердито ответила сестра. Женщина говорила, не сводя взгляда с ассигнации в руке Амалии. – Если хотите, я могу ему деньги отдать, когда он появится.
– Да, – кивнула Амалия, – конечно. Я вам оставлю деньги, а вы мне скажите адрес Лебедкиной. Брат Ростиславу Афанасьевичу записочку пошлет, что больше ничего ему не должен.
Произведенный одним махом в братья баронессы Антоша пораженно молчал. Но так как в романах ему встречались и не такие превращения, то он решил просто ждать, что будет дальше.
– Она живет во флигеле у дома Голутвина. На Грачевке, если вашей милости угодно знать, – подумав, ответила Антонина Афанасьевна.
У нее было серое, выцветшее лицо, серые волосы и платье неопределенного цвета. От всей ее фигуры веяло неблагополучием, неустроенной жизнью, тоской и несчастьем. И глядела она исподлобья, как животное, которое всякую минуту ждет, что его ударят, и уже почти привыкло к этому.
– Спасибо, – сказала Амалия и отдала женщине деньги. – Простите, что мой брат раньше не смог отдать долг вашему. Ваш и не напоминал, пока он сам не спохватился, да и вообще Ростислав Афанасьевич у нас давно не показывался. Вы когда его последний раз видели?
Антонина Афанасьевна взяла ассигнацию, и лицо у нее было такое удивленное, словно она ждала, что Амалия вот-вот набросится на нее и выхватит из пальцев заветную бумажку. Машинально Антонина Афанасьевна скомкала деньги в ладони и руку спрятала под шаль. Красивая дама стояла перед ней, ожидая ответа, а рыжий юноша возле нее переминался с ноги на ногу. «Надо же, – подумала Харитонова, – с виду дама благородная, а с братом тоже не повезло – совсем молоденький, а уже в карты играет». Антоша, который отлично помнил, как его выдрал отец, когда он единственный раз в жизни осмелился взять карты в руки, вздохнул и напустил на себя вид провинившегося школьника.
– Да уж с неделю, почитай, не видела, – горько ответила Антонина Афанасьевна на вопрос Амалии. – Да и хорошо. Опостылел он мне хуже горькой редьки. Вечно то дай денег, то вина принеси, то почему ты замуж не вышла, то еще что. Ваш-то брат приличный, моему не чета, а мой – выпивоха, совершенно пустяковый человек. Другие офицеры на пенсию живут, не жалуются, да еще семьи содержат, а он все просаживает. То в карты, то на Юлию свою. Срам, да и только!
Женщина явно жаждала выговориться, и Амалия не была намерена ей мешать. Чем больше она узнавала об офицере в отставке и его даме сердца, тем полнее становилась картина событий. Кроме того, работа в особой службе научила Амалию, что любая информация никогда не бывает лишней.
– Я что-то слышала о Юлии, – заметила Амалия небрежно. – Брат мне о ней рассказывал, но немного, потому что знает, что я не одобряю таких знакомств. Случаем не она с каким-то полковником жила?
– У, у нее много всяких было, – фыркнула Антонина Афанасьевна. – И купцы, и чиновники, так что, может статься, и до полковника она добралась. Хотя вряд ли, знаете. Если бы появился у нее полковник, она бы братца моего мигом бросила. – Женщина вздохнула и покосилась на безмолвного Антошу. – Хороший человек ваш брат, приличный, и долги возвращает, не то что некоторые. Вы чайку не хотите? Я как раз самовар ставлю. Заходите, а то у меня редко бывают гости – совсем отвыкла, а ведь училась в частном пансионе, в столице. Моя подруга по пансиону – теперь жена генерала, представляете? Что время-то с людьми делает!
8
– Тпрру, окаянная!
Маленькие домики, маленькие лавки, мальчишки в картузах, ручьи воды вдоль скверных тротуаров – вот она, Грачевка, где живут преимущественно мещане и небогатый торговый люд.
– Это дом Голутвина? – спросила Амалия.
– Так точно, сударыня, – отрапортовал извозчик. Судя по его манере выражаться, он был из бывших военных.
Амалия расплатилась и в сопровождении Антоши зашагала к вросшему в землю старому одноэтажному дому, который подозрительно щурился на улицу плохо помытыми окнами. В одном из них на подоконнике сидела пестрая кошка и облизывала лапку.
– Думаете, это он? – внезапно спросил Антоша.
– Что? – не поняла Амалия.
– Он был в чемодане? То есть его нога? – терпеливо пояснил ее спутник.
– Боюсь, не все так просто, – улыбнулась Амалия. – Лучше приготовься к тому, что Харитонов жив и здоров и просто-напросто заложил свой сюртук старьевщику, а какому именно – не помнит. И мы опять окажемся ни с чем.
Антоша нахохлился. Он привык, что в романах следствие всегда идет по прямой, никуда не сворачивая и ни разу не заходя в тупик; что сыщик или тот, кто играет его роль, никогда не совершает ошибок и уверенно идет по следу, как бы ни старались недобросовестные свидетели сбить его с толку. Скептицизм Амалии неприятно удивил юношу, но, подумав, Антоша решил, что она просто боится сглазить удачу, и повеселел, не зная, что Амалия принадлежала к людям, которые менее всего на свете склонны к суевериям.
Вскоре они уже стояли у флигеля небольшой пристройки к дому с отдельным входом, которую не было видно с улицы. Амалия постучала в дверь – та была крепко заперта.
– А теперь что? – спросил Антоша, изнывая от нетерпения.
– А теперь мы отправимся искать дворника, – ответила Амалия.
Однако никого искать им не пришлось: дворник сам вышел из-за угла, неся в руках большую косматую метлу. Завидев господ, он остановился.
– Юлия Ларионовна Лебедкина здесь живет? – строго спросила у него Амалия.
– Съехала, – лаконично отозвался дворник. – Вы хотите флигелек посмотреть, сударыня?
– Как так съехала? – возмутилась Амалия, и тут Антоша даже не узнал ее голоса – таким склочным и неприятным он стал. – Она моему брату денег должна! Обещала на неделе отдать непременно, а… Когда же она съехала? – забеспокоилась Амалия.
– Да уж с неделю будет, не меньше, – пожал плечами дворник.
– Ну просто ни на что не похоже! – продолжала возмущаться Амалия. – Говорила же ему: не давай в долг всяким… всяким… – Она обернулась к Антоше. – Вот видишь, что ты натворил! Где же теперь ее искать, а?
– Адреса она не оставила, – сообщил дворник, осклабившись.
– Уверен? – значительно спросила Амалия, вынимая из кошелька монету.
Дворник покосился на монету и приосанился.
– Как есть, не оставила, сударыня, – жалобно сказал он. – Подвода приехала да все ее имущество увезла. Говорили, она себе нового кавалера нашла. Бога-атого, – пропел дворник, щуря глаза.
– И кто же он такой? – сурово спросила Амалия, не отдавая монету. – Ты хоть его видел?
– Я-то не видел, – признался дворник. – Да и она о нем не упоминала. Сразу уехала, и все.
– А старый ее кавалер где? – осведомилась Амалия, вручая дворнику двугривенный. – Который офицер в отставке?
– Ростислав Афанасьич? – подсказал дворник.
– Вот-вот, – кивнула молодая женщина. – Может, он знает, где Лебедкина?
Дворник призадумался.
– Да он вроде как тоже уехал, – признался он наконец сконфуженно. – А дамочка вашему братцу много задолжала?
Амалия махнула рукой безнадежно, мол, братец разоряет ее, отчего она буквально сидит на хлебе и воде, а если и носит французские платья, так исключительно от чувства собственного достоинства, если не по привычке. Дворник важно и понимающе кивнул.
– Даже и не знаю, чем вам помочь, сударыня, – признался он. – Рад был бы, но…
– А Юлия Ларионовна присутствовала, когда ее вещи перевозили? – внезапно спросила Амалия.
– Нет, – ответил дворник, пожимая плечами. – Зачем ей? Да и вещей у нее не шибко много было, доложу я вам.
– Может, те, кто ее вещи перевозил, знают, куда она переехала? – предположила Амалия. – Как их зовут?
– Да не знаю я, – признался дворник. – Не спрашивал. Ключи у них были, деньги они отдали, которые дамочка за квартиру задолжала, объяснили, что у нее, мол, теперь другая жизнь, вот попросила их перевезти вещи. А потом стали выносить.
– Значит, отдали деньги?
– Конечно. А то бы я не пустил их вещи забирать!
– Сколько же человек вещи перевозили?
– Двое, – поразмыслив, ответил дворник. – Мужчина и женщина. Женщина прибиралась, а мужчина носил вещи. И еще кучер был, но он за лошадьми присматривал. Вам флигелек не нужен случаем? Он теперь сдается.
– Ну, что ж, – задумчиво сказала Амалия, – раз уж Юлия Ларионовна здесь больше не живет, а брату все равно в университет поступать… – Она оглянулась на Антошу и махнула рукой. – Показывай, пожалуй.
Дворник повеселел, отставил метлу и повел господ смотреть флигель. Антоша, в один день произведенный в брата Амалии, картежника, кредитора и будущего студента, шел за ней, про себя гадая, какие еще чудеса ждут его впереди.
– Осторожно, тут ступенечка… Вот тут – чулан. Прошу… Здесь гостиная. Спальня напротив…
– Ну, что? – спросила Амалия у своего «брата». Тот солидно кашлянул, а затем промолвил:
– Мы бы хотели осмотреться, если вы не против. – И сразу молодой человек покосился на Амалию. Она едва заметно кивнула головой, и Антоша понял, что реплику подал именно такую, какую было нужно.
Дворник вышел, и Амалия с Антошей остались одни. Молодая женщина огляделась. Комод, хромоногий стол, какая-то олеография[55] на стене, пара засаленных стульев, клеенчатый диван… Антоша затаил дыхание.
– Что вы обо всем этом думаете? – наконец не выдержал он.
– Я думаю, не хотела бы жить в такой обстановке, – буркнула Амалия.
– Я не о том, – насупился Антоша. – Воля ваша, но во флигеле случилось что-то странное. Жили два человека, мужчина и женщина, потом куда-то пропали. Затем приехали какие-то люди забирать их вещи, и дворник их отпустил! По-моему, – вдохновенно выпалил он, – он в сговоре с убийцами!
– Нет, – ответила Амалия, – ему просто все равно. Жили люди, потом съехали, прислали с деньгами других людей, чтобы те заплатили за квартиру и забрали вещи. Что тут такого?
– То есть вы верите, что так и было? – нерешительно спросил Антоша. – Что Лебедкина и Харитонов просто уехали куда-то, а не пропали, потому что их убили и тела разрезали на части?
– Я пока не вижу никаких следов убийства, – попыталась вернуть своего юного спутника на землю Амалия. – Ты что-нибудь видишь?
– Нет, – честно признался Антоша.
– Тогда давай искать.
И они принялись за поиски. Амалия отодвинула стол, осмотрела его ящики и стала изучать стулья, переворачивая их и тщательно осматривая. Антоша принялся за комод, но не нашел ничего, кроме каких-то капель непонятного назначения и старых театральных программок.
– Пол осмотри, – приказала Амалия, рассматривая диван. – На нем случайно нет никаких пятен, похожих на кровь?
Однако на полу нашлись какие угодно пятна – от грязи, воска и масла, – но только не те, которые даже при самом живом воображении можно было принять за кровь. Амалия отправилась в спальню и перевернула там все вверх дном, даже забралась под кровать, но и там не нашла никаких следов крови.
– Ничего, – вынуждена была констатировать она.
– Ничего, – уныло согласился Антоша.
Амалия вздохнула.
– Любопытно, – сказала она.
– Что именно? – насторожился Антоша.
– Да то, что кто-то вымыл половину гостиной, а ко второй даже не притронулся, – отозвалась Амалия. – А пол в спальне вообще не трогали.
– И о чем это нам говорит? – растерялся Антоша.
– Только о том, что там, где вымыли, было что-то, чего не было там, где не мыли, – загадочно промолвила Амалия, и ее глаза сверкнули золотом.
– Кровь? – догадался Антоша.
– Допустим, – с сомнением в голосе отозвалась Амалия. – Хотя не исключено, что женщина, которая делала здесь уборку, просто-напросто неряха и лентяйка. Комнаты мы с тобой осмотрели. Что у нас осталось?
– По-моему, ничего, – ответил Антоша.
– Чулан, – внезапно сказала Амалия. – Дворник упоминал про чулан. Пойдем-ка осмотрим его.
И в чулане их ждало настоящее открытие. Нет, то были не грязные бутылки, до сих пор источающие крепкий сивушный дух; не чьи-то штиблеты с огромной дырой спереди, не подлежащие починке, и не белесая моль, которая вылетела откуда-то и принялась кружить вокруг лампы, которую Антоша захватил с собой.
– Кровь… – выдохнула Амалия, глядя на тонкую темную струйку на полу чулана. Если бы молодая женщина не догадалась отодвинуть в сторону пару бутылок, они бы ничего не заметили.
– Так что, – начал Антоша в изумлении, – их убили здесь?
– Нет, – отмахнулась Амалия. – Тех двоих убили в гостиной, примерно в том месте, где позаботились потом как следует вымыть пол. А тела, чтобы их никто не заметил, к примеру, в окно, спрятали сюда и только потом вернулись за ними. Но когда убийцы вытаскивали тела обратно из чулана, чтобы незаметно вынести их, они не заметили, что кровь оказалась на полу. Оно и понятно – судя по всему, эти двое сильно торопились. Зато теперь мы точно знаем, что мы на верном пути.
9
– Так как же все было на самом деле? – спросил Антоша.
– Очень просто, – ответила Амалия, ставя бутылки на место. – По какой-то причине некто убил во флигеле двух человек. Далее… Убийцы, ведь, судя по всему, их было по меньшей мере двое, захотели скрыть свое преступление. Зачем?
– Что зачем? – Антоша глядел на Амалию во все глаза.
– Я имею в виду, – нетерпеливо пояснила молодая женщина, – к чему такие ухищрения? Зачем прятать тела в чулан, затем вывозить их куда-то, затем разрезать на части и опять куда-то везти? Что за вздор? Почему нельзя было просто бежать?
– Потому что убийцы не хотели, чтобы их нашли, – заметил Антоша. Он был обескуражен, что Амалии до сих пор не пришла в голову такая простая мысль.
– Глупости! – фыркнула она. – В большинстве случаев преступнику достаточно бежать, особенно если с жертвой его ничего не связывает. Если произошло ограбление, то надо бежать; если убийство на почве страсти… Тогда, боюсь, выражение «не связывает» теряет смысл. – Она пожала плечами. – И все же какова предусмотрительность! Убить, засунуть тела в чулан, явиться на следующий день или через день под видом перевозчиков… Потом мужчина незаметно вытащил трупы, к примеру, завернув их в ковер, а женщина замыла или стерла все следы крови – помнишь, дворник говорил, она убиралась здесь. А чтобы усыпить бдительность дворника, они заплатили ему все, что была должна Юлия Ларионовна, придумали историю о том, что она переезжает к какому-то богачу, и исчезли… Нет, нет и еще раз нет! Для преступления на любовной почве все произошедшее слишком хладнокровно, слишком обдуманно. Значит, либо месть, либо что-то еще. Все делалось ради какой-то очень серьезной цели, иначе просто не стоило бы прилагать столько усилий. – Она поглядела на Антошу и улыбнулась. – Ну ничего, с помощью сыскного отделения или нет, но мы найдем этих… этих господ. Пойдем-ка поговорим еще с дворником о том, что собой представляли перевозчики. Сдается мне, что если мы их отыщем, то найдем и убийц.
Антоша погасил лампу, которая светила еле-еле, и поставил ее на стол. Амалия заперла чулан и подождала своего спутника у выходной двери.
– Как ужасно! – с горечью проговорил Антоша, когда они были уже снаружи. В ответ Амалия взяла его под руку.
– Можешь мне поверить: то, с чем мы столкнулись, – еще не самое ужасное из того, что случается в жизни, – сказала она. – А вот и наш дворник!
Дворник разговаривал с каким-то взволнованным господином – судя по одежде, мелким чиновником. Завидев Амалию и ее спутника, дворник осклабился и кивнул им, как старым знакомым. Он уже успел сквозь окно заметить, что они перерыли все во флигеле, и преисполнился почтения к господам, которые намерены вот так серьезно, любой ценой вернуть себе то, что им была должна исчезнувшая невесть куда Юлия Ларионовна.
– И, сударь, нечего расстраиваться, – сказал дворник чиновнику. – Не вы один госпожу Лебедкину ищете. Вон госпожа и ее брат тоже найти ее не могут. Отыщется она, непременно отыщется!
– Правда? – обрадовался господин, подбегая к Амалии. – Вы тоже имели честь знать Юлию Ларионовну? – Он сдернул с головы фуражку. – Позвольте представиться – Белоголовцев Илья Андреевич. И у вас нет никаких сведений, где она сейчас может быть?
Он был маленький, узкоплечий, ростом ниже Амалии и к тому же, несмотря на молодость, почти совершенно лысый. Движения у него были суетливые, мелкие, губы улыбались, но в глазах застыла мольба. Антоша поглядел на него сверху вниз и сурово подумал, что мужчина смахивает на бестолковую курицу.
– К сожалению, Илья Андреевич, не могу вам ничего сказать, – ответила Амалия. – Мы бы тоже дорого дали, поверьте, чтобы знать, где она теперь.
Но господин Белоголовцев не унимался. Он повторил несколько раз, что очень уважает… ценит Юлию Ларионовну… и ее доброе сердце… Она такая женщина, ах, такая женщина! Амалия мило улыбалась и кивала головой. Баронесса уже видела, что в присутствии поклонника госпожи Лебедкиной ей точно не удастся расспросить дворника, и решила, что вернется сюда завтра утром, а пока отправится в гостиницу, чтобы отдохнуть и как следует обдумать свои последующие шаги.
– И она так неожиданно уехала… – бормотал чиновник. – Никого не предупредила! Воля ваша, но это странно… особенно по отношению к друзьям…
«Да, надо же будет еще отправить телеграмму Казимиру, чтобы он немедленно ехал в Москву, – подумала Амалия. – Интересно, что ему рассказал Саша?»
Она кивнула Белоголовцеву на прощание и удалилась вместе с Антошей, щурясь из-под шляпки на солнечные лучи. Чиновник постоял на тротуаре, глядя ей вслед и комкая в руках фуражку. Почему-то он только теперь вспомнил, что странная дама не назвала ему своего имени. Да и по манерам она плохо подходила к тому кругу, в котором имела обыкновение вращаться Юлия Ларионовна. Однако Илья Андреевич не стал задерживаться на мелькнувшей мысли и вновь направился к дворнику, рассчитывая все же вытянуть из него сведения о так некстати исчезнувшей госпоже Лебедкиной.
10
– Ах, – стонал Казимир на следующий день, – как я устал! У меня болит все тело, все, все! Я разбит, я старая развалина, я ни на что больше не гожусь! Меня загнали, да, совершенно загнали! – Он свирепо покосился на Амалию, которая сидела за столом, как ни в чем не бывало, и допивала кофе. – А все ты, племянница, со своими поручениями! Как будто нельзя было послать к Зимородкову кого-нибудь другого! Как же треклятый вагон грохотал – мне полночи мерещилась Кукуевка![56] Ах! Несчастный я человек!
– Дядюшка, – терпеливо спросила Амалия, – вы лучше объясните мне, зачем вы ехали сюда вторым классом? Кажется, на деньги, которые я вам дала, можно было купить целый вагон первого класса, причем туда и обратно.
Казимир потемнел лицом, стал бессвязно жаловаться на московских жуликов, на то, что все дорого, а в ресторанах цыгане отказываются петь за бесплатно, и кончил заявлением, что его никто не любит, не ценит и не уважает. Иначе его не стали бы гонять, как лошадь, из Синей долины в Петербург, а затем еще и из столицы в Москву!
– А я, между прочим, выяснила, кто это был, – прервала поток его жалоб Амалия.
– Кто? – вытаращил глаза Казимир.
– Те двое из чемодана, – спокойно ответила Амалия и откинулась на спинку стула.
Казимир сидел несколько секунд с открытым ртом, но потом все же опомнился и попросил объяснений. Амалия рассказала, как она вышла на Ростислава Афанасьевича Харитонова, офицера в отставке, и Юлию Ларионовну Лебедкину, даму неопределенных занятий, как обыскивала флигель, в котором они жили, и как нашла в чулане кровавое пятно.
– Сегодня утром я пошла снова расспрашивать дворника о тех двоих, что перевозили вещи, – продолжала Амалия. – К сожалению, он мало что о них запомнил. Женщина лет сорока пяти, по его словам, мужчина помоложе лет на пятнадцать-двадцать, оба самой обычной внешности, волосы вроде у обоих русые, а может, и нет. Женщина больше молчала, всем распоряжался мужчина. Кучер во флигель не заходил вообще, возможно, он тут ни при чем, и его просто наняли. Имя кучера дворник не запомнил, и сам кучер ему незнаком. Даже два двугривенных не смогли помочь ему вспомнить что-то еще. Он предположил, правда, что офицер вернулся к своей сестре, и назвал ее адрес, который я уже знаю. В общем, пока все. А что вам сказал при встрече Зимородков?
– О! – воскликнул дядюшка. – Он сказал, что ты должна быть очень, очень осторожна, что тут пахнет подделыванием денег! – И с жаром пересказал Амалии все то, что ему сообщил при встрече Зимородков.
К его удивлению, Амалия только покачала головой.
– Фальшивая пятерка в сюртуке… – задумчиво промолвила она. – Нет, тут все гораздо проще. Ее держали за подкладкой, в укромном месте. Я так понимаю, что это был запас на черный день.
– Ты что же, сомневаешься в нашей полиции? – возмутился Казимир.
– Нет, – усмехнулась Амалия, – и менее всего я сомневаюсь в Саше. Но посудите сами, дядюшка… Офицер в отставке, который изводил свою сестру, дама легкого поведения или вроде того, мелкий чиновник, ее поклонник, бедно меблированный флигель – что, разве похоже на обстановку, в которой действуют фальшивомонетчики? Нет, нет и еще раз нет. Тут, скорее всего, какая-то месть, жестокая и обдуманная. За что – я еще не знаю, но очень надеюсь узнать.
– Месть офицеру в отставке или даме легкого поведения? – пожал плечами Казимир. – С сокрытием тел и разрубанием последних на части? Прости меня, племянница, но я не в силах себе такое вообразить.
И он деловито приладил себе салфетку за ворот, дожидаясь, когда официант подаст обед.
– Женщина всегда найдет, за что убить другую женщину, – вполголоса заметила Амалия, когда официант удалился. – А мы точно знаем, что одна из убийц – женщина.
– Хм, – отозвался неунывающий Казимирчик, – если ей сорок пять, как сказал дворник, а у нее, допустим, муж лет на двадцать моложе… – Он положил себе в рот кусочек дичи и зажмурился от удовольствия. – Да, так о чем я? Словом, муж… тэк-с… в общем, дорогая племянница, ей придется мстить всем женщинам моложе тридцати. Горы трупов! Чемоданов не хватит, честное слово. Шкляревский[57] со своими романами отдыхает!
– Вам бы все шутить, дядюшка, – вздохнула Амалия, – а ведь это – очень серьезное дело. Думаю, одна я с ним все-таки не справлюсь, потому что сейчас должна начаться самая рутинная часть работы – опрос знакомых, установление круга возможных подозреваемых, тех, кто имел что-то против Харитонова или Лебедкиной… – Она поднялась с места.
– Ты куда? – спросил Казимир с набитым ртом.
– Пошлю Зимородкову телеграмму, – отозвалась Амалия. – Пусть рекомендует мне надежного человека в московском сыске. Я передам ему это дело, и пусть он им занимается. Но можете мне верить – фальшивомонетчиками тут и не пахнет.
Что касается Казимира, то ему было в тот миг наплевать на всех фальшивомонетчиков в мире, потому что он блаженствовал. Больше всего на свете он любил хорошо поесть, выпить чего-нибудь приятственного и отдохнуть душой (и не только) в компании хорошенькой женщины. Сейчас он чувствовал, что на него снисходят покой и умиротворение, ибо то, что он ел, было достойно всяческих похвал. Поэтому он даже не заметил, как Амалия исчезла.
11
«СРОЧНО ПРОШУ РЕКОМЕНДОВАТЬ МНЕ НАДЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЕМУ ДЕЛА О ПЯТИ ЖДУ ОТВЕТА В ГРАНД-ОТЕЛЕ АМАЛИЯ».
Молодая женщина оплатила телеграмму, сунула кошелек обратно в сумочку и покинула телеграф.
По правде говоря, она могла послать телеграмму с рассыльным отеля, но ей не хотелось, чтобы кто-то оказался в курсе ее дел. Особая служба научила Амалию ценить секретность и соблюдать ее везде, где только возможно. Поэтому она взяла извозчика и сама отправилась на телеграф. А обратный путь до отеля, где остановились она, Антоша и Казимир, наша героиня решила проделать пешком. Больно хороша была погода, и солнце заливало Москву потоками золотых лучей.
– «Вестник Петербурга»! Сударь, купите «Вестник Петербурга»! – кричал где-то впереди мальчишка-газетчик.
– Не слушайте его, сударь! Берите «Новое время»! – возражал его вихрастый конкурент.
– Сенсационные подробности об адвокате Тизенгаузене! – надрывался первый. – Грандиозный скандал в столице! Купите, не пожалеете!
Амалия замедлила шаг, и первый мальчишка, заметив это, тотчас подбежал к ней.
– «Вестник Петербурга», сударыня! Прошу!
Он получил гораздо больше того, что стоила газета; кроме того, дама разрешила ему оставить сдачу себе, и мальчишка-газетчик, счастливый, убежал.
Амалия присела на скамью и стала читать заинтересовавшую ее статью. Как всегда, репортеры ее старого знакомого, а ныне короля желтой прессы Верещагина были в ударе. Строки тонули в многоточиях, риторических вопросах, восклицаниях и разъехидственных намеках. Автор негодовал, возмущался, брызгал слюной, захлебывался гневом и обличал. «Как он смел? – восклицал надежно укрытый псевдонимом писака. – Как мог наш знаменитый адвокат Тизенгаузен, надежда и опора, гроза прокуроров и обвинителей, отправиться в веселый дом! Где его застукали сразу с двумя – нет, вы подумайте только, двумя девицами, Зизи и Мими! Одна из которых (Зизи, она же по паспорту Агриппина Селедкина), между прочим, несовершеннолетняя! Но – хвала богам, поблизости оказался некий бдительный гражданин С., который и довел до сведения редакции распущенность знаменитого адвоката. Позор! О времена, о нравы!» В заключение автор, как водится, посыпал голову виртуальным пеплом и предостерегал молодежь от губительного разврата. Не ходи, мол, в веселый дом, дорогой читатель, если тебя там могут застукать!
Дочитав всю ахинею до конца, Амалия впала в задумчивость. Неужели эту адскую шутку подстроила ее служба – только потому, что она попросила о помощи? Или знаменитого адвоката сгубил кто-то из его конкурентов, который желал занять его место и получать его гонорары? Однако в любом случае теперь она могла не опасаться Тизенгаузена. Пройдет еще очень много времени, прежде чем ему дадут вести какое-нибудь громкое дело.
Газету, одно прикосновение к которой вызывало у Амалии гадливость, ей не хотелось больше видеть. Она хотела оставить «Вестник Петербурга» на скамейке для любого, кто пожелает, и уйти, но тут ее взгляд упал на заголовок внизу первой страницы.
Сначала Амалия вздрогнула, потом нахмурилась, а потом разгладила лист рукой, дабы убедиться, что она не ошиблась. Однако никакой ошибки не было.
Заголовок, привлекший ее внимание, гласил:
«СЧАСТЬЕ ЧИНОВНИКА:
КОЛЛЕЖСКИЙ СЕКРЕТАРЬ БЕЛОГОЛОВЦЕВ
ВЫИГРЫВАЕТ 75 ТЫСЯЧ В ЛОТЕРЕЮ!
ПОДРОБНОСТИ ТОЛЬКО У НАС!»
Глава 8 Дождь из денег
Но я заманчивой загадкой
Не долго мучился украдкой…
«Евгений Онегин», глава четвертаяБлажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой, —
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет явился…
«Путешествие Онегина»1
– Боже мой, – простонал Казимир, – куда ты меня опять тащишь?
Амалия второй раз объяснила дядюшке, в чем дело. Антоша, стоя у дверей, внимательно слушал, скрестив руки на груди.
– Значит, это и есть тот самый чиновник, который искал убитую? – промямлил Казимир. – И он выиграл 75 000? В лотерею Государственного банка? Неслыханно! До чего же везет некоторым… не понять кому! – Однако он тут же опомнился и строго поглядел на племянницу. – Но я-то тут при чем? Я понимаю, если бы я выиграл…
– Одевайся и идем, – сухо сказала Амалия. Ей уже успели наскучить препирательства.
– Куда? – вытаращил глаза дядюшка. Он только что вздремнул после сытного обеда, и теперь ему так же хотелось куда-то идти, как, допустим, тяжелому броненосцу флота его императорского величества – лететь за облака.
– Сейчас у них в доме радость, – объяснила Амалия. – Они выиграли первый приз. 75 тысяч рублей – безумные деньги. Мы придем с подарком, а вы посмотрите, не будет ли там какого… знакомого попутчика.
– Послушай, – в изнеможении начал дядюшка, – я, конечно, понимаю, что подозрительность и всякое такое, но… Почему чиновник не может выиграть в лотерею? Какое отношение его выигрыш имеет к убийству, которое произошло несколько дней назад?
Вместо ответа Амалия ткнула пальцем в статью.
– Читайте!
Казимир прочитал. И ничего не понял.
– Ну номер серии 7519, номер билета 27… И дальше что? – буркнул он. – Конечно, если бы я догадался купить билет с таким номером…
– Победитель объявился только два дня назад, если верить репортерам Верещагина, – ответила Амалия, и ее глаза сверкнули уже не золотом, а сталью. – А объявление о выигрыше было гораздо раньше. Понимаете, в чем дело?
– Значит, – пробормотал Антоша, – сначала в газете появилась телеграмма о выигрышах, потом произошло это двойное убийство, а уже потом пришел Белоголовцев и предъявил выигрышный билет.
– Совершенно верно, – подтвердила Амалия. – С билетом что-то нечисто. И я намерена выяснить, что именно. А вы, дядюшка, мне в этом поможете.
Казимир хотел было взбунтоваться, вспомнить о том, что он старый человек, больной, несчастный, всеми угнетаемый, и вообще ему даже в лотерею никогда не везло, но тут Амалия весьма кстати добавила, что внакладе он не останется, и дядюшка тотчас же перестал артачиться.
Он оделся, причесался, не забыл вдеть в петлицу бутоньерку и даже побрызгался духами, после чего все трое искателей приключений взяли извозчика и покатили к Белоголовцеву, адрес которого Амалия позаботилась узнать заранее в адресном столе.
Уже за сотню метров до места назначения Антоша заметил на улице оживление – у ворот толпились кухарки и дворники, и на всех лицах цвели глуповато-счастливые улыбки. К самому дому же было и вовсе не подъехать – столько возле него стояло экипажей, от довольно приличных до весьма обшарпанных.
Похоже, что о скромном коллежском секретаре Белоголовцеве вспомнили все, кто когда-либо встречал его на улице, в театре, в бане или в гостях; все, кто учился с ним в школе, кто служил в одном с ним учреждении, кто знал его дядю, его тетку, его троюродную сестру, двоюродного брата мужа той сестры и дядю крестной матери его жены. Родственники, друзья и просто знакомые ломились в дом толпами, тут же сновали вездесущие репортеры, и одного из них уже успели спустить с лестницы. Слышались охи, ахи, поздравления, восторженные возгласы, и уже какой-то даме сделалось в толпе дурно, и даму куда-то унесли, причем так и не вернули обратно.
Самого коллежского секретаря буквально рвали на части. Если бы на голове у него оставались волосы, они бы наверняка встали дыбом, но поскольку волос было ничтожно мало, то приличия оказались все же соблюдены. Илью Андреевича тискали, обнимали, ему заискивающе улыбались и пожимали руку, его хватали за фалды и насильственно заключали в объятья. За него предлагали тосты, ему совали выпить, подносили каких-то детей и просили не оставить своей заботой. Несколько нищих, прорвавшихся в квартиру, настойчиво требовали на водку, а когда наконец получили, стали клянчить еще и на чай.
В таком водовороте Казимира закружило, замело, он потерял бутоньерку и две пуговицы с сюртука. Вдобавок ко всему его благодаря внушительному виду приняли за представителя Государственного банка и стали хватать за руки, молить устроить как-нибудь выигрыш и им, и он насилу вырвался. Казимир помнил наказ Амалии – глядеть в оба и постараться найти в толпе того самого попутчика, который подсунул ему чемодан с бренными останками офицера и его сожительницы, но вокруг плыл какой-то хоровод полупьяных, льстивых, лицемерных и крайне гадких рож. Несчастный Казимирчик почувствовал, что еще немного, и ему станет плохо, и как за крайнее средство спасения ухватился за бутылку с коньяком. Коньяк оказался такой, что даже видавший виды поляк, привыкший к любым напиткам и даже таким, которые ни один человек не станет пить под страхом смерти, икнул и покачнулся на ногах. В состоянии полного просветления и окончательного примирения с миром он поискал, куда бы ему сесть, и недолго думая рухнул в ближайшее кресло. Лежавшая на кресле собачонка приглушенно взвизгнула и сделала попытку вцепиться зубами в то, что так бесцеремонно свалилось на нее сверху, но в его нынешнем состоянии Казимиру все было нипочем. Он пошарил рукой по сиденью, извлек из-под своего зада собачонку, которая сейчас казалась несколько сплющенной, и опустил ее на пол, после чего преспокойно задремал. Что касается Амалии и Антоши, то они потеряли его из виду еще до того, как успели прорваться в дом.
– Ты его видишь? – сердито спросила Амалия у своего спутника, который двигался рядом с ней и, несмотря на все усилия толпы разлучить их и растащить в разные стороны, каким-то образом ухитрялся удержаться возле нее.
– Нет, – признался Антоша.
Тут их заметил хозяин дома, узнал Амалию, прорвался к гостям, сказал, что очень рад, счастлив и вообще… Но тут его уволок какой-то огромный толстяк, который принялся громогласно укорять за то, что он совсем забыл родню своего дяди, зазнался и вообще не бывал у них сто лет. Робкие попытки Белоголовцева намекнуть собеседнику, что он видит его впервые в жизни, потонули во всеобщем шуме.
– Смотрите, а вот, кажется, хозяйка. Не та ли женщина, которую мы ищем? – прошептал Антоша, указывая на худую, ничем не примечательную даму с гладко зачесанными волосами мышиного цвета.
– Нет, не та, – отмахнулась Амалия. – Ей от силы тридцать, а дворник сказал, что той женщине было лет сорок пять.
Она поздоровалась с хозяйкой, передала ей сверток с подарком и привет от наспех выдуманных общих знакомых.
– Выиграть такие деньги – просто счастье! – воскликнула какая-то немолодая женщина, оказавшаяся поблизости.
Жена Белоголовцева кивнула.
– Да, – сказала она просто, – но мы его заслужили.
Прислуга металась с ошалевшими лицами, в дверь то и дело ломились новые гости, за стеной тонко заплакал ребенок. Казимир всхрапнул и повернулся на кресле. Что-то упорно тянуло его за штанину, и он проснулся. Взъерошенная собачонка, вцепившись в его брючину, тянула прочь с кресла.
– Брысь, щучья холера! – зевнул Казимир и дрыгнул ногой, чтобы избавиться от назойливого животного.
Он повернул голову – и в то же самое мгновение увидел среди гостей невысокого молодого человека в шинели железнодорожного ведомства, который разговаривал с какой-то блеклой женщиной. С точки зрения Казимира, в той особе с мышиными волосами не было ровным счетом ничего особенного, но вот ее собеседник…
– И ломятся, и ломятся, Стасик! – плачущим голосом жаловалась женщина. – Я уж не знаю, что делать. Пристава, может, звать, чтобы он их образумил?
– Ничего, сестра, – говорил тот, что в шинели. – Потопчутся да разойдутся.
Плач за стеной становился все громче. Собачонка, которой не дали догрызть Казимирову штанину, тонко тявкнула.
– Ах ты шельма! – взревел Казимир, вскакивая с кресла. – Это же тот контролер, который хотел ссадить меня с поезда! Где мой чемодан? Где мои костюмы? Где мой Рокамболь? Куда ты дел их, мерзавец?
2
Круг от света лампы на стене… Пахнет пылью, старой бумагой… И тоской.
Тоска во взоре человека, сидящего напротив следователя, тоска в комнате, стены коей выкрашены в унылый серый цвет, тоска во всем казенном здании.
– Вы Станислав Петрович Ночкин, служащий в чине контролера железных дорог, верно?
– Да.
Следователь зевает. Уже ночь, и ему ужас как хочется домой, к жене и детям (младшенький все время чем-то болеет, но он славный маленький человечек, никогда не хнычет, и оттого ужасно сложно понять, когда ему на самом деле плохо). Следователь трет виски и отгоняет от себя мысли о семье. Сегодня ему повезло, что попалось именно это дело. Дело будет громким, он получит прибавку к жалованью, а может статься, и повышение в чине.
– Ну что, будем признаваться сразу или будем отпираться? – бесцветным голосом спрашивает следователь.
– Я не понимаю, о чем вы. – Сидящий напротив упорно избегает его взгляда.
– Прекрасно понимаете. В полиции вам уже устроили очную ставку с дворником. Он узнал вас и вашу сестру. Вы приехали несколько дней назад на Грачевку и сказали, что вам поручено перевезти вещи Юлии Ларионовны Лебедкиной. Причем вы знали, что она и ее сожитель, офицер Харитонов, уже мертвы. Это вы их убили?
– Я никого не убивал!
– Значит, ваша сестра?
– Прошу вас! У нее трое детей! Не вмешивайте сюда мою сестру!
Трагедии, трагедии, всюду трагедии, вяло думает следователь, скрипя пером по бумаге. Конечно, все кончится для подозреваемого пожизненной ссылкой в Сибирь. Убийство, да еще такое жестокое, с попыткой скрыть следы… А с виду – обыкновенный служащий железных дорог. И сестра его, жена Белоголовцева, – тоже обыкновенная женщина. Самые обычные люди, не хуже и не лучше других. Ох, надоело все. Домой… Хочу домой. Но нельзя, нельзя никак.
– Должен вас предупредить, – тем же невыносимым, бесцветным голосом произносит следователь, – что Илья Андреевич Белоголовцев уже дал показания.
Контролер съеживается на стуле.
– Того и следовало ожидать, – мрачно произносит он. – Мерзавец!
– Отчего же мерзавец? Он ведь никого не убивал, – равнодушно замечает следователь.
– Так ведь все из-за него и произошло! – Станислав Петрович уже не может сдерживаться. – Вы его видели? Видели, на кого он похож? Замухрышка! Опенок! А туда же, красивой жизни ему подавай, женщин… И компанию таких же дураков, как и он сам…
– Я могу это занести в протокол?
– Заносите… – Допрашиваемый проводит ладонью по лбу, пытаясь справиться с волнением.
– Давайте начнем с билета, – предлагает следователь.
Ночкин глубоко вздыхает.
– А что билет? Я подарил его Лиде, сестре, на день рождения. Все-таки деньги, если что, можно заложить…[58] Думал ее обрадовать. Помнится, когда дарил, пожелал ей в шутку, чтобы она выиграла 75 тысяч… Вот и сбылось мое пожелание. Если бы я знал! Боже мой, если бы я знал…
– Сколько лет вашей сестре?
– Двадцать девять. А дворник решил, что ей за сорок. А все от жизни с ним, с Ильей… Что вы хотите – совершенно пустяковый человек… И все стремился жить не по средствам. Несколько раз они билет закладывали, а потом он… Илья то есть… Взял, да и тайком подарил билет дамочке, которой хотел понравиться. То, что дома дети и им есть надо, его не волновало, он хотел эту… эту дрянь завоевать.
– Вы говорите о Юлии Ларионовне Лебедкиной?
– А о ком же еще?.. Но мы ничего не подозревали. Правда, я один раз видел его на гулянье с ней под ручку и с тем офицером… Навел справки, узнал, кто она. Попытался его образумить, но Илья стал возмущаться, что я за ним шпионю и что я не так его понял. Ну, я и подумал, что и в самом деле не так, там же не только он был, но и… как его… Харитонов… А потом появилась телеграмма в газетах.
– О выигрышных номерах?
– Да. Сестра прибежала ко мне на квартиру, она была в ужасе… Номер-то билета у нее записан был. Она поняла, что выиграла 75 тысяч, стала искать билет, а его нигде нет. Все перерыла, думала на детей, и тут один из них признался, мол, папа в шкатулку лазил тайком, когда думал, что его не видят. Как она плакала, боже мой!
– Тогда же вы и догадались, что Белоголовцев подарил билет Лебедкиной?
– Я так подумал, решил, что такое возможно. Хотя он же мог просто продать его и прокутить деньги, вот и все… Но сестра решила, что пойдет до конца. Она не отдаст никому деньги, которые принадлежат ей, билет подарил ей я, и Илья не имел никакого права отдавать его… какой-то камелии… Мы узнали в адресном столе, где живет эта особа… У меня как раз тогда на работе выдался свободный день, и мы с Лидой пошли.
Пришли туда, девочка какая-то нам указала флигель, постучали… Открыл нам Харитонов. Пьяный… но не то чтобы слишком. Лида попросила разрешения поговорить. Сидели мы в гостиной, тут входит мадам и этак надменно спрашивает, что нам надо. А Лида не удержалась и выложила все, одним махом… Стала умолять, чтобы та билет ей отдала, мол, у нее дети, как же так?.. И вообще билет ее, Илья не имел никакого права… Как только дама узнала, что билет выиграл 75 тысяч, глазенки-то у нее так и засверкали… Простите, говорит, но билет мой. Лида в слезы, а та знай себе посмеивается. Офицер предложил гнать нас в шею, мол, нечего тут нищим делать. И тут на меня что-то нашло… Я схватил первое, что под руку попало, и ударил его… по голове… от злости. Я не хотел его убивать, просто… просто не выдержал я. Он упал. Лебедкина начала визжать, рванулась к двери – и тут Лида кинулась на нее и вцепилась ей в горло. Та извивается, хрипит, а Лида знай себе пальцы стискивает крепче. Удавила ее, в общем. Офицер пополз к двери, он только ранен был… И Лида мне сказала… нет, я сам решил… В общем, добил я его.
Следователь быстро вскинул глаза на сидящего напротив человека, но ничего не сказал. Конечно, Ночкин будет изо всех сил выгораживать сестру… Только это им не поможет.
– Потом мы все обыскали, нашли билет. Лида говорит: надо бежать. А я говорю, что так нельзя: убийство обнаружат, нас начнут подозревать… да и про Илью в их компании знали, что он заглядывался на Лебедкину. Подумают – убийство на почве ревности, а тут еще выигрыш всплывет, мало ли что… Надо, говорю, тела уничтожить, а всем сказать, что они уехали. Лида подумала – и согласилась. Для начала мы их спрятали в чулан, выглянули во двор – вроде никто нас не видел – и ушли. На другой день я отпросился на работе, взял знакомого кучера и попросил помочь перевезти вещи одной знакомой. Мол, она будет жить у нас на даче, решила сейчас прямо переехать. Он согласился…
– Как кучера зовут?
– Артемьев.
– Дача ваша или сестры?
– Дача нашей тетки, но она сейчас в Нижнем Новгороде, если вам угодно знать… Она нам говорила, что мы всегда можем приезжать, если захотим. Ну, я и решил, что это… удобное место.
– Продолжайте.
– Приехали мы на Грачевку, а там дворник по двору шатается… У меня душа в пятки. Но я ему все объяснил, предложил заплатить за квартиру… хорошо, что у меня деньги были, я жалованье недавно получил… В общем, он ничего не заподозрил. Мы открыли дверь, Лида пошла затирать следы крови, а я стал носить вещи.
– Как вы вынесли трупы?
– Харитонова я завернул в матрас и прямо так и вынес… А женщину в простыни замотал и сверху бельем закидал. Потом еще раз осмотрелись как следует, убедились, что никаких следов не оставили, дворнику дали гривенник и уехали на дачу.
– Что было дальше? – спросил следователь.
– Дальше? Ну… – Ночкин глубоко вздохнул. – Я хотел сжечь трупы, но оказалось… Оказалось, что они не горят. То есть горят, но плохо… Тогда Лида… то есть я придумал, что можно их разрезать на части и развезти в разные стороны. Я же контролер на железной дороге, ездил туда-сюда. Мне это просто – вышел на станции, нашел укромное место и зарыл… или там, на свалку выбросил, возле которой собаки бродят… Кому в голову придет?
– И что, все было так просто? – прищурился следователь.
– Просто? Да нет, сударь… Илья, как только узнал, что дама сердца куда-то уехала, заволновался… Лида ему наплела, что та нашла себе очень богатого покровителя, а билет вернула ей, но он, по-моему, не поверил. Да и я бы тоже не поверил, наверное. Лида все планы строила, как они заживут славно, когда деньги получат, а он… Все бегал и выспрашивал, нет ли вестей от Юлии Ларионовны. Потом чемодан… да… Все было хорошо, пока я не перепутал багаж. На одной станции нашел я укромное место, открываю чемодан – а там чужие вещи… Чуть я не умер тогда от ужаса. Стал газеты читать, хотел понять, к кому мой чемодан попал, и все мне чудилось, что полицейские за мной пришли и на пороге стоят. Лида тоже вся извелась… Но чемодан нигде не объявлялся, и сестра сказала… то есть я подумал, что тот, у кого он оказался, испугался, не захотел скандала и избавился от частей тел. К тому же я осторожным был: когда заворачивал их в тряпки, следил, чтобы на тех нигде никаких меток, ничего… И чемодан был не наш, а того офицера, по-моему, и на нем тоже никаких отметок не было… Наконец Лида заставила Илью предъявить билет, и вроде все было хорошо, им должны были дать 75 тысяч. Это ж такие деньги, боже мой! Всю жизнь можно прожить и ни о чем не заботиться. Илья вроде тоже успокоился, хоть и продолжал справки наводить, куда его дама делась. И тут… и тут… я даже подумать не мог…
Наступило молчание. Только следователь, сгорбившись над столом, быстро водил пером по бумаге.
– Скажите, – несмело спросил Ночкин, – как вы нас все-таки нашли? Мы же были такими осторожными… были уверены, что все предусмотрели…
– Сюртук, – коротко ответил следователь. – Вы сорвали метки с простынь, но о сюртуке забыли. И вообще, как говорит госпожа баронесса Корф, все предусмотреть невозможно. – И он стал заканчивать протокол.
3
– Странно, как в жизни все связано, – задумчиво произнес Антоша.
За окном поезда бежали поля, на телеграфных проводах сидели воробьи. Амалия, Антоша и дядя Казимир возвращались в Синюю долину. Пан Браницкий забился в уголок дивана и блаженно посапывал, а Амалия и ее рыжий спутник вполголоса беседовали.
– Если бы вы не искали того человека, Домбровского, – продолжал Антоша, глядя в окно, – вы бы не узнали, что он живет у портного по фамилии Ферье. И в случае, даже если бы прочитали надпись на метке с сюртука, вы бы не знали, где того портного искать. Получается, все зависит от случайности? Ведь, если бы не портной, мы бы так и не поняли, чьи части тела находятся в том чемодане.
– Вся жизнь состоит из случайностей, – улыбнулась Амалия. – Однако не стоит придавать им слишком большое значение. Если бы я не справилась с этим делом, то передала бы его полиции, и уж они рано или поздно выяснили бы, чья метка и где живет портной, который ее изготовил.
– Да, но прошло бы время, – возразил Антоша. – И Белоголовцевы получили бы уже свои 75 тысяч и, к примеру, успели бы скрыться за границу.
– Откуда их бы все равно вернули в Россию, – отозвалась Амалия. – У нас со многими странами действуют договоры о выдаче преступников.
– Ну… – Антоша на мгновение задумался. – Они могли бы уехать куда-нибудь совсем далеко… В Австралию, например. Или в Южную Америку…
Амалия попыталась представить себе жену Белоголовцева в Южной Америке, и надо признаться, ей не удалось, даже несмотря на то, что с воображением у баронессы Корф все было в полном порядке.
– Только в книгах люди с легкостью переезжают навсегда в чужую страну, – возразила Амалия. – А в жизни – это очень ответственное решение. И способны на него далеко не все. – Она поморщилась. – Жаль, конечно, что пришлось разочаровать моего друга из столичного сыска. Он-то считал, что в деле замешаны фальшивомонетчики, а в действительности оказалось обыкновенное убийство из-за денег.
Антоше не понравились слова «обыкновенное убийство», за которыми, если верить его спутнице, могли скрываться разве что меркантильные интересы. В книгах, подумал он, все гораздо интереснее, люди гибнут там из-за любви или, на худой конец, из-за мести злокозненного врага. И Амалия, глядя, как недовольно морщит свой курносый нос юноша, невольно улыбнулась.
– А теперь вы чем намерены заняться? – спросил Антоша.
– Делом, которое не успела закончить, – ответила баронесса.
– Убийством Натальи Георгиевны?
Казимир тихо всхрапнул во сне и повернулся поудобнее, едва не спихнув Антошу с дивана. За последние дни дядя Амалии пережил столько треволнений, что теперь отдых без трупов и без отрезанных частей оных был для него настоящим счастьем.
– Да, – ответила Амалия на вопрос Антоши.
– Значит, вы не думаете, что ее убил Егор Галактионович?
– Нет, – ответила Амалия. – Он бы не дотащил труп от дома Пенковских до болота. У него нет ни лошади, ни телеги, ничего, а ведь расстояние там отнюдь не малое. Думаю, на самом деле произошло умышленное убийство, и, возможно, участвовал в нем не один человек. Так или иначе, для преступника было важно, дабы никто не понял, что жену Севастьянова убили. Почему? Возможно, потому, что следствие обязательно обратило бы внимание на другое убийство, которое случилось в тех краях примерно в то же время. Его, кстати, тоже пытались скрыть – недаром же к телу несчастного были привязаны камни, а его лицо изувечили… А потом в городе появилась Любовь Осиповна, которую саму считали мертвой, и в разговоре она обмолвилась, что знает, где находится Наталья Георгиевна… Столь пустяковое замечание и решило ее судьбу.
– Что вы обо всем этом думаете? – отважился спросить Антоша. – Кто же был тот неизвестный и почему убили жену Степана Александровича?
– Думать я могу все что угодно, – вздохнула Амалия, – и напридумывать такого, что хоть роман пиши… Но все мои мысли ничего не значат, потому что на самом деле у меня нет никаких данных. Все произошло слишком давно. Конечно, я расспрошу того земского врача, Голованова, который осматривал найденное возле мельницы тело, но если даже покойный судья не смог ничего установить… – Баронесса покачала головой.
– А что, если убийца – все-таки тот браконьер, Петька? – несмело предположил Антоша. – Не зря же Савва Аркадьич считал, что именно он убил того мужчину. И дядя Гаврила видел у Петьки деньги. Скажем, браконьер ограбил прохожего, убил его, а Наталья Георгиевна видела это. Потому он и ее убил, то есть… – Юноша осекся.
– Правильно мыслишь, – отозвалась Амалия. – Потому что, если бы преступником был Петька (а я, кстати, о таком варианте уже думала), то нет объяснения смерти Любови Осиповны. Ведь Петька никак не мог ее убить – он сам давно погиб в трясине.
– А если смерть Любови Осиповны вообще с теми давнишними убийствами не связана? – осмелел Антоша. – Что тогда?
– Такое тоже может быть, – к его удивлению, не стала спорить с ним Амалия. – Я же говорю, у меня нет почти никаких фактов, только догадки. Я полагаю, конечно, что если мы установим личность того несчастного, то сразу же многое поймем, но… – Баронесса нахмурилась. – Все очень странно. Мне, конечно, не нравится Чечевицын, но он все-таки опрашивал местных жителей. Да и Савва Аркадьич тоже пытался что-то выяснить, и никто ничего не знал. Никто никого не видел, никто не имел понятия, кто бы это мог быть… А между тем такое совершенно невозможно, пойми. Если тот человек, убийца, находился в наших краях, он должен был чем-то питаться и где-то жить, и уж хоть кто-нибудь наверняка должен был его заметить: приказчик в магазине, лакей в гостинице, приемщик на почте, хоть кто-нибудь… А так получается, что он словно с луны свалился и туда же сразу отбыл. Что-то тут не то.
– А если он скрывался от людей? – предположил Антоша вдохновенно. – Если он был… ну, не знаю… революционер, карбонарий… – Юноша заметил улыбку на лице Амалии и порозовел.
Казимир издал неприлично громкий храп, и молодая женщина неодобрительно покосилась на него.
– Трефовый валет… Ах, канальство! – простонал дядюшка, не открывая глаз, и снова провалился в сладкий сон, где вокруг него летали карты из колоды и складывались именно в те комбинации, которые ему были нужны.
– Революционер… – повторила Амалия и поморщилась. – Преждевременно, конечно, делать такие выводы, но… Он ведь действительно мог скрываться, хотя и не обязательно по политическим причинам… Только как бы это узнать?
4
«Заново опросить всех содержателей гостиниц и управляющих… Поговорить с Головановым, еще раз прочитать записки судьи… Что еще? Черт возьми, ведь должен же вестись в полиции реестр пропавших без вести… Ну и что? Не о всяком человеке заявляют, когда он исчезает, и каждый год находят трупы, которые потом хоронят как неопознанные…»
Лиза вышла встречать вернувшихся путешественников, и зоркий глаз Амалии, привычно продолжавший искать решение загадки, заметил, что горничная принарядилась к приезду господ в свое лучшее платье.
– Госпожа баронесса, – доложила Лиза, конфузясь и нет-нет да и поглядывая на Казимира, – там вас ждут… Из столицы, говорят, прибыли. С курьерским[59]…
Амалия шагнула в гостиную, и старый друг Саша Зимородков поднялся с дивана ей навстречу.
– Саша! Как я рада вас видеть! Надеюсь, мои люди хорошо вас приняли? Замечательно! Только, боюсь, мне придется вас разочаровать. В деле, о котором скоро начнут трубить все газеты, вовсе не фальшивомонетчики замешаны. Обычное убийство из-за лотерейного билета, который выиграл первый приз…
– Я знаю, – кивнул Саша, – я уже получил подробный отчет обо всем. Это феноменально… Портновская метка, надо же! Просто потрясающе… Но, по правде говоря, я здесь не поэтому, мне надо передать вам кое-что.
– Что именно? – полюбопытствовала Амалия.
– Вы, кажется, нашли труп Натальи Георгиевны Севастьяновой, урожденной Лапиной, которую убили при загадочных обстоятельствах несколько лет назад… – медленно начал Зимородков. Амалия Константиновна кивнула, не сводя с него пристального взора. – Так вот… Помните, ее муж получил странное письмо из Ялты, и вы в одном из посланий попросили меня навести справки… Позавчера я наконец получил ответ от ялтинского полицмейстера. Не угодно ли вам взглянуть?
Амалия взяла из его руки донесение, написанное разгонистым полицейским почерком. Ей понадобилось прочитать его два раза, чтобы до конца уяснить его смысл.
– Нет, – вырвалось у нее, – этого не может быть!
В донесении сообщалось, что Наталья Георгиевна Лапина в настоящее время живет в Ялте, где пытается лечиться от туберкулеза, что здоровье ее находится в плачевном состоянии и ее лечащий врач, доктор Ферзен, не ручается за то, что больная дотянет до зимы. Сама Наталья Георгиевна за те четыре или пять месяцев, что находится в городе, не обращала на себя внимание властей, вела себя тихо и скромно и ни в каких предосудительных делах не замечена.
– Так… – произнесла Амалия, вновь обретая присутствие духа. – Стало быть, я ошиблась… И очень хорошо, потому что, если бы вы видели беднягу ее мужа, вы бы меня поняли. – Она умолкла. – Но чей же тогда труп был в трясине? Почему там нашли обрывки ее шали, ее туфли и, наконец, ее кольцо? Воля ваша, Александр Богданович, но тут какая-то мистика… – Она вздохнула. – Кстати, я же просила вас навести справки еще и о подруге, с которой переписывалась покойная… то есть теперь уже ясно, что вовсе не покойная госпожа Севастьянова. Вам удалось что-нибудь узнать?
– Пока нет, – ответил Зимородков с сожалением. – Но я задействовал моих знакомых за границей и думаю, что недели через две мы получим ответ.
– Две недели, две недели… – проворчала Амалия. Больше всего на свете она ненавидела ждать. – Дмитрий!
Слуга тотчас же показался в дверях.
– Степан Александрович сейчас в городе? Он никуда не уехал? Вот и прекрасно. Привези его сюда. И как можно скорее!
– Что именно вы намерены предпринять? – спросил Зимородков, когда Дмитрий удалился.
– Он имеет право знать, что случилось с его женой, – ответила Амалия. – Я полагаю… да нет, я почти уверена… Какие поезда сейчас ходят в Крым?
5
Амалии приходилось видеть, как люди, с виду беззаботные и совершенно здоровые, за считаные секунды, получив неблагоприятное известие, превращались в живые трупы. Видела она и другое – как преображались те, кто, казалось бы, потерял всякую надежду и внезапно вновь видел перед собою ее ослепительный свет. Но то, что произошло с Севастьяновым, было, конечно, что-то экстраординарное.
Минуту назад перед Амалией был совершенно потухший, потерявший всякий смысл в жизни человек. О да, он был молод, могуч, и по-прежнему ухоженные донельзя бакенбарды окаймляли его представительное лицо, но сторонний наблюдатель не преминул бы заметить, что все это лишь пустая оболочка, которая существует лишь по привычке, а настоящая жизнь давно покинула тело. Теперь же…
Степан Александрович смеялся, шутил, бегал по комнате, высказывал гипотезы одну фантастичнее другой, хватал кошку, которую принес с собой, сажал ее на диван, ссаживал с дивана на кресло, требовал, чтобы ему еще раз показали ответ полицмейстера… Он наполнил гостиную кипучей деятельностью, готов был немедленно отправляться за женой в Ялту, вот прямо сейчас, сию секунду, без вещей, безо всего…
Амалии с трудом удалось его образумить. Да, они поедут в Ялту. Но не сейчас, чуть позже, им надо собрать вещи, купить билеты, ведь поезда не ходят в Ялту каждую минуту… Конечно, они непременно увидят жену Севастьянова и наконец-то узнают от нее, что же произошло в ту ночь, когда она исчезла.
– Ах, и зачем я тогда послушал некоторых! – восклицал обрадованный известием муж. Его глаза лучились, на губах сияла улыбка, перед Амалией был совершенно преобразившийся, счастливый человек. – Ведь в письме же был ее почерк! Она писала мне письма! Не стала бы тетушка их втихомолку уничтожать, если бы они были от какой-нибудь самозванки! Но еще не поздно все исправить!
И Амалии пришлось уступить его нетерпению. Она наскоро отдала приказания Казимиру, который отчаянно зевал и тер глаза, велела Антоше как следует ухаживать за цветами в ее отсутствие, пообещала Зимородкову прислать ему телеграмму с объяснением всего, что произошло, и вот – легкая коляска опять мчит ее на вокзал, и опять она готова к дальнему пути. Только на сей раз ее сопровождает не верный рыцарь Антоша и не беспечный дядюшка Казимир, а самый счастливый человек на свете.
– Сударыня, вы вернули меня к жизни! – то и дело повторял он. – Если бы вы знали, что вы для меня сделали!
Севастьянов был бы невыносим, если бы не был так счастлив. В поезде он строил планы, что сделает для Натали, какие подарки ей приобретет…
– Мы уедем жить в столицу, – говорил Степан Александрович, – непременно в столицу. Довольно с нас провинциальной глуши… Настоящая жизнь может быть только в Петербурге! Я поступлю на службу, стану работать, Натали выздоровеет, и все будет хорошо!
Мужчина вертелся на месте, постоянно спрашивал у кондуктора, сколько станций еще осталось проехать, ходил взад-вперед по вагону – словом, не мог сдержать обуревающей его радости.
– Что вы знаете о Ялте? – спросил он у Амалии, когда все варианты подарков ненаглядной Натали были наконец исчерпаны.
Молодая женщина пожала плечами.
– Я знаю, что виноград там дороже, чем в Гельсингфорсе[60], – довольно сдержанно ответила она.
Но Степана Александровича не интересовали такие прозаические мелочи. Он был уверен, что Ялта – замечательный город, что юг Франции, который предпочитала Амалия, не идет ни в какое сравнение с крымскими красотами. Спутник нашей героини говорил, не умолкая, захлебываясь словами, стал даже цитировать каких-то поэтов… Все это было трогательно, но в конечном счете уже и начало раздражать Амалию, которая куда охотнее осталась бы сейчас наедине со своими мыслями.
Почему, почему она так ошиблась? С чего вдруг решила, что скелет в лохмотьях шали именно останки бренного тела Натали Севастьяновой, урожденной Лапиной? Шаль, обувь, кольцо…
«Черт возьми, – сердилась про себя Амалия, – да тут бы и сам Видок решил, что найденный труп – жены Степана Александровича! Скелет был определенно женский. И вещи…»
Да, баронесса сердилась. Потому что была всего лишь человеком, хоть и не таким, как все. И, как и все люди, даже те, что не походят на остальных, она не любила ошибаться и попадать впросак.
Наконец и утомительная поездка подошла к концу, путешественники прибыли в Ялту. Амалия хотела прежде всего найти гостиницу, но Севастьянов не желал ничего слышать. К Натали, только к Натали! Он купил по дороге огромный букет роз, забежал в ювелирный магазин, а когда вышел оттуда, приказчик проводил его до самого порога и несколько раз низко поклонился. Судя по всему, Степан Александрович определенно решил разориться.
Амалия отправилась в полицию и предъявила подписанное Зимородковым письмо, в котором местным властям рекомендовалось оказывать ей всяческое содействие. В полиции она узнала, что мадемуазель Лапина проживает в пансионе «Магнолия», но что ей, судя по всему, придется скоро оттуда съехать – хозяйка жаловалась, что женщина не платит уже несколько месяцев, да и ее болезнь отпугивает других жильцов.
Амалия не стала передавать эти подробности Севастьянову, но, когда он увидел грязное, запущенное здание «Магнолии», он и сам о многом догадался. У равнодушного толстого лакея они узнали, в какой именно комнате проживает Наталья Георгиевна, и Севастьянов, забыв все приличия, взлетел вперед Амалии по лестнице, как влюбленный мальчишка.
– Она последние дни с постели почти не встает, – сообщил лакей Амалии. – И кашляет, и кашляет… Известное дело – чахотка. Столько народу от нее мрет…
– А что доктор Ферзен? – спросила молодая женщина мрачно. Она сразу же вспомнила свои собственные скитания по санаториям в последнее время, и замечание пышущего здоровьем лакея ей не понравилось.
– А что доктор? – пожал плечами тот. – У нее денег почти не осталось, позавчера вон в ссудную кассу последнюю брошку заложила… Скоро хозяйка ее за дверь выставит, помяните мое слово.
«Хорошо, что Севастьянов не слышал его слов, – подумала Амалия, поднимаясь по лестнице. – Иначе… иначе даже письмо Зимородкова не помогло бы, а этому мордатому малому солоно бы пришлось».
Она сразу же увидела Степана Александровича. Тот стоял у отворенной двери комнаты, опустив букет и как-то неловко привалившись плечом к створке, и по его лицу Амалия сразу же все поняла.
– Это не она? – тихо спросила баронесса, подходя к Севастьянову.
Из комнаты донесся кашель. Мягко, но вместе с тем решительно Амалия отодвинула Степана Александровича в сторону и вошла. Глаза лежащей на кровати светловолосой женщины тотчас же обратились на нее, и в них Амалия увидела мелькнувший и тотчас же исчезнувший испуг.
– Здравствуйте, сударыня, – очень вежливо произнесла наша героиня. – Мы ищем Наталью Георгиевну Лапину.
6
– Я вас слушаю, – с вымученной улыбкой ответила женщина. Судя по лицу, ей было лет тридцать пять. – Что вам угодно?
– Это не она! – взвился Севастьянов. – Я же говорю вам… Некоторое сходство есть, но это не она! Я готов поклясться… Что же я, не знаю своей жены?
– А… – протянула женщина с непонятной интонацией. – Вот вы, значит, какой… Выходит, вы и есть Степан Александрович?
– Вот видите! – возмутился Севастьянов. – Она даже не знает, кто я! Это… это издевательство какое-то! Насмешка!
– Пожалуйста, не надо кричать, я плохо переношу шум, – тихо попросила больная и зашевелилась, поудобнее устраиваясь в постели. – Должна сказать, по письмам Наташи я вас примерно таким и представляла.
– По письмам Наташи? – Степан Александрович, казалось, не верил своим ушам.
– Моей сестры, – пояснила женщина с грустной улыбкой. – Она была вашей женой.
– Постойте! – вмешалась Амалия, у которой голова пошла кругом. – Вы… вы сестры?
– Единокровные, – уточнила больная. – Я старшая, она младшая. Отец наш… – Женщина вздохнула. – У него было несколько жен.
– И вы носите одинаковое имя и отчество?
– Да. Отец нас назвал в честь своей матери, которая рано умерла. И меня, и Наташу. Каждый раз, встречая новую женщину, он верил, что это навсегда. Только… только потом понимал, что все не так, и находил себе другую. – Наталья Георгиевна снова вздохнула. – Интересно, что с ним стало? Я не видела его… четверть века, наверное. Может быть, он уже умер, не знаю…
Она закашлялась, кашель перешел в настоящий приступ, тело больной стали сотрясать судороги.
– Подайте, пожалуйста… – она указала глазами на платок, и Степан Александрович, спохватившись, передал его ей.
Амалия вошла в комнату и затворила дверь.
– Значит, именно вы писали мне письма от ее имени с просьбой о деньгах? – спросил Севастьянов.
Больная грустно улыбнулась и кивнула.
– Да. Сознаюсь, это было нехорошо, но… Мне пришлось нелегко, банк лопнул, и я потеряла все свои сбережения. Квартиру в Париже пришлось продать…
– Постойте, – вмешалась Амалия. – Получается, что… Значит, вы – Дельфина?
«Дельфина, Эльвира, мадам Лорансен, фрау Патт… – пронеслась в голове Амалии череда имен. – И как же я не сообразила, что patte по-французски – лапа? Как не догадалась навести более подробные справки о родственниках Натали?»
Больная кивнула, не сводя глаз с молодой женщины, стоявшей у двери.
– И вы жили в Париже еще в прошлом году?
Снова кивок.
– Все ясно, Степан Александрович, – проговорила Амалия. – Вот почему Любовь Осиповна утверждала, что видела в Париже вашу жену. Она видела ее сестру, которая быстро проехала мимо, и приняла ее за Натали. Да, вот теперь все ясно…
Но на самом деле ничего еще не было ясно.
– Скажите, вы переписывались с вашей сестрой? Дело в том, что она исчезла. И мы… мы нашли ее тело.
– В воде? – спросила Наталья Георгиевна.
– Откуда вы знаете? – поразился Севастьянов.
Больная отвернула лицо к стене и тихо проговорила:
– Она мне снилась. Несколько раз. Я видела, как Наташа тянет ко мне руки откуда-то из-под воды, и лицо у нее было такое белое… Когда сон приснился мне первый раз, я поняла, что ее больше нет в живых.
Женщина всхлипнула и вытерла слезы. Степан Александрович стоял, сжимая в руке букет, и по его лицу Амалия видела, что он не на шутку потрясен.
– У вас нет вазы? – спросила баронесса, оглядываясь. – Для цветов… Ну ничего. Степан Александрович, сходите, попросите вазу… И скажите хозяйке «Магнолии», что ей заплатят.
Севастьянов кивнул и вышел. Амалия присела на шаткий стул возле постели.
– Он на меня сердится? – робко спросила больная. – Честное слово, если бы мне не было так плохо, я бы никогда не стала ему писать. Но у меня чахотка. Все началось, когда я выпила холодный лимонад и потом танцевала на ветру…
Амалия вспомнила, как, читая ее письма, невзлюбила сытую, ограниченную, расчетливую содержанку, которая их писала. И вот сейчас женщина была перед ней, и Амалия видела, что она умирает. И ей стало стыдно своих мыслей, стыдно своей тогдашней злости. Она не имела никакого права ее судить. Она не имела никакого права судить кого бы то ни было, потому что… потому что неизвестно, что бы сама делала, если бы оказалась на ее месте, как неизвестно, сумела ли бы удержаться от искушения. Наталья Георгиевна кашлянула.
– Полиция расследует смерть вашей сестры, – тихо сказала Амалия. – Мы думаем… то есть полиция думает, что она как-то связана еще с одним убийством, которое произошло в тех местах. Скажите, у вас сохранились письма Натали? Особенно последние. Может быть, в них мы найдем какую-то информацию, которая поможет нам понять, почему она погибла. Надежда, конечно, хрупкая, но… больше у нас ничего нет.
Больная кивнула.
– Я понимаю. И я бы очень хотела помочь. Если вас не затруднит, сударыня… Там, в столе, небольшая шкатулка. Я многие письма уничтожила, когда уезжала из Франции, но не ее. Письма Наташи все там, хотя я не помню… не помню ничего особенного. Но, может быть, вы и впрямь сумеете что-то отыскать?
7
Вновь течет за окном переменчивый пейзаж, деловито постукивают колеса поезда. Амалия листает пожелтевшие странички…
«Ах, если бы ты видела местное общество! Купчики в сапожищах, мелкие чиновники, рассыпчатый доктор Станицын, который всегда разговаривает так игриво, словно ему лет двадцать… Даже не с кем завести приличный роман. И бывшая невеста моего мужа, которая всегда так любезна, которая всегда источает такой яд и которая всегда так плохо одета…»
Не то.
«Теперь буду отправлять почту, минуя местного почтмейстера. По-моему, он любит заглядывать в чужие письма. Представь себе, только я написала тебе о том, что жена градоначальника дурно говорит по-французски, как она стала со мной очень холодно общаться и упомянула что-то о моем образовании. Не обессудь, если я буду отвечать тебе не сразу…»
Не то.
«Ох уж эти мне отшельники! Выговаривал мне сегодня тот старик, Егор Галактионович, за то, что во всякое время года ношу декольте. Я ответила, что не мешаю носить декольте и ему, и попросила оставить меня в покое. Ух, как он свирепствовал, как грозил мне кулаком, когда я уходила! Все же хоть какое-никакое, но развлечение в нашей дыре…»
То или не то? Похоже, все-таки не то.
«Поначалу мне было очень трудно привыкнуть к здешним обитателям. Любить их нельзя – слишком они скучны. Но теперь… Теперь я научилась почти не обращать на них внимания. Мой муж из кожи лезет, чтобы мне угодить, и это так приятно… Как твой граф Н.? Жена еще не освободила его от своего присутствия? Как только вы примете решение пожениться, напиши мне. Обязательно приеду на твою свадьбу…»
Амалия отложила письмо и принялась за следующее. Эту историю она знала уже из писем сестры к Наталье Севастьяновой – жена неведомого графа не пожелала умирать от болезни, которая досаждала ей несколько лет, а напротив, даже пережила мужа, который сломал себе шею на скачках.
«Вчера после лимонадной я хотела завернуть к Марье Никитишне, местной сплетнице, чтобы узнать у нее подробности интрижки поверенного К. с бывшей невестой моего мужа. До нее он встречался с некой Верой О., дочкой брандмейстера, которая слывет скромницей и при том ни в чем себе не отказывает. Но вообрази, как я удивилась, когда, идя к Марье Никитишне, неожиданно встретила на улице своего московского знакомого… Ты его наверняка помнишь – Петелин, художник. Он как-то странно выглядел и, по-моему, не слишком обрадовался, увидев меня… По его словам, он дал себя впутать в какое-то темное дело, но ни о чем не жалеет, потому что ему обещали много денег. Больше Петелин ничего сообщить не пожелал, только загадочно улыбался. По его словам, он был очень удивлен, увидев меня в такой глуши».
Это было самое последнее письмо, которое получила сестра от жены Севастьянова. Амалия несколько раз перечитала его и откинулась на спинку дивана, обитую бархатом.
Художник Петелин из Москвы… Темное дело… Много денег…
Но Амалия устала, и в голову ей упорно лез не таинственный художник, который, возможно, уже несколько лет лежал в безымянной могиле под старой липой, а Петр Иванович Калмин, поверенный. Получается, что у легкомысленной Ольги Пантелеевны был с ним роман? И у Веры Дмитриевны тоже? Однако! Похоже, что наш пострел везде поспел… Амалия досадливо поморщилась и тряхнула головой.
«Перво-наперво – проверить, Петелин ли это?.. – начала она строить планы дальнейших действий. – Узнать его имя-отчество, уточнить, не живет ли он преспокойно в Москве… А вот если художник исчез и не подает вестей, скорее всего, убитый, найденный на мельнице, в самом деле он… Но художник! Кому надо подбивать художника на темное дело и потом убивать его, да еще так жестоко? Даже если он творил что-то незаконное, не знаю… картины подделывал, что ли?..»
Баронесса поймала себя на том, что ей не хватает собеседника, человека, с которым можно было бы обсудить сложившуюся ситуацию. Вот если бы рядом был Антоша, который ловит любое ее слово, как откровение, или беспечный дядя Казимир, или Степан Александрович… Но Степан Александрович остался в Ялте, рядом с женщиной, которая была сестрой его жены. В конце концов ее тоже звали Натали… И она немного походила на его жену.
– Женщина тяжело больна и нуждается в помощи, – взволнованно твердил Севастьянов, бегая из угла в угол. – Моя жена не допустила бы, чтобы я бросил близкого ей человека в беде…
Амалия метнула на него быстрый взгляд.
– Степан Александрович, на данной стадии чахотки прогнозы очень неутешительны… Вы хоть понимаете, что вас ждет?
– Мне все равно, – ответил тот. – Я останусь с ней до конца, и, насколько это зависит от меня, у нее будут лучшие лекарства и лучшие врачи.
Что ж, такова, видимо, его судьба, внезапно поняла Амалия. Он, такой цельный, искренний и прямой человек, просто обязан был встретить кого-то вроде Натали или ее сестры; его удел – приносить себя в жертву, что для него так же просто, как для других, к примеру, совершать предательство. Да, жертвовать собой и ничего не требовать взамен – в его природе. Конечно, он заслуживал кого-то лучше, много лучше, чем сестры Лапины, две особы сомнительного поведения и еще более сомнительной морали, но Амалия прекрасно понимала: приведи она ему тысячу неоспоримых доводов, ей все равно его не переубедить. Для Севастьянова сестра Натали была заменой той женщине, которую он любил и которую не уберег, и теперь он пытался сделать хоть что-то, чтобы искупить свою вину – вину, которой на самом деле не было.
– Вы позаботитесь о Мышке? – спросил Степан Александрович виновато. – Мне больше некому ее оставить. Обещаю, я заберу ее, когда… когда… – Он не стал завершать фразу, но оба и так поняли, что это случится после того, как сестра Натали умрет.
– Хорошо, – просто сказала Амалия, – я позабочусь о вашей кошке.
8
И вновь старый дом в долине, отгороженной речными протоками, вновь скрипят под ногами половицы, и Амалия на ходу стаскивает с рук перчатки.
– Госпожа баронесса, телеграмма!
«ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ ПОДТВЕРЖДАЮ ПЕТЕЛИН БОГДАН ИВАНОВИЧ НИ ПО ОДНОМУ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ АДРЕСОВ НЕ НАЙДЕН О ЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИИ НИКТО НЕ СООБЩАЛ РОДСТВЕННИКОВ НЕ ИМЕЕТСЯ…»
Амалия читала ответ на телеграмму, которую она послала с поезда. Ну да, смутно подумала она, какие родственники, если он Богдан… Богдан – обычное имя для незаконнорожденного или подкидыша, а отчество, вероятно, дали по крестному отцу…
«ПРИМЕТЫ ВЫЯСНЕННЫЕ ИЗ РАССПРОСА ЗНАКОМЫХ РОСТУ СРЕДНЕГО ВОЛОСА ТЕМНЫЕ ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ НА ШЕЕ СЛЕВА БОЛЬШАЯ РОДИНКА ГОД РОЖДЕНИЯ 1855 В ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫХ ДЕЛАХ ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ ПО НАШИМ АРХИВАМ НЕ ПРОХОДИЛ СЕКРЕТАРЬ МАВРИКИЕВ».
– Дмитрий! Я сейчас поужинаю и поеду в земскую больницу. Лошадь не распрягай!
– А я? – встрепенулся Антоша, который едва дождался возвращения хозяйки из Ялты. – Можно я поеду с вами, сударыня?
– Конечно, можно, – кивнула Амалия. – Ты слышал, Дмитрий? Мне надо будет поговорить с врачом… с Головановым.
Однако разговора с земским врачом поначалу не получилось – он был завален работой и наотрез отказался принять богатую барыню, которая его не интересовала. Лишь после обещания Амалии выделить триста рублей на больницу врач смягчился и согласился уделить ей пять минут.
– Меня интересует убитый, которого выловили возле мельницы почти пять лет назад, – сразу приступила к делу наша героиня. – Я хочу знать о нем все, что только можно: рост, возраст, цвет волос… И особые приметы…
Голованов удивился, но все же ответил, что по поводу особых примет сказать что-либо затруднительно, потому что тело находилось не в том состоянии, дабы приметы можно было легко установить. Впрочем, то, в чем он уверен, он готов повторить хоть сейчас. Мужчина, рост обыкновенный, волосы темные… не старый, это точно, потому что седины в волосах не было. Если говорить о возрасте точнее, то Голованов уже выступал на суде, когда то дело разбиралось, и считает, что лет убитому было около двадцати пяти – двадцати семи.
Амалия поблагодарила доктора, сказала, что он ей очень помог, вручила деньги на больницу (чем сильно удивила Голованова, привыкшего, что богачи охотно дают обещания, но куда менее охотно выполняют их) и поехала в Д. Там она попросила Дмитрия отвезти себя к лимонадной немца Шмайхеля и вышла. Антоша, весь горя от любопытства, последовал за ней. Амалия хмуро оглядела близлежащие дома и двинулась вперед.
– Пока вас не было, отец два раза приезжал, – нарушил молчание Антоша. Ему казалось, что из Ялты молодая женщина вернулась хмурая и чем-то расстроенная, и он терялся, видя ее замкнутое красивое лицо.
– Зачем? – безучастно спросила Амалия.
– Звал меня обратно в лавку, – с готовностью откликнулся Антоша. – Ну а я ему ответил, что место садовника у вашей милости меня вполне устраивает.
Последние слова вместе с «вашей милостью» были явно позаимствованы из какого-то романа, и в другое время Амалия непременно обратила бы на них внимание, но сейчас ей было не до того.
– Отец другого адвоката сейчас ищет, – сообщил Антоша через десяток шагов.
На сей раз спутница все-таки взглянула на него с интересом.
– Вместо Тизенгаузена?
– Да. С тем же скандал неимоверный приключился… и вообще…
– Дядя Казимир прилично себя вел в мое отсутствие? – внезапно спросила Амалия.
– Он-то? – Антоша подумал, сморщив нос. – Он двести двадцать рублей проиграл.
«Вот черт!» – с досадой подумала Амалия.
– А четыреста выиграл, – доложил Антоша, преданно заглядывая ей в глаза.
– У кого?
– У Пенковского Сергея Сергеевича и у Петра Ивановича, поверенного. Они все время, пока вас не было, в усадьбу приезжали и того… в карты резались.
– А, ну тогда ладно, тогда ничего, – сразу же подобрела Амалия, узнав, что бойкий дядюшка обставил в карты двух ее недоброжелателей. – Что это за дом?
– Модная лавка, – с готовностью пояснил Антоша. – А на втором этаже – меблированные комнаты.
– Дом вроде бы новый или его просто недавно покрасили?
– Два года, как выстроен, сударыня.
«Значит, не здесь», – сообразила Амалия и ускорила шаг.
– Мы что-то ищем? – отважился спросить Антоша, видя, что она оглядывает каждое здание, попадавшееся им по пути.
– Да, – ответил Амалия. – То есть…
На самом деле она искала дом, который расположен на пути от лимонадной к жилищу Марьи Никитишны, – тот самый дом, возле которого Натали Севастьянова могла встретить художника Петелина.
«Гостиница, трактир, меблированные комнаты… – думала Амалия. – Он скрывался, это точно, потому что не был рад встрече со старой знакомой. Или же потому, что та могла что-то увидеть? Увидеть, где он живет, к примеру…»
Баронесса остановилась.
– Что это? – спросила она, кивая на большое здание перед ними.
– Это? – удивился Антоша. – Склад моего отца. Он там товары держит.
– Я не заметила вывески, – ответила Амалия.
– А ее и нет, – отозвался Антоша, пожимая плечами. – Всем в городе и так известно, что здесь его склад.
– Вот как? И давно он снимает здание?
– Не снимает, сударыня, оно его собственное. Лет семь как, наверное. Раньше тут были одни пустыри, а сейчас ничего, строят помаленьку.
Они дошли до маленького домика Марьи Никитишны, который стоял на самой окраине, и только тут Амалия разглядела, как живет старая сплетница. Наверное, у старушки самое ветхое, самое кособокое, самое унылое жилище в городе. Старая черепичная кровля давно не обновлялась, в саду кругами ходила грустная дряхлая собака с белым пятном на спине. У Амалии невольно сжалось сердце. В покосившемся домике было что-то от самой Марьи Никитишны, казалось, он вот-вот завалится набок и к нему страшно даже приближаться, однако на самом деле дом, конечно, стоял уже не первый десяток лет и столько же времени вводил в заблуждение всех прохожих.
– А что теперь? – спросил Антоша.
Он предвкушал немедленное раскрытие какой-то захватывающей тайны, однако Амалия обманула его ожидания. Баронесса осторожно переступила через ручеек воды, чтобы не замочить ботинки, и улыбнулась ему.
– А теперь мы возвращаемся домой, – сказала она.
9
– Дядюшка Казимир!
Дядюшка приоткрыл один глаз, увидел, что перед ним стоит дражайшая племянница, и решил: зрелище не стоит того, чтобы открывать оба глаза. Кроме того, он предчувствовал – не миновать ему упреков за то, что он вместо того, чтобы вести хозяйство, все дни напролет играл с поверенным и акцизным. Поэтому Казимир поудобнее устроился в кресле и сделал вид, что спит сном младенца и вообще не имеет никакого касательства к грешным делам мира сего.
– Говорят, вы опять проигрались, – сказала Амалия.
– Я выиграл, – кротко возразил Казимир, не открывая глаз.
– Вот и прекрасно, – объявила жестокосердная племянница. – Вы везучий человек, дядюшка. Именно поэтому сегодня ночью вы мне понадобитесь.
На сей раз дядюшка Амалии все же сподобился открыть оба глаза, потому что учуял угрозу своему необременительному существованию. Конечно, для любого другого мужчины слова «сегодня ночью» значили бы совсем не то, что подумал Казимир, но он слишком хорошо знал свою племянницу.
– Я? – промямлил он.
– Ну да, – ответила Амалия, ничуть не смущаясь. – Я должна сегодня залезть на склад купца Фомичева, и вы мне в этом поможете.
Казимир повернул голову, потер нос и немного подумал.
– Я никуда не полезу, – объявил он наконец. – Есть какой-то закон насчет проникновения на частную территорию, и он мне не нравится. Даже и не проси!
– Дядюшка! – тихо и раздельно проговорила Амалия.
– Там наверняка собаки, – заметил Казимир. – А я не люблю собак. И сторожа будут. Сторожей я тоже не люблю. У сторожей, конечно же, ружья. Они начнут стрелять… – Он зевнул. – На всякий случай, племянница, если ты забыла, напоминаю тебе: я шляхтич, а шляхтичи не могут лазить по складам каких-то купцов. Наша бабушка была коротко знакома с самим Наполеоном…
– С ним было знакомо пол-Европы, – оборвала Амалия экскурсию в глубь времен по ветвям генеалогического дерева. – Про предков-крестоносцев я тоже знаю. И, поскольку вы их достойный потомок, вы мне поможете. – И она с победным видом поглядела на дядюшку.
– Нет, – упрямо ответил Казимир. – Я уже тебе сказал: собаки…
– Там нет собак, – отозвалась Амалия. – Я уже все узнала у Антоши. Сторожа есть, но я знаю, как их обойти.
– Вот пусть Антоша тебе и помогает, – тут же нашелся дядя.
– Невозможно, – возразила Амалия. – Я не имею права впутывать его в это дело. Пока у меня только подозрения, но если они подтвердятся…
– А меня имеешь право? – горько спросил Казимир. – Боже мой, ни днем, ни ночью ни минуты покоя! То езжай туда, то езжай сюда, то чья-то рука в чемодане, то какая-то дурацкая лотерея… Между прочим, – встрепенулся он, – мои вещи мне так и не вернули!
– Дядюшка, – искренне сказала Амалия, – вы мне очень нужны! Поверьте, если бы было можно, я бы обошлась без вас. Но я не могу!
Казимир начал стонать, жаловаться, причитать, роптать на судьбу, но все-таки поднялся с кресла. Охая, вздыхая и прямо-таки на глазах разваливаясь на части, он глотнул волшебной судейской наливки из графинчика и малость взбодрился. Второй прилив бодрости он ощутил, когда Амалия посулила дать ему денег в виде компенсации за те опасности, которые им могут повстречаться сегодня ночью.
– Да что ты там рассчитываешь найти? – безнадежно спросил Казимир, выслушав сбивчивый рассказ своей племянницы. – Ну, художник… ну, встретила она его на улице… И что?
Амалия объяснила, что Натали Севастьянова встретила Петелина между лимонадной и домом Марьи Никитишны, что после сегодняшнего осмотра всех домов там наиболее подозрительным лично ей кажется именно склад.
– Посудите сами, дядюшка: художник для чего-то прятался, испугался, узнав Натали, и намекнул ей на какие-то темные дела… Я думаю, он жил где-то поблизости и не хотел, чтобы его видели.
Казимир глотнул еще наливки и объявил, что он, пожалуй, готов идти за своей племянницей куда угодно, но с одним условием: его не будут подвергать опасности. Потому что он старый, больной человек, а приключения забавны разве что в книжках.
– Хорошо, хорошо, – терпеливо сказала Амалия. – По правде говоря, вы мне просто нужны на случай, если что-то пойдет не так! Помните, если я закричу или еще что-то такое, сразу же бегите и приводите туда исправника, городского голову, полицейского пристава, кого угодно. Договорились?
Так вот и получилось, что с наступлением темноты двое всадников покинули Синюю долину и направились к городу, причем Амалия была одета в темный костюм наподобие мужского, который идеально сливался с темнотой. Что же до Казимира, то он прихватил с собой для храбрости фляжку с настойкой и время от времени прикладывался к ней. То, что затеяла его племянница, было ему крайне не по душе, но он знал, где она состояла прежде, и был уверен: даже если что-то неприятное и произойдет, ее служба всегда сумеет замять дело.
Они оставили лошадей у пустого дома Севастьянова и, крадучись, пробрались к складу, возле которого прохаживался сторож с ружьем. При виде ружья Казимир икнул от страха и вытаращил глаза.
– Идем к черному ходу, – шепнула Амалия. – И постарайтесь не отставать!
Сообщники обошли склад, причем Казимир в потемках два раза едва не споткнулся. И вообще он стал уже жалеть, что дал себя втянуть в опасное дело. Амалия шикнула на него, чтобы он вел себя потише.
– У тебя что, есть ключи? – рискнул спросить Казимир, когда она возилась с замком.
– Нет, – лаконично ответила племянница, – кое-что получше.
Казимир попытался припомнить, какое наказание следует в Российской империи за кражу со взломом, да так и не припомнил. Отмычка сработала, замок открылся, и Амалия с дядюшкой вошли внутрь. Молодая женщина огляделась и закрыла дверь.
Они стояли, прислушиваясь, но все было тихо. Амалия вытащила коробок спичек, свечу и зажгла ее. Бледный трепещущий свет озарил какие-то тюки, мешки с товарами, коробки…
– По-моему, самый обыкновенный склад, – пробормотал Казимир, озираясь.
– Подождите здесь, – шепнула Амалия, – а я пойду осмотрюсь… Если вдруг заметите кого-нибудь – свистните по-птичьи.
– Племянница, ты что, с ума сошла? – сердито спросил Казимир. – Я не умею свистеть! И тем более – по-птичьи!
– Можете проухать совой, – великодушно разрешила Амалия, удаляясь от него.
Казимир остался стоять у выхода, проклиная все на свете и больше всего желая, чтобы приключение как можно скорее закончилось. Он достал фляжку и вновь приложился к ней, но вдруг обнаружил, что та пуста. Пробормотав короткое, но очень выразительное ругательство, дядюшка сунул бесполезную уже емкость в карман и тут увидел мышь, которая сидела на ближайшем ящике и, умывая лапками мордочку, без всякого почтения поглядывала на него.
– Чтоб ты подавилась! – с горечью сказал ей Казимир.
На городской церкви печально, глухо пробил колокол и стих. Амалия обошла весь склад, потрогала товары, открыла даже один ящик с кофе – но не нашла ничего, что могло даже отдаленно оправдать ее подозрения. Свеча в ее руке затрепетала и погасла.
«Эт-то еще что такое?» – растерялась Амалия.
Она вновь зажгла свечу и стала водить ею вдоль глухой стены, у которой стояла. Огонек свечи вновь затрепетал, как будто от сквозняка… И в следующее мгновение в стене начала поворачиваться на петлях потайная дверь.
Амалия прыгнула за мешки и поспешно задула свечу. Загрохотали по полу тяжелые сапоги. Из потайной двери вышел Маврикий Алпатыч и сказал, обращаясь к кому-то, находящемуся за нею:
– Ты, главное, не перепутай… Как на ярмарку поедешь, возьмешь с собой сверток. Там все и сбудешь, как обычно.
– Кого ты учишь… – ответил изнутри голос Гаврилы Краснодеревщикова.
– Свет не оставляй, не то, не ровен час, заметит кто, – распорядился миллионщик на прощание.
Сердце в груди у Амалии колотилось, как бешеное. Фомичев уже ушел, так и не заметив ее. Через минуту появился Гаврила, неся в руке какой-то сверток.
Едва он исчез за грудой ящиков в конце прохода, как Амалия выскользнула из своего укрытия и попыталась открыть потайную дверь. Она сломала ноготь и ободрала руку, но наконец все же повернула створку и, проскользнув внутрь, закрыла дверь за собой.
10
Амалия оказалась в маленькой, хорошо натопленной комнате, в которой имелось одно-единственное крошечное оконце, прорезанное высоко в стене. В углу стояла машина наподобие типографской, возле которой лежали пачки бумаги. Вкусно пахло краской, и к этому запаху примешивалась вонь кислых щей (тарелка с их остатками стояла на низком столике, возле потушенной лампы). Под столиком тоже лежали какие-то пачки.
«Революционные прокламации? – ломала голову Амалия. – Подпольная типография? Боже, какая чушь! Миллионщик, уважаемый человек… Ну и что? И ничего это не значит. И все же – так рисковать из-за…»
Она подошла к столу, подняла одну из пачек – и в тусклом свете луны, пробивающемся из окна, увидела знакомые рисунки и подписи. Не веря своим глазам, Амалия поспешно чиркнула спичкой, зажгла лампу и стала перебирать пачки…
Здесь были сторублевые ассигнации, в народе именуемые радужными, а также десятирублевые и пятирублевые. И все деньги были фальшивыми.
Сомнений больше не оставалось: Маврикий Алпатыч Фомичев, купец, уважаемый человек, миллионщик и все прочее – не более чем преступник, обыкновенный фальшивомонетчик. И, разумеется, его дражайший кум Гаврила Модестыч Краснодеревщиков тоже находился в курсе дела, раз купец посылал его сбывать деньги на ярмарку.
Все стало ясно, на сей раз – ясно окончательно. И то, почему никому не известный лавочник так стремительно и неправдоподобно разбогател за какие-то несколько лет, и то, из-за чего был убит Богдан Петелин, и нелепая гибель Натали… и упорное стремление преступников скрыть любые следы…
«Он изготовил клише, боже мой… Клише для фальшивых денег! Вот зачем им нужен был несчастный художник… И уж, верно, не от хорошей жизни тот согласился на такую работу… Вероятно, ему не разрешали выходить, но он все же ускользнул один раз – и встретил Натали… А потом они убили его. И ее, потому что думали, что художник рассказал ей о том, чем они занимаются…»
И тут до нашей героини донесся крик Казимира.
– Амалия! – вопил дядюшка, и такой страх был в его голосе, что все посторонние мысли мгновенно вылетели у нее из головы. – Амалия! На помощь!
Казимир! Боже мой, во что она втянула его! Ведь Зимородков предупреждал ее… Они же убьют его, убьют, не задумываясь, как до того убили художника, сделавшего клише, и жену Севастьянова!
– Ама… – пискнул у двери черного хода Казимир и умолк.
Ружье, которое держал Гаврила Модестыч, уперлось ему прямо в грудь. Рядом с Гаврилой стояли невесть откуда взявшиеся сторожа – трое надежных, проверенных слуг, которые были готовы кого угодно прикончить по приказу хозяина.
– Амалия Константиновна, – рассудительно заговорил стоявший несколько в стороне Маврикий Алпатыч, – выходите… Слово Фомичева, я вам ничего не сделаю!
Нас убьют, поняла Амалия. Обоих… Она поглядела на оконце, но то было слишком узко.
Бежать? И бросить дядю? Нет, на такое она неспособна!
Закусив губу, Амалия взяла из-под стола несколько пачек фальшивых денег – новеньких, хрустящих, волшебно пахнущих свежей краской…
– Амалия Константиновна! – возвысил голос Фомичев. – Ну нелепо же, право слово, нелепо прятаться… Ведь Антоша мой у вас служит, хорошие знакомые, как-никак… Разве ж не договоримся? – Он подмигнул Гавриле. – Конечно, договоримся!
– Где она? – шепотом спросил у него Гаврила.
Казимир, стоявший напротив него с поднятыми вверх руками, был ни жив ни мертв.
Амалия же в тот момент сняла с шеи шарф, обмотала его вокруг руки и выбила стекло, после чего принялась швырять в окно пригоршни поддельных денег. На глазах у нее выступили злые слезы.
– Амалия Константиновна! – Маврикий Алпатыч осклабился. – Амалия Константиновна, где вы? Выходите! Не то вашему дядюшке придется плохо… очень плохо!
– Да не выйдет она, – лениво протянул кто-то из сторожей. – Небось не глупая. Надо ее искать.
Фомичев кивнул.
– Ступай, Тычков, и вы тоже, ребята, – сказал он со вздохом. – Что поделаешь! Придется их обоих в болоте утопить, как…
Казимир представил, что его труп швыряют в вонючее болото, и снова сдавленно пискнул. Душа его бунтовала против такой гнусной, ни с чем не сообразной смерти. Возмущались все предыдущие поколения шляхтичей, буянов, гордецов и задавак, возмущались предки-крестоносцы. Но больше всех возмущалась легкомысленная бабушка Амелия, выходившая замуж бессчетное число раз. Чтоб ее потомки сгинули в болоте! Нет, такого она определенно не могла стерпеть!
Наша героиня вышвырнула последнюю пачку в окно, проверила свой револьвер и, держа в руке лампу, открыла дверь.
– Вот она! – крикнул сторож, откликавшийся на фамилию Тычкова.
В следующее мгновение он получил пулю в грудь, а Амалия, отскочив в сторону, швырнула лампу туда, где были сложены друг на друга штуки материй. Лампа разбилась со звуком, похожим на вздох укора, по ситцу пробежали языки огня… Второй сторож выстрелил дважды в сторону Амалии, но она положила его, почти не целясь. Охнув, мужчина рухнул на землю, выронив ружье.
– Зараза! – вскрикнул третий сторож. – Она стрелять умеет!
Амалия укрылась за башней из коробок и на всякий случай дозарядила револьвер. Мимо ее плеча пролетела пуля, и отважная молодая женщина поняла, что нельзя терять время. Выскочив из укрытия, она дважды выстрелила в сторожа, стараясь все же не ранить его смертельно, как предыдущих. Сторож, впрочем, вовсе не оценил ее любезность, потому что пытался из последних сил выстрелить в нее еще раз. Она подскочила к нему и ногой отшвырнула ружье – но тут другое ружье щелкнуло за спиной, судя по звуку, в каких-то двух или трех шагах.
– Поиграли и хватит, – прозвенел спокойный голос Маврикия Алпатыча. – Бросьте револьвер! Вам все равно ничего со мной не поделать!
Амалия очень медленно повернулась, держа руки кверху. Глаза человека напротив ей не понравились – слишком уж они были холодные и сосредоточенные. Но делать нечего, и она с подчеркнуто презрительным жестом бросила на пол револьвер. Тем более что в кармане у нее все равно оставался еще один.
Штабель, куда были сложены штуки ситца, уже полыхал вовсю. Маврикий Алпатыч дернул щекой.
– Ишь какая умная… – пробормотал он. – Думаешь, умнее меня? Ну-ну!
Амалия сделала незаметное движение рукой к карману с револьвером, однако не успела достать оружие и им воспользоваться. Потому что неожиданно из-за штабеля выдвинулась высокая фигура и встала между ней и Фомичевым.
– Довольно, – хрипло проговорил Антон. – Хватит!
– Отойди! – крикнул купец, и в его глазах вспыхнула лютая злоба. – Убью!
– Ну так убей!
Амалия не узнала голоса юноши – таким страшным он сделался в то мгновение. «Мальчик думает, что это роман», – прозвенело в ее голове. Но это определенно был не роман.
Грянул выстрел, Казимир как-то истошно взвизгнул и повалился набок – устав держать ружье, Гаврила все же нажал на спусковой крючок. В следующее мгновение Антоша рванулся вперед и вырвал у отца ружье.
Груда материй полыхала и чадила, и где-то снаружи на городской пожарной каланче уже пронзительно трезвонил колокол.
А затем произошло, наверное, самое странное, самое страшное и самое дикое из того, что довелось увидеть в ту ночь Амалии. Маврикий Алпатыч, ловкий фальшивомонетчик, убийца и прожженный делец, покачнулся, всхлипнул и закрыл лицо руками…
11
– Казимир!
– М-м…
– Дядя Казимир!
– Ы-ы-ы…
– Казимир, очнитесь!
Дядюшка открыл глаза, и первое, что увидел, было лицо его племянницы. Оно казалось сконфуженным и счастливым, и уже одно это обстоятельство показалось Казимиру подозрительным.
– Я умер? – на всякий случай спросил он.
– Нет! – испуганно вскрикнула она.
– Я в раю? – подозрительно осведомился Казимир.
– Нет, нет! Вы не умерли!
– Но в меня стреляли!.. – простонал Казимир, ощупывая грудь.
– Да, – подтвердила Амалия. – И доктор Голованов сказал, такой случай бывает один на тысячу… Пуля попала в металлическую фляжку, отрикошетила и угодила в стрелявшего. Просто потрясающе!
Казимиру понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить случившееся.
– В Гаврилу? – еле ворочая языком, спросил он.
Амалия кивнула.
– И что с ним? – Казимир шевельнулся.
Он обнаружил, что лежит на земле, а вокруг мечутся какие-то люди: пожарные с ошалевшими лицами, следователь Чечевицын, полицейские и еще дряхлая старушка, которая с любопытством озиралась по сторонам и мешалась у всех под ногами с совершенно дурацкими вопросами. Казимир приподнялся и кое-как сел. Ребра слева у него жутко саднили.
– Ему не повезло, – ответила Амалия на вопрос дяди. – Пуля попала в голову, он мертв.
– Так Гавриле и надо, – кровожадно одобрил Казимирчик и только тут обратил внимание на какие-то листки, которые кружил вокруг них ночной ветер. – Постой, а это что такое? – изумился он.
– Деньги, – отозвалась Амалия, – фальшивые. Я выбросила их в окно, потому что не знала, как все кончится. Я хотела привлечь внимание…
– Но они же настоящие! – возмутился дядюшка, ловя одну бумажку и ощупывая ее.
– Фальшивые, говорю вам! – возразила Амалия.
– А выглядят как настоящие, – нехотя сдался Казимирчик. – Значит, я не в раю?
Племянница заверила его, что он находится на грешной земле и что вообще он жив и здоров. С помощью Голованова Казимир все же сумел подняться на ноги, однако пошатнулся.
– Я же хотел тебя предупредить, – жалобно произнес он.
– Правда?
– Да. Но я не умею ухать совой!
В ответ Амалия от души обняла дядюшку и расцеловала в обе щеки.
– Что такое, ты плачешь? – обеспокоился Казимир, заметив, как блестят ее глаза.
– Я рада, что с вами ничего не случилось, – сквозь слезы ответила Амалия. – О, я никогда бы не простила себе, если б… Но я напишу обо всем Зимородкову и позабочусь, чтобы вам дали награду. Вы самый лучший дядюшка на свете!
12
«Дорогая мама,
Синяя долина – превосходное имение. Здесь много воды и свежий воздух. Я замечательно отдохнула. Кстати, я раскрыла три убийства и разоблачила фальшивомонетчиков…»
Амалия посмотрела на письмо, которое писала своей матери, и почувствовала непреодолимое желание вновь разорвать лист и начать все сначала. Уже несколько раз она пыталась объяснить, что же именно здесь произошло, а ей все никак не удавалось.
В дверь постучали.
– Войдите! – крикнула Амалия.
В комнату ступил Саша Зимородков, которого прислали из столицы завершать это запутанное дело, и она поднялась ему навстречу.
– Итак? – спросила Амалия.
– Все кончено, – просто ответил Александр Богданович. – Преступник во всем признался. По его словам, он всю жизнь работал, но ничего хорошего не выходило: жена его умерла, дела вовсе не процветали. И тогда он решил избрать самый короткий путь. Поговорил с Гаврилой, и тот одобрил его план. Вначале они хотели просто получить клише для фальшивых денег, но тут начался процесс варшавских господ, которых схватили незадолго до того, и приговоры там были очень суровые. Вот Гаврила и стал говорить, что, мол, Петелин может начать их шантажировать или же просто проговориться, и тогда им конец. Надо, мол, его убить, чтобы никто ничего не узнал, и все в таком же духе. Фомичев, по его словам, долго не хотел брать на себя грех смертоубийства. Но однажды он шел на склад и заметил, как Петелин о чем-то очень живо беседует с Натали Севастьяновой, хотя художнику строго-настрого запретили показываться наружу. Оказывается, у того табак кончился, вот он и вышел, но Фомичев решил, что Петелин их выдал.
– И поэтому… – медленно начала Амалия.
– Да. Они боялись. И поэтому убили их обоих. Когда Ольга Пенковская устраивала вечер, Гаврила ждал на дороге с телегой, а Маврикий Алпатыч околачивался возле дома. Они уже от Марьи Никитишны знали, что Натали покинет дом, чтобы встретиться с кем-то, и решили, что случай удобный. Фомичев ее задушил, после чего они отвезли труп в лес и бросили в болото. Их никто не заметил, так что все складывалось для злоумышленников прекрасно. Да и деньги, которые они мелкими партиями стали сбывать через ярмарки, стали приносить доход.
– Потом реки стали мельчать, а болото начало высыхать… – медленно проговорила Амалия. – Вот, значит, почему он хотел купить Синюю долину? Чтобы никто ненароком не обнаружил труп?
Зимородков кивнул.
– Когда вы раскопали ту старую историю, им сделалось не по себе. Еще хуже стало, когда Любовь Осиповна во всеуслышание объявила, что знает, где находится Натали… Гаврила, хозяин «Бель Вю», передал ее слова Фомичеву, и подельники решили заставить ее замолчать навсегда. Однако, несмотря ни на что, вы не оставляли свои поиски. Позже Фомичев с Краснодеревщиковым пытались все свалить на Севастьянова – узнали от почтмейстера, что к тому приходят странные письма с угрозами, решили сделать так, чтобы он повесился.
– А… – протянула Амалия. – Так вот почему последняя записка была написана от руки. Ее уже не Егор Галактионович писал, а они. И веревку они же в доме Степана Александровича повесили… Умно!
– Потом вы нашли Егора Галактионовича, который окончательно сошел с ума, и подельники решили, что теперь они в безопасности. Мол, старик убил, и точка. Но вы так и не поверили, что именно он убил Натали…
– Маврикий Алпатыч объяснил, при чем тут Петька-браконьер? – спросила Амалия. – Ведь не случайно же он нашел кошелек с деньгами в то время, когда произошло убийство художника. Наверняка они сами ему подбросили.
– Да, – кивнул Зимородков. – Это был их запасной вариант, родственники хотели, чтобы на него пало подозрение, если что. И мировой судья Нарышкин, который тогда был вынужден исполнять обязанности судебного следователя, действительно поверил, что Петька убил Петелина. Однако Петька был далеко не так глуп и, мне думается, догадался, почему ему вдруг попался набитый деньгами кошелек. Вообще-то по данному поводу Маврикий Алпатыч был не слишком откровенен, на нем и так много всего… Но все-таки я спросил у него, правда ли, что Петька сам попал в трясину, а не кто-то толкнул его туда. Фомичев стал морщиться, плакать… Сказал, что ничего точно не знал, но подозревал, что там не обошлось без Гаврилы. И с Натали… Он очень мучился, что ему пришлось ее убить.
– Да, – со смешком ответила Амалия. – Настолько, что пожертвовал на церковь ровно две тысячи рублей. Точь-в-точь столько же, сколько и предок мирового, некий Кирилл Семеныч Нарышкин, когда тоже убил женщину.
– Вы догадались? – поразился Александр Богданович. – Невероятно!
– Только сейчас, – вздохнула Амалия. – Мелкие детали, знаете ли… Но при раскрытии преступления ничего не бывает важнее их.
– Это замечательно, – искренне промолвил Зимородков. – Я имею в виду, как все оказалось связано между собой. Фальшивая пятерка купца оказалась в сюртуке, который проходил по совершенно другому делу, а когда вы искали Домбровского, то услышали фамилию портного, которая помогла вам раскрыть первое дело. И, если бы не вы, вполне возможно, что мы бы никогда не узнали правды… Скажите, я могу сделать что-то для вас?
Амалия немного подумала.
– Да, – сказала она. – Мой дядя очень мне помог с обоими делами. Если можно, устройте ему какую-нибудь награду. Анну или Станислава. И еще одно… – Она замялась. – Юноша, сын Фомичева, тоже помогал мне. Именно он отыскал тело Натали. И тайком последовал за мной и дядей в ту ночь, когда мы с Казимиром забрались на склад. Возможно, я плохо знаю людей, но готова поклясться, что Антоша совершенно ничего не знал о делах отца.
– Пожалуй, тут я с вами соглашусь, – отозвался Александр Богданович, – но вряд ли ему удастся остаться в стороне. Подумайте сами: процесс будет проходить не в окружном суде, а в Москве либо в столице, потому что Фомичева и его сообщников будут судить за многочисленные тяжкие преступления. Антону придется давать показания, и общество, конечно же, вынесет свое суждение. Какое оно будет – вы знаете не хуже меня.
– Яблоко от яблони? – мрачно спросила Амалия.
– Боюсь, что так, – ответил Зимородков. – Нет, тюрьма ему не грозит ни в коем случае. Я имею в виду лишь общественное мнение. И, насколько я представляю себе положение вещей, клеймо сына фальшивомонетчика останется при нем до конца его дней, хоть юноша и ни при чем.
– А если попытаться… – начала молодая женщина.
– Устроить закрытый процесс? О нет, сударыня. Прокурор и защитники наверняка захотят покрасоваться перед публикой. Все газеты будут освещать заседания суда. Конечно, я попытаюсь сделать, что могу, но… – Александр развел руками.
– Я понимаю, – проговорила Амалия. – И мне очень жаль.
После ухода Зимородкова наша героиня вернулась за стол и, пробежав глазами начатое письмо, разорвала лист на четыре части. Заглянула Лиза, спросила, что готовить на ужин, и, получив ответ, удалилась. Амалия начала писать новое письмо, но тут в коридоре раздались чьи-то шаркающие шаги, и кто-то несмело поскребся в дверь.
– Входи, Антоша, – сказала Амалия.
Молодой человек не стал проходить в комнату, а остался стоять на пороге, словно считал, что его в любую секунду могут выгнать отсюда, как собаку. И Амалии, которая привыкла улавливать любые оттенки поведения, это сразу же не понравилось.
– Я хотел спросить… то есть… – Юноша замялся. – Я могу взять атлас? Географический… из библиотеки Саввы Аркадьича.
– Антоша, я тебе уже говорила, ты можешь брать любую книгу без разрешения, – мягко ответила Амалия. – А почему атлас? – заинтересовалась она. – Мне казалось, тебе больше по душе Понсон дю Террайль и Дюма.
– Я, наверное, скоро уеду, – извиняющимся тоном ответил юноша.
– Куда? – Амалия смотрела на него во все глаза.
– Еще не знаю. В Австралию, в Южную Америку… Я не смогу здесь оставаться… после всего…
Амалия вздохнула. Ей очень хотелось сказать молодому человеку что-нибудь ободряющее, но она ненавидела лицемерие и пустословие. Наша героиня много раз видела: преступники рушат не только жизнь своих жертв и свою собственную – из-за них страдают и вовсе ни в чем не повинные люди, которые никому не сделали ничего плохого. Но почему-то то, что из-за поступков Фомичева его сын, славный, добрый юноша, который любил книги и мечтал о приключениях, теперь оказался парией, особенно задело ее.
– У тебя же есть родственники… – начала Амалия.
Антон мотнул головой.
– У меня никого нет… – Он едва не добавил: «кроме вас», но удержался, поняв, что это было явно лишнее.
– Ты можешь пожить где-нибудь… Пока все не уляжется…
– Нет, – упрямо покачал головой Антоша, – я уже все решил. Как только все кончится, я уеду.
– Ты на меня сердишься? – задала Амалия вопрос, который жег ей губы. Ведь, если бы она не приехала сюда, возможно, никто никогда не смог бы уличить Маврикия Фомичева. И тогда Антоша был бы счастливее, чем теперь.
– Нет, – ответил он. – Я должен был раньше понять. На людях отец все время говорил, что надо трудиться, чтобы чего-то добиться, а при мне смеялся, мол, честным трудом ничего не заработаешь. – Антон тяжело вздохнул. – Так я могу взять атлас?
– Да, – кивнула Амалия.
Он сделал движение, чтобы повернуться и выйти, но баронесса удержала его.
– Постой… Подойди сюда.
Недоверчиво глядя на нее, Антоша все-таки приблизился, и тогда Амалия совершила самый странный, наверное, поступок в своей жизни. По правде говоря, он бы подходил скорее героине какой-нибудь книги, чем баронессе Корф, которая была довольно сложным человеком и не питала склонности к излишне красивым жестам. Но Амалия не желала, чтобы они с Антошей расстались вот так. Поэтому она сняла с себя крест – дорогой, золотой, с красивыми камнями – и, ни мгновения не колеблясь, повесила юноше на шею. Антоша порозовел от смущения и счастья: он вовсе не ожидал ничего подобного.
– Ну, вот… – только и сказала Амалия. По правде говоря, у нее слезы наворачивались на глаза, хоть она и храбрилась изо всех сил. – А теперь ступай.
Баронесса поцеловала Антона в голову, и тот ушел. У двери он обернулся, хотел что-то сказать, но Амалия уже смотрела в окно, за которым темнели окутанные сумерками кусты сирени и пел соловей.
«Надо будет все-таки предложить ему остаться, – смутно подумала Амалия. – Куда он поедет, в самом деле? Совсем же ребенок».
Наша героиня вернулась за стол и, вспомнив о письме, подумала: ведь она все равно расскажет матери при встрече подробности произошедшей истории, так что незачем и бумагу переводить. Поэтому просто взяла первую попавшуюся книгу, устроилась поудобнее и стала читать.
Серенькая кошка Севастьянова, Мышка, проскользнула в дверь, покосилась на Амалию и исчезла за шкафом. Через несколько минут она вышла оттуда, неся в зубах свою поверженную тезку, и положила ее к ногам хозяйки дома, ожидая, что ее похвалят за усердие. Амалия потрепала кошку, но мышь ей почему-то не понравилась, и она вызвала Лизу, велев ей убрать очередную жертву Мышкиной кровожадности. Часы на стене защелкали, заохали, заскрипели и стали бить. Мышка аппетитно потянулась, улеглась на ковер и стала смотреть, как минутная стрелка ходит по кругу.
Ветер погонял облака, наведался в город, погремел черепицами на доме Марьи Никитишны, которая в тот момент взахлеб рассказывала владельцу лимонадной немцу Шмайхелю о том, как столичные сыщики с помощью баронессы Корф изловили опасного фальшивомонетчика, и помчался дальше. Ветер поцарапался в окно к Вере Дмитриевне, у которой в гостях сидел почтмейстер; самым нескромным образом подглядел, как раздевается, готовясь ко сну, Оленька Пенковская; пару раз тоскливо подвыл возле земской больницы, где доктор Голованов хмуро изучал результаты каких-то анализов, и возобновил свой бег. Он пролетел над рекой, насмешливо свистнул каменным львам возле усадьбы и зашумел в саду, качая ветви сиреней. Над сиренью ветер выронил какую-то бумажку, которая, плавно переворачиваясь и скользя, как бабочка, упала наконец на землю. Там ее и приметила большая красивая сорока, которая важно гуляла под кустами, вертя хвостом. Завидев радужную бумажку, сорока остановилась и бочком, бочком стала подбираться к ней, после чего схватила бумажку и поспешно улетела прочь, чтобы никто не успел ту отнять.
…А потом начался дождь.
Валерия Вербинина Званый ужин в английском стиле
Глава 1 Суббота, пятый час вечера
Анна Владимировна волновалась. Для этого не было решительно никаких оснований, но, тем не менее, она не могла избавиться от чувства беспокойства, и чем ближе время подходило к семи часам, тем сильнее становилась ее тревога. Казалось бы, до сих пор все шло прекрасно. Петербургский повар с рекомендациями от самого князя Голицына расстарался на славу, цветы для вечера были выписаны чуть ли не из самой Ниццы, а вина доставлены из французского магазина, нисколько не уступающего московскому, который содержал знаменитый Депре. Вина, между прочим, влетели им в копеечку, и даже сын Митенька, увидев присланный из магазина счет, малость оробел и заморгал глазами. Конечно, семье пора привыкать к новой жизни, ведь Павел Петрович теперь статский советник, и жалованье ему положено в две тысячи рублей в год; мало того, служить он будет теперь не в захолустной Москве, а в блестящей столице, куда семья Верховских перебралась всего несколько дней тому назад.
Анна Владимировна удовлетворенно вздохнула. Так-то оно так, только вот петербургские магазины эти — сущее разорение, и сразу даже и не разобрать, где деньги берут за дело, а где так, только зря цену вздувают, бесстыжие. Вывески все одна красочнее другой, а что за ними кроется — с непривычки и невдомек московскому провинциалу, который почти не бывал в столице прежде. Хорошо хоть Евдокия Сергеевна, супруга Павлушиного начальника, который вместе с подчиненным перебрался на службу в Петербург, помогла на первых порах обустроиться и объяснила, что к чему.
В Москве все проще, думала Анна Владимировна, поправляя вазу. И извозчики не такие лихие, как здесь, и городовые помягче, подушевнее, не то что в столице, где каждый из них полковником глядит и так грозно шевелит усами, что боишься и обратиться лишний раз. Все хорошие магазины в Москве наперечет, там даже и голову ломать не надо: хочешь булочек — ступай себе к Филиппову на Тверскую, надо мужу новую шляпу — пожалуйте к Вандрагу на Петровку. А в Петербурге… Анна Владимировна зажмурилась от сладкого ужаса, вспоминая, во сколько обошлось ей новое платье, шитое у знаменитой портнихи. Евдокия Сергеевна ей по секрету шепнула, что портниха не простая, обшивает даже кое-кого из членов августейшей фамилии. Не самых, положим, высоких членов, потому что тогда бы ее услуги обошлись вдвое дороже, но все же… все же… При одной мысли о том, что она одевается у той же портнихи, что и родственники Его императорского величества, в груди у Анны Владимировны приятно потеплело. Нет, все-таки ничто не может сравниться с жизнью в северной столице, и хорошо, что Павлушу наконец сюда перевели. Привыкнут они и к дорогим магазинам, и к бешеным извозчикам. Митенька наконец образумится, поступит в университет. Одним словом, все будет — лучше не придумаешь. Именно так, как и должно быть.
Вошла горничная Глаша, которую Верховские привезли с собой из Москвы, — веснушчатая застенчивая девушка, маленькая и отчаянно некрасивая. Конечно, ведь Анна Владимировна понимала, что для спокойствия семьи горничные должны быть ловкие и как можно менее привлекательные, дабы у хозяина не возникало излишних соблазнов. Что касается лакеев, то Павел Петрович волен нанимать любых, лишь бы не воровали ложки и вели себя прилично. Анна Владимировна очень уважала приличия, и теперь, в этот прекрасный осенний вечер, ее не на шутку терзала мысль, что в столице ее могут счесть не comme il faut,[61] слишком провинциальной для того, чтобы занять достойное место в обществе. Впрочем, на сей случай она своевременно озаботилась принять свои меры. Сегодня будет первый званый вечер, который она устраивает в Петербурге в качестве супруги статского советника Верховского, и, разумеется, она сделает все для того, чтобы он удался.
— В чем дело, Глаша? — спросила Анна Владимировна.
Оказалось, что кудесник-повар с презрением отверг купленную для вечера телятину и требует другой, более свежей. Что же до той, которую приобрели Анна Владимировна с кухаркой Дарьей, то господин повар придерживается такого мнения: ее вполне можно скормить коту Ваське. Глаша, волнуясь, закончила рассказ и робко покосилась на хозяйку. Щеки Анны Владимировны порозовели: она отлично помнила, что самым бессовестным образом сэкономила на телятине, но ей было неприятно, что ее уличили.
— Право же, я не понимаю, чего он от нас хочет, — беспомощно проговорила Анна Владимировна. Затем, немного подумав, поинтересовалась: — А нельзя ли телятину чем-нибудь заменить?
Глаша пообещала, что спросит у господина повара, и скрылась за дверью. Анна Владимировна сокрушенно поглядела горничной вслед. Просто возмутительно, до чего эти молодые повара горазды драть деньги. Телятина, видите ли, ему не понравилась! Анна Владимировна покачала головой и, заметив у румяной розы увядший лепесток, сердито оторвала его. Однако тотчас же лицо ее обрело привычное терпеливо-покорное выражение — послышались знакомые шаги, и в гостиную вошел Павел Петрович, по-домашнему одетый в наиновейший шлафрок пунцового цвета. В руках статский советник держал слегка смятую газету.
— Павлуша! — с укором промолвила Анна Владимировна. — В каком ты виде!
— Так ведь рано еще, — улыбаясь, отвечал советник. — И потом, матушка, ты не знаешь здешних петербургских обычаев. Раз назначено в семь, значит, жди к восьми.
Он весь лучился довольством. Но не тем спесивым довольством, которое обыкновенно выводит из себя окружающих, а каким-то очень естественным, симпатичным, проистекающим из неизменно хорошего настроения и миролюбивого, ровного характера. Весь его облик словно говорил: «Жизнь хороша, и жить чертовски хорошо». Сам Павел Петрович был маленький, кругленький, с пушистыми седоватыми усами и намечающейся на макушке плешью. Он любил кошек и обладал редким даром с первого взгляда внушать детям к себе доверие. Анна Владимировна поглядела на мужа и улыбнулась.
— Ты бы переоделся все же, Павлуша, — попросила она мягко.
Почтенный статский советник в ответ лишь сморщил нос, как мальчишка, и, не отвечая, повалился на диван, где вновь стал просматривать газету.
— Что-нибудь интересное? — спросила Анна Владимировна. Она не увлекалась политикой и ничего в ней не смыслила, но раз они теперь живут в столице, надо быть в курсе происходящего.
— Ничего, представь себе, — все с той же добродушной улыбкой отвечал муж. — Германия опять грозит войной, но Австрия вроде бы колеблется. В российском воздухоплавательном обществе испытывали новый воздушный шар, но неудачно. — Он перевернул страницу. — Граф Толстой, кажется, пишет новую книгу. А в остальном все то же, что и обычно. — Он зевнул, прикрывая газетой рот.
«Надо будет сказать ему, чтобы он не зевал в обществе», — мелькнуло в голове у Анны Владимировны. Она села напротив мужа и сложила руки на коленях.
— Павлуша… — несмело начала женщина.
— Что, ангел мой?
— Меня беспокоят вина. — Анна Владимировна умоляюще поглядела на него. — Ну зачем было столько заказывать, скажи на милость? Шабли, шато д’икем… ликеры разные…
Павел Петрович хитро прищурился.
— А ты бы хотела обойтись одним ланинским шампанским?[62] Или, может, надо было заказать кахетинское братьев Елисеевых?[63] — Он пренебрежительно повел своими полными плечами. — Пфф! Еще чего не хватало, в самом деле!
— Но ведь гости вряд ли все выпьют, — умоляюще проговорила Анна Владимировна. — Если что-то останется, мы ведь сможем вернуть ненужное в магазин, правда?
Она смотрела на него, и в ее бледно-голубых глазах застыла такая мольба, что Павел Петрович не нашелся, что ответить. Нет слов, его супруга — добрейшая из женщин, образцовая хозяйка, хлопотливая, внимательная, набожная и к тому же прекрасная мать, но есть все же вещи, которые она упорно понимать не желает. Это в Москве можно вернуть товар, если лавочник вам хорошо знаком, а вот в столице. В столице, если вы начнете позволять себе такие фертикулясы, вас навечно запишут в невежи и медведи. Павлу Петровичу вовсе не улыбалась мысль прослыть медведем, но он прекрасно знал: ежели жене что втемяшится в голову, ее не переубедить. Поэтому он только недовольно покрутил головой и, буркнув: «Делай что хочешь», стал читать списки приезжающих в Петербург.
Вернулась Глаша, и успокоенная Анна Владимировна вполголоса отдала ей приказание: несколько бутылок — самых дорогих — припрятать, а за телятиной кого-нибудь послать, чтобы повар потом не бурчал, что у Верховских-де никакого понятия о приличиях и вообще сплошное моветонство. Глаша присела в книксене и удалилась, а Анна Владимировна оглядела гостиную, чтобы убедиться, все ли сделано как надо. В этот особняк они въехали совсем недавно, но с мебелью им определенно повезло. Она ничуть не бросалась в глаза и чем-то неуловимо походила на хозяйку дома — такую же неприметную и вместе с тем незаменимую.
— Иван Андреевич точно будет? — спросила Анна Владимировна.
— Обещал, — лаконично ответил ее супруг.
Иван Андреевич Лакунин был его начальник по ведомству, вместе с которым они и перебрались в Петербург.
— И Владимир Сергеевич обещался быть, — добавила Анна Владимировна. — Вместе с братом.
Владимир Сергеевич Городецкий был когда-то сослуживцем Павла Петровича. Несколько лет назад он вышел в отставку и перебрался в столицу, где дела его по всем признакам пошли в гору. Сейчас он, насколько было известно Верховским, помогал вести дела своему брату Константину, известному адвокату.
— Жаль, Наталья Петровна сказала, что не может принять наше приглашение, — вздохнула Анна Владимировна.
Статский советник поморщился: Наталья Петровна была его родной сестрой, и уж она-то, во всяком случае, могла оказать им честь своим посещением.
— Зато мы увидим Вареньку и ее жениха. Давненько мы ее не видели! — добавила супруга.
— Угу-м, — промычал Павел Петрович.
— Ты знаешь, кто ее жених? — с любопытством спросила Анна Владимировна. Сама она долгое время надеялась, что племянница Варенька выйдет замуж за их Митю, но отец Вареньки, суровый генерал Мезенцев, высказался категорически против брака между близкими родственниками, за что Анна Владимировна его сильно невзлюбила. — Кажется, он военный?
Павел Петрович метнул на нее хмурый взгляд.
— Я знаю только, что он служит при дворе, — сказал он. — Натали не сообщала мне подробностей.
«При дворе, скажите пожалуйста! — мелькнуло в голове у Анны Владимировны. — Уж не лакеем ли?» Однако она согнала с лица скептическое выражение и улыбнулась.
— Все-таки хорошо, что нам удалось заполучить на вечер этого итальянца, — заметила она. — Правда, долго пришлось его уламывать, но…
Павел Петрович вздохнул и спросил довольно равнодушно:
— Ты о хироманте?
По правде говоря, за последние дни жена говорила ему об особом госте много раз, и статский советник уже начал жалеть, что они вообще устраивают этот вечер.
— Конечно, о нем, — несколько обиженно отозвалась Анна Владимировна. — А о ком же еще?
Поскольку в Петербурге у Верховских было все-таки еще слишком мало знакомств, а одними родственниками в таком случае не обойтись, Анне Владимировне пришла в голову гениальная мысль — пригласить на вечер знаменитого хироманта Пьерлуиджи Беренделли, которого они знали еще по Ментоне. Летом Павел Петрович лечился там от камней в почках, тогда супруги Верховские и познакомились с итальянцем, чья дочь тоже находилась на курорте. Осенью Беренделли возобновил гастроли по Европе, во время которых он неизменно поражал публику своими знаниями — предсказывал судьбу по руке и читал прошлое и будущее с такой легкостью, словно они были открытая книга. Сейчас хиромант находился в Петербурге и вскоре собирался уехать в Париж, так что Анне Владимировне пришлось приложить нешуточные усилия для того, чтобы заполучить к себе знаменитого итальянца. Заручившись его согласием, Анна Владимировна вздохнула свободнее: теперь она была уверена, что ее вечер ждет неминуемый успех. Даже эксцентричная графиня Толстая и та напросилась через Павлушиного начальника к ним в гости, чтобы поглядеть на хироманта. И Городецкие, что ни говори, сначала отнекивались от приглашения, пока не узнали, кого встретят у Верховских. В глубине души Анна Владимировна ликовала.
— Только я не уверена, как надо их рассаживать, — пожаловалась она мужу. — Беренделли будет вместе с дочерью, и он, конечно, знаменитость. Но твой начальник… И, конечно, графиня Толстая…
— Гм, — рассеянно молвил на это Павел Петрович. — Кстати, баронесса Корф вернулась в Петербург из продолжительной заграничной поездки.
Анна Владимировна решила, что ослышалась.
— Баронесса Корф? — удивленно спросила она.
— Мы встречали ее в Ментоне, — напомнил статский советник. — Разве ты забыла?
Анна Владимировна ничего не забыла, а в особенности те взгляды, какие добрейший Павел Петрович бросал летом на очаровательную белокурую баронессу. Мадам Верховской смутно вспомнилось, что у госпожи Корф были не в порядке легкие. Также она помнила, что баронесса приехала в Ментону не одна, а с двоюродным братом, который говорил преимущественно по-английски и походил на нее как две капли воды. Впрочем, от проницательной Анны Владимировны не ускользнуло, что молодой человек вел себя очень предупредительно по отношению к кузине, — по правде говоря, даже чересчур предупредительно для обычного родственника. У статской советницы осталось впечатление, что этих двоих связывает какая-то тайна, и какого именно порядка тайна, она даже не сомневалась. Конечно же, речь шла об обыкновенном романе! Но Анна Владимировна считала себя выше сплетен и не стала ставить легкомысленной госпоже Корф на вид ее безрассудное поведение. В конце концов, пока кузен находился при ней, мадам Верховская могла не опасаться за своего супруга.
— В Ментоне было так много людей, — вздохнула Анна Владимировна. Павел Петрович недоверчиво покосился на нее, и потому она быстро добавила: — Но баронессу Корф я помню. Послушай, Павлуша…
— Что?
— А тот доктор, который тебя лечил… Венедикт Людовикович… — Анна Владимировна замялась. — Мне только сейчас в голову пришло… Зря мы, наверное, его пригласили.
— Почему? — очень сухо спросил Павел Петрович. По натуре он вовсе не был снобом, и то, что жена пыталась проявлять неуместную разборчивость, его невольно коробило.
— Но посуди сам: графиня Толстая, адвокат Городецкий и… и… — Анна Владимировна не смогла закончить фразу и только беспомощно развела руками.
Однако Павел Петрович был на редкость твердолоб.
— Не могу понять, отчего это тебя так волнует, — заявил он, пожав плечами. — Уверяю тебя, доктор вхож во многие приличные дома. И в конце концов, чем он хуже твоего хироманта?
Анна Владимировна тихо вздохнула. Боже, и отчего мужчины так упрямы? Конечно, Венедикт Людовикович — почти друг их семьи, и Павлуша ему многим обязан, но вот будет ли его присутствие уместно на их вечере? В конце концов, не стали же они приглашать, к примеру, портного Павла Петровича. А хиромант Беренделли — совершенно особая статья. Он знаменитость такого калибра, которую за честь сочтут принять где угодно, и не надо равнять его с французом-доктором, который вечно курит так неопрятно, что у него все манжеты обсыпаны пеплом. Да!
Вошел Трофим, лакей Верховских (он тоже, как и Глаша, приехал вместе с хозяевами из Москвы), и протянул статскому советнику узкий голубой конверт.
— От господина итальянца, — доложил Трофим, почтительно прокашлявшись. — Только что доставлен.
Павел Петрович открыл конверт и нахмурился.
— Что там? — с замиранием сердца спросила Анна Владимировна.
Ее муж поморщился, не отрывая взгляда от письма, его губы шевелились. Анна Владимировна почувствовала, как сердце опускается у нее в груди все ниже и ниже. Обманул бесстыжий итальянец, как пить дать, обманул! Посулил прийти, а теперь не явится!
— Пропал вечер, пропал! — принялся излагать содержание послания статский советник. — Синьор Беренделли извиняется и пишет, что его дочь Антуанетта чувствует себя неважно и поэтому не сможет к нам приехать. Но сам он обещает быть, как мы и условились.
Анна Владимировна с облегчением выдохнула и откинулась на спинку кресла.
— Можешь идти, — сказал Павел Петрович Трофиму и бросил письмо на столик возле дивана.
— Надо будет сказать повару, чтобы он готовил на одну персону меньше, — с облегчением сообразила его жена. — Значит, сколько всего человек будет за столом?
Павел Петрович наморщил лоб.
— Ты, я и Митя — уже трое, — сказал он.
— Варенька и ее жених — пять, — подхватила Анна Владимировна.
— Иван Андреевич с женой — семь… Беренделли — восемь…
— Графиня Толстая — девять.
— Она сказала, что будет со спутником, — напомнил статский советник.
— С тем композитором, Преображенским? — с любопытством спросила Анна Владимировна.
— Кажется, да.
— Значит, композитор — десятый.
— Владимир Сергеевич и его брат-адвокат — двенадцать. Кого мы забыли?
— Кажется, никого… Нет, погоди. Доктора мы не считали?
— Нет.
— Значит, всего за столом будет тринадцать человек, — подытожила Анна Владимировна. В следующее мгновение ее лицо исказилось ужасом. — Тринадцать? Боже мой! Ну конечно, если Антуанетты не будет… — Она была готова расплакаться. — До чего же необязательные люди эти итальянцы!
— И что из того, что тринадцать? — спросил Павел Петрович. Однако по его лицу было заметно, что он и сам сконфужен.
— Павлуша, разве ты не понимаешь? — вскинулась Анна Владимировна. — Тринадцать! Очень, очень плохо! Просто никуда не годится! Нам надо что-то предпринять, я не желаю, чтобы на моем вечере было тринадцать человек. Такая дурная примета!
Павел Петрович несколько мгновений раздумывал.
— Не торопись, ангел мой, — сказал он наконец. — Кажется, я знаю, как ее обойти.
Глава 2 Неожиданное приглашение
Молодая блондинка с карими глазами, одетая в платье модного цвета mauve,[64] поднялась в свой номер петербургской гостиницы и стала снимать шляпку, когда из-за стены внезапно донесся выстрел.
Следует признать, что молодая особа повела себя на редкость странно. Она не стала визжать, звать на помощь и падать в обморок, как, без сомнений, сделала бы на ее месте любая уважающая себя представительница слабого пола. Более того, блондинка вообще ничуть не удивилась происходящему. Она лишь разгладила ленты шляпки, вздохнула, направилась к двери и через минуту уже входила в соседний номер, где на кровати лежал молодой человек, на детском лице коего застыло выражение непосредственности. Держа в руке увесистый американский револьвер, он целил в стену напротив, где была прикреплена десятка «пик». Внимательный наблюдатель, если бы таковой оказался поблизости, не преминул бы заметить, что четыре значка пик были пробиты пулями.
— Билли, — с легким неодобрением в голосе сказала дама, — кажется, я просила тебя больше не стрелять в гостинице. Это же ни на что не похоже!
Лежащий на кровати шмыгнул носом, покосился на говорящую и со вздохом поднялся. Волосы у него были растрепаны, и он пригладил их свободной рукой.
— Мне хотелось немножко попрактиковаться, — пояснил он смущенно, глядя на собеседницу (кстати, заметим: разговор шел по-английски). — По-моему, я теряю былую сноровку.
Дама в сиреневом поглядела на карту и выразительно вздернула тонкие черные брови.
— Что-то непохоже, — усомнилась она.
— А я говорю, теряю, — вздохнул Билли. — Раньше я стрелял куда лучше. Два промаха из шести, куда такое годится?
И он застенчиво покосился из-под пшеничной челки на даму в сиреневом, которая, слушая его, только качала головой.
— Ты так и не изменился, — сказала она. По ее тону нельзя было понять, радовало ее сие или, напротив, огорчало. — Куда ты хочешь пойти сегодня?
Билли пожал плечами и стал перезаряжать револьвер.
— Мне все равно, — признался он. — Правда-правда!
— И все-таки, куда? — настаивала дама. — В театр? Сегодня дают несколько хороших пьес. Можно прокатиться в оперу, если хочешь, или посмотреть картины в императорской галерее. Хотя я не уверена, что сейчас она открыта.
Билли шмыгнул носом и спрятал револьвер.
— В картинах я ничего не понимаю, — отозвался он. — А в опере все старые.
— Кто старые? — строго спросила дама. Но карие глаза ее смеялись, от чего в них вспыхивали золотые искорки. Билли поглядел на них и смешался.
— Да актеры, — горестно ответил он. — Певица изображает, что ей двадцать лет, а на самом деле у нее наверняка уже внуки есть. А партнер-то ее куда смотрит? Не видит, что ли, кто перед ним?
К его удивлению, собеседница звонко расхохоталась.
— Никак на тебя не угодишь! — воскликнула она, отсмеявшись. — Ну а театр чем тебе не нравится?
Билли задумчиво почесал нос и проворчал, исподлобья глядя на даму в сиреневом:
— Я не говорил, что он мне не нравится.
— Так в чем же дело?
— Ни в чем, — вздохнул Билли. — Можно сходить в театр, я не против.
Вообще-то он был готов идти куда угодно, лишь бы быть рядом с дамой в сиреневом, о чем та отлично знала. Лицо блондинки смягчилось.
— Значит, отправимся в театр, — подытожила она. — На какую-нибудь смешную пьесу, да?
Она улыбнулась, и Билли почувствовал, что тает от ее улыбки, как леденец… И в то же мгновение раздался стук в дверь.
— Войдите! — слегка повысила голос блондинка, перейдя на русский.
На пороге показалась горничная и, стараясь не смотреть на простреленную карту на стене, объявила, что для баронессы Корф есть письмо. Молодая женщина нахмурилась.
— От кого? — довольно сухо спросила она.
— От статского советника Верховского.
— Не знаю такого, — отрезала дама в сиреневом.
Горничная замялась, затем пояснила:
— Посыльный сказал, вы встречались с семьей господина советника в Ментоне.
— А! — Лоб баронессы разгладился. — В самом деле, теперь я вспомнила. Кажется, мы жили в одной гостинице. И чего же он хочет?
Горничная подала ей маленький запечатанный конверт, на котором изящнейшим почерком со множеством завитушек значилось, что он предназначается госпоже баронессе Амалии Константиновне Корф и никому более. Молодая женщина вскрыла письмо и углубилась в чтение.
— Что-нибудь интересное? — спросил Билли.
Амалия пожала плечами.
— Нас приглашают в гости, — сказала она.
— Кто? — Билли, казалось, заинтересовался.
— Статский советник Павел Петрович Верховский и его супруга. Они устраивают soir?e fixe[65] и мечтают видеть нас среди гостей. Будут присутствовать также графиня Толстая, адвокат Городецкий и знаменитый хиромант Пьерлуиджи Беренделли. — При произнесении последнего имени в тоне белокурой дамы сквозила самая непочтительная ирония. Судя по всему, она не слишком верила в хиромантию.
— Адвокат? — недоверчиво спросил Билли.
— Да. А что? Неужели ты о нем слышал?
— Нет, — честно ответил Билли. — И вообще, я знал только одного адвоката. Да и фамилия у него была совсем другая.
Амалия улыбнулась.
— Госпожа баронесса, посыльный ждет ответа, — напомнила горничная.
Но Амалия не торопилась.
— Да-да, теперь я вспомнила Верховских, — задумчиво произнесла она, погружаясь в свои мысли.
Простая московская семья, только муж был тогда не статским советником, а числился рангом ниже. Добродушный человек с круглым брюшком, вокруг которого все время вертелись кошки. Он их гладил и даже подкармливал со своего стола. Между прочим, за все время своего пребывания в Ментоне мужчина даже не полюбопытствовал заглянуть в соседнее Монако, где его соотечественники оставляли баснословные суммы, и такое его поведение невольно внушало уважение. Жена его, как теперь вспомнила Амалия, показывала ей фотографическую карточку их сына — кажется, его звали Дмитрием. Довольно блеклая женщина, и одевалась она всегда в неброские, однотонные платья самого безыскусного фасона. В ее мясистом лице было что-то овечье, но однажды Амалии довелось услышать, как дама распекает официанта, осмелившегося подать ее мужу слишком холодное питье, — даже голос ее изменился тогда, став металлическим, а в лице и подавно не осталось ничего покорного — оно выражало одну злую, непреклонную решимость. Амалию, которая вообще считала, что все люди состоят из контрастов, немало позабавила подобная перемена. И все же, хотя баронесса ничуть не была снобом, она сознавала, что между ней и Верховскими очень мало общего и пребывание на популярном курорте вовсе не сглаживает разницы. В сущности, Амалия вообще слишком отличалась от остальных людей, чтобы считать кого бы то ни было из них ровней себе. Прежде она вела жизнь, насыщенную самыми разнообразными приключениями, хоть и делала это не вполне по своей воле. Потом были болезнь, трудное выздоровление, санатории, возвращение в Петербург… Заболевание туберкулезом было этаким дамокловым мечом, который постоянно висел над ее семьей, от него умерли отец и родной брат Амалии, но она осталась жива. Баронесса была почти уверена, что в Петербурге мало кто заметил ее отсутствие, кроме самых близких, самых дорогих людей, но, как оказалось, была не права. Амалия вспомнила человека, который приходил к ней вчера, и поморщилась…
— А хиромант — это тот, кто будущее предсказывает? — спросил, перебив ее мысли, Билли.
— Да, по линиям руки, — отозвалась Амалия.
— Ух ты!
Тон молодого человека заставил молодую женщину улыбнуться. Она вновь прочитала письмо и вздохнула.
— Графиня Толстая… Будем надеяться, что не та Толстая, о которой все говорят.
— А та, о которой все говорят, она кто? — заинтересовался Билли.
— Весьма заурядная, но скандальная особа, которой нравится изображать из себя femme fatale,[66] — фыркнула баронесса. — Даже ее собственная семья не поддерживает с ней отношений. Но она получила недавно наследство от деда, который в ней души не чаял, так что мнение родных ей в высшей степени безразлично. Она живет в основном за границей, раз в полгода переходит в новую веру и меняет любовников как перчатки. Сама себя считает меценаткой и покровительницей искусства, но ради блага искусства я надеюсь, что она все же ошибается.
— О, — только и выдохнул Билли. — А, случаем, не та Толстая, из-за которой художник застрелился?
— Она самая, — подтвердила Амалия. — Но я не думаю, что у Верховских окажется именно она. Все-таки они не ее круга люди. Так что ты скажешь, Билли?
— О чем?
— Если хочешь, можем пойти в театр. А нет, так отправимся в гости к Верховским. Все равно на сегодня у нас нет больше никаких дел.
Билли немного подумал.
— В театре смешная пьеса? — деловито осведомился он.
— Не знаю, — рассеянно отозвалась баронесса. — Но всегда можно выбрать.
Билли вздохнул. В то мгновение он больше всего походил на непоседливого школьника, прочно застрявшего в старших классах. Впрочем, впечатление определенно было обманчивым, потому что на самом деле возраст невысокого блондина с детским выражением лица приближался уже к тридцати годам.
— Я вот о чем подумал, — сказал он. — Пьеса будет и завтра, и послезавтра, и когда угодно. И вообще, неловко обижать людей, если они нас пригласили.
Амалия улыбнулась.
— Одним словом, ты выбрал хироманта, — поддразнила она своего друга. — Хорошо, будь по-твоему. — Баронесса повернулась к горничной: — Передайте посыльному, что мы с моим кузеном сердечно благодарим Павла Петровича и принимаем его приглашение.
Билли потупился. Ему очень нравилось, когда Амалия называла его кузеном, хотя они ни в коей мере не являлись родственниками. Впрочем, люди повсюду и так принимали их за брата и сестру, потому что молодой человек и блондинка заметно походили друг на друга. Только Амалия выглядела более утонченно и держалась как настоящая светская дама, а Билли явно пренебрегал светскими манерами. Они определенно получили воспитание в разных кругах, но если бы кто-нибудь осмелился при Амалии сказать что-либо дурное о ее «родственнике», ему бы не поздоровилось. О том, что бы произошло с человеком, который вздумал бы задеть Амалию, лучше вообще не говорить. Несмотря на два промаха из шести, стрелял Билли чертовски метко.
Глава 3 Первые гости
— Иван Андреевич, голубчик, как я рад вас видеть! Евдокия Сергеевна, дорогая! Счастлив приветствовать вас под сим скромным кровом! — И статский советник Верховский закружился колобком вокруг дорогих гостей, улыбаясь, кланяясь, пожимая руку начальнику, рыжеватому господину лет сорока, и уже через мгновение целуя руку его жене, высокой сухопарой даме с вечно недовольным, кислым лицом. — Аннушка, Митя, к нам пришли!
Анна Владимировна сияла, Павел Петрович сиял, гости расточали улыбки, и только Митенька Верховский, единственный сын статского советника, чувствовал себя не в своей тарелке. Новый костюм, который маменька озаботилась пошить у хорошего, однако же не слишком дорого берущего за свою работу портного, жал немилосердно, очки то и дело норовили съехать на кончик носа, а когда Митенька сделал попытку по примеру папеньки поцеловать сухую руку Лакуниной, и вовсе чуть не свалились с позором на пол.
Юноша распрямился, красный, как вареный рак, мысли его заметались. Зачем, ну зачем маменька затеяла этот никчемный вечер? И добро бы пригласили каких-нибудь умных, мыслительныхлюдей, с которыми и поговорить приятно, и есть что обсудить — к примеру, социальную справедливость или теорию немца Маркса. Так нет же! Изволь теперь выслушивать всякий вздор, который будет с умным видом изрекать усатый рыжий олух Иван Андреевич, или отвечать на любезности Евдокии Сергеевны, которая вечно цедит слова сквозь зубы, словно оказывает собеседнику невесть какую милость. Она и прежде была не слишком приятна в общении, а как ее почтенный супруг загремел в тайные советники,[67] так и вовсе сделалась невыносима. Как же они оба смешны, с их дутым высокомерием и вымученной сердечностью! Ни единого искреннего слова, все какие-то нелепости вроде:
— Ну, как поживаете, Митенька?
— Благодарю вас, Евдокия Сергеевна, — едва слышно отвечал юноша, — хорошо.
— Учитесь?
— Он собирается в университет поступать, — вмешался Павел Петрович, — в следующем году.
— О, хорошо. Просто замечательно, — покровительственно одобрил Иван Андреевич. — По какому отделению намерены учиться, молодой человек?
Митенька, чье терпение истощилось, хотел было весьма неучтиво брякнуть: «Ни по какому», но его опередил отец:
— По юридическому, я думаю. Впрочем, мы сначала посоветуемся с Константином Сергеевичем, он обещался быть у нас сегодня. Сами знаете, сегодня даже университетам нельзя доверять. Всюду сплошное свободомыслие и непочитание старших.
Митенька надулся. Евдокия Сергеевна посмотрела на него и отвела глаза. Совершенно непонятно, о чем думал ее супруг, Иван Андреевич, принимая приглашение ехать в гости, когда собственный дом до конца не устроен, — воля ваша, но это верх неразумия. А ведь она предлагала отказаться вежливо, мол, заняты, не сможем нанести визит, но Иван Андреевич настоял. Нехорошо-де обижать Павла Петровича, такой душевный человек, почти двадцать лет знакомы, можно сказать, дружим домами, а нынче дружба — ой какое редкое явление, и друзей ну никак нельзя терять. «Тоже мне, дружба!» — мысленно усмехнулась Евдокия Сергеевна. Просто Иван Андреевич помешан на охоте, а Павел Петрович, хитрец, давно прознал об его пристрастии и тоже охотником знатным прикидывается. Просто используют Ивана Андреевича, доброту его зная, все, кому не лень! Ничего, уж в столице она позаботится, чтобы вокруг него нахлебники не вертелись. Никаких бедных родственников и денег в долг, никаких «приехать и пожить маленько»! И протекций никому не давать! Вон и Анна Владимировна небось, когда ее Митенька в очередной раз провалится на вступительных экзаменах в университет, явится к ним просить о помощи… Евдокия Сергеевна неприязненно покосилась на юношу. Тощий, длинный, как ни причесывается, голова вечно лохматая, то и дело поправляет очки — недоросль, право слово, чистый недоросль, а ведь ему уже двадцать скоро. Только и делает, что книжки какие-то дурацкие читает, и физиономия предерзкая. (Митенька, кстати, в тот самый момент, с мученическим видом стоя неподалеку от нее, мечтал о том, как после постылого званого вечера удерет к себе читать очередной том Бокля.) Вырастила нигилиста Анна Владимировна, ничего не скажешь! Такой и бомбу кинуть может, и зарезать, с него станется.
Но тут супруге тайного советника пришлось отвлечься от дурных мыслей, потому что Павел Петрович повел дорогих гостей осматривать дом.
— Прошу, Евдокия Сергеевна, только после вас! Вот-с, здесь большая гостиная, не угодно ли. — Он гордо указал на рояль, на диваны, обитые неопределенного цвета материей, на столики, где стояли вазы с цветами.
Ай-ай-ай, подумала Евдокия Сергеевна, а на цветы-то денег пожалели, видно, что подвялые. Все Аннушка с ее экономией. Небось в «Ниццкой флоре» заказала за полцены розы, которые возвращают после гулянок из некоторых ресторанов. И мебель, прямо скажем, подкачала. Столики в одном стиле, диваны в другом, стулья в третьем.
Тайная советница поймала на себе взгляд Анны Владимировны, ищущий одобрения, и широко улыбнулась. Все ее плохое настроение как рукой сняло.
Павел Петрович повел гостей в столовую, в бильярдную, в курительную комнату. Гости хвалили, Анна Владимировна сияла, Митенька тосковал.
— Что у нас тут? — сам себя спросил Павел Петрович и сам же себе ответил: — Ах да, малая гостиная. — Они вошли в комнату, где стояла мебель под старину с множеством завитушек, а на стенах висели ружья и кинжалы в затейливых ножнах. — Мы ее обставили во французском духе, — пояснил Павел Петрович, глядя на гостей влажными, сияющими глазами.
«Обстановка во французском духе именуется «веселый дом», — помыслила про себя Евдокия Сергеевна кисло и стала обмахиваться веером. Но ее мужа французская комната заинтересовала чрезвычайно, особенно ружья на стенах. Павел Петрович, польщенный интересом начальника, показал ему все ружья и дал о каждом краткие сведения.
— Это охотничье ружьецо. Помните, прошлым летом мы с вами знатно на фазанов поохотились… — Он снял со стены очередное ружье. — Двустволка марсельская, фабрика «Лепелье и компания», — гордо объявил он. — Только позавчера приобрел по случаю…
Знаем мы твоего Лепелье, мелькнуло в голове у Евдокии Сергеевны. Небось тульский оружейник Чучелкин его делал, и никакой Марсель там и близко не валялся.
Однако Иван Андреевич ружье похвалил и, мало того что похвалил — в руках подержал, даже в окно прицелился. Свежеиспеченный тайный советник обожал огнестрельное оружие и все, что с ним связано. Если бы у него был сын, он бы первым делом научил его охотиться.
А сейчас он был просто рад, что ему предстоит провести хороший вечер в приятной компании Павла Петровича, его жены и остальных гостей. Молодец все-таки Павел Петрович! И человек он хороший, и в его обществе всегда душой отдохнешь. Нет в нем меркантильного современного духа, не выжига он, не честолюбец и не завистник. И охотиться вместе с ним всегда приятно, стреляет почти без промаха, и не надо опасаться, что ненароком угодит куда-нибудь не туда, в ногу егеря, к примеру, как иные недотепы. Нет, Павел Петрович — человек с понятием, не то что некоторые. И, пожалуй, хорошо, что он, Иван Андреевич, взял своего подчиненного с собой на новое место в Петербург. Конечно, он, Иван-то Андреевич, ему кое-чем обязан. Да что там кое-чем — многим, если говорить начистоту. Но это все в прошлом, и пусть оно там и останется, ни к чему об том сейчас думать.
Верховские повели дорогих гостей осматривать остальные комнаты, в которых, впрочем, уже не было ружей и вообще, с точки зрения Ивана Андреевича, не водилось ничего примечательного. Вскоре явилась Глаша и доложила, что пришел господин доктор де Молине. Евдокия Сергеевна, услышав имя приглашенного, поджала губы. Так и есть — Анна Владимировна и ее супруг не могли пригласить кого получше. Обязательно им надо было доктора тащить в гости, словно в доме больные!
Но Иван Андреевич был рад прибытию доктора. По отзывам знакомых, он уже знал, что Венедикт Людовикович один из лучших петербургских специалистов, а жизнь наша непредсказуема — болеют не то что тайные советники, но и сам государь император от хворей отнюдь не избавлен. Поэтому знакомство с хорошим доктором никогда не может повредить.
Время меж тем плавно катилось к половине восьмого. Явились братья Городецкие, адвокат и его брат, — оба высокие плечистые брюнеты, видные, представительные, холеные — и сразу же закрутилась карусель общего разговора. Владимир Сергеевич вспоминал службу в ведомстве и поздравлял Ивана Андреевича, а также хозяина дома с повышением по службе. Константин Сергеевич, не называя имен, но тонко на них намекая, рассказывал всякие занятные случаи из своей адвокатской практики, так что даже Евдокия Сергеевна поймала себя на том, что слушает его не без удовольствия. А Митенька сутулился в углу, не принимая участия в беседе, и про себя думал о том, какими же люди могут быть глупыми и пустыми.
— Натурально, представьте, выдал ей свидетельство по всей форме, что он на ней женится, — рокотал бархатный баритон адвоката. — И неустойку в нем обозначил, да такую, что и в сто лет не выплатить.
— А потом что? — с любопытством спрашивала Анна Владимировна.
— Но она ведь актриса! — с чувством отвечал адвокат. — Да-с, актриса… Ну, словом, вы и сами понимаете. Потом, как водится, проспался наш купец, а она ему бумагу — р-раз! — Константин Сергеевич даже зажмурился от удовольствия. — А у того родители староверы, строгие…
— Ха-ха-ха! — бисерно смеялся Павел Петрович, и глазки его лоснились от удовольствия, когда он представлял себе лицо молодого купца.
— Ну, само собой, помыкался он, помыкался, да и к Вольдемару, а Вольдемар его ко мне переправил, — говорил адвокат. — Плачет, кается, бумага, говорит, по всей форме сделана. Она ему диктовала, а он писал… И копию мне показал. Знала дама, что диктовала. На самом деле, конечно, бумагу грамотный адвокат составил, не подкопаться.
— А вы что же? — замирая от сладкого ужаса, спросила Анна Владимировна.
— Я Федю, то есть купца, вызвал к себе. Говорю, давай согласие на свадьбу. Он: как же так? Меня папенька выдерет так, что лежать не смогу, не то что сидеть. И я ему объяснил план дальнейшего. Словом, он дал согласие, а потом…
— Что же? — Павел Петрович аж на месте подпрыгивал от нетерпения.
Константин Сергеевич выдержал паузу и поглядел на брата.
— Адвокат-то тот был женатый, — объяснил Владимир Сергеевич.
— А! — Иван Андреевич ничего не понял, но на всякий случай сделал вид, что понял.
— Мы его и уличили, — добавил Владимир Сергеевич.
— С актрисой? — вытаращил глаза хозяин дома.
— Конечно. У него жена богатая, так мы ему на выбор и предложили: или его жена обо всем узнает, или он сделает так, чтобы той бумаги больше не было. А если он даже предпочтет разводиться, то наше дело сторона. Мы актрису в суд вызовем и докажем, что прелюбодеяние невесты перед свадьбой — вполне достаточная причина, чтобы никакой свадьбы не было. А свидетели у нас имелись надежные.
— И что же? — снисходительно уронила Евдокия Сергеевна.
— Бумагу он, конечно, нам принес. Так вот мы и спасли купеческого сына от брака с актрисой, — объяснил Константин Сергеевич.
— Ах, какой вы! — покачала головой тайная советница, обмахиваясь веером.
Доктор-француз, куривший на диване, хрустнул пальцами.
— А потом она попыталась отравиться, — неожиданно сказал он.
— Что, простите? — удивленно обернулся к нему Владимир Сергеевич.
— Та дама, о которой вы говорили, — сухо произнес Венедикт Людовикович. По-русски он говорил почти без акцента, что было неудивительно, учитывая, что доктор провел в России не меньше десятка лет. — Купеческий сын ее оставил, адвокат тоже, а денег у нее не было. Мне пришлось ее спасать, и хорошо, что удалось.
— Вздор! — отозвался адвокат. — Никогда не поверю, чтобы она всерьез пыталась свести счеты с жизнью. Скорее всего, просто хотела разжалобить… э… своего воздыхателя.
— Или обоих, — подал голос Иван Андреевич.
Доктор угрюмо посмотрел на него и хотел сказать что-то резкое, но сдержался.
«Какой неприятный тип, — подумала Евдокия Сергеевна. — И на француза-то непохож. Те обычно любезные, а этот угрюмый, как памятник. Никогда не буду приглашать его к нам!»
Впрочем, она скоро забыла о неприятном докторе, потому что явились новые гости. Ими оказались скандальная графиня Толстая и красивый молодой человек, представившийся как Никита Преображенский, композитор. Евдокия Сергеевна, которая в Петербурге уже успела наслышаться про похождения графини, с острым любопытством всматривалась в новоприбывших. От нее не ускользнули ни преувеличенные комплименты, которыми встретили гостью братья Городецкие, ни искренняя любезность хозяина дома Павла Петровича. Интересно, подумала мадам, он действительно так наивен или просто глуп, как пробка? Относительно его жены Евдокия Сергеевна уже давно решила, что та откровенно глупа.
На вид графине Толстой около тридцати лет. В свете она слыла роковой красавицей, и, судя по всему, не зря. У нее было тонкое надменное лицо, маленькие ноздри и ослепительно белые плечи. В каштановых взбитых кудрях сверкала маленькая бриллиантовая диадема. Евдокия Сергеевна знала, что в юности графиню выдали за человека, который по возрасту годился ей не то что в отцы, но даже в деды. Юная супруга очень быстро его возненавидела, следствием чего стало то, что она стала вести самый предосудительный образ жизни. Как говорили, жена сделала все, чтобы свести мужа в могилу, но до самой своей смерти старик не давал строптивице развода. Овдовев, графиня не изменила своим привычкам, да, возможно, уже и не могла, потому что хорошее общество давно закрыло перед ней двери. У нее было несколько громких — и не очень — романов с людьми искусства, и то, что ее спутник оказался композитором, никого не удивило. Удивить могло разве то обстоятельство, что никто никогда не слышал его музыкальных произведений и не знал о них, что, однако, не помешало Павлу Петровичу принять нового гостя с обычным радушием.
Если не считать отсутствия собственных произведений, Преображенский был безупречен почти со всех точек зрения. Правда, некоторые сочли, что красивый сероглазый брюнет куда уместнее смотрелся бы с дамой постарше, — по крайней мере, тогда бы ни у кого точно не возникало никаких вопросов о роде его занятий. Внешне, впрочем, все оставались вежливы и корректны, и только холодок в сочном баритоне Константина Городецкого показывал, что какой-то Преображенский — это вам не графиня Толстая, и с ним вовсе незачем соблюдать политес. Однако вскоре явился новый гость, и все внимание присутствующих переключилось на него.
Глава 4 Встреча старых врагов
— Маэстро Беренделли! Какая честь! Quel honneur! Мы вас так ждали! Прошу сюда… C’est notre fils, il s’appelle Dimitri, я о нем вам говорила. Il est heureux de vous voir.[68]
— Бонжур, — бормотал диковатый, лохматый недоросль Митенька, и его ладонь утонула в могучей лапе гостя.
Да, да, маэстро Беренделли, знаменитый хиромант, мало походил на своих, так сказать, коллег по профессии — гадателей, предсказателей и шарлатанов всех мастей, которые в изобилии водятся во все эпохи и особенно размножаются во времена вселенских кризисов. Сии господа обыкновенно учтивы, незаметны, тщательно подбирают слова и к тому же отличаются довольно субтильным телосложением — надо полагать, потому, что с таким телосложением легче удирать от людей, если те сочтут, что их обманывают, и потребуют свои деньги назад. Однако Беренделли явно выделялся среди них. Прежде всего, он был крупный, могучий, дородный, и когда он входил в комнату, сразу же как-то начинало казаться, что в ней не очень много места. Затем, он обладал чисто итальянской живостью и говорил куда более громким голосом, чем принято в обществе, считающем себя хорошим. Волосы у Беренделли были угольно-черные, как и глаза, на груди лежала окладистая борода. Он явился в черном фраке, словно шел на очередное свое представление; на манжетах сверкали бриллиантовые запонки, на указательном пальце красовался крупный перстень с какими-то сложными письменами. Речь его составляла забавную смесь французского и итальянского языков, однако изредка он ухитрялся вставлять даже русские слова, которые выучил уже здесь, в Петербурге.
— Ah! Signora, grazie! Monsieur! Madame, bella, belissima![69] — И он кланялся, пожимал руки и улыбался, сверкая белоснежными зубами.
«Какой-то дикарь, честное слово», — неприязненно подумал про себя Митенька. Не понравилось ему и то, что хиромант, пожав его руку, повернул ее затем ладонью вверх и всмотрелся в нее, после чего рассмеялся, тряхнул головой и повернулся к остальным гостям.
— Что вы там увидели, маэстро? — спросил Павел Петрович, горя любопытством.
Однако Беренделли замахал руками и сказал, что он, конечно же, будет делать предсказания всем, кто захочет, но не сейчас, а немного позже. Он рад повидать своих старых знакомых и, разумеется, сделает все, чтобы они были счастливы.
— Как здоровье вашей дочери? — вежливо спросила Анна Владимировна. — Надеюсь, ей лучше?
На чело хироманта набежало облачко, и он сказал, что Антуанетта не вполне здорова, и он очень за нее беспокоится. Но он надеется, что все будет хорошо.
— Жаль, что ее здесь нет, — заметил Владимир Сергеевич своему брату-адвокату. — Ведь доктор у нас уже имеется. — И он глазами указал на сердитого, обсыпанного пеплом де Молине.
Из-за прибытия хироманта появление двух других гостей оказалось почти незамеченным, и так как Анна Владимировна и Павел Петрович были заняты итальянцем, пришлось Митеньке вспомнить о своих обязанностях хозяина дома. Краснея, он поцеловал руку хорошенькой кудрявой белокурой девушке, которая оказалась его кузиной Варенькой. Девушка улыбнулась ему, и Митя смешался окончательно.
— О! Какой вы большой! Совсем выросли! — полушутя-полусерьезно проговорила гостья. Глаза ее сверкали ярко-ярко — ярче бриллиантов в диадеме графини с надменным лицом, которая Мите сразу же инстинктивно не понравилась. — А это Александр, познакомьтесь, пожалуйста! Александр, это Митя, мой кузен!
Если графиня Толстая была Мите просто неприятна, то жениха оживленной Вареньки он невзлюбил с первого взгляда и окончательно. Во-первых, Александр оказался старше своей невесты — ему наверняка лет двадцать семь, но может быть, и больше. Во-вторых, он был офицер, а Митя в глубине души полагал, что все военные — грубые, бессердечные животные, и вообще армия предназначена служить исключительно для угнетения народа. В-третьих… Но что вообще хорошего можно сказать о человеке, у которого такое холодное, замкнутое лицо, и манеры которого вас просто леденят? Конечно, будь на месте Митеньки какая-нибудь дама с богатой фантазией, она бы первым делом отметила, что жених Вареньки очень хорош собой, но юноша не обращал внимания на такие мелочи. Зато он сразу же отметил, что офицер не подал ему руки, а когда наконец подошли его родители, окинул их таким взглядом, словно заведомо не ожидал от них ничего хорошего. Впрочем, ни Анна Владимировна, ни Павел Петрович ничего не заметили.
— Варенька! — воскликнула Анна Владимировна с чувством и распахнула объятья племяннице. — Ну надо же! Сколько же я тебя не видела, моя дорогая! Павлуша, ты посмотри, какая она стала красавица!
Офицер стоял, отряхивая перчатки, и на лице его было написано высокомерное, почти брезгливое равнодушие ко всем этим мещанским церемониям, за что Митя возненавидел его еще больше. Вареньку расцеловали, обняли и снова расцеловали. Анна Владимировна сочла своим долгом восхититься ее бледно-розовым платьем. Митя надулся и подумал про себя, что платье — вздор, зато Варенька — просто прелесть. Павел Петрович пожал руку офицеру и представился. Тот в ответ сквозь зубы, ничуть не хуже Евдокии Сергеевны, назвал свое имя. Митя расслышал только «Александр Михайлович» и «при дворе», и ему не понравилось, что отец, услышав последние слова, как-то очень внимательно посмотрел в лицо офицеру и сделался с ним до отвращения вежлив. Гордость Митеньки, считавшего себя выше сословных условностей, была не на шутку уязвлена.
— А правда, что у вас будет итальянский хиромант? — шепотом спросила Варенька, сгорая от любопытства.
— Уже приехал, — буркнул Митя.
Офицер поглядел на него насмешливо, и Митя почувствовал, как его руки сами собой сжались в кулаки. Вот ведь странно — он-то всегда считал себя более чем мирным человеком и даже в детстве никогда ни с кем не дрался (ему куда больше нравилось читать книжки).
Верховские поспешили к гостям, прибывшим ранее, а офицер подал руку Вареньке и двинулся вслед за ними. Митя, сердито сопя носом, замыкал шествие.
— Как вы думаете, он и вправду это делает? — спросила Варенька.
— Кто? Что делает? — осведомился ее жених.
— Хиромант. Как, по-вашему, Александр, он и впрямь может предсказывать будущее?
— Если вам угодно верить… — Офицер пожал плечами.
— А вы не верите?
— Нет.
Грубиян, подумал Митя. И нахал. Можно подумать, сам он может разбираться в таких тонких материях, как судьба. Наверняка ничего не смыслит в жизни дальше хвоста лошади, на которой ездит на парады. Митя почувствовал, как очки вновь съехали на кончик носа, и поправил их, и в то мгновение внизу вновь зазвенел звонок. Павел Петрович обернулся.
— Митя, там еще приехали… Встреть их и проведи в большую гостиную, хорошо?
Митя взглянул на часы на стене и стал спускаться. Однако в столице совсем не принято быть пунктуальными, подумал он. Но тут он увидел вновь прибывших гостей, и всякие мрачные мысли разом исчезли из его головы.
Положим, первый гость не представлял из себя совершенно ничего особенного — какой-то молодой человек чахоточного сложения с мальчишеским лицом. Зато гостья — блондинка с карими глазами и упрямыми уголками четко очерченного рта — совершенно очаровала Митю. Настоящая дама! На ней было шелковое шуршащее платье цвета изумруда, на шее красовалась черная бархотка со сверкающей подвеской, а от ее руки, когда она подала ее Мите, пахло иланг-илангом. Митя почтительно поцеловал ее теплое запястье и, не удержавшись, чихнул. Очки опять попытались предательски соскочить с его носа на пол, но он поймал их на лету и водрузил обратно. Дама улыбнулась, и в ее глазах заплясали золотистые искорки. Тут-то, очевидно, бедный Митя и пропал окончательно.
— Я баронесса Амалия Корф, — сказала гостья, — а это мой кузен Уильям. А вы…
— Дмитрий Павлович Верховский, — заторопился Митя, обретая дар речи. Но на большее его не хватило, и он так и остался стоять, пожирая глазами вновь прибывшую.
— А я вас помню, — заметила дама и опять улыбнулась. — Госпожа Верховская показывала мне вашу карточку.
Митя вспомнил, как он выглядел на карточке, и порозовел. Он ненавидел фотографироваться. Предательская камера словно задавалась целью сделать его еще более смешным и неуклюжим, чем он был в жизни. Он поймал взгляд кузена, как ему показалось, неуместно сочувствующий, и сделался пунцовым.
Сюртук кузена Уильяма слева под мышкой немного оттопыривался, и Амалия, заметив сейчас это, слегка нахмурилась.
— Билли! — шепнула она.
— Что? — спросил кузен, изобразив на лице самое искреннее изумление.
— Зачем ты захватил его с собой? — уже сердито спросила Амалия.
— Пригодится, — уклончиво ответил Билли.
— Должна тебе заметить, что у нас не принято ходить с оружием на званые вечера!
— Ну мало ли что может сегодня случиться, — возразил Билли, безмятежно глядя на нее. — Вдруг мне не понравится, что мне предскажет ручной гадатель, к примеру. Тогда мне будет проще заставить его изменить свое мнение.
У Амалии так и чесались руки дать ему подзатыльник, но героическим усилием воли она все же сдержала себя и мило улыбнулась лохматому недорослю.
— Прошу вас, сюда, — сказал недоросль. — Остальные гости уже приехали.
И он прикусил язык, сообразив, что сморозил чудовищную бестактность. Получалось, будто он упрекает баронессу в том, что она со своим родственником прибыла последней. Но Амалия, казалось, ничего не заметила.
— Ваша семья давно перебралась в Петербург? — спросила она, когда все трое поднимались по лестнице.
— Нет, — ответил Митя. — Отца перевели сюда по службе, вот мы и переехали. — Он с любопытством покосился на Билли, который чинно шагал возле Амалии. — А ваш кузен — англичанин?
— Американец, — уточнила баронесса Корф. — Из Североамериканских Объединенных Штатов.
— А, — протянул Митя.
По правде говоря, он впервые в жизни видел американца. В книгах, которые он читал о данной части света, были сплошные прерии, мустанги и индейцы, которых с риском для жизни героически искореняли храбрые переселенцы. Однако Билли не походил ни на индейца, ни на переселенца, ни тем более на мустанга. Самый обыкновенный молодой человек совершенно европейского вида, подумалось Мите. К его жилету были прикреплены золотые часы на массивной цепочке, на которые он то и дело любовно поглядывал, а корректнейший галстук был повязан так, что поверг бы в смятение даже известного денди принца Уэльского.
Они вошли в гостиную, где вокруг хироманта собрались все гости, чьим вниманием, похоже, он прочно овладел. Только Венедикт Людовикович и офицер не поддались общему настроению. Высокий худой доктор хмуро курил в углу, то и дело поглядывая на часы на камине, а офицер с бокалом шампанского в руке расположился в кресле в нескольких шагах от своей невесты, которая слушала Беренделли, затаив дыхание.
— Я знаю, что многие мне не верят, — закончил тот свою речь, — но вся наша жизнь написана на ладони, и надо только уметь читать знаки, которые нам подсказывает судьба.
— И что же судьба сказала вам относительно моего сына? — спросила Анна Владимировна с любопытством.
— О, его ждет вполне замечательное будущее, — важно отвечал Беренделли. — И оно будет связано с землей.
— Вот уж вряд ли, — вмешался Павел Петрович. — Дмитрий решил, что будет учиться совершенно в другой области.
— О, месье, — хиромант погрозил ему пальцем с перстнем. — Важно не то, что решаем мы. Важно то, что судьба уже решила за нас.
— Браво! — воскликнула графиня Толстая и захлопала в ладоши.
Амалия поглядела на нее и поморщилась. Она не любила такой тип женщин и не скрывала своего отношения к ним.
Заметив, что Митенька привел новых гостей, Анна Владимировна устремилась к ним.
— Добрый вечер, госпожа баронесса! Прошу вас, располагайтесь… Это ваш кузен? Ну да, конечно, я помню. Павел Петрович, баронесса Корф пришла!
Офицер, сидевший в кресле, поднял голову. В то же мгновение Амалия увидела его, и их взгляды скрестились, как хорошо отточенные клинки.
Внезапно бокал в руке офицера треснул и разлетелся на куски. Варенька тихо ахнула, а доктор застыл на месте с озадаченным видом. Не обращая внимания на кровь, которая текла по его пальцам, офицер медленно поднялся, и во внезапном озарении Митя понял, что сейчас, вот именно сейчас произойдет что-то ужасное, что-то непоправимое…
— Александр! — Варенька уже была возле своего жениха. — В чем дело? Вы поранились!
Но офицер не смотрел на нее. Он смотрел лишь на Амалию, и взгляд его можно было назвать каким угодно, только не дружелюбным.
— Добрый вечер, господин барон, — очень вежливо промолвила баронесса Корф. — Давно не встречались, не так ли? Кстати, кто это с вами, Александр Михайлович?
Глава 5 Суббота, девятый час вечера
«Опростоволосилась, да еще как!» Сердце Евдокии Сергеевны пело. Нет, она всегда подозревала, что ее старая подруга — недалекая особа, но чтобы вот так проштрафиться…
— Ах, какой пассаж! Какой пассаж!
Иван Андреевич недовольно поглядел на супругу. Он редко видел ее такой оживленной, и оживленность ее ему не нравилась.
— Право, ma ch?re,[70] — забурчал он, — иногда я тебя не понимаю, честное слово. Вы, женщины…
— А тут и понимать нечего, — перебила его Евдокия Сергеевна. — Как угодно, но это просто… Просто невозможно! Да и неприлично, наконец!
— Что именно? — уже в изнеможении спросил тайный советник.
— Будто ты не понимаешь, Иван Андреевич! — Евдокия Сергеевна на всякий случай оглянулась — не подслушивает ли их кто. Но подслушивать было решительно некому, да и незачем, ибо все уже и так обо всем догадались. — Варенька, ее племянница, ведь с женихом пришла, а жених — барон Корф. Анна же Владимировна пригласила на вечер еще и баронессу Корф! Теперь ты понял?
— Постой, — оторопел советник, — так она что, его жена?
— Бывшая, — значительным шепотом ответила Евдокия Сергеевна. — Бывшая, ты понимаешь, Иван Андреевич? — Веер затрепыхался в ее руке вдвое энергичнее прежнего. — Quel scandal![71]
Иван Андреевич оглянулся на баронессу, вытер платком лоб и подумал, что он и сам не отказался бы оказаться мужем баронессы Корф, хотя и бывшим. Впрочем, Иван Андреевич был женат достаточно долго, чтобы знать, какие мысли надо держать при себе. Он только поглядел на длинную жеваную шею своей жены и тихо вздохнул.
Вокруг раненого офицера меж тем хлопотали Анна Владимировна и Варенька. Доктор Венедикт Людовикович быстро и аккуратно перевязал ему руку, а Глаша убрала осколки стекла.
— Однако и сила у вас, — буркнул доктор, когда все необходимые процедуры были закончены. — Голой рукой раздавить бокал… — Он покачал головой.
— Я знал одну певицу, которая делала то же самое, но лишь силой своего голоса, — вмешался композитор.
Барон Корф покосился на него брезгливо, как на неизвестное науке, но чрезвычайно противное насекомое, и пошевелил пальцами раненой руки. Графиня Толстая, которую происходящее чрезвычайно забавляло, улыбнулась. Хотя мало что знала о баронессе Корф и лично с ней никогда не встречалась, она была рада, что та, по-видимому, попала в неловкое положение. Что может быть смешнее, чем явиться в гости с любовником и застать там собственного мужа с его невестой? Возможность того, что спутник баронессы вовсе не являлся ее сердечным другом, даже не приходила графине в голову.
— Вам лучше? — тревожно спросила Варенька у своего жениха.
Не отвечая, барон поднялся на ноги, но стоило ему сделать столь простое движение, как Амалия, хотя между ними находились рояль и несколько стульев, тотчас же отступила на шаг назад. Она и сама не заметила, как возле нее мгновенно возник Билли. Обостренным чутьем молодой человек сразу же уловил царившую в атмосфере напряженность, и сказать, что она не пришлась ему по душе, значит не сказать ничего.
— Это он? — спросил Билли одними губами. — Твой муж?
Амалия с треском раскрыла веер и стала им обмахиваться. У нее было недюжинное чувство юмора, редкое для женщины, и ситуация мало-помалу стала казаться ей комичной.
— Мы разведены, — коротко обронила она.
Настолько коротко, что Билли понял: дальше расспрашивать бесполезно. Однако он был слишком предан Амалии, чтобы принять существующую ситуацию как есть. Приятный — ну хорошо, ни к чему не обязывающий вечер на глазах превращался в удовольствие весьма сомнительного толка, и Билли решил: пора что-то предпринять. Он тяжко вздохнул и с мученическим видом потер висок.
— В чем дело? — спросила Амалия, когда он повторил сей маневр два или три раза.
— У меня голова болит ужасно, прямо раскалывается, — пожаловался Билли, глядя на нее честнейшими карими глазами. — Может быть, вернемся в гостиницу?
Амалия улыбнулась, и, заметив эту улыбку, обращенную к другому, статный светловолосый офицер с перевязанной рукой сделался еще мрачнее.
— А как же хиромант? — поинтересовалась баронесса. — Ты ведь хотел спросить у него, что тебя ждет?
— Ничего меня не ждет, — упрямо объявил Билли, только что заделавшийся отчаянным скептиком. — Мы уйдем отсюда, только и всего. Может, даже успеем в театр ко второму акту. — Он перехватил иронический взгляд Амалии и надулся. — И вообще, у меня так голова болит, врагу не пожелаешь!
— Нет, — всего-то и произнесла его собеседница, отчего Билли тут же сдался.
— Ну хорошо, совсем не болит. Только какого черта мы тут забыли?
— Я не уйду, — отрезала Амалия. — Иначе он будет думать, что я его боюсь. Так что мы остаемся. — И она мило улыбнулась добрейшему Павлу Петровичу, который от смущения не находил себе места.
Но тут Анна Владимировна, улучив минутку, пригласила дорогих гостей к столу. Муж подошел к ней. Он чувствовал себя виноватым — ведь именно ему пришла в голову мысль пригласить на вечер баронессу.
— Аннушка, — прошептал он, — ты разве не знала, что Варенькин жених — господин Корф?
Анна Владимировна горько покачала головой.
— Твоя сестра мне ничего не сказала. Все твердила: жених да жених. Мол, офицер, выгодная партия, а имя даже не назвала. Но тебе-то она наверняка сказала! Как же ты не мог сообразить такую простую вещь?
Павел Петрович тяжело вздохнул и признался:
— Она, кажется, упоминала его имя, да я забыл. Ох, грехи наши тяжкие!
Глаза Анны Владимировны увлажнились. Ах, как бедный Павлуша переживает!
— Ничего, — ободряюще сказала она, — бог милостив. Проследи только, чтобы рядом их не посадить.
Тут выяснилось, что, по замыслу самой Анны Владимировны, жених Вареньки и госпожа баронесса как раз и должны были оказаться на соседних местах. Павел Петрович в отчаянии схватился за голову, но на помощь отцу очень своевременно пришел Митенька, высказавший весьма практичное предложение — он сам сядет рядом с баронессой, а господин барон займет его место. По другую руку от разведенной жены окажется ее родственник из индейских прерий, так что все приличия будут совершенно соблюдены.
— Ах, Митенька, какой ты молодец! — расчувствовалась Анна Владимировна и обняла сына.
По правде говоря, Митенька был готов и не на такое, чтобы спасти красавицу Амалию от мужа — наверняка тирана, деспота и самодура, каких свет не видел, но похвала была ему приятна. Он приосанился и поправил очки, а Павел Петрович бросился к доктору, который взглянул на часы и быстрым шагом направился к выходу. Судя по всему, француз собирался произвести маневр, в просторечье известный как «сделать ноги». Выражаясь более высоким штилем, он явно собирался улизнуть.
— Венедикт Людовикович! — Павел Петрович догнал де Молине уже на лестнице. — Куда же вы? Мы так на вас рассчитывали!
Доктор, явно сконфуженный, забормотал что-то о пациентах и профессиональных обязанностях, которые вынуждают его… Но от Павла Петровича не так-то легко было отделаться. Он ласково, однако же весьма твердо взял француза под локоть и, невзирая на его протесты, увлек обратно в гостиную.
— Венедикт Людовикович, я просто вам поражаюсь! Вы же сами понимаете, какой вы незаменимый человек… — Павел Петрович оглянулся на жену и позволил себе даже довольно рискованную шутку. — Вдруг барон Корф еще что-нибудь у нас разобьет? Тогда ведь нам будет не к кому обратиться за помощью… — Де Молине вновь замотал головой, но Павла Петровича было не остановить. — Хорошо, мой дорогой, хорошо! Я посажу вас рядом с нашим итальянским гостем.
— О, нет, зачем же, прошу вас! — запротестовал доктор. Но Павел Петрович не желал ничего слушать. Он пожурил доктора за бегство, подвел его к жене и спросил, нельзя ли посадить де Молине рядом с хиромантом. Однако Анна Владимировна заявила, что это невозможно, места возле итальянца уже заняты ею самой на правах хозяйки дома и графиней Толстой.
— Мы посадим вас рядом с Митенькой, — объявила она, улыбаясь своей блеклой, невыразительной улыбкой. — И баронессой Корф.
Судя по всему, доктор был вовсе не против подобного соседства, так что на том и порешили.
— Александр, — тревожно шепнула Варенька своему спутнику, когда они шли в столовую, — может быть, нам лучше уйти? Я же вижу, вам неприятно находиться… рядом с ней.
Это было явно лишнее: барон Корф терпеть не мог, когда кто-то видел его слабость. Он метнул взгляд на Амалию, которая держалась непринужденно, словно ничего и не произошло, и отвернулся.
— Уверяю вас, вы ошибаетесь, — холодно произнес офицер. — Между мной и госпожой баронессой все давно кончено.
Варенька поглядела на него тревожно. От отца, генерала Мезенцева, который многое знал о жизни двора, она слышала, что первая жена барона оказалась вертихвосткой и авантюристкой, каких поискать, и что бедный барон изрядно с ней намучился, пока развод (на который он, к слову, до последнего не соглашался) не положил конец его мучениям. Но Амалия не походила ни на авантюристку, ни на легкомысленную особу вроде графини Толстой, которую не принимают в приличном обществе. Она вообще ни на кого не походила. У нее было умное лицо, и держалась она как настоящая светская дама. Нет, Варенька была бы только рада, если бы первая баронесса Корф оказалась исчадием ада, но, если посмотреть правде в глаза, та вовсе не производила такого впечатления.
Однако если баронесса Корф и в самом деле ничем не провинилась перед своим мужем, то чем же тогда объяснить реакцию Александра при ее появлении? Варенька знала своего жениха (то есть думала, что знала). Он самый сдержанный, самый хладнокровный человек на свете, и надо было основательно потрудиться для того, чтобы заставить его голой рукой так сдавить хрустальный бокал, словно тот обыкновенная бумажка.
«Как он, должно быть, из-за нее страдал! — думала сердобольная Варенька. — Нет, наверное, жена все-таки чересчур была с ним жестока. А то, что с виду баронесса такой не кажется… Вот, к примеру, Китти Барятинская тоже в институте слыла паинькой, а на самом деле… На самом деле ужасно гадкой девушкой оказалась».
Графиня Толстая поглядела на Амалию, которая шла к столу в сопровождении своего кузена, перевела взгляд на мрачное лицо барона и глупышку-невесту рядом с ним и ласково улыбнулась Никите Преображенскому.
— Кажется, никто из них не догадается уйти, — сказала она. — Интересный вечер нам предстоит! По правде говоря, я обожаю скандалы, особенно семейные.
— Элен, умоляю тебя, — довольно кисло пробормотал молодой композитор.
— Разумеется, когда они происходят в чужих семьях, — продолжала графиня, безмятежно улыбаясь. — Скандалы в собственной семье всегда скучны, грубы и несносны…
Неподалеку от них Анна Владимировна успокаивала знаменитого хироманта, который во что бы то ни стало хотел знать, что происходит и почему тот officier[72] так разволновался при появлении дамы в изумрудном платье.
— Нет-нет, месье! — лепетала хозяйка дома. — Уверяю вас, вы ошиблись!
Беренделли шутливо погрозил ей пальцем и важно заявил:
— У судьбы от меня нет секретов. Я все равно прочту все по их ладоням, понимаете?
На самом деле, конечно, ему не требовалось даже смотреть на ладони, чтобы понять смысл происходящего. Он был почти уверен, что красавица с бархоткой на шее предпочтет покинуть дом Верховских под благовидным предлогом, но: но она уже садилась за стол между своим спутником — судя по сходству лиц, близким родственником — и сыном хозяев. Беренделли нравились храбрые женщины, и он посмотрел на Амалию с невольным уважением.
«И какого черта он на нее пялится?» — подумал, бросив взгляд на итальянца, бледный от бешенства барон Корф.
Билли же с задумчивым видом смотрел на вилки и ножи возле своего прибора. С другой стороны от Амалии Митенька Верховский на правах почти хозяина решил, что настала пора развлечь гостью разговором.
— Вы давно изволили прибыть в Петербург? — спросил он.
— Совсем недавно, — ответила баронесса.
— Кажется, вы остановились в гостинице?
Но тут в их беседу самым неучтивым образом вмешался барон Корф.
— Какая еще гостиница? — зло обронил он. — А что такое случилось с вашим особняком на Английской набережной?
— Я распорядилась переделать в нем второй этаж, — очень спокойно ответила Амалия. Но в ее глазах полыхнули уже не искры, а такие языки пламени, что даже Билли, которого они ни в коей мере не касались, малость поежился.
Иван Андреевич метнул на говорившую быстрый взгляд. На Английской набережной? Стало быть, странная молодая женщина принадлежит к высшей знати, иначе бы ей просто не удалось там поселиться.
— А как поживает ваш почтенный дядюшка? — осведомился у бывшей жены барон Корф. — Надеюсь, он в добром здравии?
— О, в прекрасном, — небрежно отвечала баронесса.
— И по-прежнему проигрывает в карты тысячи рублей? — В голосе барона сквозила неприкрытая ирония.
— Десятки тысяч, — вздохнула молодая женщина. — Еще каких-нибудь лет тридцать, и он окончательно меня разорит. — Судя по ее тону, в смысле иронии она могла дать своему бывшему мужу сто очков вперед.
Митя сделал героическое усилие вклиниться в словесную перепалку супругов.
— Вам нравится Петербург? — спросил он у Амалии.
— Вполне, — честно ответила она.
— А я собираюсь скоро поступать в университет, — отважно солгал Митенька, сам удивившись, как ему удалось не покраснеть.
— О, — протянула Амалия. — И кем же вы собираетесь быть?
— Юристом, — объявил Митенька, застенчиво глядя на нее. — Скорее всего, адвокатом, хотя я еще не уверен.
— Будете защищать преступников? — Амалия послала Билли ласковый взгляд. — Боюсь, это мне не интересно.
— Почему? — пролепетал Митенька, совершенно сбитый с толку таким неожиданным поворотом.
— Потому что куда интереснее их ловить, — отозвалась его загадочная соседка.
Но тут Павел Петрович решил, что пора произнести первый тост, и поднялся с места. Глаза всех присутствующих обратились на него.
Глава 6 Муж и жена
— И мы счастливы приветствовать под нашим кровом знаменитого маэстро Беренделли, который среди своих, вне всякого сомнения, примечательных трудов, которые служат человечеству, выкроил минутку для того, чтобы… чтобы… — Оратор запутался в сложном предложении, как рыба в сетях, затрепыхался, глотнул воздуху и коротко завершил маловразумительную речь: — Словом, да здравствует маэстро!
Он улыбнулся жене, улыбнулся гостям, сел и стал вытирать платком лоб.
— Как ты думаешь, — громким шепотом осведомилась Евдокия Сергеевна у мужа, — он и впрямь ее брат?
— Кто? — недовольно спросил Иван Андреевич.
— Американец! — Евдокия Сергеевна сделала страшные глаза.
Иван Андреевич шевельнул рыжими усами, покосился на баронессу Корф, которая вполголоса переговаривалась о чем-то со своим хрупким кузеном. Но почти сразу же он встретил ледяной взгляд сидевшего неподалеку барона Корфа и отчаянно закашлялся.
Тайный советник и его супруга даже не подозревали, что в то же время и братья Городецкие обсуждали даму в изумрудном платье.
— Ты знаешь, кто она такая? — спросил Владимир у адвоката.
— В свете я ее не встречал, — пожал тот плечами.
— Может быть, она живет за границей? Да и брат ее…
— Ей кто угодно, только не брат, — сквозь зубы закончил фразу Константин Сергеевич.
— Почему? Они ведь похожи…
— Именно потому, что похожи, — безапелляционным тоном отрезал адвокат.
— Ты что-нибудь вообще о ней знаешь?
— С чего бы это?
— С того, что она разводилась и наверняка со скандалом делила имущество. Ведь вы, адвокаты, обычно в курсе дел друг друга.
Константин Сергеевич снова пожал плечами.
— Ты, наверное, удивишься, но о ее разводе мне ровным счетом ничего не известно.
— Правда? Занятно! — И Владимир Сергеевич откинулся на спинку стула. Он был заинтригован не на шутку. Странная баронесса Корф против воли начала его занимать.
За первым тостом последовали второй, третий — за хозяйку, за хозяина, за присутствующих дам и процветание хиромантии. Итальянец тоже не остался в долгу и особо отметил красоту русских женщин. Правда, первой в списке красавиц он почему-то назвал хозяйку дома, но, надо полагать, то был чистый жест вежливости.
— Маэстро Беренделли, — спросила графиня Толстая, которую уже успели утомить славословия, — вы мне погадаете?
Беренделли поклонился, поцеловал графине руку и с любопытством всмотрелся в линии ладони.
— Непременно! — объявил он.
— И мне! И мне! — воскликнула Евдокия Сергеевна.
— Пожалуй, я был бы тоже не прочь узнать свое будущее, — с расстановкой заметил адвокат. — Сейчас мы как раз ведем процесс такого рода, что нам не помешало бы знать, чем он закончится.
— А вы, доктор? — спросила хозяйка у де Молине, который мрачно посмотрел на нее. — Вы не хотите знать свое будущее?
— Зачем? — довольно резко ответил тот. — Все проживают более или менее одинаковую жизнь, и все в конце концов умирают. К чему знать больше?
Стол неодобрительно загудел.
— Ах, какой вы циник! — проворковала графиня Толстая и сделала неприятному доктору глазки.
Венедикт Людовикович с раздражением отвернулся. Что-то было в женщине такое, что всерьез раздражало его, хотя он старался относиться ко всем людям ровно и беспристрастно.
— Право же, глупо не узнать, когда есть возможность узнать, — заметил композитор.
— Что до меня, то я бы очень хотела приоткрыть завесу над своим будущим, — промолвила Варенька и покраснела. — А вы, Александр?
— Я? — грубовато отозвался барон. — О нет, увольте!
— Почему? — Варенька смотрела на него широко распахнутыми глазами.
— Потому что все это вздор, — отрезал Александр.
— А вы верите в гадания? — с волнением обратился Митя к своей очаровательной соседке.
Амалия не успела ответить, потому что вмешался Павел Петрович:
— Дамы и господа, обещаю вам, маэстро Беренделли после ужина погадает каждому желающему! И я желаю всем, чтобы их чаяния сбылись!
Графиня Толстая улыбнулась.
— Интересно, она красит волосы? — задумчиво пробормотала она.
— Кто? — спросил Никита.
— Баронесса.
На взгляд Преображенского, такого просто не могло быть, но по тону прекрасной Элен он понял, что та не ждет ничего, кроме утвердительного ответа. А потому ответил уклончиво:
— Кто вас, женщин, разберет!
Доктор катал по столу хлебные шарики. Павел Петрович предложил очередной тост.
— Хм, а на хорошее вино они денег пожалели, — заметил тихонько Владимир Сергеевич, опустошая бокал.
— Чего еще ты от них ждал? Провинция, — фыркнул адвокат.
Напротив них Евдокия Сергеевна методично пилила мужа, чтобы тот не пил слишком много, иначе она не ручается за последствия. Судя по выражению лица добрейшего Ивана Андреевича, с которым он слушал нотации своей половины, тайный советник был явно не прочь овдоветь.
«Лучше бы мы поехали в театр, — думал Билли, механически дожевывая кусок мяса. — Как он мог допустить, чтобы она от него ушла? Я бы, во всяком случае, ни за что не допустил».
Но вот ужин кончился, и гости потянулись обратно в гостиную, где таинственно поблескивал большой рояль. Никита Преображенский сразу же сел за инструмент и начал наигрывать что-то меланхолическое. Беренделли подошел к Амалии, поцеловал ей руку и напомнил, что они мельком встречались на курорте, где лечилась его дочь.
— Впрочем, — добавил он, глядя на ладонь молодой женщины, — я вижу, что вы уже вылечились. Но вы должны быть осторожны, мадам… очень осторожны… — Хиромант с любопытством глянул на Амалию. — У вас странная линия судьбы! — Рука Амалии уже выскользнула из его пальцев; молодой женщине явно не понравилось, что он пытался определить ее будущее. — Столько превратностей, столько опасностей! Но вы можете быть спокойны, дитя мое. Вы будете жить еще долго… очень долго!
— И доживу до ста лет? — в тон ему осведомилась молодая женщина.
— Возможно, — отвечал хиромант с загадочной улыбкой. — Разве это не прекрасно — пройти сквозь годы и сквозь эпохи и видеть, как меняется мир вокруг?
Амалия пристально посмотрела на него. Лицо Беренделли осветилось вдохновением — судя по всему, он и сам верил в то, что говорил. И все же баронесса Корф возразила:
— Нет. Потому что старость ужасна, уродлива и отвратительна. А когда разум слабеет, она становится отвратительной вдвойне.
Беренделли усмехнулся.
— Могу вас заверить, госпожа баронесса, что вам это не грозит. Вы до самого своего последнего часа будете превосходить умом окружающих. Причем доказать это вам придется гораздо быстрее, чем вы думаете.
И, сочтя, очевидно, что уделил Амалии достаточно внимания, хиромант поклонился и вернулся к хозяину дома, с которым завел разговор об их общих курортных знакомых.
Билли вздохнул и поправил какой-то предмет под сюртуком.
— Может, стоит заставить его изменить свое мнение? — небрежно спросил он. — Я бы смог найти подходящие аргументы.
Амалия покачала головой.
— Нет. Он все равно не смог бы предсказать мне то, что я хочу.
— А чего вы хотите? — с любопытством спросил Билли.
— Как и любая женщина, быть бессмертной и вечно молодой, — с улыбкой отозвалась Амалия. — Но, к сожалению, это совершенно невозможно.
«Однако! — подумала Евдокия Сергеевна, которая, сидя неподалеку, постаралась не упустить ни единого слова, произнесенного Амалией. — Ну и нравы у аристократок! Неудивительно, что бедный барон на дух ее не переносит».
Воспользовавшись тем, что никто на него не смотрел, доктор де Молине вновь сделал попытку уйти, но на сей раз его перехватила бдительная Анна Владимировна. Проклиная в душе все на свете, Венедикт Людовикович вернулся в гостиную и сел на диван рядом с баронессой Корф, которая заговорила с ним по-французски о его родине. Митенька застыл за диваном как изваяние. Ему было мучительно стыдно — из беглой речи баронессы он понимал лишь отдельные слова и решил, что непременно подтянет свой французский, чтобы было чем блеснуть в обществе.
Барон Корф устроился в углу, но, как заметил Билли, примостившийся в кресле рядом с диваном, первый муж не спускал с Амалии глаз. Что явно не понравилось Вареньке, которая предприняла попытку увести жениха под тем предлогом, что он неважно выглядит и она не слишком доверяет доктору де Молине. Может быть, им лучше обратиться к кому-нибудь другому? Но Александр таким тоном ответил: «Я вполне здоров, благодарю вас», — что бедная девушка пожалела, что вообще задала свой вопрос. В отместку она решила непременно сказать Амалии какую-нибудь колкость, если та станет с ней разговаривать. Но баронессе Корф, похоже, не было до Вареньки никакого дела. Она беседовала со злюкой доктором, который, похоже, был совершенно ею очарован и даже перестал поглядывать на часы.
— Ну что, нас будут развлекать или нет? — спросил вдруг Владимир Сергеевич.
Павел Петрович посовещался с хиромантом и сказал, что маэстро готов приступить к гаданиям, но так как дело это довольно деликатное, то маэстро удалится в малую гостиную, куда к нему могут заходить по одному все желающие. Каждому из них синьор Беренделли расскажет об их будущем, а для проверки он готов приоткрыть завесу и над некоторыми тайнами их прошлого.
— Ну разумеется, — протянул Константин Сергеевич, качая головой, — кто бы сомневался. Наверняка он нанимает ловких людей, чтобы разузнать все о тех, кому он будет делать предсказания, а потом ошеломляет легковерных силой своего прозрения. Как же это все мелко, в самом деле!
— А как же предсказания будущего? — обратилась к нему с каверзным вопросом Евдокия Сергеевна, обмахиваясь веером. — О будущем он тоже может расспросить, как вы говорите, ловких людей?
— Ах, сударыня, — вздохнул, вступая в беседу, Владимир Сергеевич. — Старый, всем известный фокус! Говори людям такие вещи, какие они хотят услышать, и все будут тебе благодарны. А правда то или нет, не имеет никакого значения.
До сих пор Евдокия Сергеевна колебалась, идти ли ей к хироманту, но ответ Городецкого окончательно развеял ее сомнения. Разумеется, она хочет знать свое будущее. А насколько оно правдиво — в конце концов, жизнь покажет.
Беренделли перешел в малую гостиную, а гости стали совещаться, кто отправится к нему первым. Азартнее других узнать о своем будущем желала графиня Толстая, и ее пропустили вперед. За ней вызвалась идти Евдокия Сергеевна, а после тайной советницы — хозяйка дома. Что же до баронессы Корф, то она, судя по всему, ничуть не интересовалась грядущим. По крайней мере, явно не собиралась расспрашивать о нем всезнающего хироманта.
Графиня Толстая в сопровождении Глаши, которая показывала дорогу, скрылась за дверью. Тем временем лакеи внесли кофе и ликеры.
Варенька Мезенцева страдала. Ей ужас как любопытно было узнать, что у нее впереди, но у Александра сделалось такое каменное лицо, когда она заговорила об этом, что девушка даже не осмелилась подать голос, когда обсуждали, кто и в каком порядке пойдет к Беренделли. Через пару минут к ней приблизилась хозяйка дома.
— Дорогая, а вы? Разве вы не хотите знать, что вас ждет?
Варенька покачала головой. Она храбрилась, но на душе у нее было скверно.
— А вы, Александр Михайлович?
— Благодарю покорно, — барон ответил таким тоном, что Анна Владимировна поняла: настаивать бесполезно. Она лишь ободряюще улыбнулась Вареньке и отошла.
Павел Петрович обсуждал с Иваном Андреевичем какие-то тонкости службы в их ведомстве. До Вареньки то и дело доносились слова: «столоначальник», «беспрепятственно», «секретные бумаги», и ей сделалось скучно. Композитор за роялем тихо наигрывал какую-то прелестную мелодию. Он поймал взгляд Вареньки и улыбнулся.
— Как хорошо вы играете! — искренне воскликнула девушка.
Ее невинное замечание, очевидно, переполнило чашу терпения барона Корфа. Впрочем, возможно также, что Александр попросту не любил музыки. Так или иначе, он поднялся с места, пересек комнату и, скрестив руки на груди, остановился рядом с диваном, на котором сидела Амалия. Евдокия Сергеевна хищно распрямилась, почуяв назревающий скандал. Анна Владимировна и Павел Петрович обменялись растерянными взглядами, однако баронесса Корф и бровью не повела.
— Кажется, вы не представили меня вашему спутнику, — холодно произнес барон, глядя на нее сверху вниз.
Спутник Амалии бросил на барона рассеянный взгляд и сунул руку под сюртук. Носком туфли баронесса тотчас же стукнула Билли по ноге, и «кузен» сделал вид, будто ничего не случилось.
— Alexandre, ce n’est pas poli,[73] — спокойно уронила Амалия.
— Что именно?
Амалия выразительно повела бровями, указывая на Вареньку.
— Ваша невеста может не так вас понять.
— Уверяю вас, она поймет меня именно так, как надо, — отрезал Александр. — Ну и кто же он, господин, который ест салат большой вилкой? — И он с задором покосился на Билли. — К тому же, сколько мне помнится, среди ваших родственников прежде не водилось американцев.
— А вы уверены, что знаете всех моих родственников? — вскинула брови Амалия. — И может быть, вам сначала лучше разобраться со своими?
Доктор беспокойно шевельнулся. Судя по всему, в словах баронессы содержался какой-то намек, причем достаточно обидный. Во всяком случае, скулы барона окрасились кирпичным румянцем.
— Сударыня, я запрещаю вам… — прошипел Александр.
Но тут — надо признаться, весьма вовремя — подоспела Анна Владимировна и увлекла жаждущего схватки барона пить кофе. Самый, самый наилучший кофе, какой только есть в Петербурге, уверяла хозяйка дома, такой, что господин барон не сможет отказаться, тем более что она сама, своими руками нальет ему чашечку. Она, кстати, так рада видеть его у себя в гостях!
— Скандала не получилось, — вздохнул Константин Сергеевич в другом углу гостиной. — А жаль!
— Подожди, все еще впереди, — рассеянно откликнулся его брат и взглянул на часы.
Но тут растворились двери, и вошла Елена Николаевна Толстая. Все сразу же заметили, что лицо ее мрачно. «Интересно, что ж ей наговорил Беренделли?» — подумала изнывающая от любопытства Евдокия Сергеевна.
— Госпожа графиня… — Павел Петрович был уже возле Толстой.
Та повела плечами, сухо улыбнулась и сквозь зубы обронила:
— Не так уж он и хорош, ваш хиромант.
«Значит, композитор ее бросит», — тотчас же повеселела тайная советница. И в сопровождении Глаши направилась к маэстро — пытать свою судьбу.
Глава 7 Один из нас
Пока Беренделли по просьбе Евдокии Сергеевны приоткрывал для нее завесу будущего, в большой гостиной Варенька подошла к хозяйке. Она была не на шутку обижена поведением жениха и решила, что настало время действовать.
— Анна Владимировна… Можно, я пойду сейчас? Ну пожалуйста…
— Да, дорогая, конечно, — улыбнулась Верховская.
Евдокия Сергеевна явилась через несколько минут, и вид у нее был не то чтобы растерянный, но явно озадаченный. Однако она вскоре преодолела свое смущение и стала усиленно обмахиваться большим французским веером.
Итак, следующей к знаменитому хироманту отправилась Варенька. Ей, очевидно, повезло с судьбой куда больше, потому что она вся сияла, когда выпорхнула из малой гостиной.
— А вы, сударыня? — спросила Анна Владимировна баронессу Корф. — Вы по-прежнему не хотите посоветоваться с господином Беренделли?
Но Амалия только покачала головой.
— Тогда я, пожалуй, пойду, — с извиняющейся улыбкой произнесла хозяйка дома и скрылась за дверью.
«Интересно, о чем она будет спрашивать хироманта? — подумала Амалия. — Ей лет сорок, не меньше, у нее внимательный, заботливый муж, или, по крайней мере, кажется таковым; у нее взрослый сын, наивный молодой человек, который считает себя умнее многих, но это пройдет, как только он столкнется с настоящей жизнью… Что именно в будущем может интересовать женщину? Ведь ясно же, что ее существование — такое же, как жизнь сотен тысяч других людей — не плохое, но и не очень уж хорошее. Просто она никогда не разведется, никогда не станет эмансипэ,[74] не поедет на Северный полюс, не напишет захватывающий роман, не поступит в особую службу и не покинет ту службу, громко хлопнув дверью, как некоторые… — Амалия поморщилась, отметив, что мысли ее явно потекли куда-то не туда. — Или она просто хочет услышать от Беренделли, что в ее жизни не произойдет никаких бедствий, что она проживет еще столько же, сколько до сего дня, и умрет в своей постели, окруженная внуками и правнуками? А я? Как бы хотела умереть я? Во всяком случае, не от чахотки — отвратительная, выматывающая болезнь, вечная слабость, лихорадка, кровь горлом… Между прочим, здешний климат — не для меня, у меня и так уже и врач сказал… сказал… Но все обошлось. Пока обошлось, но я больше не хочу подобных треволнений… Я просто хочу видеть, как вырастут мои дети, а весь мир подождет. Надо уметь выбирать. Пусть у меня будет простая жизнь, да, простая жизнь без всяких приключений. Никаких расследований, убийств, невыполнимых поручений. Я устала. Хочу читать книги, гулять в красивых парках, общаться с умными людьми и баловать детей. Что бы ни случилось в их жизни дальше, пусть у них будет хотя бы воспоминание о счастливом детстве, о той поре, когда их любили и баловали… Потому что во взрослой жизни никто никого не любит и, по большому счету, никому никого не жаль. — Она перехватила взгляд Вареньки, которая победно смотрела на нее, постукивая носком туфельки по полу, и мысли баронессы приняли другое направление: — Наверняка родня Александра в восторге от его новой невесты. И, конечно, Беренделли предсказал ей, что она будет совершенно счастлива в браке. Очень опрометчивое предсказание, особенно если учесть натуру господина Корфа. И я сильно сомневаюсь, что девушке удастся его переделать».
Вот уже и Анна Владимировна вернулась от хироманта, теперь в малую гостиную потянулись мужчины. Первым вызвался идти представительный Константин Сергеевич, и Билли проводил его неприязненным взглядом. Судя по всему, молодой человек терпеть не мог адвокатов, которые чем-то ему сильно насолили.
— Интересно, он будет расспрашивать итальянца про каждое свое будущее дело? — спросил вслух Билли. — А то мне придется ждать своей очереди до утра.
— Я думаю, маэстро объяснит ему, что все в подробностях увидеть невозможно, — отозвалась Амалия с улыбкой. — Он просто скажет, что Константин Сергеевич часть дел выиграет, а часть дел проиграет, что, конечно, будет соответствовать истине, потому что ни один человек еще не выигрывал всего.
— Значит, вы не верите в то, что наше будущее предопределено? — спросил баронессу Митенька.
Амалия пожала плечами.
— Если бы было так, то жизнь стала бы слишком скучной. Какой смысл тогда делать что бы то ни было, если все уже предопределено? Тогда получается, что если бы ваш отец, к примеру, не ходил на службу, он бы все равно сделался статским советником. Вот уж неправда! Потому что как раз для этого ему пришлось потрудиться.
— Но в мире не все зависит от нашей воли, — заметил доктор. — Хорошо, допустим, должность Павла Петровича была плодом его усилий. А если завтра в Петербурге произойдет наводнение или революция, и он станет их жертвой, где тут его влияние на события?
— Он может для начала сделать все, чтобы не стать жертвой, — возразила здравомыслящая Амалия. — Успеть сколотить плот, пока подойдет вода, или спрятаться, чтобы не быть убитым разъяренным народом. Впрочем, революция в России вряд ли произойдет. Здесь не Франция, где только в нынешнем веке их было несколько.
— Однако лучшие европейские умы, — быстро вставил Митенька, радуясь, что разговор перешел на мыслительныетемы, — уверяют, что революция не за горами.
— Только не в России, — безмятежно отозвалась Амалия. — Видите ли, Дмитрий Павлович, Россия — очень косная страна. Хорошо это или плохо, неизвестно, но сие факт. Для того чтобы здесь произошли масштабные перемены, нужны совсем уж из ряда вон выходящие условия.
— Должен признаться, сударыня, мне кажется странным, — начал Митенька, поправляя очки, — что вы так говорите о…
— Вы историю изучаете? Нет? А жаль, — перебила юношу баронесса. — Видите ли, история какого-либо народа отражает дух данного народа. Почему Франция сто с лишним лет воевала с Англией и отстояла свою свободу? Вовсе же не потому, конечно, что французские короли не хотели признавать над собой власть английских. Если отвлечься от частностей, то революция в России — это Петр Первый, к примеру. Он был главой страны и повернул ее туда, куда считал нужным. Со всех точек зрения его линия была настоящим безумием, но ему удалось сделать задуманное. Теперь возьмите, к примеру, царя Ивана Грозного — хотя по всем признакам он был просто сумасшедший и кровь при нем лилась как вода, никакой революции не произошло, никто даже не пытался его свергнуть. А вот Смутное время — уже почти революция, потому что династия прекратилась, начался всеобщий разброд внутри государства, да еще и войны с внешним врагом. И если бы в то время нашелся хоть один человек, пригодный на роль вождя, и повернул бы ситуацию в свою пользу…
— Да, революция во имя интересов народа… — вздохнул Митенька, и взор его затуманился.
— Милый юноша, — улыбнулась Амалия, — революция никогда не бывает «за». Она бывает только «против» — против прошлого или настоящего, которые кого-то не устраивают. Именно поэтому все революции так тихо и позорно сходят в конце концов на нет. Потому что недостаточно быть только «против», всегда наступает время, когда надо выступить «за» что-то. А вот как раз ни к чему подобному господа революционеры и не готовы. Они так привыкли быть против, что не способны предложить ничего нового. Да и потом, к чему утруждать себя? Ведь своего они уже добились, им вполне достаточно поделить власть и пожинать ее плоды. Вы же знаете, Французская революция началась истреблением аристократов и Конвентом, продолжилась шайкой воров в лице Директории, а в конце пришел Бонапарт, после чего революция была сдана в архив.
Венедикт Людовикович пристально поглядел на Амалию.
— Должен признаться, сударыня, — заметил он, — у вас достаточно любопытный… э… взгляд на историю моей страны. Значит, появление Наполеона, по-вашему, было закономерностью?
— Да, поскольку это был Наполеон, — ответила Амалия.
— А я не понимаю, отчего все так героизируют его личность, — упрямо сказал Митенька. — По-моему, он был тиран, и к тому же недальновидный, поскольку не понимал, что невозможно без конца вести войну со всей Европой.
— Уверяю вас, вы не правы, — любезно отозвалась Амалия. — Настоящие тираны не терпят поражений. Если они и умирают, то окруженные всеобщим почетом и лестью славословий. А Наполеон умер как обыкновенный человек. К тому же для тирана у него было слишком хорошо развито чувство юмора. Тиран никогда не скажет, что от великого до смешного один шаг.
— Но его войны! Сам я для блага истории и людей, которые погибли в бесчисленных сражениях наполеоновских войн, предпочел бы, чтобы у него было поменьше таланта полководца, но побольше здравого смысла, — отважно процитировал Митенька фразу из книжки.
— А вот как раз войны были наследством революции, — возразила Амалия. — Именно из-за нее Франция оказалась вне общеевропейской системы, которая немедленно начала с ней воевать. И возвышение Наполеона тут мало что изменило.
По лицу Митеньки было заметно, что ему очень хочется поспорить с баронессой, и Билли неодобрительно покосился на него. Сам он всегда слушал все, что говорила Амалия, очень внимательно и даже не думал о том, чтобы спорить с ней, особенно когда речь касалась таких вещей, в которых он мало что смыслил.
— Кажется, адвокат вернулся, — сказал Билли, чтобы перевести разговор на другую тему.
От проницательной Амалии не укрылось, что Константин Сергеевич появился в гостиной, имея весьма растерянный вид.
— Ну, как? — спросил у него брат. — Мы выиграем процесс или нет?
— По его словам, я вообще больше не выиграю ни одного процесса, — с раздражением проговорил адвокат. — Черт знает что такое!
За ним была очередь Ивана Андреевича, но тайный советник замешкался, стал колебаться, и вместо него пошел спутник Амалии.
— Что он тебе сказал? — поинтересовалась баронесса, как только Билли вернулся.
Американец только плечами пожал.
— Да ничего, в общем-то, — ответил он.
Амалия пристально взглянула на него и не стала настаивать.
Что именно Беренделли сказал Ивану Андреевичу, который все-таки решился навестить его, так и осталось тайной, зато ни от кого не укрылась их перепалка. Иван Андреевич кричал: «Я не позволю!», хиромант не то уговаривал его, не то извинялся. Через минуту в большую гостиную влетел тайный советник, и лицо его цветом своим могло в тот момент поспорить с самыми отборными помидорами.
— Иван Андреевич! — кинулась к нему супруга. — Что с вами?
Иван Андреевич как-то застонал и повалился в кресло. Евдокия Сергеевна взвизгнула, и доктору де Молине второй раз за вечер пришлось оказывать гостю помощь. Впрочем, все обошлось, хотя Иван Андреевич держался за грудь и время от времени тихо стонал.
Павел Петрович стоял ни жив ни мертв: из приятного развлечения вечер, устроенный его супругой, превращался в черт знает что. Никита Преображенский и графиня Толстая тихо ссорились. Никита хотел идти к хироманту, Элен его не пускала.
— Но я хочу знать, что меня ждет!
— Перестань! Неужели ты не понимаешь: он же обыкновенный шарлатан!
Однако Никита все-таки отправился в комнату к Беренделли.
— Интересно, какое у него будет лицо, когда он выйдет оттуда? — пробормотал Павел Петрович.
— Все зависит от того, что маэстро ему скажет, — пожала плечами его супруга.
— А что он сказал тебе? — несмело спросил статский советник. Анна Владимировна улыбнулась, ее глаза на мгновение затуманились.
— Он очень многое угадал, — сдержанно ответила она.
Вскоре вернулся Никита Преображенский, но вид у него был не то чтобы радостный и не то чтобы печальный, а скорее сильно удивленный.
— Глупости, — ответил он на вопрос графини и беспечно засунул руки в карманы. — Сплошные глупости!
Больше, судя по всему, никто не хотел идти к хироманту, и Анна Владимировна отправилась за итальянцем, чтобы привести его к гостям. Через минуту маэстро Беренделли в сопровождении хозяйки дома показался на пороге. Его засыпали вопросами, но он только улыбался.
— Однако это несправедливо, — заметил Константин Городецкий. — Одни теперь знают все о том, что с ними случится, а другие пребывают в блаженном неведении. Нехорошо, нехорошо!
— Может быть, им есть что скрывать? — предположил его брат, поглядывая на Амалию, которая, судя по всему, его сильно занимала. — Признавайтесь, баронесса, почему вы не пошли к хироманту? Ведь женщины ужасно любопытны, я знаю! Или у вас есть свои тайны, которые вы не хотите открывать?
Но Амалия не успела ответить, потому что барон Корф подошел сзади к Владимиру и сдавил его плечо так сильно, что тот едва не закричал.
— Еще одно слово, — прошептал Корф, наклонившись к его уху, — и я вызову вас на дуэль. — Затем Александр мило улыбнулся адвокату и отошел, а Владимир Сергеевич, морщась, стал растирать плечо.
«Однако! — подумала ошеломленная Евдокия Сергеевна, от которой не укрылась ни единая подробность этой сцены. — Так он что, до сих пор неравнодушен к своей жене? Mais c’est?patant![75]»
— Ты узнал то, что хотел? — спросила Амалия у Билли.
— Ага, — кивнул тот.
— Вот и прекрасно. Тогда посидим еще немного и уйдем. По правде говоря, вечер оказался немного… утомительным.
Анна Владимировна спросила, будет ли она пить кофе, но баронесса отказалась. Митенька, глядя на нее, отказался тоже, хоть и обожал напиток, зато Билли не стал церемониться и выпил целых две чашки, и доктор де Молине последовал его примеру. Юноша все искал, что бы такое сказать умное, но баронесса Корф, похоже, не была настроена беседовать на тему революций дальше. Поэтому он решил, что если барон еще раз приблизится к ним, то он, Митенька, вызовет его на дуэль, и будь что будет.
— Я надеюсь, маэстро, вам понравилось у нас, — несмело начала Анна Владимировна.
Беренделли поморщился и отставил в сторону чашку с кофе.
— О да, — подтвердил он. — Должен признаться, я узнал много интересного. Все вы — прекрасные, замечательные люди, и я счастлив, что в этот вечер судьба свела меня именно с вами. — Хиромант вздохнул и поправил перстень на пальце. Затем улыбнулся, и было странно видеть, как его белые зубы сверкают в черной бороде. — Тем не менее, дамы и господа, считаю своим долгом предупредить вас. Я много лет изучал свою науку, и я знаю, что есть знаки, которые могут трактоваться по-разному, в зависимости от расположения остальных знаков на ладони. Но сегодня я видел кое-что, и… Нет, я не могу, не могу ошибаться! — Он решительно сжал губы. — Дамы и господа, один человек из тех, кто находится в этой комнате — убийца, безжалостный и хладнокровный.
Адвокат открыл рот.
— Вы слышите? Сейчас среди нас находится убийца!
Евдокия Сергеевна тихо ахнула.
Итальянец обвел глазами бледные лица гостей, застывших на своих местах, словно пораженные громом. Первой очнулась графиня Толстая. Она хотела было бросить: «Что за шутки? Это просто возмутительно! Что за дурной тон?» — но не успела. Беренделли как-то сдавленно ахнул и, нелепо взмахнув рукой, повалился на ковер.
Глава 8 Слова и музыка
— Господа, господа, — как заведенный, твердил Павел Петрович, — у него обморок! Уверяю вас, обычный обморок, ничего страшного… Маэстро Беренделли переутомился, должно быть. Ничего страшного, дамы и господа!
Потерявшего сознание хироманта отнесли в малую гостиную, где он совсем недавно предсказывал судьбу гостям, и им сразу же занялся доктор де Молине. Через пару минут медик объявил, что никакой опасности нет, просто маэстро Беренделли стало дурно. И в самом деле, как только у Вареньки в сумочке нашлась нюхательная соль, хиромант сразу же пришел в себя. Но видимо, чувствовал себя он не совсем хорошо и то и дело стонал.
— Так ему и надо, башибузуку итальянскому! — сипел на диване в большой гостиной злопамятный Иван Андреевич. — Наговорил мне, понимаешь, ввел в расстройство…
— Что такое он тебе сказал? — забеспокоилась Евдокия Сергеевна.
Иван Андреевич только рукой махнул.
— Насчет службы? — тем не менее догадалась супруга. — Ваня, я права?
— Да, — прошептал Иван Андреевич и закрыл глаза.
— Да откуда же он узнал? Кто ему мог сказать? — недоумевала Евдокия Сергеевна. И тут ее осенило. — Конечно же, Анна Владимировна! Ну и хороша же, ничего не скажешь!
Между тем остальные гости обсуждали сенсационное заявление Беренделли, которое он сделал за несколько мгновений до обморока.
— Как вы думаете, это он всерьез? — с дрожью в голосе спрашивала Варенька.
— Да нет, просто вздор! — пробормотал адвокат, пожимая плечами. — Мистификация!
— Не думаю, — уронила госпожа Корф. — На мой взгляд, господин Беренделли не походит на человека, который станет утруждать себя чем-либо подобным.
— И вы всерьез поверили в то, что среди нас находится убийца? — высокомерно осведомилась графиня Толстая.
— Но здесь одни приличные люди! — поддержала ее Анна Владимировна.
Амалия улыбнулась.
— Поверьте мне, порой и очень приличные люди совершают такие поступки, на которые окружающие считают их неспособными, — ответила она.
— Вероятно, вы судите по себе? — Графиня Толстая ринулась в атаку с открытым забралом. Но ее удар не достиг своей цели.
— В том числе, — с загадочной улыбкой ответила баронесса Корф.
Вернулся Венедикт Людовикович, и Павел Петрович спросил у него, как здоровье больного.
— Ничего страшного, — ответил доктор. — Ему просто надо немного отдохнуть. Полагаю, он вскоре сможет присоединиться к нам.
Отчего-то на лицах окружающих при этих словах не возникло ничего, даже отдаленно похожего на восторг. Никита Преображенский встряхнулся:
— Боже мой, как все странно. Однако поразительный вечер сегодня, господа! Что ж, раз наш хиромант вышел из строя… — Он улыбнулся Вареньке, подошел к роялю и провел пальцами по клавишам. — У вас прекрасный инструмент, госпожа Верховская! Одно удовольствие играть на нем. Если позволите, я сыграю несколько вещиц из Верди. Но мне нужна певица…
— Я сегодня не в голосе, — сухо сказала графиня Толстая.
— Ах, какая досада! — Но даже намека на досаду не было в голосе композитора. — Может быть, вы, госпожа баронесса?
Амалия улыбнулась и покачала головой.
— Если позволите… — Варенька застенчиво улыбнулась. — Я люблю Верди, но знаю не все слова.
— Митенька! — тотчас пришла на помощь племяннице Анна Владимировна. — У нас есть ноты?
Митенька объявил, что ноты найдутся непременно, и побежал к себе. Варенька могла гордиться своей выдумкой. Она и в самом деле пела прекрасно и теперь имела отличный повод заткнуть за пояс неприятную особу, которая имела наглость стать первой женой ее будущего мужа.
— Мы еще не уезжаем? — деловито осведомился у баронессы Билли.
— Нет, — отозвалась Амалия, — еще рано. И потом, уйти сейчас было бы невежливо.
— А она будет петь? — задал Билли следующий вопрос, видя, как Варенька и композитор хлопочут возле рояля.
— Да.
— Значит, мы правильно не пошли в театр, — подытожил Билли.
Амалия поглядела на него и смогла удержаться от улыбки.
Митенька притащил ворох нот, композитор уселся за рояль.
— Вот эту арию я знаю очень хорошо, — говорила Варенька, водя пальчиком по страницам. — А эту почти не знаю.
— Как она мила! — прочувствованно сказала Анна Владимировна мужу.
Все расселись, и тонкие пальцы Никиты пробежали по клавишам. Варенька запела.
У нее был и впрямь прекрасный голос, а Преображенский, что бы о нем ни говорили досужие сплетники, играл превосходно. Доктор замер на месте: было видно, что он тронут и увлечен. Поначалу Амалия еще колебалась, выискивала в пении Вареньки какие-то изъяны, но потом ей стало совестно, и она стала просто слушать музыку.
Этажом ниже, в кухне, Дарья, только что поставившая самовар, подняла голову и тоже прислушалась.
— Ишь поют-то как чувствительно, — сказала она, качая головой.
Звуки сплетались в причудливые музыкальные кружева, скользили в воздухе, взывали, плакали, звенели радостью… Митенька застыл в кресле. Ему еще никогда не было так сладко, так мучительно хорошо. Но вот возле него, перебивая мелодию, что-то монотонно, назойливо зажужжало… Это билась о стекло большая, ленивая, тяжелая муха. Бедный Митенька чуть не расплакался. Все впечатление было испорчено… Юноша шикнул на муху, попытался отогнать ее — бесполезно, она по-прежнему липла и льнула к стеклу, за которым уже плыла бархатная петербургская ночь. Константин Сергеевич бросил на хозяйского сына суровый взгляд. Митенька сделал вид, что все в порядке, но проклятое насекомое ужасно досаждало ему. А между тем ария близилась к завершению. Варенька умолкла… Мелодия еще какое-то время дрожала в воздухе — и исчезла, словно ее без остатка поглотили ковры, стены и потолок! Но всем присутствующим еще долго казалось, что она оставила здесь, в скучной комнате скучного дома, свой незримый божественный след.
Все разом задвигались и разом заговорили. Раздались аплодисменты, Варенька кланялась, смущенная, раскрасневшаяся от счастья. Она искала взгляд Александра, но последний отвернулся и глядел в сторону. Амалия заметила это и усмехнулась про себя. Ну конечно же, высокородный месье Корф считает, что лицедействовать, петь на сцене и вообще развлекать толпу имеют право только люди соответствующего звания, а им, аристократам, не положено. Бедная Варенька, что ее ждет после ужина! Что Корфы умеют устраивать сцены, всем известно, и ей, Амалии, в том числе. Но если другие вкладывают в такие сцены весь жар души, то они, наоборот, — все ледяное презрение. «Ах вот как, Амалия Константиновна, вы хотите, чтобы вашу мать тоже пригласили на бал? Вы меня поражаете, дорогая. Что? Вы собираетесь отправиться в Париж? А вам известно, что в свете могут подумать о вашей поездке? Ах, вы навещаете княжну Орлову, вашу давнюю знакомую. Неужели вам неизвестно, что барышня совершенно потеряла голову, увлекшись жалким борзописцем, да, да, господином Верещагиным, журналистом, и приличным людям нечего делать в ее обществе?»[76] Ну и так далее.
«Глупец, истукан! — сердито подумала Амалия. — Подойди же к ней, скажи девушке, как тебе нравится ее пение! Ведь ясно же, что она старалась не ради болвана-адвоката или его братца, а ради тебя!»
Митенька наконец ухитрился казнить муху каким-то журналом, но произвел такой шум, что Александр мрачно оглянулся на него. «Вызову на дуэль», — обреченно помыслил Митенька, но противный офицер ничего не сказал и только отвернулся.
Словно нарочно, Варенька выбрала именно ту арию, которую Александр Корф когда-то слышал в обществе Амалии, вскоре после их свадьбы. Он помнил даже цвет занавеса в том театре, помнил, как выглядел тамошний дирижер. А вот Амалия, кажется, все забыла, как видно по ее рассеянному лицу. И это почему-то резануло по сердцу барона больнее всего, как будто вместе с воспоминанием о той опере она вычеркнула из своей жизни и его самого, его присутствие, которое (он совершенно точно знал!) одно лишь и имело когда-то значение для нее.
— Может быть, попробуем еще? — спросил Никита у Вареньки.
Девушка стала отнекиваться, но Анна Владимировна принялась уговаривать племянницу, и к голосу хозяйки присоединились почти все гости. Пришлось Вареньке спеть еще четыре арии, но под конец она устала и начала немного сбиваться.
— Простите, — сказала она, разводя руками. — Я… кажется, я больше не могу.
Никита поднялся и очень галантно поцеловал ей руку.
— Вы были великолепны! — искренне воскликнул Преображенский. — И для меня было честью аккомпанировать вам сегодня!
Как будто для того, чтобы окончательно изгнать еще царящий в комнате дух музыки, заскрипели кресла, кто-то закашлялся. Мужчины громко заговорили, женщины шуршали платьями и перебрасывались замечаниями. Де Молине взглянул на часы и, пробормотав: «Кажется, мне решительно пора», — поспешил вниз. Павел Петрович улыбнулся жене. Вечер явно удался, и у него были все причины быть собой довольным.
Амалия подошла к Верховским, чтобы попрощаться. Билли следовал за ней кроткой тенью, не переставая одним глазом следить за опасным бароном Корфом, который все еще маячил поблизости.
— Благодарю вас за доставленное удовольствие, — пожала Амалия вялую руку Анны Владимировны. — А где маэстро Беренделли? Мой кузен хотел бы поблагодарить его за предсказания, которые он сделал.
— Черта с два! — прошипел Билли за ее спиной. — Он мне такого наговорил…
— Билли, — тихо и выразительно проговорила Амалия, — не надо быть невежливым. Если ты хочешь знать свое будущее, то должен быть готов к тому, что кое-что в нем может тебе не понравиться. Разве не так?
«И почему она всегда права?» — с тоской подумал Билли.
— В самом деле, — смущенно вставил Митенька. — Маэстро так и не присоединился к нам.
Павел Петрович и Анна Владимировна переглянулись.
— Надеюсь, с ним все в порядке, — сказал Павел Петрович. — Сейчас, баронесса, я провожу вас, только гляну, как там синьор Беренделли.
Билли взял Амалию под руку, и они двинулись вслед за хозяином дома к малой гостиной. Митенька, который понял, что Амалия уходит и увидит он теперь ее неизвестно когда, увязался за ними. Юноша искал, что бы такое сказать умное, чтобы произвести подобающее впечатление, но ему ничего не приходило в голову.
Через минуту гости Верховских услышали сдавленный крик, а еще через мгновение Павел Петрович, как ошпаренный, вылетел из малой гостиной и помчался вниз по лестнице, крича на ходу:
— Венедикт Людовикович, вы еще не ушли?
Он догнал доктора уже у парадной двери и ухватил его за рукав.
— Боже мой, вы должны пойти туда! Вы должны помочь им!
— Кому? — остолбенел пораженный де Молине.
— Моему сыну, — простонал бедный Павел Петрович, — и… и… — Он пытался выговорить, но не смог. — Пожалуйста! Вы не можете мне отказать!
— Да что случилось, черт подери? — разозлился доктор.
Павел Петрович оглянулся, и паника заплескалась в его взоре. Наконец он выдохнул:
— Беренделли: хиромант… Кажется, он убит.
Глава 9 Убийство
— Что происходит? — недовольно спросила графиня Толстая у барона Корфа.
По лестницам сновали люди, звенели чьи-то сердитые и изумленные голоса. В дверь сунулась Глаша с искаженным от страха лицом. Анна Владимировна подозвала ее к себе, выслушала сбивчивый доклад и, тихо ахнув, поспешила к выходу.
— Поразительный дом, — пробормотала прекрасная Элен, поводя своими ослепительными плечами.
— Александр, мы уже уходим? — подала голос Варенька.
Но барон оставил ее вопрос без внимания. Его интересовало, куда запропастилась Амалия? Не слушая больше, что говорит невеста, Александр стремительным шагом вышел из гостиной и в коридоре столкнулся с одной из служанок.
— Что такое? В чем дело? — металлическим, хорошо поставленным офицерским голосом рявкнул он.
— Ой, не знаю, барин! — взвигнула та, но глаза у нее были круглые от страха.
Оттолкнув девушку, Александр бросился в малую гостиную, куда стекался народ.
Войдя в комнату, он сразу же увидел на ковре завалившегося в обмороке лохматого недоросля. Очки все-таки сумели покинуть переносицу Митеньки и лежали на ковре рядом. Амалия наклонилась и подобрала их. Возле потерявшего сознание юноши суетились мать и доктор. Павел Петрович с отчаянным видом стоял возле дивана и ломал руки.
Александр подошел ближе. Разумеется, весь тарарам возник вовсе не из-за непутевого юноши, так некстати потерявшего сознание, — истинной причиной являлся распростертый на диване Беренделли. Глаза маэстро были широко раскрыты, из уголков рта стекали слюна и кровь. Из груди маэстро торчал кинжал с фигурной рукоятью — возможно, один из тех, что украшали стены комнаты. Александр быстро оглядел их и натренированным взглядом сразу же отметил пустые ножны в простенке между окнами. Американский кузен Амалии, стоя напротив, тоже рассматривал их.
— Прошу ничего здесь не трогать, — повернулась Амалия к Павлу Петровичу.
Тот, судя по всему, даже не понял, о чем его просили, но все равно механически кивнул головой.
Александр покосился на невозмутимого Билли, заложил руки за спину и подошел к бывшей жене. Митенька на полу тихо застонал — мать поднесла к его носу нюхательную соль.
— Убийство? — спокойно спросил Александр.
Амалия пожала плечами.
— Как видите.
— Ясно. — Александр дернул щекой. — И кто же это сделал?
Баронесса Корф усмехнулась.
— Тот, кто вошел сюда между уходом доктора де Молине, который оставил больного отдыхать на диване, и нашим появлением, — сказала она.
Барон Корф метнул на нее быстрый взгляд.
— Ценные вещи на месте?
— Бумажник и кольцо? Да. Их никто не трогал.
Александр вздохнул.
На полу Митенька слабо застонал и приоткрыл глаза. По щекам его матери текли слезы. Она вполголоса стала уговаривать сына подняться. Павел Петрович поспешил к ним, но тут Митенька некстати вновь увидел труп и снова обмяк на ковре.
— Вы думаете о том же, о чем и я? — спросил барон.
Амалия с любопытством взглянула на него и осведомилась:
— И о чем же я думаю, по-вашему?
Ее бывший муж пожал плечами.
— Вы считаете, здесь действовал тот убийца, о котором нас предупреждал маэстро Беренделли. Верно?
Доктор де Молине, который снова пытался привести Митю в чувство, поднялся, покачал головой и предложил:
— Лучше перенести его в спальню. Для молодого человека вид мертвого тела слишком сильное потрясение.
Павел Петрович кликнул лакеев, и Митеньку унесли. Анна Владимировна поспешила за ними, и в малой гостиной остались только Амалия, Билли и барон Корф.
— Гости разъезжаются, — проговорил Александр.
Амалия быстро взглянула на него:
— Задержите их.
Тон ее слов отчего-то рассердил барона.
— И как, позвольте спросить, я смогу это сделать? — упрямо выставив вперед подбородок, спросил он. — В отличие от некоторых ваших знакомых, я не следователь и не полицейский!
Билли у окна беспокойно шевельнулся.
— Александр, — терпеливо ответила Амалия, — мне совершенно все равно, как вы это сделаете. Я лишь хочу, чтобы ни один человек не покинул дома. Вам ясно?
Досадуя на себя, барон вышел из гостиной. За дверями его ждала Варенька.
— Боже мой! Александр, то, что говорят, правда?
— Да, — буркнул он.
— Ужасно!
Барон Корф только пожал плечами. Что именно ужасно? Он бывал на войне, дрался на дуэлях и видел раненых, мертвых. Да и вообще, смерть подстерегает человека где угодно — на улице, дома, в гостях, в имении предков, в поездке, на чужбине… Неуместная чувствительность Вареньки сейчас отчего-то раздражала его, тем более что по контрасту с хладнокровием Амалии чувствительность ее выглядела совершенно смехотворной.
— Кто-нибудь уже ушел? — спросил он.
Варенька со страхом покосилась на него.
— Кажется, нет еще, — сказала она. — Все растеряны, не понимают, что случилось. — Она закусила губу. — И я тоже… Александр, что все-таки произошло?
— Хотел бы я знать, — с расстановкой ответил он. — Но, надеюсь, Амалия Константиновна нам разъяснит.
«При чем тут она?» — мелькнуло в голове у Вареньки, но она посмотрела в лицо жениху, и вопрос замер на кончике ее языка, да так и не рискнул сорваться с него. Но ревность и обида укололи ее в самое сердце, девушка надулась.
А в малой гостиной, где только что произошло убийство, Амалия разговаривала с Билли.
— Когда убийца вошел, — говорила Амалия, — Беренделли, должно быть, дремал, потому что я не вижу никаких следов сопротивления. Убийца взял первый попавшийся кинжал и вонзил его в грудь хироманта. Почувствовав боль, тот открыл глаза, но не смог ничего сделать, потому что смерть наступила очень быстро. Судя по всему, удар пришелся точно в сердце.
Билли недовольно сморщил нос.
— А почему он не взял нормальное оружие? — пробурчал он, оглядывая ружья и пистолеты на стенах. — Что за гадость — подкрадываться к человеку и резать его исподтишка!
Судя по его тону, если бы безоружного Беренделли застрелили, то это свидетельствовало бы о более высокой сознательности убийцы. Но Амалия не стала спорить со своим другом, а лишь напомнила:
— А шум? Ты забываешь про грохот выстрела. Убийца же, как я понимаю, очень хотел остаться незамеченным.
— Верно, — вздохнул Билли. — Значит, он один из гостей?
— Наверняка.
— Адвокат?
— Почему именно адвокат?
— Все адвокаты — сволочи, — ответил Билли с горечью.
— Билли, — предостерегающе шепнула Амалия, — не надо. Лучше постарайся вспомнить, где находились гости примерно в то время, когда… когда мадемуазель Мезенцева пела. Мне надо знать, кто входил, кто выходил, когда и так далее. Сама я кое-что помню, но, боюсь, далеко не все. — И она, словно извиняясь, посмотрела на мертвого Беренделли.
— Адвокат не выходил, — мрачно сказал Билли. — Значит, не он?
— Не он, — согласилась Амалия. — Думай дальше.
Она растворила дверь и попросила Глашу пригласить доктора де Молине.
— Как самочувствие юноши? — были ее первые слова, как только доктор переступил порог.
— Он пришел в себя, но мне пришлось дать ему успокоительное, — довольно сухо ответил Венедикт Людовикович, затем пожал плечами. — Странный юноша. В комнате у него сплошь книжки об истории революций, а он падает в обморок при виде крови. Неужели молодой человек думает, что революция — развлечение?
— Доктор, — серьезно заговорила Амалия, — нам понадобится ваша помощь.
Де Молине вздохнул.
— Был бы рад сказать, что всегда счастлив услужить вам, но в данных обстоятельствах… — он поморщился. — Что именно вы хотите знать?
— В данных обстоятельствах могли бы и сами догадаться, — отозвалась Амалия. — Вы последним видели Беренделли в живых, не считая убийцы. Уходя от него, вы видели кого-нибудь поблизости?
— Никого, — удивленно ответил доктор.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— Беренделли что-нибудь сказал вам? Не боялся ли он кого-нибудь? Или, может быть, он упоминал чье-то имя?
Доктор пристально посмотрел на Амалию.
— Вы полагаете, что тот человек, которого маэстро Беренделли назвал убийцей, пришел сюда, в комнату, и разделался с ним, чтобы тот не мог выдать его тайну? Так, госпожа баронесса?
— Вы совершенно правы, доктор, — чуть склонила голову Амалия.
— Если и так, то мне очевидно, что хиромант его не опасался. Да, он выглядел не вполне здоровым, но ничего не сказал мне о том, что кого-то боится.
— И даже никакого намека не дал?
— Нет, госпожа баронесса.
— Хорошо, пока оставим эту тему, — вздохнула Амалия. — А теперь мне нужна ваша профессиональная помощь, господин доктор. Я должна знать все, что только возможно, о ране, орудии убийства и силе удара.
Все эти устрашающие слова из уголовных романов[77] баронесса произносила столь будничным тоном, что у доктора язык не повернулся задавать какие-либо вопросы. Он наклонился над мертвецом и стал осматривать рану.
— Что ж, — сказал де Молине, выпрямляясь, — вряд ли я сообщу вам что-то новое. Удар был один, и пришелся он прямо в сердце.
— Значит, можно предположить, что убийца — профессионал? — спросила Амалия.
— Я бы так не сказал, — с легким смешком отозвался доктор. — Видите ли, госпожа баронесса, сердце у всех людей находится слева, и чтобы нанести туда удар, особой сноровки не требуется, особенно если жертва лежит и не оказывает сопротивления. Если вы не против, я хотел бы вытащить нож.
— Кинжал, — поправила его Амалия. — Да, конечно, доктор.
Де Молине извлек орудие убийства из раны, осмотрел его и покачал головой.
— Ваши соображения, Венедикт Людовикович? — очень вежливо продолжала расспросы Амалия.
— Очень неосмотрительно держать дома такие вещи, — буркнул доктор. — Лезвие достаточно длинное, кинжал всадили почти по рукоять.
— Значит, убийца — мужчина? — быстро проговорила Амалия.
— Не уверен, — отозвался де Молине. — Как я уже сказал, Беренделли не сопротивлялся. Так что, если говорить начистоту, удар могла нанести и женщина. — Он грустно улыбнулся. — Когда я только приехал в Петербург, мне довелось какое-то время работать полицейским врачом. Так вот, я очень хорошо помню беднягу, которого привезли к нам с раскроенным черепом. Все были уверены, что на него напали жестокие грабители, но показания дворника прояснили дело. Оказалось, жена несчастного приревновала супруга к соседке. После того случая, госпожа баронесса, я стараюсь быть очень осторожен в своих показаниях.
Интересно, подумала Амалия, он нарочно употребил последнее слово или же, как и большинству иностранцев, ему все-таки недоступны некоторые нюансы неродного языка? Но доктор явно заметил, что ее интерес продиктован не любопытством или желанием соригинальничать. Она и в самом деле, если отбросить условности, допрашивала его, а де Молине давал показания. И оба они отлично понимали, что работа по раскрытию сегодняшнего преступления предстоит нешуточная.
— Хорошо, — кивнула Амалия. — Доктор, у меня к вам одна просьба. Здесь явно происходит нечто неладное, и что именно, мне хотелось бы разобраться. По этой причине, а также на случай возможных, скажем так, происшествий я бы попросила вас не покидать дом. Это лишь временная мера. Полагаю, мне понадобится несколько часов, чтобы понять, что произошло. И я намерена сделать все, чтобы убийца не ушел безнаказанным.
Венедикт Людовикович немного подумал.
— Что ж, возможно, вы правы, — согласился он, хотя в голосе доктора и прозвучало некоторое сомнение. — Но должен вас предупредить: не все гости могут отнестись с пониманием к вашему желанию, что особенно касается того человека, который убил господина Беренделли. Вы же собираетесь, насколько я понял, задержать до выяснения обстоятельств всех, кто присутствовал на вечере? — Де Молине с еще большим сомнением покачал головой. — Весьма разумная мера, но боюсь, госпожа баронесса, у вас возникнут трудности. Такие люди, как графиня Толстая или Константин Сергеевич Городецкий, вряд ли позволят указывать им, что делать.
Но Амалия только улыбнулась. А Билли, заметив эту улыбку, приосанился и поправил револьвер под сюртуком.
— Не беспокойтесь, Венедикт Людовикович, — сказала она. — Это я беру на себя.
Глава 10 Угроза
— Возмутительно! — воскликнул Никита Преображенский. — Что вы себе позволяете?
Он хотел добавить еще что-то, судя по всему, весьма нелицеприятное, но графиня Толстая опередила его.
— Могу ли я узнать, — проговорила она, глядя прямо в лицо барону Корфу, который стоял у двери и никого к ней не подпускал, — по какому праву вы задерживаете нас и не даете нам уйти?
— Действительно! — поддержал ее адвокат. — Неслыханно, совершенно неслыханно! И если вы думаете, что вам сойдет с рук…
— Сойдет, — коротко ответил Александр, и тонкая жилка дернулась поперек его лба.
— Я хочу покинуть этот дом! — крикнула графиня Толстая. Она явно теряла самообладание. — Немедленно!
— Вы уверены? — прозвенел ей в ответ спокойный голос баронессы Корф.
Амалия вошла в гостиную. За ней вышколенной безмолвной тенью двигался Билли, и барон посторонился, пропуская их.
Павел Петрович беспомощно оглядел готовых вспылить, озлобленных гостей.
— Должен признаться, — несмело начал он, — мы не понимаем…
Не отвечая ему, Амалия обернулась к своему бывшему мужу и спросила:
— Ключи у вас? Очень важно, чтобы никто не мог покинуть дом, — добавила она по-английски, чтобы их не поняли посторонние.
— Я забрал все ключи, — ответил Александр тоже по-английски, протягивая две связки. — И запер двери, так что никто не уйдет отсюда, пока вы им не разрешите.
Амалия удовлетворенно кивнула.
— Сколько дверей в доме?
— Парадная и черный вход.
— Прекрасно. Вся прислуга на месте?
— Сколько я могу судить, да. Впрочем, надо будет уточнить у хозяйки.
— Благодарю вас, Александр Михайлович, — сказала Амалия, забирая ключи и передавая их Билли. — Вы мне очень помогли.
— Может быть, вы все-таки объясните нам, что происходит? — вмешался Иван Андреевич. — Почему господин барон не желает никого выпускать?
Варенька злыми глазами смотрела, как, шурша платьем, Амалия садится в кресло, выбранное с таким расчетом, чтобы ее видели все гости. Что же до Билли, тот, получив ключи, сразу же вышел из комнаты и отправился караулить выходы из дома.
— На самом деле, дамы и господа, все очень просто, — уронила Амалия.
— Неужели? — пробормотала Евдокия Сергеевна как бы про себя, но вместе с тем достаточно громко, чтобы ее услышали все.
Амалия тихо вздохнула.
— Прежде всего, — продолжала она, — никто не задерживает вас в доме.
— И прекрасно! — воскликнул адвокат, делая шаг к двери.
— И, разумеется, — словно не замечая его панической попытки бегства, тем же спокойным и размеренным голосом продолжала Амалия, — вы совершенно вольны идти на все четыре стороны, при условии, конечно, что хотите стать назавтра героями скандала. А он будет непременно, можно даже не сомневаться.
Иван Андреевич, который поспешил вслед за Константином Сергеевичем, застыл на месте.
— Что еще за скандал? — спросил он неприязненно.
— На что вы намекаете? — запальчиво осведомился композитор.
Амалия повела плечами и выдержала паузу, прежде чем ответить.
— Я полагала, дамы и господа, что вы и сами уже обо всем догадались. Ведь убит не кто-нибудь, а иностранный подданный, маэстро Беренделли, хиромант, услугами которого пользовались многие сильные мира сего и даже, говорят, сам итальянский король. И в таких условиях вы полагаете, что решите все свои проблемы, уйдя отсюда? — Амалия усмехнулась. — По-вашему, слуги, как только их начнет допрашивать полиция, забудут о том, что вы находились здесь во время убийства? А газетчики, для которых данное дело наверняка станет лакомым кусочком? Ведь так давно не было больших пожаров вроде гродненского,[78] даже войны никакой приличной не предвидится, и тут… Убит маэстро Беренделли! Вы хоть понимаете, какие последствия повлечет за собой это происшествие? Даже если вы ни в чем не виноваты, вас все равно будут подозревать, а нынешние следователи чертовски въедливы. К тому же многие из них только спят и видят, как бы им отличиться по службе, а сегодняшнее преступление открывает перед ними такие возможности! — Амалия не говорила, а почти пела, и глаза ее лучились золотом. Александр не отрывал от нее взгляда. — Могу представить себе заголовки в завтрашних газетах. К примеру, такой: «Тайный советник замешан в убийстве».
— Что? — пролепетал бедный Иван Андреевич. — Милостивая государыня, что… Что вы себе позволяете, в конце концов?
Амалия покачала головой.
— Не я, глубокоуважаемый Иван Андреевич, не я, — поправила она. — Вы же знаете журналистов. Их ведь хлебом не корми, а только посули что-нибудь эдакое сенсационное. Как только они узнают имена тех, кто находился на вечере, у господ газетчиков будет такое поле для подозрений, что ваши нынешние заботы покажутся детской шалостью. Журналисты начнут гадать, начнут подпускать обидные намеки: а не было ли тут романтических причин? а кто пререкался с Беренделли перед его смертью? а что он успел сказать, а что сказать не успел? В ход пойдут самые дикие теории, самые досужие фантазии! Вы и опомниться не успеете, как вас обвинят во всех смертных грехах. И каковы будут последствия — известно одному всемогущему богу.
— Довольно, госпожа баронесса, — мрачно бросил Владимир Сергеевич. — Ход ваших мыслей нам вполне ясен. Как я понял, у вас есть какое-то предложение?
— Да, — кивнула Амалия.
— И в чем же оно заключается? — высокомерно осведомилась графиня Толстая.
— Мое предложение самое простое, — отозвалась Амалия. — Один из тех, кто находится сейчас в доме, — убийца. Но я не верю в то, что он мог остаться совершенно незамеченным, потому что такого никогда не бывает. Кто-то что-то обязательно заметил, но просто не придал увиденному значения. Поэтому все остаются на своих местах, а я побеседую с каждым и так или иначе пойму, кто убил маэстро Беренделли.
— Нелепо! — в сердцах проговорил композитор. — Просто нелепо!
Но Амалия только покачала головой.
— Или я проведу расследование здесь и сейчас, или к вам завтра же придут полицейские, а у ваших дверей станут дежурить газетчики. Вы этого хотите? — Однако, если судить по лицам гостей, ничто подобное отнюдь не составляло предмета их желаний. — Для нашего же блага нам лучше разобраться в том, что именно здесь произошло, самим.
Никита Преображенский мучительно размышлял. Кто же она такая на самом деле, госпожа баронесса Корф? Откуда у нее столь властный тон, такое обезоруживающее хладнокровие и, главное, убежденность, что именно ей, Амалии, предстоит разгадать, кто и почему совершил убийство? Он ничего не понимал, но чувствовал, что сам заражается ее уверенностью. Кто он для всех собравшихся здесь людей? Маленький композитор с большими мечтами. Если и правда случится скандал и на его имя ляжет тень, велика вероятность того, что никто в целом свете не захочет иметь с ним дела. Что же до Элен… Никита достаточно хорошо знал женщин, чтобы не обольщаться на их счет. И он знал, что будет с ней ровно до тех пор, пока не наскучит, как происходило раньше с его предшественниками. И если следствие вдруг решит сделать его козлом отпущения, то вряд ли Элен станет защищать его. Скорее пожмет своими прекрасными белыми плечами и найдет себе другого музыканта, или художника, или артиста, который одновременно и молод, и неизвестен, а потому будет целиком зависеть от ее милостей.
Братья Городецкие переглянулись. Константин Сергеевич откашлялся.
— Должен вам заметить, госпожа баронесса, — очень спокойно промолвил адвокат, глядя на молодую женщину своими темными непроницаемыми глазами, — я ничуть не ставлю под сомнение вашу красоту, ваш ум и ваше очарование, но… — он улыбнулся. — Но ведь у вас нет полномочий, чтобы вести дело, а значит…
Городецкий хотел закончить свою фразу словами: «а значит, ваше предложение лишено смысла», — но его перебил барон Корф.
— Есть, — отрезал он. — У нее — есть.
Амалия взглядом призвала его к молчанию и повернулась к адвокату:
— Видимо, вы предпочитаете беседовать с судебным следователем. Что ж, ваше право. Если хотите оказаться под подозрением и, может быть, потерять право заниматься адвокатской практикой…
— С какой стати? — вспыхнул Владимир Сергеевич.
— А с такой! — предерзко ответил за Амалию Александр. — Что это за адвокат, рядом с которым произошло убийство? Лично я такому даже полушки бы не доверил.
Ах, до чего же решительный молодой человек, подумала восхищенная Евдокия Сергеевна. Так и рубит сплеча. Все-таки не отнять у военных присущего им шарма силы, что ни говори. Мужчине к лицу определенность. Женщина может прикидываться слабой и колебаться, а вот мужчина…
— Что за несчастье! — простонал ее муж, ни к кому конкретно не обращаясь. — Ну хорошо. Предположим, вы действительно… Если уж барон Корф… — От волнения Иван Андреевич не мог закончить ни одной фразы, но все и так понимали, что он имеет в виду. — В конце концов, действительно… эти следователи… дурно воспитанные разночинцы! — выпалил он, и щеки его побагровели. — Я полагаю, мы скорее можем довериться вам.
— И я обещаю не злоупотреблять вашим доверием, — с улыбкой отвечала баронесса Корф.
— Позволительно ли мне будет спросить, — вмешался Владимир Сергеевич. — Что, сударыня, заставляет вас думать, что вы сумеете в два счета отыскать убийцу?
— Я отнюдь не говорила, что именно в два счета, — отозвалась Амалия. — Однако я действительно намерена сделать все, чтобы отыскать его. А вы мне поможете.
— Ну просто глупо! — вырвалось у адвоката. — Вы, вы не можете заниматься расследованием!
— Она может, поверьте мне, — с металлом в голосе снова произнес Александр.
— Как интересно! — Графиня Толстая принялась обмахиваться веером из белых перьев. — Я словно попала в уголовный роман!
— Убийство — не развлечение, — сердито заметил Никита.
— Не спорю, — кивнула прекрасная Элен. — Но согласитесь, что-то тут есть мм… донельзя искусственное. Я хочу сказать, — женщина прищурилась, — что ж он за хиромант такой, если не мог предсказать собственную гибель?
— Действительно, — пробормотал Иван Андреевич. — Я полагаю, он был обыкновенный шарлатан.
— Возможно, — отозвалась Амалия. — Однако шарлатан или нет, но он осмелился сделать крайне неприятное заявление, которое кто-то из присутствующих принял близко к сердцу. Настолько близко, что не поленился пойти к Беренделли, когда тот отдыхал в малой гостиной, и зарезать его.
— Так что же, вы и правда думаете, что убийца один из нас? — Павел Петрович смотрел на Амалию широко распахнутыми глазами. — Не может быть!
— Конечно, — поддержала его Евдокия Сергеевна. — В дом наверняка проник кто-то посторонний. Вор хотел ограбить Беренделли, ну, и убил его.
— Не хотелось бы вас разочаровывать, — очень вежливо сказала Амалия, — но все ценные вещи оказались на месте.
— Потому что вор пытался ограбить Беренделли, но не успел, — подала голос Варенька.
Девушке ужасно хотелось молвить хоть слово поперек противной баронессе Корф, но ничего путного не вышло. Адвокат поморщился, его брат лишь недоверчиво покрутил головой. И в самом деле, зачем вору, если уж он проник в дом, убивать кого-то, когда вокруг достаточно ценных предметов? Унеси их потихоньку, и дело с концом, и вовсе не надо идти на такой риск.
— Тем не менее, баронесса, вы пока не можете утверждать наверняка, что в доме в момент убийства не было посторонних, — с невыносимой юридической обстоятельностью заметил Константин Сергеевич. — Нет слов, ваша гипотеза весьма привлекательна, но пока у вас нет никаких доказательств для ее обоснования.
— А слуги? — неожиданно вскинулся тайный советник. — Мне кажется, сударыня, что вы склонны скорее подозревать кого-то из нас, но прежде всего следует допросить слуг! Вдруг кто-то из них польстился на вещи, бывшие при Беренделли, и потому зарезал его?
Павел Петрович подскочил на месте.
— Иван Андреевич! Я вас заверяю… Честное слово дворянина! Чтобы я да брал в дом душегубцев… — Негодованию хозяина не было предела.
— Милостивый государь, в таком тонком деле, как следствие, нельзя полагаться ни на чье честное слово, — заметила Амалия. — Но, в любом случае, со слугами я побеседую обязательно.
Хозяин дома поглядел на Амалию и угас. Чем дальше, тем сильнее он чувствовал, что его словно затягивает трясина, выбраться из которой он бессилен. Сейчас он больше всего жалел, что вообще пошел на поводу у жены и устроил этот никчемный вечер. «В следующий раз, — решил для себя Павел Петрович, — буду стоять на своем и не дам Аннушке верховодить». И хотя статский советник отлично знал, что ничего такого у него не получится, ему было приятно думать, что когда-нибудь он все-таки проявит твердость и покажет себя с самой неуступчивой стороны.
— Александр, значит, мы остаемся? — взволнованно спросила Варенька. — Но мои родители… Они будут волноваться!
— Они не станут волноваться, потому что знают: я с вами, — спокойно ответил барон Корф.
Что-то такое было в его тоне, отчего Варенька моментально воспряла духом. «Конечно, он больше не любит свою бывшую жену, — подумала Варенька. — Но он служит при дворе и не может позволить, чтобы на его имя легла тень. Сегодняшняя история крайне… крайне дурно пахнет. Только поэтому он и поддерживает решение этой дамы самим провести следствие. Очень разумно, очень».
— Позволительно ли будет мне спросить, с чего именно, сударыня, вы собираетесь начать? — непринужденно осведомился Владимир Сергеевич. Его самого, судя по всему, все происходящее слегка забавляло.
— Для начала, — сказала Амалия, — мне хотелось бы иметь список всех слуг с обозначением их обязанностей. Всех, кто находится в доме сегодня.
Павел Петрович провел ладонью по лицу.
— Хорошо… Анна Владимировна осталась с Митенькой, я попрошу ее составить такой список. Что-нибудь еще?
— Пока больше ничего, — ответила Амалия. — Соседняя комната свободна?
— Да, но ее еще не обставили, — несколько сконфузился Верховский.
— Не имеет значения. С вашего позволения, дамы и господа, я отправлюсь туда и буду вызывать вас по одному. — Она повернулась к своему бывшему мужу. — Как ваша рука, Александр? Не болит?
— Прошу вас, не беспокойтесь, — откликнулся тот. — Со мной все хорошо. Или вы хотите прежде всего поговорить со мной?
Амалия бросила взгляд на Вареньку и заметила, что та как-то уж чересчур нервно прислушивается к их разговору и то и дело покусывает губы. Поэтому молодая женщина сказала:
— Нет, Александр. Прежде всего я хочу побеседовать с Венедиктом Людовиковичем.
Глава 11 Версии
— Мне казалось, мы с вами уже обо всем успели побеседовать раньше, — с некоторым удивлением заметил доктор, садясь напротив Амалии.
Комната, в которой они сейчас находились, похоже, была предназначена для хранения старых игрушек, которые по каким-то сентиментальным причинам хозяевам жалко выбрасывать. На полках неказистого, кособокого шкафа были разложены кубики, оловянные солдатики, ветхие куклы. В углу стоял целый ящик, набитый старой елочной мишурой, и Амалия невольно задержала на нем взгляд. По ее просьбе на шаткий столик поставили лампу и принесли из гостиной два стула.
— Должна вам признаться, доктор, — заговорила баронесса с легкой улыбкой, — наш разговор — лишь некий стратегический маневр с моей стороны.
— В самом деле? — усомнился Венедикт Людовикович.
— Да. Мне бы хотелось, чтобы остальные гости немного успокоились, потому что для меня крайне важно будет все, что они смогут вспомнить. А когда человек встревожен, взбудоражен, trop nerveux,[79] от него, как от свидетеля, мало толку.
— Ну, раз так… — Де Молине пожал плечами. — Можно вопрос, госпожа баронесса? Вы и в самом деле рассчитываете найти того, кто убил Беренделли?
— Да, — просто ответила Амалия. — Как мы знаем, Беренделли был убит после того, как вы оставили его в малой гостиной, и перед тем, как я с Верховскими и Бил… с моим кузеном заглянула к нему, чтобы попрощаться. Что вы помните о том промежутке времени?
— Я? — Доктор поморщился. — Думаю, то же, что и все. Мадемуазель Мезенцева пела, господин композитор ей аккомпанировал.
Амалия вздохнула.
— Собственно говоря, меня скорее интересуют те, кто по каким-либо причинам выходил из комнаты, — призналась она. — Вот вы, к примеру, — вы сами выходили из гостиной?
— Я? Нет.
— Вот именно поэтому мне и важно ваше мнение, — объяснила Амалия. Во время выступления Вареньки доктор находился как раз против нее, и она отлично помнила, что тот и в самом деле не покидал гостиную.
— Понимаю, — протянул Венедикт Людовикович. — Видите ли, госпожа баронесса… Не знаю, как вам объяснить, но я был очень увлечен пением. Музыка напомнила мне времена… — мужчина замялся, затем объяснил с вымученной улыбкой: — Я погрузился в приятные воспоминания.
— Вы любите оперу? — поинтересовалась Амалия.
— Да, — вздохнул доктор. — Когда я жил в Париже, то старался не пропускать ни одной премьеры. Правда, это было давно, я учился тогда в университете, — пояснил он. — Снимал каморку у старушки на Иерусалимской улице, которая работала в оперном театре, и она иногда тайком проводила меня в зал. Впрочем, чаще мне приходилось покупать билеты на галерку — я не хотел, чтобы у бедной женщины из-за меня возникли неприятности.
— Вижу, вам нелегко пришлось в жизни, — заметила Амалия.
— Да, и от тех времен мне осталась в наследство болезнь желудка, — усмехнулся де Молине. — Фиакр после представления я тоже не мог себе позволить, так и возвращался к себе ночью — пешком.
Амалия с любопытством взглянула на него.
— Наверное, в те годы это было не слишком безопасно. Париж — беспокойный город.
— Нет, у нас на Иерусалимской улице все старались вести себя прилично. Разве вы не знаете? Ведь рядом находится полицейское управление Парижа.
— А, ну да, конечно, — протянула Амалия. — Кстати, у нее очаровательный голос.
— У мадемуазель Мезенцевой? О да! Жаль только, что ее талант так и пропадет в гостиных, ведь девушка никогда не выйдет на сцену.
— Однако, как вы понимаете, Венедикт Людовикович, интересует меня сейчас не она, а тот из гостей, кто выходил во время ее выступления. Постарайтесь все-таки вспомнить, вы никого не заметили?
— Поскольку это действительно важно… — де Молине наморщил лоб и задумался, а Амалия отвела глаза и стала смотреть на ящик с елочной мишурой. Прошло несколько минут.
— Я помню, композитор выходил перед последней арией, — наконец промолвил доктор. — Он извинился и вышел, но очень скоро вернулся. Еще, мне кажется, госпожа графиня тоже исчезала на какое-то время. Впрочем, я не слишком уверен.
— Значит, Никита Преображенский и Елена Николаевна Толстая, — пробормотала Амалия. — Очень хорошо. Ваша информация многое нам дает.
— А мне не дает ничего! — внезапно выпалил Венедикт Людовикович. — Я не могу себе представить ни одного из них в роли убийцы несчастного маэстро. Не говоря уже о том, что мало ли какие могли быть у них причины выйти на минуту из комнаты.
— Как раз причины мне и предстоит установить, — с загадочной улыбкой отозвалась Амалия. — Больше вы ничего не помните?
— Боюсь, нет.
— Хорошо. Если вдруг…
— Да, разумеется, госпожа баронесса. — Де Молине поднялся с места.
— Благодарю вас, Венедикт Людовикович. Если вас не затруднит, пригласите ко мне господина барона.
Доктор вышел из комнаты, и через минуту знакомый Амалии — даже слишком хорошо знакомый! — стройный блондин переступил порог.
— Мне сказали, вы меня ждете?
— Да. Прошу вас сесть.
— Лично я запретил бы следователям допрашивать своих близких, — все-таки не удержался барон от того, чтобы показать свой нрав. Но Амалия не обратила на его слова особого внимания.
— Мы с вами давно уже не близки, Саша, — мягко напомнила она. — А как раз наоборот. Кстати, позвольте вас поздравить.
— С чем? — насупился офицер.
— Ваша невеста очень мила.
— Вот как? — Глаза Александра сверкнули. — Должен заметить, сударыня, что если бы не ваше настойчивое и совершенно необъяснимое желание разорвать узы брака, которые нас связывали, я бы никогда… — он осекся, потому что продолжение фразы сказало бы куда больше, чем он готов был сказать.
Амалия смотрела на кукол в шкафу. В комнате воцарилось молчание.
— Могу я спросить? — нарушил тишину Александр.
— Да.
— Почему вы пошли к императору с прошением о разводе? Чем я имел несчастье не угодить вам? Мне кажется, я делал все… — Он закусил губу. Амалия по-прежнему упорно не смотрела на него. — Я никогда не оскорблял вас даже в мыслях. Кто-то оклеветал меня? Вы поверили чьей-то сплетне? Чьей?
…Нет, все это было слишком мучительно, слишком непросто. Как, как можно объяснить человеку, что она ушла, потому что просто разлюбила его? За одно мгновение — всего лишь за одно! — но его хватило для того, чтобы она поняла, что больше не может быть с ним рядом. Да, он обожал ее, готов был на все ради нее, но какое это имело значение, если она его больше не любила?
— Или из-за моей семьи? — спросил Александр.
Он был совсем рядом, стоит только руку протянуть: Амалия слышала его тяжелое дыхание.
— Из-за того, что они не приняли ваших родных?
Конечно, и отношение его родных сыграло свою роль. Разве могли у них вызвать симпатию гордые, но не обремененные достатком самые близкие Амалии люди — дядя, заядлый картежник, и мать, слишком яркая, слишком непохожая на всех. Вдобавок ко всему они были поляки, что более чем серьезно в те времена. Сколько русских писателей выводили польских подданных российского императора в своих произведениях, и все выходило нечто карикатурное и крайне малоприятное: в лучшем случае — стяжатели, задиры, пустопорожние врали и хвастуны, в худшем — шулера, обманщики и вообще самый что ни на есть пустяковый народ. (Заметим в скобках: разве что однажды у писателя Булгакова появится в романе положительный герой польского происхождения, капитан Студзинский, да поэт Бальмонт сочинит нечто хвалебное о польских паннах и их нежности, но гораздо позже.) А пока нет ничего, кроме карих глаз Амалии, прикованных к отблеску лампы на запыленной золотистой елочной мишуре. И других глаз, смотревших на нее, не отрываясь.
— Ваша семья тут ни при чем, — сказала наконец Амалия.
Он решил, что она говорит так просто из вежливости, чтобы не ранить его гордость. Но она, в общем-то, сказала правду: его семью она не замечала в упор, ей не было дела до скучных и, как она считала, совершенно незначительных людей. Какой-то «заржавленный» генерал Корф, который почти безвыездно жил в имении и от скуки мастерил бумажные кораблики, чтобы потом пускать их в пруду, и его жена, бывшая красавица, ядовитая, как змея, и набожная, как все бывшие красавицы, которые провели чрезмерно бурную молодость, просто не существовали для Амалии. Чуть поинтересней, наверное, был двоюродный дед Александра, некогда учившийся вместе с Пушкиным, но он уже умер. И потом, надо было иметь талант особого рода, чтобы о таком незаурядном однокашнике написать настолько заурядные воспоминания. Нет, не в этих людях было дело, вовсе не они стали причиной того, что в один прекрасный день Амалии стало тесно, душно во внешне счастливом браке и захотелось бежать из него куда угодно, любой ценой.
Она вспомнила сейчас слова своей матери: «Дорогая, что я могу тебе сказать? Чем сложнее человек устроен, тем тяжелее ему приходится в семейной жизни. И чем он проще, тем ему легче. И все же, по-моему, ты совершаешь большую ошибку».
Но Амалия считала — и верила до сих пор, — что лицемерие в браке, когда он превращается в простую формальность, еще большая ошибка. Потому-то в один прекрасный день она и огорошила своего мужа заявлением, что уходит от него. Дальше было все, что обыкновенно происходит в таких случаях. Клятвы, мольбы, угрозы одна безобразнее другой. Все выглядело так нелепо, так гадко, так оскорбляло ее чувства, что если Амалия и колебалась ранее, то теперь лишь убедилась в верности принятого ею решения.
Потом они не встречались несколько лет. Серьезно заболев, Амалия была уверена, что Александр будет только рад, если она умрет. Она не сообщила ему о своей болезни и не писала ему, но перед отъездом в санаторий озаботилась составить завещание, по которому опекунами ее детей (родного и приемного) назначались мать и дядя.
И вот теперь всесильному случаю было угодно свести бывших супругов на вечере у малознакомого статского советника, где был убит один из гостей.
Амалия поморщилась. «Зря я отправила Билли стеречь вход», — мелькнуло у нее в голове. Ей было бы все-таки легче, если бы при ее разговоре с мужем присутствовало третье лицо. И лучше всего друг, который уже не раз и не два доказывал ей на деле свою преданность.
— Скажите, — внезапно спросил Корф, — Уильям — ваш любовник?
Это было полное забвение всех приличий, и если Александр дошел до такого, значит… значит… Но Амалия не стала думать о том, что это значит, а очень просто ответила:
— Нет.
В дверь постучали.
— Войдите! — крикнула Амалия. Через порог переступил Павел Петрович. Он вошел в комнату как-то боком и держался немного сгорбившись, так что у Корфа при взгляде на него сразу же мелькнула мысль: что-то тут нечисто, не исключено, что хозяин дома выглядит так потому, что именно ему пришла в голову счастливая мысль зарезать заезжего хироманта. В руках Павел Петрович держал листок, исписанный мелким почерком.
— Вот, госпожа баронесса, то, что вы просили… список слуг. Анна Владимировна составила его. Если у вас возникнут вопросы…
— Может быть, позже, — обронила Амалия, пробегая листок глазами и откладывая его в сторону. — Как себя чувствует ваш сын?
— Ему лучше. — Павел Петрович, судя по всему, был не в настроении вдаваться в подробности.
— Хорошо. Позже я поговорю и с ним тоже. Может быть, он что-нибудь запомнил…
— Да, конечно, госпожа баронесса.
Хозяин дома вяло поклонился и удалился, шаркая ногами.
— Хотел бы я знать, что у него на душе сейчас, — внезапно сказал Александр.
Амалия пожала плечами.
— На душе у него скверно, как и у любого человека, в чьем доме произошло преступление. Лучше постарайтесь вспомнить, кто из гостей покидал гостиную, пока ваша невеста пела.
Александр метнул на нее хмурый взгляд.
— Я так и думал, — буркнул он.
— Что именно? — поинтересовалась Амалия.
— Просто забавно, что мы с вами пришли к одному выводу, — пояснил барон, не сводя с нее огненного взгляда. — Когда доктор оставил Беренделли в малой гостиной, тот был еще жив, а потом почему-то оказался мертв. Значит, его убил тот, кто выходил из большой гостиной. — Он прищурился. — А что, вы разве не запомнили, кто покидал комнату?
— Пока меня интересует, что запомнили вы, — тихо сказала Амалия.
Вместо ответа Александр откинулся на спинку стула.
— А если я забыл? — внезапно с неким вызовом спросил он. — Такое ведь бывает, не правда ли?
— Тогда убирайтесь ко всем чертям! — тотчас же отозвалась Амалия, вмиг превращаясь в сварливую бывшую жену. Не то чтобы терпение не относилось к числу ее добродетелей — просто она ненавидела, когда в важном деле начинали препираться по пустякам. А барон, судя по его последним словам, был не прочь заняться именно этим.
— Поразительно, — уронил он в пространство. — По вашему воспитанию я бы никогда не предположил, что вы способны на столь вульгарную фразу.
«И он еще удивляется, отчего я с ним развелась! — усмехнулась Амалия. — Положительно, барон Корф в совершенстве владеет искусством быть невыносимым. И особенно тогда, когда сие абсолютно неуместно!»
— Анна Владимировна Верховская, ее муж Павел Петрович, графиня Толстая, тот рыжий господин, забыл, как его зовут, и еще сын хозяев, — без всякой интонации перечислил Александр. — Анна Владимировна, насколько я помню, выходила дважды, но я не уверен, что она успела бы добраться до Беренделли и всадить ему в сердце кинжал, потому что всякий раз хозяйка очень быстро возвращалась. Вот все, что я сумел вспомнить. — Барон наклонился к Амалии. — На всякий случай, если вдруг у вас, сударыня, возникнут какие-то сомнения, могу также поклясться честью офицера, что ни я, ни моя невеста не выходили из большой гостиной.
И он ослепительно улыбнулся. А обыкновенно миролюбивая Амалия поймала себя на мысли, что именно за улыбку, а в особенности за вызывающий тон с удовольствием влепила бы барону пощечину. Впрочем, не исключено, что он как раз того и добивался. Амалия решила ему досадить и с еще более ослепительной улыбкой произнесла:
— Благодарю вас, сударь, вы сообщили все, что мне нужно. Можете идти.
Она указала глазами на дверь, словно ее бывший муж был самым обыкновенным слугой, и углубилась в чтение списка, который для нее составила Анна Владимировна. Александр, помрачнев, поднялся с места. У него наготове имелась еще одна колкость для бывшей жены, но он так и не успел ее произнести, потому что за дверью послышались топот ног и чьи-то приглушенные возгласы. Амалия нахмурилась.
— Что там такое?
Барон Корф распахнул дверь.
— Он умирает! — стонала некрасивая горничная с лицом, залитым слезами. — Говорю вам, он умирает!
— Постойте, постойте, — бормотал доктор де Молине, — я немедленно осмотрю его.
— В чем дело, доктор? — громко спросил барон, и Венедикт Людовикович повернулся к нему.
— Трофим… один из слуг… кажется, ему очень плохо. По крайней мере, так говорит мадемуазель… мадемуазель… — Он осекся и беспомощно посмотрел на горничную.
Амалия рывком поднялась с места.
— Подождите меня! Я иду с вами.
Глава 12 Два или один
Узкая, как пенал, захламленная комнатка. Пахнет щами, по?том, какой-то кислятиной и болью.
— О го-осподи…
Человек на скрипучей кровати стонет и мечется. То стискивает зубы, то скалится в тоске.
— Больно… больно…
— Сейчас, — говорит доктор Венедикт Людовикович, наклоняясь над ним, — сейчас я вас осмотрю…
Больной стонет. Он ничего не понимает. Что даст ему осмотр? Ему плохо, плохо, и все тут!
Глаша застыла на пороге, стиснув руки до того, что побелели пальцы. Ее губы дрожат.
— Его зовут Трофим? — спрашивает Амалия, кивая на больного.
— Да, сударыня.
— Когда ему стало плохо?
— Совсем недавно. Все было хорошо, и вдруг…
Трофима начинает тошнить.
— Похоже на отравление, — негромко замечает Александр, кивая на больного.
— В самом деле, — соглашается Амалия и оборачивается к Глаше: — Скажите, что он ел сегодня?
— Он-то? Да то же, что и всегда…
— Ничего необычного?
— Нет, сударыня… Откуда уж у нас необычное-то…
Трофим откидывается на подушку. Доктор щупает пульс, морщится.
— Странно, — произносит де Молине по-французски, ни к кому конкретно не обращаясь. — Если бы не…
— Что, доктор?
— Да нет, наверное, глупо предполагать… — Венедикт Людовикович качает головой. — Но по всем признакам… он еще упоминал металлический привкус во рту… — Де Молине колеблется, но наконец решается: — Очень похоже на отравление мышьяком.
— Черт возьми! — вырывается у Корфа. — Вот еще не хватало!
— Как вас зовут? — обращается Амалия к некрасивой девушке в одежде горничной, которая тихо всхлипывает.
— Глаша.
— Очень хорошо. Глаша, у вас в доме есть мышьяк?
— Что вы, сударыня!
— К примеру, чтобы выводить мышей. Разве нет?
— Для мышей у нас кот Васька имеется, — возражает Глаша. — А о мышьяке я ничего не слышала.
Новый приступ рвоты сотрясает Трофима.
— Может быть, кто-то в доме болеет чахоткой, и ему прописали мышьяк как лекарство? — продолжает Амалия (в то время некоторые доктора и в самом деле имели обыкновение прописывать от туберкулеза небольшие дозы мышьяка).
Но Глаша уверенно стоит на своем. Нет, в доме все здоровы, никто, слава богу, легкими не страдает, иначе она бы знала. Она ведь, слава богу, у Верховских не первый год служит…
— Сначала убийство, теперь отравление, — замечает Александр. — Черт знает что такое!
Он поймал взгляд своей жены и на мгновение пожалел, что вообще встрял со своим замечанием. Но продолжение сцены несказанно удивило его.
— Саша, — внезапно улыбнулась Амалия, — вы просто прелесть.
— Что? — Барон, казалось, не верил своим ушам.
Но Амалия уже обернулась к горничной, и лицо у молодой женщины сделалось такое суровое, что Глаша даже перестала всхлипывать.
— Послушайте, Глаша, но ведь просто глупо упорствовать. Скажите мне правду! Ведь Трофим доедал какие-то остатки с господского стола, верно?
— Но… но… — Глаша искала слова для ответа и не находила.
— Глаша! Это очень важно! Ведь мог пострадать не только он, но и кто-то другой… Вспоминайте немедленно! — Амалия не говорила, а почти кричала. — Что он ел?
— Сударыня…
— Что — он — ел? Что? Что?
— Отвечайте, черт бы вас побрал! — пришел ей на помощь барон Корф. — Ну?
— Он ничего не ел. — Глаша залилась слезами. — Он кофе выпил… из чашки… Мне, говорит, много не надо… Скромнейший человек! И вежливый всегда был, не то что другие лакеи… А что со стола… Так ведь господин повар так старались, готовили… И что же теперь — все выбрасывать? Нехорошо… некрасиво… И господа нам не запрещали…
Она говорила еще что-то, сбиваясь на каждом слове. Но молодая женщина больше не слушала ее.
— Кофе, значит, — пробормотала Амалия, оглядываясь на мужа.
Александр дернул ртом.
— Беренделли точно пил кофе, — сказал он.
— Да, Билли тоже его пил, — отозвалась Амалия. — Как и большинство гостей. — Она обернулась к Глаше. — Мне нужно взглянуть на ту чашку. Посуду еще не вымыли?
Барон и баронесса Корф вместе с горничной отправились на кухню.
* * *
— Не повезло, — констатировал Александр.
Чистенькие блестящие кофейные чашки грудой громоздились на столе. Отдельной стопкой высились блюдца, и Амалия, глядя на них, только покачала головой.
— В конце концов, — сказал Александр, — чашка бы нам ничего не дала. Все чашки были одинаковые, насколько мне помнится. И та, из которой пил Беренделли, ничем от других не отличалась.
Кухарка Дарья, исподлобья глядя на господ, вытирала красные руки о передник. Под столом примостился большой рыжий кот, который как раз приканчивал рыбную голову.
— Наверное, вы правы, — со вздохом призналась Амалия. — Будем рассуждать логически: лакей допил чашку одного из гостей, если бы тем гостем был не Беренделли, Венедикт Людовикович сейчас промывал бы желудок не одному человеку, а сразу двум.
Барон Корф улыбнулся.
— Замечательный дом, честное слово, — сказал он. — Признаться, теперь я уже почти не жалею, что пришел сюда. В редком романе встретишь нагромождение таких… приключений.
— Прошу вас, Александр! — Амалия поморщилась. Покосилась на невозмутимую Дарью и продолжала уже по-французски: — Дело еще сложнее, чем я думала. Сначала Беренделли делает совершенно неуместное заявление об убийце, который находится в доме, затем… затем ему становится плохо. Конечно же! Его недомогание вовсе не было случайностью — ему стало плохо, потому что кто-то позаботился подсыпать ему в кофе мышьяк. Так вот почему он выглядел так странно, когда мы его обнаружили! Вот откуда слюна на лице и расширенные зрачки! Просто яд не успел до конца подействовать.
— Подождите, подождите, — вмешался барон. — Если Беренделли отравили, а судя по состоянию Трофима, сделали это на совесть, зачем надо было приходить и добивать его кинжалом? Что, наш убийца не доверял мышьяку?
— Вряд ли, — медленно проговорила Амалия. — Нет, Александр. Теперь я думаю, что убийц было двое.
В ответ ее муж самым непочтительным образом присвистнул.
— О! Нет, Амалия Константиновна, такое предположение уже слишком.
— Отчего же? Один человек отравил Беренделли, другой зарезал его. Все сходится.
— Ну тогда я даже не знаю, что это за дом, — пробормотал барон Корф, пожимая плечами. — Просто уже и не дом, а разбойничий притон какой-то! Но почему?
— Что «почему»?
— Зачем сразу двум людям могло понадобиться убивать несчастного шарлатана? Что он им сделал?
— Судя по всему, они не думали, что итальянец — шарлатан. И его заявление застигло их врасплох.
— То есть?
— Два человека из числа гостей являются убийцами. И им не понравилось, когда Беренделли произнес вслух то, что думал. — Амалия сверкнула глазами и так топнула ногой, что кот под столом на мгновение выпустил из пасти рыбью голову и заинтересованно уставился на нее. — Каждый из двоих отнес заявление маэстро на свой счет, понимаете? И каждый решил, что Беренделли может его разоблачить. Поэтому они и сделали все, чтобы заставить его замолчать.
— До чего же опасно быть хиромантом, — вздохнул барон Корф. — И кто тянул его за язык, в самом деле? Захотелось театрального эффекта, а получилось…
Александр вдруг умолк, потому что ему в голову пришла неожиданная мысль: получилось так, что он теперь находится рядом с Амалией. И он не мог не признаться себе, что это скорее радует его, чем огорчает. Впрочем, почти в то же мгновение его радости пришел конец, потому что в кухне материализовался щуплый молодой человек в щегольском костюме, светловолосый и с карими глазами.
— Мне показалось, или здесь еще кого-то убили? — адресуясь исключительно к Амалии, осведомился он.
Баронесса вкратце объяснила Билли, что именно произошло, и изложила свои выводы по поводу случившегося. Выводы же самого Билли оказались достаточно парадоксальными.
— Ну и работенка у ручных гадателей! Им не позавидуешь, — проворчал он. — Говорят неправду — все начинают их презирать. Попадают в точку, так их сразу же норовят убить. Тяжеловато им приходится!
— Билли, — прервала его рассуждения Амалия, — ты мне лучше вот что скажи: из дома точно никто не выходил? Ты уверен?
— Конечно, не выходил, — фыркнул Билли. — Я обе двери запер, заложил засовами и ходил туда-сюда, чтобы никому не вздумалось втихаря их отпереть. Вы же мне приказали, ну я и постарался. — Он неприязненно покосился на барона. — Так что можете быть уверены…
И тут чуткое ухо Амалии уловило где-то по соседству звон разбитого оконного стекла.
— Александр! — крикнула она. — Вы слышите?
Все трое бросились к выходу, но толстая Дарья замешкалась у порога, и на то, чтобы ее обогнуть, ушло бы несколько драгоценных секунд, если бы хрупкий Билли не ухитрился каким-то непостижимым образом отшвырнуть ее в сторону. С протестующим воплем Дарья повалилась на стол, где сохли чашки. Стол не выдержал столь могучего натиска и опрокинулся, а вся посуда рассыпалась по полу, превратившись в крошево из дорогого фарфора.
— Караул! — взвыла кухарка.
Кот, в последнее мгновение успевший выскочить из-под стола, засел под шкафом и там, вздыбив усы, слушал все те выражения, которые Дарья, совершенно не стесняясь, отпускала в адрес хозяйских гостей. Впрочем, тем было совершенно не до кухарки и ее неожиданного красноречия.
— Скорее, Александр!
Налево, еще раз налево, прямо…
— Сюда!
В распахнутое окно тянуло холодом. Билли первый взлетел на подоконник и приземлился на спину убегавшего.
— Держи! Держи, не пускай!
В большой гостиной Константин Сергеевич Городецкий услышал творящийся внизу переполох и уронил сигару, которую ему только что предложил хозяин дома. Иван Андреевич в волнении приподнялся с кресла.
— Что там, боже мой? — лепетала хозяйка, совершенно потерявшая голову.
Варенька бросилась к окну. В саду, припорошенном снегом, боролись несколько человеческих фигур.
— Ну конечно же! — воскликнул Павел Петрович. — Я так и думал! Это и есть тот человек, который убил Беренделли!
— Посторонний в доме! — поддержал его Никита. — И к чему, спрашивается, было раздувать здесь историю с допросами…
Гостям не сиделось на месте, и они поспешили вниз. Однако входная дверь оказалась накрепко заперта, и, как они ни старались, открыть ее не удалось. Из сада донеслось несколько приглушенных воплей, затем все стихло.
— Что творится, что творится! — нараспев говорила Евдокия Сергеевна. Она уже предвкушала, какими красками будет расписывать в письме кузине Мими то, что произошло на званом вечере, когда все кончится и они с Иваном Андреевичем вернутся домой.
— Окно! — сообразил Павел Петрович и бросился в чулан.
Но хозяин тотчас же отступил назад, потому что из сада на подоконник взбирался злой и взъерошенный американский кузен. Он достал из кармана ключи, прошествовал к выходу, после чего отпер дверь, и Александр втащил в дом здоровенного малого с угрюмой физиономией. На физиономии его наливался внушительных размеров синяк, отдаленно похожий на голубую розу.
— Убийца! — взвизгнула Евдокия Сергеевна.
Незнакомец покосился на нее так, что женщина содрогнулась и поспешно спряталась за широкую спину мужа.
— Вот и выяснилось наконец, кто убил итальянца, — важно изрек адвокат. — Вор забрался в дом и хотел ограбить Беренделли, для чего ему пришлось заколоть несчастного. Теперь все ясно! Все — совершенно — ясно! — хищно пропел Константин Сергеевич.
— Вы так уверены? — холодно бросила Амалия.
— Где вы его нашли? — пролепетала Анна Владимировна, во все глаза глядя на незнакомца.
— Прятался в чулане, — доложил Александр, вытирая кровь с разбитой губы. — Когда этот господин, — барон кивком головы указал на хмурого Билли, — покинул свой пост, он решил, что пора бежать, и попытался выскочить в окно, но оно оказалось ему узко, вот и пришлось разбить стекло.
— Боже! — ахнула Варенька, глядя на него. — Боже! Значит, он и есть тот, кто убил…
Тут незнакомец обрел голос:
— Никого я не убивал! — сердито выкрикнул он.
— А это, голубчик, уже суд установит, — со змеиной улыбочкой произнес Владимир Сергеевич.
— Вряд ли, — очень спокойно отозвалась Амалия. — Думаю, он и впрямь никого не убивал.
— Позвольте! — в негодовании вскинулся Иван Андреевич. — Но ведь мужчина каким-то образом залез в дом, скрывался в чулане, как вы говорите, а потом попытался бежать! Тут явно нечисто!
Амалия обернулась.
— О да, Иван Андреевич, действительно нечисто. Но здесь вовсе не то, что вы думаете.
— То есть как? — надменно подняла подбородок графиня Толстая.
Не отвечая, Амалия двинулась на кухню, а заинтригованные гости пошли за ней следом. Александр и Билли конвоировали пленника, который угрюмо молчал и, казалось, покорился своей судьбе.
В кухне, не обращая внимания на злобные взгляды Дарьи, Амалия быстро и ловко обыскала все помещение и наконец нашла в углу скомканную шинель.
— Так я и думала, — вздохнула молодая женщина. — Господа, позвольте вам представить хорошего знакомого Дарьи, пожарного. Так сказать, заглянул к ней на огонек.
Глава 13 Неожиданный свидетель
Рыжий кот вылез из-под шкафа, потянулся и без малейшего смущения потерся головой о ногу пленника. Судя по всему, мужчина был на кухне частым гостем.
— Дарья? — пролепетала Анна Владимировна, не веря своим глазам. — Но… но как же так?
Кухарка отряхнула юбку, сметая с нее осколки блюдец, и угрюмо потупилась.
— Что здесь произошло? — Павел Петрович только что заметил опрокинутый стол и разбитую посуду. — Вы дрались?
— Я бы так не сказала, — вмешалась Амалия. — Вы очень храбро пытались нас задержать, Дарья. Только не следовало вам так делать.
Билли шмыгнул носом и потер его своей маленькой рукой. Пожарный поглядел на нее, вспомнил удар, который схлопотал от щуплого молодого человека, и насупился. В голове у него до сих пор слегка шумело.
— Дарья, это правда? — строгим голосом вопросил хозяин дома.
Кухарка потупилась.
— Ну, они нас навестили… — Женщина встретила взгляд пожарного и тяжело покраснела. — В гости зашли. А что тут такого? Свои люди, чай… — Кухарка уставилась в пол, плечи ее поникли.
Анна Владимировна беспомощно глянула на мужа.
— Боюсь, я вынуждена буду дать вам расчет. Это… это безответственно! Совершенно неслыханно…
— Успокойтесь, мадам, — вмешалась Амалия. — Ничего ведь страшного не произошло. Просто… Простите, как вас зовут?
— Никифор, — буркнул пожарный, избегая ее взгляда.
— Просто Никифор зашел к Дарье попить чаю. Так ведь? На правах хорошего знакомого. — Амалия сощурилась. — А потом что было? А, Дарья?
— Потом, ну, известно, что потом… — забурчала Дарья. — Двери заперли, никого не выпускали… а хозяйка не любит, когда к нам заходят… К тому же в доме смертоубийство: мало ли что, вдруг на Никифора подумают… а он человек честный…
— Если он такой честный, отчего же в чулан спрятался? — скептически поджал губы Константин Сергеевич, вздернув бровь и придав своему холеному лицу глубокомысленное выражение.
— Действительно! — поддержала его графиня Толстая. — Может быть, он и убил бедного маэстро… а мы тут думали, гадали… — Она брезгливо покосилась на разбитую посуду на полу и зябко поежилась.
«Ну конечно, ты думала, — усмехнулся про себя Александр, причем на красивом лице его не шевельнулся ни один мускул. — Как будто у тебя есть, чем думать…»
— Так, дамы и господа, прошу спокойствия, — вмешалась Амалия. — Пока Никифор является свидетелем, и я им займусь. А вы, пожалуйста, вернитесь в гостиную. Дарья! Позовите слуг, пусть тут приберут. Вас я вызову потом.
— А по-моему, все совершенно ясно, — заупрямилась графиня. — Вам-то он, конечно, ничего не скажет, но я совершенно убеждена: он и убил Беренделли!
— Никифор никого не трогал! — вскинулась Дарья. — Не таковский он человек! Он третьего дня на канале дом тушил и чуть не обгорел! Ребенка из огня вытащил… Про него даже в газете пропечатали! Напраслину вы на него возводите, барыня!
Но графиня Толстая только презрительно улыбнулась.
— Просто поразительно, как представители низов горой стоят друг за друга, — бросила она по-французски композитору.
Однако Никита, чей отец был простым дьячком, ничего не ответил.
— Амалия Константиновна, вам нужна моя помощь? — очень вежливо спросил Александр, когда они поднимались по лестнице.
— Пожалуй, — кивнула Амалия. — Я хочу, чтобы вы с Павлом Петровичем осмотрели дом. Все комнаты! Не думаю, что здесь еще кто-то прячется, но… Вдруг мы обнаружим еще одного свидетеля? Вот вам список прислуги, который составила Анна Владимировна. Проверьте, на местах ли все люди и нет ли среди них кого-нибудь постороннего. — Баронесса поморщилась. — В сущности, так следовало поступить с самого начала, но я была совершенно уверена, что Беренделли убил кто-то из гостей, потому и не стала настаивать.
— Бьюсь об заклад, вы и до сих пор в том убеждены, — со смешком заметил барон.
— Пока у меня нет других версий, эта остается основной, — не стала возражать Амалия и повернулась к своему «кузену». — Билли! Проследи, пожалуйста, чтобы двери внизу были как следует заперты, а потом поднимайся ко мне. Окно тоже не забудь закрыть. — Она окинула шедших за ними гостей беглым взглядом. — Так, Венедикт Людовикович сейчас в комнате прислуги, спасает лакея, Дмитрий Павлович лежит у себя, все остальные здесь.
— И, по крайней мере, один из них убийца, если верить вам, — тихонько добавил барон Корф.
— Вы же знаете, я хотела бы ошибиться, но факты… — Амалия вздохнула и положила руку на его рукав. — Будьте осторожны, прошу вас. Надеюсь, мне понадобится всего пара часов, чтобы распутать это дело.
Несколькими ступенями ниже Варенька, заметив жест Амалии, отчаянно покраснела и закусила губу. Ресницы ее обиженно дрогнули, и молодой композитор посмотрел на девушку с невольным сочувствием…
* * *
— Значит, вас зовут Никифор? — приступила к допросу баронесса.
— Ну да. Мы люди простые… чего уж нам скрывать…
— А фамилия ваша?
— Архипов наше фамилиё, сударыня.
— Вы пожарный?
— Да.
За окном плыла петербургская ночь, и ветер раскачивал голые ветви деревьев. Тени лежали на тонком лице Амалии, и оно казалось утомленным, каким-то нездешним. Кукла со второй полки шкафа глядела на молодую женщину своим бессмысленным взглядом.
— Вы действительно спасли ребенка на пожаре?
— Именно так, сударыня. Все это видели, даже господин газетчик. Он обещался в газете про меня написать.
— И что, не сдержал слово?
— Сдержал. Только вот фамилиё переврал, написал — Охрипов. Курам на смех.
— Я думаю, вам дадут медаль за храбрость, — сказала Амалия. — Я даже готова похлопотать у губернатора… Но вы должны мне помочь.
«Ну да, как же, — подумал пожарный. — В смертоубийстве себя обвинить, что ли?»
— Когда вы пришли к Дарье?
— Когда? Сегодня не мой день, не дежурю я. Свободен то есть… совсем. Так что я к ней заглянул… часам к восьми… или к семи… Не могу сказать точно, сударыня.
— Приглашенный повар, Самородков, уже был здесь?
— Он-то? Конечно…
— И что он готовил?
— Повар? Такой важный господин… я боялся и слово при нем молвить. По-моему, он мороженое сочинял. Да, теперь точно вспомнил, мороженое!
— Десерты подавали в самом конце, но сначала их надо было приготовить… Значит, скорее было ближе к девяти… — вслух прикинула Амалия. Затем задала следующий вопрос: — И что вы делали с Дарьей?
— Мы? Ну, известно что, разговаривали.
— Другие слуги вас видели?
— Конечно. Да вы кого хошь спросите…
— Что было потом?
— Потом? Ну, шум поднялся. Прибежал кто-то, стал кричать: убили, зарезали… Я и струхнул маленько. Хотел уйти потихоньку… но тут двери заперли, и молодой человек стал от одной двери к другой ходить. Как часовой, и физиономия такая… суровая… Хорошо, я в чулан залезть успел, Дарья надоумила. Потом вижу, отошел он… который сторожил… я и решил выбраться. Вылез в окно, да не рассчитал маленько…
— Вам что-нибудь известно об убийстве?
— Нет, сударыня.
— Может быть, видели кого-нибудь?
— В чулане? Да бог с вами…
— Может быть, слышали что-нибудь подозрительное или заметили? Или не подозрительное, а просто странное или необычное?
Пожарный наморщил лоб и погрузился в размышления.
— Никифор, — терпеливо сказала Амалия, — если вы мне поможете, обещаю, вам не только дадут медаль, но и напечатают о том в газетах, и обязательно с правильной фамилией! Вы уверены, что совсем ничего не было?
— Да не знаю, как и сказать, — пробормотал здоровяк. — Когда убийство произошло, я ж на кухне сидел… Что я там мог узнать? А потом… когда в чулане… Я и не понял сначала, показалось, будто ком снега упал… с дерева… такой белый… — Амалия вся обратилась в слух. Наконец пожарный решился: — Мне кажется, какой-то лоскуток пролетел мимо окна чулана… вот…
Амалия поднялась с места.
— Что? — забеспокоился Никифор.
— Можете считать, что медаль у вас в кармане, — коротко ответила Амалия. — Билли! Куда ты запропастился? — Но тот уже стоял на пороге. — Срочно бери слугу с лампой и иди осматривать сад. Там должен быть какой-то белый лоскут… И я не удивлюсь, если на нем окажутся следы крови.
Глава 14 Платок
Это был обычный носовой платок, мокрый от налипшего на него снега, измятый и потерявший всякий вид. Однако на нем и в самом деле осталось несколько бурых пятен, похожих на кровь.
Амалия и Билли, разложив на столе найденную улику, рассматривали ее.
— Как было бы здорово, — задумчиво заметил Билли, — если бы на нем оказались инициалы убийцы или какая-нибудь монограмма…
— Но, к сожалению, ничего такого нет, — отозвалась Амалия. — Мы с тобой уже смотрели.
— Жаль, — вздохнул Билли. — Значит, вы думаете…
— Зарезать человека не так-то просто, Билли. Тот, кто совершил убийство, испачкал руки и вытер их платком. Потом, когда я не отпустила гостей, он понял: если его обыщут, то платок окажется серьезной уликой против него. Поэтому преступник выбросил платок, улучив удобную минуту.
Билли немного подумал.
— Какая комната находится над чуланом? — деловито спросил он.
— Не знаю, — усмехнулась Амалия. — Но уверена, что не большая гостиная, в которой сидели наши свидетели. Убийца не мог выбрасывать улику у всех на виду.
— Ясно, — сказал Билли. — Тогда я пойду гляну.
Через минуту он вернулся.
— Над чуланом курительная комната, смежная с большой гостиной, — сообщил он. — Но вы всегда учили меня учитывать все условия, верно? Так вот, в городе сейчас сильный ветер.
— И если мы учтем ветер… — Амалия улыбнулась. Отчего-то серьезность Билли тронула и позабавила ее.
— Там, в конце коридора, ванная комната, а рядом комната задумчивости, — сообщил Билли застенчиво. — Которую во времена Мольера называли «кабинет», я прочел об этом в одной книжке.[80]
Амалия, не удержавшись, фыркнула.
— Братец, да ты просто кладезь премудрости, — шутливо заметила она. — Итак, что же получается? Кто-то выбросил платок или из курительной, или из ванной, или из кабинета. Предположительно, это был убийца номер два, тот самый, который зарезал бедного Беренделли.
— А номер один — тот, кто его отравил? — уточнил Билли.
— Да.
— Ясно, — изрек Билли и погрузился в глубокую задумчивость.
— В чем дело, Билли? — не выдержав, спросила Амалия.
— Да так, — вздохнул молодой человек. — Просто не понимаю, как его могли отравить.
— В смысле? — насторожилась Амалия.
— Я же помню, как все было, — с той же невыносимой медлительностью продолжал Билли. — Только сейчас сообразил. Беренделли сказал, что среди гостей находится убийца. Убийца номер один заволновался и подсыпал ему в кофе мышьяк, так?
— Ну… да.
— Тогда получается, что наш номер один должен был все время таскать мышьяк с собой, — объяснил Билли. — Авось представится случай кого-нибудь отравить или что-то вроде того. Конечно, люди такие разные, встречаются и очень предусмотрительные, но… — Он остановился и застенчиво взглянул на Амалию. — Вы не обижаетесь на меня?
— Нет, Билли. Продолжай, твои соображения очень интересны.
— Но самое главное, у него ведь не было возможности мышьяк подсыпать, — подытожил Билли. — Вот в чем загвоздка.
— То есть как — не было?
— А вот так, Эмили. Я же говорю, что вспомнил, как все происходило. Беренделли взял чашку кофе. Отпил из нее и поставил на стол. Повернулся к гостям. И сказал, что среди них убийца. Понимаете, он поставил чашку на стол и больше к ней не прикасался. Вы говорите, убийца заволновался, когда услышал слова Беренделли, и решил немедленно принять меры, чтобы тот его не выдал. Я не отрицаю, он мог заволноваться. Но он ничего не мог итальянцу подсыпать, понимаете? Потому что Беренделли уже выпил из чашки и отставил ее. И никто не мог предположить, что он там скажет, и уж тем более — отчего по поводу его слов надо так переживать. Или уж тогда получается, что отравитель был прорицатель почище самого Беренделли и знал все заранее. В общем, уж даже и не знаю…
Билли умолк, и на некоторое время в комнате воцарилась тишина. Потом половица под ногой Билли скрипнула, и молодой человек тяжело вздохнул. Ему не нравилось, когда Амалия такмолчала.
— Билли, — подала наконец голос баронесса, — я тебе говорила, что ты молодец?
«Кузен» смущенно потупился.
— Я молодец?
— Ну да. Потому что то, что ты сейчас сказал, может все изменить, понимаешь? Все, с начала и до конца.
— Трудное дело, да? — спросил Билли с сочувствием.
— Трудных дел не бывает, — возразила Амалия. — Есть простые обстоятельства, которые кажутся сложными, потому что никак не хотят складываться в стройную картину. Видишь ли, дело в том, что все преступления уже давным-давно были совершены, и никто не может придумать ничего нового, даже если очень захочет. — Она вздохнула и потерла рукой висок. — Нам придется вернуться к самому началу и продвигаться вперед шаг за шагом. Только так мы и сумеем понять, что же на самом деле произошло. Перечисли еще раз, что ты видел.
— Сначала итальянец делал предсказания, — сказал Билли.
— Да, — подтвердила Амалия. — И первой вызвалась идти к нему графиня Толстая. Как она выглядела, когда вернулась?
— Я бы сказал, не слишком радостно, — заметил Билли.
— Вот-вот. Второй была жена того рыжего господина. Евдокия Сергеевна.
— Да, женщина с кислым таким лицом. Когда она вышла от Беренделли, у нее был малость озадаченный вид.
— Третьей пошла хозяйка… Нет, погоди. Третьей была мадемуазель Мезенцева.
— У него плохой вкус, — буркнул вдруг Билли.
Амалия в ответ погрозила ему пальцем:
— Билли, мы должны быть беспристрастны, как настоящие сыщики.
— Никогда не видел беспристрастного сыщика, — хмыкнул молодой человек.
— Значит, они были не настоящие, — отрезала Амалия. — Так или иначе, Варенька выглядела очень довольной, если не счастливой, когда вернулась от Беренделли. Я еще подумала, что маэстро предсказал ей крайне удачное замужество.
Билли открыл рот, чтобы сказать что-то, но сдержался.
— Итак, мадемуазель Мезенцева была третьей, а четвертой хозяйка дома. Вот ее я совсем не помню. Билли, какой у нее был вид, когда она вышла от хироманта?
— Обыкновенный, — не задумываясь, ответил Билли. — Как будто она не узнала ничего для себя нового, или что-то вроде того.
— Хм, допустим — задумчиво произнесла Амалия, глядя на платок. — Потом в малую гостиную отправились мужчины. Номер пять — адвокат Городецкий.
— Этот был просто растерян, когда вернулся.
— Конечно, ведь Беренделли ему сказал, что он ничего не выиграет, — улыбнулась Амалия. — После адвоката был ты. Кстати, что он тебе наговорил?
Билли потупился.
— Ну, всякое разное насчет бурной молодости… В общем, я не могу сказать, что он был не прав, — поспешно добавил американец. — А еще гадатель мне предсказал, что я никогда не женюсь. Но я и не особо стремлюсь, так что…
— Понятно, — отозвалась Амалия. — Ты помнишь, кто пошел к Беренделли седьмым?
— Помню, — подтвердил Билли. — Тот рыжий тип.
— Иван Андреевич Лакунин, начальник Павла Петровича. И они поссорились с хиромантом. Интересно бы знать, почему?
— Жаль, у итальянца уже не спросить, — вздохнул Билли. — А рыжий наверняка соврет.
— Последним, восьмым, был Никита Преображенский, — задумчиво продолжала Амалия. — Кстати, графиня Толстая отчего-то не хотела, чтобы он узнал свое будущее, но композитор настоял.
— И вид у него, когда он вышел от Беренделли, был удивленный, — добавил Билли. — Но это ведь не преступление?
— Нет, — сказала Амалия. — Теперь давай вспоминать, кто покидал большую гостиную в промежуток, когда был зарезан хиромант. Начнем с хозяев. Анна Владимировна выходила два раза, но Александр настаивает, что уходила она на такой короткий срок, что никак не могла убить Беренделли и успеть вернуться обратно. Павел Петрович, по его словам, тоже выходил. Как и сын хозяев.
— Ваш муж гостиную не покидал, — сказал Билли. — И его дама — тоже.
— Значит, у них есть алиби, — отозвалась Амалия. — Теперь остальные гости. Иван Андреевич выходил, по словам Александра.
— А я не помню, — признался Билли. — Но жена его вроде бы никуда не шастала, сидела на месте и махала своим дурацким веером.
— Далее доктор, — продолжала Амалия. — Он точно не выходил, потому что сидел все время напротив меня.
— Графиня исчезала на какое-то время, а когда вернулась, глаза у нее были заплаканные, — донес Билли. — А вот насчет композитора не помню.
— Александр говорит, Никита выходил на минутку в перерыве между ариями, — отозвалась Амалия. — Далее братья Городецкие. Мне помнится, что Владимир Сергеевич вышел из гостиной перед началом очередной арии — я видела, как он пробирался к двери. А его брат оставался на месте.
— Жаль, — буркнул Билли. — Значит, у адвоката алиби?
— Судя по всему, да.
— Тогда под подозрение попадают семь человек, потому что остальные не выходили из комнаты, — подытожил Билли. — Хозяева, их сын, рыжий тип, графиня, композитор и брат адвоката.
— Иными словами, две женщины и пять мужчин, — сказала Амалия. — Беда в том, что теперь я уже не так уверена, что убийство и ошеломляющее заявление Беренделли связаны между собой. Иначе под подозрением остались бы всего четверо — Анна Владимировна, Иван Андреевич, графиня Толстая и композитор, потому что остальным трем Беренделли не гадал.
— Логично, — подумав, согласился Билли. — То есть выходит, что один из четверых в прошлом убийца, и именно поэтому он избавился от итальянца?
— Возможно. Причем, если верить Александру, Анна Владимировна выходила из гостиной дважды, но почти сразу же возвращалась, то есть убийца — не она. А остальные…
Билли поморщился, почесал висок и произнес почти с сожалением:
— И не композитор.
— Почему? — заинтересовалась Амалия.
— Да потому, что он играл. Я вспомнил: да, он выходил между ариями, но, когда он вернулся, играл ничуть не хуже, чем прежде.
— И как это связано с убийством?
— Напрямую, — лаконично ответил Билли. — Если бы музыкант зарезал человека, у него бы дрожали руки, и он не смог бы играть так же здорово, как и до того.
— Не обязательно, — усмехнулась Амалия. — Если он убил не в первый раз…
— Я не верю, что он убийца, — отрезал Билли. — Не тот он человек. Значит, либо рыжий, который поссорился с хиромантом, что все слышали, либо графиня. Лично я ставлю на рыжего.
— На Ивана Андреевича? — улыбнулась Амалия. — Думаешь, он действительно кого-то убил в прошлом, а сегодня зарезал Беренделли, чтобы тот не мог выдать его тайну?
— Скорее всего. И вот еще: кинжал всадили по рукоятку, а нож все-таки мужское оружие.
Амалия усмехнулась.
— Пока, братец, твои доводы разбиваются о реальность, — сказала она.
— В каком смысле? — Билли насупился, исподлобья поглядел на Амалию.
— В том смысле, что мне ничего не известно об убийстве, которое совершил Иван Андреевич, зато я знаю кое-что о том, которое, возможно, совершила Елена Николаевна Толстая. Ты заметил, платок почти высох.
— Да.
— Пощупай его.
Билли послушно потрогал испачканный кровью кусок ткани и медленно проговорил:
— Мне кажется, я понял, к чему вы клоните. Теперь заметно: платок, которым убийца вытирал свои руки, женский, для мужского ткань слишком тонкая.
— Поэтому я предлагаю начать с графини, — сказала Амалия. — На данный момент я более склонна ее подозревать в том, что она зарезала хироманта.
— А отравление? — внезапно спросил Билли. — Что с ним? Я же говорю, убийца не мог подсыпать яд после того, как Беренделли сделал свое заявление. Тогда что? Может быть, тут совсем другое преступление? Или отравить хотели вовсе не итальянца, а кого-то другого, или…
Но Амалия покачала головой.
— Билли, ты же знаешь, я не люблю строить преждевременные гипотезы. Для начала нам нужны факты, на которые мы сможем опереться, а их пока слишком мало. Тем не менее кое-что у нас есть. Мы знаем, что Беренделли сделал крайне странное заявление, которое кое-кто мог воспринять как прямую угрозу разоблачения. Знаем, что кофе в одной из чашек гостей был отравлен, из-за чего лакей Верховских едва не умер. Знаем, что Беренделли был убит после того, как доктор де Молине оставил его в малой гостиной, и до того, как я пришла к нему вместе с тобой и Верховскими. Еще у нас есть платок, которым, судя по всему, убийца вытирал свои руки, и он, без сомнения, женский. А теперь, когда мы установили, кто из присутствующих на вечере имел возможность убить хироманта, мы будем продвигаться вперед шаг за шагом. И прежде чем взойдет солнце, я буду знать, кто именно совершил преступление.
Глава 15 Первые подозреваемые
В дверь постучали.
— Войдите! — крикнула Амалия.
В комнату вошел Александр, вернул баронессе список прислуги и доложил (по крайней мере, со стороны его сообщение выглядело именно как доклад), что он с Павлом Петровичем обошел весь дом, но нигде в чуланах, шкафах и даже в чернильницах не было обнаружено ни единого пожарного, не говоря уже о прочих посторонних. Что касается слуг, то они все на местах, но очень напуганы. Пока барон Корф говорил, Билли скучающе смотрел в окно.
— Что с тем лакеем, Трофимом? — спросила Амалия.
— Ему гораздо лучше, он уснул, — отозвался Корф. — Кажется, Венедикт Людовикович спас ему жизнь, и все обойдется.
— Будем надеяться, — кивнула Амалия, поднимаясь с места. Она взяла со стола найденный платок и, убедившись, что он почти высох, спрятала его в сумочку. — А сейчас я хочу посоветоваться с доктором.
По ее просьбе де Молине прошел в малую гостиную и еще раз осмотрел труп Беренделли. Амалия, ее «кузен» и Александр стояли неподалеку, ожидая, что скажет медик.
— Да, вы правы, — наконец заговорил Венедикт Людовикович. — И слюна, и расширенные зрачки… Вероятно, и в самом деле мышьяк. Но он не успел подействовать… должным образом, скажем так.
— Значит, убийц двое? — вступил в разговор Александр Корф. — Иначе с чего было торопиться с кинжалом…
— Гораздо интереснее другое, — перебила его Амалия и вслед за тем пересказала бывшему мужу, почему хироманта никак не могли отравить кофе.
— В самом деле, занятно, — согласился барон, выслушав ее. — Получается, что его хотели отравить по совершенно иной причине, которая нам неизвестна.
— А возможно, вообще не его, — заметила Амалия. — Что, если яд достался Беренделли по ошибке?
Александр нахмурился и поинтересовался:
— Кто разносил чашки?
— Их принесли слуги. Насколько я помню, кому-то кофе предлагала хозяйка, а кто-то брал сам.
— Тогда все ясно, — объявил барон. — Дражайшая Анна Владимировна хотела отравить Ивана Андреевича, чтобы ее муж занял место начальника, но перепутала чашки. Достойный сюжет для Шкляревского,[81] вы не находите?
— Нет, — отрезала Амалия. — Но вы правы в том, что человеку, который приносит чашку, гораздо проще добавить туда яд.
Доктор де Молине выразительно кашлянул.
— Боюсь разочаровать вас, госпожа баронесса, — сказал он. — Однако я кое-что вспомнил. Свою чашку кофе покойный Беренделли получил вовсе не из рук хозяйки дома.
— Вот как? Очень любопытно, — быстро проговорила Амалия. — Но если не из рук Верховской, то из чьих же?
Прежде чем ответить, Венедикт Людовикович посмотрел на барона.
— Боюсь вас разочаровать, — сказал он, — но это была мадемуазель Мезенцева.
Митеньке Верховскому надоело лежать в кровати. Ему было стыдно, что он так нелепо грохнулся в обморок при виде убитого. Юноша протянул руку, нащупал на столе очки, надел их и, сев на постели, стал шнуровать ботинки. Под мышкой у него вдруг что-то хрустнуло — должно быть, слишком узкий костюм не выдержал. Да и бог и ним! Митенька мельком поглядел на себя в зеркало, пригладил волосы и вышел из спальни.
Разговор, который шел в малой гостиной, привлек его внимание, и Верховский-младший остановился. Собственно говоря, он при всем желании не мог пройти мимо, не услышав голосов, потому что разговор велся на повышенных тонах и слова в нем проскальзывали довольно-таки резкие.
— Я вам запрещаю впутывать сюда мою невесту!
— Даже так? Запрещаете? А на каком основании? Может быть, Венедикт Людовикович лжет?
— Я этого не говорил! Но я не желаю, чтобы вы… чтобы вы сводили с ней счеты таким образом!
— Господа, сударыня, господа, — твердил растерянно доктор де Молине. — Прошу вас!
Митенька застыл в нерешительности. Меньше всего на свете он сейчас хотел бы вновь оказаться в проклятой комнате, где лежал убитый, но тут дверь распахнулась, и из нее вылетел разъяренный барон Корф. Он шел так стремительно, что наскочил на юношу, чуть не сбив его с ног.
— Вы еще тут, — прошипел Александр. — Какого черта путаетесь под ногами?
Затем злобно оглянулся на Амалию, доктора и Билли, которые стояли на пороге, и быстрым шагом удалился в большую гостиную.
— Простите, — сказал Венедикт Людовикович извиняющимся тоном. — Наверное, мне не стоило говорить это… при нем.
Билли засунул руки в карманы и качнулся на носках.
— Интересно, за что она могла его отравить? — Задал он вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь.
Амалия послала американцу предостерегающий взгляд.
— Билли, я вовсе не думаю, что мисс Мезенцева убийца. — Тут она заметила Митеньку. — А, вы уже встали? Как вы себя чувствуете?
— Благодарю вас, — пробормотал юноша, — мне уже лучше.
— Да? Вот и славно. Доктор, я скажу вам, если вы понадобитесь, так что пока вы свободны. Дмитрий Павлович, если хотите, можете вернуться к себе, я вызову вас.
— Нет, я лучше пойду к остальным, — упрямо мотнул головой Митенька, указывая на большую гостиную. И прибавил, слегка покраснев: — Вдруг замечу что-то полезное для следствия.
— Вот и замечательно, Дмитрий Павлович, вы мне очень поможете, — серьезно сказала Амалия. — Тогда будьте добры, попросите зайти ко мне графиню Толстую. Мне очень нужно с ней побеседовать.
— Хорошо, я передам, — отозвался Митенька и почти бегом поспешил к большой гостиной.
А баронесса Корф в сопровождении молодого американца последовала к комнате, отведенной для допросов.
— Могу ли я узнать, когда вы наконец отпустите нас? — были первые слова графини Толстой, когда она переступила через порог.
Амалия пристально посмотрела на нее.
— Вы куда-то торопитесь, Елена Николаевна?
— Представьте себе, Амалия Константиновна, — холодно ответила графиня. — Чем дальше, тем меньше мне хочется находиться в этом доме.
— Может быть, вы лучше сядете, графиня? — И Амалия глазами указала подозреваемой номер один на стул.
Прекрасная Элен заинтересованно вскинула брови.
— Неужели вы всерьез намерены меня допрашивать, Амалия Константиновна? Вы меня разочаровываете.
— Я похожа на следователя? — вопросом на вопрос ответила Амалия.
Билли, прислонившись к стене возле двери, с непроницаемым видом слушал разговор женщин. Графиня оглянулась на него, и улыбка скользнула по ее замкнутому, утомленному лицу.
— Нет, не похожи, — буркнула она, садясь на стул. — Но я не могу понять, чего вы хотите.
— Того же, что и все, за исключением одного человека: найти убийцу и передать его полиции.
— Ерунда какая-то, — вяло отреагировала графиня, обмахиваясь пышным веером. — Неужели вы это всерьез, Амалия Константиновна? Я была о вас лучшего мнения.
— Как вы думаете, — спросила Амалия, которой успела наскучить типично женская перепалка, — кто убил Беренделли?
— Пожарный, конечно, — равнодушно отозвалась Элен. — Иначе зачем ему прятаться?
— А если бы я предложила вам выбрать кого-то из гостей? — настаивала Амалия. — Кто из них, по-вашему, мог его убить?
— Вы меня спрашиваете? — графиня негромко рассмеялась. — Право же, вы очень забавны. Откуда мне знать, в конце концов?
— А что, если это были вы? — задавая неожиданный вопрос, Амалия не отрывала взгляда от лица графини. — Как вам такой оборот, Елена Николаевна?
Графиня надменно вскинула голову.
— Вы в своем уме? — зло спросила она.
— Представьте себе, дорогая, — усмехнулась Амалия. — На вас лица не было, когда вы вышли от Беренделли. Что такое он вам предсказал? Или хиромант прочел по вашей ладони, что вы кого-то убили?
— Я никогда никого не убивала, — возразила графиня. Но растерянное выражение ее глаз плохо сочеталось со словами.
— Мне доводилось слышать обратное, — заметила Амалия.
В комнате наступило напряженное молчание.
— Не знаю, что вам доводилось слышать, — наконец подала голос графиня с неприязненной гримасой. — Если вы имеете в виду того художника, Сорокина, то он покончил с собой. Я тут ни при чем!
— Он и правда застрелился?
— Да, и что?
— Говорили, что он был влюблен в вас. Его считали талантливым, академия отправила молодого человека учиться в Рим, где он и познакомился с вами. Там же художник написал несколько ваших портретов, а потом покончил с собой.
— Я знакома со многими людьми искусства, — возразила прекрасная Элен с бледной улыбкой. — Но, представьте себе, не все они накладывают на себя руки.
— Однако Сорокин умер из-за вас? Именно вы довели его до самоубийства?
Графиня молчала.
— Вы внушили ему необоснованные надежды, поиграли с ним, как с игрушкой, а потом бросили. И он не выдержал. Он был слишком молод, слишком импульсивен… и предпочел поставить точку вот таким образом. Не так ли, госпожа графиня?
— Положительно, у вас слишком богатое воображение, — лениво промолвила Елена Николаевна. — Да, Сорокин покончил с собой, но что вы хотите от меня? Я не виновата, что он оказался настолько… неумен.
Амалия откинулась на спинку кресла.
— И это все, что вы можете сказать о любившем вас человеке? О талантливом художнике, который умер из-за вас?
— Не понимаю, к чему вы ведете? — Графиня все-таки начала сердиться. — Кажется, мы говорили о Беренделли. Так при чем тут Сорокин?
Амалия усмехнулась.
— То дело наделало много шуму. Потому что, к примеру, предсмертной записки найдено не было, и полиция сомневалась, можно ли квалифицировать произошедшее как самоубийство. — Баронесса сделала короткую паузу. Показалось ли ей или в лице Элен и впрямь мелькнуло нечто, похожее на страх? — А что, если никакого самоубийства не было? Что, если вы убили Сорокина, а всем остальным внушили, будто он сам наложил на себя руки?
— Вздор! — выкрикнула графиня, теряя самообладание. — Вы говорите вздор!
— У него не было никого, кроме матери, а мать настаивала, что он никогда бы не пошел на такой страшный грех! — воскликнула Амалия. — Но тогда вы сумели отвести от себя подозрения, а несколько часов назад выяснилось, что еще один человек знает вашу тайну. Он прочел ее по вашей руке, когда вы пришли к нему. Он понял, что вы — убийца!
— Нет!
— Тогда почему у вас было такое лицо, когда вы вышли от него? Вы ведь так хотели узнать свое будущее! Вы даже отправились к нему самой первой! Что он вам сказал?
— Беренделли глупец! Не мог даже предвидеть свою собственную смерть! — зло бросила графиня. Затем подняла голову и заставила себя улыбнуться. — Хотите знать, что он мне сказал? О, наш маэстро был в ударе! Ни от кого на свете я не слышала столько оскорблений! Исключая, пожалуй, вас. Он сообщил мне, что я скоро умру. Что все близкие забудут меня еще до того, как мое тело опустят в могилу! Заявил, — глаза графини метали молнии, губы дрожали, — что человек, которого я люблю, женится почти сразу после моей смерти. Он сказал… сказал… что не пройдет и полгода после смерти того жалкого художника, как я с ним встречусь. Вот что мне предсказал, этот хваленый маэстро Беренделли, и вот почему я не испытывала никакого восторга, когда вышла от него!
Билли у двери беспокойно шевельнулся и метнул на Амалию вопросительный взгляд. Вряд ли американец понимал по-русски — просто, наверное, о многом догадывался по интонациям. Графиня умолкла, в глазах ее стояли злые слезы.
— И все? — спокойно спросила Амалия.
— Да, все!
— Мне казалось, полгода уже прошли, — заметила Амалия. — Так что маэстро Беренделли ошибся.
Нет, на сей раз в лице графини и в самом деле мелькнул неподдельный страх. «Неужели она верит всей этой чуши?» — с некоторым удивлением подумала баронесса Корф.
— Три дня, — сдавленно прошептала графиня. — До полугода осталось три дня.
Амалия пожала плечами.
— Вы не похожи на умирающую, Елена Николаевна.
— Да. Но я боюсь.
— Судя по тому, что Беренделли был не в ладах со своей собственной судьбой, я бы не советовала доверять его предсказаниям по части чужих судеб, — по возможности мягко произнесла баронесса. Графиня Толстая была ей вовсе не симпатична, как раз наоборот, но все же Амалия считала своим долгом успокоить ее.
— И все же я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, когда эти проклятые три дня наконец пройдут, — усмехнулась прекрасная Элен.
Амалия не стала спорить.
— Скажите, Елена Николаевна, куда вы выходили, когда ваш друг Никита Преображенский аккомпанировал Варваре Мезенцевой?
— Я никуда не выходила, — сухо ответила графиня.
— Бесполезно лгать, Елена Николаевна. Вас видели.
— Конечно, видели, — тотчас же пошла на попятную Элен. — Анна Владимировна, верно? Она встретила меня у двери, когда я возвращалась. Совершенно невыносимая особа.
— Так куда вы выходили?
— Боюсь, вы меня не поймете, — усмехнулась графиня. — После предсказаний маэстро мне сделалось совсем не по себе. Я чуть было не расплакалась при всех! А так… Я дошла до ванной комнаты и там… вытерла глаза. И мне стало легче.
— Понятно. Скажите, графиня, у вас есть платок?
— Платок? — в некотором удивлении переспросила та.
— Да. Не могли бы вы показать его нам?
Платок графини Толстой оказался великолепным расшитым изделием, украшенным кружевами и пышной монограммой. Амалия, выразительно взглянув на Билли, вернула его хозяйке.
— Благодарю вас, Елена Николаевна. Скажите еще вот что: когда убийство уже было обнаружено и все сидели в гостиной, кто выходил из нее? В курительную комнату, например, или куда-нибудь еще.
— Трудно сказать… — Графиня повела своими великолепными плечами. — Например, я выходила поправить кое-что в платье. Иван Андреевич, кажется, выходил, кто-то из мужчин отправлялся курить. Но я, честно говоря, не следила.
— Благодарю вас, — кивнула Амалия. — Можете идти.
Графиня сложила веер и двинулась к выходу, но у самого порога остановилась.
— На вашем месте, — высокомерно проговорила она, — я бы для начала поинтересовалась, почему хозяина дома вместе с его начальником перевели в Петербург. Обещаю вам, вы не будете разочарованы.
И женщина, ослепительно улыбнувшись Билли, вышла из комнаты.
Глава 16 Обрывки
— Ну, что скажете? — спросил Билли, как только роковая Элен скрылась из виду. — Не она?
Амалия поморщилась.
— По крайней мере, непохоже. Да и объяснения ее звучат вполне логично. Хиромант сделал ей предсказание, которое ее расстроило, и она вышла немного поплакать. Да и платок не ее.
— А может быть, все-таки она убила художника? — внезапно спросил Билли. — Чтобы застрелить человека, многого не надо, знаете ли.
— И то, что рядом с Сорокиным не было записки, меня настораживает, — задумчиво согласилась Амалия, но тут же осеклась. — Послушай, братец, с каких пор ты говоришь по-русски? Как ты понял, что именно она мне рассказала?
— Я по-русски не говорю, — важно поправил ее Билли. — Я только понимаю.
И он с торжеством поглядел на Амалию, которая покачала головой и невольно улыбнулась.
— Ну хорошо. Вот что мне интересно: Беренделли всем говорил такие неприятные вещи, как графине Толстой, или только ей не повезло с предсказанием будущего? Потому что я сейчас вспомнила о том короле…
— Каком еще короле? — насупился Билли.
— По-моему, то был Людовик IX, — снова став задумчивой, продолжала Амалия. — Предсказатели его сильно боялись. Понимаешь, если ему не нравилось, что ему предрекали, то он просто приказывал казнить предсказателя, и дело с концом. Считал, что достаточно отрубить человеку голову, чтобы его пророчество не сбылось.
— И правильно, — кровожадно одобрил Билли. — Нечего нести всякую чушь да еще драть за нее деньги. — Тут он остановился. — А какое отношение король имеет к нашему делу?
— Никакого, — ответила Амалия. — Просто меня беспокоит мышьяк в чашке. Что, если Беренделли кому-то раскрыл в будущем нечто неприятное, и человек решил пойти путем короля, то есть убить хироманта, чтобы его предсказание не исполнилось?
Билли ненадолго погрузился в задумчивость.
— Кажется, я понял. Значит, вы думаете, что итальянца зарезал тот из гостей, кого он обвинил в убийстве, которое случилось в прошлом, а мышьяк подсыпал тот, кто не хотел, чтобы сбылось предсказание насчет его будущего.
— Возможен и третий вариант, — добавила Амалия. — Отравитель опасался, что Беренделли кому-то расскажет о его будущем. Допустим, маэстро увидел там что-то крайне некрасивое… и если бы о его предсказании узнали, это могло разрушить жизнь того человека.
— До чего же все сложно, — вздохнул Билли.
— И сложнее всего то, что предсказания делались с глазу на глаз, — добавила Амалия. — Узнать о них мы можем только со слов гостей, потому что тот, кто их делал, мертв, а в таких условиях им ничто не может помешать солгать нам. Вот если бы предсказания слышал кто-то еще…
Билли метнул на Амалию быстрый взгляд.
— Горничная, — обронил он. — Та, которая отводила гостей к итальянцу в малую гостиную.
— Глаша! — воскликнула Амалия. — Ну конечно!
Вскоре по просьбе баронессы американец привел в комнату допросов служанку Верховских.
— Я, конечно, очень хотела бы вам помочь, сударыня, — забормотала Глаша, сложив руки на коленях, в ответ на вопрос баронессы. — Но господин предсказатель говорили по-французски, а я… я же не понимаю этого языка. Совсем не понимаю!
Амалия посмотрела ей прямо в глаза и мягко проговорила:
— Однако ты поняла все-таки, что язык именно французский — не итальянский, не немецкий, к примеру, а французский. Значит, ты кое-что знаешь? Хотя бы отдельные слова?
Глаша сделалась пунцовой и стала теребить оборку на юбке.
— Хорошая прислуга все знает, все примечает и все слышит, — продолжала Амалия. — Конечно, ты не говоришь по-французски, но отдельные слова из того, что Беренделли говорил тем, кто пришел к нему узнать свою судьбу, до тебя наверняка доносились.
— Конечно, — вставил Билли, которого никто не спрашивал. — Ведь наверняка подслушивала под дверью. Потому что женщины — чертовски любопытный народ!
— Глаша, мне очень нужно знать, — убеждала служанку Амалия. — От твоих показаний многое зависит. Давай попытаемся восстановить события: Беренделли был в малой гостиной. Ты провела к нему первую гостью, графиню Толстую, и осталась стоять под дверью, дожидаясь, когда предсказатель закончит. Что ты слышала?
Глаша робко взглянула на Билли. Кончик ее носа, усыпанного веснушками, задрожал.
— Госпожа графиня гневалась, — заговорила наконец девушка. — Произнесла по-русски несколько раз: «Этого не может быть! Нет! Нет!» А когда вышла, была очень расстроена.
— Что ей сказал Беренделли? Ты поняла?
Глаша хлюпнула носом.
— Он называл фамилию. Сорокин, вот… И так смешно ее произносил: Альошь Сорокин, — улыбнулась горничная. — Еще он говорил: лямор, лямур.
— La mort, l’amour? Смерть, любовь? Очень интересно, — вскинула брови Амалия, затем достала из сумочки записную книжку, карандаш и стала быстро что-то писать. — А он не произносил слово suicide?[82]
Глаша покосилась на нее с почтительным ужасом.
— Говорил, да… Несколько раз.
— Не слышала ли ты что-нибудь вроде ce n’?tait pas un suicide, c’?tait un meurtre?[83] — продолжала Амалия.
Глаша попросила повторить фразу и задумалась.
— Нет, — наконец сказала она, — мне кажется, нет. Хотя я ведь за дверью стояла, оттуда не много разберешь…
— Хорошо, — кивнула Амалия. — Теперь давай перейдем к Ивану Андреевичу. Ты слышала слова, которые говорил ему Беренделли?
Таким образом они прошлись по всем, кто приходил к хироманту пытать судьбу. Глаша старалась изо всех сил, косилась на Билли, вспоминала, строила догадки… Лицо ее горело, щеки раскраснелись. Страница в книжке Амалии вся покрылась загадочными письменами, а молодая женщина все спрашивала и спрашивала: Глаша уверена, что Беренделли говорил с Анной Владимировной о mariage?[84] Он не упоминал слов meurtre, assassinat, tuer, assassiner?[85] Нет?
— Нет… — бормотала Глаша. — Он говорил: кузин… кузина, значит… несколько раз повторял слово.
Наконец Амалия закончила допрашивать горничную и отпустила ее. Глаша вспыхнула, присела, стрельнула глазами в сторону сурового, мрачного Билли, который во время допроса перебрасывался с Амалией какими-то замечаниями на незнакомом девушке языке, и шагнула к выходу.
— Глаша, — окликнула ее баронесса Корф, — будь добра, позови ко мне Ивана Андреевича. И одна маленькая просьба: не стоит никому говорить о том, что ты слышала и разобрала кое-какие слова из предсказаний Беренделли гостям. Хорошо?
Глаша пообещала, что будет держать рот на замке, и отправилась за тайным советником.
— Значит, все-таки он? — заметил Билли. — Я же говорил!
— Боюсь, все будет не так просто, — отозвалась Амалия.
Вскоре за дверью раздались тяжелые шаркающие шаги, и Иван Андреевич вошел в комнату.
— Звали, сударыня? — спросил он тоном, обличающим его намерение быть ироничным и ничего не принимать всерьез.
— Да, Иван Андреевич, — строго заговорила с ним Амалия. — Объясните нам, пожалуйста, каким образом так случилось, что вы поссорились с хиромантом, а через несколько минут он оказался мертв.
Иван Андреевич озадаченно заморгал глазами.
— Я? Поссорился? Бог с вами, сударыня! — наигранно весело воскликнул мужчина. — Не настолько велика фигура, чтобы с ним ссориться! Уж не подозреваете ли вы меня?
— А почему бы и нет? — парировала Амалия, спокойно глядя на собеседника. — Кстати, многоуважаемый Иван Андреевич, заодно и откройте нам тайну, за какие такие заслуги вас с Павлом Петровичем перевели из Москвы в Петербург, да еще в чине повысили. Или вы скажете, что и этого не было? — ехидно прибавила она.
Иван Андреевич в волнении зашевелил рыжими усами, стал бессвязно говорить о том, что он предан отечеству… и государю… за то и вознаграждение получил по службе, так что…
— Хорошо, — сказала Амалия, — я непременно передам при встрече государю, как вы ему преданны, уважаемый Иван Андреевич. Только мне кажется почему-то, — баронесса хитро сощурилась, — что вы пытаетесь что-то от меня скрыть.
Услышав о коротком знакомстве баронессы Корф с Его императорским величеством, тайный советник слегка изменился в лице и забормотал:
— Право же, сударыня, я не понимаю… я честный человек…
— Если вы честный человек, — добила его Амалия, — то скрывать вам нечего. Итак?
Иван Андреевич помялся, покрутил рыжий ус и начал рассказывать. Все началось с растраты, обнаруженной в Москве, — неведомо куда исчезли несколько тысяч рублей. Само собой, началось расследование, и как-то незаметно выяснилось, что все нити ведут к Ивану Андреевичу. Он клялся честью, что не имеет к хищению никакого отношения, но кольцо подозрений вокруг него сжималось все теснее. Запахло Сибирью, и сослуживцы перестали здороваться с Лакуниным при встрече. Только Павел Петрович был убежден в его невиновности, и только Павел Петрович поддерживал его. А потом…
Иван Андреевич остановился и вытер лоб платком, который достал из кармана. Амалия покосилась на этот платок, но ничего не сказала.
— Они обыскали квартиру моей матушки и нашли часть денег из тех, которые пропали… — прошептал Иван Андреевич. — Я ничего не понимал. Я не знал, каким образом… откуда. Просто готов был сойти с ума. Понимаете, ведь я был невиновен, могу чем угодно поклясться… И тут Павел Петрович, который жил неподалеку, вспомнил, что видел в тот день возле дома нашего сослуживца, Васильчикова. Одним словом, если бы не он, не Павел Петрович…
— Значит, Васильчиков украл деньги? — спросила Амалия.
Тайный советник слегка поморщился. Ему не понравилось слово «украл».
— Позаимствовал, — смягчил он выражение баронессы Корф, — для своей обже.[86] Знаменитая весьма дама… и расточительная донельзя. Сначала никто ничего не замечал, но потом, конечно, все вскрылось. И он решил обвинить меня. Стал за глаза распускать всякие слухи про меня, а в глаза улыбался и руку пожимал. И тем, кто расследование вел, на меня наговаривал… да-с… Я и не подозревал даже… А потом он деньги моей матушке подбросил, чтобы окончательно меня погубить.
— И где тот человек теперь? — спросила Амалия.
— Как где? Там, где ему и следует быть… Ведь суд состоялся уже. Правда, шум поднимать не стали… После той истории меня и повысили… и Павла Петровича тоже… Ведь меня долго под подозрением держали, ох, долго…
Билли задумчиво смотрел на носки своих модных штиблет. «Интересно, — размышлял молодой американец, — правду говорит тайный советник или врет? А что, если он с хозяином дома проворачивали свои дела за казенный счет, а Васильчиков на самом деле ни в чем не виноват?»
— Почему вы поссорились с Беренделли? — спросила Амалия. — Что такого он вам сказал?
Тайный советник побагровел.
— Это вас не касается, сударыня, — сердито проговорил он. — Не могу же я, в самом деле, при даме всякий вздор повторять…
— Меня сейчас все касается, — отрезала Амалия, и глаза ее сверкнули. — Дайте-ка вашу ладонь, Иван Андреевич.
— Зачем? — растерялся собеседник.
— Затем, что я тоже кое-что смыслю в хиромантии, — отозвалась баронесса Корф. — Вашу руку, Иван Андреевич!
Проклиная в душе все на свете, советник положил руку на стол.
— Надо же, какая у вас интересная линия сердца, — заметила Амалия, делая вид, что изучает знаки на ладони. — А тут что такое? Как странно!
Иван Андреевич вырвал руку и вскочил на ноги.
— Довольно! — крикнул он. — Я не позволю! Я не желаю, чтобы… чтобы…
— Чтобы я узнала правду, хотите вы сказать? — спокойным голосом закончила фразу Амалия.
Тайный советник покачнулся, поднес руку ко лбу.
— Это и есть ваша тайна? — безжалостно продолжала баронесса. — Из-за нее вы поссорились с хиромантом? У вас с женой нет детей, насколько я знаю. Но ваша ладонь говорит обратное!
— Хорошо, — простонал бедный Иван Андреевич. — Я… Вы правы, у меня есть сын. Но не от моей жены.
— Сколько ему лет? — спросила Амалия.
— А разве вы… — удивленно начал Иван Андреевич. — Или возраст по ладони не узнать? Мальчику три года.
— И как его зовут?
— Андрюша. Андрюшенька.
— А кто его мать?
— Агафья. Прачка.
— Вы привезли ее с собой в Петербург?
— Она умерла полгода назад — угрюмо сообщил тайный советник.
— Кто же заботится о вашем сыне? Ваша матушка?
Иван Андреевич поморщился и еще больше помрачнел.
— Она бы никогда не простила мне этого, — мрачно сказал он. — Нет, Андрюшу воспитывают надежные люди.
— Чужие?
— Да какое вам дело, сударыня? — рассердился тайный советник.
— Такое, что ребенок должен жить со своими родителями, — очень тихо произнесла Амалия.
— Я, конечно, весьма благодарен вам за совет, баронесса, — забурчал Иван Андреевич, — но полагаю…
— Если вы не возражаете, ваше превосходительство, — перебила его Амалия, — мне бы хотелось все-таки вернуться к сегодняшним событиям. Скажите, куда вы выходили в то время, когда мадемуазель Мезенцева пела в большой гостиной?
— Это так важно? — пробормотал тайный советник. — Право, сударыня, вы ставите меня в неловкое положение. Я…
— Поверьте, Иван Андреевич, — мягко сказала Амалия, — мне очень важно знать все.
Тайный советник вздохнул и покачал головой.
— Не знаю, право, зачем вам такие подробности. Да я выходил… гм… по делу. Только я не сразу нашел, где в доме у Верховских находится помещение…
— Кабинет, — подсказал Билли в пространство. Амалия послала ему предостерегающий взгляд.
— Вы кого-нибудь видели, когда вышли из большой гостиной? — спросила Амалия. — Или, может быть, заметили что-нибудь?
— Боюсь, нет, — извиняющимся тоном промолвил Иван Андреевич. — Хотя нет, видел. Господин композитор… э… стоял у двери и ждал, когда освободится…
— Кабинет? — улыбнулась Амалия.
— Да, — с облегчением подтвердил Иван Андреевич.
— Понятно, — вздохнула Амалия. И без перехода спросила: — Простите, ваше превосходительство, я могу взглянуть на ваш платок?
— Ради бога, — удивленно откликнулся тайный советник.
Амалия бегло осмотрела платок и вернула его хозяину, после чего задала Ивану Андреевичу еще несколько вопросов. Нет, он не помнит, кто еще выходил в то время, пока Варенька пела. Да, несколько человек выходили из большой гостиной после того, как уже стало известно про убийство. Сам он, например, выходил покурить в курительную комнату, потому что у его жены от табака болит голова.
— Благодарю вас, — очень вежливо сказала Амалия, — это все, что я хотела знать.
Тайный советник замешкался у двери.
— Я бы хотел попросить вас, госпожа баронесса… То, что я вам рассказал об Андрюше…
— Обещаю вам, я никому ничего не скажу.
Когда Иван Андреевич наконец удалился, Амалия открыла записную книжку и аккуратно зачеркнула строку:
«Тайный советник. Глаша уверена, что слышала слова enfant, fils».[87]
Глава 17 Ночь
— Разумеется, — кивнула Анна Владимировна, — я готова ответить на любые ваши вопросы. Поскольку столь ужасное происшествие произошло именно в нашем доме, — женщина поморщилась, — я готова оказать вам любую помощь.
Но Амалия не стала торопить события. Для начала она заговорила с Анной Владимировной о Лакунине и тех прискорбных событиях, которые произошли у него на службе.
— Ужасная история, — вздохнула Верховская. — Но Павел Петрович ни на мгновение не верил в то, что в растрате денег виновен Иван Андреевич. И мой муж всегда его поддерживал. Если бы не он, то Васильчикову наверняка удалось бы выйти сухим из воды.
— Вы его знали? — спросила Амалия.
— Я? Да. Очень любезный господин, но нрава престранного. Когда он развелся со своей женой года два назад, я сразу же подумала, что он плохо кончит.
— Ну, не все разведенные плохо кончают, — улыбнулась Амалия. И разговор плавно перешел на вечер, который устраивала Анна Владимировна.
Хозяйка дома рассказала, как ей пришла в голову мысль пригласить хироманта — ведь она и ее муж мало с кем знакомы в столице, а потому были счастливы заполучить к себе такого важного гостя.
— Скажите, Анна Владимировна, вы ведь ходили к нему спрашивать о своей судьбе? Что он вам сказал?
Анна Владимировна порозовела.
— Маэстро Беренделли? Он был очень любезен. Сначала прочитал на ладони мое прошлое, и я была просто сражена.
— Чем же именно? — улыбнулась Амалия.
— Ну, он знал вещи, о которых я почти никому не говорила, — объяснила Анна Владимировна, застенчиво глядя на баронессу. — Например, что мой отец умер до моего рождения.
Амалия покосилась на Билли.
— Боюсь вас разочаровать, Анна Владимировна, — мягко сказала она, — но такие подробности узнаются довольно легко.
— Может быть, — с сомнением пожала плечами хозяйка дома. — Но я не думаю, что маэстро Беренделли был шарлатаном. Я говорила с ним о браке Митеньки, и он заверил меня, что все будет хорошо.
Амалия поглядела на страницу записной книжки, где значилось: «Анна Влад. Mariage, cousine».
— Вы имеете в виду вашего сына и его кузину? — спросила она. — Боюсь, их брак вряд ли возможен.
Анна Владимировна вздохнула.
— Я бы очень хотела, чтобы Митя и Варенька поженились, — пустилась заботливая мать в объяснения. — Но ее отец не желает, чтобы она выходила за родственника. Думаю, вы правы, их брак невозможен, но ведь на свете много прекрасных барышень и помимо моей племянницы. А маэстро Беренделли ничего не сказал о том, что женой Митеньки окажется именно Варенька.
— Хорошо, — уронила Амалия. И перешла к следующему интересующему ее пункту: — Свидетели говорят, что вы дважды выходили из гостиной, пока ваша племянница пела. Расскажите, пожалуйста, о своих передвижениях.
Анна Владимировна удивленно поглядела на нее.
— Конечно, я выходила. В первый раз забеспокоилась, что графини Толстой долго нет, вот и пошла ее искать, но Елена Николаевна уже возвращалась. Мы встретились у дверей.
— Какой она вам показалась тогда? Она не была взволнована, к примеру?
— Она? Нет, что вы. Она была такая же, как и всегда. Только глаза немного красные.
— А второй раз вы зачем выходили?
— Пошла отдать распоряжения слугам. Знаете, хозяйственные хлопоты… Если хотите, спросите у Глаши, она должна помнить.
— Вы никого не видели?
— Нет. Хотя подождите. Да, видела — Владимира Сергеевича. Но тут ведь никакого преступления нет.
Когда Анна Владимировна вернулась в большую гостиную, Павел Петрович обратил внимание на то, что у нее рассеянный вид.
— О чем тебя спрашивали?
Его жена пожала плечами.
— Кто куда выходил, да что я помню. Еще просили показать платок.
В тот момент в комнату вошла Глаша и объявила, что госпожа баронесса желает говорить с Никитой Преображенским. Композитор поднялся с кресла, со вздохом отложил в сторону газету и пошел за горничной.
— По-моему, все это вздор! — сердито сказал адвокат своему брату. — Ясно же, что у нее ничего нет.
— Погоди, — отозвался тот. — Может быть, преступник как раз друг графини?
— И я вот все думаю, думаю, — горячо подхватила Евдокия Сергеевна, сидевшая невдалеке. — И мне кажется, господа, что убийца все-таки пожарный. Если, конечно, не кто-то из слуг, — победно закончила она.
— А время-то уже позднее, — сказал Владимир Сергеевич и поглядел на часы.
Никита вскоре вернулся и сел возле графини.
— О чем она с тобой говорила? — требовательно спросила прекрасная Элен.
— Просила рассказать, что мне сказал хиромант, — ответил композитор. — Ну и то же самое: кто куда выходил, кто что делал. Я ее заверил, что не видел, как убийца крался с ножом вдоль стены, — шутливо добавил молодой человек.
— И что же тебе сказал Беренделли? — Темные глаза графини были прикованы к его лицу.
— Да всякие глупости, — безмятежно отозвался Преображенский.
— А все-таки? — настаивала Элен.
— Тебе так хочется знать? Изволь. Он сказал, что я скоро получу большое наследство и женюсь. Сказал, что мне будут завидовать и что я проживу счастливую жизнь. И еще маэстро сказал, что я с женой умру в один день.
— Очень романтично, — несмело заметила Варенька, слушавшая их разговор. — О такой смерти многие мечтают.
Графиня Толстая холодно улыбнулась: положительно, пора поставить дурочку на место.
Поэтому Елена Николаевна насмешливо заметила:
— Хотела бы я знать, о чем мечтает барон Корф.
— Вас и в самом деле интересуют мои мечты? — тут же живо откликнулся Александр, и, например, Митенька, уже по его тону почувствовал неладное.
— Представьте себе, Александр Михайлович!
— Я мечтаю о хорошей чашке кофе, — дерзко проговорил барон, глядя графине прямо в лицо. — Но не осмеливаюсь попросить, зная, какой кофе подают в этом доме.
— На что вы намекаете? — сердито вскинулся Павел Петрович, но тут весьма кстати снова вошла Глаша и сообщила, что госпожа баронесса ждет к себе для разговора Константина Сергеевича.
— О боже! — нарочито тяжело вздохнул адвокат. — Дамы и господа, если меня приговорят к смертной казни, прошу вас не поминать меня лихом!
И Городецкий удалился — сияющий, спокойный, уверенный в себе как никогда.
— Меня разоблачат сразу или дадут мне время покаяться? — были первые слова Константина Сергеевича, когда он вошел в комнату для допросов.
Оловянные солдатики сурово косились на него из шкафа, но их взоры были ничто по сравнению со взглядом Амалии, которым она смерила Городецкого.
— Стало быть, это вы убили Беренделли? — холодно осведомилась баронесса.
— Боюсь, я никак не мог сего сделать, — промолвил адвокат, причем тон его вдруг изменился — стал каким-то неуверенным, извиняющимся. — Когда произошло убийство, я слушал чудесное пение барышни в гостиной. Так что, к сожалению, ничем не могу вам помочь.
— Нет, почему же, можете, — возразила Амалия. — Для начала скажите, зачем вы отправились к Беренделли?
— Дело в том, что мы ведем сейчас сложный процесс, — пустился в объяснения Константин Сергеевич, поглядывая на Билли, который ничем не обнаруживал свое присутствие и задумчиво смотрел в окно. — Вот я и хотел узнать, как он закончится.
— И что вам сказал хиромант?
Адвокат улыбнулся.
— Его ответ, скажем так, меня не устроил, но я не стал его из-за этого убивать.
— Ладно, поговорим о другом, — спокойно сказала Амалия. — Ваш брат — бывший сослуживец Павла Петровича?
— Именно так.
— И поэтому вы с ним оказались на вечере, верно?
— Вы очень умны, госпожа баронесса. — Теперь в тоне адвоката сквозил неприкрытый сарказм.
— Эмили, можно я выкину его в окно? — внезапно спросил баронессу Билли по-английски. — Очень хочется.
— Нельзя, мы еще только начали разговор, — ответила Амалия на том же языке, не переставая любезно улыбаться адвокату.
— Тогда после того, как ты закончишь с ним беседовать, — жалобно уточнил Билли. — А?
— Я же говорю, нельзя, — терпеливо повторила Амалия и перешла на русский. — Что за процесс вы ведете, Константин Сергеевич?
— Разве он имеет какое-то отношение к данному делу? — Адвокат был слишком хорошим юристом, чтобы отвечать прямо на любой поставленный вопрос.
— Зависит от ваших слов. Так что за процесс?
Константин Сергеевич пожал плечами.
— Мы защищаем интересы одного чиновника, чья жена была застрахована в страховом обществе «Надежда» на крупную сумму. Недавно она погибла, а страховое общество не горит желанием платить.
— Любопытно, — сказала Амалия, поглядывая в свою записную книжку, где было написано: «Конст. Серг. Долгий разговор. G?nie.[88] Повторял несколько раз». — Анна Владимировна упоминала недавно, что ваш брат, уйдя со службы, устроился служить в страховое общество. Не в то самое, случаем?
Константин Сергеевич откинулся на спинку стула.
— Даже если и так, что из того? Да, Вольдемар служил в «Надежде», но ему там не понравилось. Поэтому он ушел оттуда и стал работать со мной. И если вы спросите, использую ли я его знания о страховых обществах, когда выступаю против них в суде, то я отвечу — да, конечно. Дело прежде всего.
— Наши страховые общества не любят доводить дело до суда, — заметила Амалия, пристально глядя на собеседника. — Еще неизвестно, как все на суде обернется, а хорошая репутация бесценна. Почему они не хотят выплатить чиновнику то, что ему причитается?
— Потому, что деньги очень большие, — ответил Константин Сергеевич.
— Насколько большие?
Константин Сергеевич вздохнул.
— Речь идет ни много ни мало о пятидесяти тысячах рублей.
— Ничего себе!
— Вынужден согласиться с вами, — улыбнулся адвокат. — Сейчас представители страхового общества пытаются доказать, что муж сам толкнул свою жену под карету, чтобы получить страховку. Одним словом, не зря мой брат не пожелал иметь с ними дела. Совершенно бесчестные люди, для них главное — получить деньги, а выполнять свои обещания они отнюдь не собираются.
— А ваш чиновник действительно толкнул свою жену под карету? — внезапно спросила Амалия.
— Сударыня, — криво усмехнулся адвокат, — вы собираетесь и это дело расследовать? Нет, конечно. Произошел несчастный случай, а в договоре оговорено, что за несчастный случай полагается двойная сумма компенсации. Но страховщики придумывают разные отговорки.
— Однако процесс вы, тем не менее, проиграете, — четко произнесла Амалия, пристально глядя на Городецкого. — По крайней мере, так вам сказал Беренделли. Хоть и добавил, что вы гений.
Константин Сергеевич обеспокоенно шевельнулся.
— Хиромант мне много чего наговорил, — проворчал он. — Например, что я женюсь на брюнетке, хотя мне больше по душе блондинки. И всякое другое в таком же духе. Но я не склонен придавать значение всему, что мне говорят.
— Представьте, я тоже, — очень вежливо заметила Амалия.
— Послушайте, — уже сердито сказал Константин Сергеевич, — я понимаю, к чему вы клоните. Вы ищете того, кого Беренделли открытым текстом назвал убийцей. Убийцей, как он выразился, безжалостным и хладнокровным.
Билли в тот момент чихнул, и адвокат подскочил на месте. Затем довольно раздражительным тоном продолжил свою речь:
— Я человек публичный, госпожа баронесса. Обо мне все известно. И о моем брате все известно. Ни один из нас никогда даже не дрался на дуэли, не говоря уже о том, чтобы убить человека. Расспросите обо мне кого угодно — Павла Петровича, его жену, Ивана Андреевича, и они вам все обо мне расскажут. У меня не было причин убивать хироманта, как не было причин подсыпать ему мышьяк. Да я и не мог сделать этого, поймите, никак не мог!
— А кто мог? — спросила Амалия. — Вы не первый, с кем я говорю, Константин Сергеевич. Все мои сегодняшние собеседники — неглупые, образованные и вроде бы не имеющие склонности к убийству люди. Кто же тогда, по-вашему, мог зарезать несчастного итальянца?
— Вы полагаете, я сам не думал о том же? — возразил адвокат. — Видит бог, я по природе не обвинитель, потому и выбрал такую профессию — защищать обиженных и угнетенных. Но кто упал в обморок при виде трупа? Кто выходил из гостиной как раз тогда, когда убили хироманта?
— Вы разумеете Дмитрия Павловича? — осведомилась Амалия. — Но Беренделли не гадал ему.
— В то время, когда всем гадал, нет, — подтвердил Константин Сергеевич. — Но смотрел его ладонь, когда вечер только начинался. Кто знает, какие тайны Беренделли мог на ней прочесть? Может быть, славный на вид молодой человек на самом деле анархист и тайный убийца. Откуда нам знать? Во всяком случае, он живет в этом доме, ему отлично известно расположение комнат, и ему ничего не стоило выбрать момент, дойти до малой гостиной, взять кинжал и убить человека, который имел несчастье узнать его тайну. Простите, госпожа баронесса, но больше мне никто не приходит на ум. Я от души надеюсь, что не прав и что вам удастся установить истину, несмотря ни на что.
Глава 18 Ночь продолжается
— Я устал, — пожаловался Билли, когда Константин Сергеевич наконец покинул комнату допросов.
— Я тоже, — призналась Амалия. — Но кое-что нам удалось узнать. Мы опросили пять свидетелей, не считая горничной, и по меньшей мере двое из них сказали нам неправду.
Билли насупился.
— Честно говоря, — проворчал он, — я ничего не заметил.
— Конечно, ведь ты не настолько хорошо понимаешь русский, чтобы понимать все нюансы, — отозвалась Амалия. — Какая жалость, что Глаша не говорит по-французски! Если бы мы точно знали, что именно Беренделли предсказал гостям, у нас было бы куда меньше хлопот.
— Как вы думаете, — спросил Билли, — адвокат сказал нам правду? Ну, про того парня в очках. Теперь и я вспомнил, что итальянец действительно что-то говорил про его будущее. Кроме того, он ходил за нотами для… для той мисс.
— Что? — сердито спросила Амалия.
— Он выходил за нотами еще до того, как она начала петь, — напомнил Билли. — Так что вообще-то он мог убить гадателя. Конечно, — поспешно добавил американец, — верить адвокату — последнее дело, но…
Он не закончил фразу, потому что Амалия звонко рассмеялась.
— Что такое? — спросил Билли, исподлобья глядя на молодую женщину в изумрудном платье.
— Ох братец, братец, — предостерегающе погрозила ему пальцем Амалия.
— Когда идет расследование преступления, я никому не верю. С Дмитрием Павловичем мы, конечно, побеседуем, но потом, попозже. Сейчас меня интересует, что расскажет жена тайного советника…
Евдокия Сергеевна не заставила себя ждать. Она уселась напротив Амалии и сразу же обрушила на нее поток вопросов. Госпожа баронесса уже знает, кто совершил убийство? У нее есть подозреваемые? Она любит читать Габорио? Какого она мнения о Шкляревском? Может быть, ее, баронессы, отец был судебным следователем?
— И вообще, я думаю, что убийство совершил доктор! — победно закончила женщина, раскрывая веер.
Билли поглядел на окно и тяжело вздохнул, словно сожалея о том, что не может выбросить в него назойливо болтливую свидетельницу.
— Венедикт Людовикович? — переспросила Амалия. — Что заставляет вас так думать, сударыня?
— Все доктора — убийцы! — безапелляционно заявила супруга тайного советника. — Все!
— Боюсь, покойный Беренделли не был пациентом господина де Молине, — весьма иронически промолвила Амалия. — Кстати о Беренделли: вы же спрашивали у него о своем будущем? Что именно он вам предсказал?
— Глупости, сплошь глупости! Сущий вздор! — надменно произнесла Евдокия Сергеевна, как бы закрывая тему. Но не смогла удерживаться и тут же все выложила: — Представьте, он сказал, что у меня будет сын! У меня! Нелепость, просто нелепость! C’est inoui![89] Он просто издевался надо мной! Как будто знал, что моим всегдашним желанием было иметь детей… Но бог их не дал, к несчастью.
Амалия кротко предположила, что маэстро Беренделли не так прочел знаки всемогущей судьбы, которые она оставляет на наших ладонях. В конце концов, человеку свойственно ошибаться, и теперь, когда маэстро убит, было бы грешно сердиться на него за оплошность.
— Скажите, — спросила затем баронесса Корф, — вы хорошо знаете Анну Владимировну?
Евдокия Сергеевна торжественно поклялась, что они всегда были лучшими подругами, и с любопытством уставилась на Амалию. «Неужели баронесса подозревает эту недалекую особу?» — было написано на лице почтенной советницы.
— А правда, что Анна Владимировна хотела, чтобы ее сын женился на своей кузине? — продолжала Амалия.
Евдокия Сергеевна подтвердила, что именно так. В душе она ликовала. Наконец-то разговор с малоприятной темы убийства свернул на более привычную дорожку сплетен. Госпожа Лакунина не сомневалась, что Амалия просто собирает сведения о той, которая возымела весьма предосудительное, с точки зрения баронессы, желание стать второй женой господина Корфа.
— Однако генерал Мезенцев был против, — притворно вздохнула Евдокия Сергеевна. — Он сказал, что браки между близкими родственниками — чушь и блажь. На самом деле, конечно, он счел, что Анна Владимировна… — Тут тайная советница «повесила» многозначительную паузу.
— Что Анна Владимировна? — с любопытством, подыгрывая собеседнице, спросила Амалия. Неутомимость сплетников, их ненасытность всегда поражали ее.
— Да просто это мезальянс, — объявила Евдокия Сергеевна. — Анна Владимировна, конечно, душечка, но она же была круглой сиротой. Ее отец умер еще до ее рождения, а мать — когда она была совсем маленькой. Аннушка воспитывалась у тетки, которая и устроила ее брак с Павлом Петровичем. Конечно, Аннушка — прекрасная хозяйка, заботливая, внимательная, но ее воспитание… оно, знаете ли, оставляет желать лучшего. Так что нельзя осуждать генерала Мезенцева, что он пожелал для своей дочери более блестящую партию.
— Действительно, — покладисто согласилась Амалия. — А теперь, если не возражаете, мне бы хотелось услышать историю, которая произошла в ведомстве вашего мужа. Кажется, там был замешан некто Васильчиков.
Когда Евдокия Сергеевна вернулась в большую гостиную, даже платье ее шелестело с каким-то особенным возмущением.
— Что с тобой, дорогая? — тревожно спросил Иван Андреевич.
Евдокия Сергеевна мрачно поглядела на него и отвернулась.
— Она спрашивала меня о Васильчикове.
Усы тайного советника поникли. Вот ведь чертовщина! Хоть и повысили его, и перевели в столицу, а теперь получается так, что ему все равно вовек не отмыться от той неприятной истории. Видит бог, он никогда не был деспотичным начальником, но почему-то почти все, кто работал с ним, поспешили от него отмежеваться, едва возникла угроза его чести и репутации. Все знали, что он неспособен на то, в чем его обвиняют, и тем не менее никто, ни один человек, кроме Павла Петровича, не посмел поднять голос в его защиту. Иван Андреевич вспомнил Васильчикова, его вызывающую веселость и развязные манеры.
Бог ты мой, в смятении подумал тайный советник, он же был настоящий подлец! Постоянно занимал деньги и никогда не отдавал их, ему ничего не стоило пустить о человеке порочащий слушок и на следующий день заверять его в своей дружбе, но отчего-то сослуживцы его обожали, а Ивана Андреевича еле терпели. Да что там, даже когда Васильчикова официально осудили, многие остались при мнении, что все подстроил Иван Андреевич, подставил его, а сам вышел сухим из воды. Когда же все это наконец кончится? Тайный советник в раздражении развернул газету.
Услышав его тихий стон, Митенька поднял глаза. Иван Андреевич выронил газету и с оцепенелым видом таращился на нее.
— Что случилось, Иван Андреевич? — спросил адвокат, сидевший напротив.
Барон Корф холодно посмотрел на тайного советника. Он уже прочитал в хронике происшествий на последней странице, что некий И.В. Васильчиков, присужденный к Сибири за растрату, находится в тюремной больнице и, по всей видимости, вскоре умрет от чахотки, которая обострилась вследствие тюремного заключения.
— Боже мой, — прошептал с ужасом Иван Андреевич, подобрав с ковра газету. — Это я… я убил его.
* * *
— Мы опросили всех, кому гадал Беренделли, — сказал Билли баронессе, когда они остались в странной комнате с игрушками вдвоем. — Кроме одного человека.
— Совершенно верно, — подтвердила Амалия. — Глаша! Будьте так добры, позовите ко мне мадемуазель Мезенцеву. Если она захочет, пусть приходит в сопровождении господина барона, я не против.
Оказалось, впрочем, что Варенька предпочла обойтись без сопровождающих. Девушка переступила через порог, смело взглянула в лицо Амалии и быстро проговорила:
— Я готова рассказать вам все, что знаю. — Хоть Варенька и старалась не выдавать своих чувств, но в присутствии дамы в изумрудном платье она отчаянно робела и от того сердилась на себя.
— Присядьте, пожалуйста, — попросила ее Амалия. — Вам известно, о чем мы будем говорить?
— Мне известно, — ответила Варенька, чинно сложив руки на столе, как примерная ученица, — что вы считаете, будто маэстро Беренделли был убит именно тогда, когда я пела, а совершил убийство человек, который в это время выходил из гостиной. — Варенька прикусила губу. — То есть любой, кроме…
— Кроме?
— Кроме барона Корфа, доктора, господина адвоката Городецкого, Евдокии Сергеевны и вашего кузена. И кроме меня, — быстро добавила девушка.
— Мне кажется, вы забыли обо мне, — спокойно заметила Амалия. — Я ведь тоже не выходила. Скажите, мадемуазель, у вас всегда такая хорошая память?
— Нет, — простодушно призналась Варенька. — Просто, когда стоишь в середине комнаты, поешь и кто-то старается незаметно выйти, у него ничего не получается. Потому что я его все равно замечаю.
Амалия улыбнулась.
— Давайте лучше поговорим о Беренделли, мадемуазель, — сказала она. — Многим гостям хиромант нагадал не самые приятные вещи. А вам?
Нет, она не ошиблась: в лице Вареньки сверкнуло настоящее торжество.
— Он сказал мне, что я выйду замуж, очень скоро, — сообщила девушка. — Что я буду очень счастлива, и все у меня будет хорошо.
На самом деле Амалии, конечно, не терпелось узнать, каким образом мышьяк оказался в чашке хироманта, которую ему подала Варенька, но баронесса знала, что некоторые вопросы нельзя задавать сразу, если хочешь услышать хоть что-то, похожее на правду. Посему она спросила:
— Скажите, мадемуазель, у вас есть платок?
— Платок? — удивленно переспросила девушка.
— Да. Мне бы хотелось взглянуть на него.
Варенька нерешительно посмотрела на Амалию, оглянулась на непроницаемое лицо Билли и стала рыться в своем ридикюле.
— Странно, — сказала она, — его здесь нет. Хотя я готова поклясться…
Но слова замерли у нее на губах, потому что Амалия уже достала из своей сумочки испачканный кровью белый лоскут.
— Ваш? — спокойно спросила баронесса Корф.
— Да, — прошептала Варенька. — То есть… Но постойте! Где вы его нашли? И что это за пятна на нем?
— Это кровь, — проговорила Амалия.
— Не может быть! — воскликнула Варенька. — То есть… я хочу сказать. О, теперь я все вспомнила! Александр порезал руку бокалом… я хотела ее перевязать, но уронила платок. Тут Венедикт Людовикович сказал, что сам его перевяжет… Откуда же на моем платке кровь? — спросила девушка с недоумением. — И где вы его нашли?
— Боюсь, кровь не барона Корфа, а убитого маэстро Беренделли, — сказала Амалия. — И убийца выбросил платок, как улику.
Грохнула дверь, и в комнату влетел барон Корф. За ним вбежал рассерженный Митенька, крича на ходу:
— Вы не имеете права мешать установлению истины!
— Мне разрешили присутствовать на допросе, — отрезал барон и обернулся к Вареньке, которая смотрела на него, раскрыв рот. — Что ты сказала? Что платок твой? Ты понимаешь, что это значит?
— Что? — совершенно испугалась Варенька.
— Твой платок — улика, убийца вытер им руки после того, как зарезал хироманта, — безжалостно объяснил Александр. — И ты же подала итальянцу чашку кофе, в которой оказался мышьяк. Господи, да таких улик достаточно, чтобы любой следователь тебя немедленно арестовал!
— А, — протянула Амалия, — я так и подумала, что вы узнали платок. У вас сделалось такое выражение лица, когда вы его увидели в первый раз…
— Неправда, я его не убивала! — выкрикнула Варенька, срываясь с места.
— Молчи, ради бога! — велел ей Александр. — И ничего больше не говори, слышишь? Ведь ясно же, что она не поверит ни одному твоему слову!
— Я, Александр Михайлович, склонна верить здравому смыслу. — Амалия поднялась с места и незаметно оттеснила своего «кузена» Билли в глубь комнаты. Одной рукой она придерживала его руку, которая что-то нащупывала под сюртуком. — А здравый смысл говорит мне, что ваша невеста никак не могла зарезать господина Беренделли, так как не выходила из комнаты, что видели все. Просто в суматохе она выронила свой платок, когда вы порезались, и забыла про него. А убийца подобрал его и позже вытер им руки. И готова поспорить, — добавила баронесса, — что сейчас этот человек сидит в большой гостиной и в глубине души смеется над нами.
— Хорошо, с платком все понятно, — вмешался Митенька, которому не терпелось произвести на госпожу баронессу солидное впечатление. — Но я что-то слышал про мышьяк в чашке. И раз убийство произошло в доме моих родителей, мне было бы любопытно узнать, как она объяснит это!
— Мышьяк? — пролепетала Варенька, и глаза ее сделались круглыми от ужаса. — Но я не понимаю, о чем вы говорите!
— Он был в чашке, которую вы дали хироманту! — мстительно сказал Митенька. — И как же, позвольте спросить, он там оказался?
Варенька находилась на грани обморока — щеки у нее горели, в глазах застыло почти бессмысленное выражение… Амалия сердито покосилась на Митеньку, который совершенно некстати встрял в разговор со своими разоблачениями и к которому у нее самой имелся ряд вопросов, но тут дверь растворилась, и вбежала Глаша.
— Сударыня! — пролепетала она.
— В чем дело? — спросила Амалия.
— Кто-то колотит в дверь уже несколько минут! Что нам делать? Может быть, явилась полиция?
Амалия пожала плечами.
— Если полиция, мы не вправе ей мешать, — сказала она. — Билли! Отопри дверь и проводи гостей сюда, кто бы они ни были. Глаша! Вы пойдете с ним. Ни слова о том, что здесь случилось, до моего особого распоряжения, хорошо?
Билли одернул сюртук, с некоторым сожалением покосился на остающегося в комнате барона и вышел в сопровождении горничной.
— Если и правда пришли полицейские, — внезапно сказал Александр, — то, признаться, я выступаю за то, чтобы передать расследование им. Боюсь, Амалия Константиновна, вы слишком пристрастны, что может не самым лучшим образом сказаться на судьбах некоторых людей.
Прежде чем ответить, Амалия подошла к окну и некоторое время смотрела на черные ветви дерева во дворе, на которые налип мокрый снег.
— Пристрастны как раз вы, Александр, — промолвила она спокойно, не оборачиваясь. — И я настоятельно прошу вас не переносить на меня свои собственные качества. Мне это не слишком приятно, знаете ли. Впрочем, как и все, что связано с вами, — неприязненно добавила она.
«Королева!» — в восхищении подумал Митенька, видя, как потемнело лицо барона при словах баронессы. Юноша приосанился и поправил очки.
За дверями послышались шаги.
— Прошу вас, — донесся голос Глаши, — сюда… Вас ждут!
Дверь отворилась. На пороге стояла молодая женщина, закутанная в легкую шубку на лисьем меху. У нее было вытянутое смугловатое лицо и черные глаза, обрамленные длинными ресницами. Впрочем, тем и исчерпывалась его притягательность, потому что черты лица нельзя было назвать красивыми. И выражение лица, видимо, свойственное незнакомке — застенчивое и вместе с тем диковатое, — тоже ее не красило.
— Добрый вечер, — произнесла неожиданная гостья по-французски. Ее глаза обежали присутствующих и остановились на Амалии, которая держалась непринужденнее всех. — Вы хозяйка этого дома? Меня зовут Антуанетта Беренделли, и я приехала за своим отцом.
Глава 19 Дочь
В комнате наступило ошеломленное молчание.
— За вашим отцом? — пролепетал Митенька.
— Да, — отвечала удивленная Антуанетта. — Он задержался у вас, а завтра нам надо ехать… — Ее глаза перебегали с одного лица на другое и на каждом читали растерянность и страх. — Видите ли, сударыня, уже поздно, и… Если вы не возражаете, мне бы хотелось увидеть его.
— Да, разумеется, — после паузы ответила Амалия. — Александр Михайлович! Будьте добры, уведите свою невесту. И вы, Дмитрий Павлович, тоже возвращайтесь в гостиную. Наш разговор мы закончим потом.
Очевидно, Александр понял, что сейчас не время препираться, потому что он хмуро поклонился, взял под руку бледную Вареньку и увлек ее за собой. Митенька последовал за ними, и в комнате остались только Амалия, Антуанетта и американский кузен. Он выразительно покосился на Глашу, и та с почтительным трепетом прикрыла дверь.
— Мне кажется, — нерешительно начала Антуанетта, — мы с вами уже встречались, сударыня… если я не ошибаюсь.
— Да, — сказала Амалия. — Но, может быть, вам лучше сесть? Билли!
Американец помог гостье снять шубку, и Антуанетта Беренделли села за стол.
— Я бы хотела увидеть своего отца, — повторила она. — Вы проводите меня к нему?
— Если вы так настаиваете, — Амалия тщательно подбирала слова. — Дело в том, что с вашим отцом случилось несчастье.
— Несчастье? — встрепенулась Антуанетта. — О чем вы, сударыня?
— Мне крайне неприятно сообщать вам, но, — Амалия сердилась на себя за то, что вынуждена причинить горе молодой женщине, которую она едва знала. — Но ваш отец умер.
— О боже! — Антуанетта ахнула и закрыла руками рот.
— Более того, — продолжала Амалия, — он был убит. Я не хозяйка дома, меня зовут баронесса Корф, Амалия Корф. Поскольку у меня есть определенный опыт в такого рода делах, гости сочли, что до прихода полиции я могу провести следствие. Поэтому я здесь.
Она умолкла. Антуанетта испуганно смотрела на нее. По щекам молодой женщины текли слезы.
— Но почему? — прошептала она. — За что его убили? Он же ничего плохого никому не сделал!
Амалия вздохнула и села на стул напротив дочери Беренделли.
— Перед смертью, — сказала баронесса, — ваш отец произнес очень странные слова. И я полагаю, что именно в них кроется причина его гибели. Понимаете, он фактически обвинил одного из гостей в том, что тот является убийцей. Но, к сожалению, больше ваш отец ничего не успел нам рассказать.
А в большой гостиной вновь собрались все гости Верховских.
— Бедная, бедная, — повторял Митенька. Его душа была переполнена жалостью и сочувствием к Антуанетте, которой сейчас наверняка рассказывали о смерти ее отца. — Как все ужасно, в самом деле!
Владимир Сергеевич улыбнулся и поглядел на свои ногти.
— Если правда то, что я слышал, то мадемуазель Беренделли кто угодно, только не бедная, — сказал он. — Ее отец должен был оставить значительное состояние.
— По-вашему, все в мире измеряется деньгами? — вспылил молодой человек.
— А по-вашему, нет? — прищурился адвокат.
Елена Толстая слушала их разговор, лениво, как кошка, щуря свои удлиненные к вискам глаза. «Честное слово, они вот-вот поссорятся», — подумала она. Но эта мысль ничуть не пугала ее — наоборот, ей казалось забавным, что в столь унылый вечер будет хоть какое-то развлечение.
— Она потеряла близкого человека, — сердито сказал Митенька. — Как вы думаете, неужели в такой момент она станет думать о наследстве?
Братья Городецкие насмешливо переглянулись.
— Боюсь, юноша, вы слишком плохо знаете жизнь, — с улыбкой произнес Константин Сергеевич.
«Ни за что не пойду в юристы», — подумал оскорбленный Митенька.
— Господа, — вмешалась Анна Владимировна, — может быть, чаю?
— В наше время, юноша, следует быть более практичным, — назидательно добавил Владимир Сергеевич.
— Душечка, вы не хотите чаю? — спросила Анна Владимировна у Евдокии Сергеевны.
«Не хочу, — подумала тайная советница, сохраняя на лице благожелательную улыбку. — Мало ли что в твоем чае окажется!»
— Спасибо, дорогая, — кисло ответила она вслух. — Но мне ничего не надо.
— Венедикт Людовикович?
— Нет, — хмуро отозвался доктор, — благодарю вас.
— А я, пожалуй, выпью, — внезапно сказал Павел Петрович, и жена бросила на него взгляд, полный признательности.
— Скучно, однако, — вздохнул композитор. — Может быть, сыграть что-нибудь? — Он с надеждой покосился на закрытый рояль.
— Благодарю покорно, — отозвался Константин Сергеевич. — Когда вы играли в прошлый раз, в доме убили человека.
— И что? — холодно спросил Никита. — Лично я никого не убивал. Хотя за других не поручусь, — добавил он с весьма обидным намеком в голосе.
— Представьте себе, я тоже никого не убивал, — парировал адвокат. — И даже алиби у меня имеется… чего нельзя сказать о некоторых, — заметил он, глядя на Ивана Андреевича.
— Простите, о чем вы? — пролепетал тайный советник.
— Вы же давеча утверждали, что вы убийца, — подхватил Владимир Сергеевич. Положительно, оба брата стоили друг друга. — Как говорится, лиха беда начало.
— Молодой человек, не забывайтесь! — железным голосом вмешалась Евдокия Сергеевна. Она захлопнула веер и стиснула его, как кинжал.
— Хотя у нас предостаточно других кандидатур на роль убийцы, — тотчас же пошел на попятную помощник адвоката. — Взять хотя бы Варвару Григорьевну. Ведь именно она подала хироманту чашечку, в которой позже обнаружился мышьяк!
Варенька затрепетала.
— Интересно, госпожа баронесса уже обнаружила сие обстоятельство? — бросил ехидный риторический вопрос адвокат.
Судя по лицу Александра, он был уже готов сказать что-то весьма резкое, но его опередил композитор.
— Вам так нравится оскорблять беззащитных женщин? — зло спросил Городецкого Никита. — Или просто вас давно не били по роже?
Константин Сергеевич неодобрительно покачал головой.
— О, quelles mani?res![90] — укоризненно пробормотал он.
— Господа, господа! — вмешался Павел Петрович. — Право же, ни к чему… когда такое происшествие, я понимаю… волнение…
— Не происшествие, милостивый государь, а убийство! — отрезал Владимир Сергеевич.
Но тут явилась вторая горничная, Наташа, которая принесла чай, а за ней в комнату заглянул американский кузен.
— Месье доктор, — на неплохом французском обратился он к де Молине, — можно вас на минуточку? Мадемуазель Беренделли стало плохо при виде тела.
Они вышли, а Анна Владимировна стала разливать чай, который, впрочем, никто не хотел пить. Митенька взял чашку и принялся для чего-то вспоминать все, что знал о мышьяке, а Павел Петрович осторожно пригубил чай и, решив, что тот слишком горячий, отставил его в сторону. Через минуту вернулся доктор.
— Ей лучше? — спросила хозяйка. — Мадемуазель Антуанетта пришла в себя?
— Да, — буркнул де Молине и больше ничего не сказал.
Молодая женщина действительно пришла в себя.
— Если вы не против, — обратилась к ней Амалия, — я хотела бы поговорить с вами.
Антуанетта кивнула, снова всхлипнула и трясущейся рукой провела по лицу.
Они вернулись в ту же комнату, где были свалены старые игрушки и елочная мишура. В окно по-прежнему глядела петербургская ночь. Билли вновь отправился караулить выходы из дома, так как Амалия понимала, что время работает против нее и вскоре гости наверняка попытаются уйти. А имени убийцы у нее как не было, так и нет. Только подозрения, ничем не подкрепленные. Но Амалия имела привычку не слишком доверять необоснованным подозрениям.
— Вас зовут Антуанетта Беренделли, верно?
— Да, — дочь хироманта попыталась вежливо улыбнуться, но в глазах ее еще стояли слезы.
— Можно вопрос? Антуанетта — французское имя, а ваш отец — итальянец. Или…
— Моя мать была француженка, — поспешно проговорила Антуанетта. — И мы чаще бывали во Франции, чем в Италии. В Париже у моего отца квартира… была квартира, — тихо добавила она про себя.
— Ваша мать умерла?
— Нет. Они с отцом разошлись. Давно. Теперь у нее другой муж. Если, конечно, она и с ним не разошлась… Скажите, мадам баронесса, мы ведь виделись с вами прежде? Кажется, летом, на курорте… Вы еще шли под белым зонтиком…
— В самом деле я была тогда в Ментоне, — кивнула Амалия. — Вы ведь тоже там лечились?
— Да, — вздохнула Антуанетта, — у доктора Ротена. У меня возникли проблемы с легкими, и папа… Он очень испугался.
— Вам следовало обратиться к Феликсу Пюигренье, — заметила Амалия. — Он лучший специалист в данной области медицины.
Антуанетта пожала плечами.
— В любом случае, тревога оказалась ложной. Врач сказал, что со мной все в порядке.
— Однако на вечер к Верховским вы все же не пришли, — заметила Амалия.
— О, здесь другое. Просто я не очень хорошо себя почувствовала, и папа отправился один.
— Как он выглядел, когда уходил? Он кого-нибудь опасался? Может быть, у него были какие-нибудь предчувствия?
Антуанетта грустно улыбнулась.
— Нет, ничего такого я не помню. Впрочем… — Молодая женщина задумалась. — Он действительно произнес одну странную фразу.
— Какую? — Амалия вся обратилась в слух.
— «Что бы ни случилось, помни, что я люблю тебя», вот что сказал папа. — Антуанетта вздохнула. — Хотя это неважно, он часто так говорил.
— У него были враги?
— У моего отца? О нет, мадам. Некоторые ему завидовали, особенно другие хироманты, но не настолько, чтобы убить.
Амалия поколебалась.
— Я должна назвать вам имена гостей, которые были на вечере. Вероятно, вам все же удастся что-то вспомнить.
И баронесса перечислила всех, кто присутствовал на роковом ужине.
— Отец общался с Верховскими в Ментоне, — сказала Антуанетта, — он мне сам говорил. Сама я плохо их помню и не думаю, чтобы… — Дочь Беренделли умолкла. — Кто еще, Лакунины? Никогда не слышала. Доктор де Молине? Не знаю такого, и отец о нем не упоминал… Графиня Толстая? Это, случаем, не та Толстая, о которой писали в газетах? Вроде бы из-за нее какой-то художник застрелился…
— Да, — подтвердила Амалия, — именно она.
— Нет, отец о ней не говорил, — Антуанетта покачала головой и вдруг закусила губу. — Странно, ведь вы открыли мне все обстоятельства… и, если верить вам, среди присутствующих в доме находятся сразу двое, кто желал папе смерти, а я ничего не знаю. — Женщина всхлипнула. — Умоляю вас, мадам баронесса, найдите их! Я сделаю все, что вы попросите. Я… у меня есть деньги… но я не хочу, чтобы они ушли безнаказанными. Пожалуйста! Вы должны их найти! Иначе мне каждую ночь будет сниться, как папа лежит на диване… совершенно беззащитный…
Она разрыдалась, плечи ее дрожали, по длинноватому носу катились слезы. Амалия сказала ей все, что обычно говорят в таких обстоятельствах. Конечно, она постарается найти тех, кто это сделал… У нее есть несколько догадок, но все пока слишком смутно, слишком зыбко… и она вовсе не уверена, что правда…
— Для начала мне надо закончить допрос свидетелей. Если хотите, я могу сказать, чтобы вас проводили в отдельную комнату… Наверное, вам будет нелегко находиться рядом с гостями, — закончила баронесса. — Билли!
Но Антуанетта упрямо замотала головой.
— Нет, я пойду к ним. Я хочу видеть их лица. Может быть, я что-нибудь замечу и тогда обязательно скажу вам.
— Как вам угодно, — согласилась Амалия.
Она отлично знала, что преступник затаился и все попытки прочитать что-то по лицам присутствующих ни к чему не приведут, но не стала разубеждать Антуанетту. И, в конце концов, не исключено, что дочь Беренделли все же заметит что-нибудь такое, что даст ключ к разгадке таинственной гибели хироманта.
Глава 20 Тринадцать свидетелей
— Я не хочу больше с ней говорить, — сказала Варенька, когда Глаша ввела Антуанетту и доложила, что баронесса Корф хотела бы закончить беседу с мадемуазель Мезенцевой.
— Что ж, ваше право, — тотчас согласился адвокат. — В конце концов, какие бы полномочия ни брала на себя эта особа, никто не обязан с ней откровенничать.
Антуанетта села на диван неподалеку от Александра. Судя по всему, она чувствовала себя явно не в своей тарелке, но, тем не менее, нашла в себе силы улыбнуться.
— Мне кажется, вам лучше все-таки объяснить ей, откуда взялся мышьяк в чашке кофе маэстро, — вмешалась графиня Толстая. — Потому что запирательство в данных обстоятельствах производит довольно странное впечатление.
— Я не отравляла его! И я не знаю, откуда там мог взяться мышьяк! — сердито выкрикнула Варенька. Слезы готовы были брызнуть из ее глаз.
— Но откуда-то он должен был там появиться, — заявил здравомыслящий Митенька. — Варенька, может быть, кто-то еще трогал чашку?
— Я не помню, — мрачно отозвалась девушка. — Не знаю!
Евдокия Сергеевна послала мужу предостерегающий взгляд.
— А чашку-то никто больше не трогал, — вполголоса сказала она, обмахиваясь веером. — Я все вспомнила: мадемуазель взяла ее с подноса и подала ему.
— Значит, кофе уже был отравлен? И ее мог выпить кто угодно? — в смятении пробормотал тайный советник, нервно передернув плечами. — Что за дом, боже мой! Что за дом!
— Я никуда не пойду! — сердито повторила Варенька Глаше. — Оставьте меня!
Взгляд Антуанетты перебегал с одного лица на другое. Вот надменная графиня Толстая, вот заинтригованная Евдокия Сергеевна, мрачный Павел Петрович, хмурый доктор…
Глаша подождала немного и скрылась за дверью.
— Госпожа баронесса приглашает Дмитрия Павловича, — объявила она, вернувшись вскоре.
— Митенька! — встревожилась мать. — Но ты же слышал, что сказал Константин Сергеевич? Тебе вовсе незачем туда идти!
— Маман, это нелепо, — сердито ответил юноша. — В отличие от некоторых, мне нечего скрывать!
Он поправил очки и вышел вслед за горничной.
— Чем дальше, тем больше все происходящее напоминает какой-то фарс, — вздохнул Константин Сергеевич. — Скажите, Корф, что заставляет вас думать, что вашей жене по силам найти убийцу?
Александр поглядел сквозь него, как будто адвоката и нет в комнате, и отвернулся. По правде говоря, он и сам был полон сомнений, но не хотел, чтобы их заметили окружающие.
— В самом деле, — неожиданно подала голос Варенька. — Вы должны ей сказать, чтобы она прекратила… все это.
Тон невесты, а в особенности слово «должны», которое Александр терпеть не мог, ему безотчетно не понравились. Кроме того, он мог сколько угодно защищать Вареньку, но ему самому не давал покоя вопрос, откуда тогда мог взяться мышьяк в чашке, которую она подала маэстро Беренделли. Ведь он был уверен, что кроме нее к чашке никто не прикасался.
— Мы пошли на поводу у хорошенькой женщины, — пророкотал Владимир Сергеевич. — Но, право же, господа, надо признать, что ее идея была неудачной.
— Ну уж нет! — вскинулся Иван Андреевич. — Если уж мы доверились баронессе, пусть она доводит дело до конца! Лично я не желаю, чтобы мое имя трепали газеты!
— В самом деле, — неожиданно поддержал его Никита. — Осталось совсем немного. Как в романе: допросят всех и каждого, а на последней странице преподнесут имя убийцы. И все мы с чистой совестью отправимся спать. Кроме того человека, конечно, которого передадут в руки полиции.
— С таким же успехом, сударь, — заметил адвокат, — мы можем бросить монетку и выбрать, кто из нас убийца.
— Что-то вы слишком сильно переживаете по данному поводу, многоуважаемый, — холодно обронил барон Корф. — Невольно создается впечатление, будто вы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы убийцу не нашли.
— Я? — Константин Сергеевич изобразил на холеном лице искреннее удивление. — Вы что же, намекаете, что маэстро убил я, в то время как я вообще не выходил из гостиной? Просто смешно! — Он поймал взгляд Антуанетты и тепло улыбнулся ей.
Отворилась дверь, и на пороге показался Митенька.
— Все в порядке? — тревожно спросила у него мать. — Тебе задавали много вопросов?
— Да, — смущенно признался Митенька.
— И о чем тебя спрашивали? — осведомился отец.
— О том же, о чем и остальных, — куда я выходил из гостиной, когда кузина пела. — Митенька покраснел. — А я… ну… убил муху, потому что она меня раздражала и вынес ее за дверь. Только и всего. Потом госпожа баронесса спросила, долго ли я искал ноты для кузины, и вообще, люблю ли я Верди. И еще мы беседовали о политике, но совсем немножко.
Анна Владимировна покачала головой. Положительно, Митенька слишком много времени уделяет всяким глупостям. Нет, пора, пора ему уже определиться со своей судьбой. Пусть поступает в университет и занимается делом, как все люди в их окружении.
— Ах да, — спохватился Митенька, — госпожа баронесса попросила к себе Владимира Сергеевича.
Тот прищурился и закинул ногу на ногу.
— А я не пойду, — после паузы произнес младший Городецкий. — И вообще, мне наскучил этот балаган. Уже ночь, а мы все сидим и толчем воду в ступе. — Он отыскал взглядом Глашу. — Передайте баронессе Корф, что я не убивал маэстро Беренделли и понятия не имею, кто совершил преступление, а если и выходил из гостиной, когда мадемуазель пела, то лишь потому, что забыл в столовой портсигар. — Помощник адвоката похлопал себя по карману. — Анна Владимировна может подтвердить, что я шел со стороны столовой, а не из малой гостиной, где произошло убийство. И все, закончим, господа!
— Да уж, правда, — пробормотала хозяйка.
Глаша нерешительно посмотрела на нее и выпорхнула за дверь. Однако вернулась довольно скоро и объявила, что тогда, если Павел Петрович не против, баронесса хочет задать несколько вопросов ему.
Павел Петрович посмотрел на рассудительного, уверенного в себе адвоката, покосился на своего начальника и поднялся с места.
— Ты можешь никуда не идти, — умоляюще глянула на мужа Анна Владимировна. — Ведь Владимир Сергеевич не пошел же, и ничего…
— Да, — со вздохом согласился Павел Петрович. — Однако Иван-то Андреевич давал показания, и нехорошо будет, если я откажусь.
— У него такой вид, как будто его уже ссылают в Сибирь, — заметила графиня Никите, когда хозяин дома вышел за дверь. Композитор поморщился и ничего не ответил.
* * *
Баронесса встретила господина Верховского молча.
— Какое ужасное происшествие: и приключилось в моем доме… — Павел Петрович сбился и с надеждой покосился на лицо Амалии, но оно было бесстрастно. — Скажите, сударыня, вы уже знаете, кто это сделал?
Амалия усмехнулась.
— Боюсь, у меня пока нет доказательств, — сказала она. — И к тому же все еще слишком зыбко, слишком ненадежно. — Она вздохнула и потерла висок тонкой рукой. — Вам наверняка известно, какие вопросы я задавала остальным свидетелям. Скажите, Павел Петрович, зачем вы выходили из гостиной, когда ваша племянница пела?
Верховский кашлянул и приосанился.
— Доктор прописал мне лекарство, — заговорил он. — Я его принимаю по часам, но при гостях, сами понимаете… неудобно-с. Поэтому я и вышел…
— Ваш доктор — Венедикт Людовикович?
— Да, госпожа баронесса.
— У вас в доме много лекарств?
— Да. Но мышьяка среди них нет, я готов поручиться, — сообщил Павел Петрович, сразу сообразив, куда ветер дует. Ему показалось, что Амалия посмотрела на него недружелюбно, но, возможно, то была лишь игра теней в зыбком свете лампы.
— И вы, конечно, понятия не имеете, кто мог убить Беренделли, ничего не знаете об убийце и ничего не видели? — продолжила она. — Так? Или не так?
Павел Петрович нахохлился. Ему показалось, что в словах баронессы прозвучал упрек, а упрека он не заслуживал. Он сказал ей правду, и если правда ее не устраивала, что ж, тем хуже для нее.
— Уверяю вас, госпожа баронесса…
Но та явно не желала слушать его оправдания.
— Теперь я хотела бы опросить слуг, если вы не против… Возможно, кто-то из них мог видеть убийцу.
— Да, конечно, госпожа баронесса. Поступайте, как считаете нужным.
Когда Верховский скрылся за дверью, Амалия развернула список, составленный хозяйкой дома, и стала одного за другим вызывать слуг.
Логические построения? Вещественные доказательства? Вздор, милостивые государи! Главное в сыскном деле — свидетель, который видел, допустим, как Дмитрий Павлович Верховский с зловещей улыбкой на устах и нотами под мышкой выходил из малой гостиной, вытирая руки окровавленным платком своей кузины. Однако никто из слуг никого не видел, ничего не заметил и никого не подозревал, потому что после ужина все делили остатки еды или были заняты своими делами. Зато Амалия узнала многое о прижимистости Анны Владимировны, о несвежих розах и скверной телятине, о которой возмущенный повар вещал чуть ли не четверть часа, самыми черными красками расписывая скаредность хозяйки дома. И все остальные свидетели, если вдуматься, были ничуть не лучше.
Нет, подумала Амалия, кончено. Надо бросить все, послать человека за Марсильяком, старым другом Марсильяком, который нынче ведет следствия по особо важным делам. Тринадцать свидетелей, не считая ее саму и прислугу, и от всех — никакого толку! Да, но она-то? Ведь она тоже была там… И что, помнит больше, чем остальные люди? Она знает, кому Беренделли гадал и на чьей ладони он мог — теоретически — прочитать прошлое убийцы, знает, кто выходил из гостиной, пока Варенька пела, и даже знает, зачем. И все объяснения — одно убедительнее другого! У нее есть даже улики — платок той же Вареньки и кинжал. Стоп! Ну конечно, кинжал! Кинжал на стене! И как она не подумала об этом? Похоже, не только ее американский друг, но и она сама теряет былую сноровку…
— Билли! — крикнула Амалия.
Повар, сидевший перед ней, вздрогнул, и баронесса повернулась к нему:
— Простите, сударь… Благодарю вас, я, кажется, узнала все, что хотела узнать. Остается уточнить только одну деталь…
— Что-то я ничего не понял, — признался Билли.
Он и баронесса стояли в малой гостиной, напротив стены, где остались висеть пустые ножны от кинжала, которым убили Беренделли. Сам кинжал Амалия забрала как вещественное доказательство в самом начале расследования.
— Я должна была сразу же сообразить, — проговорила Амалия. — Смотри. Представь, что я убийца. Я вхожу в дверь, вижу лежащего хироманта, — она покосилась на мертвеца на диване, — и понимаю: вот мой шанс, я заставлю его замолчать, и на том все закончится. Что я делаю дальше?
Билли немного подумал.
— Если вы убийца, то выбираете оружие, — сказал он.
— Вот именно, — подтвердила Амалия. Она подошла к стене и подняла руку. — Видишь? Здесь несколько кинжалов, некоторые слишком высоко, почти под потолком, другие пониже. Но убийца взял именно этот. Почему?
— Если кинжал висит слишком высоко, его неудобно доставать, — слегка задумался Билли. — Если слишком низко, то приходится нагибаться, что тоже неудобно. — Он приблизился к стене и примерился к нескольким рукоятям. — Конечно! Вы правы!
— Он выбрал именно тот кинжал, до которого ему было легче всего дотянуться, — подытожила Амалия. — А из того, где висят пустые ножны, я делаю вывод, что убийца не самый низкий человек.
— Значит, не рыжий? — разочарованно спросил Билли.
— Нет, — ответила Амалия, — не Иван Андреевич, потому что он невысокого роста. И ни одна из женщин — по той же причине. Итак, мы все знаем о тех, кто покидал гостиную в то время, пока мадемуазель Мезенцева пела. Когда доктор вышел отсюда, хиромант был жив; когда я пришла с тобой и хозяевами, Беренделли был уже мертв. И… — Она хотела что-то сказать, но неожиданно осеклась.
— Если говорить о росте, то прежде всего подходит тип в очках, сын хозяев, затем композитор, они примерно одного роста, — стал деловито перечислять Билли. — И адвокатский братец. — Но тут он увидел выражение лица Амалии — и слова замерли у него на губах.
— Билли, — медленно проговорила баронесса, — я ошиблась.
— В чем? — удивился Билли. Американец был не столько озадачен, сколько испуган. На его глазах она распутала столько дел… Как может быть, чтобы такая умная женщина допустила промах?
— Время, Билли, — промолвила Амалия, и ее глаза засверкали. — Время убийства, вот в чем дело! Никому никогда нельзя верить, особенно если расследуешь убийство. Я не обратила внимания на маленькую деталь, а ведь все так просто. Время не совпадает, понимаешь? Потому что я неверно определила его.
— Но как же… — начал Билли. Он ничего не понимал.
— И тогда все сходится, — продолжала рассуждать вслух Амалия, не слушая его. — Ну конечно же! Ведь Антуанетта сказала, и я должна была догадаться! Вот почему он все время пытался… Это же очевидно! И испуг на лице. Именно испуг, готова поклясться, я никогда не ошибаюсь в подобных вещах! Но самое главное, самое главное! Боже мой, да ведь он сам выдал себя! Так просто, а я не обратила внимания. А ведь обязана была обратить!
— О ком вы? — почти закричал Билли. — Кто — он? Убийца? Вы знаете, кто зарезал итальянца?
— Да, — с торжеством ответила Амалия. — Можешь забыть про наших подозреваемых. Все они ни при чем. Видишь ли, я думаю, да что там — я почти уверена, что это был…
Глава 21 Выстрел во тьме
Грохнула дверь, и в гостиную ворвался доктор де Молине. Он явно спешил — так спешил, что споткнулся на пороге, но все же сумел удержаться на ногах.
— Госпожа баронесса! Там творится что-то чудовищное! Ради бога, остановите их!
Привычным жестом Билли сунул руку под сюртук и положил ладонь на рукоять револьвера, но Амалия взглядом приказала ему оставаться на месте.
— В чем дело, Венедикт Людовикович? — довольно холодно спросила она. — Что еще могло случиться?
— Безумие, настоящее безумие! — повторял взволнованный доктор. — Он вызвал его на дуэль! Они хотят стреляться! Немедленно!
— Кто? — Амалию охватили самые скверные предчувствия. — О ком вы говорите?
— О вашем муже и месье Дмитрии, — пробормотал доктор. — Я пытался их calmer, утихомирить, — он не сразу подыскал русское слово. — Но они ничего не хотят слушать!
Амалия и Билли переглянулись.
— Вы правы, — мрачно сказала молодая женщина, — их надо остановить. Не хватало еще одной смерти в этом доме! — Баронесса шагнула к двери. Билли поспешил за ней, а доктор шел впереди и рассказывал о том, что произошло в большой гостиной.
По его словам, все началось с обмена довольно резкими замечаниями между бароном Корфом и адвокатом. Похоже, Константин Сергеевич был не слишком доволен тем, что их удерживают в доме, и позволил себе несколько жалящих намеков. Александр в ответ пообещал научить его вежливости и сказал, что готов выполнить свое обещание в любое удобное для Городецкого время. Однако адвокат, судя по всему, не питал склонности к учебе. Вдобавок ко всему он заявил, что считает дуэли варварским пережитком прошлого. Владимир Сергеевич полностью поддержал брата и сказал, что незачем господину барону выставлять себя на посмешище.
Все шло к крупной ссоре, и тут в разговор вмешалась Анна Владимировна, которая тоже полагала, что пора вызывать полицию, поскольку госпоже баронессе до сих пор ничего не удалось выяснить. К ней присоединились несколько гостей, и завязалась перепалка. Антуанетта, которая, очевидно, поняла, о чем идет речь, стала возмущаться по-французски и требовать справедливости. Корф пообещал ей, что они сделают все, чтобы найти убийцу. Графиня Толстая выразилась в том смысле, что ей совершенно ясно: поиск преступника не под силу госпоже баронессе, о чем она, впрочем, догадывалась с самого начала. Анна Владимировна тотчас с ней согласилась, и тут Александр в довольно язвительной форме позволил себе пройтись насчет ее умственных способностей, которые вряд ли позволяют ей оценивать способности других. Возмущенный Митенька тотчас встал на защиту матери, и буквально в следующее мгновение барон Корф вызвал его на дуэль.
— Как интересно! — восхитился Билли. — Они что, и в самом деле будут стреляться?
Амалия испепелила его взглядом и ускорила шаг. Она отлично знала, как стреляет ее бывший муж, и не сомневалась, что дуэль имеет все шансы закончиться самым скверным образом для любого его противника.
«Что за характер, боже мой, что за характер! — думала она, входя в большую гостиную. — Гордец, строптивец, снаружи — лед, а в глубине — такой огонь… И ведь он прекрасно понимает, что не прав, но никогда, никогда в том не признается! Ах, щучья холера!»
Завидев Амалию, к ней сразу же бросилась испуганная Антуанетта Беренделли.
— Мадам, мадам! Они поссорились! Поговорите с ними, они никого не хотят слушать!
Корф и юный Митенька стояли друг против друга в центре гостиной; остальные столпились вокруг них. Амалия прежде всего почему-то увидела круги под глазами Александра, но барон держался так же непринужденно, как и всегда. Константин Сергеевич оставался несколько в стороне, скрестив на груди руки и словно показывая, что происходящее его ничуть не касается. Павел Петрович побелел как полотно, Анна Владимировна, судя по всему, была близка к обмороку.
— Господа, может быть, хватит? — сердито спросила Амалия.
— Нет! — отрезал барон.
— Нет! — в запальчивости повторил Митенька. — Этот человек пришел к нам в дом, мы встретили его, как гостя… а он позволяет себе… Черт знает что он себе позволяет! — прибавил юноша в сердцах.
Графиня Толстая иронически улыбнулась. Ах, как дурно воспитан юноша! Только зря он поссорился с Корфом — барон не тот человек, которого можно оскорбить безнаказанно.
— Господа, зачем? Успокойтесь, — лепетал растерянный Иван Андреевич.
Но его уговоры не производили эффекта.
— Господа, господа! — твердил доктор. — Здесь дамы! Мы все устали, совсем недавно произошло ужасное событие… Не надо усугублять, господа!
— Мне нужен секундант, — отрезал барон. На доктора он даже не смотрел. — Ваше превосходительство!
Иван Андреевич вздрогнул, изменился в лице, отшатнулся к своей супруге, словно искал у нее защиты, и воскликнул:
— Нет, нет!
— Кстати, мне тоже нужен секундант, — важно заявил Митенька, поправляя очки. — Владимир Сергеевич! Вы, как я понял, не деретесь на дуэлях, но сегодня ничего подобного от вас не понадобится. Будьте моим секундантом!
— Что ж, если вы так настаиваете, вряд ли я могу отказаться, — отвечал тот.
— Сударь, — пролепетала Анна Владимировна дрожащим голосом, — да вы что? Как же можно?
— Это будет занятно! — добавил Владимир Сергеевич, обращаясь к адвокату.
— Не вижу ничего занятного, — пожав плечами, обронил тот. — И охота тебе тешить себя всяким вздором? — он говорил с братом, но отчего-то его слова услышали все.
— Доктор у нас уже есть, — объявил барон Корф. — Так что с моим секундантом? Раз Иван Андреевич отказывается, может быть, вы, Константин Сергеевич?
— Благодарю вас, сударь, — изобразил Городецкий легкий поклон, — но, должен признаться, я не охотник до такого рода развлечений.
— А жаль, — сухо ответил Корф. — Павел Петрович на роль секунданта не подходит из-за родства с моим противником, доктор нам понадобится в другом качестве…
— На меня не рассчитывайте! — сердито крикнул Венедикт Людовикович. — Даже если вас убьют, я и пальцем не пошевельну!
— Если меня убьют, — недобро усмехнулся Александр, — ваши услуги мне точно не пригодятся. Так кто будет моим секундантом? Никита Иваныч больше подходит для аккомпанирования дамам… — Улыбка барона стала еще злее. — Придется уж вам, ваше превосходительство.
Иван Андреевич испуганно замахал руками, но было уже поздно.
— Молчание — знак согласия, — кивнул Корф, который не обратил никакого внимания на его протесты. — Стреляемся сейчас же. Никаких отсрочек!
Варенька, открыв рот, молча переводила взгляд с одного человека на другого…. Амалии даже сначала показалось, что глупышка зачарована тем, что сейчас при ней случится самая настоящая дуэль, а ведь раньше она могла прочитать о чем-то подобном лишь в книжках… Злость захлестнула молодую женщину. Неужели девчонка не понимает серьезности происходящего? Не догадывается, что ее кузена могут убить, а если даже ранят, это заставит его родителей поседеть? Но, похоже, она действительно ничего не понимает…
— Мне кажется, — нерешительно заметил Владимир Сергеевич, — вы узурпируете права секундантов.
— А, да подите вы к черту! — отмахнулся Корф. — Стреляемся на пистолетах, десять шагов. Можно и двенадцать, если юноша трусит, — с презрением прибавил он.
— Я не трушу! — вскинулся Митенька.
— Вот и прекрасно, — отрезал Корф и обернулся к Билли. — Ключи!
— Вы никуда не пойдете! — вмешалась Амалия. — Александр, вы сошли с ума!
— Напротив, — парировал тот, — я совершенно в здравом уме и твердой памяти, хоть сейчас завещание пиши. Ключи!
— Вы хоть понимаете, что вы делаете? — Амалия топнула ногой. — Это убийство!
— Это не убийство, это дуэль, — возразил барон хладнокровно.
— Я запрещаю вам! — вспылила Амалия. Никогда бы она не позволила себе такого, тем более на людях, но сейчас…
Александр обернулся и смерил ее взглядом.
— Мне очень жаль, сударыня, — промолвил он с ледяной вежливостью, — но у вас более нет власти приказывать мне делать что-либо.
Анна Владимировна зарыдала. Глаша с оцепенелым видом стояла в дверях. За ней в проеме виднелись любопытствующие физиономии горничной Наташи и лакеев.
— Нам нужны два пистолета, — объявил Владимир Сергеевич, которого все происходящее явно забавляло.
Амалия взглянула на него с ненавистью.
— Что там с пистолетами? — поддержал его барон. — Господа секунданты, распорядитесь!
На Павла Петровича было страшно смотреть. Он затравленно покосился на Амалию и вышел в сопровождении секундантов. Через минуту они вернулись, неся небольшой ящичек. Завидев его, Анна Владимировна зарыдала еще громче.
— Боже мой, — шептала Антуанетта, совершенно потеряв голову, — да что ж такое-то?
— С меня довольно, — сказала вполголоса графиня Никите. — Пусть глупцы делают что хотят, но лично я уйду отсюда при первой же возможности.
— Будем стреляться в саду, — сказал Александр. Он подошел к Билли и протянул раскрытую руку. — Ну? Ключи, любезнейший!
Билли вопросительно поглядел на Амалию, и та отрицательно покачала головой. Однако оказалось, что она недооценила своего бывшего мужа. С ловкостью, которой от него Амалия совершенно не ожидала, тот вывернул американцу кисть и уложил его на пол, после чего обыскал карманы и нашел ключи. Билли вырвался и вскочил, кипя от бешенства, но Корф уже повернулся к нему спиной и отошел.
— Идем! — коротко бросил он Митеньке.
— Сударь, сударь, — закричала Анна Владимировна, — умоляю вас!
Она вцепилась в его рукав, но барон с гадливой гримасой оттолкнул несчастную мать. В то мгновение все было ему отвратительно: и хлопотливая, серая женщина, и никчемный вечер, и случившееся на нем убийство, и Варенька, которая с изумлением смотрела на него, и гости, жалкие, гнусные людишки, похожие и не на людей вовсе, а на каких-то скользких, мерзких мокриц. Но больше всего он был отвратителен сам себе, а в таком настроении барон Корф оказывался способен на самые дикие, самые жестокие, самые отчаянные поступки. Он знал за собой это качество и обыкновенно старался не давать себе воли, но теперь… Теперь он готов был сокрушить весь свет — лишь потому, что вечер не удался, что все было не так, что сама жизнь не заладилась, и все его попытки вернуть ее в нормальное русло приводили к еще большему разочарованию. Он лишь старался не смотреть на Амалию — вот уж что было выше его сил.
— Боже, — пролепетала Евдокия Сергеевна, — неужели он всерьез?
Амалия сделала попытку задержать своего бывшего мужа, но тот отстранил ее и вышел.
— Дмитрий Павлович! — крикнула она.
Однако и Митенька, поправив очки, уже шагнул к двери.
— Нет! Нет! — простонала его мать и рухнула на пол.
К ней бросились Евдокия Сергеевна и Антуанетта.
— Глаша, воды и уксуса! — крикнула Амалия. — Анне Владимировне дурно!
Горничная и Павел Петрович засуетились вокруг несчастной, а Амалия побежала вниз. Большинство гостей потянулось за противниками — поглядеть на настоящую дуэль.
— Я бы его пристрелил! — мстительно сказал Билли, когда они были на лестнице и сердито добавил: — Но я не стреляю в спину!
— Билли, если ты его тронешь, я тебя убью! — вспылила Амалия.
Билли умолк и нахохлился. Сам он находил барона Корфа пренеприятнейшим типом и не мог взять в толк, что такого Амалия могла в нем найти. Само собой, их брак остался в прошлом, но все равно — он не мог понять, для чего надо было связываться с бароном, когда вокруг столько хороших людей. Вроде него самого, к примеру, что ходить далеко.
Из открытой двери тянуло холодом. Шуба Амалии куда-то запропастилась, старый лакей вынес ее с мучительной медлительностью. Билли вырвал у него шубу и помог Амалии ее надеть. Она поспешно запахнулась и бросилась к выходу. Одинокий унылый фонарь едва освещал сад, слегка припорошенный снегом.
— Света мало! — крикнул Владимир Сергеевич из темноты.
— Ну и черт с ним, — оскалился Александр.
Амалия поскользнулась, но Билли ловко подхватил ее под локоть и помог устоять на ногах. Начал сыпать мелкий, колючий снег. Черные ветви дерева раскачивались над ними, и сквозь них, сквозь легкую пелену облаков были видны редкие звезды и желтая, ноздреватая, больная луна. В стороне Амалия различила группу гостей, которые, ежась, стояли и смотрели на дуэлянтов с непонятным ей любопытством.
— Ну что, господа, начнем, раз мы здесь? — осведомился Владимир Сергеевич.
— Стойте! — крикнула Амалия.
— Да уж, совершенно ни на что не похоже! — поддержал ее доктор. — Опомнитесь, господа!
— Вам-то что? — с задором осведомился Митенька. — У вас только пациентов прибавится, а значит, прямая выгода!
Венедикт Людовикович пробурчал себе под нос какие-то слова по-французски — судя по тону, довольно сердитые.
— Господа, — начал Иван Андреевич, мучительно чувствуя нелепость происходящего, — я не знаю, имеет ли вообще смысл…
— Еще одно слово, — вмешался барон, — и вы будете следующим, с кем я стреляюсь.
Снег пошел сильнее и летел Митеньке в очки, залепляя стекла. Где-то наверху тревожно закаркала ворона, и он похолодел. Ветер усиливался.
— Надо их помирить, — цепляясь за последнюю надежду, пробормотал Иван Андреевич.
— Вы и мирите, — зловеще-весело произнес Владимир Сергеевич.
Доктор в отчаянии взмахнул руками и отошел, беззвучно ругаясь по-французски. Амалия бросила взгляд на напряженные, застывшие лица зрителей. Никогда нельзя надеяться ни на кого, надеяться можно только на себя.
— Билли! — прошептала она, показывая глазами на Митеньку, чья фигура нелепо выделялась среди косо летящего снега.
Ее друг все понял и кивнул головой.
— Сходитесь! — крикнул Владимир Сергеевич.
В неверном свете фонаря Митенька успел сделать только два шага, потому что из темноты на него налетело какое-то тело и сбило с ног.
— Какого черта! — просипел юный дуэлянт. Он уронил очки и теперь, стоя на одном колене, пытался нашарить их, но тут ему заломили руку и повалили на землю. Митенька побарахтался немного и стих.
Амалия подошла и стала перед Александром, который уже держал пистолет наготове. Барон поглядел на нее безразлично, и тонкая жилка дернулась поперек его лба.
— Амалия Константиновна, — спокойно произнес Корф, — отойдите, пожалуйста. Вы мне мешаете.
— Я никуда не уйду, — коротко ответила она. — Можете убить меня, если хотите. Вы ведь об этом мечтаете?
Александр покосился на зрителей, которые толпились неподалеку от них. Ни один даже не пытался вмешаться, и странная улыбка тронула его плотно сжатые губы.
— Вы ставите себя в смешное положение, — мрачно сказал он.
— И пусть. — Она подошла совсем близко к нему, и он видел снежинки, запутавшиеся в ее светлых волосах. — Как вы можете! Я думала, вы не такой, а вы… Ведь мальчик — единственный сын у родителей! Что они будут делать, если его не станет? Что с ними будет?
Павел Петрович выбежал из дома. Он мчался по лестнице, перескакивая через две ступеньки, словно вернулся в детство. Но лицо его было искажено ужасом, губы дрожали.
— Митя! Митенька! — Он увидел фонарь, Александра, фигуру, стоящую перед ним, и застыл на месте, не понимая, что происходит.
— Вы, кажется, забыли, Амалия Константиновна, — очень вежливо произнес Александр, — что в дуэли участвуют двое. И ничто, заметьте, не может помешать господину Верховскому убить меня.
А господин Верховский, лежа на холодной земле, дернулся пару раз, но схлопотал несколько ударов от американца, который крепко держал его, и сдавленно засипел от возмущения. Свободной рукой он нащупал пистолет, который лежал на земле.
— А наш сын? — сердито спросила Амалия. — О нем вы забыли? Что я ему скажу, если вас не станет?
— Господа, господа, — скучающе-развязным тоном вмешался Владимир Сергеевич. — Я, право, не понимаю. У нас дуэль или…
Он хотел сказать «выяснение семейных отношений», но не успел. Грохот выстрела оглушил всех. Варенька, про которую все успели забыть, пронзительно взвизгнула.
— Билли, черт бы тебя побрал! — закричала Амалия в ярости.
Но барон Корф уже схватил ее за руку и загородил собой — на тот случай, если бы господину Верховскому вздумалось стрелять снова.
Чей-то каблук наступил на руку Митеньки, который пытался нащупать очки, но нашел только оружие, и юноша протестующе взвыл.
— Митя! — Павел Петрович, очнувшись от своего оцепенения, бросился к сыну. — Митенька, ты не ранен?
— Помогите! — заверещал Митенька, извиваясь на земле как уж.
Но Билли был неумолим. Он отнял у горе-дуэлянта оружие и, не удержавшись, весьма чувствительно пнул его.
— Что вы себе позволяете? — возмутился Павел Петрович, подбегая. — Митя! Митя, что с тобой? Почему ты лежишь? О боже, он умирает!
Владимир Сергеевич пожал плечами и стал искать сигареты.
— Не дуэль, а черт знает что, — пробормотал он себе под нос.
— Амалия, — тревожно спросил Александр, — с вами все в порядке?
Она стряхнула с себя его руку и досадливо поморщилась.
— Кажется, да. Слава богу, этот болван промахнулся.
Билли, стоя под фонарем, обернулся с озадаченным видом.
— Эмили! — крикнул он. — Эмили, это не он!
— Что? — крикнула Амалия в ответ.
— Он не стрелял! Это был не он! Стрелял кто-то другой!
— Ах, щучья холера! — вырвалось у Амалии ее любимое ругательство. — Александр, значит, стреляли вы? Но тогда как же…
Барон Корф перевел взгляд на свое оружие.
— Я не стрелял, — очень медленно проговорил он. — Амалия, как вы могли так подумать?
Амалия поглядела на испуганные лица гостей, на дом, в котором слабо светились несколько окон…
— Проклятье! — вырвалось у нее. — Билли! Скорее, за мной, пока не поздно!
И она изо всех сил бросилась бежать к дому.
Глава 22 Зеркало треснуло
Обледенелые ступени, тяжелые двери, волна тепла в лицо, испуганные лица прислуги…
— Кто остался в доме?
Билли, который сопел где-то сбоку от нее, как преданная и незаменимая тень, шмыгнул носом.
— Хозяйка, — сообщил он. — Она упала в обморок. Потом жена рыжего, графиня, ее музыкант… Кажется, все. — Американец едва поспевал за Амалией. — Да, и адвоката я в саду не видел. Думаете, стреляли в доме?
— Если Дмитрий не стрелял и мой муж тоже, то кто тогда стрелял? — вопросом на вопрос ответила Амалия.
Билли не очень понравилось словосочетание «мой муж», но он понимал, что сейчас не время для обсуждения того, что не имеет отношения к делу, и поэтому просто промолчал.
Они вошли в большую гостиную, где Анна Владимировна слабо стонала на софе, держась за висок. Возле нее хлопотала Евдокия Сергеевна, на которой буквально не было лица. Антуанетта поднесла хозяйке нюхательную соль.
— Что случилось? — испуганно спросила она у Амалии. — Мы, кажется, слышали выстрел…
— Ах, как у меня кружится голова… — бессвязно проговорила хозяйка дома. — А! Это вы! — Она взволнованно приподнялась навстречу Амалии. — Мой сын не убит? Скажите мне, барон не убил его?
— Нет, Анна Владимировна, — как можно мягче ответила Амалия, — все в порядке. Барон Корф отказался от дуэли.
— О, — прошептала Анна Владимировна, закрывая глаза. — Слава богу! Господь милосерден, он услышал мои молитвы… — Внезапно женщина открыла глаза и со страхом вгляделась в лицо Амалии. — Вы мне не лжете? Вы ведь говорите мне так не для того, чтобы успокоить меня? — теперь она почти кричала, и Евдокия Сергеевна с Антуанеттой тщетно пытались ее образумить. — Позовите его ко мне, я хочу его видеть! Где мой сын?
— Успокойтесь, Анна Владимировна, — поспешно сказала Амалия, — все в порядке… Выстрел был в доме. Вы слышали его, Евдокия Сергеевна?
— Да, — смущенно призналась та, — но, вы знаете, он прозвучал как-то глухо…
— Глухо? — Амалия не верила своим ушам. — Уверяю вас, вы ошибаетесь… Выстрел был очень громким.
Билли, которому надоел бесполезный разговор с почтенной дамой, удалился из комнаты и стал обходить все помещения подряд. В одном из них он обнаружил нечто, что ему до крайности не понравилось, и тотчас же вернулся в большую гостиную.
— Эмили…
Ей достаточно было посмотреть в лицо своего «кузена», чтобы понять — дело неладно. Билли явно избегал встречаться с ней глазами.
— Тебе надо взглянуть… там… я покажу дорогу.
Не снимая шубы, Амалия поспешила за ним. Но, едва открыв дверь комнаты, к которой он ее привел, сразу же поняла, что случилось.
Графиня Толстая лежала на полу, напротив большого зеркала, которое треснуло и частично высыпалось из рамы. На ее груди вокруг дырочки от пули расплывалось алое пятно. Возле руки лежала баночка с помадой. «Pour les brunes» — значилось на этикетке, приклеенной ко дну.
— Доктора, — одними губами велела Амалия и, наклонившись, стала щупать пульс на неподвижной руке.
Билли послушно метнулся прочь… Амалия хотела вернуть его, но передумала. Никакой доктор уже не был нужен надменной графине Толстой, но в конце концов… в конце концов… Она потеряла нить мысли и досадливо стряхнула тающие снежинки со своих волос.
Значит, графиня стояла, а убийца вошел… женщина обернулась на звук хлопнувшей двери, и тогда он выстрелил… пуля прошла насквозь, разбила зеркало… Где же она? Амалия наклонилась и стала шарить по полу.
Чья-то тень упала перед ней, и баронесса резко распрямилась. В дверях стоял ее муж. Выражения его лица Амалия не понимала.
— Она мертва? — очень просто спросил Корф.
— Да, — сказала Амалия. — Я ищу пулю.
Она вновь стала осматривать пол, а Александр подошел к зеркалу. Он тронул осколки, которые еще оставались в раме, и они осыпались с тихим, печальным звоном.
— Пуля в стене за зеркалом, — сказал барон. — Сейчас…
Ему пришлось повозиться, прежде чем он сумел вытащить ее. Держа пулю на ладони, он протянул ее Амалии.
— Вот…
Пуля была сплющена и покорежена. Амалия взяла ее и нахмурилась.
— Что? — спросил Александр, наблюдавший за ней.
Но молодая женщина не успела ответить, потому что в комнату вошел доктор, которого привел Билли. Венедикт Людовикович потрогал пульс, взглянул на рану и, покачав головой, бережно закрыл графине глаза.
— Боюсь, тут я ничем не смог бы помочь, — сказал он, словно извиняясь.
— Странно, — заметил Александр, — ее застрелили, а оружия нигде нет. Хотя пулю мы нашли.
— Вряд ли она много нам расскажет, — отозвалась Амалия. — Венедикт Людовикович, вы не можете сказать, из чего именно убили графиню? Хотя бы приблизительно?
В дверь уже лезли чьи-то любопытствующие физиономии. Кто-то ахал, кто-то издавал бессвязные восклицания, одна из горничных упала в обморок, и ее унесли. Иван Андреевич, увидев труп, попятился, Вареньке едва не сделалось дурно. Она хотела уйти, но ее задело, что Александр не обратил на нее никакого внимания. Барон по-прежнему разговаривал со своей женой, как будто кроме них двоих никого в целом мире не было.
— Значит, еще одно убийство? — спросил он.
— К несчастью, — ответила Амалия. Но тут сквозь ряды гостей протиснулся Никита Преображенский.
— Что случилось? — спросил композитор. И в то же самое мгновение увидел тело на полу, мрачное лицо Амалии и доктора, который осматривал рану. — О боже! — прошептал молодой человек, пятясь. Налетел на столик, уставленный флаконами духов, и опрокинул его. — Что с ней? Она ранена? Да отвечайте же! — набросился он на Александра.
— Держите себя в руках, сударь, — холодно откликнулся тот. — Она убита.
Никита отступил к стене и привалился к ней всем телом. У него был такой жалкий вид, что у Амалии на мгновение даже мелькнула мысль, что перед нею тонко разыгранный спектакль, рассчитанный на публику.
— Нет, нет, нет, — бессвязно повторял Преображенский, — не может быть…
— Почему? — спросил Александр.
Композитор дико взглянул на него.
— Она ничего плохого никому не сделала… За что? Безумие какое-то… — Он сполз всем телом по стене на пол и разрыдался, пряча лицо в ладонях.
Вареньке стало его жаль. Девушка подошла ближе и стала вполголоса успокаивать композитора. Александр хмуро покосился на нее и обернулся к Амалии.
— Вам не кажется, что пора все-таки вызывать полицию? — очень вежливо спросил он. — Сначала Беренделли, теперь графиня…
Билли сверлил его взглядом. Ему не нравилось, что после всего случившегося Амалия и ее муж — бывший, между прочим! — разговаривали так, словно понимали друг друга с полуслова и им не требуется входить в лишние объяснения.
— Думаю, вы правы, — сказала Амалия. — Я напишу записку Марсильяку и попрошу его приехать сюда. Это дело наверняка окажется по его части.
Баронесса еще раз взглянула на убитую, на зеркало, на окно, за которым лежала сплошная мгла. Что-то подспудно беспокоило ее, но она не могла понять, что именно.
Венедикт Людовикович закончил осматривать рану и поднялся.
— Боюсь, не скажу вам ничего нового, госпожа баронесса, — промолвил он устало. — Один выстрел, смертельный, произведен, судя по всему, почти в упор. Стреляли, как я думаю, из ружья. Вот и все, что я могу вам пока сказать.
Амалия обернулась к Билли и заговорила по-английски:
— Кажется, ты был недоволен, когда хироманта зарезали. Теперь у нас есть еще одно убийство, но на сей раз жертву застрелили.
— Эмили, я-то тут при чем? — вытаращил на нее глаза Билли. — Я же никого не убивал! И вообще я не понимаю… — Он запнулся и покосился на барона.
— Я тоже не понимаю, связано ли второе убийство с предыдущим, — призналась Амалия. — Конечно, весьма возможно. Скажем, графиня видела того, кто убил Беренделли, и тот человек принял меры, чтобы она не могла его выдать. Но тогда… — Она умолкла и вновь посмотрела в окно.
— Вы же говорили, что знаете, кто всадил кинжал в итальянца, — несмело проговорил Билли. — Получается, что тот же человек и ее убил?
— Нет, — сказала Амалия.
— Почему?
— Потому что у него алиби. В момент убийства графини он находился в саду и никак не мог застрелить Елену Николаевну.
— Вот как раз насчет выстрела я и не понимаю, — признался Билли.
— Ты о чем? — быстро взглянув на него, спросила Амалия.
— Да о том, что дуэль была в саду, а тут окна выходят вовсе не в сад. Выстрел же мы слышали такой громкий, словно… — Билли хотел добавить что-то, но, увидев выражение лица Амалии, счел за благо умолкнуть.
Окно! — во внезапном озарении поняла она. Конечно же, окно! За ним не было видно ни деревьев, ни больной луны. Почему? Да потому, что оно выходило совсем на другую сторону. Вот что ее беспокоило все время, вот чего она не могла понять! И вот почему Евдокия Сергеевна сказала, что выстрел был глухой…
— Это был другой выстрел! — воскликнула баронесса.
— Что? — обронил пораженный Александр.
Но Амалия уже шла к двери, поясняя на ходу:
— В доме стреляли два раза. Один раз здесь, а второй — в комнате, которая выходит окнами в сад. — Она скользнула взглядом по лицам присутствующих, которые смотрели на нее, застыв в немом ужасе. — Кого-то не хватает: Анна Владимировна, Евдокия Сергеевна и Антуанетта в большой гостиной, Павел Петрович здесь, господин композитор…
— Моего брата нет, — внезапно подал голос Владимир Сергеевич.
Откуда-то послышался женский крик, и гости, толкаясь, бросились на звук. Кричала горничная Глаша, а Константин Сергеевич лежал на пороге столовой. Голова его была прострелена, вокруг нее натекла лужа темной крови. Возле убитого валялось блестящее ружье, и Амалия сразу же вспомнила, где она его видела.
— Двустволка марсельская, — машинально пробормотал Иван Андреевич. — Вот тебе и Лепелье!
Александр наклонился, подобрал с пола ружье и проверил его.
— Так я и думал, — сказал он. — Два выстрела, двое убитых.
— Что происходит? — сердито спросил Митенька, входя в дверь.
Он замешкался в саду, потому что долго искал свои очки, а все зрители к тому времени куда-то удалились, явив тем самым полнейшее равнодушие к его судьбе. В доме Митеньку встретили суета и какие-то непонятные разговоры о новом убийстве. Он кинулся к маменьке — та ничего не знала, но была преисполнена самых дурных предчувствий. При виде сына она разрыдалась и долго не отпускала его от себя, так что Митеньке под конец сделалось неловко, тем более что при душещипательной сцене присутствовали противная тайная советница и некрасивая итальянка, дочь хироманта. Насилу освободившись, он дал Анне Владимировне слово, что немедленно вернется к ней, и отправился разыскивать хоть кого-нибудь, кто мог бы внятно объяснить ему, что же все-таки случилось. Завидев издали Амалию, он устремился за ней, и теперь…
— Графиня Толстая мертва, — устало проговорила Амалия. — И Константин Сергеевич тоже. Похоже, их убил один и тот же человек.
Больше, однако, она не успела ничего сказать, потому что Митенька при виде трупа как-то нелепо взмахнул руками, покачнулся и самым позорным образом рухнул в обморок.
Глава 23 Записная книжка
— Черт знает что происходит! — сказал Билли в сердцах. — Черт знает что!
Потерявшего сознание Митеньку снова отнесли в его спальню.
Амалия написала записку для Аполлинария Евграфовича Марсильяка и вручила ее одному из слуг, объяснив, по какому именно адресу он может найти господина следователя.
Потрясенные гости ахали, охали и высказывали самые фантастические версии. Но самая разительная перемена произошла с самоуверенным братом адвоката, холеным Владимиром Сергеевичем Городецким — он сразу как-то сник, втянул голову в плечи, глаза его забегали, и в лице застыл предательский страх. Куда девались непринужденные манеры и располагающая к себе дерзость бонвивана? Теперь его хватило только на то, чтобы слабым голосом воззвать к закону и потребовать немедленного наказания убийцы. Однако призыв потонул в хоре всеобщего возмущения, изрядно сдобренного испугом.
Евдокия Сергеевна заявила, что их всех тут скоро перестреляют и что налицо явный заговор. Иван Андреевич поддержал супругу и добавил, что отныне он будет крепко думать перед тем, как отправляться к кому-то в гости. С немалым трудом Амалии удалось, однако, призвать присутствующих к порядку. Она попросила их вернуться в большую гостиную и вспомнить все, что только можно, потому что господин следователь наверняка захочет подробно с ними побеседовать. Сама же баронесса занялась осмотром тела. Билли остался при ней, недружелюбно косясь на Александра, который не спешил уходить. Напротив, он остался стоять у двери, глядя на Амалию так, словно видел ее впервые.
— Двустволка висела в малой гостиной, — сказала Амалия. Билли кивнул. — Значит, убийца прошел туда, взял ее…
— Зарядил, — подсказал Билли. — Если, конечно, она не висела на стене уже заряженная.
— Вряд ли, — с сомнением в голосе отозвалась Амалия. — Александр! Сходите, пожалуйста, к Павлу Петровичу, спросите его насчет двустволки. Кстати, где именно он хранил патроны?
Барон Корф кивнул и вышел. Амалия молча смотрела на труп у своих ног.
— Нет, все это никуда не годится, — внезапно проговорила она. — Допустим, убийца хотел разделаться с графиней Толстой. Он убил ее, а затем…
— Вышел из комнаты с ружьем, — подхватил Билли, — а через несколько комнат ему попался адвокат. Ну и… пришлось его убить.
Амалия поморщилась.
— Зачем убийца вообще забрал ружье с собой? — спросила она. — Вполне можно было бросить его на месте преступления, ведь оружие — серьезная улика.
Билли немного поразмыслил.
— Может, убийца хотел разделаться сразу с двумя? — предположил он.
— Но почему? — крикнула Амалия. — Щучья холера, тут нет никакой логики! Адвокат не мог видеть убийцу Беренделли, он даже не выходил из комнаты! Графиня Толстая могла видеть убийцу, но… — баронесса замолчала, о чем-то размышляя..
— Кстати, что адвокат делал в столовой? — спросил Билли.
— Что? — встрепенулась Амалия.
— Я говорю, что он делал в столовой? — терпеливо повторил Билли. — Зачем ему понадобилось идти туда?
— Действительно, зачем? — пробормотала молодая женщина.
Заметив, что она все еще в шубе, которая изрядно сковывала движения, Амалия сбросила ее и отдала Билли, после чего опустилась на колени и принялась осматривать карманы убитого.
— Платок… портсигар… портмоне… несколько визиток… часы… записная книжка. Больше ничего.
Билли рассеянно почесал нос.
— Мне помнится… — начал он неуверенно, — адвокатский братец что-то говорил о том, что он возвращался в столовую за портсигаром.
— Так то брат, — возразила Амалия. — А это сам адвокат. Они что, оба забыли свои портсигары в одном и том же месте?
Баронесса повертела в руках изящный золотой портсигар, и тут ее внимание привлекла записная книжка.
— Может быть, тут нам удастся найти что-нибудь? — пробормотала она и стала листать страницы.
За дверями послышались шаги и голоса. Амалия поднялась и положила записную книжку в сумочку.
— Вот, Павел Петрович готов дать ответы на все ваши вопросы, — объявил барон Корф, переступая через порог.
Амалия обернулась к хозяину дома с вопросами, было ли заряжено ружье, где хранились патроны и кто о них знал.
На что Павел Петрович сообщил: ружье заряжено не было, а патроны он хранил в малой гостиной, в ящике стола.
— Я могу показать вам… — начал он и угас, вспомнив, что там лежит тело хироманта.
— Да, конечно, покажите, — сказала Амалия.
Пришлось Павлу Петровичу провести баронессу и ее мужа в малую гостиную и показать им ящик бюро, в котором лежали патроны. Билли шел за Амалией, неся ее шубу так торжественно, словно в жизни у него не было занятия важнее.
Амалия поглядела на пустое место на стене, где прежде висело ружье, на бюро, находившееся как раз под ним, и тихо вздохнула.
— Это третий, — сказала она по-английски.
— Что? — переспросил удивленный Билли.
— Третий убийца, — пояснила Амалия, оборачиваясь к нему. — Первый предпочитает яд, второй действовал ножом, третий выбрал огнестрельное оружие. Почему?
— Что — почему? — Билли смотрел на Амалию во все глаза.
— Почему ружье? — безжалостно спросила Амалия. — Оно же производит такой шум… Почему не нож? Ведь на стене предостаточно кинжалов.
— Ну, потому что… — Билли поудобнее перехватил шубу и покосился на невозмутимое лицо барона. — Ножом надо уметь владеть, а ружье… что уж там… нажал на спуск, и готово.
Амалия усмехнулась.
— Для начала надо еще его зарядить, — напомнила она. — Павел Петрович! Ваша жена увлекается охотой?
— Анна Владимировна? — вытаращил глаза статский советник. — Бог с вами!
— А Евдокия Сергеевна?
— Гм, она иногда ездит на охоту, но вообще-то не слишком склонна, да-с. Вот Иван Андреевич… тот знатный охотник, да.
— Боюсь, Иван Андреевич нам не подходит, — парировала Амалия. — Его не было в доме во время убийств, он находился снаружи.
— Есть еще композитор, — напомнил Билли, а Александр Корф прищурился и добавил:
— Кстати, за столом Иван Андреевич и Преображенский обсуждали охоту на тетерева. Так что в охоте молодчик разбирается, можете быть уверены.
— Билли, что ты возишься с этой шубой? Отнеси ее вниз и отдай слугам, — внезапно рассердилась Амалия. Затем повернулась к Павлу Петровичу. — Господин Марсильяк еще не приехал?
— Он и не мог приехать так скоро, — отвечал удивленный хозяин. — Живет ведь неблизко, да и послали за ним только что…
— Только что? — Амалия вздохнула. — Тогда я до его прихода опрошу слуг. Может быть, кто-то из них что-нибудь да заметил…
Однако слуги не оправдали ее ожиданий. Оказалось, что они увлеченно следили за дуэлью из окон, и именно поэтому то, что происходило в доме, прошло мимо их внимания. Вроде бы слышали шум, похожий на выстрел, но и все.
Ночь плавно перетекала в утро, часы неторопливо тикали и каждые шестьдесят минут с хрипом и фырканьем отбивали время. Амалия сидела в той же комнате, полной старых игрушек, в которой она вела расследование после первого убийства. Билли примостился напротив, а барон опять стоял у двери.
— Но ведь должно же быть какое-то объяснение, — вздохнула молодая женщина. Тонкая прядь развившихся волос свисала вдоль ее щеки, и Александр не мог оторвать от нее взгляд. — Не так уж много народу оставалось в доме, в конце концов! Анна Владимировна, которая упала в обморок, а также Евдокия Сергеевна и Антуанетта, которые остались при ней. Затем господин Преображенский с графиней Толстой, которым дуэль показалась неинтересной, и покойный адвокат, который зачем-то отправился в столовую.
В дверь постучали, и через мгновение в комнату вошел Владимир Сергеевич Городецкий. Александр заметил, что помощник адвоката очень бледен, но, похоже, к Городецкому вернулось присутствие духа, потому что он делал героические попытки держаться так, словно ничего не произошло. Впрочем, следует признать, последнее плохо ему удавалось. Он поклонился баронессе и обнажил зубы в вымученной улыбке.
— Сударыня, — промолвил Владимир Сергеевич, — мне сказали, что вы осматривали вещи моего брата… моего дорогого брата… Скажите, его записная книжка у вас?
— Вот эта? — спросила Амалия.
— О, госпожа баронесса! — Владимир Сергеевич подался вперед. — Нехорошо, нехорошо… Всякий человек имеет право на… на то, чтобы его собственность уважали. Даже после смерти.
— Можете мне поверить, я очень уважаю чужую собственность, — усмехнулась Амалия. — Скажите, почему ваш брат остался в доме?
— Разве вы не помните, Амалия Константиновна? Вы же там были… Мой брат не любит… не любил дуэлей. Поэтому он и не пошел смотреть на… на это зрелище.
— Его нашли в столовой, — напомнила Амалия. — Вы не знаете, случаем, что он мог там делать?
— Я? — Владимир вновь выдавил из себя улыбку. — Простите, не понимаю, какое отношение имеет…
— Может быть, он забыл там что-нибудь? — перебив его, вклинился в разговор Александр Корф.
— Я не знаю… может быть… Не знаю. — Но тон у Владимира Сергеевича был явно неуверенный. — Я могу получить записную книжку?
— Сожалею, — очень спокойно ответила Амалия, — однако прежде я должна буду показать ее господину Марсильяку.
После недолгого молчания Владимир Сергеевич пробормотал:
— Дожен вам признаться, я не вижу в том никакого смысла.
— Я тоже, — все так же спокойно согласилась Амалия. — Но, может быть, господин Марсильяк его увидит?
Владимир Сергеевич сухо откланялся и удалился. Даже по его спине было видно, что ему очень хочется как следует грохнуть дверью, но он не позволит себе ничего подобного единственно из хорошего воспитания.
— Что вы в ней увидели, в той книжке? — подал голос Александр.
Амалия улыбнулась:
— А вот взгляните. Основная часть — имена, адреса и разные заметки, но одна страничка меня чрезвычайно заинтересовала.
Александр подошел ближе. Посередине листа мелким, буквально бисерным почерком было написано:
«А… «Надежда» — 3000
Л… «Надежда» — 6 000
С… «Рос. страх. о-во» — 3500
П… «Страх. о-во Виктория» — 8000
Д… «Рос. страх. о-во» — 8500
Н… «Рос. страх. о-во» — 6500
Р… «Надежда» — 12 000
Итого нам с Вольд. 47 500 руб.».
— Ну и что? — спросил Александр, возвращая Амалии книжку.
— Разве вас ничто не настораживает? — удивилась Амалия.
— Это деньги? — подал голос Билли. — Большие?
Александр метнул на бывшую жену быстрый взгляд и вновь просмотрел запись в книжке.
— Простите, из-за треволнений нынешней ночи я, кажется, стал плохо соображать, — барон улыбнулся Амалии, и Билли насупился. — Итак, что мы имеем? Список инициалов и названия страховых обществ. «Надежда», «Виктория» и «Российское страховое общество». Может быть, Константин Сергеевич вел с ними дела?
— Скорее он вел дела против них, — отозвалась Амалия и рассказала о том, что незадолго до гибели адвокат пытался заставить страховое общество «Надежда» выплатить страховку чиновнику, чья жена погибла в результате несчастного случая.
— Ясно, — вздохнул Александр. — Предположим, последняя запись касается именно данного дела. Но… — Он ненадолго умолк. — Если «нам с Вольдемаром» означает сумму гонорара, то я должен признать, что господин Городецкий брал просто чудовищные комиссионные. Огромные деньги.
— Интересно, почему ему их платили, — тихо промолвила Амалия, поглядела на Билли, и ее взор сверкнул золотом.
— Вместо того чтобы найти другого, более сговорчивого адвоката, — закончил фразу Александр. — Полагаете, тут-то и есть мотив для убийства?
Амалия покачала головой.
— Я ничего не полагаю, — отозвалась она. — Пока я блуждаю в потемках. У меня есть вопросы, но разумных ответов на них нет. Я была почти уверена, что вычислила того, кто зарезал Беренделли, но теперь я уже ни в чем не уверена. Пожалуй, я поговорю с теми, кто оставался в доме. Убийцей графини Толстой и адвоката должен быть один из них, но… — Баронесса поморщилась и поднялась с места.
— Могу я чем-нибудь помочь вам? — спросил Александр.
— Вы больше не будете драться на дуэли? — обернулась Амалия. — Хотя бы в этом доме. Довольно убийств! Три человека и так никогда больше… — она удрученно замолчала.
— Я готов пообещать вам все, что вы хотите, — учтиво ответил барон.
И, пока Билли подыскивал в уме, что бы такое сказать Амалии, чтобы она не слишком доверяла своему непредсказуемому мужу, Александр взял свою бывшую жену под руку и повел ее за собой. Американцу ничего не оставалось, как последовать за ними, кипя от возмущения.
Глава 24 Первое разоблачение
— Полиция уже приехала? — были первые слова Евдокии Сергеевны, как только Амалия переступила порог. Получив отрицательный ответ, тайная советница стала обмахиваться веером с удвоенной силой. Все мучения мира были написаны на ее лице.
— Вам лучше, Анна Владимировна? — спросила Амалия у хозяйки дома.
Та, слабо улыбнувшись, ответила, что теперь все хорошо, и стала горячо умолять господина барона не сердиться на вспыльчивость ее сына. Александр ответил, что он больше ни на кого не сердится и вообще просит считать все происшедшее недоразумением. Кроме того, он искренне просит прощения у хозяйки дома за то, что посмел причинить ей столько хлопот.
Услышав его слова, Варенька отчего-то надулась. Ей все меньше и меньше нравилось то, что творилось вокруг. Во-первых, убивали людей, с которыми она совсем недавно сидела за одним столом, но то еще полбеды; куда хуже, что Александр самым неприятным образом отдалился от нее и прямо-таки не отходил теперь от своей первой жены, которая общалась с ним так запросто, словно они вообще не разводились. Варенька была оскорблена до глубины души, она ни мгновения не сомневалась, что Амалия делает все нарочно — чтобы досадить ей. Желая отомстить Александру, девушка отвернулась, занявшись Никитой, который сидел как в воду опущенный и выглядел так, словно потерял все на свете и не знает, ради чего ему теперь жить. Впрочем, Амалия вскоре оставила Александра и подсела к Антуанетте.
— Мне надо поговорить с вами, мадемуазель Беренделли, — начала баронесса по-французски. — Вы находились в доме, когда здесь произошло двойное убийство. Скажите, вы ничего не заметили? Ничего подозрительного или хотя бы странного?
Антуанетта наморщила лоб и сказала, что сначала они с мадам приводили в чувство хозяйку, которой было очень, очень плохо, а все слуги куда-то исчезли, словно нарочно. Антуанетта вышла попросить у кого-нибудь нюхательной соли, но на своем пути никого не встретила. Она наугад заглянула в несколько комнат и в одной из них обнаружила то, что искала — кажется, там была спальня хозяев. Антуанетта поспешила обратно, и тут все вернулись в дом из сада. Кажется, она слышала какой-то шум, но не обратила на него внимания. Она еще подумала, что где-то очень громко хлопнула пробка от шампанского, и решила: вероятно, слуги тайком пробуют хозяйское вино. Во всяком случае, больше она ничего не помнит.
Разговор с Анной Владимировной ровным счетом ничего не дал, потому что, когда в доме произошло преступление, она лежала без сознания и, даже придя в себя, чувствовала себя совершенно разбитой. Евдокия Сергеевна, напротив, помнила какой-то шум, но путалась в показаниях. Она краснела, бледнела и вообще произвела на Амалию самое невыгодное впечатление.
— Это был очень громкий выстрел, вы знаете. И как раз тогда, когда вы вышли из дома… Или позже? Нет, наверное, позже.
— Вы уверены? — скептически осведомилась баронесса. — Вы же сказали, что едва слышали его.
Евдокия Сергеевна вздрогнула и закусила губу.
— Разве? — отважно солгала она. — Нет, ничего подобного я не помню.
И тут вдруг Иван Андреевич подошел к Александру и шепнул ему на ухо несколько слов. Александр рассеянно кивнул и хотел подойти к Амалии, но его опередил Билли.
— Она глухая, — неожиданно объявил «кузен» по-английски.
— Что? — сердито спросила Амалия.
— Просто-напросто глухая, — настаивал Билли. — Поэтому она и не помнит, громкий был выстрел или нет, и не помнит, когда он был. Эмили, вы заметили, как громко она говорит? Наверняка потому, что у нее со слухом не все в порядке.
Александр кашлянул.
— В самом деле, — сказал он. — Иван Андреевич только что мне… гм… подтвердил.
По словам Евдокии Сергеевны, она не оставляла подругу ни на мгновение, пока не вернулась Антуанетта с нюхательной солью, а пришла итальянка очень быстро. Впрочем, Евдокия Сергеевна не смогла устоять перед соблазном и подошла к окну. Так, знаете ли, на минуточку, просто посмотреть, что происходит в саду. Произнеся эти слова, тайная советница умоляюще посмотрела на Амалию.
— Что ж, — вздохнула молодая женщина, — все понятно… Теперь вы, господин Преображенский. Где вы были в момент убийства?
Никита нервно вздрогнул.
— Я ждал Элен, — сказал он. — Она велела мне подождать ее, а сама вышла. И я… Мы собирались уходить. Все тут происходящее действовало нам на нервы.
Билли тяжело вздохнул.
— Интересно, — шепнул он Амалии, косясь на барона Корфа, — не написала ли она завещание в его пользу?
— Ты о чем?
— Кто меня учил во всех преступлениях проверять прежде всего материальный мотив? — парировал Билли. — В доме происходит убийство, кто-то зарезал хироманта. А композитор улучил момент и прикончил свою даму, чтобы получить наследство. Убийство спишут на того, кто зарезал хироманта, и дело в шляпе! — Он умолк и победно воззрился на Амалию.
— А Городецкий? — спросила молодая женщина. — Адвокат-то тут при чем?
— Он его видел, — объяснил Билли. — Свидетель, стало быть. Или еще проще: адвокат знал о завещании и мог его выдать. Поэтому он и умер.
Доктор кашлянул.
— О чем вы беседуете, господа? — спросил он.
Амалия обернулась к нему.
— Ничего особенного, Венедикт Людовикович, уверяю вас. Просто мой помощник излагает мне свои соображения. — Затем она посмотрела на подавленного композитора. — Кажется, вы увлекаетесь охотой, господин Преображенский?
— А при чем тут охота? — сердито спросила Варенька.
— Может быть, ни при чем, — покладисто согласилась Амалия. — Но если человек выбирает своим оружием ружье, значит, он, по крайней мере, умеет с ним обращаться.
— Вот уж нелепость, — устало пробормотал Никита. — Я понимаю, госпожа баронесса. Вам нужен убийца, а я — единственный мужчина из присутствующих, кто тогда находился в доме. Ружье — мужское оружие, не так ли? — Он вскинул голову и посмотрел Амалии прямо в глаза. — Я не смогу вам доказать, что не убивал Элен, но я не мог причинить ей зло, никак не мог!
Амалия пожала плечами.
— Судя по тому, что мне известно, ни один человек из тех, кто был в доме, не мог желать графине Толстой зла. Но ведь кто-то же ее убил! Никто, возможно, не желал зла и Константину Сергеевичу. Но кто-то убил и его тоже.
— Значит, есть нечто неизвестное вам, — сердито сказала Варенька.
Ей очень не нравилась Амалия, не нравилось, как на бывшую жену смотрел Александр, но больше всего, только сейчас поняла девушка, не нравилось то, что Амалия считала себя умной. Баронесса, на ее взгляд, умничала, а это еще хуже, чем поступки Китти Барятинской в институте, которая втиралась в доверие к девочкам, разузнавала, кто из них читает романы про любовь и заглядывается на стройных корнетов расквартированного неподалеку полка, а потом беззастенчиво доносила наставницам. И самое неприятное, конечно, заключалось в том, что Александру, судя по всему, ее умничаньенравилось, хотя сама Варенька находила его смешным, нелепым и вообще нисколько не красящим порядочную женщину.
Однако Амалия неожиданно согласилась с Варенькой: да, есть некоторые вещи, которые она хотела бы прояснить. Именно поэтому она и хочет поговорить с доктором де Молине. Не согласится ли он просветить ее насчет ран жертв? Не при гостях, конечно, а в «игрушечной» комнате. Все-таки столь щекотливый предмет…
Венедикт Людовикович галантно сказал, что он всегда к услугам госпожи баронессы, и поднялся с места.
— Амалия Константиновна, я больше вам не нужен? — спросил Александр Корф, подойдя к жене.
Та улыбнулась и едва заметно сжала его руку.
— Если вы мне понадобитесь, я вас позову.
И удалилась в сопровождении Билли и доктора — прелестная молодая женщина, словно созданная для полотна Ренуара или Мане. Женщина, которая зачем-то задалась целью расследовать три убийства, произошедшие в совершенно чужом для нее доме, и до жертв которых ей не должно было быть никакого дела.
— Я готов, — сказал Венедикт Людовикович, входя в комнату.
Оловянные солдатики таращились на него сурово, как присяжные заседатели. Билли вошел в комнату последним, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Правую руку он зачем-то держал под сюртуком.
— Так что именно вас интересует в ранах? — осведомился доктор.
Прежде чем ответить, Амалия пристально посмотрела на него.
— В данный момент меня интересует ответ только на один вопрос, — уронила молодая женщина. — Это ведь вы убили Пьерлуиджи Беренделли?
Доктор открыл рот. Он явно был ошеломлен.
— Как! Но, простите, госпожа баронесса… — он рассмеялся вымученным, режущим ухо смехом. — Разве вы забыли, что я даже не выходил из комнаты, когда пела мадемуазель Мезенцева?
— А вам и не нужно было выходить, — отрезала Амалия. — Дело в том, доктор, что вы уже убили Беренделли. И знали, что он мертв.
— Я, право, не понимать вас, — в стройной прежде речи доктора вдруг начали проскальзывать очевидные грамматические ошибки. — Это какой-то шутка, да?
— Шутка? О нет, месье, — спокойно отозвалась Амалия. — Просто мне не стоило принимать на веру ваши слова о том, что, когда вы оставили Беренделли отдыхать в малой гостиной, с ним все было в порядке. Вы же ушли от него последним, помните? И именно вы, когда он лежал на диване, зарезали его. Высота, на которой на стене висел кинжал, как нельзя лучше соответствует вашему немалому росту. Убийце понадобился лишь один удар — прямо в сердце, потому что он был врачом и знал, куда метить. Убив Беренделли, вы вышли к нам и объявили, что маэстро отдыхает. Признаться, неплохо было придумано. Вас бы никто никогда не заподозрил, но со мной, месье, такие фокусы не проходят!
— Довольно! — визгливо выкрикнул доктор и, вскочив к места, ринулся к двери. Но там его поджидал Билли, уже с револьвером в руке, и доктор, сразу же как-то обмякнув, отступил назад.
— Сядьте, месье, — велела Амалия.
Венедикт Людовикович сел, с ненавистью косясь на нее.
— Должен признаться, мадам, вы ловко все выдумали… — Теперь их разговор шел полностью на французском. — Вам нужен виновный — и вот он я, чужестранец, стало быть, уже поэтому подозрительный… Только не забывайте: вам придется объяснить, почему я должен был убить несчастного хироманта! Потому что у меня не было никакой причины убивать его!
— Нет, месье, — безмятежно отозвалась Амалия, — причина у вас как раз была. Дело в том, — тут она сделала паузу, — что маэстро Беренделли был женат на француженке и долгое время жил в Париже.
— И что из того? — в запальчивости спросил доктор.
— А вот что, — Амалия вздохнула. — Некоторые гости в ходе допросов вспомнили одну странную вещь. Когда вы прибыли на вечер, то были очень оживлены, но стоило явиться Беренделли, вы сразу же забеспокоились. Несколько раз пытались уйти, ссылаясь на какие-то выдуманные дела, а потом и вовсе запаниковали, когда Анна Владимировна чуть не посадила вас за стол рядом с хиромантом. Вы явно избегали его и старались даже не смотреть в его сторону. Да и он тоже не горел желанием общаться с вами. Спрашивается, почему? Да потому, месье, что он знал вашу тайну. Он жил во Франции, как вы; и именно в Париже, как вы. И наверняка узнал вас.
— Вздор! — вспыхнул доктор. — Сплошь ваши домыслы!
Амалия откинулась на спинку стула, обронив всего лишь два слова:
— Иерусалимская улица.
— Что? — Доктор был ошеломлен.
— Вы сказали, что на ней находится полицейское управление Парижа, — терпеливо пояснила Амалия. — Но видите ли, месье, это не так. Сейчас оно находится на набережной Ювелиров. — Тут Амалия сделала паузу, чтобы улыбнуться Билли. — Старое здание управления сгорело в дни печально известной Парижской коммуны. Вам неизвестно, где теперь находится управление, значит, вы не были в Париже после 1870 года. Почему? Вы преуспевающий человек, у вас нет отбоя от пациентов, и я никогда не поверю, что вы не тоскуете по родине. А дело в том, что вы просто не можете туда вернуться. — Амалия подалась вперед, ее глаза заискрились. — Вы ведь не можете, не правда ли? Потому что вас сразу же посадят в тюрьму, если узнают. И ваше имя не де Молине. Молине — небольшой город во Франции. Зовут вас, возможно, Венедикт Людовикович, то есть Бенуа, сын Луи… Ах да неважно, потому что при желании мы ведь можем установить вашу личность. А поскольку вы бывший коммунар и живете по подложным документам, то наши власти вполне способны выслать вас из страны. Ну так что, доктор? Вы скажете мне правду, или мне передавать дело следователю, который должен прибыть с минуты на минуту?
Доктор облизнул губы. Вид у него сразу же сделался постаревший и измученный.
— Хорошо, — выдохнул он. — Хорошо… Не надо следователя. Я все вам расскажу. Действительно… — медик на секунду умолк. — Да, я участвовал в коммуне. Я был молод… был наивен… Мне казалось, мы многого можем добиться. Но вы не видели, как ужасно все закончилось… Расстрелы на Пер-Лашез… крики казненных… я ведь был там, прятался… как последний трус… Никогда не смогу этого забыть, — тихо признался доктор. В глазах его стояли слезы. — Вы говорите, я не могу поехать во Францию… Могу, и мне все равно, что меня арестуют. Но я просто не хочу возвращаться в страну, о которой сохранил такие воспоминания. Это выше моих сил.
«Значит, вот почему он произнес те странные слова о сыне хозяев — что лохматый Митенька зря считает, будто революция — развлечение, — подумал Билли. — Ах, как права Амалия! Помнится, она как-то обмолвилась, что слова — великие предатели, они всегда говорят о человеке больше, чем он хочет сказать…»
— Вы были знакомы с Беренделли? — спросила Амалия.
— Да. Я был тогда помощником у врача, который лечил его душевнобольную мать, и он, конечно, запомнил меня. Вечером, как только вошел, маэстро окинул меня таким взглядом… Я сразу же понял, что он меня узнал. — Доктор поднял голову. — Но я не убивал его, мадам! Я не убийца, не для того я стал врачом!
Врет, помыслил Билли, покрепче сжимая рукоятку револьвера. Как пить дать, врет…
— Некоторые коммунары не слишком церемонились со своими противниками, — заметила Амалия. — Если Беренделли знал вас, то, может быть, вы и были тем убийцей, на которого он намекал перед смертью? Потому что, скажу вам откровенно, я не верю в хиромантию, астрологию и прочие псевдонауки. Маэстро Беренделли просто захотелось удивить присутствующих, и он бросил им намек на сенсационное разоблачение. Он знал, что один человек из сидевших за столом действительно является убийцей, но прочитал это не по ладони, о нет. Он просто знал. А кроме вас, ни с кем из присутствующих он прежде не встречался. И никто, кроме вас… — она покосилась на серьезное лицо Билли, который жадно внимал каждому ее слову, и осеклась.
Оловянные солдатики смотрели на доктора, как присяжные, уже приговорившие его к гильотине. Но де Молине только упрямо покачал головой.
— Я понимаю ход ваших мыслей, баронесса, и должен признать, что с точки зрения логики он безупречен. На моей стороне только правда, как бы она ни была неправдоподобна. Поверьте мне, она бывает и такой. А правда заключается в том, что, когда я оставил Беренделли в малой гостиной, он был жив, хотя и чувствовал себя не очень хорошо — очевидно, мышьяк уже начал действовать. И я не убивал его. Не пытался отравить, не пронзал кинжалом. Он поблагодарил меня и попросил уйти, и я ушел. Только и всего.
Амалия тяжело вздохнула.
— Хорошо, будь по-вашему, — внезапно произнесла молодая женщина. — Только скажите мне вот что. Мадемуазель Мезенцева вам нравится?
— Что? — Доктор ожидал чего угодно, только не такого вопроса.
— Она вам нравится? — повысила голос Амалия. — Вы находите ее красивой?
— Боже мой, мадам! — Доктор оторопел. — Нет, если вам угодно знать, я… Она довольно мила, но я не считаю ее красивой. У нее вполне обыкновенное лицо, хотя многие мужчины…
— Значит, она вам не нравится? — сухо спросила Амалия. — Благодарю вас. Это все, что я хотела узнать.
Де Молине поднялся с места. Билли стоял в стороне от двери, скучающе глядя куда-то вбок, а револьвер, который он держал в руке совсем недавно, как сквозь землю провалился.
— Я могу идти? — несмело спросил доктор.
— Да. Пока я верю вам, вы не убивали Беренделли. Но вы скрыли от меня правду и поэтому должны признать, что у меня были основания подозревать вас. Однако можете не волноваться: о вашем прошлом я никому не скажу. — И она царственно кивнула де Молине, показывая, что аудиенция окончена.
Глава 25 Второе разоблачение
— Можно спросить? — отважился подать голос Билли, когда доктор скрылся за дверью. — Вы поверили ему. Ваше право, конечно, хотя лично мне он кажется очень подозрительным… Но при чем тут девица?
Амалия, которая встала с места и подошла к окну, так круто обернулась на каблуках, что американец невольно подался назад. Сзади была стена, и он весьма чувствительно ударился локтем.
— Какая еще девица? — осведомилась баронесса, испепелив его взглядом.
У нее было такое лицо, что Билли немедленно захотелось спрятаться куда-нибудь. «И что я такого сделал?» — в тоске подумал молодой человек.
— Вы спросили, нравится ли она ему… — но, не закончив фразу, Билли угас и попятился к двери.
Амалия отвернулась.
— Все дело в платке, — сказала она. — Подумай, и ты сам поймешь.
Билли озадаченно моргнул.
— Нет, ничего не понимаю, — честно признался он.
— Было очень умно — вытереть руки не своим платком, который мог выдать убийцу, а чужим. Весь вопрос в том, откуда чужой взялся.
— Но мы же знаем, откуда взялся платок, — с готовностью подхватил Билли. — Один из гостей, — он бы скорее удавился, чем сказал «ваш муж», — порезался, мисс хотела его перевязать и уронила…
— Я не о том, — отрезала Амалия. — И вовсе не это важно, а другое. Не то, что лежит на поверхности, а то, что скрыто… или кажется таким, хотя на самом деле совершенно очевидно. — Она умолкла. Задумчиво покачала головой. — Мне с самого начала не стоило браться за расследование. Надо было позвать Марсильяка сразу после того, как убили Беренделли. Может быть, тогда не было бы двух других смертей.
Билли тихо вздохнул. Ему не нравилось, что Амалия так переживает. И вообще он придерживался о ней слишком высокого мнения, чтобы кто-то, даже она сама, мог его поколебать.
— Забавно, — сказал он.
— Что именно? — спросила Амалия, не глядя на него.
— Да все, — объяснил Билли. — Ведь итальянец сказал адвокату, что тот больше не выиграет ни одного процесса. И в самом деле, как он может что-то выиграть, если он мертв? Да и графиня… Маэстро предсказал ей, что не пройдет и полгода, как она встретится с тем художником. Получается, не зря она так боялась — тот застрелился, и она тоже…
Амалия укоризненно посмотрела на него.
— Элен Толстая не кончала с собой, ее убили, — поправила она. — Лучше расскажи мне подробнее, что сказал Беренделли тебе самому.
Билли замялся.
— А вам так важно знать? — наконец спросил он.
— Да, — кивнула Амалия. — Мне хочется понять, каким образом он производил на не самых глупых людей впечатление человека, который действительно разбирается в прошлом и будущем. Относительно хозяев и гостей все ясно — он вычислил, кто окажется на вечере, и заблаговременно навел о всех справки. Узнал, что с ними было, чем они живут сейчас, на что надеются… В случае со мной все было легко, потому что про меня известно более чем достаточно. Но вот ты… Ты — другое дело.
Билли вздохнул.
— Что именно вы хотите знать? — спросил он.
— Кто из вас больше говорил — ты или он?
— Мы оба говорили, — удивленно ответил Билли. — Он прочел по моей ладони, что я родился далеко… что у меня в жизни было всякое… ну, разное… — Он потупился. — Бурная молодость, как это называется в книжках, вот!
Ну да, подумала Амалия, хиромант незаметно разговорил парня, а когда тот ему сам все про себя рассказал, ошеломил откровениями… слегка переиначив слова… Ах, Билли, ну как же можно быть таким наивным?
— Я сразу же должна была понять, — сказала она. — «Дамы и господа, один человек из тех, кто находится в этой комнате — убийца, безжалостный и хладнокровный», — процитировала она со вздохом. — Боже, сколько я гадала, ломала себе голову… а ведь на самом деле все очень просто. Беренделли сказал правду, он знал, что один из нас — убийца, причем вовсе не знакомый ему доктор де Молине, бывший коммунар, которому за участие в революции на родине грозит тюрьма. Ах, щучья холера! Наш хиромант просто хотел покрасоваться, но беда в том, что среди присутствующих в самом деле оказался убийца, и он не стал церемониться. И все закончилось именно так, как закончилось.
Билли в напряжении слушал Амалию, пот катился по его лбу. Почему, ну почему она не скажет, кого именно итальянец назвал убийцей? Почему он должен догадываться, что такое знал Беренделли? У самого-то у него нет даже малейшего соображения…
— Эмили, — умоляюще проговорил он. — Так убийца-то кто? Кого итальянец имел в виду, когда сказал, что он находится среди нас?
Амалия покачала головой. С жалостью посмотрела на него.
— Братец, ты что, разве не понял? До сих пор? Именно тебя маэстро Беренделли назвал убийцей. Убийца, Билли, — ты.
Братец Билли, он же знаменитый в прошлом американский бандит Билли Мэллоуэн, за свою сверхъестественную меткость получивший прозвище Билли Пуля, вытаращил глаза.
— Нет! — вырвалось у него.
— Ну конечно, да, — пожала плечами Амалия. — Ты сказал ему, что убивал людей?
— Я? — ужаснулся Билли. — Но он сам мне сказал, по ладони прочитал! И вообще, никакой я не убийца! — Его негодованию не было предела. — Я никогда не стрелял в спину, не палил исподтишка, из засады, и не нападал вдвоем на одного! Если я и убивал, то чтобы защитить себя. Или вас! — отважно прибавил он. — Помните, как мы встретились?
Амалия улыбнулась.
— Вряд ли такое можно забыть, — мягко сказала она.
— Ну вот! Я же говорю, не убийца я, просто мне вечно не везло. — Билли увидел, что Амалия снова улыбается, и надулся.
— По-моему, не везло не тебе, а твоим противникам, — поддразнила она своего друга.
— Вы еще скажите, что гадателя зарезал я, — проворчал Билли. Но молодая женщина покачала головой.
— Нет, Билли. Я даже мысли подобной не допускаю. Просто то, что Беренделли сказал о тебе, кто-то другой принял на свой счет. И испугался.
— Ну, если так, то вы, наверное, правы, — с сомнением в голосе сказал Билли. Он пригладил волосы и исподлобья взглянул на Амалию. — А мышьяк? Кто его подсыпал? Это же было до того, как итальянец спугнул убийцу. И кто, черт возьми, застрелил красотку и адвоката? Он что, не мог ограничиться одним адвокатом?
Следует признать, что Билли Пуля был весьма последователен в своих симпатиях и антипатиях. Адвокатов он не терпел с тех пор, как его поймали еще в Америке — первый и единственный раз — и осудили, причем назначенный ему адвокат даже не сделал попытки хоть как-то защитить своего клиента. Впрочем, тогда Билли не успели повесить, потому что он благополучно удрал при перевозке к месту казни, и примерно в то же время он впервые встретился с Амалией.[91]
Дальше им пришлось пережить вдвоем множество самых разнообразных приключений, а потом их дороги, казалось, разошлись окончательно — у Билли началась чахотка, и Амалия поместила его в лучший санаторий. Сама она вскоре вышла замуж, но потом последовали развод, годы, заполненные не самой интересной, но безусловно важной для страны работой, в которой Билли, который к тому времени уже подлечился, изредка оказывал ей помощь. Однако она и сама не могла похвастаться крепким здоровьем, и когда слегла, то Билли оказался первым, кто примчался к ней на помощь. Молодой человек был для нее кем-то вроде брата (родного она утратила в юности), и Амалия знала, что всегда может на него положиться. Сам Билли питал к ней несколько другие чувства, но был достаточно умен, чтобы понимать: если такая женщина, как Амалия, дарит свою дружбу, это накладывает определенные обязательства, потому что есть вещи, которых нелегко достигнуть, но которые очень легко утратить. А Амалия обладала одной особенностью, из-за коей ее многие считали невыносимой — раз сочтя, что человек ее каким-то образом предал, она навсегда вычеркивала его из своей жизни. И Билли, который отлично помнил о тех, кто совершил непоправимую ошибку и лишился ее расположения, вовсе не хотел оказаться в их числе.
Сейчас он поглядел на молодую женщину, вздохнул и пожаловался:
— Я совершенно запутался.
Но тут в дверях появилась Глаша и сообщила, что господин Марсильяк только что прибыли.
— Идем, — сказала Амалия, — ему о многом надо будет рассказать.
И они вышли из комнаты и направились к лестнице.
Аполлинарий Евграфович Марсильяк был довольно интересным брюнетом в очках, с лицом, которое больше подходило бы какому-нибудь мушкетеру из книг Дюма, чем следователю по особо важным делам. Он носил французскую фамилию, потому что его предки благоразумно предпочли покинуть родину в самом начале Великой революции и перебрались в Россию, управляемую тогда просвещенной Екатериной II, не одобрявшей террора. Амалии уже прежде приходилось сталкиваться с Марсильяком, и, собственно говоря, именно по ее протекции молодой и никому не известный полицейский перебрался из провинции в столицу.[92] С точки зрения баронессы, Марсильяк обладал всеми качествами, которые нужны хорошему сыщику: умом, знанием людей и непредвзятостью, и она была счастлива узнать, что карьера круто пошла вверх. Амалия вообще не питала зависти к талантам других, а, наоборот, радовалась, когда чьи-то таланты находили достойное применение. Сегодня же она рассчитывала, что вдвоем с Марсильяком они быстрее смогут разобраться в том, что произошло в этом доме.
Аполлинарий Евграфович поцеловал руку Амалии и представил ей своего помощника Соболева, вместе с которым прибыл к Верховским. Молодая женщина познакомила следователя с Билли, и Марсильяк сказал, что очень рад всем родственникам уважаемой госпожи баронессы. От Амалии, впрочем, не укрылось, что ее старый знакомый бросил на американца оценивающий взгляд.
— Как я понял, Амалия Константиновна, расследование нешуточное? — спросил Марсильяк.
Баронесса ввела его в курс дела, рассказав обо всех событиях вечера и ночи, передала имеющиеся в ее распоряжении вещественные улики и повела знакомить с гостями.
Евдокия Сергеевна, наконец-то завидев законного представителя власти, так расчувствовалась, что чуть не пустила слезу умиления. Владимир Сергеевич долго тряс руку следователя и бормотал, что очень, очень рад знакомству. Антуанетта Беренделли присела в церемонном реверансе и сказала, что от всей души надеется на то, что убийца ее отца не уйдет безнаказанным. Иван Андреевич во всеуслышание объявил, что теперь, когда дело передано в руки господина Марсильяка, он наконец-то чувствует себя в безопасности. Павел Петрович на правах хозяина дома сразу же пригласил гостя и его помощника устраиваться, где им удобно, и высказал готовность сделать все, что ему прикажут. Сдержанно встретили Марсильяка разве что доктор де Молине, у которого на то имелись свои причины, и Никита Преображенский. Композитор вообще был мрачен — присутствующие, судя по всему, уже успели записать его в убийцы графини и прочно игнорировали молодого человека. Только Варенька Мезенцева пыталась поддержать с ним разговор под пристальным взглядом Александра, который стоял возле камина, скрестив руки на груди.
— С чего вам угодно начать, господин следователь? — спросила Анна Владимировна, глядя на Марсильяка влажными, добрыми глазами.
Аполлинарий Евграфович немного подумал и сказал:
— С вашего позволения, я хотел бы сначала осмотреть место преступления.
— Я могу вас проводить… — Павел Петрович был сама услужливость.
— Ни к чему, — ответил Марсильяк, — мне вполне достаточно госпожи баронессы. Соболев, вы пока останетесь здесь… Идемте, Амалия Константиновна.
Он коротко поклонился дамам и, пропустив вперед баронессу, двинулся к дверям.
Глава 26 Коробка с патронами
Когда следователь в сопровождении своей спутницы вышел из комнаты, гости зашевелились и стали переглядываться. И, хотя ровным счетом ничего еще не произошло, почти каждый из них испытывал нечто вроде облегчения.
— Наконец-то хоть что-то прояснится, — вздохнула Евдокия Сергеевна, обмахиваясь веером.
— Для меня уже все ясно! — воинственно объявил Владимир Сергеевич. — И я искренне уповаю, что тот мерзавец, который убил моего брата, — при сих словах он весьма недвусмысленно покосился на слегка побледневшего композитора, — окажется в Сибири!
— Сударь, — холодно откликнулся Никита, — позвольте вам напомнить, что сейчас не Средние века. В нашей стране, прежде чем обвинить человека, его вину надо доказать!
— А какие еще доказательства нужны? — пожал плечами Павел Петрович. — Вы поссорились с госпожой графиней, взяли ружье, а потом…
Никита мрачно посмотрел на него.
— Вы слышали, чтобы я с ней ссорился? — спросил он, зло покривив рот.
— Не слышал, — тотчас же пошел на попятный хозяин дома. — Но, может быть, другие слышали? — И он победно оглядел гостей.
— Господа, — вмешался доктор, который во время вышеупомянутого разговора испытывал невыразимо тягостное чувство, — может быть, нам не следует торопиться с выводами, которые абсолютно ни на чем не основаны?
— А! — отмахнулся Владимир Сергеевич. — Оставьте подобные глупости баронессе Корф. Не спорю, у этой дамы множество достоинств, но умение распутывать убийства явно не входит в их число!
— Что такое там происходит? — недовольно спросил Марсильяк.
Его чуткий слух уловил какой-то шум в одной из комнат. Следователю показалось даже, что кто-то несколько раз вскрикнул, но затем почти сразу же наступила тишина.
— Если в доме еще кого-то убили, — обронила Амалия, пожимая плечами, — то мы вскоре узнаем.
Они находились в тот момент в малой гостиной. Марсильяк осмотрел тело, лежавшее на диване, и перевел взгляд на пустое место над бюро. Именно здесь висела марсельская двустволка, из которой застрелили двух человек.
— С кинжалом все ясно, — сказал следователь, — его действительно мог взять только человек высокого роста. А вот ружье…
— Ружье висело так, чтобы Павлу Петровичу, который им гордился, было удобно его доставать — хозяин дома не слишком высокого роста, — пояснила Амалия. — Так что, в принципе, ружье мог взять любой.
— Полагаю, вы правы, — заметил Марсильяк. — Значит, вы полагаете, что нам предстоит расследовать два различных дела?
Множественное число — местоимение «нам» в его речи — вовсе не было данью вежливости. Аполлинарий Евграфович слишком хорошо знал баронессу, чтобы позволить себе пренебрегать ее мнением по поводу чего бы то ни было.
— Да, — согласилась Амалия. — И первое дело — убийство хироманта — представляется мне особенно любопытным. Преступление кажется сложным и запутанным лишь потому, что мы не знаем всех предшествующих обстоятельств. Поэтому, я полагаю, вам стоит отправить вашего помощника навести справки по поводу тех людей, о которых я вам говорила.
— Пожалуй, я последую вашему совету, — промолвил Марсильяк. — Хотя ваши доводы… — Он умолк и пожал плечами. — Другому, может быть, они представились бы странными, но я готов попробовать. А что вы думаете о втором деле? Кто, по-вашему, застрелил графиню Толстую и господина Городецкого?
— Вот тут, хоть мне и стыдно признаваться, я даже не знаю, что и думать. Ведь круг подозреваемых еще более узок, чем в случае с первым убийством. Но ни один из них, по здравом размышлении, на роль убийцы не подходит.
Марсильяк поморщился и поглядел на бюро.
— Вы можете поручиться, что во время дуэли в доме, если не считать слуг, осталось только шесть человек? — внезапно спросил он.
— Могу, — ответила Амалия. — Это, во-первых, те двое, которые стали жертвами, и еще четверо людей, а именно: хозяйка дома, Евдокия Сергеевна, Антуанетта Беренделли и господин Преображенский. — Она поколебалась и добавила: — Павел Петрович выбежал в сад последним, но я не думаю, что данная деталь существенна. Хотя, если у него был сообщник… — Баронесса поморщилась.
— Вам что-то не нравится? — с любопытством спросил следователь.
— Да, не нравится, и даже очень, — раздраженно отозвалась Амалия. — Мы ничего не знаем про мотивы, что никуда не годится. Почему убили Елену Николаевну? А Константина Сергеевича? Был ведь колоссальный риск — стрелять в доме, полном людей! К чему убийце идти на него? Допустим, композитор поссорился с… со своей дамой сердца. Настолько, что тут же решил ее убить? Нелепо как-то. Или Анна Владимировна, пока Антуанетта искала соль, а Евдокия Сергеевна глазела в окно, за ее спиной выбралась из комнаты и зачем-то убила двух человек? Или Евдокия Сергеевна на самом деле никуда не глазела, а убедившись, что Антуанетта ушла и Анна Владимировна лежит без сознания, пошла убивать графиню Толстую? Или Антуанетта, которая даже не собиралась появляться на вечере, а лишь заехала за отцом, притворилась, будто вышла за солью, а сама взяла ружье и застрелила двоих гостей? Почему? Месть за отца, поскольку она решила, что они причастны к его убийству? И как же она ухитрилась обернуться, если Евдокия Сергеевна говорит, что Антуанетта почти сразу вернулась? А может быть, все еще проще — две последующие жертвы являются свидетелями первого убийства, и поэтому преступник предпочел избавиться от них. Тогда тот, кто зарезал Беренделли, и тот, кто застрелил графиню и адвоката, одно лицо. А возможно еще, что мы имеем дело не с одним человеком, а с двумя, потому что у первого убийцы был сообщник… Вы понимаете, о чем я?
Марсильяк кивнул.
— Одним словом, пока нам не известно ничего, кроме того, что некто вошел сюда, взял ружье, зарядил его и застрелил сначала графиню, а затем адвоката. — Он выдвинул ящик бюро и посмотрел на коробку, которая лежала сверху. — Именно те патроны?
— Да, — сказала Амалия. — Двух не хватает, я уже смотрела.
Марсильяк заглянул в коробку и уже собирался закрыть ее, когда Амалия обратила внимание на его пальцы.
— Аполлинарий Евграфович! Вы испачкались!
Похоже, одна и та же мысль пришла в голову им обоим, потому что они замерли, глядя друг на друга.
— Порох, — наконец проговорил Марсильяк, к которому вернулось его обычное невозмутимое спокойствие. — Похоже, коробка с небольшим изъяном, и тот, кто заряжал ружье, должен был испачкаться порохом.
— И если он не успел вымыть руки… — прошептала Амалия.
— Будем надеяться, что не успел, — отозвался следователь. — Идемте, Амалия Константиновна. Мне и самому не терпится узнать, кто окажется преступником.
Однако в коридоре их поджидал Соболев, весьма невзрачного вида господин с худым, унылым лицом и пушистыми пшеничными усами. Он прошептал что-то Марсильяку, косясь на Амалию, что баронессе сразу же не понравилось.
— Что случилось? — довольно сухо спросила она.
Аполлинарий Евграфович пожал плечами.
— Очередное убийство, по словам моего помощника, — сообщил он. — Правда, на сей раз оно, кажется, не удалось.
В большой гостиной на диване лежал Владимир Сергеевич. Скула у помощника адвоката распухла, под глазом красовался синяк. Городецкий невнятно стонал и чертыхался, пока незаменимый Венедикт Людовикович смазывал его раны каким-то лекарством, вполголоса успокаивая. Амалия поискала взглядом Билли и нашла американца в углу, рядом с невозмутимым бароном Корфом, причем ее кузен был насуплен и держал руки в карманах. Перед ними, пытаясь придать своему добродушному лицу угрожающее выражение, стоял хозяин дома.
— Господа, господа! — умоляюще твердил он. — На что это похоже, скажите на милость?
Как объяснил Соболев, в отсутствие Марсильяка и его спутницы Владимир Сергеевич позволил себе несколько слов, которые чувствительный американец, похоже, неправильно истолковал и вообще неверно понял. Так или иначе, он совершил попытку вразумить Городецкого посредством рукоприкладства, что ему в совершенстве удалось. Разнимать дерущихся героически бросился барон Корф, однако действовал столь неудачно, что каким-то непостижимым образом ухитрился нанести помощнику адвоката еще больший урон. В конце концов Владимира Сергеевича оттащили, Билли и Александра оттеснили в угол, а Венедикт Людовикович принялся врачевать раны пострадавшего. Варенька хмуро смотрела на жениха, кусая губы.
— Я протестую против подобного обращения! — выкрикнул Владимир Сергеевич. Но тут у него заныла челюсть, по которой от души съездил Билли, и Городецкий, застонав, схватился за лицо.
Амалия подошла к своему кузену.
— Билли, — прошептала она, сверкая глазами, — в чем дело?
— Ни в чем, — буркнул тот, отводя взгляд.
Но Амалии было достаточно взглянуть на улыбку Корфа, чтобы сразу же все понять.
— Александр, — набросилась она на бывшего мужа, — вы должны были его остановить!
— Я пытался, — отозвался барон, даже не моргнув глазом.
Амалия посмотрела на него осуждающе и покачала головой.
— Довольно, господа, — вмешался Марсильяк. — Владимир Сергеевич, настоятельно прошу вас более вообще ничего не говорить, пока я сам не спрошу вас. Вы, сударь, и вы, будьте так любезны сесть вот здесь, — он указал двум дебоширам на кресла в максимальном отдалении от Городецкого. — Павел Петрович! Сядьте, пожалуйста, тоже. Как говорится, в ногах правды нет… — Он скользнул взглядом по лицам присутствующих. — Все здесь? — спросил он у Амалии.
— Сына хозяев нет, — отозвалась та.
Глашу послали за Митенькой, который отлеживался у себя после второго обморока, и вскоре смущенный недоросль показался на пороге большой гостиной. Он неловко поклонился следователю и чихнул. Во время дуэли Митенька, похоже, простудился и теперь чувствовал себя не самым лучшим образом.
— Митенька, что с тобой, ты нездоров? — кинулась к нему заботливая мать.
Юноша покраснел и стал убеждать ее, что она не права, однако не удержался и снова чихнул.
— Дамы и господа, — заговорил Марсильяк, когда Анна Владимировна в пятый или шестой раз получила от сына заверения, что с ним все в порядке, — как всем вам известно, в доме произошли крайне неприятные события, и поэтому, чтобы избежать возможных осложнений, я предпочитаю, чтобы все вы находились у меня на глазах, что может послужить на благо следствия. — Он сухо улыбнулся. — Господин Преображенский! Подойдите сюда, пожалуйста.
Евдокия Сергеевна широко распахнула глаза.
— Я тебе говорила: он! — шепнула она мужу.
— Наоборот, я тебе повторял, — буркнул Иван Андреевич.
Преображенский нехотя поднялся с места и подошел к следователю.
— Вы меня арестуете? — с какой-то странной обреченностью спросил он.
— Нет, — ответил Марсильяк. — Покажите мне ваши руки.
Никита удивился, однако выполнил его просьбу. Аполлинарий Евграфович внимательно осмотрел его пальцы и бросил взгляд на Амалию.
— Можете сесть, — разрешил он. — Евдокия Сергеевна!
Тайная советница оторопела.
— Разрешите взглянуть на ваши руки, сударыня, — проговорил Марсильяк, подходя к ней.
— Это что, это еще зачем? — заволновался тайный советник.
— По долгу службы, — хладнокровно отозвался следователь.
На лицах присутствующих было написано живейшее любопытство, которое все возрастало. Евдокия Сергеевна с мученическим видом позволила Марсильяку осмотреть свои руки. Он поглядел на Амалию и покачал головой.
— Мадемуазель Беренделли!
Она, не понимая, взглянула ему в лицо.
— Мне бы хотелось увидеть ваши руки, — пояснил Марсильяк по-французски.
Но и на руках дочери хироманта не обнаружилось никаких пятен. Анна Владимировна заерзала на месте. Веер застыл в руке тайной советницы, которая вся обратилась во внимание. Что делает странный следователь? Чего добивается?
— Анна Владимировна! — Марсильяк уже был возле хозяйки дома. — Покажите ваши руки, пожалуйста.
Билли озадаченно моргнул и обернулся к Амалии, но она сделала знак, что потом ему все объяснит. Следователь осмотрел руки хозяйки дома и покачал головой.
— Благодарю вас.
«Все-таки убийца успел вымыть или тщательно вытереть руки, — с сожалением подумала Амалия. — Он догадался…» Но тут Марсильяк сделал шаг к Верховскому-старшему.
— Павел Петрович, будьте так любезны, покажите ваши руки.
Статский советник озадаченно взглянул на жену, на напряженно ожидающую, с замкнутым лицом Амалию и, пробормотав: «Ради бога», — протянул следователю обе кисти.
Марсильяк поднял голову. Во взоре его блеснула тусклая искра и погасла, и Амалия сразу же все поняла.
— Благодарю вас, — очень вежливо промолвил следователь. — У меня к вам только один вопрос: какое участие вы принимали в убийстве графини Толстой и адвоката Городецкого?
Глава 27 Пятна пороха
— Что? — болезненно вскрикнул Павел Петрович. — Я никого не убивал!
— Ваши руки говорят об обратном, — ответил Марсильяк. — Итак?
Антуанетта, не выдержав, громко спросила по-французски, что происходит и почему ее заставили показывать свои руки. Амалия объяснила ей, что у человека, который заряжал ружье, должны были остаться пятна пороха на пальцах. А поскольку они обнаружились у хозяина дома…
— Так я и знал, — вздохнул Билли. — Все как в книжках: убийцей оказывается именно тот, на кого меньше всего думаешь. А с виду такой приличный человек. Я всегда знал, что никогда нельзя доверять приличным людям!
— Нет, тут какое-то недоразумение! — горячился Верховский. — Я, конечно, уважаю ваши методы, но…
— Это невозможно! — поддержала его жена. — Уверяю вас, вы ошиблись!
— Любое обвинение требует доказательств, — буркнул Владимир Сергеевич, в котором проснулся помощник адвоката. — У вас они есть?
— Я никак не мог их убить, я находился в саду! — заявил рассерженный статский советник. — Меня видели!
Марсильяк бросил рассеянный взгляд на присутствующих.
— Сколько помню, вы появились в саду не сразу, — уронил он.
— Однако выстрел прогремел, когда я уже был на улице!
— Тот, который убил адвоката, — да. Но о том, который убил графиню, нам мало что известно. Возможно, вы зарядили ружье, о чем говорят пятна пороха на ваших руках, застрелили Елену Николаевну и передали ружье кому-то еще, а сами отправились в сад, чтобы обеспечить себе алиби. Кстати, вы очень спешили, когда появились там. Почему?
— Я отправился в сад, потому что мой сын стрелялся с господином бароном! — вспылил Павел Петрович. — А спешил я потому, что опасался опоздать!
Никита Преображенский мстительно рассмеялся.
— Отлично! — воскликнул он, чем до глубины души поразил гостей. — Сначала Иван Андреевич сообщает нам, что является убийцей, а потом выясняется, что его подчиненный не отстает от начальства. Яблочко от яблони, как говорится!
— Я запрещаю вам оскорблять моего отца! — Митенька вскочил с места, пылая негодованием.
— А не то что? — поинтересовался Преображенский. — Вызовете меня на дуэль?
Митенька хотел поставить зарвавшегося композитора на место, но проклятая простуда вновь дала знать о себе — юноша чихнул.
— Иван Андреевич ничего дурного не делал! — кинулась в атаку Евдокия Сергеевна.
— И тем не менее, — вмешался Марсильяк, — я бы очень хотел услышать, о каком таком убийстве идет речь. Итак, Иван Андреевич?
Тайный советник угрюмо глянул на него и рассказал, как случайно прочитал в газете о том, что их бывший сослуживец Васильчиков, осужденный за растрату, находится в тюремной больнице и может скоро умереть. А так как Иван Андреевич имел некоторое касательство к тому, что его арестовали… Он запнулся. Ему и самому было сложно объяснить, отчего он чувствовал на душе тяжесть от того, что Васильчиков, который в общем-то заслужил свою судьбу, попал в такое положение. Тем более что Васильчиков-то сделал все, чтобы вина пала на другого, на начальника, и если бы в больнице оказался он, Иван Андреевич, даже бы глазом не моргнул, обедал бы с прежним аппетитом и никакие угрызения совести бы его ни мучили.
— Хм, боюсь вас разочаровать, но думаю, что вряд ли вы можете считать себя убийцей, — сказал Марсильяк, выслушав Ивана Андреевича. — Видите ли, ваше превосходительство, некоторые заключенные выдумывают себе разные болезни, подкупают врачей и годами живут в больницах, а там, глядишь, выхлопочут себе и досрочное освобождение. Я не утверждаю, конечно, что ваш бывший сослуживец именно из таких, но на вашем месте не слишком бы доверял газетам.
Евдокия Сергеевна сердито посмотрела на мужа. Ах, вот всегда Иван Андреевич такой, вечно о других печется, и эгоизму практического в нем нет никакого. Нет бы о себе в первую очередь думать, а остальных побоку… И вообще, слишком он порядочный, а люди таких не любят, в глаза хвалят, а за спиной обычно смеются. Женщина с треском сложила веер.
— А пока меня интересует, что скажет Павел Петрович, — проговорил Марсильяк, снова оборачиваясь к хозяину дома. — У вас есть объяснение тому, откуда у вас на руках взялись пятна пороха?
— Я не помню, — пробормотал хозяин дома. — Не помню!
— Ты же показывал вечером ружье Ивану Андреевичу, — несмело напомнила жена. — Может быть, тогда?
Но Павел Петрович упрямо мотнул головой.
— Нет. Мы смотрели ружье, что верно, то верно, но я его не заряжал. Да и к чему? Мы же не собирались на охоту, в конце концов!
Амалия колебалась. Если бы Верховский ухватился за предлог и стал горячо убеждать всех, что он заряжал ружье, дабы показать его начальнику, все — вину Павла Петровича можно было бы считать доказанной. Но он сказал чистую правду, хотя и знал, что она не сможет ему помочь. Но если Павел Петрович говорит правду, откуда же все-таки взялись пятна пороха?
— Воля ваша, но это просто глупость, — сказал внезапно барон Корф.
— Что именно? — живо обернулся к нему Марсильяк.
— Простите, но я не могу представить себе нашего почтенного хозяина в роли убийцы, — холодно промолвил Александр. — Уверен, он просто забыл, откуда взялись пятна.
Следователь пожал плечами.
— Есть много вещей, которые мы не в состоянии себе представить. Например, электричество. Ведь еще наши деды сочли бы его чем-то фантастическим.
— И тем не менее, — объявил Павел Петрович, почувствовавший поддержку, — я никого не убивал!
Марсильяк сел.
— Что ж, — спокойно проговорил он, — тогда вам остается только вспомнить, откуда могли взяться пятна на ваших руках. Вы заряжали сегодня ружье?
— Нет! — сердито ответил Верховский.
— Мой отец ничего такого не делал! — поддержал его Митенька. — Наша полиция просто возмутительна!
Мать посмотрела на него неодобрительно. Но юноша успел заметить только улыбку Амалии и отчего-то обиделся.
— Как все глупо получилось, — устало сказал Преображенский сидевшей рядом с ним Вареньке. — Хотел провести приятный вечер, а видите, чем он обернулся. Теперь вот застрелили Элен, меня обвинили в убийстве…
— Я ни мгновения не верила, что вы виновны! — воскликнула Варенька. И ее слова были чистой правдой.
— Почему? — с любопытством спросил Никита.
Мадемуазель Мезенцева подумала, что бы такое ответить, и ухватилась за фразу из модного романа популярной среди юных девиц мадам Вервен.
— Потому что убийство всегда примитивно, оно свидетельствует об отсутствии воображения и узости натуры, — процитировала она. — А вы такой прекрасный музыкант! Нет, я не верю, что вы могли убить кого-то.
— Мне приятно услышать похвалу от барышни, наделенной столь замечательным голосом, — вернул комплимент композитор. — Значит, человек с воображением убить не может? А как же Челлини? Ведь в своих мемуарах он признается, что ему приходилось убивать людей.
Варенька смутно помнила, что Челлини — не то итальянец, не то француз, не то скульптор, не то художник. По крайней мере, он жил так давно, что его судьба потеряла всякое значение. Поэтому она небрежно ответила:
— О, Челлини! Но это было совсем в другое время!
И с любопытством поглядела на Марсильяка, не успел ли он за минуты ее разговора с господином Преображенским доказать вину Павла Петровича. Тот, по ее мнению, вполне мог оказаться убийцей, потому что не мог похвастаться ни воображением, ни широтой натуры, ни особыми талантами.
— Павлуша! — лепетала Анна Владимировна. — Ты должен вспомнить!
— Отец, может быть, вы все-таки трогали чертовы патроны? — настаивал Митенька. — Ведь откуда-то пятна должны были взяться!
— Так или иначе, — заметил Владимир Сергеевич, — улика весьма весомая.
Евдокия Сергеевна, косясь на невозмутимую Амалию, все пыталась себе представить Павла Петровича, как тот бесшумно подкрадывался с ружьем к графине Толстой, причем в то самое время, когда сама тайная советница совместно с Антуанеттой Беренделли приводили в чувство его жену. Но даже ее фантазии на такое не хватало.
— По-моему, господа, — внезапно сказал доктор, — вы преувеличиваете важность этих пятен.
— У вас есть объяснение, как именно они оказались на руках господина Верховского? — осведомился Марсильяк.
— Скорее догадка, — ответил доктор. — Дело в том, что, когда господин барон вызвал месье Дмитрия на дуэль, Павлу Петровичу пришлось искать подходящее оружие.
— Верно! — воскликнула Анна Владимировна. — Я пыталась их отговорить, но…
Павел Петрович открыл рот и напряженно задумался.
— Ну да, — пробормотал он, — когда господин Корф меня заставил… Я не хотел идти в малую гостиную, у меня хранилась пара пистолетов в спальне… но пули к ним лежали отдельно. Точно! — Хозяин дома взволнованно прищелкнул пальцами. — Я пошел в малую гостиную искать их и тогда открыл коробку с патронами, но сразу же увидел, что они не подходят. Вот тогда, наверное, я и испачкался! А вы-то уже решили, что я… — он говорил, но в его глазах еще читался испуг от того, что его, почтенного человека, статского советника, едва не обвинили в тягчайшем уголовном преступлении.
— Кто-нибудь может подтвердить ваши слова? — спросил Марсильяк.
— Полагаю, я могу, — пробормотал Иван Андреевич. — Мы с господином Городецким были секундантами. Пистолеты Павел Петрович нашел сразу, а вот пули… Я тоже не хотел идти в малую гостиную, и Владимир Сергеевич…
— Все действительно так? — спросил следователь у помощника адвоката.
Тот нехотя кивнул.
— Что-то я ничего не понял, — сказал Билли Амалии. — Получается, он тут ни при чем?
— Похоже на то, — отозвалась баронесса. И добавила с иронией: — Несмотря на то, что он приличный человек.
Билли не любил, когда над ним смеялись, но не мог сердиться на Амалию. Тем более когда у нее был такой задумчивый вид.
— Выходит, пятна пороха нам ничего не дают, — промолвила она с сожалением. — Убийца не настолько глуп, чтобы не заметить и оставить их. Он наверняка успел вымыть руки.
— Обидно, — вздохнул Билли. — У нас всего четверо подозреваемых, которые могли совершить убийство, а мы по-прежнему ничего не знаем. Если бы… — Он умолк.
— Если бы что? — спросила Амалия.
Но Билли ей не ответил. Проследив за направлением его взгляда, молодая женщина заметила, что кузен смотрит на диван, на котором сидели Антуанетта, Иван Андреевич и его супруга, которая по-прежнему обмахивалась веером.
Своими зоркими глазами отменного стрелка Билли успел разглядеть кое-что, чего не заметил Марсильяк. Но вот человек, на которого смотрел американец, шевельнулся и недружелюбно уставился на него. Медлить было нельзя.
— Эмили, — объявил Билли, — мне кажется, я знаю, кто это сделал. Но разрази меня гром, если знаю, почему.
Не обращая внимания на Марсильяка, который как раз спрашивал у хозяина, нет ли у него соображений по поводу того, кто еще мог трогать коробку с патронами, Билли пересек комнату и цепко ухватил настоящего убийцу за запястье.
— В чем дело, сударь? — громко взвизгнула Евдокия Сергеевна.
Ее поразила бесцеремонность, с которой молодой американец обращался с несчастной девушкой, которая потеряла отца при самых трагических обстоятельствах. Антуанетта Беренделли посмотрела на Билли, словно не понимая, чего он хочет, и сделала попытку вырвать руку. Однако от Билли было не так-то просто отделаться. Он поудобнее перехватил ее руку, отвернул длинную оборку рукава у запястья и позвал:
— Эмили!
— Сударь, вы не имеете права… — прошипела Антуанетта. Но Амалия уже стояла возле дивана, а за ее спиной сразу же возник следователь с лицом французского мушкетера.
— Посмотрите сюда, — объявил Билли, указывая на пятно на светлой оборке. — По-моему, это порох. И мне страсть как любопытно узнать, откуда он тут взялся.
Глава 28 Три
Евдокия Сергеевна тихо пискнула и выронила веер. Владимир Сергеевич медленно поднялся с места. Варенька вцепилась в руку композитора. Что касается доктора, то он, судя по его лицу, вообще ничего не понимал.
— Антуанетта? — прошептала Анна Владимировна. — Но… этого не может быть!
А виновник всего переполоха, Билли Пуля, пребывал на седьмом небе. Ведь Амалия наградила его таким ласковым взглядом, каким она на его памяти не смотрела ни на одного человека на свете. Но тут Антуанетта неожиданно запустила когти свободной руки в его руку. Американец взвыл и отпрыгнул назад, а дочь хироманта вскочила с места.
— С меня довольно! — объявила она по-французски. — Я хочу уйти! Я подданная Франции, и вы не имеете права меня задерживать!
Она кинулась к двери, но первым там оказался брат адвоката. Судя по его решительному лицу, в ту минуту Владимир Сергеевич не собирался вспоминать ни о чьих правах.
— Пока в доме идет следствие, вы не имеете права его покидать! — крикнул он.
Но Антуанетта не собиралась сдаваться. Она бросилась на Городецкого с напором, которого никак нельзя было заподозрить в женщине, и попыталась вырваться из комнаты. Однако на выручку Владимиру Сергеевичу подоспели мужчины — помощник Марсильяка Соболев и Павел Петрович. У хозяина дома имелись свои счеты к дочери хироманта, из-за которой его во всеуслышание обвинили в убийстве. Объединенными усилиями они вдвоем оторвали отчаянно сопротивляющуюся Антуанетту от Городецкого и заставили ее вернуться на место. Евдокия Сергеевна тотчас вскочила с дивана, словно рядом с ней оказалась гремучая змея, и Иван Андреевич последовал ее примеру.
— М-да, — тяжело уронил Корф, созерцая безобразную сцену. И больше ничего не сказал.
Билли, тряся раненой рукой в воздухе, подошел к Амалии. Доктор предложил ему свои услуги, но американец наотрез отказался. Марсильяк теперь пытался успокоить возбужденного Городецкого.
— Она убила моего брата! — крикнул Владимир Сергеевич. — И я намерен сделать все, чтобы мерзкая тварь получила по заслугам!
Антуанетта разрыдалась, закрыв руками лицо. Баронесса посмотрела на нее, покачала головой и занялась рукой Билли. К ним подошел Александр.
— Значит, убийца — она? — спросил Корф, кивая на Антуанетту.
— Как видите, — ответила Амалия.
— Но зачем? Она сумасшедшая?
Амалия бросила на дочь Беренделли хмурый взгляд и довольно сухо ответила:
— Возможно. Хотя по ее поступкам так не скажешь.
Варенька широко раскрытыми глазами смотрела на Антуанетту. Значит, вот как выглядит настоящий убийца. А с виду даже и не подумаешь. Просто некрасивая девушка с длинным носом, правда, очень хорошо одетая. И из-за нее они все здесь извелись, подозревали бедного композитора, потом дядю Павла, которые были ни при чем. Совершенно ни при чем! Сколько неприятностей для честных людей!!
Марсильяк очень вежливо попросил мадемуазель Беренделли успокоиться и обратился к гостям. Не будут ли они так добры перебраться в другую комнату? Хотя бы в соседнюю, курительную. Ему необходимо допросить подозреваемую, что удобнее делать с глазу на глаз.
— Да-да, конечно, все, что пожелаете! — воскликнул Павел Петрович. Он был до смерти рад, что кошмар закончился.
— А я желаю остаться! — запальчиво выкрикнул Владимир Сергеевич. — Не забывайте, речь идет о моем брате!
— Если уж на то пошло, — вмешался Никита, — я был бы тоже не прочь услышать, почему сия особа убила женщину, которая не сделала ей ничего плохого!
Антуанетта затравленно покосилась на него и вытерла слезы. Но Марсильяк был неумолим: он, его помощник Соболев и мадемуазель Беренделли должны остаться здесь, а остальные весьма его обяжут, если подождут в другой комнате.
Громко переговариваясь и бросая на убийцу возмущенные взгляды, Верховские и их гости покинули большую гостиную и перебрались в небольшую курительную, обставленную старой дубовой мебелью. Доктор закурил, но сломал несколько спичек, прежде чем ему удалось зажечь сигарету.
— Сразу же можно было догадаться, что убийство графини и адвоката ее рук дело, — заявила Евдокия Сергеевна. — Ведь ни один из нас не способен на такое!
Ей никто не стал возражать.
— Странно, — задумчиво произнес Митенька. — Преступность — результат социальной несправедливости, но по виду барышни я бы не сказал, что она испытывает лишения.
Амалия закончила возиться с рукой Билли и насмешливо поглядела на юношу.
— Вы, Дмитрий Павлович, придаете слишком большое значение книгам, которые того не стоят, — заметила она. — Уверяю вас, реальная жизнь плохо укладывается на страницы учебников. Как выразился немецкий поэт Гете, «сущее не делится на разум без остатка». Не болит? — спросила она у Билли. — Вот и прекрасно.
«И все-таки баронесса слишком умничает, — подумала Варенька. — Разве такое может нравиться мужчинам?»
— Вы не верите во влияние социальных условий на человека? — отважно ринулся в атаку Митенька. Мать тревожно взглянула на него.
— Почему же? — любезно откликнулась Амалия. — Однако выбор все равно остается за конкретным человеком. Он может поддаться влиянию среды, а может противостоять ему. И вообще любые условия подчиняют нас ровно настолько, насколько мы согласны им подчиниться.
— Но преступность… — вновь начал Митенька.
— Конечно, вы знаете о ней куда больше, чем господин Марсильяк, раскрывший сотни убийств, — вмешался Александр, которому не терпелось щелкнуть по носу самонадеянного юношу.
Митенька вспыхнул. Он хотел ответить, что господин Марсильяк тут совершенно ни при чем и вообще это абсолютно разные материи, но ни с того ни с сего на молодого человека напал страшный чих. И пока он чихал, барон Корф успел прочно забыть о его существовании.
— Занятный выдался вечер, — заговорил он, подойдя к Амалии. — Однако сдается мне, господин Марсильяк не справился бы без вас… И без вашего друга. По-вашему, что руководило мадемуазель Беренделли? Она мстила за убитого отца? Не верю. Не в привычках покойной графини было подсыпать людям мышьяк или вонзать им в грудь нож. А Константин Сергеевич вообще вне подозрений, потому что у него, как пишут в уголовных романах, неоспоримое алиби. Тогда что? Ревность дурнушки к хорошенькой женщине? — Он пристально поглядел на Амалию. — Тогда она точно не поставила бы графиню на первое место.
— Спасибо за комплимент, сударь, — сопроводила легкий поклон ироничной улыбкой баронесса. — Хотите сказать, что Антуанетте надо было взяться за меня?
— Боюсь только, — Александр чуть кивнул и продолжил медленно, с расстановкой: — Что в таком случае вашему старому знакомому Марсильяку пришлось бы арестовать меня. Потому что, если бы итальянка тронула вас, я бы убил ее, не задумываясь.
Билли шмыгнул носом.
— Если бы успел, — вполголоса обронил он. — Потому что я бы раньше до нее добрался.
Евдокия Сергеевна заметила, каким взглядом смотрит Варенька на жениха, который беседовал со своей бывшей женой, и вздохнула. Ох уж эти юные девушки, которые думают, что одной свежести и миловидности достаточно, чтобы привлечь мужчину… Привлечь, может быть, да, но чтобы его удержать, нужны совсем иные качества. И женщина, гордо приосанившись, стряхнула с рукава мужа какую-то нитку.
Меж тем в дверь заглянул помощник Марсильяка и, найдя глазами Амалию, направился прямиком к ней.
— Госпожа баронесса, Аполлинарий Евграфович просит вас заглянуть к нему. — Соболев помолчал, явно колеблясь, но все-таки добавил: — Кажется, у него возникли сложности с мадемуазель Беренделли.
Александр Корф повел бровями с таким видом, будто ожидал чего-то подобного. Амалия оглянулась на Билли, вполголоса велела ему вести себя прилично и вышла вслед за помощником следователя.
Едва она скрылась за дверью, Евдокия Сергеевна со скучающим видом прислонилась к стене, разделяющей две комнаты. Тайная советница рассчитывала услышать немало любопытного. И хотя на самом деле она уловила только отдельные обрывки беседы, чутье ее не обмануло. Разговор в большой гостиной положительно стоил того, чтобы его подслушать.
— Она отказывается говорить со мной, — были первые слова Марсильяка, как только Амалия в сопровождении его помощника переступила через порог.
Баронесса Корф вздохнула.
— Мадемуазель настаивает на своей невиновности?
— Вовсе нет. Она призналась, что застрелила графиню Толстую и адвоката Городецкого, но о причинах молчит. Я полагал, что убийство как-то связано с гибелью ее отца, но девушка это отрицает. А истинные причины ее поступка мне неизвестны.
Амалия села напротив Антуанетты и задумчиво посмотрела на нее.
— Она упоминала, что отец привозил ее в Ментону, чтобы показать доктору Ротену, — внезапно сказала баронесса.
Марсильяк поднял голову.
— Ротену? Но он же специалист по душевным болезням!
— Вот именно. Хотя она говорила мне, что лечила легкие.
— Тогда все ясно, — вздохнул Марсильяк. — Когда она увидела труп отца, у нее наступило временное помешательство. Она дождалась, когда почти все выйдут из дома, взяла ружье, зарядила его и убила первых людей, которые ей попались. — Следователь поморщился. — Возможно, как раз по причине ее болезни отец Антуанетты не хотел, чтобы она появилась на вечере. Вспомните, ведь сначала он хотел быть вместе с ней, но затем передумал и пришел один. Теперь все ясно. — Аполлинарий Евграфович поколебался. — Если бы не…
— Да, да, если бы не удивительное самообладание мадемуазель, — кивнула Амалия. — Она очень точно рассчитала момент, объявила, что идет за нюхательной солью… побежала за ружьем, которое заметила в комнате, где лежало тело ее отца и куда я ее приводила… ружье не заряжено, она лихорадочно ищет патроны, но те оказались совсем рядом, в ящике бюро, зарядила ружье, испачкав руки и оставив пятно на оборке возле запястья, убила двух человек, после чего бросила ружье, кинулась за солью, нашла ее: и вернулась в большую гостиную.
— А Евдокия Сергеевна не заметила долгого отсутствия мадемуазель, так как была поглощена тем, что происходило в саду, а в подобные моменты кажется, будто время летит очень быстро, — добавил Марсильяк. — Вдвоем они стали приводить хозяйку в чувство, тут из сада вернулись люди, потому что услышали второй выстрел, но мадемуазель рассказала крайне правдоподобную историю, и никто даже не заподозрил ее.
— Она заметила, что испачкала руки, и при первой же возможности вымыла их. Все шло прекрасно, никто ее не видел и никому в голову не могло прийти, что убийца и есть она. — Амалия покачала головой. — Однако для безумной девушка действовала на редкость обдуманно… Кажется, нам далеко не все известно.
— Полагаете, у нее все-таки были свои мотивы? — спросил следователь. — Но какие?
— Хотела бы я знать, — вздохнула баронесса.
Пока длилась их беседа по-русски, дочь хироманта переводила взгляд с лица Амалии на лицо Марсильяка, явно пытаясь понять, о чем они говорят.
— Если даже девушка в своем уме, — заметил следователь, — то ее защита все равно будет настаивать на невменяемости, чтобы смягчить приговор. И то, что она, по-видимому, лечилась у Ротена…
— Я не сумасшедшая! — внезапно произнесла Антуанетта. Ее голос прозвучал, как карканье вороны.
— Простите? — быстро проговорила Амалия.
— Я не сумасшедшая, — сердито повторила Антуанетта. — И вам не удастся это доказать!
Амалия пожала плечами.
— То, что вы лечились в Ментоне у доктора Ротена, говорит скорее об обратном. Может быть, вы не знали: месье занимается болезнями души, а не тела.
— Я не лечилась у него! — вспыхнула Антуанетта. Глаза ее угрожающе сверкнули, но Амалия только мило улыбнулась.
— К чему возражения, мадемуазель? Ваш адвокат приведет в суде необходимые бумаги, чтобы облегчить вашу участь. Произнесет несколько эффектных фраз о бедной сироте и состоянии аффекта, в котором она совершала преступление. Сейчас подобное в большой моде. Можете считать, что вам повезло.
Антуанетта схватилась за голову.
— Вы не понимаете, боже мой! Не хотите понять! — Ее губы кривились, в глазах стояли слезы. Марсильяк терпеливо ждал, что будет дальше. — Я убила ее, потому что она заслуживала смерти! Как только я пришла в этот дом и увидела ее самодовольное лицо… Я не могла оставить ее в живых! Никогда не думала, что буду кого-то ненавидеть так, как ее, но… — Девушка осеклась. Помолчала. Наконец тихо промолвила: — Я в жизни не ударила ни одно живое существо. И тем не менее не жалею о том, что сделала. Жаль только, что меня видел тот человек… адвокат. Я не хотела его убивать, клянусь вам! Но я не могла допустить, чтобы он выдал меня, поэтому мне пришлось выстрелить в него.
Глава 29 Признание
— Значит, по-вашему, графиня Толстая заслужила смерть? — спросила Амалия.
— Да.
— Почему?
Углы губ Антуанетты опустились. Но ей уже некуда было отступать.
— А вы как думаете? — бросила она.
— Я думаю, — очень спокойно заметила Амалия, — что одна женщина может так сильно ненавидеть другую женщину только из-за мужчины. Я права, не так ли?
Антуанетта усмехнулась.
— Да, вы умнее, чем кажетесь, — проговорила она с ожесточением. — Может быть, вам известно, как его звали?
— Возможно. Я даже могу вам сказать, какая у него была профессия. Он рисовал картины, не так ли?
В комнате наступило долгое молчание. Наконец Марсильяк поднялся с места, подошел к Соболеву и стал вполголоса что-то втолковывать ему. На Амалию следователь не смотрел.
— Значит, вы уже обо всем догадались, — устало промолвила Антуанетта. — Неважно, так даже лучше. Я столько времени носила свою боль в себе… — Она попыталась улыбнуться, но вышла лишь жалкая пародия на улыбку. — Вы понимаете меня?
— Может быть, — сказала Амалия.
Антуанетта кивнула и продолжила:
— Он был ваш соотечественник. Его звали Сорокин, Алеша Сорокин. Он был очень талантливый. В каждом его рисунке было видно, кем он станет очень, очень скоро. Я встретила его в Риме. Отца позвали, чтобы он гадал итальянскому королю, и я поехала с ним. Был какой-то вечер, знаете, где встречаются аристократы, художники, разные люди. И там я его увидела. Он плохо говорил по-французски. Вообще плохо знал языки и много жестикулировал. — Антуанетта показала, как именно жестикулировал Сорокин. — И он был очень, очень обаятельный — весь светился, знаете, таким хорошим внутренним светом, каким светятся только счастливые дети и очень талантливые люди, которые никому не завидуют. А он был именно талантливый и совсем не завистливый. И смеялся искренне, громко, чопорные дамы недовольно оглядывались на него. Но он был такой естественный, что и они начинали улыбаться вместе с ним.
Девушка говорила торопливо, почти захлебываясь, глотая концы фраз, и Амалии порой приходилось догадываться, что именно Антуанетта имеет в виду.
— И вы в него влюбились? — спросила баронесса.
Антуанетта вздохнула. Затем вновь заговорила, не ответив на вопрос:
— Мой отец гадал тогда многим, почти всем, но рука Алеши ему не понравилась. Он сказал, что тот умрет из-за женщины, и я услышала. Мне стало страшно, вдруг он умрет из-за меня, ведь мой отец никогда не ошибался, вы понимаете, никогда. И я решила, что надо выбросить его из головы, для его же блага.
Мы уехали с отцом в Париж. Но потом я не выдержала и приехала погостить к тетке, его сестре. Она жила в Риме, но я ее редко видела, и, в сущности, она была мне чужой. Но я была там не ради нее, сами понимаете, а ради другого человека. И когда я встретилась с нашими общими знакомыми, мне сказали, что он пропал. А графиня Толстая рассталась тогда со своим писателем, не помню, как его зовут. Они жили как муж и жена, но он много играл, и ей надоело оплачивать его долги. Она велела собрать его вещи и выставила его из дому. И ее новой игрушкой стал Алеша.
Она его ослепила, околдовала, подчинила себе. Он верил, что графиня его любит, думал, что она несчастна, потому что в жизни ей не повезло. Но она была такая злая, что несчастье не осмелилось бы к ней приблизиться, уверяю вас!
Графиня была очень тщеславна, и ей нравилось, что она служит музой для талантливого художника. Понимаете, ей очень хотелось войти в историю. Ей казалось, что вот так она будет вдохновлять его, и ее не забудут. Сама-то легко забывала людей, но хотела, чтобы ее помнили. Какая она была блистательная, красивая, благородная! Но у нее была низкая душа. И это ужасно — иметь такую душу при такой внешности. Потому что все видят внешнее и не догадываются, что внутри. Как красивое яблоко, в котором сидит омерзительная гусеница…
Я поняла, что совершила ошибку, ужасную ошибку. Я знала: он не будет счастлив с ней, потому что она из тех женщин, которые никак не могут успокоиться, ей обязательно надо мучить других, чтобы получать доказательства своей власти, но даже не подозревала, что все кончится так плохо. Я постаралась подружиться с ним. Это ужасно, дружить с человеком, которого любишь всем сердцем… — Антуанетта всхлипнула. — Он не любил меня, но я его понимала. И видела, что не нужна ему. Мы ходили по галереям, я рассказывала ему о художниках, которых он не знал, мы смотрели фрески в старинных монастырях. Он мог говорить со мной о том, о чем не мог говорить с ней. Потому что, понимаете, графиня могла сколько угодно говорить, что любит искусство, хотя все было не так. Она ничего в нем не понимала, только притворялась. Узкая, мелкая душа!
Мне хотелось верить, что пройдет время, он увидит ее в истинном свете и тогда, может быть, вспомнит обо мне. Но все случилось иначе. Один знакомый графини сказал, что картины Алеши плохи. А тот человек был фат, знаете, жалкий фат, из тех, которые берут в долг и никогда не возвращают деньги. Но графиня ему поверила. Поверила, что Алеша ничего не стоит как художник. И тогда она решила, что он больше не стоит ее внимания.
Графиня ему сразу же об этом сказала и велела убираться. Как лакею. Алеша ничего не понимал, был ошеломлен. Он думал, что чем-то прогневал ее, и решил: в случившемся виноват только он сам. Графиня его выгнала, потому что была глупа, понимаете, просто глупа. Алеша так мучился тем, что она его отвергла. Ходил к ней просить объяснений, унижался, пытался заговорить с ней у общих знакомых. Он совершенно забросил свои картины, и когда графиня однажды сказала, что не любит его, потому что он плохой художник, поверил в это. Она его погубила!
Но Алеша все еще надеялся, что она вернется к нему. Написал ей десятки писем, которые графиня ему возвращала, не читая. Я пыталась его образумить, но он никого не слушал. Я говорила ему, что у него еще все впереди, что картины его прекрасны, но он в то время со всеми рассорился, ему никто не хотел давать заказов, и Алеша решил, что все кончено. А потом… — Антуанетта умолкла.
— Он покончил с собой? — спросила Амалия.
— Он не выдержал. — Девушка залилась слезами. Они катились по ее щекам, подбородку, длинному носу… — Из-за нее Алеша все, все потерял: веру в себя, свое искусство… И ее любовь он тоже потерял. Хотя вообще-то графиня никогда его и не любила. Она брала людей так, чтобы поиграть с ними и выбросить. Как выбрасывают игрушку, знаете?
Однажды утром ко мне пришел встревоженный хозяин квартиры. Я приплачивала ему, чтобы он докладывал мне обо всех делах Алеши и не давал ему вина… Он тогда начал пить, а я все надеялась… надеялась его образумить. Хозяин сказал мне, что кто-то из соседей слышал странный шум в квартире Алеши, что он беспокоится и хотел прежде посоветоваться со мной.
Мы пришли туда, я звала его, дергала ручку, но никто не отвечал. Наконец хозяин догадался высадить дверь плечом. И мы увидели его. Алеша лежал на полу, голова в луже крови. Он выстрелил себе в рот. Ужасно… ужасно… А напротив стояла картина — портрет, почти оконченный. И графиня смотрела на него с холста с такой презрительной усмешкой…
Амалия вздохнула.
— Это было самоубийство? — спросила она. — Вы уверены?
— Он оставил записку, — сказала Антуанетта.
— Записку? — поразилась Амалия. Она отлично помнила, что при теле не было найдено никакой записки.
Антуанетта робко покосилась на нее, полезла в сумочку и извлекла оттуда смятый клочок бумаги.
— Вот… Я послала хозяина дома за полицией, а когда он ушел, забрала ее, спрятала.
— Почему? — резко оборвала рассказчицу Амалия. — Вы хотели, чтобы в самоубийство художника не поверили? Хотели выдать происшедшее за убийство?
— Скажите, что он написал? — вдруг спросила Антуанетта. — Там написано по-русски… я не смогла прочесть, — добавила она, краснея.
Амалия пристально взглянула на девушку и разгладила листок. Косые строки, неразборчивые буквы… Тот, кто писал их, явно находился в состоянии сильного волнения.
«Всем, кому это интересно. Я ухожу из жизни по своей воле и прошу никого не винить в моей смерти. В конце концов, никто не виноват, что у меня нет таланта.
Мама, прости меня.
Антуанетта, возьмите любые мои работы, какие сочтете нужными. Остальное сожгите».
Амалия перевела текст предсмертной записки сидевшей напротив молодой женщине. Та разрыдалась.
— Значит, он все-таки помнил обо мне! Он меня не забыл!
Она достала платок и утерла слезы. Вид у нее был жалкий и несчастный, и хотя совсем недавно Антуанетта убила двух человек, Амалия поймала себя на мысли, что жалеет ее.
— Так зачем вы спрятали записку? — спросила она у дочери хироманта. — Рассчитывали бросить подозрение на графиню Толстую?
Лицо Антуанетты исказилось ненавистью.
— Если бы мне это удалось, я бы считала себя счастливейшим человеком на земле, — бросила она. — Я распускала о ней слухи, заставила даже хозяина квартиры дать показания, что тот видел графиню накануне смерти художника. Но она была слишком богата, чтобы ее могли начать подозревать по-настоящему. Правда, из Италии ей все равно пришлось уехать.
— Что было дальше? — спросила Амалия.
Антуанетта стиснула руки, как на исповеди.
— Когда я вернулась в Париж, отцу не надо было даже смотреть на мою ладонь, чтобы понять, что случилось, — сказала она. — Он повез меня в Ментону, но мне было все равно. Я словно оцепенела. В Ментоне он хотел посоветоваться с доктором… — Девушка поморщилась. — Отец не очень хорошо себя чувствовал, но ведь он всю жизнь зарабатывал тем, что говорил людям об их будущем, поэтому, когда ему предложили очень выгодные условия в России, сразу согласился.
Амалия метнула на нее быстрый взгляд.
— Ваш отец был в курсе, кто был приглашен на вечер в этот дом? — спросила она.
— Точно я не знаю, — нерешительно ответила Антуанетта, — но, наверное, да, потому что настоял на том, что мне не надо приходить сюда. Отец… — Она закусила губу. — Отец сказал, что управится один, и велел мне ложиться спать. Но я не смогла заснуть, все смотрела на часы, а его не было. В конце концов я оделась и поехала сюда.
— И вы сразу же увидели среди гостей графиню Толстую, верно?
— Да. Я узнала ее по тому портрету… по последней работе Алеши. Мы ведь с ней никогда не встречались. А она не знала, кто я. Потом вы мне сказали, что мой отец убит. Ужасно! Каждый раз, когда графиня возникала в моей жизни, я теряла тех, кто мне дорог.
— И вы захотели отомстить за художника?
— Я подумала об этом, — призналась Антуанетта. — Но решила, что у меня ничего не получится. И тут произошла та ссора… Все побежали в сад, а графиня осталась в доме… Я поняла, что другого момента у меня уже не будет, и побежала за ружьем… Я умею обращаться с французскими ружьями, — пояснила Антуанетта с вымученной улыбкой. — Отец видел революцию, я тогда была совсем маленькой… И он говорил, что надо уметь защищать себя. Хотел, чтобы я ходила на охоту, но мне претило убивать живых существ… Я стреляла в тире по мишеням и почти всегда приносила оттуда призы.
— Почему вы выбрали ружье? Ведь от него столько шума…
— Понимаете, я не хотела убивать ее исподтишка, как убили моего отца… Алеша застрелился, и графиня тоже должна была умереть от огнестрельного оружия. Мне показалось, так будет справедливо. Она красила губы перед зеркалом, когда я вошла. Я собиралась сказать, за что ее убиваю, чтобы она знала, но у меня не было времени, к тому же графиня могла закричать… Я просто выстрелила — и все.
— Зачем вы убили адвоката?
— Я не хотела… Графиня была мертва, я сразу поняла. И побежала прочь из комнаты. Но заблудилась, дом ведь незнакомый… и один человек все-таки увидел меня. Тогда я…
Она умолкла.
— Почему вы не бросили ружье сразу? Ведь так было бы гораздо проще.
Антуанетта подняла на Амалию глаза, казавшиеся огромными на вытянутом, изможденном лице.
— Проще? Не знаю… В те мгновения я плохо соображала. Больше всего боялась, что меня найдут там. Мне хотелось убежать… неважно куда… Но получилось только хуже. Я была уверена, что мое отсутствие уже заметили, что меня сразу разоблачат… Но все сложилось совсем иначе. Потом я заметила, что испачкала руки, и вымыла их. Если бы не ваш друг…
— Мне все ясно, — кивнула Амалия. — Только одного я понять не могу. Вы говорите, что ваш отец никогда не ошибался в своих предсказаниях. Но получается, что он не смог предвидеть свою собственную судьбу и пришел в дом, в котором его убили. Или причина проста и очевидна — сапожник без сапог?
Антуанетта покачала головой:
— Вы полагаете, что на свете нет ничего страшнее смерти? О нет, сударыня… Есть вещи, которые неизмеримо хуже, чем она.
— Боюсь, господин Марсильяк с вами не согласится, — вздохнула Амалия, поднимаясь с места. — Аполлинарий Евграфович! Мы закончили. Да, вот один документ… Полагаю, он может быть вам интересен, хотя к делу прямого отношения и не имеет. — Баронесса протянула следователю предсмертную записку художника. — Таким образом, два убийства, имевшие место в этом доме, можно считать раскрытыми. Осталось лишь одно, и, учитывая обстоятельства, могу сказать, что именно оно окажется самым сложным.
Глава 30 Ночь уходит
— Она призналась! — объявила Евдокия Сергеевна, отодвигаясь от стены.
— Кто бы сомневался, — хмыкнул композитор.
— Значит, действительно она убийца? — мрачно спросил доктор. — А я надеялся… — он не договорил и лишь безнадежно махнул рукой.
— Как все ужасно! — проговорила Анна Владимировна, и ее глаза увлажнились. Она вытащила платок и промокнула их.
Дверь распахнулась, и в комнату вошел Марсильяк в сопровождении баронессы Корф. Его засыпали вопросами, и следователь терпеливо на них ответил.
— Неслыханно! — вскричал Владимир Сергеевич, воздевая руки к потолку за неимением небес, к которым можно было бы воззвать. — Значит, она убила моего брата, потому что он просто попался ей на пути?
— Она решила, что он может ее выдать, — объяснил Марсильяк.
Владимир Сергеевич объявил, что таких, как эта особа, надо изолировать от общества, хотя лично он надеется, что ей вынесут самый суровый приговор. Иван Андреевич пробормотал: «Не знаю, не знаю». Поступок Антуанетты, ее нежелание прощать вызвали в нем боязливое восхищение. Он даже подумал: кто бы мог так же отомстить за него, если бы с ним что-нибудь произошло? И никто не приходил ему на ум.
— Воля ваша, но тот художник был элементарно глуп, — запальчиво сказал Митенька. — Его так любили, а он предпочел кусок стекла настоящему бриллианту!
Никита заявил, что он должен сказать Антуанетте все, что о ней думает, но Марсильяк охладил пыл композитора, сообщив: его помощник Соболев уже сопровождает мадемуазель Беренделли в участок для более тщательного допроса, так что господину Преображенскому лучше приберечь свое рвение для другого случая. Что касается его, Марсильяка, то пусть дамы и господа не обессудят, но сейчас он должен в подробностях записать их показания, чтобы приобщить их к делу, на случай, если мадемуазель Беренделли одумается и решит отказаться от своих слов.
Общество вернулось в большую гостиную. Все как-то оживились, и Анна Владимировна даже велела подать припасенное для возврата в магазин вино. Аполлинарий Евграфович уселся за столом в углу, развернул бумаги и стал вызывать одного за другим присутствующих для дачи показаний. Тем временем Билли подошел к Амалии и спросил, как все прошло. Она пожала плечами.
— Маленькие недомолвки, большие несчастья, маленькие трагедии, большие трагедии, — сказала она. — Может быть, девушке следовало признаться художнику, а не ждать, когда он сам догадается о ее любви? Впрочем, — добавила баронесса, — легко судить о чужих поступках, о чувствах других людей. Человеческие отношения — тонкая материя и никто не умеет запутывать их лучше, чем сами люди.
— Вы так полагаете? — спросил Александр, подходя к ним и расслышав последнюю фразу.
Амалии не хотелось отвечать на вопрос, в котором подтекста было куда больше, чем собственно текста. Она молча обвела взглядом гостиную.
Марсильяк в углу допрашивал Владимира Сергеевича, прочие присутствующие сбились в группы. Евдокия Сергеевна увлеченно говорила о чем-то с хозяйкой, а рядом стоял с несколько потерянным видом Иван Андреевич. Митенька горячо доказывал что-то отцу. Варенька улыбалась доктору и успевала в то же время адресовать вопросы композитору. Сам доктор держался отстраненно, и по его рассеянному, грустному лицу Амалия видела, что мыслями он бесконечно далеко от маленького мирка гостиной петербургского дома. Может быть, он видел перед собой парижский дом и маленькую Антуанетту Беренделли, чинную, милую девочку, по виду которой никто не мог тогда заподозрить, что однажды, повинуясь непреодолимому порыву, она совершит двойное убийство.
— Почему-то мне кажется, что без вас он бы не справился, — заметил Александр, глядя на Марсильяка, который с отнюдь не французской, а с немецкой какой-то обстоятельностью записывал ответы Владимира Сергеевича и выпытывал у него мельчайшие детали.
— Я тут ни при чем, — отозвалась Амалия. — Это все он, — кивнула она на Билли.
— Только не говорите мне, что без своего друга вы бы не догадались, что именно барышня всему виной.
— Александр, — улыбнулась Амалия, — вы просто прелесть. Но, к сожалению, я всего лишь человек. А как известно, errare humanum est.[93] Лично я была скорее склонна подозревать господина композитора.
— Почему?
— До меня доходили слухи, что графиня будто бы так им увлеклась, что завещала молодому музыканту все свое состояние, — пояснила баронесса. — А деньги — самый весомый мотив для убийства.
— Позвольте-ка, — заинтересовался Александр Корф. — Так ведь маэстро Беренделли предсказал ему, что он получит наследство? Получается, так оно и выйдет, если, конечно, родственники графини не смогут оспорить завещание.
Амалия иронически покосилась на него.
— Я вижу, вы жалеете, что не воспользовались шансом узнать у хироманта свою судьбу, — заметила она.
— Вот уж нет, благодарю покорно, — отрезал Александр. — Один раз мне предсказали, что со мной случится, и с тех пор я предпочитаю оставаться в неведении.
— И что, предсказание было очень неприятным? — удивилась Амалия. Сама она не помнила, чтобы ее муж когда-либо обращался к ясновидцам, ворожеям и прочим знатокам будущего. И вообще, если говорить о тех, кого она знала, барон один из наименее суеверных и внушаемых людей.
Александр несколько замялся с ответом. «Интересно, уж не предсказали ли ему, что я его прикончу?» — мелькнуло в голове у Билли. По натуре спутник Амалии был довольно-таки злопамятен и еще не успел забыть, как барон силой отобрал у него ключи, обошедшись с ним весьма невежливо.
— Нет, — заговорил наконец Александр, — я не могу сказать, что оно было неприятным. И тем не менее я предпочитаю ничего не знать о своем будущем.
Марсильяк к тому времени закончил с Владимиром Сергеевичем и принялся за Митеньку Верховского. Для начала юноша уведомил его, что сотрудничать с полицией считает ниже своего достоинства, но потом после долгих уговоров и увещеваний матери, отца и следователя все же смягчился и согласился ответить на интересующие Марсильяка вопросы.
— Должен заметить, — внезапно промолвил Александр, — что это умно. Очень умно. Не сомневаюсь, идея была ваша, Амалия Константиновна.
— О чем вы? — невинно осведомилась баронесса.
— Обо всей деятельности, которую разводит тут сей господин с французской фамилией, — пояснил барон, безмятежно глядя на нее. — На одни препирательства с младшим Верховским уйдет не меньше получаса. А тем временем господин Соболев успеет обернуться. И я готов спорить на что угодно, именно он доставит сюда нужные вам сведения для продолжения расследования убийства маэстро Беренделли.
Амалия вздохнула и покачала головой. Ей было и приятно, и неприятно, что Александр раскусил ее замысел. Неприятно, потому что она не любила, когда ее намерения становились очевидными для других; приятно — потому что план разгадал человек, который играл когда-то такую большую и важную роль в ее жизни, и ей нравилось, что он по-прежнему и умен, и дальновиден. Потому что баронесса Корф, в девичестве Амалия Тамарина, была особой чрезвычайно разборчивой и не видела решительно ничего хорошего в недалеких мужчинах, равно как и в женщинах, которые связывают с ними жизнь.
— Эмили! — окликнул вдруг ее Билли. — А разве вы еще не знаете, кто… — Американец не закончил вопрос и сделал неопределенный жест рукой.
— Скажем так: я догадываюсь, — отозвалась Амалия. — Но мне нужны доказательства. И, кроме того, есть один момент, который я до сих пор понять не могу.
— Какой же? — осведомился барон.
— То, каким образом мышьяк попал в чашку Беренделли, которую ему подала ваша невеста, — объяснила Амалия. — С одной стороны, я не сомневаюсь, что она не имеет к отравлению маэстро ни малейшего касательства. С другой… — молодая женщина умолкла и посмотрела за окно, сумрак за которым уже редел.
— Если его положила не она, — глубокомысленно заметил Билли, видя, что баронесса не склонна продолжать начатую фразу, — то, значит, его положил кто-то другой.
— Да, но я должна знать, как именно это было сделано, — возразила Амалия. — Иначе все мои доводы ничего не стоят.
Глаза Александра сверкнули.
— Только между нами, — шепнул он, наклонившись к бывшей жене. — Признайтесь, вам очень хотелось бы ее обвинить?
Билли подумал, не будет ли нарушением приличий, если он немедленно сцепится с неприятным офицером, и пришел к выводу, что приличия в данном случае волнуют его меньше всего на свете. Амалия заметила, в каком состоянии находится ее друг, и предостерегающе сжала его локоть.
— Хотите сказать, что я могу быть предвзята? — спросила она, пристально глядя на барона Корфа, и ее глаза сверкнули золотом.
Александр принадлежал к числу тех мужчин, которые не откажутся немного позлить хорошенькую женщину, зная, что в гневе та становится еще краше. Но тут он увидел в золотых глазах смешинки и — чего с ним не случалось уже давно — растерялся.
— В таком случае, сударь, — внезапно объявила Амалия, — идите и спасайте ее от моей предвзятости. Чего же вы ждете?
И, по-прежнему придерживая непредсказуемого Билли за локоть, она двинулась с ним к Евдокии Сергеевне, с которой завязала безнадежно скучный разговор о погоде, о столичных делах, о Москве, которую, как оказалось, баронесса Корф знала очень хорошо, об общих знакомых и различных незнакомцах. А Марсильяк в углу все писал и писал, и груда листков возле него росла на глазах.
«Что за женщина, боже мой, что за женщина!» — подумал, оставшись в одиночестве, Александр Корф.
Прежде его раздражало, что Амалия так не похожа на других. Но, с другой стороны, если бы она была иной, вряд ли он полюбил бы ее. Барон видел ее головокружительную храбрость, видел и ее слабость, ни одна из черт ее характера не была для него тайной, и все же он никак не мог к ней по-настоящему приблизиться, и между ними постоянно оставалась стена недопонимания. Правда, в иные мгновения то была даже не стена, а лишь тонкая, едва различимая грань, но он всегда чувствовал невидимую преграду, которая разделяла их. Александр пытался объяснить ее различием их воспитания, происхождением Амалии, беспокойной кровью ее предков — поляков, немцев, русских, французов, среди которых затесались и крестоносцы, и родичи средневековых королей, и ученые, и красавицы, которые вели весьма предосудительный образ жизни. Все это так тесно перемешалось и переплелось, что невозможно было отделить одно от другого, и разве что Аделаида Станиславовна, мать Амалии, говорила, что у дочери манера вскидывать голову, как у ее прабабушки, очаровательной Амелии, последней из старинного рода Мейссенов, — манера, которая, как утверждали, будто бы пленила самого Наполеона. А от собственной матери Александр нередко слышал фразу: «Ты женился на авантюристке». Она так и не приняла его жену и, даже когда сын развелся с Амалией, никогда не брезговала передавать ему самые неприятные сплетни о бывшей супруге. Например, что второй ее ребенок, которого считают приемным, на самом деле родной ей, что она знается с темными личностями, а потому недалек тот день, когда ее перестанут принимать в свете.
Но Амалия обладала достаточной силой духа, чтобы стоять выше всех сплетен. Она сама выбирала себе друзей, и тех, кого считала друзьями, могла защищать до конца, не слушаясь ни мужа, ни мнения его родни. Она вообще делала что хотела, с невесть откуда взявшейся горечью подумал Александр, ни в чем у него не было на нее влияния. Не то что с Варенькой, которая… Барон поймал оживленный взгляд своей невесты. Ну да, уж не за то ли он выбрал ее, что девушка была полной противоположностью его первой жене? Милая, воспитанная, из хорошей семьи, никаких сюрпризов, никакого духа авантюризма, никаких крестоносцев и бабушек, знавшихся с Наполеоном. И тут же Александр подумал, что все это скучно — да, да, невыносимо, непередаваемо скучно! И что если бы Амалия поманила его только одним пальцем… если бы только намекнула, что не все еще кончено… И ему сделалось жарко, стало не по себе от мысли, что да, он бы бросил милую Вареньку без малейшего зазрения совести, бросил бы все, даже службу при дворе, которой так дорожил.
А Евдокия Сергеевна, от которой не укрылось, как помрачнело лицо Александра, едва он бросил взгляд на свою невесту, победно улыбнулась и продолжила рассказывать баронессе о Павле Петровиче. Судя по лицу собеседницы, хозяин дома нисколько ее не волновал, но, тем не менее, она из вежливости продолжала слушать.
— Конечно, его отец Петр Павлович был прекрасный человек, и мать тоже… Она из старинного рода, очень, знаете ли, хорошего… У них было имение в Калужской губернии. Потом, когда случилась реформа, — Евдокия Сергеевна вздохнула, — имение пришлось продать, ну а тогда, конечно, до этого было еще далеко…
Амалия кивала, рассеянно улыбалась и поглядывала на Марсильяка, который разговаривал с доктором. Венедикт Людовикович был хмур и на вопросы отвечал скупо, почти односложно. Горничная Глаша по указанию хозяйки унесла одну лампу и принесла вместо нее другую, поменьше.
— Свет нынче дорого обходится, — виновато промолвила Анна Владимировна, обращаясь к мужу.
Но Павел Петрович не слышал ее. Откинув голову назад, он дремал на краешке дивана и проснулся только тогда, когда в гостиной появилось новое лицо.
Глава 31 Два
— Как по-вашему, нас скоро отпустят? — спросила Варенька, обращаясь к жениху.
Александр пожал плечами.
— Полагаю, все зависит от господина Соболева, — уронил он. — Впрочем, скорее всего, решать будет баронесса Корф.
— Неужели? — неприязненно проговорила Варенька. — За окнами уже светает. Я ответила на все вопросы господина следователя. И вообще… — Тут она заметила, что Александр не слушает ее, и не на шутку обиделась.
Меж тем Марсильяк вполголоса разговаривал с вернувшемся Соболевым. К ним подошла баронесса Корф.
— Итак, что вам удалось узнать? — спросила она.
— Боюсь, не слишком много, сударыня, — извиняющимся тоном ответил помощник следователя. — Сами понимаете, время не слишком удобное для раздобывания сведений… Из тех двух человек, которых вы изволили назвать, я успел навести справки лишь по одной персоне.
Марсильяк вопросительно поглядел на Амалию.
— Этого пока хватит, — сказала она. — Про вторую я сама уже все узнала. Вернее, почти все, но восстановить события не составит труда.
— Я так и думал, что вы неспроста беседовали с тайной советницей, — заметил Марсильяк.
— Разумеется, — усмехнулась Амалия. — Достаточно сделать вид, что вы совершенно равнодушны к сплетням, и вас не преминут ознакомить со всем, что происходило значительного в частной жизни знакомых в последние сорок пять лет. Правда, Евдокия Сергеевна утверждает, что ей всего лишь тридцать восемь, но для столь юной особы она непозволительно много помнит.
Марсильяк загадочно посмотрел на молодую женщину.
— А вы язва, — внезапно сказал он. — Раньше вы такой не были, госпожа баронесса.
— Просто я устала, дорогой друг, — ответила молодая женщина просто. — И больше всего хочу сейчас покончить с этим утомительным делом и вернуться к себе. А потом я уеду в имение, где сейчас живут дети, и все будет хорошо. — Она обернулась к Соболеву. — Итак, я слушаю, что вам удалось выяснить.
— Кажется, нас ожидают новые разоблачения, — вздохнул композитор, глядя на Марсильяка, Амалию и Соболева, который достал из кармана какую-то сложенную бумажку, развернул ее и принялся вполголоса зачитывать. — Полагаю, сейчас мы наконец-то узнаем, кто убил Беренделли и за что. Евдокия Сергеевна! — Он перегнулся через подлокотник к тайной советнице, которая от неожиданности чуть не выронила веер. — Как вы думаете, кто же он?
— Какие глупости вас интересуют, молодой человек, — довольно кисло ответила дама. Но композитор уже обращался к другой:
— Варвара Григорьевна! Как вы думаете, кому пришла в голову поистине убийственная мысль прикончить господина хироманта?
— Анне Владимировне, — тотчас ответил за Вареньку барон. — Если бы это был роман, следовало бы думать на самое неожиданное лицо. Кто подходит на такую роль лучше, чем хозяйка?
— О да! — весьма иронически откликнулся композитор. — Она наверняка замышляла злодейство между подсчетом свечных огарков и вязаньем теплых носков.
— О, господа, какие вы нехорошие! — воскликнула Варенька. — Нет, только не моя тетя. Скорее уж… — девушка ненадолго задумалась, — скорее уж господин доктор. У него такой вид, словно он хранит невероятную тайну!
Бедный Венедикт Людовикович вытаращил глаза и бурно закашлялся.
— Я читал в книге, что убийца должен быть личностью необыкновенной, потому что противопоставляет себя обществу, — вступил в беседу Митенька, с вызовом поправив очки. — Боюсь, однако, что никто из присутствующих не является таковой.
— Кроме вас, конечно, — любезно заметила баронесса, подходя вместе с американским кузеном. — Все, кто невысоко судит о человеческом роде, всегда почему-то выносит себя за скобки… Садись, Билли.
Билли поискал взглядом Корфа, подумал и сел на диван так, чтобы находиться между ним и Амалией. Соболев отошел к дверям, Марсильяк вышел на середину комнаты и остановился возле рояля.
— Дамы и господа, минуточку внимания!
— Минуточку, пожалуй, можно, — проворчал Иван Андреевич, косясь на часы, — потому что… ааах! — Он зевнул, прикрывая рот рукой. — Вот канальство… пришли, называется, на вечер, повеселиться… — И прежде чем Евдокия Сергеевна успела одернуть его, чтобы он не говорил так громко, супруг ее прислонился головой к спинке и задремал.
— Мы вас слушаем! — объявил Владимир Сергеевич. — Признаться, то, как скоро вы сумели отыскать убийцу моего брата, заслуживает уважения… Так что мы ждем, что еще вы нам скажете.
Марсильяк обвел взглядом присутствующих. Варенька затаила дыхание.
— Прежде всего, дамы и господа, позвольте мне напомнить вам, как все начиналось. И прошу поправить меня, если я в чем-то окажусь не прав. Итак, как вам всем известно, почтеннейшая Анна Владимировна, здесь присутствующая, и ее супруг решили устроить вечер в честь своего переезда в столицу. Приглашены на него были только близкие и достаточно хорошо знакомые люди. Во-первых, племянница Павла Петровича Варвара Григорьевна, а также ее жених; во-вторых, Иван Андреевич Лакунин, начальник Павла Петровича, и его супруга; в-третьих, Венедикт Людовикович, доктор; в-четвертых, графиня Толстая с композитором Преображенским; затем Владимир Сергеевич Городецкий, бывший сослуживец хозяина, и его брат Константин Сергеевич, известный адвокат; наконец, Амалия Константиновна и ее родственник. Это не считая хозяина дома, уже названного мной Павла Петровича Верховского, и его семьи — жены и сына. Помимо прочих, на вечер был приглашен особый гость — маэстро Пьерлуиджи Беренделли, знаменитый хиромант, который гастролировал в нашей прекрасной столице. За ужином он пообещал гостям, что погадает любому желающему и прочтет по ладони не только его прошлое, но и будущее. Всего свою судьбу захотели узнать восемь человек — графиня Толстая, Евдокия Сергеевна, Варвара Мезенцева, хозяйка дома, Константин Сергеевич Городецкий, родственник госпожи баронессы, тайный советник Лакунин (здесь Иван Андреевич особенно сладко всхрапнул, и супруга дернула его за рукав) и композитор Преображенский. Кроме того, господин хиромант успел также посмотреть ладони еще двух человек, которые, однако же, отказались от его услуг, — госпожи баронессы Корф и Дмитрия Павловича Верховского.
— А занятно было бы, если бы это была она, — тихонько проговорила, как бы размышляя вслух, Варенька. Ноздри ее воинственно затрепетали.
— О чем вы? — довольно холодно осведомился ее жених.
— Я хочу сказать, что она вполне могла убить бедного маэстро Беренделли, — пояснила Варенька, глядя на него безмятежным взором. — То есть я имею в виду…
— Нет, — отрезал Александр.
— Вы так в ней уверены? — Своей обострившейся от ревности женской интуицией Варенька чувствовала, что разговор не приведет ни к чему хорошему, но какая-то непреодолимая сила все равно влекла ее вперед. — Вы могли бы поручиться, что она никогда никого не убивала?
— Я мог бы поручиться, что вы читаете слишком много романов, — ледяным тоном ответил барон. — Плохих романов.
Корф отвернулся. Его отчего-то разозлило, что Вареньке вздумалось завести разговор о его бывшей жене, да еще в таком недопустимом тоне. Ведь сам он прекрасно знал, что Амалия не заслужила подобных подозрений и что жизнь ее гораздо сложнее, чем могла себе вообразить глупенькая девочка.
— Вы хотите что-то сказать, Александр Михайлович? — обратился к барону Марсильяк.
— Нет, — отозвался тот. — Продолжайте, прошу вас.
Марсильяк вздохнул. Он вовсе не был убежден в правильности версии, которую выдвинула Амалия. Хотя, с другой стороны, она никогда не делала поспешных выводов, и если на сей раз была так уверена, то ее версию следовало по меньшей мере принять в соображение.
— Дальнейшее, дамы и господа, вам известно не хуже моего, — продолжал Аполлинарий Евграфович. — Маэстро Беренделли объявляет, что среди присутствующих находится убийца. Самому маэстро внезапно становится нехорошо, и доктор де Молине провожает его в малую гостиную. Однако общество не расходится. Дмитрий Павлович приносит ноты, и господин Преображенский садится за рояль — аккомпанировать мадемуазель Мезенцевой. Она поет, и во время ее пения комнату на короткое время по разным причинам покидают несколько человек. Вечер подходит к концу, все собираются расходиться, но когда вспоминают о хироманте и приходят к нему, оказывается, что он лежит бездыханный. Орудие убийства — кинжал из коллекции господина Верховского. Убив Беренделли, убийца вытер испачканные кровью руки чужим платком и позже выбросил его из окна, рассчитывая, что его никто не найдет. В этом, как и во многом другом, он заблуждался.
Так как непреложно установлено, что господин Беренделли был жив, когда доктор оставил его, наше внимание естественным образом переключается на тех, кто выходил из большой гостиной в то время, когда пела мадемуазель Мезенцева. Нам известно, что хозяйка дома выходила дважды, но всякий раз почти сразу возвращалась. Хозяин отлучался принять лекарство, свои причины были и у Дмитрия Павловича, и у Ивана Андреевича, равно как у графини Толстой, господина композитора и Владимира Сергеевича. Стало быть, убийцу надо искать среди них. Впрочем, если считать, что убийство было совершено с целью не допустить разоблачения, и если Беренделли прочел по чьей-то ладони его постыдное прошлое, то круг поисков несколько сужается.
Итак, у нас остаются Анна Владимировна, Павел Петрович, их сын Дмитрий Павлович, который к тому же покидал комнату два раза, Иван Андреевич, графиня Толстая и господин Преображенский. Анна Владимировна исключается сразу, потому что она не отходила далее дверей, и тому есть свидетели. Далее, однако, нам приходится лишь теряться в догадках. Можно вообразить какие угодно причины, которые могли толкнуть любого из названных людей на убийство. Что, если самоубийство художника Сорокина, знакомого графини Толстой, на самом деле было убийством? Что, если Дмитрий Павлович состоит в кружке нигилистов, который ставит целью свержение существующего строя?
— Однако! — пробормотал Павел Петрович. — Надеюсь, вы это не всерьез? Я готов поручиться, что мой сын совершенно благонадежен!
— Напомню вам, что убийца студента Иванова тоже был с виду совершенно благонадежен,[94] — отозвался неутомимый Марсильяк. — Но не будем спорить, мы в состоянии нафантазировать все, что угодно, по поводу наших подозреваемых. Но нам нужны не фантазии, а истина, поисками которой мы и занимаемся. И тут на помощь приходит одна существенная деталь, на первый взгляд малозаметная. Дело в том, что судя по высоте, на которой на стене располагалось орудие убийства, его мог снять оттуда лишь достаточно высокий человек. Иными словами, у нас отпадают Павел Петрович, Иван Андреевич, графиня Толстая, равно как и господин Преображенский. А остается лишь Дмитрий Павлович Верховский.
Анна Владимировна тихо ахнула и прижала руку к сердцу. Евдокия Сергеевна открыла рот, да так и не закрыла его.
— Дмитрий, неужели ты, — простонал Павел Петрович, не сумев договорить фразу до конца.
Митеньке ужасно хотелось сказать что-нибудь взрослое, но он ничего не мог придумать. Не признаваться же в убийстве, которого не совершал! С другой стороны, оправдываться перед полицейским чином, угнетателем народа, реакционером и наверняка негодяем, — не слишком ли много чести?
— Вы серьезно говорите? — ужаснулась Варенька, с трепетом глядя на Марсильяка. — Вы действительно подозреваете моего кузена? Но это же нелепо!
— Нет, сударь, клянусь вам, он не мог — пролепетала Анна Владимировна. — Никогда, никогда!
— Мама, я не желаю, чтобы вы унижались! — выкрикнул юноша, бледный от злости. — Разве вы не видите, что ему нравится измываться над нами?
— Ничуть, — очень просто ответил Марсильяк. — Потому что я сразу же понял, что пришел к неверному выводу. Да, вы единственный из подозреваемых, кто легко мог снять со стены кинжал и всадить его в сердце Беренделли. Но вы не делали этого, потому что на самом деле там был другой человек.
— Пожарный! — пробормотала Евдокия Сергеевна. — Ну конечно же!
— Человек, — очень спокойно продолжал Марсильяк, не обращая на нее ни малейшего внимания, — который мог очень многое потерять, если бы хиромант разоблачил его. Ведь речь шла не только о его репутации, — а она всем казалась безупречной, — речь шла об огромных деньгах, и как раз деньги он не хотел упускать. Именно поэтому маэстро Беренделли пришлось умереть.
— Имя! Имя, сударь! — потребовала Евдокия Сергеевна. И стиснула веер так, что он с жалобным треском сломался, отчего Иван Андреевич испуганно всхрапнул и открыл глаза.
— Сейчас вы его услышите, — отвечал Марсильяк. — Это был человек, который выходил из гостиной; человек подходящего роста, который мог снять со стены кинжал, и при том достаточно сильный, чтобы убить жертву с одного удара. Иными словами, это был Владимир Сергеевич Городецкий.
Варенька ахнула. Митенька застыл на месте, не зная, верить ли своим ушам. Анна Владимировна роняла бессвязные восклицания. Билли Пуля покосился на невозмутимое лицо Амалии, перевел взгляд на ее бывшего мужа, приосанился и поправил что-то под сюртуком.
Александр смотрел на помощника адвоката. Едва следователь назвал его имя, в лице Владимира Сергеевича что-то дрогнуло. Едва заметно, потому что оно тотчас же приобрело прежнее высокомерно-ироническое выражение, но барон Корф убедился, что Амалия права. Это был Городецкий, все всяких сомнений.
— Потрясающе, сударь! — проговорил помощник адвоката своим глубоким голосом. — Однако должен вам напомнить, что я выходил лишь в столовую, искать портсигар, так что никак не мог убить вашего итальянца. Кроме того, позвольте напомнить вам, что он мне не гадал!
— Да, именно так, — покладисто согласился Марсильяк. — Зато он гадал вашему брату Константину Сергеевичу, с которым, судя по всему, у вас общие дела.
— И что из того? — выкрикнул Владимир Сергеевич.
— А то, что дела бывают разные, — тихо уронил следователь и развернул бумажку, которую ему принес Соболев. — Прежде вы работали в страховом обществе «Надежда», верно?
— Да, и что с того? — повторил вопрос Городецкий. — Это не запрещено законом!
— Два года назад, — ровным голосом продолжил Марсильяк, не отрывая взгляда от Владимира Сергеевича, — некто Аносов застраховал свою жену на большую сумму, и как раз в «Надежде». Через два месяца она умерла при странных обстоятельствах. Подозревали убийство, но у мужа оказалось крепкое алиби. Страховое общество, однако, не горело желанием выплачивать страховую премию, и тогда за дело взялись вы. За гонорар в три тысячи рублей, тогда как сумма страховки была шесть тысяч. За что Аносов заплатил вам половину?
— Как за что? — взвился Владимир Сергеевич. — За работу, которую мы проделали! Вы не поверите, до чего прижимистый народ в этом обществе. Стоило поработать с ними, чтобы понять это. Сплошь жулики, обманщики, надувалы!
— Однако Аносов жил в меблированных комнатах, — зло сказал следователь, и его глаза угрожающе сверкнули. — Три тысячи — не слишком ли много за помощь? Тем более что ему, судя по всему, все равно бы отдали деньги.
— Они могли тянуть с выплатой несколько лет, — отозвался Владимир Сергеевич. — Неужели вы не понимаете? Лучше получить хоть и меньше, но сразу, а не больше, но потом!
— Допустим, но я не согласен с вами, — усмехнулся Марсильяк. — Однако идем дальше. Девятнадцать месяцев назад некто Любомирская страхует жизнь своей падчерицы, опекуншей коей является, и опять-таки в «Надежде». Вскоре падчерица умирает. Следствие не проводится, потому что девочке не осталось в наследство ничего, кроме долгов. Однако «Надежда» выплачивает безутешной опекунше двенадцать тысяч рублей, половина из которых идет вам.
— Я протестую! — Взвизгнул помощник адвоката. Он вскочил с места, скулы его сделались багровыми. — Мне известно, откуда вы взяли сведения — из записной книжки моего покойного брата, которую забрала вот она! — он движением подбородка указал на баронессу Корф, которая держалась еще невозмутимее, чем обычно. — И вы полагаете, ваши грязные инсинуации чего-то стоят? Любомирская заключила с нами договор. А когда получила страховку, половину ее отдала нам. Что тут незаконного?
— Допустим, ничего, — бросил Марсильяк. — А как же быть с Солодовым, который застраховал своего отца, на сей раз не в «Надежде», а в «Российском страховом обществе», и опять же отдал вам половину страховки? С Перелыгиным, который женился на даме на восемнадцать лет старше себя и который тоже успел застраховать жизнь супруги, прежде чем ее нашли мертвой в собственной постели? С Давыдовой, которая убедила влюбленного в нее бедного студента застраховаться в ее пользу? Какая жалость — не прошло и месяца, как юношу убили в пьяной драке! А Никульский, который застраховал свою молодую жену? Она утонула, когда супруги катались на лодке, но ее родители клялись, что дочь прекрасно плавала и не могла так просто захлебнуться. А некто Рябушкина, которая убедила застраховаться всю семью — отца, мать, бабушку, дедушку, сестру? И вскоре вдруг случился пожар, во время которого спаслась она одна! И страховое общество, та самая «Надежда», должно было выплатить ей головокружительную сумму в двадцать четыре тысячи рублей, половина от которой опять же досталась вам и вашему брату. Всегда половина, везде половина. Почему все эти люди приходили именно к вам, а не к другим адвокатам, каких сотни, тысячи в нашей столице?
Глава 32 Убийцы
— Я протестую! — вскинулся Владимир Сергеевич. — Вы не имеете права! — Но лицо его было бледно уже мертвенной бледностью, а голос хрипел и звучал фальшиво.
Евдокия Сергеевна внимательно взглянула на помощника адвоката и на всякий случай придвинулась поближе к мужу.
— Представьте себе, имею, — возразил Марсильяк. — Должен вас поздравить, сударь. В каком-то смысле афера была гениальная — не зря же покойный хиромант назвал вашего брата гением (Владимир Сергеевич вздрогнул, как от удара). Суть ее, впрочем, очень проста. Когда вас выгнали из «Надежды» за лень и невежество, вы затаили злобу и решили поквитаться. Вдвоем с братом-адвокатом вы разработали хитроумный план. В чем он заключался, многие уже догадались: вы находили людей, которые за внушительную сумму были не прочь избавиться от своих близких. Делалось все под видом страхования жизни. В случае успеха человек, в чью пользу заключалась страховка, обязывался выплатить вам половину денег. Затем он заключал договор со страховым обществом. Через несколько месяцев вы назначали дату, и тот человек отправлялся куда-нибудь подальше от жертвы — туда, где бы его все видели и могли в случае чего засвидетельствовать, что он не имеет отношения к ее гибели. Предосторожность была не лишней, поскольку крупные страховки проверяются особенно тщательно. Затем вы или ваш брат, как я полагаю, убивали жертву. Страховое общество, которому, разумеется, не хотелось расставаться с кругленькой суммой, начинало тянуть время и проверять обстоятельства смерти застрахованного лица (Владимир Сергеевич с ненавистью смотрел на следователя). Вы подавали на него в суд, выигрывали дело, забирали половину денег, а вторую, как было условлено, отдавали вашему сообщнику по убийству. Для собственного спокойствия, чтобы он не вздумал обмануть вас, вы, скорее всего, заставляли его написать бумагу с признанием в убийстве, которую после выплаты денег ему возвращали.
— Вы и это знаете? — с ужасом прошептал Владимир Сергеевич, окончательно потеряв власть над собой.
— Представьте себе, — ответил Марсильяк, не став уточнять, что о наличии подобной бумаги догадалась Амалия, которая была убеждена, что такие законченные мерзавцы, как Городецкие, не стали бы ничего оставлять на произвол судьбы. — С точки зрения закона вы считали себя неуязвимыми. Таковыми, собственно, были, но до тех пор, пока из любопытства не пришли на вечер, который устроил ваш бывший сослуживец, Павел Петрович Верховский. Ваш брат в числе прочих пошел к хироманту спросить о своей судьбе. Могу себе представить его ужас, когда Беренделли прочитал по его ладони, что он мошенник и убийца, что на его совести жизнь нескольких людей, которые не сделали ему ничего плохого. Все помнят, с каким лицом Константин Сергеевич вышел от маэстро Беренделли. Ваш брат сказал о неприятном предсказании — мол, он больше не выиграет ни одного процесса, но на самом деле его мучило вовсе не это, а то, что его тайна была раскрыта. Разумеется, он обо всем рассказал вам, и вы стали думать, что делать. Стоит напомнить, что ваш страх перед разоблачением обратился в настоящую панику, когда хиромант упомянул о том, что среди присутствующих находится убийца, безжалостный и хладнокровный. Но то, что маэстро сделалось дурно, облегчило вам задачу, и вы решили, не мешкая, убить его, чтобы он не мог выдать вас. Желая сбить с толку будущее следствие, вы оставили Константина в гостиной, чтобы все его видели, а сами отправились туда, где отдыхал хиромант. Вы пошли в малую гостиную и убили беззащитного человека, убили обдуманно и хладнокровно. Заметив, что испачкались кровью, вы вытерли руки платком мадемуазель Мезенцевой и вернулись к брату. По пути вас видела Анна Владимировна, но вы сумели ее убедить, что ходили в столовую в поисках портсигара. Затем, когда убийство обнаружилось, вы решили, что платок может вас выдать. Полагаю, вы передали окровавленную тряпицу брату, который выбросил ее из окна курительной комнаты, — некоторые гости уверяют, что в то время сами вы не покидали большую гостиную. По вашему мнению, все шло прекрасно и никто не мог вас заподозрить. Когда господин Корф поссорился с Дмитрием Павловичем, вы ушли со всеми в сад, шепнув брату, чтобы он забрал из столовой портсигар, который вы и в самом деле там оставили во время ужина. Что было дальше, уже известно: Антуанетта Беренделли убила графиню Толстую и вашего брата. В карманах его одежды был найден тот самый портсигар, а также записная книжка. Суммы, указанные в ней, сразу же возбудили интерес. Вы побоялись привлекать внимание и не стали настаивать на возвращении книжки. Конечно же, теперь, когда ваши махинации раскрыты, страховые общества возобновят следствие, а лица, виновные в сговоре, будут преданы суду. Что же до вас…
— Что же до меня, — довольно нагло перебил Владимир Сергеевич, — то я заявляю: все это чушь! Вы все выдумали! У вас нет никаких доказательств!
— Я полагаю, доказательства мы найдем на вашей одежде, — отозвался Марсильяк. — К примеру, в кармане, куда вы засунули платок после того, как вытерли им руки, наверняка обнаружатся крошечные пятнышки крови. А теперь, будьте так любезны, пройдите со мной, вы арестованы по обвинению в убийстве. Соболев!
Но оказалось, что Марсильяк недооценил помощника адвоката. С яростью, помноженной на отчаяние от того, что его разоблачили, Владимир Сергеевич рванулся к двери. Он отшвырнул Соболева, однако тут на его пути возник Билли Мэллоуэн с револьвером в руке.
— Стоять! — крикнул Марсильяк. — Вы все равно никуда не уйдете, Городецкий. Так что оставьте глупости!
И тогда произошло то, что Евдокия Сергеевна потом еще долго вспоминала с содроганием. А именно — бывший безжалостный убийца сдавленно всхлипнул, обхватил виски руками и в истерике повалился на ковер.
— Я не виноват: — стонал он, — это все Константин… Он меня заставил… Он!
Марсильяк тронул его за плечо и заставил подняться.
— Идемте, Владимир Сергеевич. Простите, дамы и господа, мне надо отвезти его… Соболев, следите за ним, чтобы он не вздумал сбежать. — Затем следователь обернулся к гостям: — Прошу вас не расходиться, мне еще надо будет уточнить кое-какие детали… Соболев, с вами все в порядке?
— Так точно, сударь, — ответил помощник, с тоской косясь на тяжелую лампу, которую он опрокинул в падении. Он почесал голову и вздохнул. — Шагайте, сударь! — обратился он к Городецкому.
И все сидели в молчании, пока внизу, закрываясь за тремя мужчинами, не хлопнула входная дверь.
— Я бы никогда не подумала… — начала Анна Владимировна в смятении.
— А я всегда думал именно на него, — объявил Иван Андреевич.
— И я тоже! — горячо поддержала его супруга. Она хотела раскрыть веер, но вовремя вспомнила, что он сломан, и незаметно убрала его.
Митенька с отвращением поглядел на ее самодовольное лицо и обратился к баронессе Корф, которая занимала его в ту минуту еще больше, чем всегда.
— Ни за что не поверю, что полицейский мог в одиночку обо всем догадаться. Ведь именно вы ему подсказали, не правда ли?
— Что? — довольно равнодушно отозвалась Амалия.
— В самом деле! — воскликнул доктор. — Когда вы поняли, что это он?
— Господа, я не Беренделли, — с улыбкой отвечала молодая женщина, — и не обладаю даром предвидения. Просто кое-что в словах адвоката заставило меня насторожиться.
— Он что, проговорился? — с любопытством спросил Александр Корф.
— Не совсем, — отозвалась Амалия. — Дело в том, что господин адвокат совершенно осознанно мне солгал. Когда я спросила его, что именно ему сказал Беренделли, он начал говорить всякие глупости и среди прочего признался, будто хиромант предсказал ему, что он женится на брюнетке, а не на блондинке.
— И что же из того? — высокомерно осведомилась Варенька.
— А то, — отвечала Амалия, — что хиромантия, может быть, и точная наука, но не настолько, чтобы на ладони можно было увидеть цвет волос будущей жены. Так что я поняла, что господин адвокат сказал мне неправду. Вопрос в том, ради чего он так поступил. Ну а когда мы нашли платок, я окончательно убедилась, что убийца — мужчина.
— Почему? — спросила Анна Владимировна, глядя на нее добрыми, влажными, полными любопытства глазами.
— Потому что в тот момент, когда убийца подобрал платок, он еще не мог знать, что совершит убийство, — пояснила Амалия. — Ведь господин барон порезал руку в самом начале вечера, и тогда же его невеста в спешке уронила платок, пытаясь его перевязать. Это было еще до того, как Беренделли начал гадать, и до того, как он во всеуслышание объявил о том, что среди присутствующих находится убийца. Вопрос: кто может подобрать платок хорошенькой девушки? (Варенька покраснела.) Уж точно не другая женщина, а мужчина. Точнее, нестарый мужчина, достаточно легкомысленный для того, чтобы сохранить у себя такую вещь. Помнится, мой кузен сильно удивился, когда я спросила у одного из подозреваемых, нравится ему мадемуазель Мезенцева или нет. Ну а потом, когда я поняла, что убийца высокого роста, я окончательно убедилась, что мои догадки верны. Оставалось лишь понять мотив. Что за убийство мог совершить Владимир Сергеевич Городецкий либо его брат? Они никогда не дрались на дуэли и вроде бы не были замешаны ни в чем предосудительном. Записная книжка убитого подсказала мне ответ, потому что там, где присутствуют большие деньги, можно ждать чего угодно.
— По-вашему, все преступления совершаются ради денег? — Варенька прекрасно понимала, что ей не удастся уязвить Амалию, но девушке очень этого хотелось, и ради мига собственного торжества, пусть даже эфемерного, она была готова на все, что угодно.
— Не все, — с улыбкой отвечала Амалия. — Но очень многие.
Тут вмешалась Анна Владимировна. Хозяйка дома объявила, что все закончилось, и слава богу, что закончилось именно так, и велела Глаше принести гостям кофе и бисквиты. Присутствующие заметно приободрились. Преображенский отошел к роялю и стал тихонько наигрывать какую-то мелодию, то и дело поглядывая на Вареньку, которая дулась и кусала губы. Амалия подошла к Билли и тихо заговорила с ним о чем-то. Какое-то время Венедикт Людовикович колебался, но под конец все же решился и подошел к молодой женщине.
— Госпожа баронесса… — Он кашлянул. — Я должен выразить вам мою благодарность, что вы… что вы… — Медик запнулся. — Что вы не стали предавать огласке мое прошлое, хоть и имели на то полное право. И… Сударыня, вы и сами не знаете, что сделали для меня!
— Полно, сударь, полно, — улыбнулась Амалия. — Я не сделала ничего особенного. Просто вы и ваши myst?res du pass?[95] сбили меня на мгновение с толку. А я не люблю, когда меня сбивают с толку. — Она вновь улыбнулась доктору и обернулась к Билли, который, как обычно, чрезвычайно внимательно слушал все, что говорила баронесса.
— Поразительный вечер! — восхитилась в нескольких шагах от них Евдокия Сергеевна. — Уверена, что еще долго не забуду его!
— Я тоже, — довольно сдержанно поддержал ее Иван Андреевич. Что ни говори, а ему было неприятно, ведь правда о его маленькой интрижке всплыла наружу. Однако Евдокия Сергеевна ничего не заметила.
— Удивительное приключение! Мы словно стали героями захватывающего романа!
— А роман стоил того, чтобы быть прочитанным? — с иронией осведомился барон Корф.
— Конечно же! — воскликнула тайная советница. — Теперь я точно знаю, что нельзя доверять страховым компаниям. И никто меня не убедит в обратном!
Мужчины обменялись взглядами, в которых сквозила некоторая растерянность. Что верно, то верно, женскую логику еще никому постичь не удалось. Исключая, конечно, самих женщин.
Глаша внесла поднос с чашками кофе и тарелочками, на которых лежал десерт. Иван Андреевич съел несколько пирожных и приободрился. Положительно, жизнь чертовски хороша! А ведь трое из числа тех, кто всего несколько часов тому назад сидел за одним с ним столом, уже никогда не будут лакомиться пирожными. Подумав так, он проглотил еще одно безе и выпил большую чашку кофе. Евдокия Сергеевна объявила, что не любит сладкого, и тотчас же, как коршун, набросилась на угощение.
— Я так волновалась, так волновалась! — сказала она в оправдание своего непостоянства.
Доктор поглядел на часы. Решив, что теперь не имеет значения, когда вернется он домой — в пятом часу утра или еще позже, — он уселся на диван.
— А я вам говорю, это очень опасно! — упрямо сказал Билли Амалии. — Что, если ваш план даст осечку?
— Не даст, — коротко ответила баронесса.
— Но я не уверен, что смогу…
— Сможешь. Потому что иначе мы никак не докажем… — Она оборвала себя и улыбнулась подошедшему Митеньке.
Юноша хотел сказать баронессе массу важных вещей. Во-первых, он собирался скрепя сердце похвалить того типа в очках, полицейского Марсильяка, который, судя по всему, приходится баронессе давним знакомым. Во-вторых, Митеньке очень хотелось, чтобы Билли куда-нибудь отлучился, а он без помех сумел бы поговорить с Амалией Константиновной о каких-нибудь высоких материях. Однако он сумел выдавить из себя лишь то, что его семья всегда будет рада видеть у себя баронессу и ее кузена («чтоб ему пусто было», прибавил про себя Митенька). В конце своей речи юноша чихнул и поправил очки.
Павел Петрович обсуждал с Иваном Андреевичем достоинства различных сигар, Анна Владимировна скользила среди гостей, предлагая кофе, сахар и пирожные, и одновременно успела приказать Глаше потушить в доме лишние лампы. Никита лениво перебирал клавиши и размышлял о том, какой чудный рояль он купит, когда получит наследство графини. Евдокия Сергеевна вцепилась в доктора, требуя немедленно объяснить ей, отчего у нее по утрам болит шея, и, вообще, можно ли считать здоровым петербургский климат. Варенька равнодушно оглянулась на нее и отвела глаза. Она еще не подозревала, что молодость однажды кончается и что когда-нибудь, спустя целую вечность, она сама, быть может, станет такой же, как остролицая тайная советница, сплетницей, занудной, старой и склочной…
Амалия вздохнула.
— Что-то я устала, — пожаловалась она Билли. — Принеси мне кофе, пожалуйста.
В глубине души Митенька возликовал. Он уже как раз приготовился сказать что-нибудь значительное, но тут ему помешал Александр Корф, задавший несколько странный вопрос:
— Чего мы ждем?
— Простите? — подняла брови баронесса.
— Почему мы должны ждать господина следователя? — подала голос Варенька, угадавшая смысл вопроса жениха. — Он велел нам не расходиться. Зачем? Разве дело не раскрыто?
— Нет, — коротко откликнулась Амалия.
Павел Петрович прервал свой разговор о сигарах и с неудовольствием обернулся. Мелодия резко оборвалась под пальцами композитора. Билли принес Амалии чашку кофе, и к ней сразу же подошла Анна Владимировна.
— Не угодно ли пирожных? Или, может быть, сахару?
— Да, конечно, — рассеянно ответила Амалия.
— Мы хотели бы получить объяснения, — подал голос Преображенский. — Разве неизвестно, кто убил графиню Элен и адвоката Городецкого? И разве с убийством Беренделли не все понятно? Тогда в чем же дело?
Амалия отпила из чашки и поставила ее на низкий столик.
— Вы, кажется, забываете, — тихо напомнила она, — что маэстро Беренделли пытались убить дважды. До того как Владимир Сергеевич зарезал его, хиромант был отравлен. И долг следствия — понять, кто это сделал.
— Но разве не Владимир Сергеевич? — нерешительно спросила Варенька. — Я ничего не понимаю…
— Нет, — покачала головой Амалия. — Владимир Сергеевич не из тех людей, которые носят при себе мышьяк для того, чтобы угостить им соседа по столу. Как я уже говорила, отравитель и собственно убийца — два совершенно разных человека.
— Ах, как интересно! — воскликнула Евдокия Сергеевна. — И вам известно, кто является отравителем?
— Думаю, да, — медленно произнесла Амалия. — Мне кажется…
Все с нетерпением ожидали продолжения ее слов, но его не последовало. Потому что баронесса Корф поднесла руку к груди, покачнулась и с каким-то сдавленным стоном опустилась на ковер.
Глава 33 Один
Евдокия Сергеевна пронзительно взвизгнула. Никита вскочил из-за рояля.
— Амалия Константиновна! — Митенька был уже возле потерявшей сознание женщины. — Боже мой! Венедикт Людовикович, сделайте что-нибудь! Мне кажется… мне кажется, она не дышит!
Но прежде чем доктор успел подойти к Амалии, возле нее оказался Александр Корф. Он оттолкнул Митеньку так, что тот не устоял на ногах и отлетел к стене.
— Амалия! — Барон встряхнул молодую женщину. — Что же это такое… Амалия, пожалуйста, не надо пугать нас! Амалия… — Его губы кривились, лицо утратило былую непроницаемость. Он и сам не понимал, что говорил. Безжизненное тело баронессы обмякло на его руках. — Доктора! — закричал Александр так, что Глаша шарахнулась, а в рамах задрожали стекла. — Доктора, скорее! Мне кажется…
Евдокия Сергеевна стояла, дрожа всем телом.
— Чашка, — прошептала она.
— Что? — барон Корф поднял голову.
Не смея глядеть ему в лицо, Евдокия Сергеевна вытянула палец, указывая на чашку на столике, из которой пила Амалия.
— Чашка… Она пила кофе.
— Неужели опять начинается? — пролепетала Варенька, теряя голову. — Невозможно, невероятно! Да что ж такое…
Александр перенес Амалию на диван, доктор щупал ее пульс и никак не мог найти. У него в голове не укладывалось: вот только что она говорила с ними — и вдруг…
— Амалия, пожалуйста! — Александр уже совершенно не владел собой. — Не смей умирать! Я люблю тебя, слышишь? Я… — он хотел продолжить и не мог. По его щекам текли слезы. — Я люблю тебя! Только не умирай, только не умирай!
Митенька поглядел на лицо молодой женщины, казавшееся ему смертельно бледным, покосился на невозмутимого Билли, который стоял у окна, скрестив руки на груди, и сурово кашлянул.
— Между прочим, — пробормотал юноша, — это он принес чашку.
— Что? — вырвалось у Александра.
— Кофе принес вот он, — объявил Митенька, указывая на американского кузена. — Больше никто к ней не прикасался.
Евдокия Сергеевна ахнула и растопырила руки, словно хотела защитить мужа от убийцы, который стоял слишком близко от них. Анна Владимировна застыла на месте.
— Вот так номер! — вырвалось у композитора. Он не верил своим глазам.
И тут тишину прорезал заливистый женский смех. Услышав его, Варенька вздрогнула, и краска начала медленно подниматься по ее щекам.
— Но как же…
Она не смогла закончить фразу, потому что Амалия, неожиданно воскресшая из мертвых, спокойно высвободила руку, которую держал доктор, и села на диване, с вызовом глядя на присутствующих.
— Сударыня, вы, — забормотал Павел Петрович. — Простите, что такое только что случилось?
— Фарс, — ответила Амалия, весело блестя глазами. — Комедия. Или, если угодно, трагедия. — Она мельком поглядела на бывшего мужа и крепко сжала его руку. — Простите, Александр. Я никогда не думала, что вы будете так переживать из-за меня.
Он хотел потребовать объяснений, возмутиться, но Амалия стиснула его руку еще крепче, переплетя свои пальцы с его пальцами, и он замер. Слезы еще катились по его щекам.
— Амалия, я… — барон не смог продолжать и уткнулся лицом в ее платье.
— Ну, будет, будет, — мягко сказала она, погладив его по голове. — Все хорошо, со мной ничего не случилось. Слава богу, у меня большой опыт общения с отравителями, — с вызовом добавила баронесса. — И я не собиралась ничего пить или есть в сем богоугодном доме!
— Так вы… — прошептал Никита. Он начал понимать.
— О да, я разыграла маленький спектакль, чтобы вывести отравителя на чистую воду, — отозвалась Амалия. Глаза ее блестели, на губах блуждала победная улыбка. — И, должна признаться, мне это удалось. Просто мне хотелось взглянуть на выражение лица одного человека… и я увидела именно то, что ожидала увидеть. Итак, Билли?
Молодой человек у окна шевельнулся и застенчиво потер нос.
— Сахар, — объявил он по-английски.
— Что?
— Она положила вам сахар в чашку, — терпеливо пояснил Билли. — Вот и все.
Амалия рассмеялась. И, услышав ее смех, Митенька вздрогнул: такое в нем было дикое, необузданное торжество.
— Ну конечно же! — воскликнула Амалия. — Сахар! Белый порошок, который так похож на мышьяк, что при желании легко можно заменить один другим! Вот почему никто не вспомнил, кто трогал чашку Беренделли после того, как она, — Амалия кивнула на Вареньку, — принесла ее. Никто не обратил внимания, и даже я, что в кофе добавили сахар. Вот это так естественно, так вежливо со стороны гостеприимной хозяйки! И до чего же гениально — у всех на глазах, совершенно спокойно отравить человека, который посмел тебя разгадать! Не так ли, Анна Владимировна?
Тут, признаться, Евдокия Сергеевна едва ли не впервые в жизни утратила дар речи. Впрочем, остальные присутствующие были изумлены не меньше, чем она.
— Право же, госпожа баронесса, — с подобием улыбки промолвила хозяйка дома, — мне кажется, вы… с вами что-то не так. Может быть, вы нездоровы?
Без сомнения, она хотела добавить еще что-то обидное своим покорным тоном прилежной школьницы, но Билли Пуля не дал ей возможности. Подскочив к хозяйке, он схватил ее за руку, спрятанную за спиной, и довольно-таки невежливо заставил разжать пальцы.
— Как вы смеете! — возмутился Митенька. Но Билли уже продемонстрировал гостям небольшое саше,[96] которое он отнял у хозяйки.
— Отпустите меня! — завизжала Анна Владимировна. — Да кто дал вам право… в моем доме…
Она осеклась, увидев в дверях сосредоточенное лицо следователя Марсильяка. В то же мгновение Павел Петрович взялся за грудь, тихо охнул и повалился в кресло.
— Да что же такое? — пролепетал потерявший всякое соображение Иван Андреевич, переводя взгляд с одного гостя на другого.
— Поздравляю вас, сударыня, — торжественно произнес Марсильяк. — Вам удалось взять с поличным весьма опасную особу.
— Нет, нет, нет! — застонал Митенька. — Неправда! Мама, скажите же ему!
Билли отпустил хозяйку дома и отдал вещественное доказательство подошедшему следователю. Тот развернул саше и осмотрел его содержимое.
— Венедикт Людовикович! Я не ошибаюсь, здесь мышьяк?
Доктор осмотрел порошок и хмуро подтвердил. Во взгляде, который он бросил на хозяйку дома, не было ничего, кроме презрения. Она стояла, стиснув руки, и жалобно смотрела на следователя. О, как хорошо был знаком Марсильяку этот смиренный, недоумевающий взгляд преступника, которого поймали, хотя сам он считал себя совершенно неуязвимым!
— Доктор, — вмешалась Амалия, — мне кажется, кое-кому нужна ваша помощь.
Митенька метнулся к отцу. Де Молине тоже поспешил к Павлу Петровичу, который стонал и бессвязно жаловался на боль в груди. Доктор велел приоткрыть окно, дал несчастному какое-то снадобье и стал вполголоса успокаивать его.
— Значит, все? — спросил Билли, подходя к Амалии. — Три, два, один, как вы и говорили. Три разных человека, которые отважились на убийство. Но теперь все кончено, не так ли?
— Не совсем, — ответила Амалия. — Потому что остается еще мотив. Мы не знаем, почему женщина пыталась отравить хироманта. Хотя она определенно добивалась того, чтобы тот умер.
— Вы не знаете? — недоверчиво спросил Билли. — Что-то мне не верится.
— Ну, скажем так: у меня есть догадки, — объяснила молодая женщина. — Но для следствия они ничего не значат. Марсильяку надо знать наверняка. Впрочем, я не сомневаюсь, что он скоро узнает правду.
— Вы Анна Владимировна Верховская, урожденная Серебрякова, жена статского советника Павла Петровича Верховского. Верно?
— Верно. Но я никого не убивала.
— Вы сознаетесь в том, что на вечере в своем доме подсыпали одному из гостей, Пьерлуиджи Беренделли, мышьяк под видом сахара с целью отравить?
— Нет. Нет, нет, нет! Я не понимаю, о чем вы говорите!
— Позже вы точно таким же образом пытались отравить баронессу Амалию Корф, подозревая, что она может разоблачить вас. Тому есть многочисленные свидетели.
— Вы лжете! Никто ничего не видел!
— Но вы хотели ее смерти?
— Нет!
— За что вы хотели убить Беренделли?
— Я никого не убивала! Я мать, у меня сын, семья! За что, за что? Господи, прости моим гонителям!
— Бесполезно, сударыня, все улики против вас. Вы носили при себе мышьяк, и тот же самый мышьяк был обнаружен в чашке баронессы Корф, которую она не стала пить. Кстати, когда она изобразила, что отравлена, на вашем лице мелькнуло такое торжество…
— Неправда! Я не хотела ей зла!
— Да, вы всего лишь хотели убить ее. Может быть, вы лучше расскажете, что именно вам сказал Беренделли?
— При чем тут он?
— Маэстро прочел по вашей ладони ваше прошлое. Прошлое, которое вам не хотелось вспоминать и о котором, как вы полагали, никто не догадывался.
— Сударь, это невыносимо! Что такого мог увидеть на моей ладони какой-то жалкий шарлатан? Ну что, скажите мне, он мог там увидеть?
— У нас есть некоторые соображения на сей счет.
— Вот как? Для человека, который кажется приличным, вы слишком самонадеянны, сударь! Я не совершила ничего дурного!
— Расскажите нам о вашем браке.
— Что?
— О том, как вы вышли замуж за Павла Петровича. Не хотите? Тогда попробую я. Ваша семья была разорена, отец умер еще до вашего рождения, а мать была вынуждена просить помощи у родственников. Женщина умерла, когда вы были совсем еще ребенком, верно? Вас воспитала ваша тетка Марья Игнатьевна, у которой, кроме вас, было двое собственных дочерей.
— И что из того? К чему вы клоните, сударь?
— Родители Павла Петровича жили в то время неподалеку от вас. Его семья была дружна с семьей вашей тетки, и уже давно было решено, что он женится на одной из ваших кузин. Я прав?
— Ах, вот оно что! Да, действительно, Павлуша должен был жениться на Лизе. Но она умерла еще до свадьбы.
— Да-да. Помнится, врачи еще подумали на то, что девушка отравилась, потому что она очень мучилась и скончалась не сразу. Однако никто даже подумать не мог, что на самом деле отравили ее вы…
— Какой вздор! Вздор, и больше ничего!
— Нам известно, что в юности у вас были нездоровые легкие и доктора лечили вас мышьяком. Всем прекрасно известно, что данное лекарство в больших дозах превращается в яд. Незаметно вы накопили большую дозу мышьяка, после чего отравили свою кузину.
— Это неслыханно! Ваши домыслы просто смехотворны, милостивый государь!
— Не домыслы, а правда. Признайтесь, вы очень завидовали Лизе? По отзывам тех, кто ее знал, она была яркая, красивая. Тетка собиралась дать ей значительное приданое. И самое главное — именно она должна была выйти замуж за вашего соседа Павла Верховского, который в то время считался очень выгодным женихом.
— Ах, сударь, сударь! Признаться, мне очень жаль вас. Да если бы люди травили мышьяком всех, кому завидуют, смею вас заверить, никакого мышьяка не хватило бы!
— Однако, когда Лиза наконец умерла, выяснилось, что ваша тетка не оставляет своих намерений. Только теперь Павлуша должен был жениться на Насте, ее младшей дочери. Странное совпадение: Настя тоже умерла вскоре после помолвки. И то, как она умирала, дает основания подозревать, что ее тоже отравили мышьяком. И сделали это опять же вы.
— Да вы не в своем уме!
— Вы были юны, но являлись круглой сиротой и к тому же не получили в наследство ничего, кроме огромных долгов. Вы полностью зависели от того, что вам согласна была давать ваша тетка Марья Игнатьевна, а я подозреваю, что давала она не слишком много. Кузины, вероятно, были к вам добры, но доброта, идущая сверху вниз, больно ранит. Вы увидели в браке с Павлом Верховским возможность устроить свою жизнь и более ни от кого не зависеть. И вы не стали упускать ее. Однако на пути к вашему счастью стояли два человека. Две кузины, Лиза и Настя. И вы, не задумываясь, устранили их. Никто ни о чем не догадался. Никому и в голову не могло прийти, что вы хладнокровно и безжалостно отравили их, чтобы они не смогли помешать вам. И ваши расчеты вполне оправдались. Тетка после смерти дочерей переключила все свое внимание на вас и добилась того, чтобы Павел женился на вас. Вы могли торжествовать — все получилось так, как вы хотели. О да, вы были хорошей женой, любящей матерью. Вы получили свой кусочек счастья, ради которого пошли на двойное убийство. Но потом в вашем доме появился человек, для которого не было тайн, и по вашей руке он прочитал, что вы убийца. Более того — сказал вам это в лицо. Может быть, он не обвинял вас, но вы сразу же поняли, что именно вам грозит. Весь ваш уютный мир, который вы себе создали, мог рухнуть. И ради того, чтобы его спасти, вы положили яд в чашку предсказателя. Не так ли, Анна Владимировна?
— Боже мой, боже мой… И зачем только я пригласила к себе проклятого итальянца? Если бы не он… Если бы не его слова, я была бы сейчас счастлива и довольна! И моя семья не страдала бы так, как она страдает из-за меня…
— Да, боюсь, вашему мужу придется выйти в отставку по семейным обстоятельствам. Вряд ли он сможет работать, как раньше. А вашему сыну, впечатлительному юноше, придется жить с мыслью, что его мать — убийца. Теперь вы понимаете, что вы наделали?
— Я понимаю… я все понимаю… да. Но я не могла… не могла вынести… Тетка, которая попрекала меня каждым куском хлеба… Мне приходилось носить только черные платья, иначе она начинала меня грызть. Кузины давали мне шали и косынки, которые им надоели… им казалось, что они совершают доброе дело… И я всех их возненавидела, они мне были противны! Когда я заболела, тетка сказала, что я скоро умру и больше не буду им обузой… Услышав это, я поняла, что ничего им не должна. Они больше заботились о своих собаках, чем обо мне. Я была хуже собаки — бедная родственница, от которой они были бы рады отделаться. Вам не понять, какую жизнь я вела! Только Павлуша оказался совсем другим… Он был тогда веселый, оживленный, много охотился, всегда был со мной предупредителен… Он единственный относился ко мне как к человеку. Никогда, ни разу в жизни он не обидел меня, ни тогда, ни потом… И я бы никогда не посмела обидеть его. Я мечтала выйти за него, но его родители и тетка уже все решили… Я была для него нехороша, не то что Лиза или Настя… А ведь он их не любил! Но Павлуша не мог перечить родителям… Мои кузины сделали бы его несчастным. Я спасла его…
— Да, но какой ценой, Анна Владимировна, какой ценой! Неужели вы всерьез все это говорите?
— Вам не понять, милостивый государь. Вы не были на моем месте.
— Вы можете мне не верить, но я тоже был беден, очень долгое время. И семья моя тоже была разорена. Но ни разу мне не приходила в голову мысль пойти, к примеру, начать грабить людей на большой дороге.
— Ни разу? Вы счастливый человек, сударь. Вы можете довольствоваться тем, что у вас есть. А я не смогла. Я всю жизнь должна была страдать из-за того, что мой отец был картежник, который все состояние семьи пустил по ветру, а моя мать была слишком слабовольна, чтобы ему противостоять. Мне надоело отвечать за чужие грехи.
— Что ж, теперь у вас достаточно своих, за которые вам придется держать ответ. Значит, вы признаетесь, что пытались отравить хироманта Пьерлуиджи Беренделли и баронессу Корф?
— Да, да! Мне уже все равно. Пусть только моя семья поменьше страдает из-за меня. Я никогда не хотела их подвести… Но против меня была сама судьба.
— То, как вы действовали, нам уже известно, но меня интересует один момент. Вы всегда носите при себе мышьяк? Ваш муж был уверен, что никто не хранит мышьяк в доме.
— Да, потому что я ему не сказала… Когда мы переехали сюда, у Митеньки в комнате завелась противная мышь, изгрызла его книжку… И мальчик очень расстроился. Кот никак не мог ее изловить, и тогда я купила мышьяк. Я хотела заняться мышью, но не успела, потому что пришлось устраивать вечер и… словом…
— Еще один вопрос. Вы дважды выходили из большой гостиной, когда пела Варвара Николаевна, и всякий раз быстро возвращались. Почему?
— Что ж, теперь я могу сказать вам правду. Я хотела пойти посмотреть, что там с ним… с этим человеком.
— С Беренделли? Иными словами, вы хотели проверить, умер ли он от яда или еще жив?
— Да, если вам угодно. Но я не смогла дойти до малой гостиной, потому что сначала мне пришлось вернуться из-за графини Толстой, которая меня увидела, а потом на полдороге я встретила Владимира Сергеевича.
— Вы поняли, что он шел из малой гостиной?
— Потом догадалась, когда он сказал, что я видела его у столовой. Он солгал.
— И вы ничего никому не сказали? Почему?
— Потому что поняла, зачем он туда ходил. И он, может быть, тоже понял, куда я шла. Хотя я не уверена, конечно…
— Почему вы решили отравить баронессу Корф?
— Странный вопрос, сударь… Вы же были там, вы же все видели. Если бы она осталась в живых, она бы обо всем догадалась. Для женщины она недопустимо умна.
— Вот как?
— Да, именно так. Но я не желала ей зла, поверьте. Я просто не хотела, чтобы моя семья страдала.
— Странные у вас представления о добре и зле, Анна Владимировна.
— Странные? Нет. Знаете, мой сын прочитал в одной книжке, что представления о добре и зле меняются в зависимости от обстоятельств. Не знаю, кто так сказал, но думаю, он был прав.
— Вы пытаетесь оправдать свои поступки?
— Я не ищу оправданий. Те, кто меня любит, найдут в себе достаточно сил, чтобы меня простить. А мнение всех остальных меня нисколько не волнует.
Анна Владимировна говорила тусклым голосом, глядя куда-то мимо Марсильяка.
Следователь почувствовал, что ему неуютно находиться в одной комнате с этой женщиной. Он видел, что она раскаивается вовсе не в том, что сделала, а в том, что оказалась слишком неловкой, и ее поймали. Марсильяк внимательно посмотрел на нее. Образцовая жена, прекрасная мать, благочестивая женщина, рачительная хозяйка — такой она казалась всем до сегодняшнего дня. Но то была лишь видимость, а за всеми масками скрывалось черствое, бездушное, жестокое существо. И самое отвратительное заключалось в том, что она даже не подозревала, насколько отвратительна. Марсильяк почувствовал, что еще немного — и он начнет говорить ей грубости. Он больше не хотел беседовать с ней, не хотел видеть ее, не хотел ее знать. И предпочел бы никогда с ней не встречаться.
А Анна Владимировна смотрела мимо него и думала, что теперь домашнее хозяйство придет в упадок, потому что Павлуша не умеет ничем заниматься, а она больше не сможет ни на что повлиять. И ей было горько.
Глава 34 Здравствуй и прощай
— У меня просто нет слов! — с чувством объявила Евдокия Сергеевна. — Я потрясена! Значит, вы с господином следователем заранее обо всем условились?
— Да, — кивнула Амалия. — Аполлинарий Евграфович сделал вид, что уходит, а на самом деле остался неподалеку. Просто у нас почти не было доказательств того, что Анна Владимировна и в самом деле хотела отравить своего гостя. А вот если бы удалось взять ее с поличным…
Мрачный Митенька, сидевший в углу гостиной, поднял голову и хотел сказать что-то резкое, но передумал.
— И вы вынудили ее попытаться отравить вас? — Доктор глядел на Амалию во все глаза. — Вы поразительная женщина, сударыня!
Варенька подумала про себя, что его слова вовсе не комплимент, но остальные гости, казалось, вовсе не разделяли ее точку зрения.
— Но как? — воскликнула Евдокия Сергеевна. — Как вы поняли, что это была именно она?
Амалия пожала плечами.
— Собственно, не так уж сложно было. Кому легче всего подмешать яд в чашку? Заботливой, внимательной хозяйке, чьи хлопоты воспринимаются как должное. Конечно, то было всего лишь мое подозрение, но Анна Владимировна его только укрепила, когда солгала мне. От горничной я знала, что Беренделли, разговаривая с хозяйкой, упоминал mariage — брак и cousine или cousines — кузину или кузин. Когда я спросила у Анны Владимировны, что значат его слова, она объяснила, что обсуждала с хиромантом возможный брак своего сына с его двоюродной сестрой. Опять-таки, Беренделли не мог прочесть на ее ладони ничего подобного, потому что линии и знаки на руке говорят лишь о судьбе ее обладателя, а родственники отражаются лишь в самом общем виде. Конечно, Анна Владимировна могла сказать неправду, потому что, к примеру, хиромант сказал ей что-то неприятное, чего ей не хотелось повторять постороннему человеку, поэтому я и заколебалась. Но самое главное — я не могла понять, каким образом ей удалось подмешать мышьяк при всех, так, что никто ничего не заметил. Если бы не мой кузен, — и Амалия послала Билли взгляд, полный признательности, — мы бы еще долго ломали голову. А все дело было в сахаре, который насыпают в чашку, в сахаре, как две капли воды похожем на мышьяк.
— Что ж, могу вас поздравить, — не удержался Митенька. — Вы сломали жизнь женщине, которая не сделала вам ничего плохого. Вы… — у него задрожали губы. — Ради ваших дурацких логических построений…
Варенька прекрасно понимала состояние юноши. Будет позорный процесс, тень которого ляжет на всю семью. И ее отец, генерал, тоже косвенно окажется замешан во всю эту грязь, потому что его родственница совершила преступление, которому нет оправдания. «Права была мама: не стоило нам с ними общаться», — мелькнуло в голове у девушки. Она бросила неприязненный взгляд на Александра, который по-прежнему сидел возле своей бывшей жены, и поднялась.
— Кажется, уже поздно, — самым светским тоном промолвила она. — Как я понимаю, все тайны раскрыты, так что… Мы можем идти?
— Теперь — да, — ответила Амалия.
Все сразу же как-то оживились. Венедикт Людовикович подошел к Амалии, поцеловал ей руку и сказал, что для него было большой честью познакомиться с ней. Евдокия Сергеевна рассыпалась в комплиментах, а Иван Андреевич объявил, что если у баронессы выдастся свободное время, он с женой будет счастлив видеть ее у себя в гостях. Павел Петрович ничего не сказал, но все, что он чувствовал, отражалось на его лице. Варенька подошла к Александру.
— Нам пора уходить, — сказала она.
И хотя она изо всех сил старалась, чтобы голос не выдал ее, он предательски дрогнул. В ушах у нее до сих пор звучали его слова: «Я люблю тебя», обращенные к другой. К другой, которую в данный момент Варенька ненавидела всем сердцем.
— Вы идете, Александр? — спросила девушка.
Какую-то долю мгновения барон колебался, но оглянулся на Амалию и, очевидно, решился.
— Ступайте, Варвара Григорьевна, — промолвил он спокойно. — Я догоню вас.
Варенька сразу же поняла, что это значит. У нее вспыхнули щеки, а дышать сделалось так трудно, что она едва не потеряла сознание в своем тесном корсете. Все было кончено. Она проиграла — проиграла неприятной, умничающей, высокомерной особе, баронессе Корф. Варенька Мезенцева, к которой сватались самые блестящие офицеры, оказалась отвергнута, и ради кого — ради бывшей жены, настоящей авантюристки. Да, да, авантюристки! А та вовсе и не красавица, так, дама лет тридцати с синяками под глазами и с неважным цветом лица. Все было невыносимо, да что там — просто ужасно! Девушка в последний раз взглянула на Александра полными слез глазами и, не прощаясь, даже не наклонив головы, быстрым шагом удалилась прочь.
«Ничего себе! — подумал Билли, от которого не укрылось выражение лица Вареньки. — Могу поспорить, что ежели бы мы были где-нибудь в моих родных краях, она бы точно попыталась прикончить Эмили. Ей-богу, цивилизация — отличная вещь. По крайней мере, люди не дают волю своим желаниям, которые плохо совместимы с законами».
Амалия поглядела на него и улыбнулась. Он сразу же приосанился и напустил на себя безучастный вид.
— Мы возвращаемся в гостиницу? — спросил он.
— Да, — ответила Амалия.
Она подумала, прощаться ли ей с Павлом Петровичем, и пришла к мысли, что теперь Верховский наверняка больше всего хочет, чтобы его оставили одного. Лакунины уже ушли, как и композитор, но Александр Корф был еще в гостиной. Глаша тушила лампы, нет-нет да поглядывая на Билли, который, очевидно, ее сильно занимал. За окнами ползло тусклое, сырое петербургское утро.
— Пора, — сказала Амалия.
— Вы разрешите проводить вас? — спросил барон Корф. И Билли слегка нахмурился, услышав ответ:
— Да, разумеется.
Втроем они спустились по лестнице. Билли надулся и не произносил ни слова. Внизу Александр помог бывшей жене надеть шубу, но зато Билли опередил его, первым подав перчатки. Он был вознагражден сияющей улыбкой и сразу же воспрянул духом.
…Варенька вышла из особняка, и тяжелая дверь затворилась за ней. С Невы дул ледяной ветер. Возле дома стояли две пролетки, в одной сидел Марсильяк и разговаривал с каким-то полицейским чином, за стеклом другой виднелось бледное женское лицо, от которого Варенька отвернулась с тайным ужасом. Она едва не уронила муфту и испугалась, когда кто-то поднял ее и подал ей. Свет фонаря упал на лицо любезного прохожего, и Варенька сразу же успокоилась, узнав композитора Преображенского.
— Вы еще здесь? — спросила она, чтобы хоть что-то сказать.
— Как видите, Варвара Григорьевна, — кивнул он. — Странный получился вечер, вы не находите?
— Очень странный, — искренне ответила Варенька.
Преображенский вздохнул.
— И тем не менее я счастлив, что познакомился с вами, — сказал он. — Вы так чудесно пели… Вторая Патти, — добавил он.
— Вы мне льстите, — отозвалась Варенька, краснея от удовольствия.
— О, что вы, наоборот, совершенная правда. Вы сейчас домой? Разрешите взять вам извозчика?
Варенька подумала, что и в самом деле это было бы разумнее всего, но на улице свободных извозчиков не было.
— Может быть, на набережной? — заметил композитор. Он предложил Вареньке руку, и они вдвоем двинулись в направлении набережной.
Александр, стоя на ветру, проводил их взглядом.
В сущности, он был почти рад, что все так устроилось. Он с детства ненавидел выяснения отношений, особенно с женщинами. Хорошо, что Варенька все поняла и не стала докучать ему. Потому что, если рассудить по совести, он ничего не может ей дать. Никогда не полюбит ее так, как любил Амалию, да и вряд ли полюбит кого-то еще. Что бы ни произошло между ними, его сердце будет принадлежать этой странной женщине. Он повернулся к ней и увидел, как блестят ее глаза. Она положила кисть в узкой лайковой перчатке ему на рукав.
— Простите, Александр. Я должна была догадаться, по отношению к вам мой спектакль был довольно жесток. Но я и подумать не могла, что моя мнимая смерть так подействует на вас.
— Ничего, — тихо сказал он, — я все понимаю. Дело прежде всего, не так ли?
— А, да какое дело! — отмахнулась Амалия. — Понадобилось всего лишь несколько часов, чтобы все распутать. Вернее… — Она нахмурилась. — Вернее, почти все.
— Неужели вам что-то может быть непонятно? — с улыбкой спросил Александр. — Ни за что не поверю.
Амалия помедлила и оглянулась на пролетки, в одной из которых сидела Анна Владимировна. Билли неодобрительно сопел где-то в полутьме позади нее.
— Мне действительно непонятна одна вещь, — призналась Амалия. — Полагаю, прямого отношения к делу она не имеет, и все же… — она задумалась. — Все же мне было бы интересно знать.
— Что именно? — осведомился Александр Корф. — Неужели вы уже не уверены в виновности женщины? Ведь она сама во всем созналась.
— Так-то оно так, но, — Амалия вздохнула. — Нет, речь вовсем о другом. Просто есть одна деталь, которая не дает мне покоя.
Александр передернул плечами.
— Этот вечер словно был создан для того, чтобы подтвердить вашу любимую мысль, — заметил он. — Помните?
— Да, — помедлив, согласилась Амалия. — Мы ничего не знаем о других людях и мало что знаем о самих себе. В начале ужина все казались такими приличными людьми, а потом…
— Потом оказалось, что блестящий адвокат на самом деле придумал аферу, как убивать людей и зарабатывать на их смерти деньги, — подхватил Александр. — Достойная мать семейства в прошлом, как выяснилось, не колеблясь отравила двух человек, чтобы избавиться от унизительной бедности. А неприметная девушка пошла на преступление ради любви, которую сама же и выдумала. — Он оглянулся на окна особняка, два из которых еще светились слабым желтоватым светом. — Как по-вашему, что с ними будет?
— Ничего, — ответила Амалия. — Человек гораздо более вынослив, чем он думает. Сейчас им кажется, что несчастнее их нет никого в целом свете. Но будет новый день, отец и сын свыкнутся с мыслью о происшедшем и постараются сделать все, чтобы оно затронуло их как можно меньше.
— Я знаю, вы ловили многих преступников, — проговорил Александр, пристально глядя на спутницу. — И я хотел спросить… давно хотел… — Он запнулся. — Вам не жаль их? Когда вы внезапно изобличаете их и передаете в руки закона… и они меняются на глазах, словно съеживаются, пытаются оправдаться. Все это выглядит так унизительно, так… — Он искал слова, которые могли бы передать его ощущения, но все они были слишком бледны.
— Нет, — коротко ответила Амалия.
Билли затаил дыхание.
— Я понимаю, о чем вы, Саша. Не мучают ли меня угрызения совести от того, что я тоже калечу их жизни, как они до того искалечили жизни других? Нет, потому что преступления не должны оставаться безнаказанными. Если не я, то кто защитит тех, кто уже никогда не сможет себя защитить, — тени, когда-то бывшие людьми, призраки тех, кто был убит и канул во тьму…
Она заметила возле дома силуэт неизвестного человека и нахмурилась. В сером сумраке зажегся огонек папиросы, но затем погас.
— Вы сейчас живете в гостинице? — спросил Александр.
— Да, но к Новому году рассчитываю вернуться в особняк.
— Я могу как-нибудь навестить вас? И Мишу, — быстро добавил он. — Конечно, я предупрежу заранее о своем визите.
Амалия сжала его руку и сказала, блеснув глазами:
— Не нужно предупреждать. До свиданья, Саша.
— До свиданья, Амалия.
Барон Корф смотрел, как она подходит к пролетке, в которой сидел Марсильяк. Следователь тотчас вышел и заговорил с ней. Позади Амалии с ноги на ногу переминался Билли. Он озяб и хотел вернуться в гостиницу, но раз Амалия считала, что с возвращением нужно повременить, был готов ждать столько, сколько понадобится.
— Хорошо, — сказал наконец Марсильяк. — Если вы хотите с ней поговорить, я не вижу никаких препятствий.
И полицейский придержал дверцу, помог Амалии забраться в пролетку.
Глава 35 Выбор хироманта
Это было грязное, холодное, бедно меблированное помещение с обшарпанными стенами, выкрашенными до половины человеческого роста унылой темно-зеленой краской. Где-то поминутно хлопала дверь, хохотали пьяные, бубнил чей-то монотонный голос, другой — женский — визгливо оправдывался. Антуанетта Беренделли сидела в углу и читала какую-то книгу, наморщив лоб. Подойдя ближе, Амалия увидела, что она держит в руках Библию.
— Десяти минут будет достаточно, Амалия Константиновна? — спросил Марсильяк. И, получив утвердительный ответ, вышел.
Антуанетта едва взглянула на Амалию и перевернула страницу. Где-то простучали подкованные сапоги, глухо пробубнили какие-то голоса, и все стихло.
— Я хочу поговорить с вами, — сказала Амалия.
Баронесса поглядела, куда бы сесть, и наконец выбрала шаткий стул, казавшийся наиболее приличным из окружающей обстановки. Антуанетта покачала головой.
— Нам не о чем с вами разговаривать, сударыня. — Тон был спокоен, и в нем не было даже намека на враждебность. Чувствовалось, что дочь хироманта попросту смертельно устала.
— Это касается вашего отца.
Антуанетта вздохнула и закрыла Библию.
— Я уже знаю, кто убил его, — проговорила она. — Мне сказали. Наверное, я должна поблагодарить вас.
— Мне не нужна благодарность, — спокойно возразила Амалия. — Просто у меня возникли некоторые сомнения, и я надеюсь, что вы сумеете их разъяснить.
Кончик длинного носа Антуанетты дернулся. Она метнула на собеседницу быстрый взгляд.
— И что за сомнения, сударыня?
— Относительно хиромантии, — пояснила баронесса. — Видите ли, я не верю в гадание по руке и тому подобное. Но то, что произошло недавно, заставило меня по-иному взглянуть на события. Ваш отец сказал Городецкому, что тот убийца, и рассказал ему, каким образом братья проворачивали свои махинации. Также рассказал мадам Верховской о том, что женщина больше всего на свете желала забыть. Еще поведал моему кузену о некоторых вещах, что случались с ним в прошлом. Заметьте, я упоминаю только самые явные случаи. Откуда ваш отец знал все это?
— Хотите сказать, что он использовал шпионов, чтобы узнать прошлое людей? — бесстрастно спросила Антуанетта. — Нет, сударыня. Мой отец был великий хиромант. По ладони он мог прочитать прошлое и будущее кого угодно и когда угодно. И покончим на том.
— Хорошо, — согласилась Амалия. — Но как же тогда может быть, что великий хиромант не предвидел свою собственную смерть? Ведь, если верить вам, он должен был понимать, что ему угрожает опасность быть убитым. Он вовсе не обязан был идти к Верховским. Они не очень богаты и не обещали ему больших денег. Люди, которые собрались у них, были ему по большому счету неинтересны. Тогда зачем принял приглашение и пришел на злосчастный вечер? Навстречу своей смерти!
Антуанетта посмотрела на нее и отвела глаза. Но Амалия настаивала:
— Получается, он не знал того, что касается его самого? Не верю.
— Судьба, — тихо ответила Антуанетта. — Это была судьба.
— Я не верю в судьбу, — повторила Амалия упрямо. — Всегда есть выбор, и только от нас зависит, какой судьба будет.
— Да, но количество ее вариантов все равно ограничено, — живо возразила Антуанетта. — Если вы старший сын короля и королевы, у вас будет одна судьба. Если ваш отец бедный угольщик и вы родились в подвале, она будет другой. Семья, в которой вы появились на свет, ваша родина, ваша национальность, люди, с которыми вы сталкиваетесь на своем пути, — почти все это от вас не зависит. Есть то, что предопределено, и есть очень небольшое количество обстоятельств, которые вы можете изменить. Оглянитесь вокруг — ведь на самом деле люди и не хотят ничего менять. Каждый катится по той колее, которая ему отведена судьбой, и каждый старается довольствоваться тем, что у него имеется. Королевский сын не хочет стать угольщиком, а угольщик не стремится стать королем.
— Я совсем о другом веду речь, — возразила Амалия. — О том, почему ваш отец все равно отправился в дом, где он как хиромант должен был знать, его могут убить. И не говорите мне, — с неожиданным раздражением прибавила она, — что он не мог послать к черту Верховских с их приглашением! Получается, что либо он не знал, что с ним будет, либо его все-таки не должны были убить, если верить хиромантии. А раз так, то она все равно — сплошное шарлатанство.
Антуанетта вздохнула. Рассеянно погладила рукой в перчатке обложку книги, которая лежала на ее коленях.
— Мой отец знал свою судьбу, — внезапно сказала она.
— В самом деле?
— Да. И о моей мне рассказал, хотя обычно хироманты не любят предсказывать своим родным и тем, кого они любят. Хотите знать, что со мной будет? — Антуанетта вскинула голову. — Ничего. Я даже не сяду в тюрьму, хоть и знаю, что мои обвинители будут стараться. Но на моей родине суд снисходителен к crime passionel,[97] а второй человек, которого я убила, сам оказался убийцей и принимал участие в убийстве моего отца. Так что меня оправдают.
— Но ведь маэстро не хотел, чтобы вы присутствовали на вечере, — заметила Амалия. — Получается, что все равно хотел вас уберечь. Вопреки судьбе.
— Нет, все не так, — покачала головой Антуанетта. — То есть, может быть, отец думал и обо мне тоже. Но я уверена, он отговорил меня идти к Верховским, потому что не хотел, чтобы я оказалась там, когда его убьют.
— То есть маэстро все-таки знал и, тем не менее, пошел туда? — настаивала Амалия. — Не могу понять, простите. Ради чего же тогда знать будущее?
— Обстоятельства, — устало промолвила Антуанетта. — Есть обстоятельства, на которые мы можем повлиять.
— А разве ваш отец не мог? Достаточно было лишь прислать письмо с отказом!
Антуанетта откинулась на спинку стула. Закрыла глаза.
— Таков был его выбор, — наконец сказала она. Так тихо, что Амалия едва различала слова. — Потому что на самом деле мой отец не должен был умереть.
— Вот как?
— Да. Он должен был скончаться через восемнадцать месяцев в клинике Ротена.
— Но ведь Ротен… — медленно начала Амалия.
— Вы угадали. Тот доктор из Ментоны, который лечит, вернее, пытается лечить душевнобольных. Но болезнь моего отца не поддавалась излечению, о чем он знал. — Антуанетта открыла глаза. — Летом мы поехали к Ротену под предлогом того, что мне нужна консультация медиков. На самом деле врач требовался моему отцу, но он не хотел ненужной огласки, и поэтому я говорила всем, что хочу показаться известному доктору.
И тут Амалия вспомнила слова Венедикта Людовиковича. Что он говорил? Кажется, мать Беренделли страдала душевным расстройством. А ведь болезни подобного рода нередко передаются по наследству.
— Отец давно знал свою судьбу, — негромко продолжала Антуанетта, глядя мимо своей собеседницы. — И предупредил меня, чтобы я была готова. Конечно, мне не хотелось ему верить, но точно в срок, как он и предсказал, начались первые симптомы — бессонница, небольшие провалы в памяти… Он все знал, поймите! Знал, что будет умирать в смирительной рубашке, выкрикивая бредовые слова. Что забудет мое лицо, мое имя, превратится в животное, и только смерть положит конец его мучениям. Я колебалась, сомневалась, но мы поговорили с Ротеном… Было нелегко убедить доктора сказать правду, но он все же признался, что не советует рассчитывать на чудо. И тогда отец решил, что избавит себя от ужасной участи, избавит меня. Он знал, что я буду страдать не меньше, чем он, и не хотел, чтобы я страдала, не хотел превращаться в безумца.
Амалия застыла на стуле, смотря на Антуанетту во все глаза. Голос мадемуазель Беренделли звучал глухо.
— Отец прочитал свою судьбу, и как раз на эти дни у него приходился темный период… когда все могло случиться… все, вплоть до смерти. Мало кто знал, но он занимался и астрологией тоже, и составленный им гороскоп подтвердил его подозрения. Тогда отец принял решение умереть сейчас, чтобы не мучиться потом.
— Вы хотите сказать… — медленно начала Амалия.
— Да. Обычно он, когда гадал по руке, остерегался говорить посторонним такие вещи, которые они не желали бы услышать. Но в тот вечер бросил всем в лицо их низость, обнажил тайны, долго и тщательно скрываемые… И под конец во всеуслышание объявил, что в доме находится убийца. Там было несколько убийц, но он хотел, чтобы каждый из них принял его слова на себя, только на себя…
— Маэстро Беренделли сделал так нарочно, чтобы спровоцировать их? Вы это хотите сказать? — не веря собственным ушам, воскликнула баронесса.
По щеке Антуанетты покатилась слеза.
— Да, — выдохнула девушка. — Вы же сами были там… Разве вы не заметили, до чего театрально все получилось? Конечно же, отец сделал так нарочно… Сделал буквально все, чтобы они убили его. Он не хотел умирать в клинике, потеряв рассудок… И поэтому выбрал смерть от чужой руки.
Но Амалия уже не слышала ее. Она словно перенеслась в ту странную комнату дома Верховских — с оружием на стенах и вычурной мебелью, которые так плохо сочетались друг с другом. Доктор де Молине спросил у Беренделли, как он себя чувствует, но тот попросил покинуть его. Он не желал, чтобы кто-то мешал убийце. Времени оставалось так мало…
Доктор ушел, и человек с черной бородой остался лежать на диване, прикрыв глаза… Его немного мутило от яда, который начал действовать, но, несмотря на металлический привкус во рту, он был уверен, что все идет так, как надо… Издали до него доносилась музыка, чудесная музыка Верди. Варенька пела… И волшебные звуки были последним, что он слышал в своей жизни, — странный человек, сильный и слабый, героический и обреченный. Он знал, что обречен, и просто ждал…
А потом пришел он.
Глава 36 Близится утро
Баронесса вышла из комнаты, затворила за собой дверь. Марсильяк в слабом свете утра сразу же увидел, какое у нее уставшее, осунувшееся лицо.
— Мадемуазель Беренделли сказала вам что-нибудь, Амалия Константиновна?
Ей не хотелось отвечать на этот вопрос, и поэтому она кивнула, задав свой:
— Как я понимаю, ее будут судить во Франции, потому что она иностранка?
— Да. Но, между нами, я сомневаюсь, что приговор будет суровым. Все-таки адвокат был, как выяснилось, опасный аферист, да и графиня Толстая… тот образ жизни, который она вела. — Марсильяк поморщился. — Защита мадемуазель Беренделли наверняка легко добьется минимального наказания.
— Значит, вряд ли она окажется в тюрьме, — пробормотала как бы про себя Амалия. — А что с остальными?
Марсильяк пожал плечами.
— Полагаю, Владимир Сергеевич не сумеет избежать каторги — слишком уж серьезно обвинение. Да и страховые компании, которые он обирал, наверняка захотят свести с ним счеты. Что же до Анны Владимировны, то она уличена в покушении на убийство, и тут ее адвокат ничего поделать не сможет. А вот с убийствами, которые мадам Верховская совершила в прошлом, наверняка возникнут сложности. Ведь обвинению придется предпринять серьезные шаги для того, чтобы доказать ее вину. Хотя сейчас наука так быстро развивается, что скоро для нее не останется ничего невозможного, — добавил следователь.
Он оглянулся на Билли, который стоял у двери, недовольно морщась. Бывший бандит не любил полицию и все, что с ней связано. И хотя он знал, что Марсильяк друг Амалии, сам предпочитал бы как можно скорее уйти отсюда.
— Хорошо, — сказала Амалия. — Полагаю, мне придется давать официальные показания… Вы знаете, где меня найти?
— Да, конечно, Амалия Константиновна.
— Я хотела еще попросить: по поводу того пожарного, Никофора… — Амалия вздохнула. — Пусть его наградят, если возможно. В конце концов, он ведь и нам помог.
— Я обязательно распоряжусь, можете не беспокоиться, госпожа баронесса, — промолвил Марсильяк с поклоном.
— Значит, я рассчитываю на вас… До свидания, Аполлинарий Евграфович.
— До свидания, госпожа баронесса.
На улице было почти светло. Амалия взяла Билли под руку и увлекла за собой.
— Удалось выяснить что-нибудь новое? — спросил американец.
Баронесса рассеянно кивнула, обронив:
— Странную мне довелось услышать историю. Конечно, можно в нее верить, а можно и не верить…
— Вы мне объясните, в чем дело? — жалобно попросил Билли. — А то я даже не знаю, о чем идет речь.
Амалия хотела рассказать ему, что фактически хиромант покончил жизнь самоубийством, спровоцировав преступников, но тут взгляд ее упал на худого человека в николаевской шинели с капюшоном, который стоял на тротуаре, словно ожидая кого-то. Она прекрасно помнила, что видела его прежде у особняка Верховских, где он курил папиросу. Глаза баронессы сузились.
— Билли, подожди меня здесь!
Она отпустила его руку и подошла к незнакомцу.
— Доброе утро, Амалия Константиновна, — почтительно промолвил тот. — Поздравляю вас с блестящим завершением очередного дела. Хотя, наверное, следует назвать его внеочередным, потому что оно вовсе не входило в ваши планы.
— Это становится утомительным, Мельников, — холодно произнесла Амалия, не обращая внимания на довольно неуклюжую попытку собеседника польстить ей. — Вы так и будете всюду ходить за мной? Я уже в гостинице, когда вы пришли ко мне, сказала, что ваши усилия совершенно бесполезны.
— Я лишь подчиняюсь приказу генерала Багратионова, — возразил незнакомец. — А генерал, как вам прекрасно известно, не любит, когда его приказы не выполняются.
— Мне нет дела до любовей и нелюбовей генерала, — ответила Амалия, начиная сердиться. — Помнится, я уже дала вам ответ, и ответ был отрицательный. Я не хочу возвращаться в службу. Ваше начальство дурно со мной обошлось, но генерал, кажется, забыл, что со мной можно так поступить лишь один раз. Второго раза не будет![98]
Мельников вздохнул и свесил голову. Вновь начал падать снег.
— Генерал искренне раскаивается в происшедшем, — сказал он наконец. — И он готов принести вам извинения в любой форме, которую вам будет угодно счесть приемлемой.
— Мне не нужны его извинения, — отрезала Амалия. — Я никогда их не просила и не нуждаюсь в них. А если бы он их принес, я бы все равно их не приняла.
— Генерал очень высоко ценит вас, Амалия Константиновна, — кротко возразил Мельников. — И он умоляет вас принять во внимание, что тогда он вынужден был выполнять волю лица, которое стоит много выше его. У него попросту не было иного выхода. Тем не менее, — быстро добавил он, заметив, что Амалия намерена спорить с последним утверждением, — он готов не только принести вам заверения в своем почтении, но и сделать все, что вам будет угодно — разумеется, в разумных пределах, — чтобы вы забыли о произошедшем маленьком недоразумении.
— Это было вовсе не недоразумение, — возразила Амалия, которая никогда не давала сбить себя с толку словами, которые значили вовсе не то, что имело место в действительности. — И уж совершенно точно не маленькое, как вы изволили выразиться.
— О, прошу вас, Амалия Константиновна, — промолвил Мельников. — Вы же очень умны и прекрасно знаете, что есть интересы, которые выше нас с вами. Порой всем нам приходится идти на жертвы, которые другой стороне могут показаться неоправданными. Поверьте, генерал Багратионов искренне раскаивается в том, что доставил вам неприятности. И если есть что-то, что он может сделать для вас, чтобы вы простили его, он готов сделать это.
Амалия поморщилась и поглядела на Билли, который, ежась на ветру, терпеливо ждал окончания ее разговора с человеком в шинели.
— Почему бы генералу Багратионову просто не забыть о моем существовании, как он с успехом поступал в последнее время? — очень холодно проговорила она. — Помнится, когда я болела чахоткой, ему вполне удалось не вспоминать обо мне.
Мельников тяжело вздохнул. Идя на встречу с баронессой, он понимал, что предстоит трудный разговор, но даже не подозревал, что тот окажется настолько трудным. И все же, подавляя глухое раздражение, продолжил:
— Боюсь, вы забываете о том, в каком мире мы живем, госпожа баронесса. Сейчас в Европе очень непростая обстановка. Дело потихоньку катится к большой войне. Очень большой! Возможно, такой, какую еще не знало человечество. И наш долг — сделать все, что в наших силах, чтобы противостоять ей. Есть у нашего правительства и другие заботы, напрямую связанные с тем, что происходит в Европе. И для того чтобы они получили благоприятное разрешение, нам нужны наши лучшие люди. Согласитесь, важные миссии нельзя доверять кому ни попадя. Выполнять их — удел людей достойных, тех, кто уже зарекомендовал себя на данном поприще и на кого генерал всецело может положиться. Поверьте, — живо добавил Мельников, — я рассказал бы вам куда больше, если бы имел на то полномочия. Хотя, если вы согласитесь выслушать меня и дадите мне слово, что никому ни о чем не расскажете…
О да, усмехнулась про себя Амалия. Можно подумать, ей неизвестен старый трюк — подцепить человека на любопытство, как рыбку на крючок. Ах, Мельников, Мельников, за кого он меня принимает? Даже обидно, право.
— Боюсь, я сейчас не в настроении слушать что бы то ни было, — вслух сказала она. — Я слишком устала, у меня была тяжелая ночь. Прощайте. — И баронесса повернулась, собираясь уйти.
— Послушайте, — проговорил Мельников, явно волнуясь. — То, что я сказал вам, не пустые слова, а истинная правда. Поверьте, генерал готов на все, чтобы вернуть вас, и не потому, что его мучает совесть, а потому, что нам без вас будет нелегко. Вот видите, теперь вы знаете все. Генерал Багратионов хочет, чтобы вы снова были на нашей стороне, потому что нам предстоят очень непростые дни. И он надеется… надеется на вас. Он ждет вас. Что мне еще сказать вам, чтобы уговорить вас?
Амалия вздохнула.
— В данный момент я не готова принять решение, — сказала она. — Позже дам вам письменный ответ. Сейчас я хочу только одного: отдохнуть. — Она шагнула к Билли.
— Ответ будет положительный? — спросил Мельников ей вслед. — Вы скажете нам «да», сударыня, не так ли?
Ее спина дрогнула, но Амалия не остановилась.
«Дело в шляпе», — подумал успокоившийся агент. Засунув руки в карманы, он проследил, как Амалия с Билли садятся на извозчика. Через минуту экипаж покатил по направлению к гостинице, где остановились баронесса и ее друг.
— Я понял, чего он хотел от вас, — нарушил молчание Билли. — Неужели вы и в самом деле вернетесь к ним? Они же не стоят вас!
— Поговорим об этом потом, — поморщилась Амалия. И по выражению ее лица Билли понял, что она и в самом деле не хочет об этом говорить.
В гостинице она приняла горячую ванну и сразу же легла в кровать, но сон не шел к ней. Лежа под расшитым ирисами шелковым одеялом (белье и всю постель баронесса возила с собой), она размышляла.
Она думала об Анне Владимировне, которая столько лет ускользала от возмездия, которое все-таки настигло ее. Думала о холеных, представительных братьях Городецких, которые построили свое процветание на чужих смертях, что вовсе не считали чем-то постыдным. Думала о Билли, который ворочался и вздыхал за стеной, — ведь, если бы не она, его бы наверняка давно уже не было в живых. Думала о странном, мужественном человеке, который предпочел быструю смерть угасанию в лечебнице для душевнобольных. Интересно, что бы такого маэстро мог рассказать ей о ее будущем? Ведь Беренделли знал, определенно знал, что именно она будет расследовать его убийство, и, может быть, знал даже, что убийцы не уйдут безнаказанными. Однако больше всего она думала об Александре. О том, как они любили друг друга когда-то и куда все это ушло… Она закрыла глаза и сама не заметила, как наконец задремала.
Проснулась Амалия уже вечером. Баронесса встала и первым делом попросила газеты. Горничная принесла ей целую стопку вечерних выпусков. Амалия бегло просмотрела их и отложила в сторону. Весть об убийстве хироманта уже успела просочиться в прессу, но ее интересовали не сообщения уголовной хроники, а политические известия.
Заглянул Билли, но, увидев грустное, рассеянное лицо баронессы, не посмел докучать ей и быстро исчез. Вновь заглянула горничная — на сей раз она принесла письмо от матери Амалии, отправленное из полтавского имения семьи.
В последнее время Аделаида Станиславовна приобрела привычку писать только по-французски, который она к тому же мешала с польским, и Амалии пришлось перечитать письмо три или четыре раза, чтобы вполне уяснить его смысл. Ничего особенного, впрочем, матушка не сообщала. Дядя Казимир упал с лошади и лежит в постели, моды в Полтаве никуда не годятся, дети здоровы и целуют свою маму. В письмо был вложен рисунок старшего, Миши, и Амалия долго смотрела на него. Миша нарисовал двух птичек на ветке, но так как рисовал мальчик не самым лучшим образом, птички почему-то показались Амалии похожими на две морковки. Впрочем, насколько она знала, никто в их роду не мог похвастаться особыми способностями к рисованию, включая ее саму.
Часы пробили десять. Амалия отложила письмо матери и подумала, что завтра поедет в особняк смотреть, как продвигается ремонт. Потом, пожалуй, можно будет пригласить на обед Александра. Правда, придется что-то делать с Билли, которому ее бывший муж явно не по душе, но Амалия знала, что всегда сумеет его уговорить. И еще Мельников… она же обещала дать ему ответ. Баронесса поморщилась. Не то чтобы она не знала, что именно следует написать. Нет, решение уже было принято, и никаких сожалений о нем не возникало.
Амалия села за стол и взялась за перо.
Эпилог Судьбы героев этой книги
Антуанетта Беренделли была депортирована на родину, где ее судили за совершенные ею убийства. Впрочем, принимая во внимание все обстоятельства дела, суд постановил, что молодая женщина не заслужила тюремного заключения, так как одна из убитых оказалась иностранкой, ведшей весьма предосудительный образ жизни, а второй принимал участие в убийстве ее собственного отца. Протест обвинения, что в то время мадемуазель Беренделли не могла знать о последнем обстоятельстве, был отклонен. Кроме того, свою роль сыграло и приведенное адвокатом свидетельство того, что мадемуазель Беренделли страдала небольшим расстройством психики и даже лечилась у доктора Ротена. Вскоре после суда Антуанетта уехала в неизвестном направлении. По слухам, она купила дом в глухой провинции, где вела очень замкнутую жизнь.
Анна Владимировна Верховская на суде отказалась от всех показаний, которые дала во время следствия. Кроме того, генерал Мезенцев, чья жена была сестрой ее мужа, сделал все, чтобы замять скандальное дело, и разбирательство было прекращено. После этого Анна Владимировна пыталась воссоединиться с мужем, но Павел Петрович ее не принял. Она умерла в столице, в собственной квартире, около 1900 года.
Владимир Сергеевич Городецкий, несмотря на красноречие, с каким он защищал себя во время процесса, был признан судом виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к лишению дворянских прав и пожизненной ссылке в Сибирь. Там он близко познакомился с революционерами и стал горячим сторонником ниспровержения существующего строя. До времени, когда мечты его сподвижников начали претворяться, Владимир Сергеевич, впрочем, не дожил, потому что скончался в 1897 году от белой горячки.
Павел Петрович Верховский был вынужден оставить службу и продал дом в Петербурге. Вместе с сыном они купили имение во Владимирской губернии и перебрались туда. На досуге Митенька стал разводить цветы и весьма преуспел в данном занятии — его розы появлялись даже на международных выставках. Он постоянно помогал матери деньгами, но, даже женившись, не желал с ней встречаться. Его женой стала дочь соседского помещика, который выводил необыкновенно крупные тыквы.
Через несколько месяцев после описанных событий Иван Андреевич Лакунин и его супруга взяли приемного ребенка, которого звали Андрюшей. На старости лет Евдокия Сергеевна увлеклась гаданием на картах и предсказывала судьбу всем, кто просил ее об этом.
Венедикт Людовикович де Молине по-прежнему занимался врачебной практикой, помогая и многим неимущим больным. В пятьдесят пять лет он женился на одной из своих пациенток, которой спас жизнь, и вместе с ней побывал на родине, где его никто не узнал. Остаток дней Венедикт Людовикович провел вдали от Франции — по его словам, он слишком привык к России, чтобы с ней расставаться.
Варенька Мезенцева вышла замуж за Никиту Преображенского, который после смерти графини получил большое наследство и отстоял его от посягательств родни Элен. Отец Вареньки счел брак мезальянсом, но, видя, что дочь по-настоящему счастлива, мало-помалу примирился с зятем. Никита написал несколько сонат, которые, однако же, не имели особого успеха. Если композитор и был огорчен данным обстоятельством, внешне это никак не выражалось. Никита и Варенька умерли от голода в Петрограде в печально известном 1919 году. Они прожили вместе всю свою жизнь и умерли в один день.
Валерия Вербинина Заблудившаяся муза
Глава 1 Пробуждение
Знаменитый композитор Дмитрий Иванович Чигринский проснулся утром с таким ощущением, словно ему следовало повеситься еще вчера. Однако вчера, судя по всему, дело не заладилось, и сегодня надо было начинать все сначала.
Он полежал в постели, прислушиваясь к себе, но внутри было глухо и сумеречно. Ни мелодии, ни намека на нее, ни одной музыкальной фразы. Склеп, мрачно помыслил Чигринский, склеп в отдаленном углу кладбища, куда даже не доносятся обрывки похоронных маршей. Все тут пришло в запустение, все мертво, как его душа, из которой ушла музыка. Произошло это около двух недель тому назад.
Да-с, именно так и никак иначе. Еще за день до того он был полон самых разнообразных замыслов и в голове порхали обрывки мотивов, привольные, как бабочки, танцующие в солнечном свете; и вот – не угодно ли – просыпаешься у себя в спальне, и вокруг все такое же, как и всегда, и на противоположной стене висит глупый пейзаж с глупым морем и луной над ним, похожей на апельсин, – пейзаж, который он видит и сейчас, – и обстановка вокруг знакомая до боли, но настоящая-то боль впереди, потому что внезапно он осознает, что что-то не так. И пейзаж не тот, и спальня, и он сам, а все потому, что он больше не чувствует музыки. Ее нет, а стало быть, нет ни его самого, ни его дома, ни Невы, ни Петербурга. А если и есть, то все это неважно, потому что музыка – его музыка – умерла.
Вот так он проснулся недели две тому назад, и едва подумал о новых стихах поэта Алексея Нередина, к которым хотел сочинить мелодию, как с оторопью, переходящей в панику, осознал, что ничего у него не получится. Музыки больше нет, и что с ней стало – бог весть. И вернется ли, не вернется – совершенно непонятно. Одним словом, кончился композитор Чигринский. Баста. Каюк!
Обыкновенно Дмитрий Иванович смеялся над людьми, которые с томным видом уверяли, что их покинуло вдохновение и они больше не могут сочинить ни строчки. Ему всегда казалось, что это поза, призванная лишь оправдать собственную лень, а иногда – не слишком умело замаскированный шантаж, чтобы выжать из издателей побольше денег. Однако когда с ним самим приключилось это несчастье (а в том, что это именно несчастье, он больше не сомневался), он заметался и, во всяком случае, потерял всякое желание подтрунивать над другими. Как-то вдруг выяснилось, что вдохновение – не комнатная собачка, которую позвали, и она уже бежит, виляя хвостом. Кроме того, выяснилось, что оно безжалостно, что оно не уходит даже, а исчезает, не оставив никакого знака, никакого указания на то, как его можно вернуть обратно. И самое обидное: было совершенно непонятно, чем Дмитрий Иванович мог заслужить такую немилость. Тщетно ломал он голову, пытаясь вспомнить нечто особенное, какие-то обстоятельства, из-за которых композиторский дар мог покинуть его…
Нет, он не выжимал из себя по сто модных мелодий в год – непосильная нагрузка, от которой выдохнется любое, даже самое изобретательное, вдохновение. И если он и пил, то вполне умеренно (дюжина шампанского на дне рождения Алешки Нередина не в счет, они друзья, а дни рождения друзей надо отмечать широко). Не было в жизни Чигринского и глупой отвлекающей страстишки, пылкой любви к какой-нибудь чаровнице с холодными глазами, которая пришпилила бы его сердце к шлейфу своего шелкового платья и валяла его в пыли. То есть любовь-то, в общем, была, но любовь – как бы выразиться поточнее – необременительная, согласная занимать то место, которое он ей давал, любовь, которая не требовала от него немыслимых жертв и мирно уживалась с его призванием (тут он вспомнил голубые глаза Оленьки и улыбнулся). И не был он болен, как Алешка, которого ни с того ни с сего сразила чахотка, и не случалось в его жизни ничего эдакого, после чего она покатилась бы в тартарары, сминая и уничтожая человеческую личность, как какую-нибудь бумажку. И вообще, ничего, ничего не изменилось по сравнению с теми счастливыми (он теперь ясно видел это) днями, когда он мог сочинять, и мелодий было столько, что они теснились в воображении и рвались наружу, словно торопясь обогнать друг друга.
Когда он только осознал свою беду, он думал, что случившееся – явление временное, и музыка куда-то отлучилась, чтобы вскоре вернуться. Но прошел день, потом другой, затем неделя, вторая, и Чигринский затосковал. Он блуждал по своему кабинету (двенадцать шагов по диагонали ковра туда, двенадцать шагов обратно), засунув руки в карманы потрепанного коричневого халата, в котором ходил дома, и с отчаянием понимал, что ничего, ну ничегошеньки не может поделать. Пианино, на котором он обычно сочинял свои мелодии, стояло темное и торжественное, как гроб, и композитору чудилось, что даже оно осуждает его.
Выдохся! выдохся! исписался, голубчик, исчерпал себя, улетела муза, или не муза, а как там ее… которая стоит за твоим плечом и водит пером, и весь мир кажется тогда по плечу (каков каламбур, а?).
Чигринский был натурой здоровой, и его никогда не тянуло к самоубийству, но в эти дни, когда страшное слово – исписался – предстало перед ним во всем своем жутком величии, во всей омерзительной красе, он поймал себя на том, что чаще стал смотреть на пистолеты, которые, верный своей привычке, продолжал хранить у себя дома (в прошлом, до того, как стать любимцем публики и известным всей России композитором, Дмитрий Иванович был всего лишь гусарским офицером).
Оно, конечно, верно: жизнь есть непреходящая и величайшая ценность, но, если это жизнь Дмитрия Чигринского и из нее ушла музыка, на кой она ему сдалась?
Он заворочался в постели, пытаясь уловить хоть что-то, хоть какое-то подобие мелодии, рождающееся в воображении, но там все было пусто и скучно – ничего и никого. Ни ноты, ни отзвука, ни даже эха. И Чигринский с горечью подумал, что так, наверное, должна себя чувствовать сломанная шарманка.
Впрочем, шарманку еще можно починить, а кто починит его?
От таких мыслей впору было и в самом деле повеситься. Вот вам, пожалуйста: крепкий, здоровый, полный сил мужчина, пользующийся популярностью и даже (что бывает гораздо реже) уважением общества, всего в жизни добившийся сам, один из известнейших композиторов России – и, кстати, один из немногих, которого знают за границей. Денег у него достаточно, женщины к нему льнут, и вообще все, все хорошо, только музыка, или муза, черт ее разберет, его покинула. И лежит он колодой на смятых простынях, смутно размышляя о том, что ему хочется лишь умереть и ничто абсолютно его не радует.
Поехать, что ли, к Дюссо (по старой памяти он хаживал в этот ресторан, любимый офицерами) и напиться так, чтобы чертям стало тошно? А смысл?
Поехать к Оленьке и утонуть в ее чудесных голубых глазах? А смысл?
Или отправиться на какой-нибудь званый вечер (он редко показывался на них, и оттого его жаждали заполучить к себе даже самые изысканные, самые аристократические салоны)? А смысл?
Вот и получалось, что без музыки ничто не имело смысла. Ну будет он ходить среди фраков и тренов как живой мертвец, и все будут думать, что он такой же, как все, и только ему будет ведомо, что на самом деле он больше не существует, а тот Дмитрий Иванович Чигринский, которым все восхищаются, – лишь миф, личина. Так, одна видимость.
От одной мысли об этом он почувствовал себя больным и поглубже зарылся в одеяло. Ничто его не радовало, ничто не могло утешить с тех пор, как его музыка ушла.
«Лучше бы я умер», – обреченно подумал он и чихнул.
Глава 2 Музыка и ее служители
– Прошка! – взревел Чигринский.
Чихнув еще раз, он нашарил на прикроватном столике колокольчик, опрокинул по пути что-то – кажется, стопку книг – и чертыхнулся по-гусарски крепко.
– Прошка! – заорал Чигринский, яростно звоня.
Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась узкая бледная физиономия с длинным носом, украшенным бородавкой. Это был Прохор Антипов, формально – слуга Дмитрия Ивановича, а по сути – его преданный раб, нянька и незаменимый помощник.
До того как попасть на службу к композитору, Прохор был регентом в каком-то захолустном углу обширной Российской империи и скорее всего там бы и окончил свои дни, но по воле провидения его жизненный путь скрестился с дорогой Чигринского, скучавшего в имении своих знакомых по соседству. Разговорившись с сутулым, некрасивым, смешным человечком, который вечно вышагивал со связкой растрепанных нот под мышкой, Чигринский узнал, что тот очень любит музыку, а кроме того, имеет феноменальную память и практически абсолютный слух. Из-за этого, кстати, судьба сыграла с ним злую шутку: он собирался жениться на дочке местного кузнеца, но, на беду, выяснил, что она не может отличить си от фа. Прохор сначала рассердился, потом возмутился и под конец объявил, что такая жена ему не нужна. Приводить жениха в чувство явился сам кузнец, известный тяжелой рукой и крутым нравом. Своей мощной дланью он ухватил тщедушного Антипова за бороденку, но тот, извиваясь аки ящерица, вырвался (очевидцы утверждали, что как ящерица оставляет врагу на память свой хвост, так и Прохору пришлось попрощаться с частью своей жидкой бороды) и заперся на колокольне, громко крича:
– Изыди, анафема!
– Спускайся, подлец! – кричал снизу кузнец, потрясая клочьями Прохоровой бороды, зажатыми в кулачище величиной с хорошую дыню.
– А вот и не спущусь! – отвечал сверху осмелевший Прохор. – Как же это можно – не уметь ноты различать? Ладно буквы, их тьма-тьмущая, но ноты!..
Слушая рассказ о злоключениях Прохора, которому кузнец с присовокуплением многочисленных бранных слов пообещал вправить мозги так, что он забудет не только ноты, но и свое собственное имя, Чигринский хохотал до того, что на глазах у него выступили слезы. А отсмеявшись, он без всяких околичностей предложил Прохору поступить к нему на службу.
– Ну, не знаю, не знаю, сударь, – забурчал тот, сдвинув свои лохматые брови. – Вы лицо светское, а я не привыкши…
– Да ладно тебе, – махнул рукой Чигринский. – Ты же сам говорил, что твой хор – сплошное мучение, у половины нет голоса, а только старание. На одном старании далеко не уедешь… Впрочем, поступай как знаешь, – уже сердито добавил композитор, который терпеть не мог уламывать кого бы то ни было. – Хочешь, чтобы кузнец тебе в сумерках голову проломил, – твое дело…
Поразмыслив, Прохор признал справедливость слов Дмитрия Ивановича и уже на следующий день перенес к композитору свои вещи. Половину их составляли ноты и разные сочинения о музыке, большинство которых напечатали еще тогда, когда ни Прохора, ни Чигринского на свете не было.
– Ба, а вот эта книжка на латыни! – изумился Чигринский. – В руках рассыпается, но читать можно… Ты что, и латынь знаешь?
– Не знаю, – вздохнул Прохор, – ну а вдруг выучу? Прочитаю тогда, что умные люди о музыке-то написали… Заглавие видели? «De musicae mundi»[99], во как!
– По-моему, это какой-то философский трактат, – хмыкнул Чигринский, не без труда продравшись через несколько фраз текста. – Ладно, как прочитаешь, расскажешь, о чем там говорится…
Он удалился, а через минуту Прохор сквозь неплотно притворенные двери расслышал, как его новый хозяин музицирует. Антипов застыл на месте, на его глазах выступили слезы, одна из которых потекла по длинному носу и докатилась до бородавки. Музыку Прохор обожал до чрезвычайности, а какой-нибудь особенно удачный пассаж мог и вовсе привести его в состояние, близкое к экстазу. Но, хотя мало кто так разбирался в музыке, как этот невзрачный рыжеватый человечек, таланта к сочинительству у Антипова не было. И, учуяв этот самый талант в Чигринском, бывший регент прилепился к нему всей своей восторженной душой.
Прохорово видение мира было предельно ясным: вселенная вертится вокруг Дмитрия Ивановича, а если в учебниках написано, что какие-то малозначительные планеты вращаются вокруг Солнца, то это недоразумение, которое простительно людям, в музыке не смыслящим. За короткое время новый слуга сделался положительно незаменим. Он разобрался с кредиторами, которые допекали Чигринского еще с гусарских времен, завел в доме ненавязчивый, но строгий порядок и, присмотревшись к друзьям и знакомым хозяина, рассортировал их по каким-то ему одному ведомым воображаемым полочкам. Он изловчился отваживать тех, которые только зря тратили время (и деньги) добродушного, расточительного композитора и, наоборот, привечал тех, которые оказывали на Чигринского хорошее влияние или были ему действительно необходимы. Кроме того, Прохор принимал многочисленных посетителей и частенько, едва перекинувшись с человеком парой слов, определял, кто действительно нуждается во внимании или в помощи, а кто явился лишь для того, чтобы вечером небрежно уронить в кругу приятелей: «Сегодня я навестил Дмитрия Ивановича… Какого Дмитрия Ивановича? Чигринского, разумеется… Да, который музыкант. Представьте, мы с ним давно знакомы…» и далее расписывать историю знакомства, которая сильно озадачила бы самого композитора, который сегодня видел гостя первый раз в жизни. А еще бывали дамы, причем самые разные, от модисток до посланниц великих княжон, – тех, которые любили музыку Чигринского и считали своим долгом сообщить ему это через посредниц, являвшихся в обманчиво скромных нарядах.
– Ну что они все от меня хотят? – стонал композитор. – «Ах, как я люблю ваши песни, сколько в них поэзии, сколько чувства, сколько изящества!» И что? Я должен запрыгать от радости? Сойти с ума от счастья? И ведь хвалят-то обычно самые дурацкие, самые никчемные вещи, просто буквально: сел к роялю и, смеясь, записал между двумя трубками! А потом барышни друг у друга ноты вырывают, чуть ли не дерутся из-за них в магазинах…
Прохор слушал и смиренно кивал, но в глубине души был уверен, что хвалят совершенно правильно и что именно то, что, как казалось Чигринскому, он выдумал на ходу, безо всяких усилий, у него получалось лучше всего. Как только он начинал размышлять об отделке, о какой-то своей музыкальной философии, его музыка становилась тяжеловесной, рассудочной, какой-то немецкой. Но Прохор скорее отрезал бы себе язык, чем признался в крамольных мыслях хозяину, которого боготворил…
Чигринский был мастером небольших вещей, таких мелодий, которые любой мало-мальски образованный человек может исполнить, таких песен, которые каждый может спеть. И мало этого: услышав написанное им один раз, мало кто отказался бы прослушать то же самое во второй, и даже несколько раз кряду. Его музыка как-то незаметно будила в каждом свои собственные мысли и чувства, она касалась таких струн души, которые подвластны далеко не каждому композитору, пусть даже очень хорошему. Злопыхатели (а их, само собой, имелось предостаточно) уверяли, что секрет Чигринского на самом деле в том, что он прост как дважды два, и его мелодии точно такие же. Но именно эта простота почему-то никому, кроме него, не давалась.
Он любил сочинять песни на стихи известного поэта Алексея Нередина[100], с которым начал приятельствовать еще тогда, когда оба служили в армии. Писал он также вальсы, ноктюрны и сюиты, а как-то раз сочинил бравурно-маршевую мелодию к довольно неприличным стихам сослуживца, которые высмеивали армейские порядки и разные мелкие шалости, известные узкому кругу лиц. Марш потом был опубликован, разумеется, без слов. Так он звучал чрезвычайно торжественно, но все, кто некогда присутствовал при первом, авторском, исполнении этой мелодии и помнили слова, которые сами же они выкрикивали хором в задней комнате заведения небезызвестной мадам Дуду, прилагали колоссальные усилия, чтобы во время исполнения не умереть со смеху.
Но все это осталось в прошлом – и армия, и падение с лошади, когда Чигринский сломал ногу и, оказавшись в постели, начал от скуки сочинять музыку; в прошлом были и известность, а потом и настоящая слава – которая, впрочем, не помешала его отцу, отставному генералу, всегда находившемуся в ссоре со всеми, кроме себя самого, холодно процедить сквозь зубы: «Я надеюсь, ты знал, что делал, когда ушел в отставку ради твоих дурацких песенок…»
Нет, конечно, слава Дмитрия Ивановича была пока при нем, да и армейская выправка никуда не делась. Проблема была в том, что что-то сломалось в нем самом, раз музыка покинула его.
«И чем я только провинился?» – с досадой подумал он и вновь чихнул три раза подряд.
– Прошка! Почему такой собачий холод?
– Так вы сами-с вчера-с сказали, что вам жарко, сил нет, аж дышать не можете, – почтительно напомнил верный слуга. – Вот я и…
– Ты уморить меня хочешь? – возмутился Чигринский, ворочаясь с боку на бок и подтягивая одеяло повыше, чтобы сохранить тепло. – Вчера это, положим, было вчера, а сегодня – это сегодня, и вообще… Нет, – продолжал он, заводясь, – это прекрасно: я в собственном доме должен околеть от холода! Скажите, пожалуйста!
– Сейчас сделаем потеплее, – сообщил Прошка и куда-то умчался рысью.
Он прибежал с охапкой поленьев, по пути вернул на стол упавшие с него книжки и как-то очень ловко и умело растопил камин. Чигринский мрачно наблюдал за его манипуляциями. От каминов, вспомнил он, бывает угарный газ, а от угарного газа умирают. Лежал бы он сейчас окоченевший и тихий, причитали бы над ним в два голоса Прошка и обширная кухарка Мавра, и никто, ни один человек на свете не узнал бы, что он исписался, как последний, прости господи, беллетрист…
Поленья потрескивали, огонь весело полыхал, и луна на картине походила уже не на апельсин, а на лимон. Чигринский посмотрел на нее и выразительно скривился.
– Который час?
За слугу ответили стенные часы, которые пробили десять. Чигринский возмутился сам себе и полез из постели прочь. Оттолкнув Прошку, он надел любимый, драный и много раз чиненный коричневый халат, который верой и правдой служил ему много лет. Данный халат уже давно являлся причиной молчаливой борьбы между ним и слугой, который находил (кстати, вполне резонно), что знаменитому композитору, гусарскому офицеру и вообще российскому дворянину негоже щеголять дома в каких-то обносках. Время от времени Прохор подступался к господину со смиренной просьбой избавиться наконец от халата и сменить его на что-нибудь приличное. Чигринский кивал, соглашался, но от халата отказываться не спешил. Вконец отчаявшись, Прохор съездил в модный магазин и приволок оттуда восхитительный шлафрок, расшитый павлинами и пестрой чепухой, изображающей сад с такими диковинными цветами, о которых даже не подозревает ботаника. Особенный соблазн шлафрока заключался в том, что пояс у него был с золотыми кистями, а, по мысли Прохора, ни один человек в мире не мог устоять против таких кистей. И точно, Дмитрий Иванович скинул наконец коричневого залатанца, облачился в шлафрок и даже, чего за ним отродясь не водилось, покрутился перед зеркалом. Держа на вытянутых руках обвисший тряпкой проклятый халат, Прохор тихо-тихо попятился к выходу, не чуя под собой ног. Шаг, другой…
– Стой!
Зычным голосом Чигринский вернул Прохора и, сбросив обольстительный шлафрок, вновь облачился в свой мерзкий халат. От огорчения у слуги даже губы задрожали.
– Что-то у меня от него тело чешется, – снисходительно объяснил свое решение Чигринский. – Да и не привык я к этим павлиньим красотам…
Впрочем, новый халат он сохранил и изредка выходил в нем к самым скучным, самым торжественным гостям, которых никак нельзя было выпроводить иначе. Чигринский говорил с ними минут пять и уходил, а они уезжали, твердо убежденные в том, что видели знаменитого композитора в домашней обстановке, среди изысканных ваз севрского фарфора и на фоне сверкающего рояля, застывшего на толстенном ковре «савоннери».
И фарфор, и роскошный рояль лучшей фирмы, к которому Чигринский почти не подходил, и даже ковер (по которому некогда будто бы ступали ножки маркизы де Помпадур) были заслугой Прохора, стремившегося обустроить холостяцкую берлогу своего хозяина как можно лучше. Однако Чигринский был равнодушен к красоте, которая его окружала – разумеется, если речь шла не о женской красоте. У себя в спальне он повесил самый никчемный, самый шаблонный, самый жалкий вид ночного моря, который когда-либо выходил из-под кисти живописца, дома, как уже было сказано, ходил в старом халате, а музыку сочинял чуть ли не на чердаке, в комнатушке на верхнем этаже, куда вела узкая и необыкновенно скрипучая лестница. Там стояло старое, раздолбанное и поцарапанное пианино с пожелтевшими клавишами, без которого он не мыслил своего существования, на стенах были серенькие обои в полосочку, которые уместны разве что в самых дешевых меблированных комнатах. Верный Прохор выдержал целую битву за то, чтобы вызвать настройщика для пианино, но на то, чтобы заставить хозяина сменить обои, его сил уже не хватило. Когда он доказывал Чигринскому, что у инструмента ужасный звук, тот только пожимал плечами и говорил:
– На что мне твой звук? Вся моя музыка здесь, понимаешь, здесь! – и стучал себя согнутым пальцем по высокому, с залысинами, лбу.
…Да-с, и куда же она делась? Непостижимо, право, непостижимо…
Глава 3 Признание
Фыркая, как потревоженный слон, Дмитрий Иванович умылся, расчесал свои редеющие темные волосы и сел бриться перед зеркалом, которое держал слуга. Прохор не раз и не два пытался объяснить хозяину, что он сам отлично справится с ролью брадобрея, но все было тщетно: Чигринский не признавал никаких доводов. Он носил усы, воинственно топорщившиеся в стороны, а остальную часть лица всегда брил собственноручно. О причине такого поведения он никому не любил рассказывать. Дело в том, что, когда их полк стоял в Гомеле, знакомому Чигринского во время бритья перерезал горло цирюльник – очень тихий, незаметный и приветливый с виду человечек – за то, что офицер хаживал к его жене. По правде говоря, у Чигринского тоже было в мыслях как-нибудь к ней заглянуть, но после трагедии он, само собой, отказался от своего намерения. Кроме того, он вскоре поймал себя на том, что с подозрением стал относиться к людям, у которых в руках острые предметы. А так как Дмитрий Иванович был человеком решительным, то он взял за правило бриться сам, ибо проще быть уверенным в том, кого ты знаешь лучше всех на свете, нежели в самом замечательном цирюльнике с самой достойной репутацией.
– Что пишут в газетах? – промычал он, вытирая лицо салфеткой.
Чигринский не жаловал газеты. Обыкновенно они писали всякую чепуху или же витиевато рассуждали о политике, которая, по мысли композитора, была самой чепуховой чепухой на свете. Поэтому Прохору вменялось в обязанности читать прессу от корки до корки и, только если обнаружится что-то интересное, докладывать об этом хозяину.
– Что они могут писать? – с достоинством промолвил Прохор, пожимая плечами. Перейдя на службу к Чигринскому, он стал копировать его прическу, зачесывая волосы назад, и отказался от бороды в пользу усов, которые, впрочем, не выказывали особого намерения расти. Как это часто бывает, подражание оказалось куда хуже оригинала. Залихватски торчащие усы Чигринского были частью его широкой, добродушной натуры и чрезвычайно шли ему, а при взгляде на Прохора возникала мысль, что у него губы ниточкой, а открытый лоб чересчур костист.
– Так что, совсем ничего?.. – спросил композитор.
– У Алексея Ивановича скоро выходит новая книга стихов, но вы, наверное, уже знаете…
– Знаю.
– Намекают, что мы можем заключить с Германией договор. Значит, договор будет с Францией.
– Этого еще не хватало, – проворчал Чигринский. – Что немцы, что французы те еще затейники. Если они и станут клясться нам в дружбе, то только для того, чтобы мы таскали для них каштаны из огня…
– Гм, – с некоторой растерянностью промолвил Прохор. – Но ведь России нужны друзья в Европе…
– У России нет друзей, – отрезал композитор. – И слава богу, потому что с друзьями в политике еще хуже, чем с врагами… Что-нибудь еще в газетах пишут? Только не о международном положении, не о пошлинах и не о покойном князе Бисмарке…
– Разве бывший германский рейхсканцлер[101] скончался? – искренне изумился Прохор. – Я не знал…
– Раз бывший и не у власти, значит, все равно что скончался, – хмыкнул неисправимый Чигринский, который жаловал политиков еще меньше, чем политику. – Как только этих господ отправляют в отставку, можно сразу же сочинять им некролог… гм… Подай-ка мне ножницы.
Он подровнял усы и любовно оглядел их.
– Что молчишь, Прохор? Рассказывай, что еще в газетах пишут…
– Да вам все это неинтересно, Дмитрий Иванович… Миллионер Дидерихс, говорят, обзавелся автомобилем… вещь по последнему слову техники. Певица Кирсанова дает концерт… Полиция задержала горничную по делу убитой генеральши Громовой… пишут, это она ограбила хозяйку… У служанки нашли два украденных кольца.
– Ты мне зубы-то не заговаривай, – заметил Чигринский, насмешливо щурясь. – Небось опять меня в газетах честят на все корки, а ты мне все про договоры да про дураков, которые берут грех на душу из-за каких-то колец? Что там про меня опять написали, а?
Дмитрий Иванович слишком хорошо знал своего слугу, чтобы не уловить в его голосе фальшивые нотки, когда тот рассказывал о чем угодно, только не о том, что действительно могло заинтересовать хозяина. Прохор замялся.
– Илларион Петрович Изюмов оперу пишет для Большого, – почему-то шепотом доложил он.
– Ах, шельма! – развеселился Чигринский. – Оперу? Для Большого? Ну, ну… И как он ее пишет? Стянул кусок у Глинки, кусок у Верди и думает, что никто ничего не заметит? Только в Большом и способны слопать такую пакость…
– Он с репортером беседовал, который расспрашивал его о творческих планах, – мрачно молвил Прохор. – И среди прочего сказал, что в отличие от вас стремится к настоящей славе, потому как простые песенки ее не доставят, а опера, балет – это серьезно…
– Прошка, да ты что, совсем дурак, что ли? – уже сердито вскричал Чигринский. – Какая опера, какой балет? Думаешь, это так, сел, решил: ах, я сейчас напишу оперу! – и готово? К славе он, видите ли, стремится! – продолжал композитор, в волнении ходя по спальне. – Скажите, пожалуйста, какая цаца! Оперу просто так не напишешь, да-с! Заметь, я говорю о простой опере, даже не о том, чтобы сделать что-то стоящее… Сюжет нужен, а где его взять? Все подходящие уже растаскали, все же нынче умники… Затем: либретто! Героиня поет, а ведь она должна петь о чем-то? То же и герой! Вон, драматургам хорошо… Островским всяким… Шекспирам! Сел за стол и строчи что хочешь, никто не указ! Им ни с кем сотрудничать не нужно… Кто мне будет либретто писать, а? – грозно вопросил Чигринский, нависая над съежившимся слугой. – Алешка, что ли? Стану я его такими пустяками волновать, когда он в санатории лечится! Пригласишь другого… так он, подлец, с порога начнет расписывать, сколько процентов прибыли ему должно причитаться… это когда еще ни сюжета, ни строчки не написано, ничего! И что? Мне лезть в эту кабалу? Ладно еще что приличное будет, а если такая чепуха, что не приведи господи? Как мне это на музыку класть?
– Но ведь вам писали… предлагали услуги… – напомнил робко Прохор. – Если, мол, что, то вы можете на них рассчитывать… И писатели вполне известные…
Чигринский махнул рукой и рухнул в кресло.
– Э, в том-то и дело, что я ни на кого рассчитывать не могу! «Опера, балет», – свирепо передразнил он. – Все это замечательно, но – не вышла у меня песня… или Алешкины стихи подкачали, или я сам сплоховал, что я делаю? Правильно: пишу другую, а он сочиняет другие стихи. И публика очень быстро забывает о неудаче… А теперь представь: я, которого то и дело попрекают, что он в консерваториях не учился и музыкального образования не имеет, полезу в оперу… или балет, неважно! Ведь это не на неделю работы и даже не на месяц… а ну как она провалится? А ведь провалиться может по какой угодно причине: главная певица будет не в духе, а они всегда не в духе, или с декорациями напортачат… или еще что-нибудь… И знаешь, кто тут самый первый враг? Не публика, хотя она глупа до безобразия, не болваны, которые пишут рецензии и охаивают все, что не относится к их собственным приятелям… а вот эти вот… жрецы искусства, чтоб им пропасть! Сочинил свою «Спящую красавицу» Чайковский, и что ему говорит балетмейстер Петипа? Именно Петипа, который в музыке – как считается – собаку съел… Петипа с важным видом говорит: пардон, месье, но у вас не танцевальная музыка, под нее танцевать нельзя, это не балет… Здорово, да? Так бы и пропал Чайковский вместе со своей работой, если бы не император, который сказал: «А я говорю – танцуйте…» Ну и что хорошего ждать в стране, где самодержец лучше разбирается в музыке, чем профессионал? – яростно спросил Чигринский у безответной луны на картине. – Ничего!
– Я верю, вы могли бы написать значительную вещь, – твердо ответил Прохор. – Когда-нибудь, когда у вас будет ваш сюжет… когда все сойдется, как надо…
Чигринский хотел сказать что-то резкое, но поглядел на лицо верного слуги и только ворчливым тоном осведомился, где завтрак.
До появления Прохора Чигринский не признавал столовых и ел – то есть перекусывал на скорую руку – либо в спальне, либо в своем кабинете, но постепенно слуге удалось приучить композитора к мысли, что все-таки принимать пищу надо в комнате, специально для этого предназначенной. Стоит отметить, что Прохор порядочно потрудился над тем, чтобы эту комнату украсить, хотя Чигринский по привычке не обращал внимания ни на французскую мебель, ни на старинные серебряные подсвечники, ни на тяжелые шторы из синего бархата.
Бросив взгляд за окно, Дмитрий Иванович помрачнел. Погода была истинно петербургская: сверху что-то серое под названием небо, внизу вода, тоже серая, а между ними зажат, как в клещах, черный город.
– Сволочь этот Петр, – горько молвил Чигринский.
Прохор, который силился понять, какого именно Петра хозяин имеет в виду, взглянул на него непонимающе.
– Да, да, Петр Первый, – пояснил композитор, давая волю своему дурному настроению. – Обязательно ему надо было втиснуть Петербург на эти постылые берега… и кто его просил, спрашивается? Не мог для столицы империи подыскать чего-нибудь получше, покрасивее да потеплее… Есть же, в конце концов, такие города, как Одесса…
– Во времена Петра Алексеевича Одессы еще не было, – напомнил Прохор, которого слегка покоробила фамильярность хозяина. Сам Антипов чрезвычайно уважал царскую фамилию и не одобрял замечаний в ее адрес. – Она тогда у турок была, ее только при Екатерине Великой завоевали.
– Ну так отбил бы ее у турок, – хмыкнул Чигринский, помешивая кофе. – Подумаешь, важное дело… А Киев? Что ему мешало, спрашивается, столицу в Киев вернуть? Мать городов русских, как-никак… хотя, конечно, – с озорством добавил он, – какая из Киева мать, когда он мужского рода?
Прохор фыркнул.
– Или Екатеринодар, например… А, нет, этот тоже позже основан…
– Вам не к лицу так отзываться о государе императоре, – не удержавшись, наставительно заметил Прохор.
– А? – удивился Дмитрий Иванович, который успел уже все позабыть. – Ты это о чем?
– Ну вот вы только что сказали о Петре Алексеевиче…
– Что он сволочь? Конечно, сволочь, – решительно ответил бывший гусарский офицер. – Собственного сына порешил… За такое в Сибирь ссылают, между прочим.
Прохор понял, что хозяина ему не переубедить, и почел за благо умолкнуть.
После завтрака Чигринский уселся в углу парадной гостиной и стал просматривать почту. Это была та самая гостиная, где на толстом ковре тосковал рояль, чьи клавиши никогда не тревожила рука композитора. Порой, когда к Дмитрию Ивановичу являлись фотографы, он позировал им именно здесь, стоя возле рояля. Сам он не любил свои фото и вообще смотреть на себя не любил. Внешность у него была заурядная, штабс-капитанская – армия все же оставила на нем значительный отпечаток; и пальцы толстые, как сардельки. Глядя на них, даже как-то не верилось, что их обладатель способен сочинять такие нежные, хватающие за душу мелодии.
Письмо от Нередина Чигринский стал читать в первую очередь, но оно было такое длинное и запутанное, что разобраться в его сути оказалось нелегко. Бросив взгляд на пачку оставшихся писем, композитор крикнул:
– Прошка! Помоги мне разобрать письма… Бери те, которые от незнакомых, и читай. Если что важное, сразу говори… Да не стой ты, садись, не маячь перед глазами!
Едва дыша от оказанной ему чести, Прохор приземлился в кресло по другую сторону круглого столика, на котором в беспорядке лежали конверты, и стал разбирать их.
– Это у тебя что за письмо? – через несколько минут заинтересовался Дмитрий Иванович. – У тебя аж нос ходуном ходит…
Прошка поджал губы.
– Некая Наталья Александровна Богомаз просит вас о помощи… шестнадцать детей сидят без хлеба, четверо болеют…
– Раз хватило ума слепить шестнадцать детей, должно хватить ума и на хлеб им заработать, – парировал Чигринский. – Знаю я этих просителей: сидят в меблирашках и день-деньской строчат письма о помощи, которые рассылают по адресам из справочника… А вместо шестнадцати детей дай бог шесть, и вовсе не больные, а такие, на которых пахать можно…
– Она уже четыре раза вам писала, – заметил слуга. – На прошлой неделе, кажется, детей было девять.
– Значит, за неделю еще семеро родились! – расхохотался Чигринский.
«Так-то оно так, – подумал верный Прохор, – а вот без меня бы вы последние деньги ей послали, которые она бы с радостью пропила…» Даже в мыслях он именовал Дмитрия Ивановича на «вы».
Прочие письма в мятых, замызганных конвертах оказались в том же роде, и Прохор не без удовольствия поглядел на конверт, который разительно отличался от предыдущих. Он был плотный, с гербом и монограммой и вид имел неприступный, как герцогиня на балу. Краем глаза слуга заметил, что хозяин тоже заинтересовался необычным конвертом.
– Что там? – небрежно спросил Чигринский, дочитывая последние строки нерединского письма.
– Баронесса Корф спрашивает, не почтите ли вы своим присутствием благотворительный вечер, который она устраивает, и не согласитесь ли сыграть на нем, – отозвался слуга, пробежав глазами короткое послание на надушенной бумаге.
– Корф? – Усы Чигринского воинственно встопорщились. – Немчура? К немчуре не пойду, – категорично заявил он.
– Дмитрий Иванович…
– Я сказал – не пойду!
И по его виду Прохор понял, что спорить бесполезно.
Дмитрий Иванович не любил немцев. Точно так же не любил он греков, армян, евреев, французов, поляков, татар, грузин, – перечислять можно очень, очень долго. Самого себя он считал русским, хотя в его родословной встречались и некая очаровательная осетинка, вскружившая голову его прадеду, и француз, и дама из Саксонии, которую ветром странствий прибило к недолговечному двору Анны Леопольдовны, и татарский князь. Все эти люди, если бы удалось их собрать в одной комнате, чрезвычайно удивились бы тому, что им суждено было породниться через своего знаменитого потомка. Возможно, татарский князь вообще не ушел бы живым от пращура Чигринского, который имел обыкновение сажать татар на колья…
Но никакие предки иной национальности не могли помешать Чигринскому считать себя с головы до ног русским, равно как не могли помешать ему энергично презирать все нерусское, если на него находил такой стих. Особенно он выходил из себя, если считал, что при нем задевают или пытаются унизить русский народ. Тогда он готов был лезть в драку и пререкаться до хрипоты, до самых обидных, самых оскорбительных высказываний. Об этой особенности композитора всем отлично было известно, и тем не менее никто не удивился, когда именно Чигринский, а не кто другой, дал пощечину пьяному зрителю, который на представлении в театре громко обозвал дирижера Азаряна «паршивым армяшкой». Скандал мог получиться нешуточный, потому что побитый зритель занимал весьма высокое положение, но вмешались влиятельные поклонницы композитора, и дело замяли, а ироничный Азарян прислал своему защитнику корзину алых роз, которую тот отослал обратно с советом послать их лучше графине С., которая была тогда любовницей дирижера. Азарян расхохотался и пригласил Чигринского в лучший петербургский ресторан.
– Ваша музыка мне нравится, – сказал дирижер после того, как они разделались с первыми блюдами и на подходе была очередная бутылка отличного вина. – Она искрится и заражает. Поверьте, это очень хорошо, но я вижу, что ваш талант шире, гораздо шире. – Он прищурился. – Почему бы вам не написать что-нибудь серьезное, к примеру, балет?
Чигринский терпеть не мог разговоров о широте своего таланта, а также о том, что ему следует (или не следует) делать. Поэтому он проглотил бокал вина и объявил, что у него нет идеи ни для балета, ни для оперы, ни для симфонии в четырнадцати частях с прологом и эпилогом.
– Жаль, – вздохнул Азарян. – Ваша музыка очень нравится балерине Малиновской, она говорила мне, что у вас она готова станцевать что угодно.
– Она не балерина, – отозвался Чигринский. – Да, она танцует первые партии, но…
Он имел в виду, что «балерина» было тогда почетным званием, которое вовсе не давалось по умолчанию всем, кто выступал в балетах на императорской сцене. И хотя Малиновская тогда царила в Мариинском театре и была так же знаменита, как и ее бриллианты, звание балерины эта талантливая танцовщица получила только через год.
– Я бы на вашем месте все-таки подумал, – заметил дирижер. – Коротко говоря, если вы когда-нибудь перемените свое мнение, я сочту за честь дирижировать у вас оркестром.
Чигринский пообещал подумать, но сам он ни над чем таким размышлять не собирался. Некоторые люди рождены для того, чтобы дышать театральной атмосферой, композитору же она казалась убогой и скучной. Ему претили интриги, которыми насыщена театральная жизнь, капризы звезд и вообще вся громоздкая машина, которая именуется театром. Он был проницателен и видел, сколько там случайных и малоталантливых людей и как горька бывает судьба людей талантливых, но не сумевших вписаться в жесткие рамки. Что касается публики, то Чигринский никогда ей не доверял – ни тогда, когда о нем никто не знал, ни тогда, когда он уже сделался знаменитым. Порой ему представлялось, что он только по чистой случайности сумел приручить какое-то многоголовое чудовище и что одна оплошность, о которой он может даже не подозревать, приведет к тому, что все рухнет. В конце концов, сколько было композиторов, которые начинали с блеском, а кончали свои дни в нищете? А ведь еще больше таких, кто на многое были способны, но так и не сумели ничего добиться…
Нет, ему не на что жаловаться: он не искал успеха и даже не помышлял о нем, тот пришел словно сам собой – и именно тогда, когда Чигринский был еще молод и мог насладиться всеми преимуществами удачи. Добиться славы в тридцать или в шестьдесят лет, даже в пятьдесят – большая разница. Поздний успех нередко озлобляет: ведь ему предшествовало столько разочарований…
«Уж не за свою ли раннюю славу я расплачиваюсь теперь?» – смутно подумал Чигринский.
Разобрав письма, он поднялся в свою келью, как в шутку иногда называл свое рабочее пространство. Стол, стул, низкий диван, ширма, пианино, за которым он написал все свои вещи. Когда-то ему казалось, что именно это пианино приносит ему удачу. Но пианино стояло на прежнем месте, а музыки не было и в помине.
Насупившись, Чигринский закурил трубку, сделал круг по комнате, выглянул наружу. Он любил, чтобы из окна была видна река, но теперь вид Мойки, катившей свои воды, не вызывал в нем ничего, кроме раздражения. Он даже задернул занавески, чего с ним раньше здесь не случалось.
«Попробовать, что ли?»
Он сел за пианино и стал перебирать клавиши. За дверью послышался шорох: это Прохор уселся на стуле с пером и нотной бумагой наготове.
Когда Дмитрий Иванович был в настроении, он сочинял так быстро, что не всегда успевал записывать. Бывало и так, что он импровизировал, не записывая вообще и полагаясь лишь на свою память. Но однажды он таким образом упустил очень красивую, как ему казалось, мелодию. Она растворилась в окружающем пространстве, оставив лишь впечатление чего-то очень светлого, пропавшего по его вине. Два дня Чигринский ходил сам не свой, ероша волосы и куря трубки одну за другой, и наконец рассказал слуге о причине своих терзаний.
– Это, стало быть, то, что вы сочиняли в среду? – почтительно спросил Прохор. – Одну минуту-с…
И действительно, через минуту он принес несколько листков, покрытых нотными знаками. Чигринский схватил их, и его сердце забилось сильнее. То была она!
– Как же ты сумел? – удивился композитор. – Запомнил ты ее, что ли?
Прохор покраснел и признался, что уже некоторое время он записывает за хозяином, когда тот играет. Просто стоит за дверью и…
– Ну, стоять тебе больше не нужно, – засмеялся тронутый таким поклонением композитор. – В другой раз бери стул и устраивайся поудобнее.
Осмелевший Прохор предложил другое: он будет сидеть в комнате за ширмой, тихо, как мышь, когда хозяин сочиняет. Однако Дмитрий Иванович покачал головой.
– Не обижайся, Прохор Матвеич, но я не могу сочинять в присутствии посторонних. Вот хоть кто угодно находится в одной со мной комнате – не могу!
…Печально, что и теперь Прохор сидит за дверью, тщетно ожидая, когда у хозяина пробудится вдохновение. А тот только и может, что играть чужие вещи. Чигринский сыграл кусок Моцарта, кусок Вагнера и какую-то сонату, автора которой начисто забыл.
– Прошка! – крикнул он. – Кто это написал?
– Шопен, – глухо донеслось из-за двери.
Клавиши нежно взвыли на разные голоса. Чигринский бросил играть и уронил руки на клавиатуру, а голову опустил на руки.
– Дмитрий Иванович…
Прохор тотчас же, как по волшебству, материализовался рядом с ним.
– Уйди, – глухо бросил композитор, не поднимая глаз.
– Дмитрий Иванович… Может, чайку?
Прохор не знал, зачем он это ляпнул. Но вот его хозяин поднял голову, и выражение лица у него было такое, что бывший регент попятился.
– Все бесполезно, – тусклым, каким-то обреченным голосом промолвил Чигринский. – Я не могу больше сочинять. Понимаешь? Не могу.
В комнате повисло молчание. Чигринский убрал руки с клавиш, которые протестующе загремели, но тут же умолкли.
– Может, вам, того, жениться? – несмело предложил Прохор. – Заведете семью, деток…
Вероятно, это было самое необычное утешение из всех возможных. Чигринский в первое мгновение так изумился, что даже разозлиться не успел.
– При чем тут это? – начал он заводиться. – Понимаешь, внутри меня больше нет музыки! Я кончился, я труп! На кой черт мне жениться и заводить семью? Что это изменит?
– Не знаю, – вздохнул Прохор, подходя ближе. – А может, вам поехать в Европу? Путешествие, смена обстановки…
Чигринский скривился. По правде говоря, он терпеть не мог перемещаться куда бы то ни было. Его раздражали железные дороги, сутолока на вокзалах, несносные попутчики, обмен денег, карманные воришки и прочие прелести, которые подстерегают путешественников. И он вовсе не был уверен, что конечная цель путешествия – какой-нибудь швейцарский водопад или парижская авеню – стоят этих мучений. Если уж на то пошло, то и водопад, и Париж можно без всяких треволнений посмотреть на фотографиях, и вовсе не обязательно куда-то для этого ехать…
– Нет, – решительно промолвил композитор. – Дело вовсе не в обстановке. Если бы это было так, я бы просто перебрался в другой дом, и дело с концом.
Прохор задумался.
– Может быть, вы из-за Алексея Ивановича так расстроились? – предположил он, имея в виду болезнь поэта.
Однако для эгоиста Чигринского эта версия была в некотором роде не менее сногсшибательна, чем предложение лечить отсутствие вдохновения женитьбой.
– А Алешка тут каким боком? – пожал он плечами. – В конце концов, болен он, а не я…
Он набил трубку и снова закурил. Минуты текли в молчании.
– Что же теперь будет, Дмитрий Иванович? – очень тихо спросил Прохор.
– А пес его знает, – устало ответил Чигринский.
Он выколотил трубку и, не удержавшись, заговорил снова:
– Как отрезало, понимаешь, как отрезало! За что? Почему? Не могу понять. То ли я уже истратил все, что мне причиталось… талант, понимаешь, одному дается чайной ложкой, а другому – черпай не вычерпаешь… Может, я делал что-то не так… балетов не писал, что ли? – Он уныло покачал своей большой растрепанной головой. – Мне раньше музыка даже снилась, а теперь не снится. Засыпаю, как падаю в колодец…
У Прохора на глазах выступили слезы. Он отвернулся.
Глава 4 Посетитель
Если у вас болит живот, вы имеете полное право обратиться к врачу. Если болезнь затрагивает душу, на помощь обыкновенно зовут санитаров со смирительной рубашкой. Совершенно непонятно, однако, что делать, если вас покинуло вдохновение и вы больше не можете сочинять. Ясно только одно: никакие врачи тут не помогут, а средства вроде самоубийства чересчур радикальны и излечивают скорее от жизни, чем от ее тягот.
Да и сама потеря вдохновения, по правде говоря, вовсе не располагает к тому, чтобы откровенничать о ней с кем бы то ни было. Если бы Чигринский проигрался в пух и прах (как в удалые гусарские годы), если бы его оставила розовощекая Оленька, если бы молния ударила в него средь бела дня на Невском проспекте, он всегда бы нашел, с кем обсудить случившееся, и скорее всего не без пользы для себя. Но кому – исключая, само собой, верного Прохора – он мог признаться в том, что вдохновение бросило его, как любовница, которой он смертельно наскучил?
Музыкальным критикам, которые все как один – хоть и в разной степени – терпеть его не могли, потому что он прославился не по-российски быстро, легко и совершенно без их поддержки, не говоря уже об одобрении? Собратьям, многие из которых вообще отказывались признавать в нем композитора? Друзьям, которых у него почти не было, потому что он полжизни провел в армии, а когда занялся музыкой, то круг его интересов резко изменился, и он просто вырос из своих знакомств, как другие люди вырастают из детской одежды?
И уж конечно, Дмитрий Иванович меньше всего хотел признаваться очаровательной Оленьке Верейской, даме своего сердца, что он исписался, совсем как какой-нибудь газетчик самого жалкого пошиба. Что она тогда будет о нем думать, в самом деле?
Тоскуя, Чигринский блуждал по бильярдной, до которой Прохор еще не успел добраться, потому что тут не было ни пыльных бархатных портьер, ни севрского фарфора, зато имелись старый бильярд и коллекция трубок, а на стенах висели холодно поблескивающие клинки. Собственно говоря, это была скорее курительная комната, чем бильярдная, потому что Дмитрий Иванович любил по вечерам посидеть здесь в одиночестве и выкурить трубочку-другую, размышляя обо всем и ни о чем. Бильярд же просто остался от старого хозяина.
Чувствуя себя куда более скверно, чем тогда, когда он, будучи еще гусаром, перепил скобелевского коктейля (кто не знает, это убийственная смесь водки с портером), глубоко недовольный собой, миром и своим положением в этом мире, Чигринский даже обрадовался, когда в передней затрещал звонок.
– Прошка! Кто там? – закричал композитор.
Судя по выражению лица Прохора, который появился на пороге, посетитель был им определен в ту категорию, с представителями которой хозяину ни в коем случае не следовало иметь дела.
– Господин Арапов, Модест Трофимович. – Слуга выдержал крохотную паузу. – Не думаю, что вам стоит его принимать.
– Почему это мне не стоит его принимать, а? – с любопытством спросил Чигринский. – Он что, прокурор или жандарм?
– Студент, – ответил Прохор с интонацией, которая заставляла подозревать в неведомом Арапове самое худшее.
– Проси, – заключил композитор и двинулся в парадную гостиную.
– Дмитрий Иванович, халат!.. – застонал бедный Прохор.
…Когда Арапов, не знающий, куда деться от смущения, вошел в гостиную, он увидел знаменитого композитора в умопомрачительном шлафроке с золотыми кистями, которым мог позавидовать сам китайский император. Даже если бы на месте молодого студента оказался человек куда более наблюдательный, он все равно решил бы, что перед ним чрезвычайно самоуверенный господин, у которого в жизни нет ровным счетом никаких проблем.
– Прошу вас, садитесь, Матвей Тимофеевич, – пригласил хозяин дома после обычного обмена приветствиями. – Чем могу служить?
Не смея поправить собеседника, который переврал его имя-отчество, Арапов трепещущим голосом поблагодарил за оказанную ему честь и едва не сел мимо кресла, но, по счастью, в последнее мгновение успел-таки собраться и приземлился на его край.
«Пожалуй, тут возни минут на десять, – думал Чигринский, глядя на открытое молодое лицо гостя, которое несколько портила россыпь мелких прыщиков. – Он попросит меня подписать карточку для невесты, которая без ума от моей музыки, произнесет тысячу благодарностей, без которых я отлично могу обойтись, и мы расстанемся, чтобы никогда больше не встретиться».
– Простите, сударь, но я даже не знаю, с чего начать, – признался Арапов, застенчиво глядя на Чигринского сквозь очки. – Когда шел сюда, в голове была целая речь, а как только переступил ваш порог… – Он поперхнулся конфузливым смешком.
– Смелее, молодой человек, смелее! – подбодрил его Чигринский. – Как говорится, смелость города берет…
«Начни уж прямо с того, что я гений, и не забудь прибавить, что твоя невеста – образчик всех мыслимых и немыслимых совершенств и что ты едва можешь дождаться окончания учебы, чтобы на ней жениться»[102], – помыслил циничный композитор.
– Я очень люблю ваши песни, – выдавил из себя молодой человек. – Особенно те, которые на слова Нередина… В газетах писали о его болезни… я полагаю, это будет большая утрата для российской словесности, если Алексей Иванович умрет…
– Пока еще до этого далеко, – сказал Чигринский стальным голосом. Бог весть почему, но ему не нравился оборот, который принимал разговор.
– Значит, он выздоравливает?.. – Молодой человек распрямился в кресле, и Чигринскому даже показалось, что он слегка разочарован.
– Ну, Михаил Сергеевич, чахотка все же такая болезнь, которая за неделю не лечится… Доктора говорят, у него хорошие шансы, но выздоровление может затянуться…
– А! Да, конечно, – с облегчением заметил Арапов. – Просто… просто… Понимаете, Дмитрий Иванович, дело в том, что я сам… некоторым образом… то есть… Одним словом, я тоже сочиняю стихи, – сказал он и гордо поправил очки.
Чигринский закоченел.
Ох! Ну что ему стоило послушаться прозорливого Прохора и не пускать странного гостя на порог…
– И вы… – молвил композитор угасшим голосом.
– Да, я хотел взять на себя смелость рекомендовать вам некоторые из моих… моих вещиц… Я знаю, что вы мастерски перелагаете на музыку любые произведения, Дмитрий Иванович… и мне показалось, что мои стихи…
И он уже залез в карман, подлец, и достал исписанную убористым почерком толстую тетрадь.
– Значит, вы пишете стихи? – мрачно спросил Чигринский, исподлобья косясь на гостя.
– Да.
– А почему не прозу?
Арапов удивленно взглянул на композитора.
– Почему не прозу? Почему… почему… Любопытный вопрос! Потому что проза… понимаете… проза жизни… нечто низменное, да? В конце концов, прозой может писать любой, в то время как поэзия…
– Нет, – отрезал Чигринский. – Не любой. – Однако он был достаточно светским человеком, чтобы все же выдавить из себя подобие любезной улыбки. – Значит, стихи… Н-да-с. И много стихов вы напечатали, милостивый государь?
Арапов как-то замялся, и два розовых пятна проступили на его щеках.
– По правде говоря… В наше время…
Больше он ничего не сумел сказать и поднял на Чигринского умоляющий взор. Но скрестивший руки на груди композитор был неумолим, и так же неумолим (почудилось Арапову) был лоснящийся рояль, к которому прислонился хозяин.
– Да-с? – мягко спросил Чигринский.
– Начинающему очень трудно напечататься, – пробормотал Арапов, пряча глаза. – Редакторы в журналах печатают только своих знакомых… и издатели тоже… В наши дни человеку, который чувствует в груди жар поэзии, пробиться сквозь эти косные ряды почти невозможно… невероятно сложно… Я знаю, о чем говорю, потому что столько раз пытался…
И, решив, что он достаточно высказался, посетитель раскрыл тетрадь и откашлялся.
– Стихотворение первое. «К морю».
…Тут Чигринский понял, что ему придется или убить студента прямо здесь, на месте, или покориться своей участи. В первом случае, разумеется, придется отвечать по всей строгости закона, во втором – страдать молча, причем неизвестно, сколько времени, потому что тетрадь была чертовски толстой и за первым стихотворением неизбежно должны последовать второе, третье и сто третье.
«Господи, – в смятении подумал Чигринский, – и чем я только провинился?..»
Тоскуя, он уставился на стену, потом на кисть от пояса, затем принялся вертеть ее, стал вертеть и вторую кисть, причем в противоположном направлении, но все было бесполезно – подвывающим голосом, по последней поэтической моде, юный непризнанный гений продолжал читать свои стихи.
В мире безбрежном и бесконечном Нет ничего мне дороже тебя. Куда б ни занес тебя ветер беспечный, Не забывай никогда меня.По правде говоря, Чигринский крепился долго – до пятого стихотворения, озаглавленного «Прекрасной», – но сейчас он просто не выдержал.
– Простите, Иван Ильич, но «тебя» и «меня» не рифмуются, – сухо заметил он.
Модест Трофимович Арапов поднял глаза на собеседника, и в лице его мелькнуло – да, Чигринский готов был в этом поклясться – нечто вроде снисхождения к композитору, который, даром что без пяти минут гений, ну ничегошеньки не понимал в современной поэзии.
– Рифмуются, – с восхитительной самоуверенностью объявил стихотворец.
– Не рифмуются. – Чигринский стиснул челюсти, на скулах его ходуном заходили желваки.
– Милостивый государь, – уже сердито промолвил студент, – если даже сам Пушкин в «Евгении Онегине» не стесняется рифмовать «колеи» и «земли…»
– Так то Пушкин, – отвечал безжалостный ретроград Чигринский. – Он срифмует корову и полено, с него станется.
– Но…
– Потому что он Пушкин, и обставит он все так, что это действительно будет восприниматься как рифма. А «тебя» и «меня» – не рифма.
В светлых глазах студента вспыхнула совершенно отчетливая злоба.
– Позвольте вам заметить, что Пушкин давно умер, – еле сдерживаясь, проговорил он. – Поэзия с тех пор шагнула далеко вперед!
– Может быть, и шагнула, – гнул свое упрямый Чигринский, – но «тебя» и «меня» все равно не рифма.
– Так что же мне писать? – слегка растерявшись, молвил студент.
– Не знаю. Вы же называете себя поэтом, а не я. И зачем у вас «безбрежный» и «бесконечный» в одной строке? Это синонимы, и одного слова тут вполне достаточно.
Арапов открыл рот.
– Сино…
– Они означают одно и то же. Зачем два раза повторять?
– Как – зачем? – изумился Арапов. – Но… затем, что… потому…
Больше ничего вразумительного он вымолвить не смог.
– И что это за беспечный ветер, который носит героиню? – добил его Чигринский. – Как он ее носит? Где? Она попала в ураган? Или героиня в данном случае – какой-нибудь обрывок бумаги, который действительно может унести ветром? Я, простите, совершенно не понимаю…
В гостиной воцарилось молчание. Студент был бледен и, кривя рот, смотрел в угол. Наконец гость выпрямился и закрыл тетрадь.
– Вам неинтересно то, что я пишу? – спросил он очень тихо.
– Простите, Максим Трофимович, – отозвался Чигринский, почти угадав, – но нет.
– У меня есть и другие стихи, – с надеждой прошептал студент.
– Я в этом не сомневаюсь, – вежливо ответил композитор, – но они меня не заинтересуют. – Он подумал, что бы такое сказать, чтобы утешить совершенно раздавленного молодого человека, и добавил: – И потом, я больше не буду писать песен.
– Почему? – удивился студент.
– Так. – Чигринский сделал неопределенный жест. – Не хочется.
Медленно, словно на ногах у него висели многофунтовые гири, Арапов стал подниматься с места. Но у него оставался еще один вопрос, который жег ему губы – и душу.
– Вы считаете, что я… что у меня… словом, что я недостаточно хорошо пишу?
– Я думаю, что вы славный молодой человек, – ответил композитор, которому теперь было немного неловко из-за того, что он так жестоко обошелся с иллюзиями своего посетителя. – В мире много замечательных вещей и помимо сочинения стихов. Любовь, например…
– Поэтому мои стихи никто не хотел брать, – задумчиво проговорил Арапов, не слушая его. – Ах, боже мой…
Его лицо исказилось гримасой отчаяния. Он сделал несколько шагов к двери, но потом, словно вспомнив что-то, повернулся.
– Простите… Я совсем забыл… Моя мама в восторге от вашей музыки… Она мечтала, чтобы я подарил ей на именины вашу карточку… с подписью…
– А, да, конечно, – сказал композитор, успокаиваясь. – Как зовут вашу матушку?
И самым красивым из своих почерков (который все равно чем-то походил на бегло записанные ноты) вывел на фотографии: «На добрую память Марии Владимировне Араповой. Дм. Чигринский».
Глава 5 Незапертая дверь
Так как впоследствии Дмитрию Ивановичу пришлось вспоминать этот день до мелочей, оказалось, что после ухода Арапова он пытался вздремнуть на диване до обеда (не вышло), взял газеты и стал читать их (убил примерно час), после чего снял с полки первый попавшийся роман и честно попытался забыться приключениями какого-то Аркадия Эрастовича, у которого было необыкновенно красивое лицо, невероятно доброе сердце и который на протяжении трехсот страниц совершал все мыслимые и немыслимые глупости. Приключения не увлекли Чигринского, потому что он с первых же страниц понял, что Аркадий Эрастович окажется незаконным сыном миллионера Халютина, который то и дело без особой надобности возникал в сюжете, и счастливо сочетается браком с княжной Коромысловой, которая тоже была образцом совершенства. С горя Чигринский прочитал последние страницы, потом вернулся к середине и тут заметил второстепенного персонажа, уморительного щеголя Плюкина, который тоже имел какие-то намерения в отношении княжны, но предпочитал вздыхать по ней издали. Плюкин блуждал по главам, то появляясь, то исчезая и всякий раз производя совершенно комическое впечатление, так что Чигринский уже не мог дождаться, когда автор на время забудет о своих совершенных героях и вновь вспомнит о Плюкине, его забавной тросточке и его попугае по кличке Абрикос, который изрекал мудрые истины, но всякий раз совершенно не к месту и так, что Дмитрий Иванович едва не падал с дивана от хохота. И хотя книга была написана невозможным слогом и чуть ли не на каждой странице какая-нибудь красавица «заламывала свои белые руки» и луна «изливала мечтательный свет на княжеский сад», Чигринский закрыл ее с чувством, похожим на сожаление.
Он пообедал и стал блуждать по комнатам как тень, решительно не зная, чем занять себя и что вообще теперь делать. Внизу, в кухне, Мавра гремела посудой, за окном то и дело проезжали экипажи, напоминая, что жизнь не кончилась, а продолжается, нравится ему это или нет. Не выдержав бесцельного времяпрепровождения, Чигринский отправил Оленьке записку, что заглянет к ней сегодня вечером, и стал собираться.
– Я к Ольге Николаевне, – сказал он Прохору, когда тот вернулся и сообщил, что послание доставлено благополучно. – Когда вернусь, не знаю.
Снаружи во всей своей красе стояла петербургская весна, то есть такое время года, которое было названо весной согласно календарю, а на самом деле представляло собой нечто вроде гримасы зимы, которая решила напоследок хорошенько побаловать столичных жителей своим вниманием. У солнца, впрочем, как будто прорезалась совесть, и оно пару раз показалось между туч; но петербургское солнце скромно, так что ожидать от него щедрости было бы совершенно неразумно.
Отказавшись от извозчика, Дмитрий Иванович двинулся пешком. В витрине музыкального магазина была выставлена его фотография, и изображенный на ней субъект выглядел так по-гусарски нахально, что композитор, проходя мимо, укоризненно покачал головой.
«Ох уж эти фотографы! Впрочем, тогда я только закончил писать цикл романсов, познакомился с Оленькой, и все так удачно сошлось… А теперь черт знает что… не пишется, не сочиняется… Неписец!
В самом деле, – продолжал он мысленно, подходя к кондитерскому магазину, – когда пишется – писец, когда не пишется – неписец… не путать с песцом, это совсем другой зверь…»
Он зашел в кондитерскую, купил торт и фунт конфет и велел доставить их на квартиру к Оленьке, после чего направился во французский винный магазин.
Оленька любила сладчайший, янтарного оттенка сотерн, и композитор заказал две бутылки этого дорогого вина, велев отправить его опять-таки к ней на квартиру.
Когда он вышел из магазина, солнце, очевидно, позабыв стыдливость, все-таки засияло в полную силу, и, когда композитор на мгновение повернул голову, ему показалось, что он видит в конце улицы смутно знакомое лицо. Но человек, отступив, быстро скрылся за углом, а Чигринский тотчас же забыл о нем.
По пути ему попался ювелирный магазин, и Дмитрий Иванович, повинуясь минутной прихоти, заглянул туда.
– Что вам угодно, сударь? Вы ищете подарок для дамы? – с надеждой спросил приказчик, видя, как Чигринский рассматривает украшения.
– Гм… я так, собственно… – неопределенно отвечал Чигринский, и тут ему на глаза попались обручальные кольца, кокетливо поблескивающие под стеклом.
«А может быть, в самом деле жениться? – внезапно подумал он. – Почему бы и нет, в конце концов… 38 лет, пора уж и остепениться…»
Но тут в мозгу его ожил другой голос, который Дмитрий Иванович помнил и не любил, потому что этот голос слишком хорошо знал его, и потому, что он всегда оказывался прав. Голос, о котором идет речь, когда-то нашептывал композитору, что из его службы в армии не выйдет ничего путного, потому что армию он в глубине души не переносит, хоть и кажется для нее рожденным; и именно голос некогда подстрекал его бросить все, понимаете, все, и поставить жизнь на одну карту – музыкальную.
«Тебе 38 лет, ну и что? Подумаешь, важное дело… И зачем тебе жениться? Брак – это значит обязательства, причем серьезные… то есть такие, к которым ты совершенно не готов. Ведь не готов же? Не говоря уже о том, что прелестная Оленька никак не подходит на роль жены…»
«Это я буду решать, кто подходит, а кто нет», – попытался Чигринский возразить голосу.
«Неужели? А ты знаешь, сколько любовников было у Оленьки до тебя, хотя она никогда о них не упоминает? И вообще… охота тебе становиться посмешищем, если ваша совместная жизнь вдруг не заладится?»
Хозяин магазина, который уже некоторое время рассматривал Чигринского, подошел к нему и взглядом отослал приказчика.
– Чем могу служить, Дмитрий Иванович? Если вы замыслили жениться, лучше колец, чем у нас, вы не найдете…
– Э… – пробормотал в замешательстве Чигринский, – в сущности… То есть ничего определенного… Я только смотрю…
Пора, пожалуй, уходить отсюда, помыслил он. Не то не успеет он опомниться, как ему всучат обручальные кольца, и тогда уж волей-неволей придется делать предложение.
– Любая дама будет рада такому подарку, – промолвил хозяин многозначительно. – Вот, смотрите…
Чигринский облился холодным потом и объяснил, что он не знает… не помнит размера Оленьки… то есть…
– Ради вас мы согласны заменить кольцо, если оно не подойдет, – с готовностью ответил его собеседник. – Это такая честь, Дмитрий Иванович… Моя супруга и ее матушка в восторге от ваших песен!
Тут Чигринский вспомнил о незаменимом военном маневре, именуемом бегством с поля боя и, пробормотав на прощание, что он обязательно будет иметь в виду, благодарит хозяина от души и зайдет как-нибудь в другой раз, скрылся.
Чтобы немного успокоиться, он отклонился от своего маршрута и вышел на набережную Невы. Река несла множество белых холодных льдин, которые покачивались в темной воде. В былые времена одно это зрелище навело бы Чигринского на мысль о музыке, но теперь он не ощущал ничего, кроме пустоты, отдающей отчаянием и тоской.
– Дмитрий Иванович!
И тут его снова узнали, на него набросилась стайка румяных гимназисток, требуя немедленно сказать, когда появятся его новые вещи – когда Нередин вернется в Россию – правда ли, что он за границей влюбился в какую-то даму и оттого не хочет приезжать, – и подсовывая для подписи тетрадки и фотографические карточки.
Чувствуя себя безнадежным обманщиком и вяло улыбаясь, Чигринский криво расписался подсунутым ему пером. «Почему меня все это не радует? – спросил он себя. – Ведь ясно, что любой другой за такое внимание отдал бы… душу бы отдал, наверное…»
Учуяв недозволенное скопление народа в публичном месте, неподалеку тотчас же материализовался городовой в шинели и с шашкой на боку, но увидел Чигринского, узнал композитора, заулыбался и даже козырнул ему, как бывшему военному.
Когда Чигринский вырвался от гимназисток, терпеливо ответив на все их вопросы, шел уже шестой час, и композитор ускорил шаг.
– Ольга Николаевна дома? – спросил он у швейцара, который отворил ему дверь.
Чигринский знал, что Оленька всегда была дома, что не могло случиться такого, чтобы он назначил ей свидание, а она отлучилась куда-то; и все же, приезжая к ней, он никак не мог удержаться от этого лишнего, в сущности, вопроса.
– Дома-с, – отвечал важный седоусый швейцар, которого звали Тихон.
Чигринский поднялся по мраморной лестнице, устланной мягким ковром. Навстречу ему спускался Вахрамеев, редактор известной газеты, любовница которого также жила в этом доме, и мужчины приподняли шляпы, приветствуя друг друга.
Позже Дмитрий Иванович уверял, что почему-то вид Вахрамеева ему не понравился, и будто бы он даже ощутил нечто вроде скверного предчувствия. Однако на самом деле в то мгновение Чигринскому было забавно, что представительный Вахрамеев, который в прессе всегда выступал за крепость семейных уз и нерушимость брака, крадется по лестнице, как кот, а его раскормленная кокотка (как уверяла Оленька, а значит, это было правдой) обманывает редактора с лакеем, едва блюститель уз скрывается за дверью.
Итак, Дмитрий Иванович поднялся в бельэтаж, подошел к двери Оленьки и дернул звонок. Никто ему не открыл. Он позвонил еще сильнее, толкнул дверь – и тут только заметил, что она не заперта.
«Ах, озорница! Ну конечно, раз я предупредил ее о своем приходе, она решила сделать мне сюрприз…»
Улыбаясь во весь рот, Чигринский вошел и на цыпочках двинулся вперед.
Он нашел Оленьку в гостиной, в большом кресле. Конфеты и торт из кондитерской лежали на столе, и там же янтарно и загадочно поблескивали бутылки сотерна. При появлении композитора молодая женщина не пошевелилась и не издала ни звука.
Приблизившись к ней, Чигринский увидел рукоятку ножа, торчащую у Оленьки из груди, и красное пятно, расплывшееся по розовому платью. Глаза Оленьки были широко раскрыты, но в них не отражалось ничего.
Глава 6 Страх и трепет
Как уже упоминалось, Чигринский был человек военный, то есть привычный к виду ран и к смерти. Однако гибель молодой женщины в этой кокетливой, дышащей духами квартире, посреди мирного города, произвела на него такое впечатление, что он был вынужден сесть, держа в руке свою шапку.
Убита! зарезана! средь бела дня! Господи, что ж это такое делается?..
Он был ошеломлен и чувствовал страшное, ни с чем не сравнимое опустошение. Раз только он приподнялся, чтобы звать на помощь, но ему показалось стыдно кричать караул – ему, взрослому человеку, бывшему гусару. И он бессильно опустился обратно на диван.
Часы пробили, и, поглядев на них, Дмитрий Иванович машинально отметил, что было без четверти шесть. В квартире царила тишина, и он вспомнил, что Оленька, обладавшая поразительным талантом не ладить с любой прислугой, которая к ней нанималась, недавно рассчитала очередную горничную. Об этом ему сегодня рассказал Прохор, относивший записку.
«Надо звать… кого звать? Швейцара, пусть он вызовет полицию… Чудовищно… просто чудовищно… Кто мог ее убить? За что?»
Пересилив себя, он поднялся с места (ноги словно налились свинцом) и, подойдя к Оленьке, потрогал запястье. Оно было еще теплое, и Дмитрия Ивановича передернуло. Однако он не уловил ничего, даже отдаленно похожего на пульс.
«Сказать Тихону… Он распорядится…»
Однако в этот раз Дмитрий Иванович не дошел до двери. Он вернулся обратно и сел на стул в углу, подальше от убитой.
Чигринский и сам не понимал, чего он ждет, но в его мозгу шла напряженная работа. Взять хотя бы нашумевшее дело генеральши Громовой, размышлял он. Вместе с генеральшей были убиты еще две женщины, состоявшие при ней кем-то вроде приживалок. И кого с ходу обвинили в убийстве? Правильно: горничную, которая нашла тела.
Положим, он, Чигринский, не горничная и в случае чего сумеет за себя постоять, но факт остается фактом: мертвую Оленьку обнаружил именно он. Бог его знает, кто будет вести следствие, но что, если Чигринскому попадется какой-нибудь тупоумный служака, который станет подозревать композитора?
Нет, нет, мысленно вскрикнул он, это невозможно! Я не убивал ее!
Конечно, Чигринский знает, что не убивал; но как ему доказать свою невиновность? Да и потом, разве мало случаев, когда любовники ссорились и один из них после этого убивал другого…
Ссорился ли он с Оленькой? Конечно нет, если не считать их препирательств из-за денег (он давал любовнице все, но она, как все женщины, хотела еще больше) или, например, из-за того, что он не посвящал ей свои произведения. Но это же глупо, милостивые государи, из-за этого не убивают!
И тут в воздухе перед Чигринским соткался кто-то донельзя противный, инквизиторского вида, в мундире и пенсне. И бедный композитор услышал гнусавый, слегка растягивающий слова голос:
– Как знать, как знать… А не было ли у вас с покойной иных ссор? Часто ли вы встречались? Как познакомились? А ну-ка, поведайте-ка нам все подробности вашего романа, а мы, так уж и быть, решим, виновны вы или нет…
Чигринский махнул рукой, отбиваясь от удушающего кошмара, и в отчаянии заметался по комнате.
Влип! Попался, голубчик, угодил в историю… историю с убийством, черт подери! И не так уж важно теперь, сочтут его виновным или нет – важно то, что его наверняка будут подозревать, копаться в подробностях его жизни, вызывать на допросы… и вот тут-то ему сполна придется заплатить за свою славу, за то, что он известен и гимназистки на улицах просят у него автографы. Дай только этим полицейским волю, они душу из него вытрясут, и все строго по закону, с соблюдением всех формальностей…
Да что там полиция, ведь такое дело – убийство любовницы знаменитого композитора – не пройдет мимо газетчиков, и они в своих листках понапишут такого, что волосы дыбом встанут… Накинутся на него и заклюют, зарежут писчими перьями, черт бы побрал этих борзописцев! Кого он, к примеру, только что видел на лестнице? Да Вахрамеева же! Узнает о случившемся Вахрамеев, почует простор его продажная репортерская душонка, и насочиняет он про моральные устои и их отсутствие, нагонит тысячи строк… а ведь что для редактора удачная тема, для него, Чигринского, – потеря репутации и медленная смерть. Его и так не любят коллеги – слишком легко он всего добился – и не любят критики, к мнению которых он никогда не прислушивался; зато теперь ему все припомнят. Набросятся всем скопом и будут пинать на все лады – что он, не знает людей, что ли? И старик отец, которого он видит от силы раз в год, должен будет читать все помои, которые выплескивают на его сына… это он-то, который (Чигринский точно знал), несмотря на их размолвку, не пропускал ни одного отзыва о его музыке и тайком завел для них особый альбом. Отец, который так им гордится, хоть и скорее умрет, чем признается в этом; а теперь, когда его сына произведут в подозреваемые, а то и в убийцы – что будет с ним? Ведь не выдержит старик, вытащит из ящика стола пистолет и пустит себе пулю в лоб… Кто тогда останется у Чигринского? Кроме отца, у него нет ни одной близкой души на свете; мать давно умерла, ни братьев, ни сестер у него нет, а всякие дальние родственники, которых он не признал бы в лицо при встрече, конечно, не в счет…
Дмитрий Иванович в изнеможении потер лоб. Бежать, бежать, пока не поздно; скрыться и никому не говорить, что вместо очаровательной Оленьки он застал в квартире ее окровавленный труп.
Так-то оно так, но все равно тело обнаружат, рано или поздно; кто последним был в квартире? – Чигринский, его видел швейцар внизу и еще один человек на лестнице. И тогда его молчание будет выглядеть еще более подозрительно…
«А если ее не найдут?» – спросил спасительный голос.
«Как это?» – удивился Чигринский.
«Обыкновенно. Обнаружат тело в другом месте, дорогие вещи исчезли… и никого рядом. Неосторожная ночная прогулка, убийство с целью ограбления… и при чем тут ты? Разумеется, ни при чем…»
Чигринскому стало жарко, так что пришлось сбросить пальто и шарф. Однако тут же он заметил, что ладони у него озябли, и потер их.
Вывезти труп, как-нибудь убедив Тихона, что он уехал с живой Оленькой… вот это, пожалуй, было бы дело.
Он посмотрел на неподвижную, безучастную Оленьку и почувствовал укол совести. «Я поступаю бесчестно», – сказал он себе. Но на одной чаше весов лежало мертвое тело женщины, которую он любил, а на другой – его собственная жизнь. И, как это обычно бывает, живое перевесило мертвое.
В голове у него еще не было четкого плана, но он вышел в переднюю, взял оттуда лучшую Оленькину шубу и, заметив, что так и не закрыл за собой входную дверь, с некоторым даже испугом запер ее и задвинул засов. После этого он вспомнил о двери черного хода, но запирать ее не было нужды: она и так была закрыта.
Вернувшись в гостиную, Чигринский на всякий случай задернул шторы и стал одевать Оленьку. У него возникло жуткое ощущение, что он возится с громоздкой и страшно неудобной куклой, но он был полон решимости дойти до конца. Нож, торчащий из раны, мешал застегнуть шубу, и Чигринскому пришлось его вытащить.
Он начал застегивать шубу, потом спохватился, принес шарф, шляпку, перчатки и ботинки. Шляпка никак не хотела сидеть на голове, и Чигринский вспомнил, что нужны эти… как их… шляпные булавки.
Дмитрий Иванович заметался, выдвигая и задвигая ящики, в которых лежали пустые и початые флаконы духов, письма, разные мелочи женского туалета, и наконец нашел одну булавку рядом с подвязками. Теперь Оленька была совершенно готова, и он усадил ее обратно в кресло.
В следующее мгновение он услышал, как звонят в дверь.
– Ольга Николаевна! Ольга Николаевна, это я, Соня…
Чигринский застыл на месте. Впрочем, застыл – не вполне точное слово; вернее будет сказать, что Дмитрий Иванович обратился в столп невыразимого ужаса.
Почему он так испугался прихода бывшей горничной Оленьки? Он ведь никого не убивал, он не был преступником. Конечно, его можно упрекнуть в том, что он пожелал окончательно отвести от себя подозрения и приготовился запутать следствие, но…
– Ольга Николаевна! Вы же обещали мне заплатить сегодня…
– Чего шумишь, не одна она… Завтра приходи.
С огромным облегчением Чигринский узнал голос Тихона, который, очевидно, тоже поднялся с горничной на второй этаж.
– Да отпусти ты меня! – зашипела Соня на швейцара, который, судя по всему, намеревался ее увести. – Она обещала мне заплатить и рекомендацию дать…
– Ох, не вовремя ты пришла… Я же сказал: не до тебя ей. Завтра приходи.
– Тихон, отпусти руку!
– Не бузите, Софья Андреевна… Идем! Ни к чему господам мешать…
Чувствуя себя совершенно разбитым, Чигринский на цыпочках сделал несколько шагов к портьере и, выглянув наружу, через минуту увидел, как уходит по улице Соня и как возмущенно колышется на ее шляпке одинокое перо.
«А если бы у нее был ключ? А если бы… если бы…»
Додумывать Дмитрий Иванович не стал. Повернувшись, он увидел на столе нож, который вытащил из жертвы, и содрогнулся.
«Это нельзя здесь оставлять…» И он сунул нож в свой карман – лишь бы не видеть больше окровавленное лезвие.
Осмотрев комнату, он убедился в том, что больше ничто в ней не указывало на свершившееся убийство. Внезапно ему в голову пришла еще одна мысль, и он бросился искать шкатулку, в которой Оленька хранила свои драгоценности.
Все они оказались на месте, что немало озадачило композитора. Он мог еще представить себе, что Оленьку убили из-за денег, но теперь все запуталось окончательно. Некто проник в квартиру и нанес один удар ножом спереди. Убийца видел, как Оленька умирала… Руки Чигринского сжались в кулаки.
Как преступник вошел сюда? Она сама впустила его? Или он сумел пробраться без ее ведома? Входная дверь не была заперта, когда появился Чигринский. Значит ли это, что у убийцы не было ни ключа, ни отмычки и Оленька его впустила? Почему? Почему?
И самый главный вопрос, который не давал Чигринскому покоя: за что кто-то мог так возненавидеть Оленьку, чтобы лишить ее жизни? Она была беззаботна, как птичка, и никому не причиняла зла. Так за что же ей такая несправедливая, страшная смерть?
Какое-то время Чигринский боролся с искушением вызвать Тихона и все ему рассказать, чтобы швейцар позвал полицию. Но после всего, что Дмитрий Иванович уже натворил, это было равносильно самоубийству. Любой полицейский в данных обстоятельствах счел бы его преступником, который пытался замести следы и лишь по малодушию остановился на полпути. Но как раз малодушия он не мог себе позволить.
Убедившись, что на улице уже темно, Чигринский собрался с духом и спустился вниз.
– Ольга Николаевна хочет ехать кататься… Я проиграл ей пари и пообещал носить ее сегодня на руках. Позови извозчика и скажи мне… скажи нам, когда он будет…
Тихон поглядел на барина и, отметив, что тот красен и волнуется, пришел к вполне естественному выводу, что Чигринский выпил больше сотерна, чем следует. Если бы речь шла о ком-то другом, то швейцар про себя немедля зачислил бы его в тайные пьяницы, но композитору почему-то Тихон согласен был простить и не такое. Взять хотя бы Вахрамеева – по мысли швейцара, редактор был всего лишь непристойный господинчик, а Дмитрий Иванович, тоже содержавший любовницу, к которой время от времени наведывался, почему-то воспринимался как широкой души человек, и только. Бывают же счастливцы, которым все сходит с рук – точно так же, как и несчастливцы, которым на роду написано расплачиваться не только за свои грехи, но и за чужие. В данный момент Чигринский некоторым образом сочетал в себе обе эти ипостаси, хотя швейцар, разумеется, даже не подозревал об этом.
– Не извольте беспокоиться, Дмитрий Иванович, – почтительно сказал Тихон. – Будет сделано…
Через несколько минут композитор вынес закутанную Оленьку на руках, усадил в экипаж и сам устроился рядом с ней.
– Куда ехать-то, барин? – спросил кучер.
И действительно, куда, растерялся Чигринский. Может быть, к Неве и…
Нет, осадил себя Дмитрий Иванович, этого он делать не будет. Никогда! Бросать Оленьку в воду, чтобы потом опознавать раздувшийся, страшный, обезображенный труп… Он содрогнулся. Голова мертвой сползла ему на плечо.
– Мы просто катаемся, – проговорил он, пытаясь сохранить спокойствие и поправляя тело, сидящее с ним рядом. – Поехали за город. И… и, пожалуйста, не очень гони, мы никуда не спешим…
Извозчик кивнул, и лошадь медленно затрусила по улице. Оленька стала сползать с сиденья. Чигринский подхватил ее и вернул обратно. В свете фонарей он видел ее лицо – мертвенно-бледное, с чертами, которые уже начала обтягивать кожа, отчего они стали казаться заострившимися.
«Danse macabre… voyage macab»[103], – мелькнуло у него в голове.
Дмитрий Иванович чувствовал себя ужасно, и не только потому, что разыгрывал это нелепое представление и сидел в одном экипаже с мертвецом. Ужаснее всего было то, что он, который в глубине души считал себя как-никак человеком чести, не мог отделаться от мысли, что поступает как последний подлец, трус и даже хуже того. То обстоятельство, что на свой поступок он решился вовсе не от хорошей жизни, ничуть не утешало композитора.
Они ехали по Английской набережной, мимо аристократических особняков, застывших в сумерках. И тут фортуна, сочтя, очевидно, что она и так слишком долго была благосклонна к Дмитрию Ивановичу, окончательно отвернулась от него.
Сначала он услышал громкий треск, потом его отшвырнуло куда-то в сторону, и экипаж, подпрыгнув и завалившись набок, остановился.
– Ах ты!.. – ругался кучер. – Колесо!.. Ах, чтоб тебя!..
Одним словом, экипаж не выдержал езды по сокрушительной петербургской мостовой, и надо было выходить.
– Сколько я тебе должен? – мрачно спросил Чигринский, потирая ушибленное плечо.
– Да как же мне брать деньги-то с вас, барин? – жалобно проныл извозчик, но тут же сменил тон на деловой и деньги-таки взял.
Видя, как Чигринский выбирается из кареты, неся на руках бессильно обмякшее тело Оленьки, кучер невольно забеспокоился.
– Барин! Я ж не виноват… Столько ездил, и никогда никаких происшествий…
– Это не по твоей вине, – быстро ответил Чигринский, отступая. – Даме еще до того стало плохо, я несу ее к доктору…
– Сударь!
Ехавшая за ними карета подкатила к тротуару. Дверца отворилась.
– Если ваша спутница пострадала, я могу отвезти вас к врачу.
Голос, доносившийся из глубины экипажа, был женский, молодой, но – как показалось Чигринскому – самоуверенный до того, что казался неприятным.
– Благодарю вас, сударыня, – отозвался он, – но мы справимся сами…
– Вы обронили шляпку, – заметила дама, выходя из кареты.
Чигринский покосился туда, куда глядела незнакомка, и увидел, что точно, шляпка Оленьки вместе со злополучной булавкой свалилась на тротуар.
Позже Дмитрий Иванович уверял, что он не успел даже пошевельнуться, а дама, от которой пахло сиренью, уже подобрала шляпку убитой и подошла к нему. В сумерках он видел, как загадочно блестят глаза незнакомки. Неожиданно выражение ее лица переменилось.
– Да она мертвая, – нахмурилась дама, видя застывшие черты Оленьки, и строго поглядела на закоченевшего от ужаса композитора. – Может быть, вы объясните, милостивый государь, что происходит?
И тут Чигринский понял, что он погиб.
Глава 7 Особняк на Английской набережной
Когда Дмитрию Ивановичу случалось раньше читать о том, какое облегчение испытывают преступники, когда их наконец хватают, он только пожимал плечами и вообще был склонен считать подобные утверждения нелепой авторской фантазией. Однако теперь, когда его самого, можно сказать, поймали, он не мог не признаться себе, что ему действительно стало легче от сознания, что все кончилось и ему больше не надо скрываться, прятать тело и дрожать, что его изобличат. О том же, что вслед за этим должно будет начаться, он благоразумно предпочитал не думать.
– Кто вы, собственно, такой? – спросила дама, хмурясь. В руках у нее по-прежнему была кокетливая Оленькина шляпка с криво воткнутой в нее булавкой.
– Я Дмитрий Иванович Чигринский, – с достоинством промолвил композитор, поудобнее перехватывая труп в тяжелой шубе, который так и норовил сползти на землю.
– Чигринский? – Дама приподняла брови, и он уловил в ее глазах искорку интереса. – Так вы тот самый музыкант?
Для человека с трупом на руках, находящегося в центре столицы и в какой-нибудь сотне шагов от ближайшего городового, момент был крайне неподходящим для того, чтобы возмущаться, однако Чигринский все равно возмутился.
– Я не музыкант, сударыня, – обидчиво заметил он. – Я композитор.
– Вот как?
Только женщины умеют вложить в короткую реплику столько оттенков – легкую иронию, помноженную на сознание своего собственного превосходства, снисходительность, любопытство и бог весть что еще. Но Чигринскому было достаточно иронии и снисходительности, чтобы он надулся.
– И куда же вы, господин композитор, спешили со своей ношей?
Дмитрий Иванович открыл рот, чтобы ответить, и тут в голову ему пришла спасительная мысль.
– Я спешил к врачу, – объявил он.
Оленькина рука свесилась почти до самой земли.
– Боюсь, врач вашей спутнице больше не понадобится, – спокойно заметила дама.
– Может быть, вы и правы. Но я надеялся… хотел думать… – Он сбился и замолчал.
Дама смерила его взглядом, который заставил Чигринского поежиться. С реки дул холодный ветер.
– Мой дом совсем недалеко, – сказала наконец незнакомка. – Предлагаю продолжить наш разговор там.
За минуту до этого Чигринский был уверен, что их разговор закончится вызовом полиции, и нельзя сказать, что предложение дамы, от которой веяло сиренью, его не обрадовало.
– Как вам будет угодно, сударыня.
Его собеседница подошла к кучеру своей кареты и вполголоса отдала какое-то приказание.
– Вот мой дом, – сказала незнакомка, оборачиваясь к Чигринскому и показывая на стоящий неподалеку особняк. – Полагаю, мы можем обойтись без экипажа.
Дмитрий Иванович понял, что дама, несмотря на его заверения, продолжает держать его на подозрении и вызвалась сопровождать Чигринского, чтобы он не ускользнул. Кроме того, даже петербургские сумерки не помешали ему заметить, что она хорошенькая, одета дорого и со вкусом – сочетание, в России встречающееся не так уж часто, – и молода. Но хотя в незнакомке не было ровным счетом ничего отталкивающего и до сих пор она вела себя вовсе не враждебно, Чигринский вынужден был признать, что она ему не по душе.
Впоследствии Дмитрий Иванович пытался вспомнить, как он вошел в особняк, держа на руках мертвую женщину, и как на него смотрели слуги, которых наверняка должно было озадачить все происходящее. Но он запомнил только небольшую гостиную на первом этаже, где был мраморный камин, а напротив него – кожаный диван.
– Кладите ее сюда, – распорядилась дама.
Незнакомка была уже без пальто, без шляпы и без перчаток, но где и как она избавилась от них – Чигринский не помнил, хоть убей. Шляпка Оленьки лежала на столе, но, как она оказалась там, он тоже не помнил. Иногда ему казалось, что он двигается, как во сне, и все происходящее – тоже сон.
– …Александру Богдановичу…
Он опомнился. Незнакомка о чем-то негромко говорила со слугой у дверей.
– Госпожа баронесса, а если… – Слуга оглянулся на Чигринского и понизил голос.
– Скажете, что дело чрезвычайной важности. – Дама немного подумала и добавила: – И по его части. Разумеется, сейчас уже поздно, и если он не сможет приехать сегодня, то пусть заглянет ко мне завтра утром.
Слуга удалился, а дама повернулась к измученному композитору. Она и в самом деле оказалась молода – лет 25 или 27, – белокура, и в ее золотисто-карих глазах вспыхивали искорки, которые наверняка заинтриговали бы любого другого мужчину, если, конечно, его не угораздило быть замешанным в убийстве, пусть даже он его не совершал.
– Кто она? – спросила золотоглазая дама, кивая на тело на диване.
– Верейская Ольга Николаевна. Из мещан, бывшая актриса… – Чигринский поймал себя на том, что стал пересказывать какие-то глупые паспортные данные, рассердился и замолчал.
Золотоглазая подошла к Оленьке, расстегнула шубу, развязала шарф и стала внимательно рассматривать рану. Чигринский терпеливо ждал, когда хозяйка завизжит и упадет от увиденного в обморок, но так и не дождался.
– Ее ударили чем-то вроде ножа, – констатировала его странная собеседница. – Где он?
Дмитрий Иванович спохватился, достал нож из кармана и подал ей.
– Почему вы вытащили его из раны? – строго спросила незнакомка.
– Потому что иначе я не мог застегнуть шубу, – честно ответил Чигринский.
– Допустим, – протянула незнакомка, кладя нож на стол. Она вытащила из шкафа белое покрывало и набросила его на тело. Чигринский стоял, переминаясь с ноги на ногу, и гадал про себя, что будет дальше.
– А теперь расскажите с самого начала, что именно произошло, – велела незнакомка, садясь в кресло. – Может быть, вам удобнее все же снять пальто?
Дмитрий Иванович спохватился, засуетился, стал стаскивать верхнюю одежду, но рука застряла в рукаве, и если бы не горничная, которую хозяйка вызвала звонком, он бы еще долго кружил на месте, пытаясь избавиться от пальто.
– Итак? – промолвила незнакомка, когда горничная удалилась, унося с собой пальто и шляпу Чигринского. – Я жду объяснений, Дмитрий Иванович, так что присаживайтесь и рассказывайте.
Чигринский немного подумал, потом, опустив ненужные, как ему казалось, подробности, стал рассказывать, как он решил навестить Оленьку, как заказывал вино и сладости, как приехал к ней и в каком виде ее нашел.
– Где это произошло?
– Фонарный переулок, дом Ниндорф.
– И вы решили везти ее к врачу?
– Именно так.
– Вы не поняли, что она мертва?
Чигринский насупился.
– Я надеялся, что врач сможет сделать что-нибудь… Боюсь, я плохо соображал тогда. Мне казалось, что этого просто не может быть…
Дама поглядела на него и с жалостью (как показалось Чигринскому) покачала головой.
– В доме Ниндорф живет доктор Матвеев, он принимает пациентов круглые сутки, – веско уронила она.
Чигринский открыл рот, но понял, что ему никак не изобрести причины, по которой он повез Оленьку куда-то за тридевять земель, в то время как врач находился совсем рядом, и рот закрыл.
– Это вы ее убили? – спокойно и даже как-то буднично осведомилась дама.
Дмитрий Иванович аж на месте подпрыгнул от такого предположения.
– Конечно нет! – возмутился он. – Когда я пришел, она уже была мертва.
– Но вы все-таки решили спрятать тело, чтобы подозрение не пало на вас?
Тут Чигринский окончательно убедился, что попал в какой-то кошмарный сон, и от души пожалел, что его не арестовали настоящие полицейские, а допрашивала в гостиной аристократического особняка неизвестная дама, не имеющая на то никаких прав.
– Я не понимаю, сударыня… – пробурчал он. – И мне даже как-то странно слышать… Я композитор, я пишу музыку, а такое отвратительное происшествие… убийство беззащитной женщины… – Он гадливо передернул плечами.
– Но вы же не вызвали ни швейцара, ни дворника[104], а попытались увезти тело с места преступления, – тихо заметила дама. – Что еще я должна подумать?
Чигринский не знал, что она могла подумать, но лично он думал, что дама замужем за каким-нибудь следователем или сыщиком и набралась от мужа таких навыков, которые обычной женщине совершенно ни к чему.
– Почему я должен был куда-то увозить тело? – с неудовольствием спросил он. – Я же говорю вам… простите, не знаю, как вас зовут… Так вот, я говорю, что не убивал ее.
– Меня зовут Амалия Константиновна Корф, – отозвалась его собеседница. – А увезти ее вы пытались, потому что решили, что это убийство дурно отразится на вашей репутации. Не так ли?
И тут Чигринский рассердился по-настоящему.
– Да при чем тут репутация, плевать я хотел на то, что обо мне говорят! Если бы речь шла только обо мне…
Он осекся, но было уже поздно.
– Значит, вы все же испугались, – уронила Амалия, зорко наблюдая за ним. – И решили принять меры.
– Я не испугался, – воинственно бросил Чигринский. – Вам легко рассуждать, потому что вы не понимаете, что я тогда испытал. В убийстве генеральши Громовой обвинили человека, который нашел тело. Я виноват только в том, что нашел Оленьку мертвой. Что еще я мог сделать? Позвать полицию? Я бы первым оказался у них на подозрении, а газетная свора смешала бы меня с грязью!
– Нет, если бы вы сразу же бросились вниз, к швейцару или дворнику, и сказали им, чтобы они вызвали полицию, – парировала Амалия. – Конечно, вас бы допросили, но для того, чтобы кого-то начать подозревать, нужны веские основания. Швейцар бы наверняка вспомнил, что вы поднялись наверх веселый и довольный, предвкушая приятный вечер, а вниз сбежали очень быстро, то есть у вас фактически не было времени на то, чтобы совершить убийство. Не исключено, что врач бы установил точное время смерти жертвы и выяснил, что вы вообще находитесь вне подозрений. И расследование пошло бы по обычному пути, то есть стали бы искать другого человека, который имел мотив и возможность убить вашу знакомую. А теперь из-за ваших необдуманных действий все запуталось, и любой полицейский имеет все основания подозревать прежде всего вас.
Чигринский вздохнул. Он и сам понимал, что все запуталось, причем безнадежно, и не видел, как ему выбраться из сложившейся ситуации.
– Вы правы, я должен был сразу же позвать Тихона, – признался он. – Но все это случилось так внезапно… Я никак не ожидал. Просто я думал… думал о…
Еще не хватало, одернул себя Дмитрий Иванович, чтобы он жаловался на «неписец» этой красивой, спокойной и неприятной даме.
…Да и разве она способна понять его?
Глава 8 Зеленый рояль
– Кто ее убил? – спросила Амалия. – Точнее, кто мог это сделать?
Чигринский пожал плечами.
– Я уже думал об этом. Боюсь, я не знаю никого, кто мог бы желать Оленьке… Ольге Николаевне зла. У меня как-то в голове не укладывается…
– Вы хорошо ее знали?
– Разумеется.
– И у нее совсем не было врагов?
– Мне о них ничего не известно.
– Значит, вы знали ее плохо, – улыбнулась Амалия. Чем дальше, тем меньше она нравилась Чигринскому, хотя до сих пор он решительно ни в чем не мог ее упрекнуть. – Хорошо, а как насчет вас?
– Меня? – изумился композитор.
– Если принять вашу гипотезу, что у Ольги Николаевны врагов не было, ее могли убить, чтобы бросить тень на вас. Разве не так?
– Сударыня, – проворчал Чигринский, – я прошу прощения, но это… Это черт знает что такое!
– Сладости и вино были на столе, – задумчиво проговорила Амалия, и глаза ее сверкнули. – Значит, когда их доставили, она была еще жива. В пользу этого говорит и тот факт, что, когда вы пришли, тело было еще теплым. Получается, она была убита незадолго до вашего прихода и человеком, которого, судя по всему, не опасалась. Вы предупредили ее запиской, что будете, так что кто-то мог узнать об этом и использовать против вас. Ценные вещи, как вы говорите, остались на месте… Ну же, Дмитрий Иванович! Вы ведь именно потому хотели увезти тело, что решили, что вас могут обвинить… а что, если так и было задумано? Так что насчет ваших врагов, милостивый государь?
– У меня нет врагов, – сухо сказал Чигринский. – Во всяком случае, таких, которые убивают женщин, – добавил он с обидой, неизвестно к кому относящейся.
– Позвольте вам не поверить, милостивый государь, – живо возразила его собеседница. – Вы человек известный…
Чигринский попытался принять вид скромного гения, который тут совершенно ни при чем, и это почти ему удалось.
– И талантливый…
Щеки Дмитрия Ивановича слегка порозовели, он молча наклонил голову.
– Хотя вот уже который раз манкируете моим приглашением на благотворительный вечер, – задумчиво продолжала хозяйка. – Но это к делу не относится. Суть вот в чем: невозможно в России быть известным и к тому же талантливым… и не иметь врагов.
– Вы, кажется, что-то имеете против России, сударыня? – сипло осведомился композитор.
– Ну что вы, что вы, – отозвалась Амалия Корф таким тоном, что Чигринский сразу же насторожился. – Общеизвестно, что в нашей стране никто никому не завидует и все только рады чужим успехам. Не так ли?
…И тут Чигринский понял, почему Амалия ему так не нравится и, судя по всему, не понравится уже никогда. Дмитрий Иванович любил женщин, похожих на цветы, таких, как Оленька; он мог потакать их милым капризам, служить им, даже поклоняться, но ему не по душе были женщины, которые пытались вести себя с ним на равных, – все равно как если бы цветок возомнил о себе, что он нечто большее, и принялся с ходу строчить романы и рассуждать об избирательном праве. Положим, ничего подобного он за Амалией не заметил, но ее ирония, непривычная для женщины, сбивала его с толку. Кроме того, Чигринского не покидало ощущение, что баронесса Корф (он наконец-то вспомнил ее титул и вспомнил, где совсем недавно встречал это имя) попросту не воспринимает его всерьез.
– Если кто-то из коллег и завидует мне, – довольно сухо промолвил он, – то не настолько, чтобы… чтобы решиться на убийство. Это, простите, совершенно невозможно.
– Тогда как вы сами объясняете случившееся? – с любопытством спросила его собеседница.
– Я думаю, что я чего-то не знаю, – мрачно ответил композитор. – Что-то должно было случиться, что привело к этому страшному событию. Но у меня нет никакой догадки, даже намека на догадку. – Он пожал плечами. – Ее враги? Я допускаю, что она кому-то могла не нравиться, но… не до такой же степени! Мои враги? Это просто смешно. Ограбление? Но все вещи были на месте, так что эта версия тоже отпадает…
– Если только вы не спугнули грабителя, – отозвалась Амалия.
– И куда же он делся? Когда я поднимался наверх, то увидел только Вахрамеева. – Чигринский покосился на невозмутимое лицо Амалии и все же рискнул закончить фразу: – …А он, хоть и жулик, совершенно по другой части.
– Допустим, а грабитель не мог скрыться через черный ход?
– Нет. Я проверял – дверь черного хода была закрыта на засов. Отпереть ее снаружи невозможно.
– Вы говорили, на входной двери тоже засов? Ну что ж… Получается, что Ольга Николаевна сама впустила своего убийцу. Когда он сделал свое черное дело, как пишут в романах, то ушел тем же путем. Кстати, – задумчиво добавила Амалия, – ему вовсе не обязательно было встречаться с вами на лестнице. Он мог и подняться наверх, к примеру. Впрочем, я надеюсь, что нам удастся прояснить этот момент.
– Нам? – только и мог вымолвить пораженный Чигринский.
– Ну, это я так, – неопределенно отозвалась его собеседница. – Разумеется, вести следствие буду я, но без помощников в таком деле не обойтись. – Она изучающе посмотрела на Чигринского. – Вы уверены, что никому в целом свете не могло прийти в голову убить Ольгу Николаевну?
– Никому, – твердо ответил композитор.
– Вот и прекрасно, – неизвестно к чему заключила Амалия. Она оглянулась на позолоченные часы, мирно тикавшие на камине. – Сегодня вы ночуете у меня. Впрочем, может быть, вы хотели бы прежде поужинать?
Тут Дмитрий Иванович возмутился.
– Сударыня, – пропыхтел он, – простите, если я буду слишком откровенен, но… с какой стати мне оставаться у вас?
– А вы не догадываетесь? – осведомилась его собеседница, и в ее глазах вспыхнули и погасли золотые искры.
– Нет, – честно ответил Чигринский.
– Если целью неизвестного преступника было бросить тень на вас, замарать и уничтожить во мнении общества, – будничным тоном объяснила Амалия, – то теперь, после убийства, он вряд ли остановится. Следовательно, вам, мне и вообще всем на свете будет спокойнее, если вы будете находиться здесь, среди людей, которые не допустят, чтобы с вами случилось что-то плохое.
– Госпожа баронесса, – в некотором изумлении промолвил Чигринский, – как бывший офицер… нет, не то… словом, я не позволю себя запугать… и вообще я никого не боюсь. Вы понимаете меня?
– Я понимаю, что вам грозит опасность, – спокойно отозвалась Амалия, – и не только вам, но и, возможно, другим людям, которые с вами связаны. Впрочем, я предлагаю поговорить об этом завтра, когда кое-что прояснится.
Чигринский насупился.
– А что, собственно, может проясниться? – проворчал он.
– К примеру, кто входил в дом незадолго до вас, – сказала Амалия. – И другие моменты. А пока на вашем месте я бы как следует поразмыслила, нет ли у вас серьезного врага. Такие господа не возникают из ниоткуда – должна быть причина. – Она поднялась с места. – Так что насчет ужина, Дмитрий Иванович? Мне распорядиться?
– Вы слишком добры, госпожа баронесса, – пробурчал композитор. – Но я… По правде говоря, я слишком устал, и вообще… – Он оглянулся на фигуру на диване, накрытую белым покрывалом. – Боюсь, после сегодняшнего мне кусок не полезет в горло.
– Тогда идемте, – сказала Амалия. – Я покажу вам вашу комнату.
Внутренне бунтуя, Дмитрий Иванович последовал за баронессой – а что, собственно говоря, ему еще оставалось делать?
Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору (Чигринский на ходу сообразил, что его ведут в дальнее крыло дома) и внезапно оказались в просторной комнате с высоким потолком и с расписными светлыми панелями на стенах. Вдоль окон стояло множество экзотических растений, но вовсе не они привлекли внимание композитора и не они являлись причиной того, что он застыл на месте как вкопанный, не веря своим глазам.
Посреди комнаты стоял зеленый рояль.
Да, да, вы не ошиблись – именно зеленый, нежнейшего салатового оттенка, с резными ножками. Не черный, не коричневый, не белый – что Чигринский еще как-то мог понять – а зеленый, поймите, зеленый, как салат, и вдобавок расписанный крупными цветами. На боках красовались гирлянды желтых тюльпанов, роз и ромашек, на верхней деке – цветущие ветви вишни, сирень и нарциссы, на крышке, закрывающей клавиши – колокольчики и ирисы, и между всеми этими диковинными нарисованными букетами порхали бабочки.
Дмитрий Иванович был человек стойкий к ударам судьбы, и в этот день он мог выдержать даже состояние внутренней немоты, когда ему не удавалась ни одна музыкальная фраза, даже убийство любимой женщины, в которой он души не чаял, – но зеленый рояль его добил. С точки зрения композитора, было чистым издевательством превращать музыкальный инструмент в раскрашенную игрушку, чтобы она лучше гармонировала со стоящими неподалеку пальмами, и с этой минуты он окончательно уверился в том, что его спутница – человек непредсказуемый и опасный.
– Ваша комната будет рядом, – сказала Амалия. – На случай, если вам вздумается помузицировать…
Чигринский попытался себе представить, как он сядет за зеленый рояль, разрисованный цветочками, и содрогнулся.
– Здесь вы можете играть в любое время, – добавила радушная хозяйка. – Эта комната устроена так, что отсюда ничего не слышно, и вы никому не будете мешать.
Дмитрий Иванович поторопился пробормотать приличествующие случаю слова благодарности, но вид у него был настолько несчастный, что Амалия забеспокоилась и на всякий случай спросила, хорошо ли он себя чувствует и не нужен ли ему врач.
– Не беспокойтесь, госпожа баронесса, – кротко промолвил Чигринский. – Со мной все хорошо, благодарю вас.
Однако он все же выдохнул с облегчением, когда они оставили позади комнату с зеленым монстром и оказались в довольно милой спальне, обставленной мебелью красного дерева. И Чигринскому стало значительно лучше, когда он разглядел, что картина на стене тоже изображает море, как у него – впрочем, море в особняке на Английской набережной явно было нарисовано куда более опытным живописцем.
– Я вас оставлю, – сказала Амалия. – Если вам что-нибудь понадобится, зовите горничную. Звонок рядом с кроватью.
И она удалилась, оставив Дмитрия Ивановича в размышлениях, победитель он или пленник, повезло ему или он погиб окончательно из-за того, что этим вечером ему встретилась баронесса Корф. Впрочем, после зеленого рояля измученный композитор уже не ожидал от своей хозяйки ровным счетом ничего хорошего.
Глава 9 Явление Гиацинта
Ночь Чигринский провел неспокойно – то ему снилось, что он убегает от кого-то, то сам он, напротив, гнался за кем-то, кто был убийцей (во сне композитор точно знал это) и упорно отворачивал свое лицо, чтобы Дмитрий Иванович его не признал. Все испортил зеленый рояль, который вылетел откуда-то и стал путаться под ногами. Но в конце концов все устроилось, потому что Чигринский сел на рояль, и они полетели следом за преступником. Как это часто бывает во сне, тот, за кем они гнались, куда-то бесследно исчез. Рояль загремел клавишами, поверхность его пошла волнами, и Дмитрий Иванович проснулся в холодном поту.
Особняк спал, и всюду царила густая, плотная, как вата, тишина. Чигринский повернулся на кровати, вздохнул, закрыл глаза – и тотчас вспомнил все, что случилось вчера. Но по прошествии времени он обрел способность относиться к происшедшему более взвешенно и потому сейчас не ощутил ни ужаса, ни укола тоски.
Итак, кто-то убил Оленьку, и убил, как сказала баронесса Корф, чтобы бросить тень на него, Чигринского. Может такое быть? Конечно, может, хоть на первый взгляд и кажется неправдоподобным.
Далее, сама баронесса Корф по какой-то причине решила принять в Чигринском участие и пообещала провести собственное расследование. Это, положим, было совершенно невероятно, потому что такие вещи не случаются даже в романах, но если хозяйка решила его выгородить, то что именно она могла предпринять?
Чигринский раздумывал над этим до того, что у него даже начал ныть висок, но в конце концов пришел к выводу, что хозяйка позовет на помощь неизвестного ему Александра Богдановича и передаст следствие в его руки, предварительно поставив условием, чтобы композитора не беспокоили. Дмитрий Иванович был слишком русским человеком, чтобы не знать, что законы Российской империи как бы действительны для всех, но в то же время для некоторых людей, стоящих высоко, они вовсе не обязательны. Коротко говоря, его самого вполне устроило бы, если бы закон закрыл глаза на его действия и оставил его в покое – тем более что сам он, как отлично известно читателю, никого не убивал.
Однако Чигринский понимал, что заступничество баронессы Корф вряд ли окажется бескорыстным, что чем-нибудь за него придется платить, и неприязненно предвидел, что теперь ему придется до скончания своих дней по первому требованию хозяйки ездить на благотворительные концерты и играть для людей, которые в музыке смыслят не больше, чем сам он, допустим, в разведении репы.
«А впрочем, – невесело помыслил Дмитрий Иванович, – что мне остается, если я больше не смогу сочинять? Перейду уж тогда в исполнители, в самом деле…»
Но от этой мысли ему стало совсем нехорошо. Он заворочался в постели, то закрывая, то открывая глаза, и наконец решил подняться, не зная сам хорошенько, для чего.
Зеркало на стене отразило одутловатую больную физиономию с поникшими усами и набрякшими веками. Чигринский скривился и вышел из спальни, совершенно позабыв про то, что подстерегает его снаружи.
Когда он увидел зеленый рояль, было уже поздно. Дмитрий Иванович чертыхнулся сквозь зубы, но отступать было некуда. Заложив руки за спину, он обошел рояль, с подозрением косясь на него, но инструмент вел себя так же, как и любой другой инструмент – не брыкался, не пытался лягнуть композитора и вообще тихо стоял на месте, размышляя о чем-то своем. На его боку в свете электрических ламп, которые зажег Чигринский, нежно блестели нарисованные бабочки.
«Вот чучело зеленое», – с досадой подумал Чигринский.
Обернувшись, он увидел в углу растение с жесткими темными листьями, на котором сидела целая россыпь бабочек. Когда заинтересованный композитор подошел ближе, они не взлетели и даже не сдвинулись с места. Присмотревшись, он понял, что это цветы, сидевшие на стеблях наподобие диковинных мотыльков.
Тут у Дмитрия Ивановича мелькнуло в голове, что дело нечисто и что он оказался в каком-то заколдованном месте, где рояли зеленые, а цветы похожи на бабочки. Самой странной, конечно, была хозяйка этого места, но Чигринский в тот момент не стал задерживаться на этой мысли.
Не устояв перед искушением, он подошел к роялю, поднял крышку и потрогал клавиши. Звук их поразил композитора – глубокий, полный и чистый. Несомненно, зеленый рояль был настроен превосходно – хоть сейчас садись и играй.
Внезапно Чигринский рассердился на себя, захлопнул крышку, выключил свет и удалился к себе, всем видом показывая, что он не поддастся соблазнам этого заколдованного чертога. Он рухнул в постель, закутался в одеяло и через несколько минут уже спал. Сны его, следовавшие один за другим, все были зеленые, как рояль.
В положенный срок петербургское утро крадущейся походкой пробралось в спальню, но Чигринский все еще спал. Он проснулся только тогда, когда возле его изголовья материализовалась застенчивая молодая женщина в белом фартуке поверх платья и в кружевной наколке на волосах.
– Дмитрий Иванович! Дмитрий Иванович!
Дмитрий Иванович сладко всхрапнул и повернулся на другой бок.
– Дмитрий Иванович! – Горничная подошла ближе и решилась тронуть его за плечо. – Дмитрий Иванович, там… там полиция.
Услышав это, прямо скажем, вовсе не магическое слово, Чигринский тотчас же открыл глаза.
– Что там? – спросил он с нескрываемым отвращением.
– Полицейский чиновник… И он спрашивает вас.
– Ахм, – промычал Чигринский, проведя рукой по лицу, и сразу же вспомнил все.
Рояль – Оленька – убийство – Амалия Корф! Ну конечно же!
– Скажи им, – хрипло промолвил он, – что я сейчас буду.
– Хорошо, Дмитрий Иванович. – И горничная растворилась в солнечном свете.
Да, думал Чигринский, одеваясь и приводя себя в порядок, все-таки чудес на свете не бывает. Сейчас полиция его арестует… (Он налил себе на шею холодной воды, чтобы окончательно проснуться, и свирепо потряс головой.) Значит, баронесса Корф переоценила свои силы. Ну что ж… По крайней мере, он больше никогда не увидит зеленый рояль.
Он прошел через музыкальную комнату, миновал коридор и увидел горничную, которая уже вернулась и поднималась по лестнице.
– Куда теперь? – спросил Чигринский. Только сейчас он сообразил, что в доме было множество комнат, а куда конкретно надо было идти, он не знал.
– Идите за мной, – сказала девушка.
…И через минуту Чигринский оказался в другой гостиной, которая оказалась больше, чем вчерашняя, и была обставлена светлой французской мебелью. Амалия сидела в кресле, а напротив нее с почтительным, но упрямым видом стоял молодой полицейский. До композитора донеслось окончание его фразы:
– …тем не менее мы обязаны принимать к сведению все факты, госпожа баронесса…
– А, Дмитрий Иванович! – сказала Амалия с очаровательной веселостью, которой Чигринский за ней прежде не замечал, и протянула ему руку для поцелуя. – Вот, послушайте, что господин Леденцов мне только что рассказал… Поразительно, просто поразительно! Это Дмитрий Иванович Чигринский, – добавила она, представляя композитора, который смутно помыслил, что отлично обошелся бы без такого представления.
Молодой человек повернулся, и Чигринский увидел, что полицейский сыщик был весь какой-то пепельный. И волосы пепельные, и небольшие усы пепельные, и глаза пепельно-серые, с прищуром. Вид у сыщика был необыкновенно печальный, словно то, на что он успел насмотреться на службе, на всю жизнь отбило у него охоту радоваться. Впрочем, будь на месте Чигринского какая-нибудь барышня, она бы первым делом отметила ямочку на подбородке и непременно заключила бы, что молодой полицейский весьма недурен собой, а меланхолический вид только добавляет ему шарма.
– Господин Леденцов… э… – Амалия слегка запнулась.
– Гиацинт Христофорович, – поспешно подсказал пепельный.
– А почему Гиацинт? – брякнул Чигринский, не удержавшись.
Полицейский сделался еще печальнее.
– Вы что-то имеете против этого имени, сударь?
– Нет, что вы! К примеру, у нас в полку был врач по фамилии Пионов. Правда, пил он так, как цветы не пьют, и, гхм, вовсе не воду.
Он широко улыбнулся, показав крупные ровные зубы, и сел. По правде говоря, больше всего в это мгновение ему хотелось выкинуть полицейского чиновника в окно. (В глубине души Дмитрий Иванович никогда не переставал быть лихим гусаром.)
– Может быть, вы ознакомите Дмитрия Ивановича с целью вашего визита? – осведомилась Амалия.
– А что такое? – небрежно спросил композитор. – Неужели я вчера чего-нибудь натворил?
– Боюсь, что да, – промолвил полицейский. – По нашим сведениям, вчера вечером вы приехали на квартиру некой Ольги Верейской, убили ее, а тело перевезли сюда, чтобы замести следы. Согласно тем же сведениям, госпожа Верейская являлась вашей, э, близкой знакомой… очень близкой, так сказать.
Дмитрий Иванович похолодел. Получалось, что Амалия Корф была права: тот, кто убил Ольгу, сделал это, чтобы добраться до него, Чигринского. «Он следил за мной! – осенило композитора. – Следил, а когда понял, что его план может не сработать, известил полицию…»
– Это вздор какой-то… – промолвил он больным голосом.
– Тем не менее дворник соседнего дома, госпожа баронесса, запомнил, как вчера вечером господин, по описанию похожий на Дмитрия Ивановича, внес в парадную дверь какое-то тело, закутанное в шубу. – Гиацинт Христофорович сделал крохотную паузу. – И еще один момент. Куда бы она ни уезжала, Ольга Николаевна имела привычку всегда ночевать у себя дома. Так вот, ни вчера вечером, ни сегодня она не возвращалась.
И он чрезвычайно внимательно посмотрел в лицо хозяйке дома, которая, улыбаясь каким-то своим мыслям, играла с кистью от веера.
– Вы можете что-либо сообщить мне по этому поводу, милостивый государь? – учтиво осведомился Леденцов.
– Я думаю, что пора покончить с этими тайнами мадридского двора, – внезапно сказала Амалия, поднимаясь с места. – Благоволите следовать за мной, Гиацинт Христофорович.
И она двинулась к двери, воинственно помахивая веером.
«Что это с ней?» – с некоторым беспокойством подумал Чигринский.
Амалия дошла до дверей маленькой гостиной, куда накануне Дмитрий Иванович внес тело несчастной Оленьки и, не колеблясь, переступила порог.
Чигринский содрогнулся. Труп по-прежнему лежал на диване под белым покрывалом, но на этот раз… композитор навострил уши… Да, никакой ошибки быть не могло: из-под покрывала доносилось легкое похрапывание.
Тут волна ужаса накрыла Дмитрия Ивановича, так что он едва мог дышать. Но Амалия Константиновна, судя по всему, была дамой не робкого десятка. Решительно подойдя к дивану, она сдернула покрывало.
– Дядюшка Казимир!
И, обернувшись к присутствующим мужчинам:
– Позвольте представить – мой дядя Казимир Браницкий.
За ночь прелестная Оленька успела, судя по всему, основательно поменять форму. Теперь на ее месте лежал невысокий, кругленький и, судя по физиономии, вполне довольный собой господин лет сорока или около того. Он был полностью одет и даже не удосужился снять с ног ботинки. Кроме того, в отличие от Оленьки, дядюшка Казимир был жив, что и доказал, широко зевнув и попытавшись отнять у племянницы покрывало.
– Ну ей-богу, Амалия…
Он приоткрыл глаза, но решил, очевидно, что Чигринский и Леденцов не заслуживают его внимания, потому что попытался удобнее устроиться на диване и подложил ладонь под щеку.
– Вот это и есть, – безжалостно откомментировала Амалия, – то бездыханное тело, которое Дмитрий Иванович вчера вечером столь любезно доставил в мой дом.
…Нет, Гиацинт Христофорович не открыл рот, не остолбенел, не окаменел, не позеленел и даже не дрогнул. Однако, видя выражение его лица, вы могли бы подумать, что молодой сыщик закручинился еще больше, хотя прежде такое казалось совершенно невозможным.
– Протестую, – объявил дядюшка Казимир, не открывая глаз. – Меня не доставили, а привели.
– Внесли! – свирепо поправила его Амалия. – Потому что вы лыка не вязали!
– Я ничего не пил, – заплетающимся языком доложил дядюшка.
– О! И зачем я вас послушалась?
– Как зачем? – Дядюшка все-таки приоткрыл глаза и покосился на племянницу, которая готова была взорваться. – Ты просила, чтобы я привел господина Чигринского. Он все время отказывался у тебя играть, и я…
– Дядя!
– Ресторан Мишеля – отличное место, чтобы найти общий язык, – сообщил Казимир, поймав край покрывала и меланхолично пытаясь натянуть его на себя. – Не понимаю, чем ты недовольна. Ведь я привел господина Чигринского…
– Дя-дя!
– И он согласился у тебя играть, – промямлил дядюшка и, окончательно завладев покрывалом, закутался в него, как в кокон, и закрыл глаза.
Амалия в отчаянии развела руками и поглядела на Леденцова.
– Я хотела, чтобы Дмитрий Иванович сыграл у меня на благотворительном вечере, – объяснила она. – Дядя пообещал его привести, но у меня и в мыслях не было, что он исполнит мою просьбу таким образом.
Чигринский лихорадочно размышлял. По правде говоря, происходящее ему нравилось все меньше и меньше. Дядюшка производил впечатление редкостного плута, и Дмитрий Иванович невольно забеспокоился. «Черт побери, – мелькнуло у него в голове, – уж не угодил ли я в петербургскую Хитровку? Конечно, с виду не похоже на притон, но все же… все же…»
– Значит, вы оставили Ольгу Николаевну у Мишеля? – печально спросил Леденцов.
Чигринский непонимающе взглянул на него.
– Я не помню, – выдавил он из себя.
И в самом деле: если дядюшка лежал здесь, то куда же делось тело? Что хозяйка с ним сделала? При одной мысли об этом композитору стало не по себе.
– Вы хотите еще о чем-то спросить? – осведомилась Амалия у Леденцова. – На вашем месте я бы тщательнее все проверяла, прежде чем верить анонимным доносам.
Гиацинт Христофорович внимательно посмотрел на нее.
– Откуда вам известно, что к нам поступил анонимный донос? – мягко спросил он. – Сам я ничего подобного вам не говорил.
– Я лишь высказала предположение, – заметила Амалия, сверкнув глазами. – У такого известного человека должно быть достаточно недоброжелателей, а среди них попадаются люди с фантазией.
– Я полагаю, недоброжелатели есть у каждого, – парировал печальный Гиацинт. – Однако не о каждом нам докладывают, что он зарезал свою любовницу, и называют точные обстоятельства дела… Можете не сомневаться, госпожа баронесса: мы все проверим. Такая уж у нас работа.
Он поклонился и проследовал к выходу.
Глава 10 Гонорар избавителя
– Между прочим, дядюшка, вы бы могли снять обувь перед тем, как забираться на диван, – с упреком в голосе сказала Амалия, когда шаги полицейского окончательно стихли за дверью.
Дядюшка Казимир открыл глаза, без всяких околичностей отшвырнул покрывало и сел. Тут только Чигринский разглядел, что покрывало было не такое, как вчера, а немного другого оттенка и с бахромой по бокам.
– Между прочим, – капризно объявил дядюшка, – я рисковал!
– Чем же?
– Я ввел полицию в заблуждение, – важно сказал Казимирчик. – С меня могут спросить… по всей строгости закона, вот!
– И чем же вы рисковали? Разве вы не были вчера в ресторане Мишеля?
– Был, – свесил голову Казимирчик. – Но домой я вернулся на своих ногах! – обидчиво прибавил он.
«Нет, он не мошенник, – думал Чигринский, которому довелось стать свидетелем столь необычного семейного препирательства. – Не мошенник, но… ничуть не лучше мошенника…»
– Скажи-ка мне лучше, с чего это дворнику графа Морского вздумалось на нас доносить? – спросила Амалия.
– Как – с чего? – пожал плечами Казимир. – Он подкатывал к нашей Маше, а она дала ему от ворот поворот.
– Дядя, вы просто клад, – вздохнула Амалия. – Честно говоря, я понятия об этом не имела.
– Разумеется, – с готовностью отвечал Казимирчик. – Ты у нас витаешь в высоких сферах, политика, государственные дела, а я человек маленький, поэтому мне горничные все рассказывают… – Он пригладил торчащие волосы и протянул руку. – Да, пока я не забыл: пятьсот рублей.
– Дядя! – возмутилась Амалия. – За что?
– За то, что я по твоей просьбе изображал тут пьяного, как какой-нибудь актер императорских театров, – отвечал дядюшка, не моргнув глазом. – Это, дорогая племянница, серьезная работа.
– Работа?
– Разумеется, и, как любая другая работа, должна быть оплачена, – объявил дядюшка, важно поднимая палец. – В конце концов, я не благотворительная организация, и вообще, трудиться безвозмездно не в моих привычках.
Амалия сердито покосилась на дядю.
– К твоему сведению, даже лучшие артисты получают только тысячу в месяц, – заметила она.
– А им приходится играть перед полицией? – вкрадчиво спросил Казимирчик. – К тому же я человек скромный, на славу Давыдова не претендую. Пятьсот рублей меня вполне устроят.
«Вот прохвост!» – в восхищении помыслил Чигринский.
Однако, к его удивлению, Амалия тотчас же отсчитала дяде деньги, шепнув ему на ухо по-польски:
– Вымогатель!
– Я всего лишь соблюдаю свой интерес, – хладнокровно возразил Казимирчик, пересчитывая купюры. – Гм, Амалия, а тут уголок надорван, не могла бы ты мне ее заменить?
– Ну уж нет, – твердо ответила племянница и повернулась к гостю. – Дмитрий Иванович, вы будете с нами завтракать?
С одной стороны, Чигринского так и подмывало откланяться и сбежать, с другой – он был не глуп и прекрасно понимал, что все отнюдь не кончилось, а только начинается. Поэтому Дмитрий Иванович без особых возражений позволил увлечь себя в столовую.
Однако кое-что его беспокоило, и он сказал Амалии:
– Я очень благодарен вам за все, что вы сделали для меня и продолжаете делать, но… Боюсь, ваша выдумка насчет ресторана Мишеля не сработает. Я не хожу туда, и в ресторане отлично об этом знают.
Амалия метнула на своего собеседника быстрый взгляд.
– Увы, мне пришлось действовать экспромтом, – призналась она. – Честно говоря, я не ожидала, что полиция окажется настолько расторопной… точнее, что некто уже сделает им заявление насчет вас. – Молодая женщина прищурилась. – Вы до сих пор не знаете, кто это может быть?
Чигринский покачал головой.
– Однако теперь я вижу, что вы были правы, – быстро добавил он. – У меня есть враг, и он не остановится ни перед чем, чтобы погубить меня. – Дмитрий Иванович наклонился к Амалии и понизил голос. – Скажите, госпожа баронесса, а куда вы дели тело?
– Его увезли, – хмуро ответила она.
– Куда?
– Для вскрытия.
Больше она не сказала ни слова, и Чигринский понял, что она не расположена об этом говорить.
За столом кроме него и Амалии оказалось еще трое человек: уже знакомый ему дядюшка Казимир, который явно пребывал в приподнятом настроении после того, как получил за свое представление столь внушительный гонорар, польская дама в темном парчовом платье, расшитом золотом, – дама из тех, о которых в книгах пишут «со следами былой красоты на лице» и прочее, и мальчик, похожий на Амалию, на которого она поглядывала с такой любовью, что Чигринский окончательно успокоился и перестал думать о том, что судьба забросила его в притон, где не боялись даже полиции и не останавливались перед откровенной ложью ее представителям.
Дама в парчовом платье, которую звали Аделаида Станиславовна, оказалась матерью Амалии. Собственно говоря, любая другая мать, утром обнаружившая в доме дочери мужчину, которого накануне там не было, имела полное право потребовать объяснений по этому поводу, но Аделаида Станиславовна приняла появление Чигринского как должное, словно он давно уже собирался у них поселиться, да все откладывал. Мало того, она осыпала его комплиментами и объявила, что в восторге от его музыки.
– Вот вы и попались, Дмитрий Иванович, – заметила Амалия. – Берегитесь, теперь вам придется переиграть моей матушке все, что вы когда-либо написали.
Мальчик, которого звали Михаил, почти все время молчал и косился на гостя, и по лицу ребенка композитор видел, что этот член семьи вовсе не в восторге от его появления. Поэтому Дмитрий Иванович завел с ним разговор и стал расспрашивать, кем он собирается стать, когда вырастет.
– Военным, – застенчиво сказал Михаил и, подумав, добавил: – Как папа.
– Тебе же нравится музыка, – заметила Амалия.
– Нет, – коротко ответил мальчик, – не нравится.
Чигринский понял, что в семье существует какая-то натянутость, и она, судя по всему, касалась отсутствующего здесь отца семейства. Решив немного оживить разговор, композитор заговорил о людях, которых знал, рассказал несколько анекдотов и среди прочего упомянул, что поэт Нередин собирается вскоре возвращаться на родину.
– Да, он мне писал, – кивнула Амалия. – Но я ему отсоветовала возвращаться. По-моему, ему не повредит еще немного поправить здоровье.
Чигринский взглянул на нее с удивлением: он не помнил, чтобы Алешка когда-нибудь упоминал при нем, что знаком с баронессой Корф. Впрочем, Нередин всегда был скрытен, особенно в том, что касалось отношений с женщинами.
И тут Дмитрию Ивановичу показалось, что он нашел решение вопроса, который мучил его со вчерашнего вечера. Вопрос этот состоял в том, с какой, в сущности, стати незнакомая дама так охотно взялась ему помогать, когда для нее самой это могло означать разве что крупные неприятности. Другое дело, если Амалия была любовницей Нередина и знала о его дружбе с Чигринским. Да, такой расклад вещей и впрямь объяснял очень многое…
После завтрака Амалия поглядела на часы и, недовольно хмурясь, поднялась в комнату с зеленым роялем, где стала осматривать стоящие там экзотические растения. Вскоре к ней присоединился и Чигринский.
– Я полагаю, – начал он, – что мне следует вас покинуть, чтобы не навлекать на вас новые неприятности…
– Неприятности? – Амалия пожала плечами. – Ничего еще не произошло. И, напротив, я полагаю, что как раз здесь вам угрожает наименьшая опасность.
Она оборвала два или три желтых листка и критически оглядела ветку, на которой сидели притворяющиеся мотыльками цветы.
– Что это? – спросил Чигринский.
– Орхидея. Алексей Иванович сейчас пытается переводить японских поэтов, хотя это довольно сложно. Так вот, один из них писал, что в жизни есть только три подлинных радости: наблюдать, как растут твои дети, любоваться закатом и смотреть, как распускаются орхидеи. По-моему, он был прав.
Дмитрий Иванович не знал, что можно на это ответить. Попробуй возразить – и будешь выглядеть полным олухом, а если не возражать – получится, что ты вроде как соглашаешься. Недобрым словом помянув про себя пристрастие Алешки ко всяким экзотическим поэтам, Чигринский в сердцах решил, что в жизни не станет читать ни одного японского стихотворения. Его возмущало, когда ему пытались навязывать что бы то ни было, да еще покушались выдавать это за высшую степень мудрости.
– Если хотите, можете что-нибудь сыграть, – предложила Амалия, кивая на рояль.
– О! – вырвалось у композитора. – Нет, благодарю вас…
Он с опозданием сообразил, что сморозил глупость, и покраснел.
– Вам не нравится зеленый рояль? – спросила Амалия, улыбаясь.
– Если вам угодно, – решился Чигринский, – я не понимаю, зачем… и вообще… Вот.
– Понимаю, он выглядит странно, – заметила Амалия. – Но я его не покупала. Когда мы перебрались в этот дом, моя мать захотела обставить несколько комнат по своему вкусу. Она объездила, кажется, все столичные магазины, и ей ничего не приглянулось. В конце концов она купила этот рояль, хотя и она, и я редко подходим к инструменту. Мне она объяснила, что увидела рояль в магазине на Невском, что он стоял в зале так сиротливо, что ей просто стало его жаль. Никто не хотел его брать, понимаете? Изначально его заказали для княжны Трубецкой, но она не дождалась его, умерла от воспаления легких. И рояль простоял в магазине несколько лет, но он выглядел настолько необычно, что хозяева уже отчаялись его продать. Как видите, к зеленому роялю не подходит никакая мебель, поэтому пришлось отдельно заказывать стулья с бледно-зеленой обивкой, зеленый ковер, подбирать на стены панели с цветами, а их пришлось везти из Франции… одним словом, масса хлопот. В этой комнате много света, поэтому мы поставили сюда разные растения, которым нужно солнце, и между собой зовем комнату «оранжереей». – Амалия улыбнулась. – Вот так зеленый рояль оказался в оранжерее, но это не значит, что на нем нельзя играть. Инструмент в полном порядке, просто он выглядит так… фантастично.
Чигринский подумал, что это очень в духе баронессы Корф – дать приют вещи, от которой все отказываются. Или человеку, которого не сегодня завтра могут обвинить в убийстве.
– Вы очень добры, – проговорил он, волнуясь. И, неловко взяв руку своей собеседницы, поцеловал ее.
– О, – сказала Амалия, поворачивая голову к дверям, – а вот и Александр Богданович!
Глава 11 Сомнения, предположения и подозрения
Признаться, Чигринский уже почти позабыл про этого бесфамильного Александра Богдановича, который должен будет облегчить его участь. Но, едва увидев в дверях молодого человека, который вряд ли был намного старше Амалии, Дмитрий Иванович изумился, а затем возмутился. Одно дело – зависеть от баронессы Корф, которая коротко знакома с твоим другом Нерединым и явно руководствуется самыми лучшими побуждениями, и другое дело – от какого-то штатского типа, который смотрит на тебя, насупившись и так, словно уже записал тебя в виновные.
– Александр Богданович Зимородков, чиновник особых поручений при сыскной полиции… Дмитрий Иванович Чигринский, композитор.
– Наслышан, наслышан о вас, милостивый государь, – приветливо сказал Зимородков, пожимая руку Чигринского своей очень крепкой и широкой ладонью. Но Дмитрий Иванович, обладавший абсолютным музыкальным слухом, фальшь ловил не то что с полузвука, а можно сказать, вообще на лету. И Чигринский сразу же понял, что этот немного неуклюжий, плечистый молодой человек, мало похожий на чиновника и еще меньше – на сыщика, не рад ему и вовсе не рад обстоятельствам, из-за которых он оказался в особняке баронессы Корф.
– Полагаю, мы можем поговорить здесь, – заметила Амалия. – Или, может быть, лучше перейти в другую гостиную?
Александр Богданович покосился на зеленый рояль, на цветы-бабочки и дал понять, что обстановка его вполне устраивает. Амалия села в кресло, чиновник устроился напротив нее, а Чигринский опустился на небольшой, обитый зеленым шелком диван, подальше от рояля.
– Я полагаю, правильнее всего будет начать с самого начала, – заметила Амалия и сжато, но не упуская ни единой детали, рассказала, как она вчера столкнулась с Чигринским недалеко от своего особняка, а также обо всем, что последовало за их встречей.
Зимородков слушал и кивал, но что-то в выражении его лица Чигринскому подспудно не нравилось, и он поймал себя на том, что молодой чиновник внушает ему живейшую антипатию. Это была не антипатия момента, как вчера с Амалией; Чигринский предчувствовал, что неприязнь его к Зимородкову окажется куда более стойкой и скорее всего взаимной.
– А что вы имеете рассказать? – обратился к нему Александр Богданович.
Уже этот старомодный оборот – «имеете рассказать» – Чигринскому не понравился, но он все же пересилил себя и поведал о вчерашнем дне, пытаясь подражать тону Амалии – говорить сжато, без ненужных отступлений, но в то же время не упуская ни единой ценной детали.
– Скверное дело, – уронил Зимородков, когда композитор закончил.
Ну разумеется, помыслил язвительный Чигринский, будь оно хорошее, кто бы тебя сюда позвал!
– Очень плохо, что вы сразу же не вызвали полицию, – добавил чиновник. – Это все осложняет.
И, сочтя, очевидно, что большего Чигринский не заслуживает, повернулся к Амалии.
– Итак, госпожа баронесса, чего вы, собственно, хотите?
– Расследования, – с некоторым удивлением ответила хозяйка дома. – Но с условием, чтобы сведения о нем не просочились в прессу. Точнее, о том, что в деле оказался замешан Дмитрий Иванович, – поправилась она.
Александр Богданович некоторое время молчал, но даже в его молчании Чигринскому чудилось неодобрение.
– Расследование, разумеется, будет проведено, – сказал он наконец. – Но…
– Но?
– Вы ставите меня в очень сложное положение, Амалия Константиновна, – с подобием улыбки промолвил чиновник. – Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что ваши действия – равно как и ваши, милостивый государь, – противозаконны. – Чигринский побагровел. – Вам следовало посоветоваться со мной, госпожа баронесса, прежде чем отсылать тело на вскрытие от моего имени.
– Я хотела с вами посоветоваться, – мягко отозвалась Амалия. – Но вчера вы были заняты, а между тем я не могла оставлять тело в своем доме. Разумеется, я распорядилась отправить его… куда следует. И записку я написала от себя. Доктор Саблин достаточно меня знает, чтобы понимать, что я не стану беспокоить его по пустякам…
– Вы не имели права отправлять Саблину тело, равно как и записку, – с неудовольствием промолвил Зимородков. – Вы понимали, что он решит, будто мы с вами опять ведем совместное следствие, и не станет задавать вопросов. А в конечном итоге я могу оказаться в очень неприятной ситуации.
– Я не пыталась скрыть преступление, – холодно сказала Амалия, складывая веер. – Наоборот, я хочу, чтобы его расследовали и нашли убийцу. Но я против того, чтобы из-за этого расследования пострадал невиновный, конкретно – Дмитрий Иванович. Так понятно?
– Если он невиновен, – спокойно заметил Александр Богданович, – ему ничего не угрожает.
Ножки дивана, который оттолкнул вскочивший Чигринский, взвизгнули, скользнув по паркету.
– Милостивый государь! – сердито вскричал композитор.
– Встаньте на мою точку зрения, Дмитрий Иванович, – все так же спокойно продолжал чиновник. – Что я должен думать о человеке, который пытался увезти тело и скрыть следы преступления? Согласитесь по крайней мере, что у полиции есть веский повод вас подозревать.
– Я никого не убивал! – в запальчивости крикнул Чигринский.
– Для правосудия мало одного вашего утверждения. – Чем больше композитор выходил из себя, тем невозмутимее становился его собеседник. – Ему нужны доказательства.
– Господа, – вмешалась Амалия, – я убедительно попрошу вас не ссориться в моем доме… Благодарю вас.
Однако Чигринский не сдавался.
– Если вы уже произвели меня в виновные, мне здесь нечего делать, – хрипло бросил он, адресуясь исключительно к ненавистному чиновнику.
Амалии пришлось призвать на помощь весь свой такт, всю силу убеждения, чтобы погасить страсти, но это удалось ей только отчасти. Дмитрий Иванович произнес несколько колкостей в адрес полицейского, но тот был так вежлив и выдержан, что все стрелы разъяренного композитора отскакивали от него, как от стенки горох. В конце концов Амалия выпроводила Чигринского и передала его дядюшке Казимиру, который, бесцельно слоняясь по комнатам, мирно курил трубочку.
– Кажется, дядюшка, у вас где-то завалялись гаванские сигары? – спросила Амалия.
Казимир призадумался, потом вспомнил, что сигары были привезены ему в подарок самой Амалией, и торжественно пообещал сей же час их попробовать, заодно угостив и композитора. Он увел Чигринского, а Амалия вернулась в комнату с зеленым роялем.
– А вы переменились, Саша, – неожиданно сказала она, затворяя дверь и поворачиваясь к полицейскому. – Очень переменились.
– Право, я не понимаю, о чем вы, Амалия Константиновна, – смутился Зимородков. – Вам угодно было принять участие в господине музыканте, потому что вы сочли его жертвой чьих-то адских козней – это ваше дело. Но я не вижу причин, по которым закон должен делать для него исключение. Конечно, он талантливый композитор, но…
– Я, как вы выражаетесь, приняла в нем участие не потому, что он композитор, – сухо заметила Амалия, возвращаясь на прежнее место. – Я помогаю ему потому, что он невиновен.
– Ой ли?
– Я в этом уверена.
– Женская интуиция, без сомнения?
– Как вам будет угодно, – колюче ответила Амалия. – Но он ее не убивал, и точка.
– А если вы ошибаетесь?
– Я не ошибаюсь.
– Почему вы так уверены в этом?
– Потому что он не смог назвать мне ни одного человека, которому ее смерть была бы выгодна. Будь он убийцей, он поторопился бы назвать множество подозреваемых и для каждого приискал бы вполне логичный повод.
– А может быть, он просто неумен? Из его действий, – добавил Зимородков, заметив, как сверкнули глаза Амалии, – вроде бы напрашивается такой вывод.
– Боюсь, что если мы углубимся в рассмотрение ума как такового, то нам придется признать, что как минимум в некоторые моменты им никто не обладает, – со смешком заметила баронесса Корф. – И самые умные люди – то есть, как правило, те, кого дураки обычно считают умными – совершают порой настолько детские ошибки, что просто диву даешься.
– А вы не переменились, Амалия Константиновна, – без всякой улыбки заметил Зимородков. – Ни капли[105]. Хорошо, так что именно вы от меня хотите?
– Я уже сказала: чтобы мы провели расследование и нашли убийцу.
– Вот как? А если им окажется Дмитрий Иванович?
– Значит, Дмитрия Ивановича будут за него судить. Но его вина должна быть доказана.
– Тогда считайте, что она практически доказана, Амалия Константиновна.
– Что это значит? – насторожилась Амалия.
– Саблин уже провел вскрытие и прислал мне отчет, – пояснил Зимородков. – На убитой был корсет, но, несмотря на это, нож пробил его и вошел точно в сердце. Иными словами, удар наносил человек, физически очень сильный – то есть сильный мужчина. Женщина, как объяснил Саблин, такой удар нанести не сможет. Вопрос: какой сильный мужчина был на месте преступления и сразу же после него попытался увезти труп? По-моему, все очевидно. Воля ваша, Амалия Константиновна, но это он ее убил.
– Вы меня не убедили, – сказала Амалия после паузы.
– Вы упоминали, что Дмитрий Иванович отдал вам нож, которым была зарезана Ольга Верейская, и сказал, что вытащил его из раны. Так вот, Саблин изучил и нож тоже. Чтобы вонзить его в тело, нужна была недюжинная сила, но не меньшую силу пришлось применить, чтобы его вытащить, потому что он пробил насквозь планку корсета. Это Чигринский, Амалия Константиновна. В этом нет никаких сомнений.
– Хорошо, – неожиданно легко согласилась Амалия. – Итак, композитор Чигринский отправляет своей любовнице записку, что вечером будет у нее. Он покупает конфеты, торт, сотерн и отправляет ей, затем заходит в лавку и смотрит обручальные кольца. Потом он приходит в дом, здоровается со швейцаром, поднимается по лестнице, входит и хладнокровно убивает любовницу. Кстати, откуда взялся нож? Сам Чигринский не упоминал, что он принадлежит Ольге Николаевне.
– Он мог принести его с собой.
– Прекрасно. Получается, что он заранее обдумал убийство, заказал сладости, вино и еще успел зайти к ювелиру, полюбоваться на кольца. Воля ваша, но это какой-то запредельный цинизм, что вовсе не вяжется с характером Дмитрия Ивановича. И кто донес в полицию, что он убил любовницу и увез ее тело в мой дом?
– Нам позвонили по телефону.
– Вот как? И имя убийцы сказали сразу же, не так ли?
– Вы правы, – нехотя признал Александр Богданович.
– Что-то мне подсказывает, что автор сообщения был настолько скромен, что не удосужился назвать себя, – усмехнулась Амалия.
– Думаете, он и есть убийца?
– Или убийца, или его сообщник. Впрочем, так как в Петербурге мало телефонов, найти его не составит труда[106]. Вот этим прежде всего и следует заняться.
– Я бы и рад вам помочь, Амалия Константиновна, – серьезно сказал Зимородков, – но, к сожалению, я не могу ничего поделать. Я еще не окончил дело с убийством Громовой и ее приживалок.
– Так горничная все же ни при чем?
– Судя по всему, да. Ее стали подозревать с самого начала, потому что она отпросилась у хозяйки как раз на то время, когда произошло убийство. Мы в полиции не любим такие совпадения, но оказалось, что горничная действительно уезжала на крестины племянника и была там крестной матерью.
– А что с кольцами, которые у нее нашли?
– Она пыталась нас убедить, что кольца ей подбросили, но в конце концов ей пришлось признаться, что она нашла их после убийства и взяла, считая, что их никто не хватится. К тому же прижимистая генеральша задолжала ей жалованье. Конечно, горничная поступила некрасиво, но меня интересует не maraude[107], а куда более серьезное преступление, в расследовании которого она мне помочь не может. Расследование затягивается, к тому же пропали значительные ценности, а следов почти никаких. Боюсь, в этих обстоятельствах мне придется доверить дело Верейской другому сыщику. Можете не сомневаться, – поспешно добавил Зимородков, – это будет очень, очень опытный профессионал.
– Полагаю, вы сумеете объяснить своему профессионалу, что ему придется меня слушаться, – проворчала Амалия. – Потому что руководить расследованием все равно буду я, и это право никому уступать я не намерена.
– Не имею ничего против, – с улыбкой ответил Александр Богданович. – Но с одним условием: вы не попытаетесь скрывать улики, чтобы выгородить вашего… вашего протеже.
Амалия нахмурилась.
– По-моему, мы с вами достаточно знаем друг друга, милостивый государь, – очень холодно сказала она. – Я не занимаюсь сокрытием улик и не перетолковываю их в пользу обвиняемого.
– Амалия Константиновна…
– И давайте покончим на этом. Если Дмитрий Иванович невиновен, я найду убийцу. Если он виновен, я найду доказательства его вины. Ваш человек будет мне помогать, и я от души надеюсь, что его реальные качества соответствуют его репутации.
– Будьте спокойны, госпожа баронесса, – отозвался Зимородков. – Это прекрасный специалист, и на него до сих пор не было никаких нареканий. Можете на него положиться: он вас не подведет!
Глава 12 Кое-что о смысле бытия
Дмитрий Иванович Чигринский не был японским поэтом, как, впрочем, и поэтом вообще. Над смыслом жизни он задумывался нечасто, но, во всяком случае, орхидеи, закаты и дети его не слишком волновали. И если бы кто-нибудь из репортеров вздумал расспрашивать композитора о смысле жизни, а не о том, как он начал сочинять, что он пишет сейчас и что будет сочинять потом, – так вот, если бы репортер задал не один из трафаретных вопросов, какие всегда наготове у пишущей братии, а стал бы допытываться, что Дмитрий Иванович ценит больше всего, тот, наверное, ответил бы: музыку, еще раз музыку и хороший табак.
Сиреневый дым восхитительной гаваны окончательно примирил с жизнью композитора, который всего каких-нибудь четверть часа назад был готов выйти из себя и учинить нешуточный скандал. Однако в обществе Казимирчика и коробки сигар Чигринский посвежел душой, отбросил ненужные эмоции, как дерево сбрасывает сухую листву, и пришел к выводу, что все, в сущности, не так плохо, а дальше, возможно, будет еще лучше.
По правде говоря, Дмитрия Ивановича чрезвычайно волновал вопрос о том, что за человек его хозяйка и почему чиновники особых поручений находятся у нее на посылках. (Положим, Александр Богданович вовсе не был этаким вариантом золотой рыбки, но Чигринскому было приятно думать, что ненавистный чинуша зависит от Амалии и является по первому ее зову.)
Чигринскому пришло в голову, что неплохо бы навести кое-какие справки у Казимира Станиславовича, но к такому сложному делу надо было приступать с толком. Не бухнешь же, в самом деле, напрямик: «А скажите-ка, милостивый государь, что за человек вообще ваша племянница?»
И Дмитрий Иванович решил пойти обходным путем.
– А скажите-ка, ясновельможный пан, есть ли в этом доме что-нибудь выпить? – поинтересовался он.
Казимир покосился на него, и в глазах его мелькнули огонечки, которые лучше всяких слов сказали композитору, что он на верном пути.
– Как нет выпить? Разумеется, есть, – степенно отвечал Казимирчик.
– Тогда, может быть, водочки?
– Можно и водочки, – приободрился Казимир. – Если уж бог выдумал водку, то не для того, чтобы на нее глядеть…
Он вызвал звонком горничную в кружевном фартучке, которую Чигринский уже видел, и, сославшись на композитора, велел подать водку.
– Пан Казимир…
– Что, Машенька? – Пан сделал невинное лицо.
– А Аделаида Станиславовна вас не съест? – покосившись на гостя, шепотом спросила Машенька.
– За что ж меня есть? – сделал большие глаза Казимирчик. – Это гость захотел выпить, я-то тут при чем? Желания гостя надо уважать…
Машенька хихикнула и упорхнула. Чигринский вздохнул. Ему уже стало ясно, что перед ним совершенно никчемная личность паразитического склада, но он был готов поклясться, что вся женская прислуга обожает этого паразита, а Амалия, хоть она вряд ли обманывается насчет дядюшки, в обиду его ни за что не даст. «И за что подобным шельмам такое везение? – философски помыслил Дмитрий Иванович. – Не понимаю я, ей-богу!»
– Мне, наверное, нужно перед вами извиниться, – начал он. – Так нелепо все получилось: я вроде как вторгся в ваш дом и, вероятно, порядком вам мешаю.
Казимирчик склонил голову к плечу, обдумывая слова собеседника.
– Мне вы вовсе не мешаете, – произнес он.
Следует заметить, что в этой реплике был весь Казимирчик. О чем бы ни шла речь, он прежде всего думал о себе и уже потом – об остальных. И не то чтобы ясновельможный пан был законченным эгоистом – нет, он совершенно искренне полагал, что так, как он, мыслят все люди, хотя далеко не всем хватает смелости в этом признаться.
– Но так как вы – глава семейства, я хотел бы все же попросить прощения, – шутливым тоном заметил Чигринский.
Его слова возымели совершенно неожиданное действие: Казимирчик вытаращил глаза и поперхнулся.
– Кто я? – спросил он, все еще кашляя. – Глава семейства? Нет, что вы! Упаси бог!
– Но я полагал, – начал сбитый с толку Чигринский, – так как вы единственный мужчина в доме…
– Ах, вот вы о чем! – Казимирчик явно успокоился и повеселел. – Нет, глава семьи – моя племянница. Я, гм, просто тут живу, потому что так удобнее.
– О! – только и мог вымолвить Чигринский. – Простите, я не знал.
Хорошенькая Машенька внесла поднос с графинчиком и закуской. Казимир оставил сигару и энергично потер свои маленькие белые ручки.
– Ступай, Машенька, – сказал он, весело блестя глазами. – Если ты понадобишься, мы тебя позовем.
В последующие несколько минут было слышно только бульканье льющейся жидкости, стук вилок и энергичное жевание.
– Каковы грибочки-то, а? – заметил Казимир, который вспомнил о своих обязанностях хозяина и решил подать вежливую реплику.
– И не говорите, – степенно отвечал Чигринский. – Ваше здоровье, пан Казимир, и здоровье вашего почтенного семейства!
– Я, собственно, не женат, – не понятно к чему сообщил Казимир. – Но вы правы: Адочка и ее дочь – моя семья. – Он чуть не прослезился от умиления и вслед за этим лихо опрокинул залпом полную рюмку водки.
– Вам очень повезло с семьей, – искренне сказал Чигринский.
– Мне? – изумился Казимирчик. – Ах, ну да! Конечно.
– Я только не понял. – Дмитрий Иванович доверительно наклонился к собеседнику: – Ваша племянница…
– Да? – рассеянно молвил Казимирчик, поддевая на вилку соленый груздь.
– Вы бы не могли рассказать мне о ней подробнее? Просто мне так неловко, я же почти ничего о ней не знаю. Только то, что она занимается благотворительностью.
– Кто, Амалия? – вытаращил глаза Казимирчик. – Ах, ну да! Благотворительность, это… Ну да, ну да. Но, конечно, ее работа куда сложнее.
– Так у нее есть работа? – заинтересовался Чигринский.
Казимирчик важно поднял указательный палец.
– Это секрет, – громким шепотом сообщил он. – Ни-ни-ни. Ни слова, иначе с меня снимут голову. – Ясновельможный пан потряс графин, в котором ничего уже не оставалось, заглянул внутрь и озадаченно нахмурился. – Что такое, уже все?
– Безобразие! – поддержал его Чигринский. – Пора повторить.
– И в самом деле, – обрадовался Казимирчик и дернул за звонок. – Машенька! Повторить!
Машенька впорхнула в комнату, послала Чигринскому укоризненный взгляд и унесла поднос с опустевшей посудой. На смену графинчику с водкой явился графин с наливкой.
– А вот это из нашего имения, – сообщил Казимир. – Ух, как там наливку делают! – Его лицо сияло, он явно был на седьмом небе от счастья.
«И зачем такому остолопу музыка? – подумал Чигринский, нахохлившись. – Принесли ему водки и закуски, он и блаженствует. К чему ему какие-то горние выси, вдохновение, муза…»
Он поймал себя на том, что ему уже не хочется пить, что он сейчас трезв и зол, как никогда. Но Казимирчик, который ничего не замечал, уже разлил наливку, и Чигринскому волей-неволей пришлось с ним чокнуться.
– Однако недурственно! – только и мог вымолвить композитор, переводя дыхание.
По телу словно побежал теплый клубок, и Чигринский повеселел. Казимирчик меж тем приговорил к смертной казни холодец и методично уничтожал его.
– А хорошо тут у вас, – расчувствовавшись, признался композитор.
– Конечно, хорошо, – сказал Казимирчик с набитым ртом. – Тяпнем еще, ясновельможный пан?
Джентльмены налили, чокнулись и тяпнули.
– А чем занимается барон Корф? – спросил наудачу Чигринский.
– Он флигель-адъютант его императорского величества. – Казимирчик выразительно скривился, как будто попасть ко двору не было пределом мечтаний для большинства людей того времени. – Да это неважно. Он с нами не живет.
Ага, получается, Амалия разошлась с мужем. Так-так-так…
– Но ужинает у нас часто, – продолжал Казимирчик, принимаясь за осетрину. – Моей сестре он очень по душе, а Амалия не против. – Он покосился на озадаченное лицо композитора и прибавил: – Только не подумайте ничего такого. Адочка всегда была против их развода.
К Чигринскому вернулось полузабытое ощущение, что он попал в очень странное место. Теща, которая на ножах с зятем, это пожалуйста, сколько угодно, это вообще по-нашему, по-русски. Но теща, у которой отношения с зятем лучше, чем у дочери… нет, такого он даже вообразить не мог.
– Отчего же они разошлись? – не удержался Чигринский.
Ну вот, пожалуйста, с отвращением помыслил он. Я превращаюсь в салонного сплетника, – хотя именно эту породу людей композитор всегда терпеть не мог.
– Понятия не имею, – пожал плечами Казимирчик.
– Ну хоть что-то было?..
– Ничего такого не было. Но, – продолжал ясновельможный пан, на глазах розовея от выпитого, – признаться, я не слишком удивился, когда она его оставила. Еще наливочки?
У Чигринского уже голова шла кругом, но от наливки он отказываться не стал.
– Наверное, вам мое любопытство кажется странным… – начал он. – Но Амалия Константиновна обещала мне помощь… точнее, содействие… И я не очень хорошо представляю себе… – Он запнулся, досадуя, что не смог точнее сформулировать свою мысль.
– Это насчет трупа, который вы к нам привезли? – без малейшего признака волнения спросил Казимирчик. – Не беспокойтесь. Если Амалия сказала, что вы невиновны, значит, так оно и есть, и она это докажет. Еще рюмочку?
– Нет-нет-нет!
– Обижаете, ясновельможный пан! Не можете больше пить – так и скажите…
– Я? Ха! Да я в полку мог перепить любого…
– Га! То в полку, а то в мирной жизни…
…Когда, попрощавшись с Зимородковым, Амалия спустилась вниз и стала искать гостя, она застала такую картину: Чигринский и Казимир сидели на диване, обнявшись, и распевали одну из самых знаменитых песен, написанных композитором.
Когда сидишь ты ночью у камина И вспоминаешь умерших друзей, Золу воспоминаний кто незримый Всех чаще ворошит в душе твоей?Амалия поглядела на них, покачала головой и удалилась. Ей было что сказать, но вряд ли ее собеседники восприняли бы ее слова в том состоянии, в котором они находились.
В час дня Амалии доложили, что ее спрашивает сыщик, который говорит, что его прислал Александр Богданович.
– Я немедленно его приму, – сказала баронесса Корф. – Проводите его в малую гостиную.
Когда она вошла туда и увидела, кого именно ей прислал Зимородков, слова приветствия замерли у нее на губах.
Перед ней стоял Гиацинт Христофорович Леденцов.
Глава 13 Этюд в пепельных тонах
Признаться, Амалия льстила себя мыслью, что она за словом в карман не лезет, однако, вновь увидев в своей гостиной молодого сыщика, баронесса Корф на мгновение растерялась.
Ключевое слово в предыдущей фразе – именно «на мгновение», потому что в следующее Амалия уже оправилась и храбро ринулась в атаку.
– О! Гиацинт Христофорович! Значит, это вас прислали мне на подмогу?
Печальный Гиацинт поклонился, достал из кармана весьма объемистую записную книжку (само собой, такую же пепельно-серую, как и он сам), перелистал ее страницы и, пристально глядя на собеседницу, сообщил:
– Дмитрий Иванович сказал неправду. Он не был вчера в ресторане Мишеля, я спрашивал. – Леденцов выдержал крохотную паузу. – Получается, домой к вам доставить вашего дядюшку он тоже не мог.
Тут Амалия почувствовала, что ей придется иметь дело с чрезвычайно упрямым, чрезвычайно въедливым и чертовски злопамятным человеком. Пока она еще не могла решить, хорошо ли это для дела, или плохо.
– Полагаю, Гиацинт Христофорович, мне придется дать кое-какие разъяснения, – дипломатично сказала она. – Так что давайте присядем и поговорим.
И Амалия, на сей раз ничего не утаивая, пересказала Леденцову все, что уже знает благосклонный читатель.
– Прошу меня простить, сударыня, – очень учтиво промолвил Гиацинт, – но после всего, что вам стало известно, вы все равно его выгораживаете? Ведь ясно же, что никто не мог убить Ольгу Верейскую, кроме него.
– Этого мы пока не знаем.
– Простите?
– Мы вообще покамест ничего не знаем о жертве, кроме того, что о ней сообщил Дмитрий Иванович. Молодая, красивая, бывшая актриса, врагов не имела – все это, конечно, интересно, но звучит слишком обобщенно. Нужно будет тщательно изучить, что она собой представляла. Затем: таинственный звонок, который сообщил об убийстве. Я хочу знать о нем все, и прежде всего – кто именно звонил.
Гиацинт кивнул, и машинально Амалия отметила, что у ее собеседника очень умные глаза.
– Боюсь, что пока нам известно немного. Это не частный телефон, я имею в виду, не телефон, установленный в квартире.
– Вот как?
– Да. Звонили из ресторана «Армида». Там в зале висит настенный аппарат, хозяин провел телефон, чтобы повысить популярность заведения. – Гиацинт поколебался, но потом все же добавил: – Строго говоря, нельзя утверждать, что звонивший не назвал свое имя. Он сказал, как его зовут, но в зале было шумно, и…
– И он бросил трубку после того, как пробормотал первое попавшееся имя, – докончила Амалия.
– Этого нельзя утверждать наверняка, – тихо, но внушительно заметил молодой сыщик.
– А знаете, если бы не было этого звонка, я бы, может быть, и поверила в виновность Чигринского, – неожиданно проговорила баронесса Корф. – Что-то с этим делом неладно, ой как неладно. Зачем им понадобилось сразу, с ходу, обвинить его – именно его? Кому он мог так помешать?
– Им? – поднял брови Леденцов.
– Скажите, вы много расследовали дел об убийствах? – вопросом на вопрос ответила Амалия.
– Порядочно, – скромно потупился Гиацинт Христофорович.
– И часто бывало, что вам доносили об убийстве и называли имя убийцы еще тогда, когда даже тело не было обнаружено?
– Случалось, – спокойно ответил Леденцов. – Однажды, прощу прощения, два вора не поделили добычу… сожительница одного видела, как ее любовника убили, и тотчас же побежала сдавать убийцу. Был еще один случай, но я даже не знаю, удобно ли его вам рассказывать…
– Нет, – покачала головой Амалия. – Здесь что-то другое, но что? – Она поднялась с места. – Впрочем, не будем больше терять времени. Дмитрий Иванович сказал, что вчера, унося Ольгу Николаевну, он запер квартиру. Значит, ключи до сих пор у него. Я заберу их, и мы отправимся в Фонарный переулок.
Гиацинт Христофорович не возражал, а если бы он и попытался возражать, он почему-то был уверен, что Амалия все равно не стала бы его слушаться. Однако, едва баронесса Корф вышла за дверь, выражение лица молодого человека изменилось. Теперь оно казалось уже не печальным, а упрямым, и даже светло-серые глаза потемнели.
Леденцову представлялось, что ему попалась представительница несовместимой с сыскным делом породы дам, имеющих слишком большую власть, которые горазды во все вмешиваться и всем мешать. И он предвидел большие трудности, потому что в глубине души не сомневался, что именно Дмитрий Чигринский, этот двуличный композитор, убил в порыве гнева свою любовницу и теперь готов идти на что угодно, лишь бы его не разоблачили. Однако Гиацинт Христофорович твердо решил, что ничего у Чигринского не выйдет. Преступление есть преступление, и тот, кто его совершил, должен отвечать по закону, а композитор он, банкир или простой обыватель, простите, не имеет никакого значения.
– Господин Леденцов!
Спохватившись, он поднял голову и увидел прямо напротив себя смеющиеся глаза Амалии. Баронесса Корф только что вернулась, но как же она преобразилась! Куда-то исчезла уверенная в себе, властная и элегантная светская дама, а ее место заняла скромно одетая серая мышка – настолько незаметная, что Гиацинт даже не обратил на нее внимания, когда она вошла в комнату.
– О! – только и мог вымолвить сыщик.
– Идемте, – сказала Амалия. – Мою карету мы брать не будем, чтобы не привлекать внимания. Сядем в обычный экипаж.
– Как себя чувствует Дмитрий Иванович? – не удержался Леденцов, когда они спускались по лестнице.
Амалия как-то неопределенно повела плечами.
– Как чувствует? Гм… Думаю, он очень хотел бы забыть то, что случилось, но получается у него плохо.
Гиацинт насупился и подумал, что Амалия непростительно добра, а такие, как Дмитрий Иванович, без зазрения совести этим пользуются.
– Могу ли я спросить, сударыня, что вы намерены предпринять, если вина господина Чигринского будет положительно доказана? – кротко осведомился он.
– Полагаю, что в таком случае я просто предоставлю господина Чигринского его участи, – в тон ему ответила Амалия.
Они доехали до Фонарного переулка, и баронесса Корф расплатилась, невзирая на возражения своего спутника.
– А вот и дом Ниндорф, – сказала она.
Это было типичное строение в четыре этажа, чем-то неуловимо смахивающее на казармы, но Амалия знала, что снять жилье здесь стоило денег, и немалых. Отсюда рукой подать до Театральной, Исаакиевской и Мариинской площадей, да и Гороховая, где жил композитор, тоже не так уж далеко.
– Начнем со швейцара? – скорее утвердительно, чем вопросительно промолвил Леденцов.
– Разумеется, – кивнула Амалия. – Посмотрим, что он сумеет нам рассказать.
– Я имел с ним утром краткую беседу, когда проверял сведения об исчезновении Ольги Николаевны, – сказал молодой сыщик. – Само собой, я не упоминал причину моего появления, так что он до сих пор не знает, что произошло.
– Очень хорошо, – одобрила Амалия. – Пусть так будет и впредь.
– Но, сударыня, нам придется все же объяснять, почему мы предпринимаем расследование.
– Потому что с Ольгой Николаевной произошло несчастье. В крайнем случае можете добавить, что она подверглась нападению. Полагаю, такого объяснения вполне достаточно.
Заметив молодого сыщика, Тихон настороженно шагнул ему навстречу. На Амалию он поначалу даже не обратил внимания.
– До сих пор не возвращалась, – сообщил швейцар, явно имея в виду Ольгу Верейскую. – И господин Чигринский тоже не показывались.
– Скажите, а вы все время находитесь на своем посту? – спросила Амалия.
Тихона, казалось, обидел даже намек на предположение, что он мог куда-то отлучиться и пропустить возвращение жильцов.
– Я, сударыня, больше двадцати лет здесь служу, меня все знают, и чтобы я взял и куда-то ушел… да разве мне за такое платят? Если уж взялся делать дело, то надо делать его хорошо. Правильно я говорю?
– И вчера вечером вы никуда не отлучались? – подал голос сыщик.
– Никуда.
– Вы помните, как Ольга Николаевна вчера вела себя, когда уехала с господином Чигринским? – спросила Амалия.
– Как обычно, – отвечал Тихон. – Была оживленная, смеялась…
Леденцов поднял голову от записной книжки, в которую, верный своей привычке, заносил все показания свидетелей.
– Смеялась? – с нескрываемым удивлением переспросил он.
– Да. Дмитрий Иванович ее на руках нес. Он сказал, что проспорил ей пари.
Ну что прикажете делать с такими свидетелями? Объяснять, что Ольга Николаевна не могла ни смеяться, ни плакать, ни как-либо иначе вести себя по той простой причине, что уже была мертва? Амалия послала своему спутнику предостерегающий взгляд.
– Скажите, а как давно Ольга Николаевна живет здесь? – спросила она.
– Как давно? Дайте-ка подумать… – Тихон насупил брови. – Год и четыре месяца.
– Плату за нее вносил Дмитрий Иванович? – как бы между прочим поинтересовался Гиацинт.
– Э… гм… точно так, сударь.
– И часто он навещал ее?
У Тихона в голове мелькнуло, что спутницы полицейских сыщиков задают вопросы, ответ на которые очевиден с самого начала. Само собой, что Дмитрий Иванович поселил тут свою знакомую вовсе не для того, чтобы вскоре забыть о ее существовании…
– Как когда, сударыня. Иногда он каждый день к ней заезжал. Иногда в неделю показывался два-три раза. Но бывал он тут часто, что есть – то есть.
– Ее это устраивало?
– Простите, сударыня?
– Дмитрий Иванович холост, и ему вроде бы ничто не мешало поселить Ольгу Николаевну у себя дома. Она не жаловалась, что он пренебрегает ею, что он нарочно отдаляет ее?
– Мне ни о чем таком не известно. По-моему, Ольгу Николаевну все устраивало. Дмитрий Иванович всегда был очень щедр, – счел необходимым добавить Тихон.
– А кроме Дмитрия Ивановича, кто у нее бывал? – спросил Леденцов.
– У Ольги Николаевны? – искренне удивился Тихон.
– Неужели ее никто больше не навещал? Ни подруги, ни… знакомые?
– У нее не было подруг, а что до знакомых мужского пола, я думаю, Дмитрию Ивановичу не понравилось бы, если бы она их принимала, – с достоинством ответил швейцар.
– И что, к ней никто не ходил? – спросила Амалия.
– Да в общем-то никто, сударыня. Она очень тихо жила. Приезжала, конечно, портниха для примерок, из шляпного магазина шляпки ей привозили… но вас же не это интересует, верно?
– И что, она целыми днями сидела в четырех стенах? – недоверчиво осведомился Леденцов.
– Почему целыми днями? Она выезжала на прогулки, любила по магазинам ходить, в театрах бывала опять же. Нет, никто ее ни в чем не стеснял.
– Скажите, а до вас не доходили слухи, чтобы Ольге Николаевне кто-нибудь угрожал? Или что она с кем-нибудь поссорилась, к примеру?
– Сударь, – заворчал старый швейцар, – у нас не такой дом, чтобы кто-то да что-то такое… Ольга Николаевна всегда со всеми вежливая была, никого не обижала, и ее никто не обижал. Она всем нравилась…
– Вы помните, кто вчера приходил к госпоже Верейской? – спросила Амалия.
– Дмитрий Иванович.
– А кроме него?
– Больше никого, сударыня.
– Вы уверены? Подумайте хорошенько, это может быть очень важно.
Тихон задумался.
– Была еще горничная Соня, – сказал он наконец. – Позавчера Ольга Николаевна ее уволила и сказала, что позже расплатится. Но Соня в квартиру не входила, ее Ольга Николаевна не пустила.
– А за что Ольга Николаевна ее уволила? – поинтересовался Гиацинт.
– Это вы уж у Сони спросите, – степенно отвечал швейцар. – Софья Андреевна Харитонова ее полное имя, а живет с семьей на Дерптской улице, в доме Бочаровой.
– Это за Фонтанкой, что ли? – спросил Леденцов.
– Да, сударь.
– Скажите, а к доктору Матвееву вчера приходило много народу? – спросила Амалия. Тихон покосился на странную собеседницу с легкой иронией.
– Игнатий Сергеевич хороший врач, – сказал он. – Конечно, к нему многие ходят. И генералы, бывает, приходят.
– Вы всех его пациентов знаете? – подал голос Леденцов.
– Всех никак невозможно, сударь. Но кто ходит уже давно, тех, разумеется, знаю.
– Вчера вечером, часов около пяти, поднимались к нему какие-нибудь новые посетители?
Тихон задумался.
– Вечером… вечером… Была барыня с дочкой, я так понял, дочку ему показать хотела. Потом генерал Челищев, суровый такой…
– Генералу уже под восемьдесят, – заметила Амалия. – А еще кто-нибудь заходил? Какой-нибудь, знаете ли, мужчина, не старый, крепкого сложения…
Но Тихон только головой покачал.
– Воля ваша, сударыня, не припомню. Думается мне, что вчера к доктору не заходил тот, кто вам нужен.
– Скажите, а мог ли кто-то зайти с черного хода так, чтобы вы не заметили? – спросил Леденцов.
– Не думаю.
– Почему?
– Потому что там петли плохо смазаны, и я слышу, когда кто-то входит. И не только слышу, я же за порядком слежу и смотрю, кто идет.
– Кто пользовался черным ходом вчера вечером?
– Да все свои. Горничная полковника, который тут живет, потом к кухарке доктора приехала внучка из деревни, она с черного хода зашла. А господа через этот ход не ходят никогда, им это ни к чему.
– Если вы все же что-то вспомните, обязательно скажите нам, – заметила Амалия. – Мы пока поднимемся в квартиру Ольги Николаевны.
Тихон пошел отворять дверь красивой брюнетке с горностаевой муфтой, а сыщики двинулись к лестнице.
– И что вы обо всем этом думаете, Амалия Константиновна? – с любопытством спросил Леденцов.
– Что я думаю? – рассеянно ответила Амалия. – Пока, судя по всему, вы правы. Если никто, кроме Чигринского, не входил в квартиру Ольги Верейской и не поднимался наверх, получается, что убить ее мог только он.
– По-вашему, убийца мог сказать, что он поднимется к доктору, а сам отправился к Ольге Николаевне и зарезал ее?
– Хм, – задумчиво протянула Амалия. – Это как бы сам собой напрашивающийся вариант. Только в этом случае непонятно, почему она впустила его в дом. Чигринский говорит, что нашел ее сидящей в кресле, в гостиной, то есть убили ее явно не у входной двери. Это, разумеется, если мы примем на веру его слова. Потому что ведь есть и свидетельство Тихона, который уверяет, что никто, похожий на человека, который нам нужен, наверх не поднимался. Впрочем, если верить швейцару, – насмешливо добавила Амалия, – Ольгу Николаевну тоже никто не искал, кроме горничной и композитора, а ведь в тот день у нее побывали еще два разносчика, из кондитерской и винного магазина, которые принесли покупки.
– Да, я тоже обратил на это внимание, – кивнул Леденцов. – Надо будет разыскать их и узнать, не заметили ли они чего-нибудь необычного.
– Пока что самое необычное в этом деле – это Ольга Николаевна. – Глаза Амалии сверкнули. – Вы поняли, о чем я, да? Либо швейцар чего-то не знает, либо он о чем-то предпочел умолчать. Слишком уж примерный образ жизни она вела. И самое любопытное, что из слов Дмитрия Ивановича вроде бы следует то же самое… Очаровательная молодая женщина, ни врагов, ни недоброжелателей… Мы пришли.
Амалия отперла дверь, и сыщики вошли. Леденцов постоял на месте, напряженно прислушиваясь и тщетно пытаясь уловить нечто зловещее, витающее в здешнем воздухе, но так ничего и не почувствовал.
– На ковре нет следов, – констатировала Амалия.
– Нет, – эхом откликнулся Гиацинт.
Они миновали коридор и вошли в гостиную. Первое, что увидел сыщик, были две бутылки вина, торт и коробка конфет, которые по-прежнему стояли на столе. Только потом ему бросились в глаза многочисленные фотографии молодой русоволосой женщины, хорошенькой и кокетливой, и портреты Чигринского с шутливыми дарственными надписями.
– Она не успела поставить бокалы, – сказала Амалия. – Вот в этом кресле он ее и нашел.
Она приблизилась к столу, взяла одну из бутылок, поглядела на этикетку.
– О-о… А Дмитрий Иванович не жалел денег. Это дорогой, выдержанный сотерн.
– Такое впечатление, – подал голос сыщик, – что хозяйка просто куда-то отлучилась.
– А? – Амалия живо обернулась к нему. – Да, вот это-то и поразительно. Здесь ничто не напоминает об убийстве. Никаких следов борьбы… ничего.
– Может быть, он успел прибраться и привести все в порядок?
– Он уверяет, что ничего такого не делал. Пойдемте-ка посмотрим на заднюю дверь.
Однако дверь черного хода была надежно заперта, и Леденцов первый констатировал, что с этой стороны в квартиру никто не мог пробраться.
Сыщики вернулись в гостиную, и Амалия стала методично просматривать содержимое всех ящиков. Шпильки, флаконы духов, чулки, драгоценности – судя по всему, Чигринский не жалел на свою любовницу денег. Леденцов стоял возле стола, молчал и хмурился. На его переносице залегла беспокойная морщинка.
– Это убийство… – сказал он вслух.
Амалия непонимающе взглянула на него.
– Хладнокровное и предумышленное, – мрачно добавил Гиацинт. – Когда он шел сюда, он уже знал, что убьет ее.
Он заметил, что Амалия держит в руках пачку каких-то писем, которую она извлекла из комода, и подошел ближе.
– Что это у вас?
– Пока сама не знаю, – честно ответила молодая женщина и, сев на диван, углубилась в чтение.
– Значит, дорогое вино, да? – неизвестно к чему проговорил Леденцов и вышел из комнаты.
Он вернулся через несколько минут и плюхнулся на диван, глядя в сторону.
– Что вы искали? – спросила Амалия, переворачивая страницу.
– Я смотрел другие ножи.
– И?
– Их рукоятки отличаются от рукоятки ножа, которым Ольга Николаевна была убита. Есть пара вроде бы похожих, но для специалиста сразу же ясно, что нож, которым совершили преступление, совсем другой. Следует, конечно, еще уточнить у горничной, но я думаю, что прав. Убийца принес нож с собой… Это предумышленное убийство.
И, словно Гиацинту было невмоготу сидеть на одном месте, он вскочил и подошел к окну. Часы на стене мягко пробили два.
– Ну-с, – сказала Амалия, складывая письма обратно в пачку, – если верить этим цидулькам, – она презрительно подчеркнула голосом последнее слово, – у Дмитрия Ивановича был повод убить свою любовницу.
Леденцов круто повернулся.
– Дайте-ка я угадаю, госпожа баронесса. У Верейской был другой любовник?
– Любовники, Гиацинт Христофорович, любовники! Один – известный драматург, другой – военный, а третий, чью личность мне установить не удалось, потому что он лаконично подписывался либо «твой», либо буквой «И», то и дело слал из Москвы послания. Были и другие, но она уже несколько лет не поддерживает с ними отношений. – Амалия нахмурилась. – Что такое, вы не рады? А я-то грешным делом была уверена, что эта новость вас обрадует.
– Нет, – коротко ответил Леденцов, дернув щекой. – Не сходится, госпожа баронесса.
– Что именно, Гиацинт Христофорович?
– Детали. Если бы Чигринский задумал ее убить, он бы не покупал самое дорогое вино, торт с марципаном и конфеты по три рубля коробка. Я ведь уже поймал так одного приказчика, – добавил Леденцов, воодушевляясь. – Он пришел к любовнице, которая мешала ему жениться на богатой, и убил ее. Понимаете, он знал, что любовнице уже ничего не понадобится, и вместо хорошего гребешка, – он обыкновенно ей всякую галантерею дарил, – словом, вместо приличного подарка принес дрянь. И вот на этом, Амалия Константиновна, я его и поймал. Он был уверен, что никто, ни одна живая душа не обратит внимания на такую мелочь. А я обратил. И сразу же понял, что она означает.
– Понимаю, – сказала Амалия после паузы. – Все преступления, в сущности, одинаковы. Теоретически, конечно, можно себе представить, что Дмитрий Иванович мог убить Ольгу Верейскую, но… Человек он абсолютно самодостаточный и не зависел от нее никак. Конечно, ревность нельзя сбрасывать со счетов, но такое убийство совершенно не в его духе. Он мог бушевать, кричать, что лишит очаровательную Оленьку содержания, мог… я не знаю… что-нибудь сломать, разбить… Но так, как это случилось – некто пришел с ножом, зная, что убьет беззащитную женщину… Нет, нет и еще раз нет. Тут какая-то очень хладнокровная жестокость, которая мне очень не по душе.
– Или крайняя форма ненависти, – мрачно проговорил Леденцов.
– Да. Поэтому наше дело осложняется. Нужно изучить всех, э-э-э, соперников Дмитрия Ивановича и понять, что они собой представляют. Если они женаты, то жен тоже нельзя упускать из виду. Также нельзя забывать, что, возможно, амурные дела тут вовсе ни при чем и Ольгу Верейскую убили, чтобы бросить тень на композитора, то есть действовали не ее враги, а его. А теперь давайте посмотрим остальные комнаты, может быть, там найдется что-нибудь любопытное.
Глава 14 Двенадцатый конверт
В спальне сыщики задержались ненадолго и вскоре перекочевали в комнату, которая, очевидно, задумывалась как библиотека, а стала гардеробной. Единственный книжный шкаф уныло стоял среди своих массивных собратьев, которые скрывали всевозможные дамские обновки и платья, пошитые у лучших петербургских портних.
Что касается книжного шкафа, то в нем находились в основном переводные романы. На столе, придвинутом к окну, стоял письменный прибор и лежали какие-то счета. Тут же валялась скомканная записка, в которой Чигринский вчера известил свою любовницу, что вечером заглянет к ней.
– А Ольга Николаевна ни в чем себе не отказывала, – бесстрастно заметил сыщик, просматривая счета. – Платье – пятьсот рублей…
– Договаривайте, – спокойно велела Амалия.
Гиацинт Христофорович искоса взглянул на собеседницу, которая явно обладала опасной способностью читать мысли.
– Чего ей не хватало? Она могла жить вполне безбедно, пользуясь… пользуясь одними только милостями Дмитрия Ивановича… А вместо того завела еще несколько любовников, возможно, это и явилось причиной ее гибели.
– Мы пока не знаем, что именно было причиной ее гибели, – напомнила Амалия. – Пока можно сказать, что Ольге Николаевне была не слишком присуща аккуратность, потому что вещи разбросаны как попало. Также очевидно, что она хорошо одевалась и не жалела на это средств… что еще? Да, думаю, Дмитрия Ивановича она не любила. Записки от людей, которыми дорожат, так не комкают.
Гиацинт Христофорович осмотрел ящики стола, но не обнаружил в них ничего примечательного, о чем и сказал своей спутнице.
– Пачка конвертов… писчая бумага…
– Вижу, – кивнула Амалия. – Такие конверты продаются обычно дюжинами.
Леденцов извлек из стола конверты и пересчитал их.
– Здесь только одиннадцать, – сказал он.
– Значит, она написала кому-то письмо, – заметила Амалия.
Не остановившись на достигнутом, молодой человек пересчитал и листки бумаги.
– Такая бумага продается по сто листов в пачке. Двух листов не хватает.
И сыщики молча уставились друг на друга.
– Надо узнать, кому она писала, – сказала Амалия. – На всякий случай, хотя, возможно, это не имеет никакого значения.
Вслед за столом сыщики занялись шкафами. Леденцов взял на себя шкафы с одеждой, а Амалия – книжный.
Молодой женщине повезло первой: она обнаружила в растрепанном томике Понсон дю Террайля пачку «радужных» – сторублевых купюр.
– Весьма оригинальное хранилище, – заметил Гиацинт. – А небольшие суммы она держала в столе.
Впрочем, сыщику тоже удалось обнаружить кое-что любопытное: в глубине шкафа, под стопкой чулок, он наткнулся на тщательно спрятанную небольшую коробочку, красиво упакованную в бумагу.
– Как вы думаете, что там? – спросил Леденцов, взвешивая коробочку на руке.
Амалия пожала плечами.
– Небольшой портсигар или папиросница. Похоже на какой-то подарок. – Она поглядела на корешки приключенческих романов, стоявших в шкафу, и добавила: – Будь мы с вами в романе, в этой коробочке непременно обнаружилась бы причина убийства Ольги Николаевны. Но лично я думаю, что вряд ли найденный вами предмет имеет отношение к делу.
– Посмотрим, посмотрим, – певуче проговорил Леденцов и развернул бумагу.
Внутри и впрямь оказалась очень изящная золотая папиросница, на внутренней крышке которой было выгравировано: «Володе от О., которая его любит».
– Насколько я помню, Дмитрий Иванович – не Володя, – кротко заметил Леденцов, и глаза его блеснули. – Тогда кто?
– Это корнет, – сказала Амалия. – Его зовут Владимир Павлов. Надо было мне сразу же сообразить, что это подарок для любовника. Иначе не было смысла так его прятать.
– Любопытная надпись, – заметил сыщик, вертя папиросницу в руках. – С одной стороны, сентиментальная, с другой – осторожная, потому что свое имя Ольга Николаевна не назвала. Только инициал.
– Да, похоже, что госпожа Верейская и впрямь была очень осмотрительна, – подтвердила его собеседница. – Тем более странно то, что с ней произошло.
Затем Амалия и Леденцов осмотрели небольшую столовую, где вдоль стен стояли застекленные шкафы с дорогим фарфором, и последнюю, пятую комнату, темную и невзрачную, в которой, судя по всему, жила горничная. На стенах до сих пор остались пришпиленные картинки, позаимствованные из иллюстрированных журналов.
– Граф Толстой, – пробормотала Амалия, вглядываясь в фотографию седобородого старца с пронзительным взором, похожего на лешего или какое-то подобное ему древнее лесное божество. – А знаете, Гиацинт Христофорович, я теперь не удивляюсь, что Верейская уволила Соню. Много вы знаете образованных людей, которые повесят себе на стену портрет Толстого – или, скажем, Пушкина? А вот горничная повесила, может быть, чтобы просто не оставлять стену голой, но тем не менее. Любопытно, что за человек эта Соня Харитонова?
– Во всяком случае, она не слишком дорожит этим портретом, раз оставила его здесь, – вернул Амалию на землю практичный сыщик.
– Вы прямо-таки разбили мои иллюзии, милостивый государь, – проворчала Амалия, но Леденцов видел, что она улыбается. – Кстати, я все равно хотела спросить, и раз уж мне этого не миновать, то я спрошу прямо сейчас, чтобы не умереть от любопытства. Почему все-таки Гиацинт?
– Простите?
– Почему вы Гиацинт? Вот в чем вопрос.
– А почему вы, например, Амалия? – парировал ее собеседник.
– Это фамильное имя, – объяснила молодая женщина. – Мои предки были родом из Германии, и в семье часто повторялись имена Аделаида и Амалия. Аделаида – моя мать, поэтому меня назвали Амалией.
– Ну, а у меня другая история, довольно-таки запутанная, – признался Леденцов. – Надо сказать, что моя мать видела в жизни одно отдохновение: чтение романов.
– Ей так несладко жилось? – быстро спросила Амалия.
– Можно сказать и так. Но она умела читать и считать, и она любила, чтобы книги были с благородными героями, с красивыми героинями и хорошим концом. Островского, например, она терпеть не могла – он в своих пьесах высмеивал купцов, а мой отец был купцом. И вообще его пьесы об обыкновенных людях, а моя мать не любила, чтобы в книгах было все как в жизни. – Леденцов помолчал. – И вот однажды ей попался переводной роман, – автора я уже не помню, – в котором главный герой по имени Гиацинт боролся с разбойниками и вообще был такой благородный, что дальше некуда. Моя мать читала и перечитывала эту книгу. Роман оказал на нее такое впечатление, что она решила непременно назвать меня Гиацинтом, и хотя была довольно робкого нрава и все вокруг ее отговаривали, настояла на своем…
«Боже мой, – в смятении подумала Амалия, глядя на собеседника, расчувствовавшегося от воспоминаний, – а ведь у него голубые глаза. И сам он вовсе не такой пепельно-серый, как показалось мне утром…»
Однако лицо Леденцова через мгновение замкнулось, и на него легла привычная для него тень сдержанной печали.
– Чем теперь занимается ваша матушка? – спросила Амалия.
– Она умерла, – коротко ответил сыщик. – Меня утешает только одно: она никогда не хотела, чтобы я стал купцом. Надеюсь, она не сердится на меня за то, как я исполнил ее желание.
– Александр Богданович сказал, что в полиции вас ставят очень высоко, – заметила Амалия. Впервые на ее памяти плотно сжатые губы молодого человека тронула улыбка, точнее, ее подобие.
– Вы очень добры, – промолвил он. – Что теперь? – прибавил он, оглядываясь. – Кухню я уже осмотрел, ничего интересного там нет. Думаю, мы можем уходить.
– Нам понадобятся письма, которые писали Ольге Николаевне ее поклонники, – напомнила Амалия.
– В качестве вещественного доказательства, если они вздумают отрицать связь с ней? Полагаю, вы правы. Тогда папиросницу я тоже заберу, если вы не возражаете.
– Не возражаю. Я думаю, на всякий случай стоит также забрать украшения и попросить опознать, все ли они на месте. Дмитрий Иванович уверяет, что ничего не пропало, но вряд ли он в тогдашнем своем состоянии присматривался к каждой безделушке.
Леденцов не возражал, но про себя он уже решил, что драгоценности не имеют касательства к делу, что это было убийство ради убийства, хотя мотив пока ускользал от него. И его настораживало, что он никак не может подобрать ключа, который поможет ему раскрыть преступление. В то, что это убийство на почве страсти, он больше не верил – слишком уж хорошо все было обдумано. Скорее уж тут были замешаны деньги, причем большие, – но, не имея пока никаких доказательств своей теории, Гиацинт поостерегся говорить о ней Амалии.
Он услышал, что его спутница произнесла несколько слов, и повернулся к ней. Они уже вернулись в гостиную, и Амалия держала в руках пачку писем, которые писали Верейской ее любовники.
– Итак, у нас есть трое: драматург Щукин, корнет Павлов и этот неизвестный «И», который, судя по всему, жил в Москве, но бывал и в столице. Поручаю вам корнета и драматурга, а себе оставлю третьего. Кроме того, я съезжу и поговорю с Соней Харитоновой, возможно, она сумеет назвать мне имя нашего загадочного незнакомца. Далее: крайне желательно установить личность господина, который позвонил из ресторана и сообщил, что Дмитрий Иванович Чигринский совершил убийство. Ресторан, Гиацинт Христофорович, я оставляю вам, а на себя дополнительно беру прислугу Чигринского. Зато на вас остаются разносчики из двух магазинов на Гороховой. Вряд ли им что-то известно, но все же следует их опросить, потому что они последними видели Ольгу Николаевну живой – не считая, конечно, убийцу. Таким образом, нам придется разделиться, чтобы расследование продвигалось быстрее. Если узнаете что-нибудь важное…
– Я немедленно сообщу вам, сударыня, – отвечал Леденцов с поклоном.
– У меня есть телефон, – сказала Амалия. – Если что-то нужно сообщить безотлагательно, звоните. Ну и, само собой, я расскажу вам то, что мне удастся узнать.
– Можно вопрос, госпожа баронесса? Что сами вы обо всем этом думаете?
Амалия пожала плечами.
– Если бы Ольга Николаевна была наследницей миллионера, я бы точно знала, кому она мешала. Пока я не вижу никакого просвета в деле и, пожалуй, остерегусь делать выводы.
Значит, Амалия тоже думает, что тут замешано что-то серьезное, куда более серьезное, чем романы на стороне. И Леденцов не мог удержаться от мысли, что ему на редкость легко работается с баронессой Корф, хотя утром он не мог даже представить себе, что им придется действовать вместе.
Они вышли из квартиры, Амалия заперла дверь и вместе со своим спутником двинулась вниз по ступеням.
В вестибюле Тихон прохаживался мерным шагом от входной двери до своей каморки, расположенной рядом с лестницей. Завидев сыщиков, он приостановился, но тут же сделал шаг им навстречу.
– Вы хотите что-то нам сказать? – спросила Амалия. – Мы вас слушаем.
– Вы, помнится, спрашивали про вчерашний вечер… – Тихон замялся. – Словом, был тогда еще один человек. Я подумал, что он пришел с дамой, которая свою дочку на прием привела. Он вошел одновременно с ними, но спустился-то он потом без них, вот в чем дело…
– Как он выглядел? – быстро спросил Леденцов.
– Молодой барин, лет тридцати или около того. Из военных, хоть и в гражданском.
– А ты откуда знаешь, что он из военных?
– Ну так выправка, – спокойно ответил Тихон. – Выправку, ваше благородие, никуда не деть, это уж на всю жизнь.
– Что еще вы запомнили о том барине? – вмешалась Амалия. – Рост, цвет волос, например?
– Борода у него была черная, на пол-лица. Росту он был высокого, и такой, знаете, плечистый. Вот вы сказали, что крепкого сложения, такой он и был. Просто я не сразу о нем вспомнил, потому что дама с дочкой шли впереди, а он за ними… И когда поднимались по лестнице, он их вперед пропустил, на добрый десяток ступеней. Дама все говорила, дочка ей отвечала, а он молчал. Надо было мне сразу же сообразить, что он не с ними.
– Когда именно он тут появился? – Леденцов лихорадочно писал в своей записной книжке.
– Когда? – Тихон задумался. – В смысле, вас точное время интересует? Полковник Радин на прогулку выходит каждый день ровно в пять. Он ушел, и уже после него появились дама с дочкой и тот… господин.
Это еще не был успех, но в глубине души Амалия торжествовала. Значит, все-таки имелся посторонний, который проник в дом как раз в то время, когда была убита Ольга Верейская…
– Тот господин с военной выправкой, – подал голос Леденцов, – как быстро он спустился вниз? Он долго находился наверху?
– Боюсь, на часы-то я не смотрел, – извиняющимся тоном промолвил Тихон. – Но мне показалось, что он быстро обернулся. Может, минут десять его не было. А что? С ним что-то неладно?
– Нам пока неизвестно, – сказала Амалия. – Мы только собираем сведения.
Тихон с понимающим видом кивнул, хотя, по правде говоря, он ничего ровным счетом не понял.
– А Ольга Николаевна когда вернется? – спросил он. – Вы тут все ходите, спрашиваете, ключи у вас от ее квартиры… А что с ней случилось-то, что такой переполох?
– С ней произошло несчастье, – спокойно промолвил Леденцов, переворачивая страницу в записной книжке. – Очень большое несчастье. Скажите, вы уверены, что к ней не ездили никакие мужчины, кроме Дмитрия Ивановича? Подумайте как следует, это может быть очень важно.
Однако Тихон вновь повторил то, что уже говорил раньше. Ни в чем подобном Ольга Николаевна не была замечена, и вообще…
– Она часто писала письма?
– Нет, я бы не сказал. Самой ей письма приходили, и счета, и все как полагается.
– А в последние дни она отправляла письма, вы не знаете?
– Я не видел, чтобы Соня что-то на почту носила. Но, наверное, лучше у нее самой спросить.
– А Ольге Николаевне письма часто приходили? Она говорила, от кого они?
– Она только пожимала плечами, когда видела новые послания. По-моему, она была им не слишком рада. – Тихон поколебался, но потом все же добавил: – Она в столице хорошо жила, вот ей разные бедные родственники и надоедали постоянно просьбами о деньгах… Она жаловалась, что они ее замучили.
– Бедные родственники, значит? – подняла брови Амалия. Она изучила переписку Верейской и отлично знала, что никаких писем от бедных родственников там не было и в помине.
– Так она говорила, сударыня.
Да-с, вот уж поистине ловко устроилась Ольга Николаевна. И ведь все так обставила, что никто не мог ее уличить – даже швейцар дома, в котором она жила, настаивал на том, что мужчины, за исключением Чигринского, к ней не ходили.
Амалия вспомнила одну из парадных фотографий, стоявшую в гостиной: капризный ротик, большие доверчивые глаза, очаровательное личико, обрамленное русыми волосами, дорогие кольца на тонких пальцах. Все было хорошо у Ольги Николаевны, и все шло к тому, что женила бы она на себе композитора, стала бы законной госпожой Чигринской и по-прежнему бы вела двойную жизнь, ни в чем себе не отказывая, – а может, не вела бы, тихо-мирно распрощалась со ставшими обузой любовниками, держала бы модный салон и блистала в нарядах от Ламановой, а то и самого Ворта. Кому она так помешала, что он прервал налаженное течение ее жизни, да и саму жизнь? Ведь прелестная Оленька была осторожна – Амалия теперь точно знала это – и явно неглупа…
А может быть, помешала вовсе не она, а Чигринский, которого кто-то замыслил таким образом погубить? Ну что ж, сказала себе Амалия, придется постараться, чтобы разрешить эту загадку…
Глава 15 Щука, ставшая карасем
Общеизвестно, что из писателей, украшающих собой российскую словесность, лучше всего живется драматургам.
На самом дне литературной табели о рангах, в ее, так сказать, тине барахтаются авторы юмористических рассказов для газет. Это мученики четырнадцатого разряда, которых дружно презирают все – коллеги, которые считают такую работу недостойной образованного человека, редакторы, которые никогда не выплачивают им в срок гонорары, и, наконец, читатели – да, да, те самые, которые хохочут над историями, в стотысячный раз описывающими стычки тещи с зятем или очередного растяпу, с которым происходит нечто смеховыжимательное.
Чуть выше, но ненамного, стоят авторы романов с продолжением, опять же газетных, которые публикуются из номера в номер. Тут и леденящие кровь тайны, и детективные загадки, и подброшенные дети, и потайные ходы, и под конец главы – непременное «продолжение следует». Бульварных писателей собратья презирают, но редакторы уже платят им более или менее регулярно, да и издатели книг начинают ими интересоваться. Тем не менее бульварные авторы – все равно парии, потому что в России любой писатель, который стремится просто писать интересно, а не высказывать свою точку зрения на Маркса, всеобщие выборы, крестьянский вопрос, оспопрививание и будущее планеты году этак в 2013-м, обречен изначально. Будь он даже знаменит, как Дюма, его все равно не станут воспринимать всерьез.
Выше творцов романов с продолжениями стоят авторы газетных рассказов для серьезных изданий вроде «Нового времени», а также авторы, работающие для почтенных литературных журналов. Это еще не генералы, но уже полковники. Редакторы называют их по имени-отчеству и в каждом новом письме не забывают справиться, что пишет «наш дорогой Иван Иваныч» или «Антон Павлович».
Еще выше стоят авторы, уже сделавшие себе имя, за которыми охотятся и журналы, и газеты, и издатели, и репортеры, алчущие интервью, и дамы, которые держат модные салоны и мечтают украсить свой стол знаменитостью, как украшают его старинным фарфором. Вот таких писателей, пожалуй, можно считать генералами. Критики обыкновенно брызжут на них ядом и желчью, даже если наши авторы не прочь обсудить будущее, оспопрививание, крестьянский вопрос и всеобщие выборы, потому что точка зрения писателя никогда не совпадает с тем, что думает критик, даже если последний не думает ничего. Известного писателя обычно ругают только за то, что он известен, и чтобы подчеркнуть свою обособленность от толпы, которая сделала его известным. Но нашим благоразумным генералам от литературы все равно, что пишут о них критики, пока их книги покупают читатели, критических статей не сочиняющие.
В ту эпоху нашей словесности командором ее был граф Лев Толстой, который, так сказать, олицетворял собой первую ступень литературной табели о рангах. Он стоял как глыба, и ему было смертельно скучно смотреть на карликов, копошащихся у его подножия. А поскольку он в прошлом был человек военный, то, чтобы избавиться от скуки, стал воевать. Воевал с Шекспиром, которого объявил никуда не годным автором, с церковью, с собственной женой, которая с ног сбилась, пытаясь ему угодить. Изумленная Россия взирала на командора с почтением и внимала каждому его слову, хотя граф порой изрекал такое, что остальные голову ломали, пытаясь понять, что он вообще имел в виду. Критики, само собой, пытались подсуетиться и тут, но как-то быстро поутихли и отстали. И в самом деле, нелепо критиковать глыбу. Она есть, и все тут.
В сущности, между первым классом табели о рангах, которую занимал граф Толстой, и всеми остальными лежала пропасть. Позже станет ясно, что преодолеть ее смог только молодой доктор Чехов, больной чахоткой, – фигура в некотором роде уникальная, потому что он поднялся из самого литературного болота, из тех самых авторов юмористических рассказов, которых презирали и которым недоплачивали. Это сейчас все смешалось в доме Облонских, и в юмористические авторы (которые теперь пишут для эстрады и телевидения, а не для газет) черта с два пробьешься. А тогда…
Тогда, стало быть, имелся граф Толстой, затем – куча известных авторов разного значения, еще большее количество авторов неизвестных и незначительных и, наконец, необъятное множество примкнувших к словесности бедолаг, которые кое-как перебивались сочинительством, потому что «надо же на что-то жить». Но даже среди писателей успешных драматурги стояли особняком и держали себя, как какие-нибудь маршалы.
Пьеса, вообще говоря, вещь очень удобная. Автор ее пишет, театр ставит, и не один раз. Потом ставит другой театр, затем третий, и так далее – при условии, конечно, что пьеса интересная и того стоит. Театров в России много, актеров – и того больше, а с каждого представления автору причитается вознаграждение. Коротко говоря, раз в год пиши по одной приличной пьесе, а в остальное время можешь жить припеваючи. К тому же пьеса, как сказал классик, сочиняется легко: слева обозначаешь, кто говорит, справа – что сказано, начинаешь с начала, заканчиваешь концом, и дело в шляпе.
Эх, если бы на практике все было бы так же просто и логично, как в теории, то знаменитый драматург Никанор Семенович Щукин не грыз бы свое перо, мучительно раздумывая над ускользающей от него фразой. Что-то вообще не ладилось сегодня с самого утра: кухарка пересолила простейшее блюдо, кофе убежал, младший ребенок свалился с простудой, и только необъятная супруга Никанора Семеновича была совершенно здорова, как, впрочем, и всегда.
Где-то за дверями глухо тявкнул звонок, послышались мелкие семенящие шажки горничной. Голоса: мужской, женский, потом к ним присоединился еще один, тоже женский и удивленный. Никанор Семенович мотнул головой, словно отгоняя муху, и попытался сосредоточиться, но это ему не удалось. Заскрипели половицы, и он понял, что жена стоит у двери, что она шла на цыпочках, чтобы его не потревожить, и это, не понятно отчего, его разозлило.
– Я занят! – рявкнул он, едва дверь начала робко приоткрываться. – Я работаю, неужели нельзя понять? В конце концов, сколько можно беспокоить…
Но тут он увидел какое-то новое, странное выражение на женином лице, и не докончил фразу.
– Никанор, – промолвила супруга взволнованным басом, – там полиция.
Сердце драматурга разом ухнуло в какой-то ледяной мешок, или не мешок, а колодец, поди разбери, – словом, провалилось куда-то, и ощущение от этого было самое неприятное.
– Что т-такое? – пролепетал Никанор Семенович, покрываясь пятнами.
– Из полиции, – бормотала супруга, судорожно сжимая и разжимая пальцы. Кулачищи у нее были как у заправского борца. – Говорит, что ему нужно с тобой поговорить и это очень, очень срочно…
Никанор Семенович приподнялся с места, но тотчас же обмяк и опустился на сиденье.
– Проси, – каким-то чужим голосом велел он.
Через минуту в его кабинете материализовался полицейский – учтивый и печальный молодой человек с пронизывающим взором светло-серых глаз. Едва увидев гостя, Никанор Семенович понял, что все пропало.
– Чему обязан?.. – пробормотал он после обычного обмена приветствиями. Во рту у драматурга пересохло, и каждое слово давалось ему с трудом.
Гиацинту было достаточно увидеть выражение лица собеседника, чтобы понять, что тот находится в состоянии, близком к панике. Но не только это не понравилось столичному сыщику. Дело в том, что Никанор Семенович превосходнейшим образом подходил под описание таинственного посетителя, который, по мысли Амалии Корф, зарезал Ольгу Верейскую. Высокого роста, широкоплечий, чернобородый, и вдобавок физиономия самая что ни на есть интеллигентная. От такого, конечно, не будешь ждать, что он ткнет тебя ножиком, так что он действительно мог застать бедную жертву врасплох.
– А вы не догадываетесь, Никанор Семенович? – вопросом на вопрос ответил сыщик.
Ему было любопытно, как поведет себя драматург, услышав эту многозначительную и, прямо скажем, зловещую реплику, и Никанор Семенович не обманул ожиданий Леденцова. Хозяин дома собирался что-то сказать, но внезапно покачнулся и, откинувшись на спинку кресла, потерял сознание.
Тут Гиацинт крепко призадумался. Не скрою, самолюбивому сыщику было даже до какой-то степени обидно, что решение задачи оказалось настолько простым. Если Никанор Семенович вчера убил любовницу, а теперь испугался разоблачения и фактически выдал себя, для него все кончено. Главное, не дать ему собраться с мыслями, чтобы он не вздумал все отрицать.
– Никанор Семенович! Милостивый государь!
Но милостивый государь молчал, не подавая признаков жизни, и Гиацинт рискнул легонько похлопать его по щекам. Издав слабый стон, драматург открыл глаза.
– Боже… боже! – застонал Никанор Семенович, ворочаясь в кресле, как поверженный гигант. – Какой позор… Какое несчастье!
– Я жду объяснений, – промолвил сыщик стальным голосом, и глаза его сверкнули опять-таки стальным блеском.
– Вам непременно нужно ворошить эту историю? – Никанор Семенович скривился, как от физической боли. – Хорошо! Признаюсь! Да, я преступник… то есть можно сказать, что я преступник, потому что я настаиваю на том, что своими действиями я никому не нанес урона…
– Это смотря с какой стороны поглядеть, милостивый государь, – хладнокровно заметил Леденцов.
– Господи боже мой! Да ведь он живет во Франции, с французами у нас конвенции нет… ведь нет же литературной конвенции? Значит, я ничего не нарушал! И что ему, в конце концов, что я… ну… переписываю, то есть… перерабатываю… одним словом…
– Вы не могли бы объяснить подробнее? – мрачно спросил Гиацинт, который уже понял, что речь пойдет вовсе не об Ольге Верейской и не о том, что произошло в Фонарном переулке.
– У меня дети, поймите! – пылко вскричал автор. Косматая борода его стояла дыбом. – Трое детей… жена… одни платья чего стоят! Ну, взял пьесу этого француза… перелицевал ее… грешен, каюсь! А что прикажете делать, если пишешь свое, оригинальное, а оно никому не нужно… Пять представлений, и сняли с афиши! Ведь это же свинство!
Тут, признаться, Гиацинт Христофорович ощутил легкую слабость в ногах, но выдавать ее не стал и, попятившись, поспешно сел.
– Так вы…
– Да! Грешен, батенька, грешен! – пылко признался автор. – Переписал я одну французскую пьеску, поставил свое имя… и что вы думаете? Полный успех! Критики кричат, что ничего оригинальнее я не сочинял… Антрепренеры рвут на части! Все актеры тотчас же стали набиваться в друзья, я уж не говорю об актрисах… – Он умолк и опасливо покосился на дверь.
– Так вы – плагиатор? – печально спросил Леденцов.
– Ну зачем же так сразу, сударь, – забормотал сконфуженный Никанор Семенович. – Ну, конечно, вдохновился… так сказать… более, чем следует… Но вы не думайте, я не подряд все переписываю. Я и героям даю другие имена, и кое-что меняю в сюжете, и вообще… серьезно перерабатываю…
– И сколько раз вы так перерабатывали чужие пьесы? – поинтересовался безжалостный Гиацинт.
– Сколько? Гм… Ну, может быть, два или три… – Сыщик недоверчиво покачал головой. – Ну хорошо, не меньше десятка! – рассердился автор. – И что с того? Вон Шекспир, уж на что гений, тоже таскал свои сюжеты отовсюду… Кто-нибудь зовет его плагиатором? Да никто! Все только и талдычут: великий, великий… непревзойденный! – уже злобно добавил Щукин, дергая щекой. – И надо же было такому случиться, что моя последняя пьеса… что он тоже!
– Вы и Шекспира обокрали? – поднял брови сыщик. – Однако…
– Да при чем тут Шекспир, – вспылил Никанор Семенович, – это все подлец Зыков подсуетился! Как будто вам не известно… Я свою последнюю пьесу свистнул у Сарду, так ведь не я один такой умный… Зыков тоже свою у него свистнул! А Поликарп Аполлонович – это директор театра – удивился, отчего наши пьесы так похожи… вплоть до некоторых реплик… А Зыков, знаете, такой наглец… Из молодых да ранних! Я его пожурил: что ж вы, милостивый государь, себе позволяете, а он мне в ответ – тебе, папаша, вообще лучше молчать… жулик ты первостатейный, про твои фокусы в полицию нужно доложить! Я, говорит, человек маленький, но в газетах все про твою театральную деятельность пропечатаю и куда надо дам знать, что пьесы твои все ворованные… Как будто я ворую! – продолжал Щукин, оскорбленный до глубины души. – Это ж работа… перевести с французского, да на русский лад переделать, да убрать всякие вольности, за которые у нас цензура съест живьем… Никакого отдыха!
Гиацинт слушал и дивился. Значит, Никанор Семенович, драматург с именем, уважаемый человек и даже почетный член каких-то там университетов, на самом деле обыкновенный воришка, без зазрения совести таскающий чужие произведения и выдающий их за свои. И что-то подсказывало Леденцову, что Зыков только сгоряча пообещал разоблачить Никанора Семеновича, а на самом деле тот так и будет передирать чужие пьесы, получать за них большие деньги и жить припеваючи в этом большом красивом доме с окнами, выходящими на Неву.
– Не погубите, сударь, – заискивающе промолвил драматург и полез в ящик стола за деньгами, дабы умилостивить грозного посетителя. – День и ночь тружусь, аки пчела, а чертовы французы еще такие реплики придумывают, что даже не поймешь, что к чему… нет бы попроще написать, чтобы легче было переводить…
– Я, собственно, не по этому поводу, – сказал сыщик больным голосом.
Никанор Семенович замер.
– Как – не по этому?
Его короткая шея побагровела, он недоверчиво уставился на своего посетителя.
– Я пришел расспросить вас об Ольге Николаевне Верейской, – промолвил Гиацинт, доставая записную книжку. – Вы ведь знакомы с ней, не так ли? И весьма коротко.
Судя по выражению лица драматурга, его так и подмывало выругаться.
– При чем тут Ольга Николаевна… Ну хорошо. Допустим, я действительно ее знаю…
– Речь идет о серьезном преступлении, – уронил сыщик. – Поэтому на вашем месте я не стал бы ничего скрывать.
– Вы не на моем месте, – тотчас же ощетинился Щукин. Он был раздосадован, что сгоряча открыл свою позорную тайну постороннему лицу, и ощущал себя крайне неловко.
– В таком случае я могу арестовать вас и препроводить в участок для допроса, – любезно ответил Гиацинт. – Вы предпочитаете беседовать там?
Тут Никанор Семенович окончательно убедился в том, что сегодня фортуна демонстративно повернулась к нему филейной частью и, что бы он ни предпринял, все будет наперекосяк.
– Простите, – пробурчал он, – я понятия не имел об Оле… Ольге Николаевне. И вообще, я больше недели с ней не встречался…
– Мне нужны подробности, – сказал сыщик. – Прежде всего, как давно вы с ней знакомы?
– Как давно? – Никанор Семенович поднял глаза к потолку. – Лет пять, наверное. Она играла в театре, я писал пьесы… обычное дело.
– То есть вы были знакомы с ней еще до Дмитрия Ивановича Чигринского?
– Разумеется.
– Простите, но я вынужден задать этот вопрос. Насколько серьезными были ваши отношения с Ольгой Николаевной?
– Они не были серьезными, – с убийственной писательской точностью ответил Никанор Семенович. – Но постоянными.
– Поясните, – тихо попросил Гиацинт.
– Мы виделись два-три раза в месяц. Иногда реже, иногда немного чаще. Оля… Ольга Николаевна очень мила, но я давно понял, что она меня не любит. Ей хотелось, чтобы я сочинил для нее пьесу. Ей наскучило жить в золотой клетке, которую для нее соорудил Чигринский.
– Он был против того, чтобы она играла?
– По-моему, ему было все равно. То есть он ей не запрещал. Мне кажется, ей самой уже не хотелось учить текст, репетировать, вообще утруждать себя. Но тем не менее она была уверена, что, если для нее напишут пьесу – только для нее, – она сумеет блеснуть. Строго между нами, все это вздор. Оля очень милая женщина, но у нее неподходящий голос для сцены, слишком тонкий, и если уж честно, таланта ни на грош.
– Скажите, где именно вы с ней встречались? У нее дома?
– Нет. Для наших встреч она снимала небольшую квартиру – сначала на Казначейской, потом на Конногвардейской.
– Рядом с казармами лейб-гвардейского полка? – быстро спросил Гиацинт.
– Совершенно верно.
– Вы были в курсе ее дел? Она не жаловалась, что кого-то боится, что ей кто-то угрожает?
– Кто мог ей угрожать? – изумился драматург. – Это нелепо!
– Подумайте как следует, Никанор Семенович. Это очень важный вопрос.
– С ней произошла какая-то беда? – мрачно спросил Щукин.
– К несчастью, да. У вас есть какие-либо соображения по этому поводу?
– Никаких. То есть я ровным счетом ничего не понимаю. – Никанор Семенович беспомощно пожал плечами. – Кто мог ее обидеть? Чигринский? Да ну, вздор. Он на такое не способен.
– А ваша супруга не могла ее приревновать?
– Моя жена? – Драматург, казалось, изумился еще пуще. – Нет, это невозможно!
– Но она знала о ваших отношениях с Ольгой Николаевной? Да или нет?
– Не надо сочинять какую-то драму, пожалуйста, – с болезненной гримасой промолвил Щукин. – Я человек творческий… то есть… Ну да, у меня бывают увлечения. Но это не значит, что я собираюсь делать глупости… уходить из семьи и тому подобное. Я ясно выражаюсь?
– Яснее некуда, – кивнул Леденцов. – Можно еще один вопрос? Вы любили Ольгу Николаевну?
– Любовь, любовь, – проворчал драматург, явно чувствуя себя не в своей тарелке. – Я, сударь, все-таки не мальчик, в самом деле… Я хочу сказать… гм… Как бы это выразиться? Словом, Ольга Николаевна очень мила… и была готова на все услуги. Мужчина в таких случаях мимо не проходит… Да! – неизвестно к чему глубокомысленно закончил он.
И, словно показывая, что тема исчерпана, взял со стола том на французском – с очередной пьесой, которую собирался присвоить, – и углубился в чтение.
– Скажите, где вы были вчера вечером? – спросил Гиацинт.
– А?
Сыщик повторил свой вопрос.
– Да здесь же, – нетерпеливо ответил Щукин. – Возился тут… с этой ерундистикой… Скажите, вы французский знаете? У меня тут персонаж fait la cour… гм… Фэ – значит, делает. Кур – значит, двор. Ничего не понимаю… Двор он героине вымостил, что ли? Так он вовсе не строитель… И с героиней едва знаком… Делать двор… двор… Со вчерашнего дня я застрял на этой фразе – и ни туда, ни сюда… Провожать до двора? Странно как-то…
Гиацинт закрыл записную книжку и поднялся.
– Он за ней ухаживает, – сказал сыщик.
– Что? – подпрыгнул Никанор Семенович.
– Faire la cour – в переводе с французского означает «ухаживать».
– Голубчик вы мой! – в экстазе вскричал драматург. – Благодетель! Точно… А я-то думаю – что такое знакомое? Ухаживать… строить куры! Слава те господи… разобрался наконец!
Дело сдвинулось с мертвой точки. Буржуа Филипп, превращенный в Архипа Никодимыча, ухаживал за кокоткой Элен, ставшей купчихой Настасьей Петровной. Французская пьеса обрастала русским колоритом, и прислуга уже вовсю носила самовары и разливала чай. Декорация изображала помещичий дом и березки вместо парижской квартиры. Внутренним взором Никанор Семенович видел полные ложи бенуара и бельэтажа, рукоплещущих студентов в райке и благосклонные рецензии в газетах. Трехзначные гонорары множились и на глазах превращались в четырехзначные. Драматург творил, вдохновенно передирая у французского собрата мизансцены и львиную часть диалогов, и даже не заметил, как за его гостем закрылась дверь.
Глава 16 Слуги
Пока сыщик Леденцов продирался сквозь дебри российской словесности, населенные фантомными гениями, Амалия предприняла поездку на Фонтанку, где собиралась поговорить с Соней Харитоновой.
Баронесса Корф успела как раз вовремя, потому что горничная собиралась снова ехать в Фонарный переулок и требовать у хозяйки расчет и рекомендацию. Тут в голову Амалии пришла спасительная мысль.
– Я заплачу вам вместо Ольги Николаевны, – сказала она. – Кажется, она должна вам за месяц?
Соня сначала удивилась, потом обрадовалась и объявила, что хозяйка должна ей меньше, за три недели.
– А как же рекомендация? – несмело спросила горничная. – Мне же никак нельзя без рекомендации…
– С Ольгой Николаевной произошло несчастье, она не сможет вам написать рекомендацию, – сказала Амалия. – Собственно говоря, поэтому я вас и искала. Мы можем поговорить?
Женщины вышли на набережную Фонтанки и двинулись медленным шагом вдоль реки. На круглом миловидном лице Сони было написано живейшее любопытство, она явно не понимала, что такого могло приключиться с ее хозяйкой.
– Скажите, Соня, сколько вы работали у Ольги Николаевны?
– Пять месяцев, – подумав, ответила девушка.
– И как она вам?
– Хозяйка как хозяйка, – осторожно ответила горничная. Но тут же ее прорвало: – Знаете, нельзя сказать, чтобы она злая была. Но вредная – это точно.
– Придиралась?
– День-деньской, сударыня. И самое обидное, что без всякого повода. Просто она постоянно была не в духе, ну и…
– А почему она была не в духе? У нее же вроде бы все хорошо было.
– Вот и я удивлялась, сударыня. Дмитрий Иванович – такой человек известный, души в ней не чаял… И другие… – Соня сконфузилась и замолчала.
– Так что с другими, Соня? Ну же, договаривайте, коли начали…
– А что тут говорить? – смущенно отозвалась горничная. – Ни во что она бедного Дмитрия Ивановича не ставила. То есть она притворялась, что любит его, а сама, только он за порог, сразу же к своему военному – шасть!
– Значит, у нее был военный?
– Да, сударыня. Молодой, красавец… ну просто картинка. Правда, влетал он ей в копеечку… он же из бедной семьи. Ну вот… Дмитрий Иванович ей деньги давал, да еще какой-то, по-моему, у нее был, тоже не скупился… А она на эти деньги своего военного содержала.
– Откуда вам это известно, Соня?
– Откуда? – потупилась горничная. – Да что уж там, сударыня… Она со свиданий с ним приходила, вся сияла, и уже ко мне не придиралась… даже вещи свои дарила, и почти не ношеные… Она вообще не злая была, но, наверное, не очень счастливая. Да… Она, конечно, скрывала, что да как, но я как-то вышла за покупками, вижу, едет в карете с молодым корнетом… смеется… И тут она меня увидела. Ох, зря я на глаза ей попалась. Она же думала, что все шито-крыто и мне ничего не известно… А деньги – ну ясное дело, когда Дмитрий Иванович дает много денег, а потом в доме ни копейки, хотя ничего ровным счетом не покупали… Все потому, что господа военные очень карты любят, наверное.
– Из-за того, что вы ее увидели, Ольга Николаевна и решила вас уволить?
– Я думаю, да, сударыня. Она меня обвинила, будто я тайком вино пью. А я к спиртному не притрагиваюсь, ничего, окромя чая, не потребляю. Но ее тоже понять можно, – задумчиво добавила Соня. – Она, наверное, боялась, что я ее Дмитрию Ивановичу выдам.
– А ему бы это не понравилось?
– Конечно!
– И он мог сделать с ней что-нибудь дурное?
– Дмитрий Иванович? Да нет, господь с вами! Я думаю, он мог лишить ее содержания, а как раз этого она боялась больше всего. Она мне говорила, что привыкла к хорошей жизни, не то что раньше, когда ей приходилось в театре всем угождать…
– Соня, а Ольга Николаевна ни на кого не жаловалась? Что ей угрожают, например, или что-то вроде того… Может, у нее были враги?
– Да нет, не припомню я ничего такого… И врагов у нее не было, не такой она человек.
– Вы не знаете, кому она писала недавно письмо?
– Письмо? Дайте-ка подумать… Она вообще не любила письма писать. Дмитрий Иванович над ней смеялся, что она твердые знаки в конце слов не ставит и путает е с ять… вот поэтому она редко кому писала. По-моему, я видела у нее на столе письмо матери. Ее мать в Твери живет, она вдова, шляпную лавку держит…
– Вы отнесли это письмо на почту?
– Нет. Она как раз позавчера меня выгнала, ну, я собрала свои вещи и ушла.
– А о чем она писала, вы, случайно, не знаете?
– Нет, сударыня.
– Как Ольга Николаевна вела себя в последние дни? Может, в ее поведении было что-то необычное? Подумайте хорошенько, это очень важно.
– Да ничего необычного не было, – с удивлением ответил Соня. – Я ж говорю: вышла за покупками, а тут она в экипаже катит со своим корнетом… Ох, как она на меня зыркнула! Я уже тогда почувствовала, что она мне этого не простит… Когда хозяйка вернулась домой, я попыталась ее убедить, что не выдам ее, но по ее глазам я видела, что она мне не верит… Вечером она вроде бы оттаяла, немного поиграла на пианино, говорила, что очень дорожит Дмитрием Ивановичем… этак, знаете ли, с подковыркой: сказала и смотрит на меня. Потом говорила что-то про театр… хотела пойти на какое-то представление… И сказала мне, что она встретила на улице знакомого. Я ей повторила, что это не мое дело… а Ольга Николаевна так пристально на меня глянула и объявила, что я ничего не понимаю. На следующий день хозяйка меня вызвала и сказала, что она не потерпит пьянства и что я уволена.
Амалия задала еще несколько вопросов, но, как она ни пыталась подобраться к главной теме – кто мог желать Ольге Николаевне зла, – Соня настаивала на том, что ее хозяйка была не такая. Да, придиралась, была излишне влюбчива, но… зла на нее никто не таил и врагов у нее не имелось.
– Мужчины к ней заходили?
– Кроме Дмитрия Ивановича – никто. Я однажды видела у нее счет за другую квартиру, на Конногвардейской. Думаю, она там и встречалась… с другими поклонниками.
– Вы не знаете, среди ее знакомых был мужчина крепкого сложения, с черной бородой?
Но Соня объявила, что ей ни о ком таком неизвестно, а что до корнета, то он был без бороды и вообще просто душка.
Попрощавшись с горничной, Амалия села в наемный экипаж и отправилась на Гороховую, где жил композитор. Ей было любопытно, что смогут рассказать ей слуги Дмитрия Ивановича.
Дверь открыл взволнованный Прохор, и Амалия с опозданием вспомнила, что композитор не показывался дома со вчерашнего дня, так что у слуг были все основания встревожиться.
– Дмитрий Иванович находится сейчас у своих знакомых, – сказала она. – С ним все в порядке, так что можете не беспокоиться.
– О! – Прохор с облегчением выдохнул. – Госпожа баронесса, вы сняли с моей души тяжкий груз… А то мы уж не знали, что и думать!
Тут, признаться, Амалия слегка переменилась в лице. Она-то была уверена, что в простой одежде ее никто не признает.
– Мне надо с вами поговорить, Прохор Матвеевич, – сказала она. – Только чтобы наша беседа осталась строго между нами.
Слуга объявил, что он целиком и полностью к услугам баронессы Корф, и собеседники перешли в гостиную с роялем. Осмотревшись, Амалия сразу же поняла, что комната используется исключительно для парадных целей. «Интересно, где он сочиняет свои мелодии? Наверное, в каком-нибудь просто обставленном кабинете, и инструмент там стоит гораздо более скромный…»
– С Ольгой Николаевной Верейской произошло несчастье, – сказала Амалия вслух.
Прохор застыл на месте.
– Большего я пока сказать не могу, но положение очень серьезное. Скажите, у вашего хозяина есть враги?
– Каких именно врагов вам угодно иметь в виду? – почтительно спросил Прохор. – Потому что враги, знаете ли, бывают разные. Одни гадости в газетах пишут, другие говорят, что Дмитрий Иванович человек несерьезный, потому что не сочиняет балетов, третьи и вовсе не прочь его зарезать, но чтобы их к ответу не привлекли…
– Меня интересует третья категория, – объявила Амалия.
– Так половина российских композиторов об этом мечтает, госпожа баронесса.
– Так-таки половина? А Дмитрий Иванович был уверен, что у него нет врагов.
– Дмитрий Иванович слишком добр, – замахал руками слуга. – И я, пожалуй, тоже погорячился, когда сказал насчет половины. Три четверти, вот так будет вернее.
– О! – только и могла вымолвить Амалия.
Судя по всему, слуга Чигринского придерживался о своем хозяине самого высокого мнения, раз почти всех коллег записал в его враги.
– Зависть, зависть и еще раз зависть, – печально промолвил Прохор, свесив голову. – Нет, при встрече, конечно, все эти господа улыбаются, пожимают руки и справляются о здоровье. Но на самом деле они его ненавидят.
– Допустим, – сказала Амалия. – Нас интересует господин с черной бородой, крепкого сложения. Кто-нибудь из недругов Дмитрия Ивановича подходит под это описание?
– Илларион Петрович Изюмов, – тотчас же ответил Прохор. – Он обыкновенно в Москве живет, но два или три дня назад приехал в Петербург.
– Ах, так он из Москвы? – протянула Амалия. – Скажите, Прохор, а вам, случайно, не знаком его почерк?
– Я видел пару раз его письма, госпожа баронесса, так что его руку признать смогу.
Амалия достала адресованное Ольге Николаевне письмо, подписанное «И», и предъявила его Прохору.
– Это он писал, – без колебания заявил слуга. – Никаких сомнений.
Ну и что прикажете говорить? Что Ольга Николаевна настолько мало дорожила композитором Чигринским, что сошлась с его злейшим соперником? И что Илларион Петрович так ненавидел своего коллегу, что зарезал их общую любовницу, чтобы обвинить Дмитрия Ивановича?
…А собственно, почему бы и нет?
– Скажите, а Илларион Петрович случаем не бывший военный? У него не сохранилось военной выправки?
– Военный? – удивился Прохор. – Что вы, сударыня! Он любого оружия до смерти боится, да и в армии никогда не служил. Не то что Дмитрий Иванович…
Н-да, не сходится. Хотя швейцар ведь мог ошибиться насчет выправки, да и попросту что-нибудь перепутать. Нельзя Иллариона Петровича сбрасывать со счетов, никак нельзя…
– Прохор Матвеевич, а как ваш хозяин относился к Ольге Николаевне?
– Как? Известно, как, сударыня. Хорошо относился. Для нее он ничего не жалел.
– Они не ссорились?
– Нет.
– Он не подозревал, к примеру, что она ему изменяет?
Прохор прикипел к месту и открыл рот.
– Мне об этом ничего не известно, сударыня, – наконец выдавил он. По его лицу было видно, что он был глубоко задет таким отношением к своему хозяину.
– А что бы Дмитрий Иванович сделал, если бы узнал о ее измене?
– Что? Гм… Он бы не обрадовался, я думаю.
– Он мог поднять на нее руку, например?
– На женщину? Никогда. – И тут слуга не выдержал: – Госпожа баронесса, что она все-таки натворила?
– Мы тоже пытаемся это понять, Прохор Матвеевич, – вздохнула Амалия. – Вы не знаете, у Ольги Николаевны были враги?
Но точно так же, как и Соню, этот вопрос поставил слугу в тупик. Для очистки совести Амалия допросила и кухарку Мавру, но убедилась только в том, что люди Чигринского готовы за него в огонь и воду и понятия не имеют, кто мог желать зла его любовнице.
С Гороховой Амалия возвращалась с чувством, близким к досаде. Расследование топталось на месте, и самым поразительным было то, что никто, ни один человек, не мог назвать внятной причины, по которой кто-то пожелал избавиться от Ольги Верейской.
«Ее убили и, возможно, унесли письмо, хотя она сама могла его отправить… Просто наклеила марку и бросила в ящик. Но при чем тут вообще какое-то письмо? Что такого в нем могло быть? В убийстве сразу же обвинили Чигринского… значит ли это, что несчастная Ольга Николаевна была выбрана лишь потому, что имела отношение к композитору? Профессиональная зависть… нет, господа, для зависти это как-то чересчур, что бы там ни говорил слуга… Тут нечто более серьезное, но что? Не умалчивают ли о чем-то горничная и швейцар? Да нет, они вроде бы откровенно отвечали на все вопросы… Может быть, Ольге Николаевне не хватало денег на ее корнета, и она решила заняться шантажом? Кого? Драматурга Щукина, который женат? До чего же муторное, неприятное дело…»
Глава 17 Корнет и флигель-адъютант
Покинув воспрянувшего духом плагиатора, дотошный Гиацинт на всякий случай учинил самый тщательный допрос его жене и прислуге. Все сходились в одном: вчера вечером как Никанор Семенович, так и его половина были дома, не злоумышляли против Ольги Николаевны и вообще чисты, как младенцы, – если, конечно, не считать ворованных переводных пьес.
– Скажите, сударыня, а вы знали об Ольге Николаевне? – не удержался молодой сыщик.
Госпожа Щукина поджала губы.
– Я, право, не понимаю, что вы хотите от меня услышать… Вокруг моего мужа столько вертихвосток… актрисы… начинающие писательницы, которые хотят сочинять для театра… Не могу же я на всех них обращать внимание, в самом деле! Мой муж талантливый человек… а талант встречается так редко…
– Неужели? – спросил Леденцов со страдальческой улыбкой. Он положительно не понимал, как можно именовать талантливым того, кто ворует чужое без зазрения совести.
Его собеседница сердито запыхтела, как паровоз.
– О! Вы о пьесах? Ну что ж… Эти никчемные французы должны быть рады, что их комедии вообще кому-то нужны… И потом, взять хотя бы Шекспира… Вот уж кто никогда не утруждал себя поиском оригинальных сюжетов!
«Дался им этот Шекспир! – с досадой подумал сыщик, уходя от Щукиных. – Послушать все эти ничтожества, так единственное предназначение великого драматурга – оправдывать их собственные грешки…»
Путь Гиацинта лежал на Конногвардейскую улицу, возле которой расположены казармы лейб-гвардейского конного полка. Чутье, дедукция, здравый смысл и прочие качества подсказывали Леденцову, что корнет Владимир Павлов должен находиться где-то поблизости. Весь вопрос был в том, пожелает ли он говорить с полицейским.
Машинально Гиацинт Христофорович отметил, что за ним уже некоторое время медленно движется карета, и насторожился. Он вспомнил, что видел эту карету и раньше, когда они с Амалией возвращались из дома Ниндорф, но тогда не обратил на экипаж внимания.
Весь подобравшись, Леденцов незаметно сунул руку в карман, в котором носил револьвер. В следующее мгновение карета остановилась, и из нее вышел военный с флигель-адъютантским вензелем. Вид незнакомца, бог весть отчего, Гиацинту сразу не понравился.
– Милостивый государь! Задержитесь, пожалуйста.
Сыщик отступил к стене, но руку от револьвера не убрал. Все происходящее ему, по правде говоря, жутко не нравилось.
– Чем это вы занимаетесь? – строго спросил военный.
– Милостивый государь, – отозвался Леденцов, чувствуя, как внутри него все закипает, – я не ваш подчиненный и отвечать на этот вопрос не намерен.
– Я барон Корф, флигель-адъютант его императорского величества, – отрезал военный. – Что это Амалия Константиновна опять придумала? Я видел ее с вами, так что не вздумайте отпираться, – добавил он строго.
– Мы ведем расследование.
– Расследование? Так вы полицейский?
Леденцова так и подмывало ответить «так точно», причем самым дерзким и непочтительным тоном, но он вовремя опомнился и сказал, что по долгу службы…
– Как будто ей мало… – начал барон, но осекся и внимательно посмотрел на сыщика. – Хорошо, пусть так. Куда вы направлялись, если не секрет?
– Я ищу корнета Павлова. Владимира Павлова. – И Леденцов пересказал то, что ему было известно об этом молодом человеке.
– Никто из гвардейцев даже не станет с вами разговаривать, – заметил Корф.
– Тогда мне придется вызвать его на допрос.
– И вы не получите ничего, кроме неприятностей, – усмехнулся его собеседник. – Нет, так не годится. Едем!
– Куда?
– В казармы. Я знаю их полковника, так что он убедит молодого человека быть с вами откровенным. Что он натворил, кстати?
Леденцов замялся.
– Разумеется, речь идет об убийстве, – пробормотал Корф, передергивая плечами. – Ничто меньшее Амалию не заинтересует… Ладно, садитесь. Посмотрим, что я смогу для вас сделать.
Гиацинт не заставил себя упрашивать, и через несколько минут они были уже возле казарм. По пути сыщику пришлось вкратце рассказать Александру Корфу, в чем, собственно, дело.
– Ждите меня здесь, – распорядился барон и ушел.
Ожидание затянулось. Чтобы размять ноги, Леденцов вышел из кареты и от нечего делать стал рассматривать здания казарм. Ворота явно были недавно покрашены и находились в образцовом порядке, но немного дальше ограда уже осыпалась, и сами строения имели вид казенный и неуютный. Прошли несколько солдат, ведя в поводу лошадей, и одна из них была такой невероятной красоты и грациозности, что Леденцов залюбовался. Но тут он увидел, как возвращается барон Корф, и все посторонние мысли тотчас же вылетели у него из головы.
– Корнет Павлов сейчас будет, – лаконично промолвил Александр, подойдя к сыщику.
– Что он вообще за человек? – не удержался Гиацинт.
– Он-то? – Барон рассеянно обдернул перчатки. – Круглый сирота. Опекун растратил все его состояние и умер. Владимир Сергеевич попал в конную гвардию… что еще? Начальство о нем отзывается только с положительной стороны. Амалия, конечно, сочла бы это очень подозрительным, но похоже, что его действительно не в чем упрекнуть.
– В самом деле?
– Ну, разумеется, у него есть свои недостатки. Полковник в частной беседе дал мне понять, что корнет – человек слабохарактерный и дает увлечь себя карточной игрой больше, чем позволяют его средства. – Александр Корф бросил быстрый взгляд на своего собеседника. – На всякий случай я позаботился навести справки о том, где он был вчера вечером. Тогда как раз была его очередь дежурить, и он никуда из казарм не отлучался. Похоже, это все-таки не тот, кто вам нужен.
Из ворот казарм вышел высокий, темноволосый юноша и зашагал к карете. Когда он приблизился, Леденцов увидел, что у корнета Павлова симпатичное, открытое лицо со слегка смазанными чертами. Глуповатое, мысленно добавил сыщик, когда Владимир подошел еще ближе, и, пожалуй, приторное, хотя женщинам такой тип внешности определенно должен нравиться. Карие глаза улыбались – без всякой причины, просто, вероятно, от избытка молодости и из-за того, что в воздухе наконец-то стало веять весной.
– Чем могу служить, ваше превосходительство? – спросил молодой человек, отдав честь барону.
– У господина сыщика к вам несколько вопросов, – сказал Александр. И, сочтя, очевидно, что дальнейшие объяснения ни к чему, демонстративно отошел и сделал вид, что его тут нет. (Впрочем, его присутствие ощущалось бы, даже если бы он отодвинулся еще дальше.)
– Господин… э… – Павлов повернулся к сыщику, и, хотя молодой человек явно был хорошо воспитан, в голосе его зазвенела легкая насмешка.
– Леденцов. Вам знакома Ольга Николаевна Верейская?
Корнет тотчас же перестал улыбаться.
– Предположим, а в чем дело?
– Вы хорошо ее знали?
– К чему эти расспросы, господин Леденцов? – высокомерно осведомился молодой человек. – Простите, но я не имею привычки обсуждать своих знакомых женского пола.
– Придется, потому что с Ольгой Николаевной произошло несчастье.
Павлов смерил Леденцова недоверчивым взглядом.
– Несчастье? Вы меня интригуете, господин сыщик…
– Не вижу в этом ничего смешного, – холодно сказал Гиацинт, которому не понравился тон молодого повесы.
– Где она?
– Простите?
– Если с ней что-то произошло, я хочу ее увидеть. Так где она?
– Боюсь, я…
– В какой она больнице? Она сильно пострадала? Что с ней вообще такое?
– Она не в больнице. Успокойтесь, сударь.
– Где она? Я должен ее увидеть! – Владимир повысил голос.
– Вы не можете ее увидеть.
– Но почему, почему?
– Потому что она умерла. Но пока я попрошу вас никому об этом не говорить.
– Умерла? – Павлов провел рукой по лицу. – Безумие какое-то. Как? Когда?
– Вчера. Мы расследуем ее гибель, и я желал бы получить ответы на некоторые вопросы. У Ольги Николаевны были враги?
– Враги? – вяло переспросил Владимир. Лицо у него словно разом постарело – настолько болезненно он воспринял весть о гибели молодой женщины. – Да нет, какие враги…
– Вы уверены?
– Господи, я… Чего вы от меня хотите?
– Правду. Вы хорошо знали Ольгу Николаевну?
– А вы как думаете?
– Вы были в курсе ее жизненных обстоятельств? Она ни на кого не жаловалась, не говорила, что ей кто-то угрожает?
– Нет. Ничего такого я не помню.
– В последние дни вы часто с ней виделись?
– Я видел ее только позавчера… нет, три дня назад, – хрипло признался молодой человек. – Почему она умерла?
– Ее убили.
– Боже мой! Кто?
– Вот это я и пытаюсь выяснить. Скажите, вы не помните ничего странного, ничего необычного в ее поведении?
– Нет. Она была такая же, как и всегда.
– И три дня назад тоже?
– Да. Мы поехали кататься… Светило солнце. Я держал ее за руку… – Он смутился и замолчал.
– Значит, ничего?
– Ничего.
– Вы с ней часто ссорились?
Однако корнет не попался в эту маленькую ловушку.
– Мы вообще не ссорились. Кто вам сказал такую глупость?
– Вы знали, что у нее есть другие?
– Другой. Композитор Чигринский. Да.
– И что вы об этом думали?
– Я разорен, – мрачно ответил Павлов. – Мерзавец-опекун пустил мое состояние по ветру, прохныкал, что он виноват передо мной, и благоразумно умер. А Оля… Она не смогла бы жить в нищете. И дать ей я ничего не мог. Ненавижу его песни, – неожиданно признался корнет. – Если б я мог, я бы вызвал его на дуэль… Он был ее недостоин, поймите!
– Он так дурно с ней обращался?
Владимир выпрямился, сверкнул глазами.
– Он был уверен, что ее купил. Его в жизни вообще ничто не интересует, кроме музыки. Оля говорила, что он страшный человек. Люди ему безразличны, главное – то, что он пишет… Я все время боялся, что он предложит ей выйти за него замуж и я окончательно ее потеряю. Но Оля смеялась, что она все равно не согласится, что с таким, как Чигринский, она умрет со скуки…
– А вы?
– Что – я?
– Что вы значили для нее?
– Я любил ее. И она меня любила.
Он сделал над собой усилие, чтобы прибегнуть к прошедшему времени. Любила… любила… А теперь ее больше нет…
– Вы встречались у нее дома?
– Я никогда там не был, чтобы ее не компрометировать. Она снимала для нас отдельное жилье здесь неподалеку, на Конногвардейской. Там мы и виделись тайком, когда мне удавалось освободиться.
– Вам неизвестно, был ли среди знакомых Ольги Николаевны мужчина лет тридцати, физически сильный, с черной бородой?
Павлов задумался.
– У нее нет таких знакомых, а Чигринский бороду не носит. И ему уже не тридцать.
– Подумайте еще раз, прежде чем ответить. Есть ли у вас какие-то соображения по поводу того, кто мог желать зла Ольге Николаевне?
– Я не знаю…
– Вы никого не подозреваете?
– Я не представляю, кто мог поднять на нее руку… Просто не представляю. Но если я его найду, – мрачно добавил Владимир, – ему не жить.
– Его? То есть вы полагаете, что это мог быть мужчина?
– Не знаю. Может быть.
Леденцов не стал настаивать, а только спросил:
– Ольга Николаевна делала вам подарки?
– Еще один вопрос, господин сыщик, – вспыхнул измученный корнет, – и я вызову вас на дуэль!
– Я спросил не просто так, Владимир Сергеевич. Потрудитесь все же ответить, если и впрямь хотите, чтобы убийца был найден.
– Да, она делала мне подарки, – с ненавистью ответил Павлов. – Это все?
– А в ближайшее время она собиралась вам что-нибудь подарить?
– Откуда мне знать? Может быть… на день рождения… У меня день рождения на следующей неделе.
Гиацинт достал из кармана золотую папиросницу и протянул ее корнету.
– Благодарю за откровенность. Полагаю, я могу отдать это вам. Вряд ли Ольга Николаевна была бы против…
Владимир храбрился из последних сил, но когда он развернул бумагу и увидел надпись на крышке, лицо у него дрогнуло. Теперь он был похож на обиженного большого мальчика и часто-часто мигал, чтобы не заплакать.
– Если вы вдруг что-то вспомните… – начал Леденцов. – Неважно что…
– Я найду вас, не беспокойтесь.
И он ушел быстрым шагом, расстроенный до того, что даже забыл отдать на прощание честь Корфу.
Глава 18 Преследователь
– Дорогая, – сказала Аделаида Станиславовна, едва Амалия вернулась домой, – должна тебе сказать, что наш гость дурно влияет на Казимира.
По правде говоря, Амалия была уверена, что ни один человек на свете не способен повлиять на дядюшку, тем более в дурном смысле; скорее уж наоборот, сам Казимир мог кого угодно сбить с пути истинного. Баронесса Корф была озадачена и потребовала объяснений.
Получив их, Амалия отправилась искать композитора и обнаружила его в одной из комнат. Чигринский полулежал в кресле с бокалом коньяка, а Казимир, судя по его действиям, пытался раскурить сигару не с того конца уже потухшей спичкой. На столе были разбросаны сигарные коробки, тарелки и стояли пустые бутылки, количество которых поневоле наводило на размышления.
– А! Госпожа баронесса! – вскричал Дмитрий Иванович. – Позвольте, сударыня, припасть к вашим ногам…
– Ну припадайте, раз вам так хочется, – пожала плечами Амалия. Однако тон ее был таков, что Чигринский сразу же протрезвел.
– Я ужасно себя вел, Амалия…
Отчество, по своему обыкновению, он прочно запамятовал, и под пристальным взглядом своей собеседницы почувствовал, что неудержимо краснеет.
Воспользовавшись тем, что Амалия отвлеклась на гостя, Казимирчик сделал попытку незаметно улизнуть, но племянница сделала шаг в его сторону и преградила путь.
– Очень рад тебя видеть, – молвил неисправимый шляхтич со своей обычной доброжелательностью. – Надеюсь, тебе удалось все выяснить и… э… разъяснить, ко всеобщему удовлетворению.
Он покачнулся, произнося столь длинную фразу, и поспешно отступил к дивану.
– Дядя, – укоризненно сказала Амалия, – вы не стоите на ногах.
– Я-я-я не стою? – пролепетал дядюшка.
– Мне сказали, что вы тут устроили целый концерт! И пели…
– Гм, – решительно промолвил Казимир, приосанившись, – что-то я не припомню, чтобы законы империи не дозволяли петь у себя в доме…
– Да, но вы распевали польский гимн!
– Я?
– Запрещенный, – добавила Амалия.
– Послушай, – печально сказал Казимирчик, свешивая голову, – этого не может быть. Во-первых, я вообще не умею петь…
– Дядя!
– И потом, у меня болит горло. Какой гимн? – И он довольно правдоподобно кашлянул несколько раз.
– Позвольте, – всполошился Чигринский, – это что, я тоже пел польский гимн?
– Нет, – сурово сказала Амалия. – Вы аккомпанировали на рояле.
– А-а-ах!
– Это все настойка, – вздохнул Казимирчик. Он наконец заметил, что держит незажженную сигару, и аккуратно положил ее на стол – в тарелку, на которой прежде лежал салат. – Вот, допустим, коньяк или даже зубровка против нашей настойки – пфф! – Он нарисовал рукой в воздухе какое-то подобие облака, но неожиданно покачнулся и схватился за спинку стула, чтобы не упасть.
Тут у Амалии лопнуло терпение, и она позвала мать, а Аделаида Станиславовна вызвала слуг. Джентльменов не без труда развели по комнатам и стали приводить в порядок, а Машенька принялась убирать последствия дружеской пирушки, в которой участвовало всего двое – хотя грязи осталось столько, словно тут гулял десяток человек.
Вскоре прибыл барон Корф, который сообщил, что по дороге в особняк пересекся с Леденцовым и тот приедет, как только закончит опрашивать свидетелей. Однако у Александра был острый глаз, и от него не ускользнул ни беспорядок в доме, ни рассерженный вид Амалии.
– Надеюсь, Дмитрий Иванович по рассеянности не спутал ваш дом с трактиром? – чрезвычайно учтиво осведомился флигель-адъютант.
– Саша, – взмолилась Амалия, – только вы не начинайте, прошу вас!
– Бьюсь об заклад, вы уже жалеете, что вообще пустили его на порог, – добавил барон.
Его слова были куда ближе к истине, чем хотелось бы Амалии, и поэтому она поступила чисто по-женски: надулась.
– Дмитрий Иванович пережил вчера сильное потрясение, – сдержанно промолвила молодая женщина. Но даже она понимала, насколько шаток ее довод.
– Надо же, какой потрясающий человек, – съязвил Александр, который за годы своего пребывания при дворе научился любое, даже самое невинное замечание перетолковывать в самом ироническом смысле. – Почему бы вам просто не предоставить дело полиции? Пусть она разбирается, кто убил его любовницу, он сам или кто-то еще.
– Саша, вы просто невыносимы, – вздохнула Амалия. – Ужинать будем через час.
Гиацинт Леденцов явился еще до ужина и рассказал Амалии о том, что ему удалось узнать. В ресторане никто не помнил, кто именно звонил по телефону в тот вечер. Что касается тех, кто доставил конфеты и вино, то первый разносчик ушел от Ольги Верейской без нескольких минут четыре, второй – в начале пятого. Оба показали, что, когда они видели жертву, она находилась в квартире одна. Ничего подозрительного они, само собой, не заметили.
В ответ Амалия рассказала о беседе с Соней и со слугами Чигринского. Позже она отправилась на поиски композитора Изюмова, который остановился у сестры в особняке на Большой Дворянской улице. Однако Иллариона Петровича дома не оказалось, и Амалия ограничилась тем, что оставила ему приглашение на благотворительный вечер.
– Я навел кое-какие справки, – сказал Леденцов. – Изюмов вчера весь вечер был в театре. Каковы бы ни были его отношения с Ольгой Николаевной, убить ее он никак не мог.
Амалия задумалась.
– Нужно сосредоточиться на ресторане, – сказала она наконец. – И выяснить, кто оттуда звонил. Вот этим и следует заняться.
Но сыщик только печально покачал головой.
– Госпожа баронесса, я опросил всех, кого только можно… Никто так ничего и не вспомнил. Ресторан большой, мало ли кто мог подойти к аппарату и попросить соединить его с полицией…
– Это Петербург, а не пустыня, – парировала Амалия. – Хоть кто-нибудь должен был что-то заметить, хотя, может, и не обратил внимания. Вопрос только в том, как извлечь нужную нам информацию… Машенька!
– Да, Амалия Константиновна? – На пороге тотчас же показалась вышколенная горничная.
– Как там дядюшка, еще не умер?
– Нет, Амалия Константиновна!
– Пусть тогда приведет себя в порядок, он мне понадобится.
– Амалия Константиновна…
– Что, Машенька?
– Господин Чигринский собрался уходить. Я подумала, может быть, вы захотите знать…
– Куда это он собрался? – возмутилась Амалия.
Она догнала композитора уже внизу, когда он готов был нахлобучить на голову шапку.
– Дмитрий Иванович!
Чигринский вспыхнул. По правде говоря, единственной причиной его бегства стало то, что композитору было невыносимо стыдно за свое поведение. Нечего сказать, хорош гусь!
– Госпожа баронесса, – забормотал он, поспешно отступая, – клянусь… если потребуется… всю жизнь… но недостоин, ей-богу! Совершенно недостоин вашего общества…
– Дмитрий Иванович, – сердито сказала Амалия, – вы отдаете себе отчет в том, что снаружи вас может подстерегать все, что угодно? Если Ольгу Николаевну убили только для того, чтобы уничтожить вас…
Но Чигринский принадлежал к тем упрямым людям, которые если вобьют себе что-то в голову, то их уже нипочем с этой мысли не сдвинешь. Он рвался домой, к своему старому пианино, к Прохору, к ворчливой Мавре и к знакомому виду из окна. Там его любили и терпели в каком угодно виде; здесь же, наткнувшись, как на стену, на холодный взгляд явившегося к ужину флигель-адъютанта, Чигринский сразу же понял, что барон Корф терпеть его не будет и наверняка сделает все, чтобы поставить его на место, чего Дмитрий Иванович сносить вовсе не собирался.
Как Амалия ни уговаривала композитора, он молчал и косился в сторону выхода, и единственное, что удалось у него выманить – это обещание прийти на благотворительный вечер, который послезавтра устраивала баронесса Корф.
– Тогда, может быть, что-то уже прояснится, – добавила Амалия и обратилась к Леденцову: – Гиацинт Христофорович, мне ужасно неловко, но кому-то придется проводить его до дома… Я дам карету, так что вы быстро доедете и вернетесь обратно к ужину. Мы вас подождем.
По правде говоря, Леденцов вовсе не рассчитывал на ужин и вообще на то, что его пригласят к столу, но Амалия не пожелала слушать никаких возражений.
– Вы нашли его? – не удержался от вопроса Чигринский, когда он и сыщик сели в карету.
Леденцов честно ответил, что нет, и в ответ спросил, не помнит ли Дмитрий Иванович, чтобы вчера за ним кто-нибудь следил.
– Понимаете, тот, кто звонил, должен был знать, что вы сделали с телом и куда поехали… А это значит, что он не упускал вас из виду.
– Полагаете, я сам прежде до этого не додумался? – фыркнул Чигринский. – Но единственное, что я вспомнил, так это молодчика, которого видел на Гороховой. По-моему, он шел за мной от дома, но после Фонарного я его не видел.
– Как он выглядел, этот ваш преследователь? – быстро спросил Леденцов.
– Как, как, да обыкновенно он выглядел, – проворчал Чигринский. – Просто я не сразу вспомнил, кто это. «Тебя», «меня…» Студент Агапов… или Иратов его зовут. Имя-отчество я запамятовал, можете у Прохора уточнить. Вчера как раз студент этот ко мне приходил, ну и…
Гиацинт затаил дыхание.
– Скажите, Дмитрий Иванович, а вы могли чем-то возбудить недовольство… или вражду господина Агапова?
– Еще как, – хмыкнул композитор. – Я ему дал понять, что его стихи никуда не годятся. А литераторы – они нынче о-го-го какие обидчивые… Помнится, мы с Нерединым как-то на дуэли чуть не подрались, когда я ему по дружбе сказал, что одна его элегия получилась ни к черту… Чуть до стрельбы дело не дошло. И главное – Алешка сам же потом признал, что стихотворение не получилось…
У Леденцова мелькнула мысль, что с такими друзьями, как Дмитрий Иванович, и никаких врагов не потребуется, но молодой сыщик благоразумно удержал ее при себе и, достав записную книжку, занес в нее только что полученные ценные сведения. Затем он передал композитору украшения, найденные в квартире, и попросил тщательно осмотреть их и сообщить, если что-то пропало. Однако Чигринский снова подтвердил, что все они на месте. Вновь выходило, что Ольгу Верейскую убили вовсе не по причинам материальным, хотя истинная причина ее смерти по-прежнему была окутана мраком. И Гиацинт впервые задумался над тем, что будет, если действия его и Амалии не дадут никакого результата. Молодой сыщик прекрасно знал, что пословица о том, что «все тайное становится явным», придумана в утешение и далеко не всегда соответствует действительности. Тем не менее он дал себе слово, что приложит все усилия, чтобы раскрыть эту тайну – любой ценой.
Глава 19 Гонец удачи
– Дядюшка, – сказала Амалия, входя в комнату к Казимиру, – я думаю, вам не следует ужинать с нами.
Дядюшка, воевавший с запонкой, которая почему-то никак не хотела застегиваться, почуял, что его хотят ущемить в правах, и приготовился возмущаться.
– Амалия, я же помню тебя с детства! Да что там с детства – с колыбели… Может, вообще прикажешь мне отселиться? – обидчиво добавил он. – В какую-нибудь богадельню? Благодарю покорно!
– Речь вовсе не об этом…
– А о чем? И учти: пел вовсе не я! Это господин Чигринский распевал так, что было слышно на всей набережной…
– Что, и гимн тоже?
– Конечно, – заявил дядюшка, глазом не моргнув. – Знаешь, как он назвал зеленый рояль моей любимой сестры? Крокодилом, вот как! И говорит мне: а давай-ка я сейчас сыграю на крокодиле…
Амалия не выдержала и расхохоталась.
– Мне кажется, дядюшка, – таинственно сказала она, отсмеявшись, – что сегодня вам не повредит пойти в ресторан.
Казимирчик понял, что ветер дул вовсе не туда, куда он полагал вначале, и насторожился.
– Я не люблю ресторанов, – томно молвил он, косясь на племянницу.
– Неужели?
– Конечно. Что я там забыл?
– А мне кажется, – заметила Амалия, – что именно сегодня вы очень хотите пойти в ресторан «Армида».
– Не хочу.
– Но в глубине души вы чувствуете такое желание.
Казимирчик задумался, словно и в самом деле прислушиваясь к тому, что творилось в глубине его души.
– Зачем мне какая-то «Армида»? Это же про нее говорят, что поблизости собаки даже лаять боятся?
– По-моему, эту шутку конкуренты в свое время пустили про московский «Яр», – отозвалась Амалия. – С уточнением насчет мясных пирожков или чего-то в этом роде.
– Все равно, плохой признак, – горько покачал головой шляхтич. – Нет, не хочу я ни в какую «Армиду».
– Но почему?
– Меня там отравят, – вздохнул Казимирчик.
– Зачем кому-то вас травить? У них французский повар…
– Из Варшавы или Казани?
– Уверяют, что из Парижа.
– А оркестр есть?
– Есть, и даже два.
– Опять ты меня втягиваешь во что-то непонятное, – закручинился дядюшка. – Сколько?
– Мгм… Сто рублей.
Казимирчик царственным жестом воздел руки.
– На эту сумму, – сообщил он, – я даже приличного зеркала разбить не смогу.
– Пан Казимир, – заворчала Амалия, теряя терпение, – ну зачем вам разбивать зеркало?
– А зачем мне тогда ходить в ресторан? – сделал ангельское лицо Казимирчик. – Ты гонишь меня на улицу в такую погоду…
– Снаружи прекрасная погода. Ни снега, ни дождя, и даже ветер стих.
– Даже ветер? Гм… Скажи-ка, а мы еще в Петербурге?
– Дядюшка!
– У них хотя бы есть что выпить? – поинтересовался Казимирчик. – Да или нет?
Тут Амалия, признаться, на несколько мгновений потеряла дар речи.
– После того, как вы – хорошо, на пару с господином Чигринским – выпили чуть ли не половину погреба…
– Так оно там стояло, только место зря занимало, – пожал плечами бессовестный дядюшка. – Триста.
– О!
– Может, мне придется подкупать народ, чтобы узнать то, что тебе нужно… Кстати, зачем ты вообще меня туда посылаешь?
– Вчера после десяти вечера некто звонил из ресторана в полицию и сообщил, что Дмитрий Иванович Чигринский убил свою любовницу, а я помогла ему спрятать тело. Сегодня чиновник сыскной полиции попытался разузнать приметы звонившего, но все говорили, что ничего не запомнили, а я им не верю. Вы, дядюшка, – наша последняя надежда.
– Это опасное задание, – задумчиво молвил Казимирчик. – Очень опасное.
– Вознаграждение в зависимости от результата, – быстро сказала Амалия.
– То есть?
– Если вы узнаете только приметы, двести рублей в придачу к тому, что я дам вам на ресторан. Если приметы и хотя бы имя – триста. А если и приметы, и имя, и где он живет – тогда пятьсот.
– А если ничего?
– Тогда только то, что на ресторан.
– Пятьсот. На ресторан.
И дядюшка Казимир сделал широкий жест, а Амалия вторично потеряла дар речи.
– Сто пятьдесят, – объявила она, переводя дыхание.
– Четыреста.
– Ну уж нет!
– Ну хорошо, двести, – пошел на попятный Казимирчик. – Как, интересно, меня сочтут там за своего, если я даже зеркало разбить не могу? Так что учти, если моя миссия провалится, виновата в этом будешь исключительно ты!
– О!
– И кстати уж насчет кареты. Я терпеть не могу наемные экипажи!
– Не волнуйтесь, дядюшка, – пообещала Амалия. – Экипаж привезет вас, будет дожидаться и отвезет обратно.
– Ну так-то лучше, – смилостивился Казимир и одним махом закрепил запонку именно так, как было нужно.
– А он не наплетет каких-нибудь небылиц, чтобы оправдать свой гонорар? – поинтересовался Александр, когда позже Амалия рассказала ему о задании, порученном дядюшке.
– Он знает, что со мной это бесполезно, – твердо ответила Амалия. – Но если ему ничего не удастся выяснить, значит, дело и впрямь глухо.
Получив аванс на ресторанное времяпрепровождение, Казимир приободрился, глотнул какой-то чудодейственной настойки, чтобы вернуть себе ясность мысли, закусил все большим куском хлеба с маслом (чтобы окончательно не опьянеть в дальнейшем, так как масло частично нейтрализует воздействие алкоголя), сбрызнул себя одеколоном и отправился на поиски приключений. Следует особо отметить, что на палец благородный шляхтич надел перстень со стекляшкой, который, однако же, смотрелся чрезвычайно выигрышно. Казимир не доверял новым местам, а потому в первый раз в незнакомое заведение предпочитал надевать фальшивые драгоценности.
У него не было ни то что плана, а даже намека на план, но он верил в свою счастливую звезду и, прибыв в ресторан «Армида», сел за столик и приготовился ждать. Стоит особо отметить, что место Казимир выбрал с таким расчетом, чтобы оттуда был виден висящий на стене телефон.
Минут десять, пока наш искатель приключений неспешно просматривал меню, он нет-нет да бросал взгляд на громоздкий ящик напротив, но к телефону никто не подходил и вообще, судя по всему, посетители им особо не интересовались. Кроме того, предусмотрительный хозяин повесил аппарат не у входа в зал, где им, возможно, пожелали бы воспользоваться любители дармовщинки, а в нише на противоположной стене, полускрытой двумя пальмами в кадках. Таким образом, чтобы позвонить, надо было пересечь весь зал, либо спуститься сверху, из приватных кабинетов, где наслаждались пищей – и частенько обществом дам легкого поведения – любители уединенного отдыха.
– Разрешите к вам присоединиться, сударь?
Возле одинокого Казимира уже нарисовалась особа с подведенными глазами и накрашенными губами. Судя по коже, ей было лет двадцать, а если судить по опытному, оценивающему взору – все сорок. Плечи у нее были голые, и платье вишневого бархата подчеркивало их белизну. Рот уже растянулся в зазывной улыбке, а взгляд продолжал ощупывать и оценивать сидящего за столиком. В руке трепетал веер из перьев марабу в тон платью, кружевные митенки[108] были уже слегка поношенные.
– О, какая удача! – вздохнул Казимир, бог весть отчего начав говорить с отчетливым польским акцентом. – А я-то как раз думал, кого мне тут не хватает…
И, опередив официанта, он встал и галантно отодвинул стул для дамы. Это не было рисовкой или расчетом – Казимир придерживался правила обращаться с женщинами вежливо, кем бы они ни были и по какой бы причине ни пожелали к нему обратиться.
– Меня зовут Роза, – кокетливо сообщила дама, садясь и складывая веер. – Но ты можешь звать меня как хочешь. А ты поляк? Я сразу поняла! Польские мужчины такие галантные… Что будешь заказывать?
Так, все понятно: ее работа – сначала заставить клиента раскошелиться на еду и выпивку, а потом уже обеспечить все остальные услуги.
– Здесь отличное шампанское! – оживилась Роза, играя плечиком. – Будешь?
И она уже качнула пальцем, подзывая официанта.
– Какое еще шампанское? – возмутился Казимир, который моментально сообразил, что его хотят с ходу раскрутить на самые дорогие напитки. – Я, между прочим, собираюсь на дуэль!
«Господи, – в смятении помыслил он, – что я такое ляпнул?»
Роза опустила карточку меню и посмотрела на Казимирчика недоверчиво. Этот маленький поляк с физиономией любителя хорошо пожить совершенно не походил на какого-нибудь любителя поединков, которому грозила опасность.
– Котик, да ты шутишь! – привычно капризным тоном протянула красавица. – С кем же ты дерешься?
– Еще не знаю, – вздохнул Казимир. – Это такая запутанная история, но мне бы только найти его…
– Тебя кто-то обидел? – спросила Роза, проявляя проблеск интереса.
– Меня обидеть трудно, – важно изрек Казимир. – Но оскорбление я привык смывать кровью… Вино будешь?
– Мне бы шампанского… – шепнула Роза, строя глазки.
– Шампанское потом, когда я его найду, – объявил Казимир. – Мне бы только понять, кто меня разыграл… Человек! Человек!
Он заказал бутылку вина в умеренную цену и игриво осведомился, чего можно взять поесть, чтобы не окочуриться.
– Обижаете, господин! – отвечал официант заученно бодрым тоном. – Повар выписан прямо из Парижа…
– Это мадемуазель выписана из Парижа, – парировал Казимирчик, игриво косясь на Розу, – а насчет повара я пока вовсе не уверен… Как тут в рассуждении трюфелей?
Вновь приободрившаяся Роза, чуя солидный счет, сообщила, что трюфели подают на загляденье.
– Трюфели, пожалуй, можно, – объявил Казимир. – Еще салат а-ля вьеннуаз, икры, только смотри, лежалую не смей подавать. Кулебяку по-московски, бёф де норманди с грибами… И душеньке того же самого, – заключил он.
– Смею порекомендовать уху-с, – наклонившись, интимно прошептал официант. – Наша уха чудо как хороша.
– Рыба? – Казимирчик скривился. – Да в ней костей не соберешь, в ухе твоей… Нет, не буду уху, – капризно сказал он и махнул салфеткой.
– А кто тебя разыграл? – спросила Роза, когда официант удалился.
– Меня?
– Да, ты говорил, что у тебя что-то случилось.
– Случилось? – поднял брови Казимирчик. – Представь себе, я невесту потерял. Богатую! И все из-за козней этих… этих…
– Бедный! – посочувствовала Роза. – А дуэль тут при чем?
– Потому что я буду мстить, – важно ответил ее собеседник. – Найду его и вызову на дуэль. Непременно! Он же мне, лайдак[109], из этого ресторана звонил.
– Котик, – капризно сказала Роза, обмахиваясь веером, – я ничего не понимаю.
– То, что со мной произошло, просто ужасно! – простонал Казимирчик. – Вот послушай: я же работаю с утра до ночи… – «Кем я работаю? Матка бозка, этого еще не хватало…» – Ну, не с утра до ночи, но я занят… И вот вчера вечером, в десять или около того, звонит мне домой какой-то пан и говорит, что моя невеста сейчас встречается… встречается с другим! – Казимир испустил душераздирающий стон и схватился за голову. – Боже! И я, бросив все дела, мчусь на другой конец города… к ней! А ее родители очень строгих правил… Я был вне себя, я был уверен, что она меня обманывает! И я там такого наговорил… Теперь мне отказали от дома… помолвка расторгнута! И только потом, хорошенько все обдумав, я понял, что меня самым невероятным образом провели… Один бог знает, удастся ли мне все поправить! И тот, кто звонил, наверняка рассчитывал, что я взбешусь от ревности и сам все испорчу…
«Интересно, – думал Казимирчик, яростно растирая глаза, – уже пора пускать слезу или нет?»
– Ну, ну, котик, – успокаивающе сказала Роза, похлопав его по плечу. – Ей-богу, она того не стоит… Давай лучше выпьем!
– Выпьем, душенька, выпьем, – тотчас же согласился Казимир, оставив глаза в покое. «Нет, еще не время заливаться слезами…» – Только, знаешь, я не злопамятный человек, но иногда я все-таки злопамятный… Я хочу его найти, того, кто мне позвонил и разрушил все мое счастье. Он мне за все ответит!
– Как же ты его найдешь? – спросила Роза, опрокидывая бокал с легкостью, которой позавидовал бы гусарский ротмистр.
– У меня есть подозрения, – важно ответил Казимир, принимаясь за еду. – Я имею понимание, кто мог желать мне зла… И главное – он звонил вчера из этого ресторана. Мне бы только понять, Лукашевич это был или Обнорский. Лукашевич – он высокий, брюнет и с усиками. Обнорский – низкий и блондин, но тоже с усиками. Они оба, как только меня встречают, прямо с уст источают мед… твое здоровье… но я-то знаю, что они лайдаки. О, они оба давно точат наглые зубы на панну Зосю и ее приданое…
Он разошелся до того, что вилкой в воздухе обрисовал воздушную фигуру несуществующей панны Зоси и более солидным контуром – размеры ее приданого. Да что там Зося – Казимир видел своих воображаемых соперников так отчетливо, что мог бы любому рассказать о них множество подробностей. Обнорский наглый, скалит зубы и за спиной отпускает грязные шуточки; Лукашевич говорит басом, щурит глаза и вечно недоплачивает по счетам. Роза призадумалась.
– Говоришь, вчера звонил? Поставишь шампанское, если я узнаю, кто это был?
– Поставлю. Слово дворянина!
– Самое лучшее?
– Три бутылки, – отважно объявил Казимир. Море ему было по колено, потому что Амалия все-таки раскошелилась не только на широкое гуляние, но и на разбитие зеркал без последующего занесения в протокол.
– Ух, как ты мне нравишься! – вскричала Роза в экстазе. – Не обижайся, пан, но коза твоя Зося… Щас мы мигом узнаем, кто тебе звонил.
Она завертелась на стуле, подозвала одного официанта, с бритым и наглым лицом, потом другого, худосочного и заморенного, затем кого-то из оркестра, а также девушку «от заведения», скучавшую в углу. Казимир поглядел на то, как блестят глаза Розы, как она спрашивает, кивает, улыбается, машет веером, смеется, запрокидывая голову, сообразил, что все двинулось в нужном направлении, и повеселел.
«И какого черта я взял трюфели? – думал он, механически жуя. – Я же терпеть их не могу. Вот икра – та совсем другое дело…»
– Слушай сюда, пан, – сказала Роза, нагибаясь через стол. – Короче, вчера вечером у телефона был газетчик Смолов, он часто тут вертится… Но Гришка-буфетчик говорит, что он был часов в девять, не позже, заметку диктовал. Потом офицеры напились и стали с пьяных глаз названивать чуть ли не во дворец… только скоро из кабинетов спустился какой-то полковник и так их приструнил, что они рады были убраться восвояси.
– У вас даже полковники бывают? – меланхолично спросил Казимирчик. – Как мне тут нравится!
– У нас и генералы бывают, – гордо ответила Роза, опрокидывая очередной бокал. Щеки ее порозовели. – Слушай дальше… Потом какая-то дама пожелала позвонить по телефону, спрашивала, благополучно ли кто-то добрался… была ли телеграмма о прибытии, а то Московско-Брестская железная дорога дело известное… пишется МБЖД, а все читают – моли бога живым доехать… – Казимир прыснул и налил Розе еще вина. – Затем к аппарату долго никто не подходил – это уже Мишка, наш половой, говорит. Потом… потом Коко пришел звонить, это уже после десяти было. Лизка… тьфу, Анжелика его немного знает, он иногда ее угощал, так, по мелочи…
– Что за Коко? – деловито спросил Казимир. – У Лукашевича, кстати, служит один Коко… лайдак, каких свет не видел…
– Да нет, котик, ты что… Он не служащий, ничего такого, и нигде не работает.
– Точно? – подозрительно спросил ее собеседник.
– Ну да!
– Откуда ж у него средства – ходить в такой прекрасный ресторан, как ваш? – недоверчиво хмыкнул Казимирчик.
– Откуда… откуда… Лиза… тьфу, Анжелика, чем он занимается?
– Да он мне не говорил никогда, – отозвалась с соседнего стола бледная, унылая, меланхоличная девушка, которую Роза недавно расспрашивала. – Как напьется, так вечно стихи читает, а где да что – ни гугу… Но деньги у него водятся, что есть, то есть.
– Панна! – закричал Казимир, – так не годится, ей-богу… Садитесь за наш столик, я вас угощу…
И он обтяпал все так ловко, что Роза оказалась по одну его сторону, а Лиза-Анжелика – по другую, ибо Казимир кое-что понимал в женщинах и знал, что в ресторанах между девушками существует жесткая конкуренция, стало быть, никак нельзя, чтобы они сидели рядом.
– Котик! – капризно вскричала Роза. – Ну что такое! Я буду обижаться…
– Зачем? У меня денег на всех хватит, а подругу тоже надо угостить… Человек!
Человек подлетел, принял очередной заказ и упорхнул, подмигнув Розе: вот хорошего-то клиента присмотрела, заведению одна выгода, и Лизка тоже не киснет в углу, как обычно…
– После Коко этого кто звонил? – допытывался Казимир. – Блондин или брюнет?
– Да нет! Машка… тьфу, Виолетта напилась и около одиннадцати стала чуть ли не на трубку вешаться… изображала, что сейчас позвонит жениху, и он ее заберет… А он умер уже давно… На нее иногда находит…
– Так это что, – потрясенно спросил Казимир, – ни Лукашевич, ни этот лайдак Обнорский мне отсюда не звонили?
– Котик! Ну я тебе это самое и пытаюсь втолковать… Не было их тут! Может, ты что перепутал, и они тебе из другого ресторана звонили?
– Я вижу, панна, что вы хотите меня провести, – заявил Казимир, шутливо грозя Розе пальцем. – Мне этот Коко очень даже подозрителен! Он наверняка человек Лукашевича… Как он выглядит вообще?
– Рожа как рожа, – ответила за подругу Лиза-Анжелика. – Вот, ей-богу, ни одной черты запоминающейся… Волосы соломенные, бороденка такая же… Молодой, лет двадцать пять ему… И ростом примерно с тебя, а может, чуть повыше.
– Нет, это какой-то другой Коко, – с сомнением протянул Казимирчик. – Или тот самый? Не помню я его физиономию, хоть убей… Он один за столом сидел, или с компанией был? Может, там поблизости где Лукашевич находился…
– Это который брюнет с усиками?
– Ну да, ну да…
– Нет, – отозвалась Лиза, – Коко был один, потом зашел еще какой-то, но не с усами, а с черной бородой. Бородатый быстро ушел, а Коко побежал к телефону… По-моему, так.
– Бородатый, значит, человек от Лукашевича? Да нет, что-то не похоже… – Казимир встрепенулся. – А о чем Коко по телефону говорил? Не упоминал ли панну Зосю, к примеру? Нет?
Роза снова стала подзывать официантов и совещаться. Казимир терпеливо ждал, не забывая наливать обеим девушкам и почаще улыбаться.
– Э как гуляет-то! – уважительно сказал какой-то купчина за соседним столом. – Мы тут сидим, как раки на мели, а он аж двух облапил, и ничего…
Казимир услышал эти слова и приосанился.
– Да не слышали наши, о чем он там болтал, не до того им было, – сказала Роза с досадой, переговорив чуть ли не со всеми официантами. – Тогда в зале две компании подрались… еле разняли их. Мы на случай драки форменных медведей держим, – пояснила она, – все бывшие бойцы, забаловать не дадут. Наш хозяин не любит, когда к нам полиция приходит…
– Правильно не любит, – согласился Казимир. – Ваше здоровье! Жаль, конечно, что он так незаметно прошмыгнул, и никто его разговор не слышал… Я б его проучил за мою Зосю!
– Да она уже вроде как не твоя, – хмыкнула Лиза-Анжелика.
– Так-то оно так, да все равно обидно! Такое приданое упустил… Ну, не будем о грустном – ваше здоровье!
Впрочем, когда принесли шампанское, Казимир не оставил осторожных попыток разведать, что это за Коко такой был, как его, в сущности, зовут и где он обретается. В ответ ему пришлось выслушать длинную и подробную историю жизни Лизы-Анжелики, а также Розы, которую на самом деле звали Фросей. В обеих историях присутствовали в больших количествах обманы, коварные мужчины, нежелание гнуть спину на фабрике за гроши и гнусная, беспросветная нищета. Впрочем, помимо этих историй Казимиру удалось также узнать и кое-что о таинственном Коко, который декламировал стихи о потоке, который невозможно перейти, и частенько посещал бега, причем как-то раз проговорился, что до ипподрома ему было рукой подать. Однако ни точного его адреса, ни точного имени никто в ресторане не знал, и со вчерашнего дня он в «Армиде» не появлялся. Казимир даже выставил лишние полдюжины бутылок шампанского, чтобы освежить память тем, с кем беседовал, но это привело лишь к тому, что Роза без всякого стеснения уселась к нему на колени, а Лиза заявила, что он душка и она готова с ним хоть на край света, только сначала ей надо припудриться и попрощаться с мамашей.
…В четвертом часу утра кучер баронессы Корф привез обратно на Английскую набережную господина, при виде которого небезызвестный мистер Дарвин усомнился бы, а воистину ли человек успел произойти от обезьяны, или все же процесс застрял где-то в самом начале. Когда дверца распахнулась, Казимирчик чуть не свалился плашмя на тротуар, но кучер был человек бывалый, прошедший всю войну против турок, и, подхватив растрепанного шляхтича под мышки, аккуратно втащил его в дом.
На тихий вопль Аделаиды Станиславовны, которая так и не заснула, предчувствуя неладное:
– Господи! Что здесь творится?! – Казимир с усилием приподнял голову и строго ответил:
– Ты ничего не понимаешь, женщина, – я выполнял ответственное задание!
Затем он рухнул на бок и проспал счастливым сном до самого полудня.
Глава 20 Мимолетное виденье
В Петербурге бывает так: тянется унылая череда зимних дней, тащится, плетется, и позавчера пасмурно, и вчера пасмурно, и неделю назад мело, и вроде как собирается мести на следующей неделе – и вдруг все, решительно все меняется. Снег тает на глазах, облака из пышных и подушечных превращаются в кудрявых озорных барашков, тротуары выползают из-под корки льда, и солнце начинает светить так примерно, словно весна метлой выгнала его из чулана, где оно пряталось. И воробьи, которых зимой не было ни видно, ни слышно, начинают верещать с удесятеренной силой:
– Весна! Весна! Чирик-чирик! Дождались, дождались!
Дмитрий Иванович Чигринский проснулся в своем доме на Гороховой улице от возни воробьев за окном и почти сразу же вспомнил, что ему приснилось что-то важное. Увы, птичий гомон сбивал его с толку и мешал сосредоточиться.
– Прошка! – страдальчески взвыл композитор.
Дверь тотчас же отворилась, и на пороге возникла тощая сутулая фигура слуги.
– Почему они так орут? – требовательно спросил Чигринский.
– Так ведь время уже к полудню, сударь, – с достоинством ответил Прохор.
– Врешь!
– Ей-богу. Одиннадцать с четвертью, если быть точным.
Чигринский тихо застонал. Мысль его блуждала по событиям недавних дней, и внутренним взором он видел то удивленное лицо Оленьки, то зеленый рояль, то какой-то стол, уставленный бутылками, то баронессу Корф в розовом платье, расшитом серебром.
– Меня не спрашивали? – на всякий случай спросил он.
Прохор поджал губы.
– Были кое-какие посетители, незначительные. Но я их всех выпроводил.
– М-м, – неопределенно промолвил Чигринский, почесывая голову. – Знаешь, Прохор Матвеич, а меня ведь и арестовать могут.
– За что?
– Ольгу Николаевну убили, а я ее нашел. Могут подумать, что это я ее… того.
Прохор в изумлении открыл рот, но сказал только следующее:
– Я велю Мавре, чтобы она завтрак по новой приготовила. Ни к чему вам холодное есть.
Он повернулся к двери, но, прежде чем выйти, добавил твердым голосом:
– Бог даст, все образуется, Дмитрий Иванович.
«Что же мне приснилось?» – подумал обеспокоенный композитор, не слушая его.
После завтрака он удалился в самую большую комнату в доме – библиотеку, в которой были собраны труды по теории и истории музыки, ноты, партитуры, биографии композиторов – словом, чуть ли не все выпущенные за последний век книги, имеющие отношение к музыке. Чигринский – что греха таить – был не прочь небрежно уронить в кругу знакомых, что сам он знает толк только в музыке и лошадях, а к языкам способностей не имеет. Но что бы он ни говорил, это не мешало ему читать о Верди по-итальянски, о Моцарте по-немецки, о Шопене по-польски и о Бизе – по-французски. Он никогда не упускал случая расширить свой профессиональный кругозор, и хотя всем инструментам на свете предпочитал фортепьяно, умел играть также на скрипке, на флейте, на корнет-а-пистоне, а при случае на барабанах и даже на органе.
Слоняясь вдоль книжных шкафов, рядом с которыми он почти физически ощущал, как на его душу опускается спокойствие, Чигринский набил трубку и, пуская клубы дыма, стал бубнить себе под нос попурри из самых разнообразных военных маршей. Скрипнула дверь – верный Прохор принес почту.
– Колокольчик! – неожиданно сказал Чигринский, круто обернувшись к нему.
Прохор вытаращил глаза.
– Теперь я вспомнил, это был колокольчик, – снисходительно объяснил Дмитрий Иванович, еще более все запутав. – Прошка, у нас есть колокольчики?
– Какие именно колокольчики вам угодно? – спросил слуга, пытаясь сообразить, к чему клонит его хозяин.
– Которые так нежно-нежно звенят. Диннь! Не дзеннь, без этого мерзкого позвякивания, а… понимаешь… чтобы тон был такой чистый. Найдешь?
Прохор объявил, что постарается, и минут через десять перед Дмитрием Ивановичем лежала дюжина самых разных колокольчиков, извлеченных из разнообразных закутков дома.
– Нет, этот надтреснутый, – бормотал Дмитрий Иванович, пробуя колокольчики один за другим. – А этот так вообще пьяница, ишь, какой хрипатый! Не то… не то… Скажи, а хрустальных колокольчиков у нас не найдется?
Прохор впал в задумчивость, объявил, что мигом обернется, и пропал на полтора часа. Вернувшись, он торжественно разложил перед Чигринским штук пять хрустальных и стеклянных колокольчиков.
Увы, их звук совершенно не устроил Дмитрия Ивановича – то стенки слишком толстые, то язык, намертво закрепленный, даже не в состоянии производить звон. Поняв, что у него ничего не получается, Чигринский впал в ярость.
– В этом городе!.. столице империи!.. есть, в конце концов, хоть один пристойный колокольчик? Я не понимаю, я что, слишком многого прошу? Черт знает что такое!
И он стукнул трубкой о стол с такой силой, что сломал ее, из-за чего впал в еще большую ярость, побагровел и запустил пальцы обеих рук в волосы, отчего они стали дыбом.
– Дмитрий Иванович… – сказал Прохор дрожащим голосом.
– Стой! Что это там на полке?
– Где? – Слуга быстро повернулся к шкафу.
– Да вон же, вон, возле портрета Мусоргского с дарственной надписью! Это не колокольчик?
– Колокольчик, – обрадованно закивал Прохор.
– Откуда он тут взялся?
– Вам Елена Владимировна Кирсанова его поднесла когда-то, в подарок.
Чигринский скривился. Он терпеть не мог певицу Кирсанову, которая была прежде любовницей Алексея Нередина и, как считал Дмитрий Иванович, причинила тому немало неприятностей. Бросив Нередина, Кирсанова сделала попытку переключиться на Чигринского, но он не выносил женщин этого типа и без всяких околичностей прекратил с ней всякое общение.
– Наверняка дрянь, – сказал Чигринский вслух, имея в виду колокольчик. – Дай-ка его сюда!
У этого стеклянного сувенира, привезенного из невесть какого угла Европы, стенки были сделаны из стоящих друг на друге зигзагообразных трубочек, между изгибами которых оставались пустоты. Чигринский поднес колокольчик к уху и протяжно прозвонил.
– А-га! – удовлетворенно объявил он. – Слышишь, как звенит?
– Прекрасный колокольчик, – подтвердил Прохор. По правде говоря, он сгорал от любопытства, пытаясь понять, что, собственно говоря, происходит.
И Чигринский открыл уже рот, чтобы объяснить, что сегодня ночью ему приснился звон колокольчика, такой чудесный, такой нежный, что когда Дмитрий Иванович проснулся, то решил отыскать в точности такой же колокольчик… Но тут затрещал звонок входной двери, и Прохор метнулся в переднюю.
– Дмитрий Иванович, к вам Спиридон Евграфович Вахрамеев, – доложил слуга, вернувшись. – Уверяет, что это срочно, что он ненадолго и не будет отрывать вас от дела.
– Сколько слов, – весьма кисло пробурчал Чигринский. – Ладно, веди его в гостиную, а я пока переоденусь.
Визит редактора пробудил в его душе самые скверные предчувствия – настолько скверные, что и колокольчик, и чудесный звон, привидевшийся во сне, разом вылетели у Чигринского из головы. Он облачился в парадный шлафрок с павлинами и вышел к редактору, который показался ему подозрительно взволнованным.
– Дмитрий Иванович… Рад видеть вас в добром здравии… Моя жена в восторге от вашего «Петербургского каприччо…» А ваша последняя соната – просто прелесть!
Последнюю сонату Дмитрий Иванович считал гадостью, пошлостью и вообще своей личной неудачей, поэтому, когда он попытался улыбнуться в ответ на комплименты редактора, эта улыбка получилась похожей скорее на нервный тик.
– Я понимаю, что отрываю вас от дел… мы все занятые люди… – заторопился редактор. – Должен вам сказать, Дмитрий Иванович, что у вас есть враг.
– У меня? – проскрежетал композитор.
– Да. Вот, полюбуйтесь, что прислали в мою газету… Конечно, это мерзкая анонимка, но писал человек явно образованный… выбор слов выдает, так сказать…
И Вахрамеев извлек из кармана сложенный вчетверо листок и протянул его Чигринскому. Насупившись, Дмитрий Иванович развернул письмо и увидел несколько ровных строк, выведенных печатными буквами.
В сущности, ничего нового тут не было. Его в который раз упорно обвиняли в том, что он убил Ольгу Верейскую и пытался спрятать ее труп.
– Как поживает Ольга Николаевна? – игриво спросил Вахрамеев.
И тут, стыдно сказать, Чигринский не удержался.
– Вам бы так, – мрачно буркнул он.
Но так как Вахрамеев давно знал «этого медведя», как он в кругу знакомых величал Чигринского, и так как в прессу до сих пор не просочились сообщения о гибели Ольги, редактор не обиделся и даже хихикнул.
– Смотрите, Дмитрий Иванович! Я решил, так сказать, лично доставить, а то мои репортеры народ ушлый… Глаз да глаз за ними, а то возьмет какой-нибудь такой паршивец анонимку в оборот и насочинит с три короба…
– Шею сверну, – уронил Чигринский, играя желваками.
– Кому, газетчику?
– И газетчику, и вам.
– Хи-хи! – в экстазе хихикнул Вахрамеев, блестя стеклами очков. – Да уж, мне известно, что нрав у вас крутой, батенька… – Он огляделся. – Прекрасное у вас жилье, только вот женской руки не хватает. Уют, понимаете, уют! Вам бы остепениться, жениться…
– Вы будете на вечере у баронессы Корф? – в отчаянии спросил Чигринский, чтобы прервать этот поток благоглупостей.
– Гм… Весьма возможно… А что, вы тоже туда собираетесь? Вы же как-то говорили, что вас калачом в такие места не заманишь…
– Ну, Спиридон Евграфович, все на свете меняется, – загадочно изрек Чигринский. – Тогда до завтра, а сейчас, простите, мне пора работать… Спасибо за то, что предупредили насчет письма.
– Кому другому я бы ни за что такой услуги не оказал, но вам – завсегда! Будьте здоровы, богаты и веселы, батенька… – по своему обыкновению, заключил редактор.
Однако, выйдя из дома композитора, он призадумался.
«Почему это он заговорил о баронессе Корф, едва я упомянул насчет женитьбы? Любопытно… очень даже любопытно! Уж не собирается ли он на ней жениться? А что – она в разводе, он холост… как говорится, хоть завтра кричи горько!»
И эта мысль так крепко засела в голове Вахрамеева, что он, едва заявившись в редакцию, вызвал к себе одного из самых шустрых сотрудников и велел ему срочно навести справки, нет ли чего между Дмитрием Ивановичем и непредсказуемой баронессой Корф. Получив ответ, что с композитором она едва знакома, а вот муж, с которым баронесса в разводе, ездит к ней довольно-таки часто, Вахрамеев лишь пожал плечами.
– Муж, голубчик, это совсем не то… На одних мужьях мы далеко не уедем!
Окончательно решив, что никакого интересного материала он из баронессы Корф не вытянет, редактор взял пачку телеграмм с последними известиями и стал, как обычно, собственноручно править их для отправки в печать.
Глава 21 Способ исцеления раненого самолюбия
Пока Спиридон Евграфович редактировал бури, добавлял подробностей в землетрясения и объяснял читателям, в каком платье принцесса Чанг Пинг Понг вышла замуж за принца Дзынь Вынь Встань, сыщик с цветочным именем успел навести у Прохора кое-какие справки и теперь уверенно шел по следу Модеста Трофимовича Арапова, студента и стихотворца, который мог затаить на беспечного композитора лютую злобу за то, что тот не признал его поэзию гениальной, и задался целью жестоко отомстить ему. Скажете, чепуха? Но в памяти Леденцова были еще свежи воспоминания о том, как одна поэтесса, очаровательная женщина во всем, что не касалось ее творчества, попыталась сжить со света известного критика, который всего лишь в дружеской компании признал ее стихи негодными для цивилизованного употребления, – и ведь тогда, кстати сказать, едва не дошло до смертоубийства. Авторское самолюбие – вещь ужасно ранимая, хотя, когда речь заходит о произведениях других авторов, ранимые творцы почему-то с легкостью раздают ярлыки «бездарно», «скучно», «плохо» и «никуда не годится». Поэтому неутомимый Гиацинт Христофорович решил, что ни в коем случае не будет упускать Арапова из виду и уж, по крайней мере, добьется от него объяснения, с какой такой стати он шел по петербургским улицам за мирно гуляющим Чигринским и какую цель при этом преследовал.
По расчетам Леденцова, Модест Трофимович должен был с утра находиться на занятиях, но на всякий случай сыщик решил все же навести справки у дворника. К удивлению Гиацинта, тот сообщил, что студент вроде как приболел и сегодня никуда не пошел, а его матушка очень о нем беспокоится.
– Золотая женщина, – с уважением сказал дворник. – Все для сына делает, да и он, надо сказать, оченно для нее старается. И учится хорошо, не то что лоботрясы некоторые…
Арапов становился все подозрительнее и подозрительнее – не потому, само собой, что хорошо учился, а потому, что слег в постель аккурат после убийства Ольги Верейской. Душа Леденцова затрепетала: неужели?.. Перепрыгивая через две ступени, он взлетел на предпоследний этаж и постучал в дверь квартиры, в которой жили Араповы.
Отворившая дверь маленькая горничная с длинной косой, уложенной вокруг головы, очевидно, спутала прыткого сыщика с кем-то, потому что сказала: «Пожалуйста, доктор, входите, мы вас очень ждали. Заболел молодой наш барин, прихворнул, а что с ним такое да как его вылечить – ничего не понятно…»
И через минуту Леденцов очутился в длинной, довольно тесной комнате, в которой, судя по всему, жили исключительно книги. Книг было анафемски много, и они выглядывали отовсюду: из шкафов, со стола, со стульев и даже из-под подушки на кровати. Люди, возможно, допускались сюда и даже могли здесь задержаться, но при условии не мешать основным жильцам и всячески уважать их права.
Впрочем, в это мгновение Гиацинта интересовал только один человек, который лежал на кровати и вид имел настолько страдальческий, что подозрения сыщика нечувствительно стали обращаться в уверенность.
– Мне очень жаль, что вас побеспокоили, доктор, – промолвил Арапов, глядя куда-то в потолок. – Я совершенно здоров, только не вполне хорошо себя чувствую. Но ведь это с каждым случается, не так ли?
– Я не доктор, – сказал Леденцов, доставая записную книжку. – Я из сыскной полиции. – И он представился, не уточняя, впрочем, зачем ему понадобилось видеть Арапова.
Если Гиацинт рассчитывал на какую-то особенную реакцию, то его ждало разочарование. Услышав, что гость – полицейский, студент лишь перевел на него взгляд и вяло приподнял брови.
– В самом деле? И что же привело вас ко мне? Если вы по поводу утюга, который у нас украли в прошлом году…
– Нет, – отрезал Леденцов, не давая сбить себя с толку. – Я пришел к вам поговорить о Дмитрии Ивановиче Чигринском.
– Боюсь, я недостаточно хорошо знаком с этим господином, чтобы обсуждать его персону с полицией, – довольно-таки колюче заметил Модест.
– Но вы все же с ним знакомы?
– Весьма поверхностно. Я попросил его надписать карточку для матери. Она любит его мелодии.
– А вы?
– Что – я?
– Как вы относитесь к господину Чигринскому?
– Я уже сказал: я недостаточно хорошо его знаю, чтобы делать о господине Чигринском какие-то выводы.
– Отлично, давайте тогда поговорим о вашем знакомстве. Вы приходили к нему позавчера?
– Да. В университете была скучная лекция, и я решил, что могу ее пропустить.
– Каким вам показался господин Чигринский?
Арапов побагровел.
– Послушайте, господин Леденцов…
– Я уже слушаю вас, и очень внимательно.
– Вам не кажется, что ваши методы попахивают инквизицией? – пылко спросил студент. – Если уж вы знаете, что я был у этого господина… то знаете и то, как он меня встретил… и что он сказал о моих стихах! – В голосе Модеста зазвенела неподдельная обида.
– Вы были задеты его суждением?
Арапов помрачнел.
– Я не спал всю ночь… Утром меня начало знобить. Мама встревожилась, послала за доктором… Но я не могу ей сказать, что я вовсе не болен, просто дело в этом… в человеке, которого она считает замечательным композитором, а он всего-навсего… пшик! Модный музыкант… Мода пройдет, его мелодии никто и не вспомнит…
– Тогда я, простите, не понимаю, почему вы так на него обиделись, – мягко заметил Гиацинт. – Если он, как вы говорите, пшик и вообще не композитор…
В словах сыщика просматривалась определенная логика, но бог весть отчего студент, услышав их, надулся.
– Может быть, и так… но, согласитесь, как-то неприятно выслушивать про стихи, излившиеся из твоего сердца… стихи, на которые ты потратил столько фантазии, столько в них вложил… А он говорит – они ничего не стоят! И я, получается, не поэт… Зачем тогда жить? Зачем на что-то надеяться, чего-то ждать, когда… когда…
На его глазах выступили слезы. «Бог ты мой, – подумал изумленный Гиацинт, – а дело-то, оказывается, куда серьезнее, чем я думал…»
– Что вы делали после того, как ушли от господина Чигринского?
– Ничего. Гулял.
– По петербургским улицам?
– Ну, – протянул Модест, и по блеску его глаз сыщик понял, что студент заготовил для него нечто язвительное, – знаете, как-то затруднительно гулять по московским или тверским улицам, когда сам находишься в Петербурге…
– Правда ли, что вы какое-то время следовали за господином Чигринским, которому также в голову пришла фантазия погулять по улице?
Тут Арапов как-то нервно заерзал на кровати и стал кутаться в одеяло.
– Мгм… Так он что же, принес на меня жалобу? Однако он еще хуже, чем я думал…
– Никто на вас не жаловался, просто в этот день с господином Чигринским произошла серьезная неприятность, и мы проверяем все обстоятельства. Скажите, когда вы шли за ним, вы не заметили чего-нибудь особенного?
– Особенного? – изумился студент. – Где? В чем?
– Я не знаю. Возможно, вам что-нибудь показалось странным…
– Разумеется, показалось, – обидчиво пропыхтел студент. – К нему кто ни попадя подходил просить автографа… Вот что журнальная слава делает, когда ваши фотографии в прессе публикуют…
Леденцов не знал, что можно на это ответить. Сказать, что существует множество особ, портреты которых печатают в журналах куда чаще и к которым не то что за автографом, а даже за подаянием никто не подходит? Хороший довод, но сильно он поможет незадачливому стихотворцу, зацикленному на своей обиде?
– А что с ним случилось? – с надеждой спросил Модест.
Гиацинт развел руками и сделал каменное лицо. Тайна мол, следствия…
– Он соблазнил чью-то жену, и его побили? – вдохновенно предположил студент. – Поэтому в газетах ничего нет?
Тут, признаться, Леденцов на мгновение утратил дар речи.
– А…
– Я так и подумал, что дело неладно, – объявил студент, оживляясь. – Потому что с Гороховой до Фонарного он мог дойти куда короче, а вместо того сделал крюк на набережную Невы… И еще этот человек в карете…
– Что за человек? – насторожился сыщик.
– Откуда же мне знать? Такой… серьезный, с черной бородой…
– Борода на пол-лица?
– Да-да, – обрадованно закивал Арапов, – это он! Я бы не обратил на него внимания, но он ехал в карете навстречу Чигринскому, а потом развернулся и стал двигаться за ним, словно следил…
– Вот как? Не помните, где именно это было?
– Недалеко от дома в Фонарном переулке. Дмитрий Иванович, стало быть, вошел, а карета остановилась примерно в сотне шагов, у тротуара… А сильно господин Чигринский пострадал?
– Вы вынуждаете меня раскрыть тайну следствия, – промямлил Леденцов. – Мне начальство строго-настрого запретило…
При слове «начальство» он почему-то подумал об Амалии Корф и смешался окончательно.
– Скажите, вы больше не заметили ничего подозрительного?
– А что еще я мог заметить? – пожал плечами Модест. – Он вошел в дом, а я подумал, что выгляжу глупее некуда, и поспешил домой.
– Вы можете объяснить, зачем вы вообще последовали за Дмитрием Ивановичем?
– Конечно, могу. Я хотел заставить его переменить свое мнение… Хотел прочитать ему еще свои стихи, – с надеждой добавил студент.
Тут, надо сказать, видавший виды сыщик утратил дар речи вторично.
– Разумеется, ни к чему хорошему это бы не привело, – вздохнул Арапов, который по-своему истолковал молчание собеседника. – Что такие, как этот Чигринский, понимают в поэзии? Поэтому все, что в наши дни остается поэту, это уповать на время, которое все расставит по своим местам…
В дверь постучали, и через мгновение на пороге показалась опрятная старушка. Бывают физиономии, на которых крупными буквами написано: злодейство, но куда реже встречаются лица, которые только увидишь и сразу же поймешь, что перед тобой очень чистый, очень хороший и по-настоящему добрый человек. Каждая морщиночка матери Арапова источала доброжелательность, приветливость и заботу. Седоватые волосы слегка вились у висков, а в руке она осторожно держала небольшой поднос, на котором стоял стакан с каким-то настоем.
– Модестушка… Что сказал доктор?
– Это не доктор, – смущенно пробормотал студент, – это, гм…
– Брат одного из однокурсников, – быстро подсказал Гиацинт. Было просто немыслимо в присутствии такой женщины разговаривать о полиции, расследовании и прочей грязноватой суете.
– Да, – подтвердил Модест, – он пришел, чтобы рассказать мне о лекциях, которые я пропустил…
Узнав, что Гиацинт некоторым образом приятель Модеста, старушка оживилась, присела на край кресла (остальная его часть была оккупирована какими-то многомудрыми справочниками) и стала в подробностях рассказывать, как ее сын неожиданно прихворнул, как он напугал ее и служанку Глашу, как доктор Налимов не мог поставить диагноз и объявил, что опасности вроде бы нет, но больному надо беречься, а теперь она послала за другим доктором, этот уж немец и наверняка определит, что за болезнь сразила ее ненаглядного сыночка.
Слушая, как мать расписывает его недомогание, причиной которого было всего лишь задетое самолюбие, Арапов сердито засопел, откинул одеяло и полез прочь из кровати.
– Модестушка! – всплеснула руками добросердечная старушка. – Так тебе же доктор не велел вставать…
– Ну что вы, мама, честное слово, – заворчал сын, – здоров я, здоров, только немного… гм… прихворнул… может, с шапкой промахнулся – весна в Петербурге коварная, как… как европейская политика…
– Это вы его поставили на ноги? – изумилась мать Арапова, поворачиваясь к Леденцову. – Ведь он после вашего прихода так воспрянул… Гляди-ка, и румянец на щеках появился! Никак и впрямь выздоровел?
И, чуть не плача от радости, она отправилась сообщать радостную весть горничной, которая, судя по всему, была чем-то вроде члена семьи. Гиацинт воспользовался уходом старушки, чтобы расспросить Арапова о том, не запомнил ли он приметы кареты, в которой ехал бородач, или хотя бы кучера.
– Мне кажется, это был не наемный экипаж, – подумав, ответил студент. – А кучер был как кучер. Но я особо к нему не присматривался, просто мне показалось странным, что карета едет за Дмитрием Ивановичем… Конечно, я не сомневался, что у него должны быть враги… с его-то обхождением с людьми… но я даже не думал, что дойдет до такого…
Его глаза блестели, лицо разрумянилось, он прямо весь лучился довольством. Гиацинт подумал, что станет с Араповым, если он узнает, что Дмитрий Иванович не пострадал, по крайней мере, физически, – и благоразумно воздержался от того, чтобы сообщать ему эту новость.
Посмотрев на часы, сыщик спохватился, что Амалия, должно быть, уже давно его ждет, и, сославшись на неотложные дела, отклонил приглашение Араповой пообедать у них. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что в тот день воспрянувший духом Модест ел за двоих, так что мать не могла нарадоваться на его аппетит.
Глава 22 Особый агент в действии
Как уже упоминалось, Казимир проспал до полудня, но это верно лишь отчасти. В полдень он приоткрыл глаза, решил, что действительность не заслуживает того, чтобы на нее смотреть, и со стоном перевернулся на другой бок. Через минуту он благополучно уснул вновь.
Пока неугомонный искатель приключений пребывал в объятиях Морфея, а выражаясь языком современным, дрых без задних ног, в большой гостиной Аделаида Станиславовна пыталась образумить свою дочь.
– Дорогая, – сказала с достоинством немолодая дама, – я буду тебе чрезвычайно признательна, если ты оставишь моего брата в покое и перестанешь придумывать для него всякие поручения. Это добром не кончится, поверь мне!
В свою защиту Амалия сказала, что задание, которое она подыскала для Казимирчика, самым лучшим образом подходило его натуре, и вообще было не похоже на то, что дядюшка как-то пострадал при его выполнении.
– Впрочем, – добавила бессердечная племянница, – даже если он пострадает, я не думаю, чтобы это была такая уж большая потеря.
Аделаида Станиславовна нахмурилась.
– Это было грубо и недостойно тебя, – сказала она после паузы, и ее голос дрогнул.
– Прости, – проговорила Амалия, уже раскаиваясь, что перегнула палку и зашла слишком далеко. – Но когда я вижу таких людей, как мой дядя, которые ничего не делают, не служат никакому делу, вообще ни для чего не пригодны…
Она не стала продолжать, но все и так было понятно.
– Ты говоришь, что он ни для чего не пригоден, а сама посылаешь его собирать информацию, – заметила Аделаида Станиславовна, стараясь говорить спокойно, хотя на самом деле была очень рассерженна. – Должна тебе сказать, что мне не нравится эта твоя черта – судить всех, и даже самых близких.
– Я? Сужу? – Амалия пожала плечами. – Нет. Я не закрываю глаза на недостатки, только и всего. Впрочем, если ты мне докажешь, что дядюшка Казимир – полезный член общества, я буду только рада.
Мать вздохнула. Она понимала, что вести беседу о достоинствах и недостатках ее брата – все равно что ступать по раскаленному лезвию: как ни старайся, все равно сорвешься.
– Довольно об этом, – сказала Аделаида Станиславовна, однако сдаваться она вовсе не собиралась. – Может, я не права, но он мой брат, и я буду всегда защищать его, что бы он ни сделал. Но я уверена, он достаточно умен и никогда не сделает ничего такого, чтобы я краснела, защищая его, – добавила она.
Тут, по счастью, Маша доложила о приходе Гиацинта Леденцова, и мать Амалии ухватилась за этот предлог, чтобы поставить в разговоре точку.
– Ну, не буду вам мешать, – заявила она и удалилась, шурша платьем.
Молодой сыщик рассказал баронессе Корф все, что ему удалось узнать. Выслушав его, Амалия впала в задумчивость.
– Свидетельство господина Арапова очень важно, – сказал Леденцов. – Оно подтверждает, что имеется некий заговор, направленный против Дмитрия Ивановича Чигринского. В этом направлении я и предлагаю работать.
Амалия взглянула на него непонимающе.
– Заговор? Нет, этого не может быть…
Тут, признаться, Леденцов изумился. С его точки зрения, фраза звучала слишком по-дамски и как-то беспомощно – одним словом, совершенно не в духе Амалии. Кроме того, именно баронесса Корф первой выдвинула гипотезу, что некто хочет погубить композитора. Почему же сейчас она отказывается признать очевидное?
– Мы что-то упустили, – сказала Амалия, недовольно качая головой. – Что-то очень важное, и из-за этого вся картина искажается. Заговор? Нет, не то. Я уважаю и ценю Дмитрия Ивановича, но он не та персона, ради которой станут прилагать столько усилий.
– Тогда в ком же дело? – спросил Леденцов, чувствуя, что начинает сердиться. – В Ольге Верейской? Простите меня, сударыня, но она была еще более незначительной личностью, если можно так выразиться…
Тут он услышал за дверями какой-то странный звук, нечто среднее между стоном и рычанием – и похолодел.
– Третий или третье, – сказала Амалия, не обращая на разносившийся по дому рев никакого внимания. – Весь вопрос в том, кто это – или что это. С самого начала, Гиацинт Христофорович, с нами играют в игру. То, что нам пытаются внушить, это вовсе не то, что есть на самом деле. Все как будто вертится вокруг Верейской и Чигринского… значит, в действительности дело вовсе не в них. Бородач с собственным экипажем и кучером, судя по всему, и есть тот человек, который убил Ольгу Николаевну, затем отъехал и стал следить, что предпримет Дмитрий Иванович… А так как Чигринский обманул их ожидания, понадобился звонок в полицию, чтобы его изобличить. А если бы не было звонка, тогда что? Тело бы все равно нашли, установили факт убийства, стали искать, кто ее убил… Нет, не так…
Одна створка дверей с душераздирающим скрипом приотворилась, и в образовавшуюся щель вползло видение, отдаленно напоминающее дядюшку Казимира. Он ступал нетвердо и на каждом шагу страдальчески щурился.
– Кажется, я не вовремя… – Леденцов приподнялся с кресла, сгорая от мучительной неловкости.
– Сидите, сидите, – махнула веером Амалия. – Дядюшке вчера пришлось нелегко. Дело в том, что я послала его в ресторан «Армида», проверять, действительно ли никто ничего не запомнил о человеке, звонившем в полицию.
Тут, честно говоря, самолюбивый Гиацинт ощутил укол обиды.
– Сударыня, если вы считаете, что я плохо справляюсь со своим делом…
– Я вовсе так не считаю, – живо отозвалась Амалия. – Но вы – полицейский, а люди не любят лишний раз откровенничать с полицией. Поэтому я решила подстраховаться и… Дядя, у нас гость.
– Премного благодарен, – невпопад промямлил Казимир. После вчерашнего ему страшно хотелось пить, и он набросился на графин с водой так, словно месяц, если не больше, провел под палящим солнцем пустыни. У Леденцова невольно мелькнула мысль, что громкие булькающие звуки, которые издавал пьющий Казимир, могла издавать разве что мучимая жаждой лошадь.
– А… м… э… – промычал дядюшка, отрываясь от графина (он пил прямо из него, не опускаясь до стакана или чашки). – Амалия, я требую возмещения морального ущерба!
И он с размаху повалился в кресло, которое не заскрипело даже, а как-то заскрежетало.
– За что? – поинтересовалась племянница (которая, надо признаться, ожидала требования в этом роде).
– Ты послала меня в притон! – горестно объявил Казимир. – Там такое дрянное вино… И этикетки наверняка переклеенные! Я заметил на одной ошибку во французском, а на французских винах ошибок быть не должно…
– Дядя, кто же заставлял вас пить вино? Есть же, в самом деле, чай…
– О!
– Кофе!
– Ты меня погубишь!
– Лимонад, наконец…
– Амалия, я что, ребенок, пить лимонад? – жалобно вопросил Казимирчик. – Я и в детстве его терпеть не мог… И вообще в этом притоне у меня увели кольцо… с бриллиантом…
– Полно, дядюшка, я же прекрасно знаю, что бриллиант был фальшивый. Ни за что не поверю, что вы… Ну хорошо, хорошо! – быстро поправилась Амалия, видя, как дядюшка распрямился с видом оскорбленного достоинства. – Будет вам новое кольцо… обручальное! – не удержавшись, добавила она.
Тут Казимир схватился за грудь и отчаянно раскашлялся. Свободолюбивый дядюшка не выносил не то что разговоров о женитьбе, а даже легчайших намеков на нее.
– О-ох! Амалия! Как это жестоко с твоей стороны…
– Вам удалось что-нибудь узнать о том, кто звонил в полицию? – не утерпев, вмешался Гиацинт.
Казимир тотчас же перестал кашлять.
– Ценой невероятных трудов… Вы даже не представляете, сколько усилий мне пришлось приложить! Чего стоит один салат… якобы венский, который я съел… исключительно в интересах дела!
И он рассказал о Коко, о том, что тот жил где-то недалеко от ипподрома, был светловолос, невысокого роста и декламировал какие-то стихи о потоке.
– Что за стихи, дядюшка?
– Да не помню я! – отмахнулся Казимир. – У меня после вчерашнего все в голове смешалось… Помню, что про поток, мне даже Маша… тьфу, Лиза… или Роза? – их на память прочитала… Поток чего-то там… жутко неприятные стихи, по правде говоря… Да какая разница, в самом деле?
Сыщики переглянулись.
– Коко – это уменьшительное от Константин или Николай? – спросила Амалия.
– Не знаю, – капризно ответил дядюшка. – Коко и Коко… Вот.
– Предлагаю послать в ресторан нашего человека, вдруг этот Коко снова там объявится, – решительно промолвил Леденцов. – Это во-первых. А во-вторых, следует принять меры к тому, чтобы отыскать его, на случай, если в «Армиде» он более не покажется. Если он живет недалеко от ипподрома и бывает на бегах…
– Недалако, Гиацинт Христофорович, понятие растяжимое, – сказала Амалия. – Вокруг ипподрома множество улиц и переулков. Где именно его искать: в Большом Казачьем, на Николаевской улице, на Кабинетской, на Звенигородской? На поиски ведь не один день уйдет, потому что Николай и Константин – имена чрезвычайно распространенные, внешность у нашего доброжелателя рядовая, а цитировать стихи закон никому не возбраняет.
– И тем не менее попробовать стоит, – решительно сказал Леденцов. – Вдруг кто-нибудь из дворников, околоточных или жучков на бегах его узнает…
– Один вы не справитесь, – сказала Амалия. – Постойте, я напишу записку Александру Богдановичу, чтобы он выделил вам подмогу… и чем больше, тем лучше.
Она села к столу и своим аккуратным, красивым почерком написала письмо Зимородкову, прося его дать Леденцову людей, потому что от этого в значительной мере может зависеть успех всего дела.
Когда сыщик удалился, она повернулась к дядюшке.
– Нельзя сказать, чтобы наше расследование сильно продвинулось, но оно все же продвинулось… Кажется, я должна тебе двести рублей?
– Пятьсот, – важно поправил дядюшка.
– Дядюшка, – сказала Амалия после паузы, – у нас был уговор.
– Вот именно, – согласился Казимирчик, потирая руки. – Если я узнаю приметы, и имя, и где он живет.
– Вот именно! Согласна, приметы ты сумел разузнать. Но все остальное…
– А что с остальным такое? – совершенно искренне удивился дядюшка. – Его имя – Коко…
– Дядя!
– Да, да, имя как имя, не понимаю, чем ты недовольна? О фамилии же уговору не было… Равно как и об отчестве!
– Дядя…
– Не было, не было! Не отпирайся!
– Но адрес, дядя!
– При чем тут адрес? Напоминаю: ты хотела знать, где он живет. Отвечаю: недалеко от ипподрома. Не веришь, можешь сама расспросить… мгм… его знакомых… Да, да, и не надо так морщиться! У нас не было уговору о том, что я обязан узнать его точное местожительство, улицу, владельца дома, номер здания и прочее…
– Дядя, – мрачно спросила Амалия, – почему, ну почему вы не пошли по дипломатической части? Вы были бы незаменимы при составлении всяких договоров, которые правительство не хочет выполнять…
Казимир приосанился и выпятил грудь.
– Почему я не стал дипломатом? Это вопрос! Это вопрос! Но я вообще не люблю политики. Мгм… Так я могу на тебя положиться? Ты еще должна возместить мне стоимость перстня…
– Дядя, – проговорила Амалия, не удержавшись, – по-моему, вы ужасный человек.
– Я? – расцвел Казимир. – Вот уж не знал, что ты так высоко меня оцениваешь! Правда, я привык всегда добиваться своего. Но это наша семейная черта – ведь ты сама такая же…
И он удалился с гордо поднятой головой, оставив Амалию размышлять, был ли ее дядюшка, которого она никогда не воспринимала всерьез, слишком глуп или, напротив, слишком умен.
Глава 23 Полет
В тот день Гиацинту не удалось напасть на след человека, который жил недалеко от ипподрома. Зимородков согласился выделить молодому сыщику двух полицейских – остальные были нужны самому Александру Богдановичу для его собственного дела. Агенты попробовали навести справки в среде людей, связанных с бегами, но выяснить им ничего не удалось. Либо осведомители действительно ничего не знали, либо предпочитали держать язык за зубами. В ресторане «Армида» Коко тоже больше не появлялся, и над расследованием повис жирный знак вопроса. На всякий случай Гиацинт обыскал квартиру на Конногвардейской, где Ольга Верейская встречалась с любовниками, но это было просто гнездышко для свиданий, и она не хранила там почти никаких вещей.
Завтра у баронессы Корф благотворительный вечер в пользу приютских детей, на котором, как мы помним, пообещал выступить и Дмитрий Иванович Чигринский. По правде говоря, бывший гусар был не охотник до светских раутов. Он подозревал, что их посетители слегка презирают его, а потому взял себе за правило презирать их еще больше. К тому же, если говорить начистоту, Чигринскому было не до вечеринок. Накануне ночью он поднялся в кабинет, где стояло пианино, спросонья удивился тому, что там нет зеленого рояля, и, бормоча себе что-то под нос, стал записывать музыку, пытаясь одновременно и наигрывать ее. Все начиналось со звона колокольчика, который он услышал недавно, потом мелодия пошла разворачиваться сама собой, словно разматывался какой-то невидимый клубочек, и Чигринский торопился, делал кляксы, боясь, что музыка передумает и опять скроется от него. Он уже понял, что это была увертюра, и когда почувствовал, что мелодия исчерпала себя и дошла до конца, он сделал маленькую передышку и сыграл ее от первого до последнего такта, такой, какой она только что явилась ему. За дверью что-то скрипнуло – Прохор, услышав, как хозяин среди ночи музицирует, поднялся с постели и поспешил к двери кабинета, где и встал, затаив дыхание.
– Прохор Матвеич! – задорно прокричал Чигринский. – Черт с тобой, можешь войти!
И когда верный слуга вошел, Дмитрий Иванович сыграл увертюру снова, в полную силу, так что стали подрагивать и позвякивать подвески хрустальной люстры.
– Ну, что? – спросил композитор. Его так и распирало от гордости, от сознания того, что музыка вернулась, что он опять может сочинять, что он больше не сломанная шарманка, обреченная на немоту…
– Очень хорошо, Дмитрий Иванович, – сказал Прохор серьезно.
– Да ты мне всегда говоришь – хорошо, хорошо! – расхохотался Чигринский. – Что бы я ни написал…
– Так я же вижу, сколько вы сил тратите на сочинение самой коротенькой вещицы, – кротко ответил Прохор. – Как же я могу вам говорить, что плохо, когда вы так стараетесь?
– Вот оно, значит, как! – развеселился Чигринский. – А теперь я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Какое у тебя впечатление от того, что я сейчас сочинил? Вот если бы ты услышал это в театре, что бы ты подумал? Что именно я хотел изобразить?
Прохор задумался.
– Что-то бурное, Дмитрий Иванович… Неспокойное… Там иногда звуки – словно лошади мчатся, цокают копытами… Может быть, сражение, не знаю… И этот переход, когда спокойное начало, колокольчик звенит – и вдруг все обрушивается… все звуки… лавиной… – Слуга водил руками в воздухе, не зная, как точнее описать то, что он почувствовал. – Это ведь увертюра, Дмитрий Иванович? Вы пишете…
– Да не знаю я, что пишу, – заворчал композитор, захлопывая крышку. – Пришло ко мне… само… и требует, чтобы я записал. А я что? Это ведь только так говорится, что мы выдумываем. На самом деле черта лысого ты выдумаешь, если оно не захочет, чтобы ты его выдумал… мда… Я как начинаю думать, что мне предстоит, если я полезу во все это… клавир, оркестровка… три ряда одних критиков на первом представлении! А музыканты! И что мне делать с либретто?
– Алексей Иванович вам поможет, – твердо промолвил Прохор.
– Ой ли? – прищурился Чигринский. – Это же не стихи на музыку положить. Если я решусь… заметь, я сказал «если…» Так вот, если я возьмусь за…
– За оперу? – с надеждой подсказал слуга. Чигринский побагровел.
– Опера! Держи карман шире… Напишешь героиню двадцатилетнюю… а петь ее будет какая-нибудь старая карга. А автор сиди, мучайся… Я уж молчу о том, что, если Кирсанова пронюхает, что мы с Алешкой сочиняем оперу… она же опять возьмет его в оборот и не успокоится, пока не сведет его в могилу. Нет уж, не надо мне оперы…
– Тогда напишите балет, – предложил Прохор. С его точки зрения, балет был даже лучше, потому что голоса там не заглушают музыку (а слуга придерживался того мнения, что музыка его хозяина стоила того, чтобы слушать ее без всяких дополнений).
– Балет! – вскинулся Чигринский. – Большое спасибо, удружил! Чтобы под мои мелодии прыгали и задами трясли… они же больше ничего не умеют!
– Тогда, может быть, симфонию…
– Это не симфония, – отрезал композитор. – Нет, Прохор Матвеич… Ладно, придется мне как-нибудь с этим разобраться, а ты на всякий случай шапку приготовь…
– Какую еще шапку, Дмитрий Иванович? – озадачился слуга.
– Шапку для милостыни, на паперти стоять! – рявкнул Чигринский. – Жил я легко и привольно, писал песни, сонаты, петербургские каприччо всякие… а теперь, грешный, лезу… да черт знает куда лезу. В театр! Театр, Прохор Матвеич, это такое место, куда ни один человек по доброй воле стремиться не станет…
– Дмитрий Иванович…
– Да нет у нас никакого театра, вот в чем беда, – в приливе откровенности признался композитор. – Ты думаешь, я раньше балетов и опер не сочинял, потому что критиков боялся? Ха! Только к чему стараться, лезть из кожи, работать, не щадя себя, когда вот эта публика… публика! Ни один человек не может творить в безвоздушном пространстве, он всегда сочиняет для кого-то… а какой смысл сочинять для такой публики, как наша? Они любят только то, что признано за границей. Даже если это дрянь откровенная, они все равно вопят: прекрасно! прекрасно! дайте нам еще! На своих композиторов им всегда наплевать, даже если те на голову выше какого-нибудь паршивого Мейербера: они же свои! Раз свой, значит, тебя можно пнуть походя, даже ни за что, просто для порядку, потому что русский. Сколько помоев выливали на Алешку критики, которые закатывали глаза при упоминании какого-нибудь Ламартина или Беранже? А на меня? И ведь самое обидное, что ни черта они ни в чем не смыслят, и даже искусство, о котором готовы вещать с утра до поздней ночи, они не любят и не понимают… не понимают! Написал Модест своего «Бориса Годунова» – ну, сколько человек во всей России поняли, что это вещь? Я, да Алешка, да еще с десяток человек… не больше! – Чигринский, хмурясь, поглядел на фотографию Мусоргского с размашистой дарственной надписью. – А ведь пройдет лет двадцать, и те самые, которые уходили с премьеры, не дослушав, закричат: ах, какая опера! какая опера! и все ладошки себе отобьют, аплодируя, только вот автор ничего этого не услышит! Зато каждый месяц ставится «Жизнь за царя», потому что так надо, и ставится-то скверно, без души… А вечные «Гугеноты», «Фауст»? И ведь каждый раз одно и то же: публика требует новых опер, получает их, фыркает, что они не такие, как старые, и снова идет на «Гугенотов» и Верди. Про балет я вообще молчу, для публики весь интерес балета только в том, как одна балерина отбила любовника у другой и какие у кого ножки.
– Но ведь не все же зрители… – начал Прохор, сбитый с толку.
Чигринский, утомленный собственной страстной речью, зевнул и прикрыл рот рукой.
– Ну, допустим, не все, а девяносто девять из ста – так тебе легче? В любом случае получается, что искусство в России всегда существует не благодаря, а вопреки. Да! Публика нас не понимает, да мы ей и не нужны по большому счету; власть не знает, что с нами делать, но на всякий случай пытается приручить, хотя тоже не знает, зачем ей это нужно. И в конце концов, – добавил Чигринский словно про себя, – нам не остается ничего, кроме кельи, старого пианино и музыки, если она есть. Главное, чтобы она была, и тогда на все остальное можно махнуть рукой.
Он закрыл крышку, собрал листы с нотами и прошел мимо озадаченного Прохора к выходу. «Неужели он так из-за Ольги Николаевны расстроился? – думал слуга. – Да нет, не может быть…»
Чигринский чувствовал, что он стоит на распутье, что от того, на что он решится сейчас, будет зависеть вся его последующая жизнь. И герой его – это он ощущал ясно – тоже стоял на распутье, раздираемый страстями; уже увертюра ясно показала композитору, куда все клонится. «Надо бы посоветоваться с Алешкой… Эх, какая незадача, что он сейчас за границей!»
И надо же было такому случиться, что первый человек, которого Чигринский встретил в особняке баронессы Корф (куда композитор все же отправился, предчувствуя отчаянно скучный вечер), оказался именно поэтом Алексеем Нерединым.
– Алешка, черт! – только и мог выговорить Чигринский. – Когда же ты вернулся?
– Когда? Представь себе, вот соскучился по родине и приехал…
– Ах да! Русские березы… – томно закатила глаза какая-то дама из числа гостей.
– Нет, сударыня, родина – это не только березы и даже не контур на карте, – твердо ответил Нередин. – Родина – это все!
Не утерпев, Чигринский утащил поэта в угол и там без всяких околичностей сообщил ему, что он собирается написать балет… да, пожалуй, балет… и ему позарез нужно либретто.
– Дмитрий Иваныч! Помилуй, я никогда не сочинял либретто…
– А я – балетов! Значит, сработаемся…
Нередин, не выдержав, расхохотался.
– О чем балет-то? Ты хоть примерно представляешь себе сюжет?
– Сюжет… гм… сюжет… – закручинился Чигринский. – Это, видишь ли, история человека… которого осадили со всех сторон… Гхм! Что ты так смотришь на меня?
– Нет, Дмитрий Иваныч, так дело не пойдет, – покачал головой Нередин. – Ты и сам не хуже меня знаешь, что балет – это самая искусственная форма искусства… Публика привыкла к сильфидам, к феям, к сновидениям, в которых являются дочери фараона…
– К черту сильфид! – вспылил Чигринский. – И сновидения тоже!
– Ладно-ладно, не горячись… Твой герой, кто он? Какой-нибудь принц?
– Зачем мне принц? – в изнеможении спросил Дмитрий Иванович, утирая пот. Он уже был не рад, что вообще завел этот разговор.
– Герой в балете почти всегда принц. Но если нет, тогда, может быть, он поэт?
– Поэт… поэт… – пробурчал композитор, морща свой большой лоб. – Хорошо. Пусть будет поэт… Мгм… Алеша! А у тебя нет какой-нибудь, понимаешь, истории… или баллады…
– Честное слово, нет… Может, посмотреть у Жуковского?
– Э, нет! Не хочу…
– Почему?
– Не хочу строить свой балет ни на Жуковском, ни на Пушкине, ни на Гофмане… Пушкин – это прекрасно… и Гофман – это прекрасно… но в музыке, понимаешь, это все костыли, на которые мы опираемся из страха, что иначе публика нас не поймет…
– Кто это тут говорит о балете? – вмешался в беседу друзей чей-то рокочущий бас. – Никак Дмитрий Иванович, голубчик?
Чигринский обернулся и увидел высокого, дородного господина лет сорока, с маленькими, глубоко посаженными глазками. Воинственно выпятив черную бороду и заложив большие пальцы рук в карманы, здоровяк снисходительно поглядывал на композитора с высоты своего немалого роста.
Это был Илларион Петрович Изюмов, которого, собственно говоря, Амалия пригласила на вечер с одной целью – разузнать, не известно ли ему что-нибудь о гибели Ольги Верейской. Но Илларион Петрович признал факт знакомства с Ольгой Николаевной, лишь когда ему были предъявлены написанные его рукой письма.
Припертый к стенке, он мямлил, что Ольга Верейская была милейшей души человеком, но при этом замучила его своими требованиями, и закончил мольбой ничего не говорить его жене. В последние дни Изюмов с Ольгой Николаевной не виделся, не переписывался и понятия не имел о том, что с ней могло случиться.
Само собой, после разговора с хозяйкой дома, оказавшейся в курсе его интрижки, композитор пребывал в прескверном настроении, и, едва увидев Чигринского, тотчас же решил, что нахальный собрат, не понятно почему пользующийся всероссийской славой, заплатит ему за все.
– Хм! Стало быть, ваших песенок уже вам стало мало? – снисходительно вопрошал Изюмов, нет-нет да поглядывая краешком глаза на обступивших их гостей и проверяя, слушают ли.
– Кому мало, а кому и песенку сочинить не под силу, – парировал Чигринский. Дамы заулыбались и стали кокетливо обмахиваться веерами.
– Ну вы мечтайте, молодой человек, мечтайте, – гнул свое Изюмов. – Вот когда мою оперу поставят в Мариинском…
– Как в Мариинском? – удивился кто-то из гостей. – А нам говорили, что в Большом…
Илларион Петрович прикусил язык, кляня себя за болтливость, но было уже поздно. Дело в том, что он действительно собирался подписать договор с Большим, но тут его работой заинтересовались в Мариинском, и Изюмов воспользовался ситуацией, чтобы потребовать у москвичей увеличения гонорара. А чтобы в Большом не стали долго раздумывать, он приехал в Петербург и сделал вид, что всерьез ведет переговоры с другим театром…
– Как поставят, так и выставят! – отчетливо произнес Чигринский.
В толпе гостей вспорхнул смешок. Изюмов побагровел.
– Для человека, который даже не имеет специального образования, вы на редкость нахальны, господин Чигринский!
Этот довод Дмитрий Иванович слышал сотни, если не тысячи раз, но именно сегодня он отчего-то завелся и вспыхнул, как порох.
– Чушь! Искусство принадлежит всем… Вы думаете, что оно покорится вам, если вы кончали консерватории и получали бумажки о том, какие вы образованные, а я говорю: нет! Школа, образование – это все прекрасно, но, если нет таланта, а вы рветесь сочинять… это все равно что пытаться испечь хлеб без муки!
Изюмов понял, что тут ему Чигринского не пробить, и принял решение зайти с другой стороны.
– Искусство принадлежит всем – надо же, какая новость! Да вы революционэр, батенька! – промолвил он, налегая на «э» и с фальшивой скорбью качая головой.
В воздухе запахло нешуточным скандалом. Гости приободрились: вечер у баронессы Корф выходил гораздо более интересным, чем они думали вначале. Чигринский стоял, выставив ногу вперед и сверкая глазами, и был он одновременно устрашающ и прекрасен. Медведь, чистый медведь, мелькнуло в голове у Амалии; если присмотреться, то заметно, что при ходьбе он даже слегка косолапит. И еще она подумала – смутно, но все же подумала, – что покойная Оленька Верейская была, судя по всему, на редкость глупа, раз не сумела оценить такого человека.
Увы, на самом интересном месте спора хозяйке дома пришлось отлучиться, чтобы пойти встречать некоего князя, который почтил своим присутствием ее вечер. Когда Амалия вернулась наверх, корабль Изюмова, судя по всему, получил пробоины ниже ватерлинии и бесславно шел ко дну, в то время как корабль Чигринского и не думал сдаваться.
– Признайте же в конце концов, что большинству людей, как бы это ни было прискорбно, искусство вообще не нужно! – кричал Изюмов, из последних сил пытаясь остаться на плаву. – Предложите любому выбор – бутылку водки или пойти слушать музыку, – сколько выберет музыку? Один из десяти? Один из ста? Вот то-то же! Не стройте себе иллюзий! Искусство – это то, к чему человечество шло веками, тысячелетиями, и не надо думать, что каждый будет в состоянии вообще понять, что это такое!
– А я говорю, – кричал Дмитрий Иванович, азартно сверкая глазами, – что даже в пещерах, где жили эти… как их… первобытные, употреблявшие друг дружку в пищу, находят рисунки невероятной красоты! Потому что во все времена есть люди, и есть масса! Надо дать человеку возможность быть человеком!
– Ха! Дать вы можете что угодно, только вопрос, пожелает ли ваш человек этим воспользоваться!
– А вот мы сейчас проверим! – объявил Чигринский, которому не то что море, а и океан был в это мгновение по колено, и даже небо. – Водка против музыки, и кто кого… Госпожа баронесса, у вас ведь есть водка? Есть? Вот и прекрасно! Попросите подать ее… не знаю… куда-нибудь в другую комнату, а я пока перейду туда, где стоит ваш замечательный крокод… я хотел сказать, рояль… Прошу вас, дамы и господа! Не стесняйтесь! Водка – прекрасная вещь, если употреблять ее в меру, как сказал наш полковой врач… он-то, кстати, меры не соблюдал, но умер вовсе не от пьянства, а от воды, потому как утонул однажды при переправе… Ирония судьбы, да-с! Итак: водка против музыки! Господин Изюмов уверяет, что мне ничего не светит… не так ли, Илларион Петрович? Вот мы и проверим, прямо сейчас проверим, дамы и господа!
Это был не человек, а какой-то вихрь, и гости не успели опомниться, как, увлекаемые им, оказались в комнате, где цвели экзотические растения и стоял зеленый рояль. Миг, и Чигринский уже уселся за инструмент, откинул крышку – и из-под его пальцев полилась музыка.
Гости, присутствовавшие на том вечере, позже утверждали, что в жизни им доводилось слышать и Рубинштейна, и Гофмана, и других известных пианистов, но так, как играл тогда Чигринский, не играл никто из них. И рояль был уже не рояль, а словно несколько инструментов сразу, потому что звуки, которые из него порой извлекал Дмитрий Иванович, были под силу скорее флейте, гобою или даже арфе; и сам Чигринский был уже не тот медведь, которого они видели несколькими минутами раньше – то в нем трепетала душа бабочки, то он превращался в огонь, то мчался, как стремительный поток, сметая все на своем пути. Все ушло, все отступило, не было больше ни жизни, ни смерти, ни боли, ни страданий – ничего, кроме музыки; и в какое-то мгновение все почувствовали, как рояль взмыл ввысь вместе с волшебником, который сидел за ним, и вслед за ними оторвался от земли весь огромный дом, в котором они находились. Он летел над Петербургом, поднимаясь все выше и выше, и сами они – те, кто сидел, кто стоял, кто застыл на месте, боясь пропустить хоть один звук – вопреки всем законам тяготения воспарили к небесам. Их души реяли под звездами, качаясь на волнах божественной мелодии, далеко, далеко от земли, и это вовсе не было страшно – это было прекраснее всего, что только можно себе вообразить.
Глава 24 Принц и нищий
Три часа спустя вконец измученный Чигринский лежал на диване в одной из гостиных особняка, пытаясь прийти в себя и вновь ощутить почву под ногами. Рядом с ним, держа его за руку и преданно заглядывая в лицо, сидела красавица балерина Лидия Малиновская, и бриллиантовое колье на ее шее все-таки блестело менее ярко, чем ее глаза. В мягком кресле по соседству с диваном удобно расположился Алексей Нередин. Держа в пальцах ручку, он время от времени делал какие-то пометки в черной записной книжечке величиной с ладонь. Обыкновенно из таинственной книжечки выходили стихи и разные мысли, записанные в основном для себя самого, но на сей раз ее назначение было иное: попытаться найти некую общую линию, чтобы выработать сюжет для либретто, который устроит требовательного композитора.
– Ты пойми, я не против фей и всей этой сказочной мишуры, – говорил Чигринский, морщась. – Раз надо, значит, надо. Но мне-то хочется, чтобы в основе все-таки лежала понятная человеческая история, чтобы персонажам можно было сочувствовать, а не просто смотреть на прыжки, всякие антраша…
«Господи, и куда только я суюсь? – в который раз в смятении подумал он. – Ведь меня живьем съедят, как пить дать, съедят…»
– Вы ведь не забудете обо мне, господа? – кокетливо спросила прекрасная Лидия своим завораживающим голосом.
– Как можно, Лидия Сергеевна! – улыбнулся Алексей.
А в гостиной напротив Амалия и барон Корф слушали рассказ Леденцова о том, что ему пока не удалось напасть на след таинственного Коко. С точки зрения Александра, сыщик вполне мог бы найти другое время для своего рассказа, но, раз Амалия придавала делу такое значение, барон был согласен закрыть глаза на… ну, в общем, на что угодно.
– Меня чрезвычайно удивляет, что Александр Богданович не дал вам больше людей, – сказала Амалия, подчеркнув голосом слово «чрезвычайно». – Два помощника, чтобы обойти весь район, – это все-таки слишком мало.
Она встала и подошла к окну, и даже по ее спине барон видел, что молодая женщина не на шутку рассержена.
– У господина Зимородкова сейчас много дел, – проговорил Леденцов, но слова его звучали как-то неубедительно, и будь Амалия чуточку хуже воспитана, она бы непременно ухватилась за них, чтобы наговорить множество колкостей в адрес чиновника особых поручений. Однако она не стала этого делать.
– Саша! – позвала она. Барон встал и подошел к ней.
– Мне кажется, корнету не стоит там стоять, – объявила Амалия, указывая на молодого человека, топчущегося под фонарем. – Пригласите его в дом.
– Я не могу этого сделать, – спокойно заметил Александр.
– Почему?
– Потому что существует такая вещь, как субординация… И потом, вполне достаточно сказать слуге, что вы хотите видеть господина Павлова.
Леденцов был человек посторонний, но этот короткий обмен репликами сказал ему куда больше, чем подразумевало его содержание. Со стороны Амалии, заметившей корнета, который зачем-то пришел к ее дому, но не решался войти, было вполне естественно пригласить его, пусть даже это шло вразрез с правилами этикета. Александр же думал не о человеке, который зябнул снаружи под дождем, а о том, как будет выглядеть он сам, если пригласит его. Противоречия, сказал себе Гиацинт, эти маленькие противоречия, которые в личных отношениях всегда играют куда большую роль, чем крупные размолвки, наверняка решили все и в этом союзе. Впрочем, если говорить начистоту, Леденцов вообще не понимал, как такая женщина, как Амалия, могла всерьез увлечься этим надутым и самовлюбленным флигель-адъютантом.
– Я приглашу господина Павлова, – сказал сыщик вслух, поднимаясь с места.
В соседней комнате меж тем трое сообщников – а люди, связанные между собой музыкой, волей-неволей превращаются в сообщников – продолжали обсуждать возможные сюжеты.
– Только, пожалуйста, не надо заставлять меня умирать на сцене, – попросила Лидия. – Я этого ужасно не люблю!
– Честно говоря, я не знаю, как быть, – сказал Нередин, обращаясь к Чигринскому. – Мне в твоей увертюре послышались звуки битвы… Война – в балете, это что-то новое!
– Я думаю, он все-таки может быть поэтом, – заметил композитор, не слушая его. (Как видим, все трое собеседников говорили невпопад.)
– Кто?
– Главный герой.
– А как же героиня? – капризно протянула Лидия. Она уже сейчас собиралась блистать в главной роли и никому не желала уступать свое место.
– Героиня? Да, – решительно сказал Чигринский, – она – волшебница.
Тут он почему-то подумал об Амалии и улыбнулся. Однако балерина приняла улыбку на свой счет и приободрилась.
– Добрая? – уточнил Нередин.
– М-м, – неопределенно буркнул композитор, – я бы не сказал… То есть все возможно…
– Поэт, война и волшебница, – вздохнул Алексей, делая какие-то заметки в своей книжке. – Ну…
– Тристан и Изольда? – с надеждой предложила Малиновская. – Сейчас в моде все средневековое…
– Тристан не был поэтом.
– Зато он был принцем, а это как раз то, что нужно для балета.
– Карл Орлеанский, – неожиданно сказал Нередин, и его глаза блеснули.
– Кто это? – удивился Чигринский.
– Французский принц, который попал в плен к англичанам и провел там почти всю жизнь. Это было во времена Столетней войны. А еще он сочинял стихи.
– Алеша, ты с ума сошел? – застонал Чигринский, ворочаясь на диване. – Господи боже мой, да в России никто не знает об этом Карле Орлеанском… Он хоть хорошие стихи сочинял?
– Вполне.
– Ну и что мы будем с ним делать?
– Не знаю, но как персонаж для балета он годится. Принц, поэт, война… Не думаю, что на самом деле ему хотелось воевать.
Лидия надулась. Ей казалось, что ее роль отходит на второй план, а на первый выдвигается этот противный премьер Гремиславский, с которым у нее были плохие отношения – как, впрочем, со всеми ее бывшими любовниками.
– Ну и зачем он пошел на войну? – с легкой иронией спросила она, обмахиваясь веером. – Сидел бы дома, сочинял свои стихи…
– А он не мог не воевать, – заметил Нередин. Он оживился, как всегда, когда чувствовал, что ему попалась интересная тема. – Его отца убили по приказу герцога Бургундского, сторонника англичан.
– Смотри-ка! – Чигринский даже приподнялся на диване, хотя до сих пор чувствовал себя как выжатый лимон. – Знаешь, Алеша, а из этого может что-нибудь да выйти!
– Вы собираетесь показать на сцене убийство? – Лидия учтиво, но с гримаской крайнего неодобрения приподняла свои тонкие брови. – На императорской сцене?
– Нет, этого не будет, – решительно ответил композитор. – Но ведь ничто не мешает ему рассказать волшебнице, как он попал на войну.
– А что это будет за волшебница? – загорелась любопытством балерина.
Пока в синей гостиной особняка на Английской набережной шло увлеченное обсуждение будущего балета, в красной гостиной напротив корнет Павлов, которого привел Леденцов, не знал, куда деться от смущения. Амалия ему очень нравилась, но он был не настолько глуп, чтобы не понимать, что сам-то он барону Корфу не нравится совершенно и тот скорее всего вообще не потерпел бы его присутствия, если бы не хозяйка дома.
– Вы не пьете чай – он остыл? – встревожилась Амалия, видя, что гость даже не прикоснулся к чашке.
– Я прошу меня простить, – сказал молодой человек, волнуясь. – С моей стороны было дерзостью прийти сюда, я знаю…
– Рад, что вы это понимаете, – уронил неумолимый Корф.
Амалия метнула на него сердитый взгляд, но так как взглядом прошибить хладнокровного барона было невозможно, она решилась на крайние меры. Леденцов позже долго размышлял, не показалось ли ему, но был вынужден все-таки признать, что Амалия – да, да, взяла и ущипнула своего бессердечного супруга. Последствия столь опрометчивого поступка оказались довольно-таки неожиданными. Ледяная маска, которую привык носить барон, соскользнула с него, и сыщик воочию убедился, что Александр еще способен удивляться, как все нормальные люди. Он даже покраснел и покосился на Амалию, словно не веря, что она могла – вот так, запросто, ущипнуть его, серьезного человека, флигель-адъютанта и прочая, и прочая…
– Поправьте меня, если я ошибаюсь, – сказала Амалия, обращаясь к Владимиру, – но мне почему-то кажется, что вы искали нас, чтобы сообщить что-то, возможно, важное, что касается гибели Ольги Верейской. Я права?
Смущаясь, корнет подтвердил, что он искал господина Леденцова… а дома у того сказали, что он отправился на вечер к баронессе Корф… и он решил… он решил…
– Вы спрашивали меня, не помню ли я чего-нибудь странного, – повернулся Владимир к Леденцову. – Последний раз я видел ее за два дня до ее гибели, и тогда… В общем, это нельзя назвать странным… но я подумал, что вам может пригодиться…
– Мы вас слушаем, – проговорила Амалия, видя, как волнуется молодой человек.
– Одним словом… сияло солнце, и мы отправились кататься… Заехали заодно к модистке Ольги Николаевны, забрали шляпку… И вот, когда мы ехали по Спасскому переулку… как раз миновали церковь… Простите, мне очень сложно все это рассказывать…
Александр слушал со скукой, предчувствуя, что все, что скажет корнет, окажется пустяками и только заставит Амалию и унылого сыщика напрасно потерять время. Но на лице Леденцова было написано внимание, и барон, вздохнув, отвернулся.
– Ольга Николаевна сказала вам что-то, что вы считаете нужным повторить нам? – терпеливо спросила Амалия, видя, что корнет не знает, как продолжить разговор.
– Нет, там было другое… Она заметила кого-то на тротуаре и попросила кучера остановиться. Я понял, что это был какой-то ее давний знакомый… Ольга Николаевна была очень оживлена… у меня до сих пор в ушах звенит ее смех…
– И что же странного в том, что она встретила знакомого? – не выдержав, высокомерно осведомился барон Корф.
– Мне показалось, что он был этому вовсе не рад, – помедлив, признался молодой человек. – Он как-то жался к стене и, по-моему, пытался убедить ее, что она ошиблась… Ольга Николаевна удивилась, сказала что-то вроде: «ну, как знаешь» – и велела кучеру трогать…
– Что это был за человек, как он выглядел? – спросил Леденцов. – Она называла его как-нибудь?
– Он был невысокого роста, – подумав, ответил Владимир. – Блондин лет двадцати семи или около того, с небольшой бородой. Одет так, как одеваются рабочие… Думаю, она хорошо его знала, потому что была с ним на «ты», но по имени его не называла. Помню, она спросила, что за маскарад он затеял, и еще спросила, почему он не бреется. – Корнет робко взглянул на Амалию. – Понимаете, ведь получается, что я видел ее незадолго до смерти… И я пытаюсь понять – может, что-то было необычное, странное… подозрительное… Но ничего ведь не было, кроме этой встречи…
– Почему вы считаете встречу актрисы со старым знакомым подозрительной? – спокойно спросил Александр. – По-моему, тут нет ровным счетом ничего особенного…
– Разве я не сказал? – пробормотал молодой человек. – Но… но… Понимаете, это произошло в Спасском переулке… Возле дома генеральши Громовой, которую убили в ту ночь.
Глава 25 Человек с Николаевской улицы
– Спасский переулок!.. – простонал Леденцов. – Ну конечно же! Как я мог упустить из виду…
– Человек из ресторана, – негромко уронила Амалия. – Тот самый, который известен нам под именем Коко.
– Похоже, это и впрямь он… И приметы сходятся.
Именно появление Коко так поразило Ольгу Николаевну, что она даже упомянула о нем горничной, сказав, что встретила знакомого. Соня решила, что хозяйка имела в виду Владимира, но на самом деле Верейская говорила вовсе не о нем… «Ты ничего не понимаешь», – отмахнулась Ольга Николаевна, когда Соня предположила, что речь идет о корнете. Почему Верейскую так заинтересовала эта встреча? Был ли неуловимый Коко просто ее знакомым или…
– О-о! – вырвалось у Амалии. – Боже мой…
– Амалия Константиновна… – Тон молодой женщины был так странен, что Леденцов изумился.
– Маскарад, – блестя глазами, объявила Амалия. – Он был странно одет… Вспомните, ведь в ресторане он ничем не отличался от остальной публики, иначе дяде сказали бы об этом! А в Спасском переулке он был одет как рабочий… Но не это самое важное. – Амалия повернулась к изумленному, ничего не понимающему корнету. – Так она спросила, почему он не бреется?
– Д…да.
– Гиацинт Христофорович, помните поговорку?
– Поговорку? – вытаращил глаза Леденцов.
– «Брит, как актер», – подсказал Александр, который быстрее сообразил, куда клонит Амалия. – Он актер!
– Бывший актер, судя по всему, – подытожила молодая женщина, незаметно пожав его руку в знак благодарности. – Он играл вместе с Ольгой Верейской. Не знаю где, не знаю как, но круг поисков сужается. Увидев его небритым и в одежде рабочего, она удивилась… а он пытался ее убедить, что она обозналась… Все сходится. Мы ищем бывшего актера, которого зовут Николай или Константин, прозвище – Коко, он интересуется бегами и декламирует… Как же я раньше не поняла, что он декламирует! Маша! Маша!
Маша впорхнула в дверь, получила задание во что бы то ни стало привести дядюшку Казимира и упорхнула. Через минуту с видом мученика явился дядюшка, который собирался уже ложиться спать после вечера. Однако тут он заприметил на диване рядом с Амалией Александра (которого Казимир побаивался) и поторопился придать лицу самое любезное выражение.
– «Зашел в такую глубину потока крови, что дальше нет пути, а воротиться – вновь значит перейти поток», – процитировала Амалия. – Может быть, не совсем точно, потому что я давно не видела перевода, но скажи мне: это то, что читал посетитель ресторана? Ты еще упоминал, что стихи произвели на тебя неприятное впечатление.
– Боже! – скривился Казимир. – Да, теперь я вспомнил… Он читал именно их… а девушки мне пересказали.
Амалия и Леденцов переглянулись.
– А мы-то какие только стихи о потоках не вспоминали… Можете идти, дядя, и простите, что побеспокоила вас, – закончила она официальным тоном.
– Что это? – мрачно спросил Александр, когда дядюшка удалился.
– Шекспир. «Макбет». Если бы я поняла это раньше, то поняла бы и все остальное. Кто в России способен цитировать «Макбета»? Либо актер, либо человек, влюбленный в Шекспира. Но люди, которые по-настоящему любят Шекспира, не идут на преступления.
– Он играл Макбета, – скорее утвердительно, чем вопросительно заметил Леденцов.
– Да, это вполне вероятно. Звоните Александру Богдановичу. – Амалия посмотрела на часы. – Уже поздно, но готова держать пари на что угодно, что он до сих пор на работе… Судя по всему, дело Ольги Верейской каким-то образом связано с убийством генеральши Громовой, а значит, завершать расследование придется вместе. – Баронесса Корф повернулась к корнету, который сгорбился в кресле, опустив плечи, и, казалось, был даже не способен удивляться тому, что расследованием командовала хорошенькая женщина. – Я чрезвычайно благодарна вам, Владимир Сергеевич… Должна сказать, что вы очень нам помогли. Если я могу что-то сделать для вас…
– Да, – тихо ответил молодой человек. – Я хотел бы… хотел бы увидеть ее. Это можно устроить?
– Да, разумеется.
– У меня только один вопрос. – На скулах молодого человека проступили розовые пятна, он стиснул челюсти. – Это он убил Ольгу Николаевну? Тот человек, о котором вы говорили?
– Нет. Это сделал сообщник, о котором у нас до сих пор нет почти никаких сведений. Но вы не тревожьтесь, – добавила Амалия, – делом занимаются лучшие силы сыскной полиции, и я уверена, что преступление будет раскрыто…
…Шел уже третий час ночи, когда корнет Павлов и сыщики – Гиацинт Леденцов и Александр Зимородков – покинули особняк на Английской набережной. Нередин, Чигринский и Лидия Малиновская уехали гораздо ранее, причем точности ради следует добавить, что композитор и балерина удалились вместе, а поэт в одиночку направился к себе.
– Зачем вам это надо? – не удержался Александр.
Он понимал, что ему тоже пора удалиться, но, по правде говоря, ему так не хотелось никуда уезжать, что он готов был задержать Амалию любым, пусть даже самым неподходящим вопросом.
– Надо – что? – спросила молодая женщина, приподняв брови, и уже в ее тоне читались неодобрение и легкий вызов.
– Заниматься, – Александр попытался подыскать слово, которое наиболее полно выразило бы то, что он чувствовал, и наконец с оттенком брезгливости произнес, – этой уголовщиной.
– Продолжайте, продолжайте, – любезно отозвалась Амалия, но это была, пожалуй, самая ледяная любезность на свете. – Вы, кажется, хотели добавить: «Не все ли равно, кто и почему убил эту никчемную Ольгу Верейскую…»
– Я этого не говорил, – чуть поспешнее, чем стоило бы, возразил Александр.
– Но думали, не так ли?
И она увидела, как замкнулось в холодной непроницаемости это красивое лицо, которое когда-то было для нее главным лицом на свете.
– Боже мой!
Услышав смех Амалии, Александр вздрогнул, как от удара. (Амалия не смогла бы объяснить, почему она смеялась… она испытывала облегчение от того, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки, и в то же время не могла не думать, что отношение Александра к жизни, по крайней мере к некоторым ее аспектам, кажется ей нелепым. Но барон Корф, конечно, принял смех только на свой счет – и он его задел.)
– Хотите знать правду? – с неожиданной горячностью проговорил он. – Мне не нравится, что вы находите время для кого угодно…
– Кого угодно, только не для вас? – Амалия покачала головой. – Полно, Саша. По-моему, мы уже обсуждали это тысячу раз, если не больше… Идите лучше спать.
…И вот тут он растерялся по-настоящему.
– Но…
– Да, да, да, – нараспев проговорила Амалия, поднимаясь с места. – Утром посидите за столом вместе с Мишей, поможете ему решить задачу… он и сам ее прекрасно решит, но вы все равно ему поможете. Маша! Барон Корф остается ночевать у нас. Можете выбрать любую незанятую спальню, – добавила она, обращаясь к Александру. И хотя она никак не выделила слово «незанятую», Александр все же выделил его для себя и опять обиделся.
Когда утром он спустился к завтраку, то был полон решимости дуться на весь свет, но сын так обрадовался его присутствию, что у барона не хватило сил следовать намеченной линии поведения. После завтрака он повез Мишу в гимназию, а Амалия рассказала матери о том, к каким выводам пришло следствие.
– Мы перебирали самые разные причины, по которым Ольга Верейская могла встретить свою смерть, но забыли об одной: о том, что человеку достаточно увидеть или услышать что-то не то, и он вмиг сделается неугодным. То, что бывшая актриса увидела в Спасском переулке, стоило ей жизни.
– Я рада, – невпопад заметила Аделаида Станиславовна, и в ответ на недоумевающий взгляд дочери пояснила: – Я все время опасалась, что ее прикончил этот композитор, а тебе бы это не понравилось.
– С чего ты взяла? – довольно сухо спросила Амалия. – Я не питаю к господину Чигринскому ничего, кроме естественной симпатии к большому таланту.
– Я имею в виду, тебе было бы неприятно, если бы ты ошиблась, – спокойно отозвалась старая дама. – Ты же с самого начала решила, что он невиновен, хотя все обстоятельства были против него.
…Пока в особняке на Английской набережной Амалия пыталась подыскать достойный ответ на замечание своей матери, по лестнице одного из доходных домов Николаевской улицы, расположенного недалеко от ипподрома и Семеновской площади, спускался молодой человек вполне приятной наружности, улыбчивый и белокурый. Внизу лестницы его уже ждали два полицейских чина и взволнованная домовладелица.
– А вот и Николай Петрович Черемушкин, – сказала она.
Молодой человек сделал такое движение, как будто передумал спускаться и собирался зачем-то вернуться к себе наверх, но тут один из чинов – неповоротливый с виду, грузный мужчина лет пятидесяти – совершил нечто вроде телепортации и в мгновение ока переместился к Николаю Петровичу, а переместившись, без всякой фамильярности, но весьма твердо прихватил его за рукав. После этого господин Черемушкин сник, покорился судьбе и безропотно дал себя увести.
А дальше – дальше был словно какой-то мягкий, вкрадчивый, ватный сон, в котором он запутывался все больше и больше и не видел никакого способа выбраться оттуда. Никто не кричал на него, не запугивал, напротив: во всем чувствовалась рутина, и подавленный Николай ощущал, что она засасывает и его, как болото. Полицейские – старый, отзывавшийся на имя Гаврила Сидорович, и молодой, во всем старавшийся подражать старшему коллеге, – смотрели на него, Николая, со снисходительным презрением, и чувствовалось, что точно так же смотрели они на всякого пойманного ими преступника. Где-то звенел телефон, по коридору вели какую-то женщину в платке, с простым крестьянским лицом, которая вырывалась и истошно голосила. Молодой полицейский обернулся и поглядел на нее с боязливым любопытством.
– Это она пять человек топором порешила? – не удержавшись, спросил он.
– Она, – хмуро ответил Гаврила Сидорович. – Ей любовник обещал жениться, ну, уехал в Питер на заработки и женился на другой. Она узнала, приехала, убила его, жену, ее родителей и девочку-прислугу. Девочке всего одиннадцать было… Эх!
– Я никого не убивал, – внезапно сказал Николай.
– Это уж начальство разберется, – спокойно ответил немолодой полицейский и стал скручивать папиросу.
Начальством оказался хмурый и, как уловил Черемушкин, взволнованный молодой человек, откликавшийся на имя Александр Богданович. Увидев, что им занимается не какой-нибудь поседевший на службе зубр, который всех преступников видит насквозь и знает любой ответ еще до того, как задаст вопрос, Николай немного приободрился.
– Однако мне странно, милостивый государь… Документы мои в полном порядке… против властей не злоумышляю, веду размеренный образ жизни… За что же такая обида?
– Против властей не злоумышляете, это хорошо, – рассеянно кивнул чиновник, изучая его документы. – Шекспира читаете, кажется?
– Ну… да.
– В ресторан «Армида» захаживаете?
– Я…
Глупо отрицать, мелькнуло молнией в мозгу. Ведь приведет девиц, официантов, и те будут вынуждены показать на него… Неужели он действительно попался? Да нет, не может быть… Не может быть, чтобы так просто… так глупо…
– Ресторации уважаю, – помедлив, признался Николай. – В «Армиде» бывал, но не знал, что сие воспрещено законом…
– За что убили Ольгу Николаевну Верейскую?
Такого удара с ходу Николай не ждал – и растерялся.
– Что? – пролепетал он.
– А в доме Громовой много взяли? Кровавое золото карманы не жжет?
– Я не понимаю, о чем вы… – проблеял Черемушкин, и глаза его забегали.
– Вы намерены все отрицать?
– Я намерен все отрицать, – механически повторил Николай. – Я не знаю никакой Верейской. О деле Громовой читал в газетах, но… при чем тут я?
– Очень хорошо, – уронил чиновник, и его глаза блеснули. – Ну что ж, обратимся к показаниям свидетелей.
И свидетели не заставили себя ждать, причем первым из них был некий корнет Павлов, который, как оказалось, сопровождал Ольгу Николаевну в тот день.
«Ах, черт! – бледнея, подумал Николай. – Он, значит, был в глубине кареты, и я его не заметил… Не заметил! Если б мы его тоже прикончили, никто ни за что бы не догадался…»
– Что вы делали в Спасском переулке за несколько часов до убийства генеральши Громовой и ее людей? – спросил Зимородков после того, как корнет официально опознал Черемушкина, криво расписался в бумагах и удалился, комкая в руках фуражку, которую забыл надеть.
– Я не знаю, о чем говорит этот господин… Меня там не было…
– Почему вы были одеты, как рабочий, хотя по паспорту вы мещанин, а по профессии – бывший актер?
– Я никогда не одевался рабочим… Зачем это мне?
– Ну, например, затем, что вы готовились к ограблению и решили загодя, так сказать, осмотреться на местности. Нет?
– Что вы, милостивый государь… Нет, нет…
– Наши люди выяснили, что за последние дни вы сделали на бегах ставок на несколько сотен рублей и все проиграли. Скажите, откуда у вас такие деньги?
– Я получил наследство! – взвизгнул Черемушкин. Нервы у него начали сдавать. – Наследство, ясно вам?
– От кого, когда и где? Или вы изволите называть наследством средства, полученные после ограбления и убийства?
– Я никого не убивал!
– Но вы рассказали кое-кому о встрече со старой знакомой, которая увидела вас не в то время и не в том месте и могла потом вспомнить об этом обстоятельстве? Да или нет?
– Я никого не убивал! – Николай схватился за виски, рот его дергался. – Боже мой…
Но Зимородков не отступал. Его противостояние с преступником было похоже на схватку гончей с зайцем – заяц петлял, как мог, отчаянно пытался запутать следы, но упорная, умная, целеустремленная собака неуклонно преследовала его, и близок, близок был тот миг, когда зайцу уже просто будет некуда скрыться…
– Зачем вы позвонили в полицию?
– Я не звонил!
– У меня есть свидетели, которые утверждают обратное. Также нам стало известно и об анонимном письме. Оно написано печатными буквами, но по стилю ясно, что его писал образованный человек…
– Я не посылал в газету никакого письма!
– В газету? Я не говорил, что оно было послано в газету…
Николай молчал, кусал губы и был бледен.
– Его написали вы или ваш сообщник с накладной бородой на пол-лица?
Молчание.
– Почему вы так упорно хотели бросить подозрение на Чигринского? Чтобы отвести подозрение от себя самих? Вы настолько боялись, что мы узнаем правду?
– Я не понимаю, о чем вы!
– Как зовут вашего сообщника?
– Я не…
– Кто он? Где он живет?
– Я ничего вам не скажу!
– А я скажу вам кое-что, Николай Петрович. – Зимородков перегнулся через стол, его глаза на бледном лице казались двумя черными провалами. – Я знаю, слышите, знаю, что вы и ваши сообщники провернули не одно преступление… что вы действовали не только в Петербурге, но и гастролировали по европейской части России… что в результате этих гастролей были убиты 32 человека, а возможно, и больше. Вспомните ограбление Никитиной в Самаре, Булыхиной в Петербурге, Мавриных в Саратове, Тоновых в Москве… Всюду применялся один и тот же способ действий: грабители входили ночью в богатый дом, убивали всех и бесследно исчезали с краденым добром. Убитые никак не были связаны друг с другом, но вашу банду выдало то, что было присуще только вам – хладнокровие и циничная жестокость преступлений. – Николай молчал, не поднимая глаз. – Все кончено, милостивый государь, как вы не можете понять этого? Будет громкий процесс, каких давно не было в России, и вам придется ответить за все. Не только за ограбления, но и за пролитую кровь… особенно за кровь, пусть даже вы всего лишь стояли неподалеку, когда резали этих несчастных. – Черемушкин вздрогнул, и по выражению его лица Зимородков убедился, что угадал верно. – Вы ведь образованный человек, «Макбета» читали – как вы могли, Николай Петрович, как вы могли?
Черемушкин долго молчал. Потом тихим, бесцветным голосом промолвил:
– Простите… Мне… Я… Мне надо подумать… Я должен подумать. Я не могу рассказать вам всего… сейчас… Это страшные люди, вы даже не представляете, насколько страшные… Мне надо собраться с мыслями. Я расскажу… потом…
И неожиданно он разрыдался.
– Моя мать, о боже, моя бедная мать… Она не переживет этого! Что я наделал…
Он всхлипывал и раскачивался на стуле, с преступником сделалась настоящая истерика. Зимородков вызвал доктора, тот дал Черемушкину успокоительных капель.
– Гаврила Сидорович! Заприте этого господина, да пусть его стерегут покрепче…
– Не извольте беспокоиться, Александр Богданович… Сам прослежу. У меня не убежит… Шагай, шагай, любезный, – сурово обратился старый полицейский к преступнику. – Небось как душегубствовать, так ты резвее шел, и сомнения никакие тебя не мучили…
Зимородков посмотрел в окно и увидел, что был уже вечер. Только тогда он опустил голову на руки и понял, как страшно устал.
Глава 26 Рвущиеся нити
Амалия не питала относительно полиции никаких иллюзий, и все же, когда на следующее утро Зимородков не позвонил ей, она почувствовала себя задетой. Вчера Леденцов дал ей знать по телефону, что Коко, он же бывший актер Николай Петрович Черемушкин, в результате стандартной полицейской операции был найден и задержан. Тогда же Амалия впервые услышала о том, что Зимородков занимался не просто поисками убийц генеральши Громовой, а искал дерзкую и неуловимую банду, и что, стало быть, речь шла уже не о единичном преступлении, а о целой серии злодеяний. Теперь следовало ухватиться за нить, оказавшуюся в распоряжении следствия, – Николая Черемушкина – и осторожно распутать весь этот кровавый клубок. Провести обыск в его квартире, опросить всех, кто с ним сталкивался и, само собой, прежде всего допросить самого Черемушкина. И хотя Амалия не сомневалась, что Зимородков справился бы и без ее подсказок (потому что баронесса Корф никогда не недооценивала других с целью придать побольше веса себе самой), ей не могло нравиться, что ее, получается, отодвинули от расследования, едва стало ясно, в каком направлении следует вести поиски. Поэтому она в глубине души обрадовалась, когда услышала от Маши, что только что прибыл господин Леденцов и просит его принять.
Еще с порога Амалия увидела, что с молодым сыщиком было что-то не так. Прежде он казался пепельным, а теперь потемнел лицом еще больше, и вид у него был уже не печальный, а попросту мрачный. «Что-то случилось, – с беспокойством подумала Амалия. – Но что?»
– Черемушкин умер, – сказал Гиацинт.
И даже не сел, а как-то бессильно осел на предложенный ему стул. Руки его повисли, углы рта опустились.
– Как это случилось? – только и могла вымолвить Амалия. – Он покончил с собой?
Леденцов помотал головой.
– Нет, Амалия Константиновна. Его убили.
– Кто? Как? – Амалия распрямилась, не веря своим ушам. – Боже мой! Неужели Александр Богданович не догадался посадить его в одиночную камеру?
– Нет, господин Зимородков все сделал правильно, – отозвался Леденцов, неприязненно выделив голосом «господин Зимородков». – Его убил Гаврила Сидорович.
– Кто?
– Да наш же полицейский, Амалия Константиновна… Старый, честный служака… которому Александр Богданович поручил охранять задержанного.
Амалия молчала.
– Он, то есть Гаврила Сидорович, знает разные приемы, с помощью которых можно придать видимость, что человек умер как бы сам… Но врач, которого позвал Александр Богданович, тоже все эти приемы знает… Да мы все понимали, что Черемушкин не мог умереть своей смертью… Он же обещал признание сделать…
– Обещал? О господи…
– Гаврилу Сидоровича сразу же задержали, – мрачно сказал Леденцов. Щека его слегка подергивалась в нервном тике. – И знаете, он даже ничего не отрицал… то есть молчал и не отпирался, что убил задержанного. Мне пришлось вести его в камеру… я не утерпел и спросил, зачем он это сделал, разве он не понимал… А он только посмотрел на меня и с некоторым презрением сказал: «Милый человек, мне семью кормить надо, а на казенной службе не разживешься…» – Гиацинт закусил губу. – А я думал, что знал его… хорошо к нему относился… Да мы все хорошо к нему относились…
У Амалии заныл правый висок, и она стала нервно растирать его своей тонкой рукой.
– Это тот самый Гаврила Сидорович, который при обходе домов выяснил, где живет Черемушкин, и задержал его?
– Он самый, Амалия Константиновна.
– Значит, тогда он был образцовый полицейский, а всего через несколько часов стал убийцей… Надо выяснить, кто заплатил ему, кто подбил его убить Черемушкина.
– Александр Богданович уже занимается этим, Амалия Константиновна. Он… он… Может быть, негоже так говорить о начальстве, но он в бешенстве… Если бы он вчера не стал ждать и сразу же дожал Черемушкина…
– Теперь нет смысла рассуждать об этом, – сказала Амалия несчастным голосом.
Но Леденцов все-таки высказал то, что было у него на уме с того самого мгновения, когда он узнал о смерти ключевого свидетеля:
– Мне почему-то кажется, что, если бы на месте господина Зимородкова были вы, вы бы не совершили такой ошибки… Ведь даже ваш дядя сумел разговорить работников ресторана там, где я не справился…
Ах вот, значит, почему он пришел…
– Гиацинт Христофорович, – не удержалась Амалия, – скажите, а почему вы вообще пошли в полицию? Мне кажется, что вы имели возможность выбрать и другой род деятельности…
Леденцов нахмурился, и Амалия поняла, что для молодого сыщика это была больная тема.
– Я пошел в полицию, чтобы преступления не оставались безнаказанными… Вот.
– Это имеет для вас значение? Вы когда-то сами столкнулись с…
– Да. Мой отец тиранил мою мать и довел ее до самоубийства. Она повесилась, и это я нашел ее тело.
– Что было потом? – спросила Амалия после паузы.
– Потом? Я рассказал на следствии все, что знал, и отец меня проклял. Тем не менее я добился того, что привлек к нему внимание, и его обследовал врач. Он установил, что мой отец уже давно психически болен. Если бы я раньше обратился в полицию и не молчал, возможно, мою мать удалось бы спасти. Я тоже сообщник преступления, Амалия Константиновна, – медленно проговорил Леденцов, – и это останется со мной на всю жизнь.
Амалии было уже неловко, что она вообще начала этот разговор. Есть такие драмы – и такие раны – которых лучше не касаться, пусть даже из самых лучших побуждений.
Поэтому она сказала:
– Нам надо отыскать человека, который убил Ольгу Верейскую и который, вероятно, выполняет в их шайке грязную работу. Полиции удалось хоть что-нибудь о нем выяснить?
– Никак нет, Амалия Константиновна. Домой к Черемушкину он не приходил.
– А дома у Черемушкина вы нашли хоть что-нибудь, что может навести на след его сообщников?
– В том-то и дело, что нет, Амалия Константиновна. Правда, деньги у него водились, но никаких вещей с прошлых преступлений или с ограбления в Спасском переулке мы не обнаружили.
– Полиция ищет перекупщиков? Без них ведь не обошлось.
– Да, Амалия Константиновна, господин Зимородков уже дал соответствующие указания.
– Актеры – люди общительные. Удалось выяснить, с кем дружил Черемушкин? Может быть, его друзья смогут что-то прояснить?
– Он вроде бы общался с некоторыми из соседей, но все они – люди вполне приличные и ничего не знали о его настоящей профессии.
– Как он объяснял тот факт, что нигде не работает, бывший актер, а деньги у него водятся?
– Говорил, что у него в Тамбове набожная тетка, которая высылает ему деньги и написала в его пользу завещание с условием, чтобы он не подходил к театру.
– Ах, ну да, – кивнула Амалия. – Богатая тетка в Тамбове… прямо как в современных пьесах… Какую ни раскрой, обязательно на нее наткнешься. – Она внимательно посмотрела на Леденцова. – Значит, ничего?
– Ничего, – с убитым видом подтвердил сыщик.
– Вы поставили человека возле дома, где он жил? На всякий случай.
– Разумеется, Амалия Константиновна. Только вот мало надежды, что птичка запорхнет в клетку. Слишком быстро они узнали, что мы его схватили, и приняли меры.
– С кем Черемушкин чаще всего общался?
– С Порфирием Замятиным, он живет с ним рядом, на том же этаже.
– Что за человек этот Замятин?
– 27 лет, из мещан Орловской губернии. Приехал в Петербург, служил по ведомству путей сообщения, но, как он выразился, музы взяли свое.
– Музы?
– Он ушел из ведомства два года назад, сейчас пишет фельетоны для газет, статьи и также переводит с французского. Они с Черемушкиным подружились на почве любви к бегам. Иногда Замятин занимал у него деньги.
Амалия задумалась.
– Само собой, мы проверили Замятина, но ничего подозрительного за ним не обнаружилось, – поторопился объяснить Гиацинт, который по-своему истолковал молчание своей собеседницы.
Однако, как оказалось, баронесса Корф думала вовсе не о том.
– У Черемушкина была любовница? – спросила Амалия.
Тут, признаться, Леденцов покраснел и заерзал на месте.
– Судя по всему, постоянной подруги у него не было… Он, гм, предпочитал пользоваться услугами профессионалок.
– Вы их нашли?
– Сейчас как раз их допрашивают, хотя я сомневаюсь, чтобы они могли рассказать что-то, что представляет ценность для нас.
– Где Замятин обычно бывает в это время?
– Дома сидит, сочиняет или переводит. У него семья и трое детей. Живут они небогато, даже прислугу не держат. Жена сама делает всю работу по дому.
– А что это за дом вообще, Гиацинт Христофорович?
– Средней руки, так сказать. Большой дом, довольно много народу – мещане, одна обедневшая купчиха, разночинцы.
– Швейцара внизу, конечно, нет?
– Нет, к сожалению, а то мы бы знали о Черемушкине куда больше. Дворник – пьяница, тоже ничего нам сообщить не смог. Жил Черемушкин спокойно, никаких скандалов с ним не связано.
– Ну, была не была, – не понять к чему заключила Амалия и поднялась с места. – Подождите меня здесь, я сейчас вернусь.
И она удалилась.
По правде говоря, Гиацинт Христофорович считал себя человеком бывалым, которого не так-то легко удивить, но, когда баронесса Корф примерно через полчаса вновь вошла в гостиную, он прикипел к месту, застыл, заиндевел, закоченел и вообще испытал крайнюю стадию изумления.
Перед ним стояла разбитная бабенка неопределенного возраста с чрезвычайно нахальной, густо накрашенной физиономией. Из-под дешевой шляпки выбивались рыжие не то кудри, не то космы, дерзко торчащие в разные стороны, а улыбка была настолько вызывающей, что, если поблизости случились бы няни с детьми, няни, несомненно, поспешили бы увести своих питомцев, да еще перекрестились бы – на всякий случай.
– Ужасно? – весело спросила Амалия.
– Госпожа баронесса, – пролепетал Леденцов, – это… это… Это не знаю что такое!
– Ну-с, если господин Черемушкин питал склонность к девицам легкого поведения, то не могу же я изображать ученую курсистку, – хмыкнула Амалия, взяв под мышку бутылку дешевого вина. – В доме на Николаевской улице вас видели?
– А… э… да, Амалия Константиновна. Они наверняка запомнили, что я из полиции.
– Тогда сделаем вот что: вы пойдете вперед и велите полицейскому, который дежурит на месте, ни в коем случае не обращать на меня внимания и сделать то, что я скажу, а остальным я займусь сама.
– Что вы надумали, Амалия Константиновна? – только и мог выговорить пораженный Леденцов.
– Ничего особенного, только у меня одна просьба: когда мы будем на улице, идите как-нибудь незаметно за мной и следите, чтобы городовой меня не задержал. Иначе барона Корфа хватит удар, – добавила Амалия, и глаза ее сверкнули. – Так-с… – продолжала она, оглядывая себя. – Сапоги со стоптанными каблуками, которые вдобавок кривые… а, черт, эти перчатки нельзя, они дорогие… Детали – это все! Значит, берем другие перчатки… дыра на пальце – очень хорошо… дрянное вино – прекрасно… воротник из зверя, которого не всякий зоолог сможет опознать… Нетрезвая мамзель пришла проведать своего кавалера, как вам, Гиацинт Христофорович?
– Великолепно, Амалия Константиновна!
– Не Амалия Константиновна, а Ленка Звездочка, бывшая актриса, ныне работница горизонтального труда… И вовсе не великолепно, милостивый государь! Какая же я пьяная, когда от меня вином не разит за версту? Нет, это неправильно… Придется прополоскать рот каким-нибудь дешевым пойлом и налить на себя немножко, чтобы уж наверняка…
Гиацинт представил себе, какой эффект произведет появление незнакомой мамзели в таком виде, если она выйдет через парадный вход особняка, расположенного в самом аристократическом районе города, и затрепетал от восторга. Но, разумеется, Амалия не стала рисковать, и они покинули дом через черный ход.
Первый же городовой, покосившись на рыжую оторву в потрепанном пальтишке и с бутылкой под мышкой, неодобрительно покрутил головой и стал следить, не вздумает ли она приставать к прохожим. Леденцов пристроился в фарватере Ленки Звездочки и, в приливе вдохновения ощущая себя кем-то вроде влиятельного сутенера, следил, чтобы его подопечную никто не обидел. Трижды ему приходилось отгонять от нее собак, которые при одном виде столь предосудительного существа заливались яростным лаем, не менее пяти раз – призывать к порядку прилично одетых господ, которые игриво интересовались, сколько она берет, и еще дважды – предъявлять документ, чтобы городовые ее не арестовали.
На углу Николаевской улицы драный бродячий кот, едва завидев рыжую Ленку, с душераздирающим мяуканьем взлетел на дерево и сидел на нем, пока она не прошла. Судя по всему, представление имело успех, и даже больший, чем рассчитывала его устроительница, хотя Гиацинт по-прежнему не мог взять в толк, каким образом это поможет им выйти на след сообщников Черемушкина.
Пошатываясь, Ленка Звездочка вошла в дом, спотыкаясь чуть ли не на каждой ступеньке, поднялась на четвертый этаж и подошла к двери, которую ей загодя описал сыщик:
– Дверь не напротив лестницы, а первая налево… На ней широкая царапина, похожая на букву «глаголь».
– Коко! – завизжала Ленка, что есть силы дубася в дверь свободной рукой. – Котик, я соскучилась! Открой…
Но Коко по понятной причине открыть не мог, зато за дверью напротив лестницы (где жил с семьей Замятин) произошло некоторое движение.
– Коко! – Ленка возвысила голос и поправила рыжие пряди, которые лезли в глаза. – Ты что там, не один? Открывай! Я выпивку принесла! Коко, это нечестно! Мы же уговорились!
Дверь напротив лестницы приотворилась, и наружу выглянул молодой мужчина с птичьим носом, близко посаженными серыми глазами и светлым клоком волос, свисающим на правую бровь.
– Вы с ума сошли? – зашептал он, пугливо озираясь. – Николая вчера арестовали! Немедленно уходите, иначе и вас тоже…
– Как? Арестовали? За что? – изумилась Ленка, подходя к нему. – Вы что-то путаете! Мой Коко не мог… Он не такой!
Но тут снизу послышались тяжелые шаги полицейского, и Замятин, воровато оглянувшись, втолкнул Ленку в квартиру и быстро захлопнул дверь.
– Порфирий, кто там? – прозвенел из глубины квартиры женский голос.
– Ох, пожалею я об этом, сильно пожалею… – бубнил фельетонист, меряя Ленку недоверчивым взглядом. – Как будто мне неприятностей не хватает…
– А я тебя знаю! – громко объявила рыжая. – Видела с ним на бегах. Только не помню, как тебя зовут…
– Да тише ты! – прошипел Порфирий, махая на нее рукой.
Только что на этаж поднялся полицейский, дежуривший возле дома, в сопровождении верного Гиацинта.
– Она могла войти сюда, – упорствовал Леденцов в соответствии с полученными им от Амалии инструкциями. – Что, если она его сообщница?
– Да никто сюда не входил, – вяло возразил полицейский. – Смотрите, дверь заперта и опечатана, все как полагается… В этот дом иногда такие ходят… я-то насмотрелся…
– И все же надо проверить, – решительно молвил Гиацинт и, оглядевшись, двинулся к двери Замятина, в которую постучал, и весьма властно.
Ленка стояла ни жива ни мертва. Мрачно покосившись на нее, фельетонист указал ей на вход в гостиную, а сам подошел к двери.
– А, это вы! – с фальшивой улыбкой проговорил он, завидев Леденцова. – Ну что? Как проходит расследование?
– Не имею права разглашать подробности, господин Замятин, – отозвался сыщик. – Вы не видели здесь особу чрезвычайно характерного вида, рыжую, в пальто с собачьим воротником и с бутылкой вина под мышкой?
– Послушайте, – заворчал Порфирий, нервно запуская пальцы в волосы и ероша их, – вы понимаете, что мне надо работать? Я уже рассказал вам все, что знал. Я сижу дома, у меня жена, малолетние дети… Простите, но у меня нет времени следить, кто, куда и к кому ходит… Может быть, вам покажется это странным, но я занятой человек, не меньше, чем какой-нибудь министр! И если я сей же час не напишу фельетон, который устроит редактора, то моей семье завтра будет нечего есть…
– Ну, ну, Порфирий Викентьевич, – примирительно сказал Леденцов, – мы же тоже делаем дело, согласитесь… Я только хотел узнать… а впрочем, всего доброго, не смею вас больше задерживать…
– Премного благодарен! – буркнул фельетонист и захлопнул дверь.
Некоторое время он стоял, отирая со лба проступивший на нем пот. Из гостиной выглянули два испуганных женских лица: одно принадлежало рыжей Ленке, другое – некрасивой, но симпатичной женщине лет двадцати пяти, с умными глазами и русыми волосами, забранными в пучок. Бывают такие женщины, которых иллюстраторы любят рисовать возле домашнего очага с шитьем в руках, так вот, у Натальи Замятиной было именно такое лицо – уютное, домашнее и располагающее к себе.
– Я ничего не понимаю, – прохныкала Ленка. Она была готова расплакаться.
– Вляпался твой Коко, – мрачно сказал Замятин. – Влез в скверную историю, из нас полиция чуть всю душу не вытрясла, а все оттого, что общались по-соседски… – Он пожал плечами. – Не знаю, как теперь тебе отсюда выйти. Эти-то двое кружат возле дома, как коршуны…
Ленка шмыгнула носом.
– Можно я у вас пока посижу? Мне полиция ни к чему… Я вот и вино принесла… возьмите… Я тихонечко посижу, а потом прошмыгну, они меня не заметят… Я только хотела Коко приятное сделать. За что они его арестовали?
– Говорят, он генеральшу Громову ограбил, – отозвалась Замятина своим глубоким, мелодичным голосом. – Очень странно, я бы никогда не подумала, что он может быть замешан во что-то такое…
– Да они просто хотят на него свалить это убийство, – пожал плечами Порфирий. – У них же нет подозреваемых! Раньше хотели горничную обвинить, но у нее алиби… А начальство наверняка требует, чтобы хоть кого-нибудь посадили…
– Это ужасно, – сказала Ленка плачущим голосом. – Может быть, выпьем? – с надеждой предложила она.
– Я не пью, – сурово ответил фельетонист. – Мне работать надо…
Через минуту все трое сидели за большим столом в гостиной, совмещенной со столовой, и вполголоса беседовали, держа в руках стаканы с вином. В кроватке у стены посапывал младенец, на кресле лежало неоконченное шитье, на диване дремала кошка, и лампа под большим бахромчатым абажуром струила мягкий, уютный свет. (Из-за того, что окна выходили во двор-колодец, здесь даже днем было темно, как в погребе.)
– Все это так неожиданно случилось… – задумчиво заметила Наталья.
– Я, конечно, во время работы в газете насмотрелся на всяких жуликов, – поддержал ее муж. – Но о Коле я и подумать не мог… Он тебе ничего не говорил? – обратился он к Ленке.
– Он всегда был щедрый, – чисто по-женски ответила та. – Я как-то спросила, откуда у него средства. Он мне рассказал о какой-то своей тетке…
– Из Тамбова, – кивнул Замятин. – Нет, я тебе вот что скажу: он не может быть убийцей или вором. Кто угодно, только не он… Правда, он мне иногда говорил, что ради денег готов на все… но я думал, что это из какой-то его роли, и всерьез не принимал… Еще он говорил, что бросил театр по настоянию тетки, а потом, когда мы выпили, проболтался, что на самом деле там случилась какая-то скверная история, кто-то из зрителей побил его… и он чуть не умер, долго хворал, и с тех пор у него появился страх сцены… Он больше не мог играть, но декламировал замечательно… Шекспира очень любил, что бы о нем ни говорил граф Толстой…
– Порфирий, а я вот что думаю, – вмешалась его жена. – Может быть, тут что-то политическое, а про Громову они пустили слух для отвода глаз? Чтобы побольше у нас выпытать…
– Политическое? – встрепенулся фельетонист. – Ну… ну, не знаю… Он как-то политикой не интересовался. Вообще о ней не упоминал…
– Чтобы не привлекать к себе внимания, – с готовностью подсказала жена. – А что? Очень может быть. Тогда это объясняет, почему столько полиции…
Ленка всхлипнула.
– Ну, ну, что такое? – встревожился Замятин. – Сейчас мы еще нальем…
– Он мне письмо оставил, – сквозь слезы отозвалась та. – Велел его отнести, если с ним что-то случится… если его схватят… И сказал, кому отнести и куда! А я забыла, кому его отдать надо… Ду-у-у-ура! – зарыдала она, распустив губы.
Замятины обменялись встревоженными взглядами.
– Я тебе говорю, это политика, – шепнула Наталья.
– На письме если адрес? – спросил фельетонист.
– Нет! – Ленка вытерла слезы, размазав тушь так, что на нее сделалось страшно смотреть. – Запечатанный конверт… Я думала, он шутит… разыграть меня решил…
– Тут что-то серьезное, – объявила Наталья. – Вот что: давай лучше вспоминать, кому он просил отдать письмо. Просто так он ведь не мог этого сделать…
– Да не помню я! – в отчаянии вскрикнула Ленка. – Я ж говорю, я думала, что он шутит… интересничает… Сказал: отдашь, мол, Ивану… или не Ивану? Дырявая моя голова… ничего не помню… Помню только, что бывший офицер… и где ж его теперь искать? Коко, наверное, думает, что я вспомню… все сделаю… А я… я…
И она зашлась в плаче.
– Я не видел рядом с ним никаких офицеров, – сказал Замятин, хмуря свои белесые брови. – То есть мы общались, на бегах бывали, я у него деньги одалживал… Но вообще, вот я сейчас вспоминаю… Он даже о семье своей не упоминал… Скрытничал… и о тебе тоже не говорил…
– Я видела его однажды, – внезапно объявила Наталья. – С офицером.
– Наташа, ты ничего не путаешь? Когда это было?
– Да неделю назад… или две… Я у лавочника Аблесимова покупки делала… у него сахар дешевле… Выхожу – а на другой стороне улицы Николай Петрович стоит, и с ним господин в штатском, но по выправке видно, из военных… Они поговорили и разошлись. А мне, знаешь, любопытно стало – офицеры, даже бывшие, не охотники с актерами общаться… И тут я вижу, как тот господин входит в фехтовальный зал. На Разъезжей есть фехтовальный зал, – пояснила Наталья, – его держит француз Лежандр. Может, вам стоит там справки навести? Высокий такой господин… лет тридцати, темноволосый, прекрасно одет… Еще у него тросточка была с ручкой в виде головы попугая. Надеюсь, это вам поможет…
Глава 27 Туше
Гиацинт видел, как Амалия вышла из дома и двинулась по улице. Кот, который успел спуститься с дерева, при приближении Ленки Звездочки вновь зафырчал и метнулся вверх по стволу, но внезапно остановился и недоуменно распушил усы. Впрочем, не только его одного удивила бы внезапная перемена в рыжей мамзели, которая теперь уверенно шла по прямой, не шатаясь и не сбиваясь с шага.
Потом Амалия остановилась, и Леденцов нагнал ее.
– Что будем делать теперь, Амалия Константиновна?
Молодая женщина взглянула на него с озорным смешком в глазах.
– Русский человек, – объявила она, – терпеть не может власть.
Гиацинт, никак не ожидавший такого продолжения, открыл рот.
– Кто-то из историков – кажется, Ключевский, – утверждает, что это пошло с монгольского нашествия, жестокость которого общеизвестна, и что после освобождения от ига новая власть все равно предпочитала использовать приемы старой, – продолжала Амалия. – Так или иначе результат налицо: любая власть для нашего соотечественника прежде всего нечто, что стремится притеснить его и ущемить его свободу, даже когда власти в действительности нет до него никакого дела. Для нас власть – враг по определению, будь то правительство или, допустим, власть полицейская. А другая характерная черта русского человека – что он склонен к состраданию, причем обычно сострадает вовсе не тем, кому следует.
– Амалия Константиновна…
– Много вы знаете русских романов, где говорится о больных детях, о покинутых стариках, о калеках? Зато пачками выходят книги, в которых повествуется о нелегкой судьбе проституток или о преступниках, которым читатель непременно должен сочувствовать, хотя из их действий неминуемо следует, что они мерзавцы и если и получили по заслугам, то мало. С этой точки зрения господин Достоевский, несомненно, самый русский писатель… Стендаль, к примеру, отрубил своему Жюльену Сорелю голову и не поморщился, хотя тот даже не убил, а лишь покушался на убийство. У нас мсье Раскольников мало того что остается в живых – читатель еще обязан сочувствовать тому, что он попался и отбывает наказание, хотя по-хорошему его стоило бы казнить, и дело с концом…
Гиацинт внимательно посмотрел на Амалию.
– Вы рассчитывали на то, что Замятины будут откровеннее, если их станет расспрашивать не полицейский, а подружка преступника и к тому же – особа легкого поведения?
– Я никого не расспрашивала, милостивый государь, – усмехнулась Амалия. – Я порыдала, изливая душу, мы выпили вина, и я узнала все, что нам нужно… О, щучья холера!
К ним только что подъехал экипаж барона Корфа. Амалия надвинула шляпку пониже на брови и повисла на локте Гиацинта.
– Господин Леденцов! Как продвигается… – Тут Александр увидел рыжую потаскушку, нагло скалившую зубы, и переменился в лице. – Quelle horreur![110]
– Милостивый государь, – хихикнула Ленка, жеманясь, – мы таких слов не знаем, а вам я вот что скажу: каждый зарабатывает на жизнь по-своему… Хи-хи!
– Это свидетельница, – заторопился объяснять Леденцов, чувствуя себя так, словно его действительно застукали посреди улицы непонятно с кем.
– Очень на это надеюсь, – проворчал сквозь зубы барон Корф. – Лично я должен вас предупредить, что если вы втянете мою жену во что-нибудь эдакое… – Он оглянулся на рыжую оторву, скривился и захлопнул дверцу экипажа. – Трогай!
Когда карета ее мужа исчезла в потоке экипажей, Амалия отпустила руку Гиацинта, не выдержала и расхохоталась.
– Собственно говоря, нам с вами нужно совсем в другую сторону, на Разъезжую… Если верить источнику, человек, убивший Ольгу Верейскую, посещает фехтовальный зал Лежандра. Но в таком виде я идти туда не могу, так что возьмем извозчика.
Мимо них проехали два пустых экипажа, и только на третий раз Гиацинту удалось сговориться с мрачным извозчиком, явно страдающим похмельем. (Позже тот долго вспоминал, как к нему в карету сели господин с рыжей наглой девицей, а вышли тот же господин, но с белокурой дамой, хоть и одетой очень скромно, после чего бедняга извозчик решил, что пора в самом деле бросить пить, а то мало ли что привидится в другой раз…)
– Кто будет вести допрос – вы или я? – спросил Гиацинт, когда они с Амалией, вернувшей себе приличный вид, шли к фехтовальному залу.
– Ну зачем же так официально – допрос? – отозвалась Амалия. – Мы просто ищем господина, который вчера в магазине по рассеянности забрал ваши покупки, а у нас оказались его покупки… вот и все!
Восхищенный Леденцов решил, что в самом деле не мешало бы поучиться у баронессы Корф более тонким методам, и приготовился внимать и наблюдать. Если бы в это мгновение Амалия попросила его броситься в жерло вулкана, он бы даже не стал колебаться.
Они вошли в приземистое, ничем не примечательное здание и у швейцара сразу же узнали все, что их интересовало.
– Господин с военной выправкой и тросточкой с попугаем? Как же-с, сударыня, знаем-с. Они-с капитан в отставке, а зовут их Алексей Михалыч Печенкин. Вам повезло – они сейчас тренируются в главном зале.
Амалия и Гиацинт обменялись быстрым взглядом.
– Я думаю, надо вернуть ему покупки, – заметила Амалия. – А то как-то неловко получилось…
Они сняли верхнюю одежду и, оставив ее в гардеробе, вскоре оказались в большом, двусветном зале, в котором в этот час тренировалось с десяток человек. То и дело слышался лязг клинков и возгласы: «Туше!», «Защищайтесь!».
– Мы ищем капитана Печенкина, – сказала Амалия служителю.
– Вот он, с господином Лежандром, – отозвался служитель, указывая на высокого господина с военной выправкой, который только что закончил бой на рапирах с хозяином и раскланивался с ним самым изысканным образом.
(Впоследствии, кстати, выяснилось, что Лежандр никакой не Лежандр и даже не француз, а венгр по фамилии Кочиш, но так как французские фехтовальщики считались лучшими, а сам он действительно фехтовал отменно, то для процветания дела он и прикинулся французом.)
– Гиацинт Христофорович, что вы делаете? – прошептала Амалия, видя, как сыщик сунул руку в карман.
– Амалия Константиновна, у меня револьвер, а с этим господином нельзя быть ни в чем уверенным…
– Уберите руку, немедленно! Вы нас выдадите!
И в самом деле, капитан Печенкин повернул голову (никакой бороды, как угадал Зимородков, он не носил, а лишь небольшие усы щеточкой) и увидел возле дверей незнакомую даму и рядом с ней – бледного, напряженного Леденцова.
Оскалившись, Печенкин стиснул рапиру, снял с ее острия защитный колпачок и стал медленно отступать к другим дверям, которые располагались как раз за его спиной. Ах, не прост был капитан, вовсе не так прост, раз с первого же взгляда понял, что странная парочка явилась по его капитанскую душу…
– Скорее! За ним!
Уж близок, близок миг победы… близок, говорю я, тот миг, когда убийца будет схвачен и тайна неуловимой банды, совершившей столько дерзких ограблений и убийств, будет раскрыта… Но не лыком шит был посетитель несчастной Оленьки Верейской, и не принадлежал он к тем людям, которые, едва их припрут к стене, тотчас же спешат признать свое поражение. Нет, капитан явно был настроен сражаться до конца…
Амалия, которой мешало платье, отстала от Леденцова, который выскочил следом за Печенкиным в двойные двери и побежал по коридору. На бегу сыщик достал револьвер, но, возясь с ним, потерял несколько секунд, и капитан тем временем успел скрыться.
Отдышавшись, Гиацинт двинулся дальше, на ходу заглядывая во все двери, но за ними никого не было. Впереди оставался еще один зал, также двусветный, но поменьше, из которого служитель выносил охапку полотенец.
– С дороги! Полиция!
Служитель шарахнулся к стене, а Гиацинт прошел мимо него и со всеми предосторожностями заглянул в зал. Внутри никого не было. Потоптавшись на месте, Леденцов вошел и убедился, что зал действительно пуст. Капитан Печенкин растворился, испарился, исчез.
Тут ангел-хранитель сыщика Леденцова, должно быть, догадался дернуть его за пепельную прядь волос, чтобы он повернул голову. Вовремя, одним словом, успел оглянуться Гиацинт Христофорович, иначе жизнь его прервалась бы в то же самое мгновение. Ибо за спиной его с рапирой наготове стоял капитан Печенкин, чье лицо горело бешенством и звериным азартом. Он спрятался за выступом стены, который в полумраке Леденцов поначалу не заметил, и ждал, терпеливо ждал удобного момента.
Гиацинт с воплем отскочил в сторону и выстрелил, но пуля ушла вбок, а в следующее мгновение капитан ловким приемом выбил из рук Леденцова револьвер. Тот покатился по полу, крутанулся пару раз и замер, и был он в это мгновение не более полезен, чем какая-нибудь царь-пушка, которая вообще никогда не стреляла.
– Гиацинт, бегите! Он убьет вас!
В первое мгновение он даже не узнал голос Амалии – настолько пронзительным был ее крик. Вывернувшись, Гиацинт почти выскочил из угла, в который его загнал капитан, но тот замахнулся рапирой, и плечо Леденцова ожгла боль. Он метнулся в сторону и получил еще один удар, в бок, но тут Амалия схватила стул и швырнула его в капитана. Печенкин пошатнулся.
– Ах вот ты как, дрянь!
Он нанес Леденцову еще один удар, после которого сыщик повалился на пол, и быстрым шагом двинулся к Амалии, явно намереваясь убить ее, как до того – Ольгу Верейскую. Но тут между ними вклинился стройный белокурый господин во флигель-адъютантском мундире. Содрав с руки перчатку, он швырнул ее Печенкину в лицо.
– Защищайтесь, сударь!
Александр Корф схватил со стола одну из рапир и сорвал с нее защитный колпачок.
– Амалия, уходи! Уходи, говорят тебе!
Его последние слова перекрыл лязг оружия.
Приподнявшись на полу, Гиацинт обнаружил, что перед глазами у него все плывет, но вот зашуршало женское платье, кто-то подхватил его голову, и он понял, что Амалия рядом. В зале метались, ожесточенно рубясь, две тени, но он никак не мог понять, кто был вторым.
– Боже мой, вы ранены… – простонала Амалия. – Это моя ошибка. Надо было вызвать полицию, а не идти сюда самим…
Когда люди, извещенные испуганным служителем, вбежали в малый зал для фехтования, они успели только увидеть, как капитан Печенкин провел чрезвычайно эффектный и коварный прием, в результате которого рапира Александра переломилась в двадцати сантиметрах от эфеса. В следующее мгновение, рискуя жизнью, барон поднырнул под рапиру противника и со всего маху всадил обломок ему в сердце – как скажет впоследствии доктор, в точности туда же, куда капитан вонзил нож Ольге Верейской.
Глава 28 Поиски главаря
Час спустя Амалия в состоянии, близком к прострации, сидела в маленькой угловой комнате Лежандрова клуба. Раненого Гиацинта увезли в больницу, тело капитана накрыли куском полотна, и Александр Зимородков только что закончил допрашивать барона Корфа, который, впрочем, и не думал отрицать, что убил Алексея Михайловича Печенкина со вполне обдуманным намерением.
– Лучше бы вы его ранили, барон, – не удержался Александр Богданович, качая головой. – Так мы бы успели его расспросить, а теперь…
– Думаю, он бы все равно ничего вам не сказал, – холодно ответил Александр. – И я не жалею, что убил его, – он угрожал Амалии.
Он подписал протокол и удалился в угловую комнату, высоко неся голову. Амалия бросила на него вялый взгляд, когда он открыл дверь, но ничего не сказала. Александр сел напротив нее. Так они и сидели – молча, не говоря ни слова.
– Я все-таки не понимаю… – начала Амалия. – Это чудо какое-то, что вы оказались здесь.
– Просто я понял, что вы что-то затеваете, – коротко ответил Александр. – И когда в следующий раз вы соберетесь меня обмануть, можете надеть какой угодно парик, но я все равно узнаю вас – по манере поворачивать голову.
– А-а! – протянула Амалия, и ее глаза заблестели. – Так horreur – это было про меня?
– Разумеется, а что еще я мог сказать?
– Вы еще сделали такую выразительную гримасу…
Они поглядели друг на друга и засмеялись.
– Каюсь, у меня в тот миг было большое желание свернуть вашему знакомому шею, но, поразмыслив, я понял, что ни у кого на свете не хватило бы духу подбить вас на нечто подобное. Значит, это была ваша затея, и я решил не выпускать вас из виду.
– Я очень рада, что вы так решили, – сказала Амалия серьезно. – Правда.
– Доктор обещал, что с вашим Гортензием Тюльпановичем все будет хорошо, раны хоть и серьезные, но жизни не угрожают. – Александр поднялся с места. – Поедемте домой, Амалия. Я отвезу вас.
Дома, переодевшись, Амалия ушла в музыкальную комнату и села напротив орхидей. Ей хотелось собраться с мыслями. Больше всего, по правде говоря, она опасалась, что своими действиями только повредила расследованию и все испортила, но вечерний звонок Зимородкова развеял ее опасения.
– Амалия Константиновна, мы арестовали одного из перекупщиков, связанного с бандой.
– Поздравляю вас, Александр Богданович… Как вы его нашли?
– Благодаря бумагам Печенкина. Он был крайне осторожен, но… кое-какие следы все же оставил. Следствие продолжается, госпожа баронесса.
– А главарь? – спросила Амалия после паузы.
Зимородков долго молчал.
– Вы не считаете, что им мог быть капитан Печенкин?
– Мне сложно об этом судить. Характер человека отражается в его действиях. Тот, кто задумывал эти преступления, должен быть умен, хладнокровен, циничен и жесток. Человеческая жизнь для него – ничто. Если капитан отвечает этому портрету, то да, он мог быть главарем.
Зимородков вздохнул.
– Во время ограблений женщины убивались с особенной жестокостью, – неожиданно сказал он. – Вспомните также, как была убита Ольга Верейская… Нам стало известно, что капитана несколько лет назад бросила жена… убежала с другим. Судя по всему, после этого он возненавидел всех женщин…
– Допустим, но это не объясняет, почему он выбрал в Петербурге, Самаре, Саратове и Москве именно тех, кто стал его жертвами – тем более что в семье Тоновых, насколько я помню, вообще была только одна женщина, а все прочие – мужчины. Тут должна быть какая-то связь… что-то, что объединяет этих людей. Знаете что, Александр Богданович? Пришлите-ка мне пока все материалы, я их изучу.
– Хорошо, хотя я не думаю, что нам это поможет. Понимаете, как только я понял, что ограбление Громовой – одно из многих, я первым делом стал искать связь между преступлениями, но не нашел. Есть только внешние обстоятельства – все жертвы были богаты и свои богатства хранили дома, как они полагали, в надежном месте. Еще можно говорить о некой периодичности – преступления следовали друг за другом через определенные промежутки времени, от четырех до восьми месяцев. Похоже, что банда каждый раз тщательно готовилась к следующему делу…
– Какая-то странная банда, вы не находите? – неожиданно спросила Амалия. – Один – бывший актер, другой – капитан в отставке… Кстати, его возил какой-то кучер. Вы нашли этого человека?
– Нет, Амалия Константиновна. Судя по всему, он исчез.
Однако вскоре выяснилось, что кучер Печенкина не успел далеко убежать – через несколько дней его нашли убитым на окраине Петербурга. Также был найден убитым еще один перекупщик, который помогал банде сбывать награбленное добро.
Первый перекупщик, некий Михельсон, уже седой старик, сначала склонялся к тому, чтобы сотрудничать со следствием, но тут защищать его интересы взялся чрезвычайно цепкий адвокат Курагин, и Михельсон резко изменил линию поведения. Теперь на допросах он жаловался на старость, на плохую память и уверял, что ничего не видит, не помнит и не знает.
Леденцов, выписавшись из больницы, первым делом отправился узнавать, что нового появилось в деле, и пришел к Амалии мрачный.
– Кто-то оказывает на следствие давление, Амалия Константиновна… Все наши его чувствуют. И Александру Богдановичу упорно пытаются внушить, что именно убитый Печенкин был главарем.
– Нет, – промолвила Амалия, качая головой, – это не Печенкин. Незаконная дочь Михельсона недавно переехала в богатый дом и ходит в шелковых платьях… Ее отец ничего не скажет следствию, иначе ее убьют, но и так ясно, что капитан не был главарем. Мертвец никак не мог оплатить переезд…
Гиацинт встрепенулся.
– Амалия Константиновна, вы гений! Надо узнать, кто заплатил за новое жилье для дочери!
– Что-то мне подсказывает, что это было сделано через контору Максима Васильевича Курагина, – усмехнулась Амалия. – Сам он, разумеется, знает, в чем дело, но не скажет, ссылаясь на адвокатскую тайну. Разумеется, у нас есть несколько способов выяснить правду, хотя все они, скажем так, не слишком законные.
– В интересах справедливости, – не колеблясь, объявил Гиацинт, – я готов рискнуть.
– Даже если придется подкупать слуг?
– Но, – в некотором замешательстве пробормотал Леденцов, – если надо… то тогда… конечно…
– По-моему, вы были уверены, что я изобрету какой-нибудь другой, более элегантный способ, когда Курагин будет рад сам мне все выложить, – улыбнулась Амалия. – У вас нет, случаем, знакомых в Саратовской губернии? Таких, которые были бы в курсе всех местных дел?
– У меня там живет троюродная тетка, – подумав, ответил Гиацинт. – Ужасная сплетница, по правде говоря.
– Вам придется ее навестить, – сказала Амалия. – И кое-что узнать для меня. Ответ отправите телеграфом.
– Но…
– Никаких «но», Гиацинт Христофорович. Мы действуем против очень предусмотрительного и опасного врага, поэтому либо вы со мной, либо, если хотите, возвращайтесь к Александру Богдановичу и попробуйте законным путем установить личность главаря. Только я вам сразу же говорю: ничего у вас не выйдет.
– Когда именно мне надо к ней ехать? – мрачно спросил Леденцов.
– Чем быстрее, тем лучше.
И Амалия объяснила Гиацинту, что именно ему надо было узнать.
Через несколько дней, когда Амалия для чего-то перечитывала старые газеты, ей принесли телеграмму, текст которой гласил: «Ничего общего шапочное знакомство один раз проиграл главе семьи партию в теннис».
– Вот и все, – сказала Амалия вслух. – Да, пожалуй, все.
Глава 29 Лицом к лицу
Максим Васильевич Курагин был красавец мужчина тридцати двух лет от роду. Он принадлежал к хорошему, хоть и обедневшему роду и в свое время немало удивил светский Петербург, женившись по любви на небогатой сироте. Среди коллег он слыл умным, цепким, неразборчивым в средствах, излишне щепетильным, глуповатым фатом, красноречивым оратором и умельцем излагать одни только общие места. Истина, возможно, находилась где-то посередине, хотя в принципе между человеком щепетильным и неразборчивым в средствах лежит целая пропасть.
Надо сказать, что Максим Васильевич не любил сюрпризов и старался их избегать, поэтому, когда ему принесли письмо: «Возникли осложнения, надо срочно посоветоваться по поводу Михельсона», адвокат нахмурился.
– Эмма, кто это принес? – спросил он у служанки.
Эмма, немка по происхождению, когда-то была нянькой его жены, позже сделалась ее горничной, а потом поселилась в доме Курагина. О посыльном Эмма могла сказать немного – по ее словам, записку принес мальчик, который ушел, не дожидаясь ответа.
– Хорошо, – сказал Курагин. – Можешь идти.
Он посмотрел на часы и, хотя собирался остаться дома, стал одеваться. Судя по всему, клиент, по просьбе которого адвокат занимался защитой Михельсона, представлял первостепенную важность, и Курагин не хотел заставлять его ждать.
Выйдя из дома, адвокат взял извозчика и отправился на ипподром. Он попал как раз в перерыв между двумя заездами и, войдя в одну из лож, поздоровался с молодым, но сильно обрюзгшим человеком с капризно оттопыренной нижней губой. Адвокат сел, и мужчины о чем-то заговорили.
«Интересно, – подумал Александр Зимородков, который тоже (возможно, по совершенно случайному совпадению) оказался на ипподроме, – о чем это Курагин так живо беседует с племянником покойной Громовой? Очень, очень любопытно… Позвольте, – всполошился сыщик, – уж не этот ли племянник унаследовал после убийства все капиталы генеральши?»
Как видим, Амалия оказалась вовсе не единственной, кому было интересно узнать имя нанимателя изворотливого адвоката. Александр Богданович не выпускал Максима Васильевича из виду, и встреча Курагина с наследником убитой Громовой показалась Зимородкову чрезвычайно подозрительной.
После заезда адвокат отправился домой, и, если бы он находился в экипаже не один, по блуждавшей на его губах улыбке любой посторонний наблюдатель мог бы решить, что Курагин в этот день счастливо поставил и выиграл. Впрочем, в ясных синих глазах адвоката еще блуждали призраки былой тревоги, и он то и дело проводил по подбородку рукой.
Вернувшись к себе, Максим Васильевич узнал, что в его отсутствие заходила баронесса Корф, которой для чего-то понадобилась его консультация, но она почти сразу же ушла.
Нахмурившись, Курагин проследовал в свой кабинет и первым делом бросился к несгораемому шкафу, в котором хранил самые важные бумаги. Он подергал дверцу, но она, похоже, была заперта. Тем не менее адвокат не удовольствовался наружным осмотром, а отпер сейф и стал проверять, на месте ли бумаги.
– А она дорого обходится, не так ли? Я имею в виду дочь Михельсона.
И хотя Максим Васильевич был убежден, что самообладания ему не занимать, он все же вздрогнул, услышав этот голос.
Перед ним в темном английском костюме стояла баронесса Корф. Он никогда прежде не встречался с ней, лишь видел мельком и знал, что она существует.
Теперь они стояли лицом к лицу.
– Сударыня, признаться, я не знаю, как вы проникли в мой кабинет… Баронесса Корф, не так ли? Амалия Корф?
Она наклонила голову, и Курагин машинально отметил, что ему не нравится сумочка, которую она держала в руке. Судя по очертаниям, там могло быть что угодно – к примеру, пистолет.
– Вы придумали весьма эффектный трюк, чтобы вызнать имя моего нанимателя. Но…
– Оставьте, Максим Васильевич, – скучающим тоном проговорила Амалия. – Мне, как и вам, прекрасно известно, что никакого нанимателя нет и в помине. Главарь – это вы.
Курагин не исключал, что кто-нибудь когда-нибудь скажет ему именно эти слова, но то, что они исходили от хорошенькой – и, как он думал, пустоголовой женщины, – неприятно поразило его. Он сел, не выпуская бумаг из рук.
– И не надо коситься на нож для разрезания бумаг, – спокойно заметила Амалия. – У меня в сумочке револьвер, и я убью вас, прежде чем вы шевельнетесь.
– Сударыня…
– Ну да, ну да. Вы абсолютно ни в чем не виновный человек и законопослушный гражданин, а я обманом проникла в ваш дом и придумываю разные фантастические истории. Так с чего мы начнем? С того, как честолюбивый и, увы, бедный молодой человек понял, что адвокатской практикой заработать не так уж просто, на это уйдут годы, а он к тому же замыслил жениться? Вы познакомились с вашей будущей женой в Самаре и там же, как на грех, проиграли дело. Это было за несколько месяцев до убийства старухи Никитиной и ее слуг.
– Как интересно, – печально промолвил Курагин. – Вы рассказываете поистине захватывающий роман, госпожа баронесса… Только вот если бы вы взяли на себя труд ознакомиться с фактами, вы бы узнали, что меня уже не было в Самаре в момент убийства и ограбления.
– Разумеется, вас там не было – у вас всегда есть алиби, на все случаи. Вы же адвокат и понимаете, насколько это важно. Только вы не в суде присяжных, Максим Васильевич. Понимаете, я все знаю.
– Что именно вы знаете?
– Что госпожа Никитина была фантастически богата и так же фантастически прижимиста. Пока вы были в Самаре, вы перезнакомились со всем обществом, и вас, наверное, не раз посещала мысль: а зачем ей столько денег? Куда больше они пригодились бы вам… Но сами вы мараться не желали. Поэтому вы, пользуясь своими знакомствами на бегах, сколотили шайку, которая должна была претворить в жизнь ваш замысел. Неудачливый актер, готовый на все ради денег, отставной офицер, Михельсон, который раньше был замешан в разных темных делах – где еще может собраться такое смешанное общество? На бегах или за карточным столом. Но в карты они не играли, а вот бега посещали регулярно. Там вы их и нашли – вы ведь тоже постоянный посетитель ипподрома. Озлобленный Печенкин был готов не оставлять свидетелей, особенно если речь шла о женщинах. Черемушкин, вероятно, стоял на стреме. Кучер Печенкина помогал перевозить добро, а Михельсон и еще один перекупщик – сбывать его. Вы же изучали обстановку, собирали информацию и составляли план действий. И вас, наверное, озадачило, до чего легко все прошло. Поэтому через некоторое время вы не удержались от соблазна и свели счеты с вдовой ростовщика Булыхина – уже здесь, в Петербурге. Именно ее муж когда-то разорил вашу семью, пользуясь беспечностью вашего отца.
– Я ни с кем не сводил счетов, госпожа баронесса. Простите, но вы с кем-то меня путаете.
– А затем было убийство Мавриных в Саратове. Летом вы гостили в имении по соседству и пересеклись с этой семьей. Ее глава выиграл у вас партию в теннис… не знаю, что он вам сказал по этому поводу, может быть, хвастал сверх меры и задирал вас, не зная, кто вы на самом деле. Этот выигрыш решил его судьбу – вы отмстили, велев своим подручным уничтожить его вместе с семьей по уже отработанной схеме. И ведь не настолько богаты были эти несчастные, чтобы действовать столь жестоким образом…
– Понятия не имею, о ком вы говорите, сударыня. Сам я вообще плохо играю в теннис и, простите, если бы я убивал каждого, кому проигрываю…
– А потом произошло убийство Тоновых в Москве, казалось бы, никак с вами не связанное, потому что вы не были в Первопрестольной и не имели с ними никаких контактов. Но вы же посещаете бега, вы любите лошадей… а Тонов тоже занимался скачками, только вот лошадей он не любил. Он выставил жеребца по кличке Резвый, который проиграл Фортунату, на которого вы поставили и выиграли. А потом вы узнали, что Тонов за большие деньги выкупил Фортуната и прострелил ему ногу.
Глаза Курагина вспыхнули и тотчас же погасли.
– Тут, вероятно, я должен расчувствоваться и сознаться, что судьба Фортуната настолько меня тронула, что я решился на убийство, – насмешливо заметил он. – Видите ли, я никак не могу сознаться в том, чего не делал. Кроме того, если вы не знаете, в мире скачек творится столько несправедливого и жестокого…
– И, наконец, убийство Громовой, – перебила его Амалия. – Вы выбрали ее просто потому, что она была богата, а вдобавок вы знакомы с ее племянником, бывали у нее в доме и знали, что она где хранит. Чем-то она напоминала вашу первую жертву Никитину – взбалмошная прижимистая старуха. Вам опять были нужны деньги, потому что вы ничего не жалели для своей жены, к тому же искали счастья на бирже и проиграли больше, чем следует. Казалось бы, чего проще – убей и ограбь снова, но на этот раз все пошло наперекосяк. Старая знакомая Черемушкина, Ольга Верейская, увидела его возле особняка жертвы, и ей явно показалось странным то, как он был одет. Впоследствии, прочитав в газетах об убийстве, она могла вспомнить о подозрительной встрече и рассказать о ней полиции. Поэтому Ольге Николаевне пришлось умереть. Не знаю, как капитан убедил ее впустить его в дом, но он вполне мог сказать, что, к примеру, явился по поручению Николая, и начать рассказывать какую-нибудь правдоподобную историю. Зарезав несчастную, он на всякий случай осмотрел квартиру и обратил внимание на недавно написанное письмо. Возможно, в нем она и не говорила о встрече с Николаем, но капитан все равно прихватил его… И так как он узнал – из записки Чигринского, вероятно, – что тот вскоре придет, то сразу же решил сделать композитора козлом отпущения. Только вот Дмитрий Иванович оказался на редкость крепким орешком, и даже анонимное обвинение, посланное в газету, отдали ему, не придав письму никакого значения…
– Это все? – со скучающим видом спросил Курагин. – Простите, сударыня, но я собираюсь ужинать, и если вы верите, что я зальюсь слезами и стану каяться в том, чего не совершал…
– Разумеется, нет, – сказала Амалия, пытаясь уловить на этом красивом, равнодушном лице с усиками-стрелками хоть какое-то подобие волнения. – Я просто хотела, чтобы вы поняли: я все знаю. Вы вовремя избавились от своих сообщников и нашли средство воздействия на Михельсона, который никогда не допустит, чтобы его дочь пострадала. Но вы остаетесь на заметке, и если вы еще раз преступите закон… берегитесь, Максим Васильевич.
– Кажется, вы мне угрожаете? – Адвокат покачал головой. – Полно вам, госпожа баронесса. У вас нет никаких доказательств… иначе здесь были бы не вы, а ваши знакомые из сыскной полиции.
– Максим!
Дверь приотворилась, на пороге показалась молодая темнокудрая женщина. Она излучала очарование, и, хотя превосходно сшитое платье скрадывало линии, было заметно, что дама находится по крайней мере на шестом месяце. Адвокат посмотрел на нее с нежностью.
– Дорогая, познакомься с баронессой Корф, которая оказала нам честь своим визитом… Госпожа баронесса только что рассказала мне об одном крайне трудном, но интересном деле. Сударыня, это Ольга Антоновна, моя супруга…
Он улыбался, его лицо потеплело. «Щучья холера, – подумала потрясенная Амалия, – похоже, она действительно его «дорогая…» Тот же самый человек, который так хладнокровно замышлял и осуществлял убийства… До чего же широкая личность этот месье Курагин! Покажи любому постороннему его с женой – всякий умилится и скажет, что это самая гармоничная пара на свете…»
С любезностью, граничившей с издевкой, адвокат предложил Амалии остаться на ужин, но она отказалась.
– Мне искренне жаль, что я не могу вам помочь, поверьте, – с тонкой иронией заключил Курагин. – Передавайте господину Чигринскому мои наилучшие пожелания. Я слышал, он сочиняет балет – в добрый час! Моя жена уже просила меня, чтобы я непременно взял билеты на премьеру…
И он улыбнулся так искренне, так сердечно, что Амалия какую-то долю мгновения была почти готова поверить, что он не лгал, а она заблуждалась. Не было ни сведения счетов со старыми врагами, ни партии в теннис, ни убитых свидетелей, ничего…
Увы, она проиграла, и все, что она могла – это бросить правду ему в лицо. У нее не было доказательств, и он это знал.
Впрочем, она еще могла рассказать обо всем Зимородкову, что она и собиралась сделать в ближайшее время.
Глава 30 Второй выстрел
– Амалия Константиновна, – серьезно промолвил Зимородков, – простите меня, но вы сделали это совершенно напрасно. Неужели не было никакого способа заставить его выдать себя?
– Боюсь, что нет. Благодаря своему положению адвоката он знал все о том, какие улики находятся у вас на руках, кого вы подозреваете и почему. Не обольщайтесь, господа: он переиграл нас.
– И тем не менее я считаю, что вам, Амалия Константиновна, не следовало фактически предупреждать Курагина. Теперь доказать его вину будет действительно невозможно.
– Вы тоже осуждаете меня, Гиацинт Христофорович? – спросила баронесса Корф.
Они сидели в одной из гостиных ее особняка. Было глухо слышно, как наверху кто-то музицирует – это Чигринский играл Нередину на зеленом рояле уже написанные куски для балета.
– Я думаю, что понимаю, зачем вы так поступили, – помедлив, признался печальный сыщик. – Максим Васильевич слишком долго оставался безнаказанным.
Амалия кивнула.
– Вот именно, зато теперь, когда он точно знает, что вы его подозреваете, он поостережется вас провоцировать. Не исключено, что это поможет нам спасти чью-то жизнь, потому что именно безнаказанность подталкивает преступника совершать преступления снова и снова.
– И все же я считаю, что вы должны были прежде всего рассказать мне, – упрямо повторил Зимородков.
– Вот как? У вас есть на него что-нибудь? Серьезные доказательства, которые вы можете предъявить присяжным? Ну же, Александр Богданович!
– У меня ничего нет, – мрачно признался чиновник. – Мне поступил недвусмысленный приказ завершить следствие. А еще мне намекнули на то, что во Владивостоке тоже очень нужны толковые полицейские, и я могу туда отправиться, если не стану подчиняться.
Некоторое время все молчали, прислушиваясь к доносящейся сверху музыке.
– Не могу поверить, что он останется безнаказанным, – подавленно признался Гиацинт. – Как мой отец, который…
Он оборвал себя и страдальчески поморщился.
– Я думал, ваш отец в психиатрической больнице, – удивился Зимородков.
– Да, но мама давно в земле, а он жив, здоров и по-прежнему ест и пьет за двоих… Это несправедливо.
Так как Амалия не была сейчас в настроении дискутировать по поводу справедливости (и, кроме того, понимала, что ничего нового она все равно сказать не сможет), она поднялась с места, подошла к комоду и извлекла оттуда небольшую книгу.
– Кстати, Гиацинт Христофорович… Это вам. Небольшой подарок, если угодно…
Леденцов посмотрел на хозяйку дома, на книгу и взял том в руки. Это был роман, изданный лет тридцать тому назад – «История храброго рыцаря Гиацинта, который объездил весь свет, борясь со злодеями, и о том, как он взял в жены чужеземную принцессу». Титул уверял, что книга является переводом с итальянского, но, как заметила Амалия, роман, судя по стилю и оборотам, сочинил какой-то отечественный автор, согласившийся на иностранный псевдоним для того, чтобы его творение лучше расходилось.
– А я и забыл, что он был рыцарь, – вздохнул Гиацинт. – Я так давно не видел эту книгу – по правде говоря, даже не думал, что сумею ее отыскать… – Его щеки порозовели, он прижал книгу к груди. – Благодарю вас, сударыня.
И все трое отправились в музыкальную комнату слушать Чигринского, по молчаливому уговору решив больше не упоминать о делах.
– Там, где замок феи превращается в место заточения принца, нам понадобится сложная декорация, – говорил поэт. – Я уже попросил, чтобы из Москвы вызвали Вальца.
– А? – рассеянно спросил Чигринский. – Кто такой Вальц?
– Карл Федорович – лучший мастер по декорациям и сложным эффектам, – объяснил Нередин. – Вот он и займется ими в нашем балете.
– «Наш балет», до чего я дожил! – гремел Чигринский, подбирая на рояле мелодию. – Нет, не то… Вот, послушай… Понимаешь, что это такое? Я отыскал настоящие танцы того времени, средневековую музыку, чтобы стилизовать под нее некоторые мелодии – не весь балет, конечно, потому что искусство ушло с тех пор далеко вперед, но кое-где… тонкие штришки, понимаешь… И хотя ни один баран… простите, госпожа баронесса… ни один человек в публике не поймет, что я имел в виду… кто-нибудь когда-нибудь почувствует, что я хотел сказать…
– Нам кажется, что Средневековье было грубым временем, а ведь тогда делали очень тонкие вещи, – заметил поэт. – К примеру, в музее Клюни я видел золотую розу…
– Ну и что? Золотая роза не пахнет, – фыркнул Чигринский. – Чепуха какая-то…
– Вот и я подумал об этом. Я хочу сделать золотую розу символом феи, а настоящая будет символом невесты принца…
– И опять будешь переписывать либретто?
– Почему бы и нет? Ты все равно и половину музыки не написал…
– Думаешь, это так просто? Золотая роза… роза… черт знает что такое! Амалия Константиновна, вы любите розы?
– Ничего против них не имею, – с улыбкой ответила молодая женщина.
– Думаю, публика будет в восторге, – сдался композитор. – Вообще «Золотая роза» – неплохое название для балета, – и Дмитрий Иванович сыграл нечто бурное и стремительное, из-за чего зрителям неожиданно стало казаться, что у него не две руки, как у всех людей, а четыре, если вообще не шесть.
– Постой, а ты не хочешь спросить мнение Лидии Малиновской насчет названия? – спросил Нередин.
– А при чем тут Лидия? – искренне удивился Чигринский. – Ее дело танцевать, па-де-де, элевация[111], а что уж я там придумаю, ее не касается…
Алексей отлично знал, что именно Лидия будет считать, что ее все касается, от первого такта партитуры до фасона костюма и выбора партнеров, но не стал возражать, по опыту зная, что это совершенно бесполезно.
…Когда поздно вечером Гиацинт Леденцов в одиночестве возвращался домой, он чувствовал себя так, словно только что побывал в совершенно другом мире – даже не на луне, а на далекой, далекой планете, где царила музыка, безудержная фантазия, полет вдохновения, и где люди жили совсем другими интересами. Он больше не удивлялся, почему Амалия сразу же, даже не вникая хорошенько в обстоятельства дела, взяла Чигринского под свою защиту – конечно, она поняла, что он и был тот самый человек с другой планеты, который только притворяется, что ест, пьет и считает деньги, как все люди, но на самом-то деле жизнь его состоит совсем из другого, и никогда не пойдет он ни на какое преступление – потому что на его планете подобное попросту невозможно. И Гиацинт был благодарен нескладному, некрасивому композитору за то, что благодаря ему хоть на несколько часов перенесся на его планету музыки и фантазии. Ибо сыщик Леденцов отлично понимал, что сам-то он создан совершенно для другой жизни, а в мире Чигринского может быть только редким гостем – не более того.
На лестнице Гиацинт встретил квартирную хозяйку, которая сказала, что его дожидается какой-то гвардеец, и Леденцов почувствовал, что его мир вновь вступает в свои права.
– Он сказал, что его зовут Владимир Павлов, – добавила хозяйка.
«Что ему надо?» – подумал сыщик, нахохлившись.
Взволнованный корнет поднялся со стула ему навстречу.
– Простите, что позволил себе вас побеспокоить… Я прочитал в газете… – Он достал из кармана скомканный сероватый лист. – Они пишут, что капитан Печенкин был главарем шайки, которая занималась грабежами и убийствами…
– Нет, – внезапно разозлившись, выпалил Леденцов. – Главарем был вовсе не Печенкин.
И, все еще сердясь из-за того, что ему перебили послевкусие того чудесного мира, в который он погрузился в комнате с зеленым роялем, он объяснил корнету всю подоплеку дела.
– Этого не может быть… – пробормотал молодой человек. – Господин Курагин… светский человек… из прекрасной семьи! А капитан Печенкин – отставной военный… Он не мог убивать беззащитных людей!
Гиацинт пожал плечами. Внезапно ему все надоело – и его работа, и дело, которое удалось раскрыть лишь наполовину, и этот слабовольный простофиля, пользовавшийся милостями Ольги и состоявший у нее на содержании, который теперь беспомощно хлопал глазами и ждал от него каких-то объяснений.
– Можете не верить, дело ваше, – холодно сказал Леденцов. – Но именно Алексей Михайлович Печенкин убил вашу знакомую, а приказал ему наверняка господин Курагин. Только нам никогда этого не доказать, потому что он слишком хорошо знает законы и умеет заметать следы.
– Этого не может быть… – вяло повторил Павлов.
Он ждал еще чего-то – может быть, дополнительных разъяснений, – но Леденцов молчал. Неловко попрощавшись, корнет шагнул к выходу, но он двигался, как сомнамбула, не видя ничего вокруг себя, и плечом врезался в стену.
– Вы не ушиблись? – на всякий случай спросил Леденцов.
– Я? – Владимир обратил к нему бледное лицо со странной, застывшей улыбкой. – Нет. Душа болит, – добавил он, – но это такие пустяки!
«Что он хотел сказать?» – подумал Леденцов, когда за гостем затворилась дверь. Однако корнет так мало интересовал его, что Гиацинт уже через минуту забыл о нем.
Он прочитал несколько страниц из романа, который любила его мать, и разочарованно закрыл книгу. Это тоже был осколок какого-то другого мира, хотя, на вкус сыщика, этот мир был чересчур сентиментален и малость глуповат.
Сидя в уютном старом кресле, Леденцов задумался над тем, нет ли у них какой-либо возможности притянуть к ответу Максима Курагина, но по зрелом размышлении вынужден был признать, что нет. Разве что, усмехнулся сыщик, взять револьвер и влепить этому самоуверенному чистенькому мерзавцу пулю в грудь. С этой утешительной мыслью Гиацинт и лег спать.
– Что вам угодно, сударь?
– Я хотел бы купить револьвер…
– Французский, американский? У каждого из них свои достоинства…
– Нет, это для меня дороговато… Я хотел бы что-нибудь подешевле.
– Тульский? – Приказчик всем своим лицом изобразил самое искреннее сомнение. – Честное слово, сударь, хотя он и дешев, но… право, не советую его брать. Один вот купил такой и случайно ногу себе прострелил, а все потому, что не знаешь, когда он, подлец, выстрелит…
– Но он стреляет?
– Ну… да.
– Это все, что мне нужно…
Через несколько дней Зимородков вызвал Леденцова к себе.
– Гиацинт Христофорович, садитесь, голубчик… Нет-нет, я сам затворю дверь. Дело вот в чем: расследование завершено, но… Я предлагаю все-таки его продолжить. Понимаете, Амалия Константиновна вчера сказала одну вещь, которая заставила меня задуматься…
– Вы все же надеетесь взять Курагина? – спросил Леденцов после паузы.
– Скажу вам больше: я сочту личным для себя оскорблением, если этот молодчик будет разгуливать на свободе.
Леденцов поднялся с места и протянул Зимородкову руку.
– Александр Богданович, располагайте мной, как сочтете нужным… Я с вами.
Чиновник молча пожал Гиацинту руку, но тот видел, что Зимородков тронут.
– Я узнал, что этот прохвост собирается съездить в Финляндию вместе с супругой. Что ж, май – весьма подходящее время для путешествия…
– Какова цель его поездки? – быстро спросил Леденцов.
– У него там имение с великолепным видом. Он купил его через несколько месяцев после убийства Никитиной, – мрачно добавил Александр Богданович.
…В купе первого класса молодая беременная женщина читала французский модный журнал. В дверь постучали. На пороге стоял носильщик с небольшой подушкой. У его ног прикорнул огромный чемодан.
– Это не наши вещи, – сказала дама удивленно, опуская журнал.
– А вы, сударыня…
– Я Ольга Курагина. Нет, это не наши вещи, вы, верно, ошиблись…
Через несколько минут Максим Васильевич (он отходил за сигаретами) вернулся в купе.
– О… Оля! Оленька!
Полулежа на бархатном диване, его жена билась в последних конвульсиях. На ее груди расплывалось кровавое пятно. На другом конце дивана, ближе к выходу, валялся дешевый револьвер.
– Оля! – закричал Курагин, еще не веря, что вся его жизнь в это мгновение рушится окончательно и бесповоротно, и отныне уже ничто не будет так, как было прежде. – Боже мой! На помощь! Помогите!
Не соображая, что делает, он схватил револьвер, и тут случилось нечто ужасное. Дрянное дешевое оружие подпрыгнуло в его пальцах и от толчка выстрелило. Пуля попала Ольге в голову. Молодая женщина перестала биться и стала сползать вниз…
Однако за мгновение до выстрела, услышав крики адвоката, в купе ворвались двое людей в штатском. Это были Александр Зимородков и Гиацинт Леденцов.
– Ее убили! – закричал Максим Васильевич, бросаясь к ним. – Убили, вы понимаете? Боже мой!
– Да, Максим Васильевич, – кивнул Зимородков, ловко вынимая револьвер из его пальцев. – Мы с господином Леденцовым видели, как вы только что застрелили свою жену. Это произошло на наших глазах.
Адвокат окаменел.
– Но я… Это не я! Не я, понимаете? Я любил ее! Я жизнь бы за нее отдал… Револьвер сам выстрелил! Сам!
– Я понимаю, что трудно остановиться, когда все всегда сходило с рук, – холодно сказал Зимородков. – Говорят, вас недавно видели на ипподроме с певицей Кирсановой.
– Я просто беседовал с ней…
– Неужели? И после этой беседы вы решили избавиться от своей жены? Что, убить ее оказалось проще, чем просить развода?
Понимая, что ему не верят и скорее всего не поверят уже никогда, Курагин застонал и повалился на колени, уткнувшись лицом в платье мертвой жены…
А на другом конце вокзала человек, переодетый носильщиком, содрал с себя униформу, обернул ее вокруг простреленной подушки, сыгравшей роль глушителя, и быстрым шагом двинулся прочь.
Выстрелив в жену адвоката, он ощутил такой ужас, что выронил оружие, попятился из купе и бросился прочь. Отчаяние и паника подгоняли его. Ему было мучительно плохо с самим собой, но раньше, когда он думал о том, что действия Курагина останутся неотомщенными, было еще хуже.
Он ощущал себя убийцей и был готов к тому, что первый же городовой неминуемо арестует его. Но никто не обращал на него внимания, не считая девушек-работниц, которые поглядывали на молодого привлекательного человека с улыбкой.
После того, что он совершил, Владимир Павлов хотел только одного: добраться до своей квартиры и застрелиться. Но майский день был так хорош, что мысли о смерти как-то незаметно отступили на задний план.
Он шел, чувствуя, как мало-помалу успокаивается бешено пульсировавшая в артериях кровь, и думал о том, что в жизни у него никого не было, кроме Ольги Верейской. Ветреная, легкомысленная, неверная, она все же единственная по-настоящему любила его, и когда ее у него отняли – так, мимоходом, ни за что, если вдуматься, – он почувствовал себя так, словно у него вырвали душу.
Раньше его ужаснула бы одна мысль о том, чтобы обидеть женщину, а теперь он поймал себя на том, что лишь пожимает плечами, думая об убийстве Ольги Курагиной. Нет, он не собирался ее убивать. Он хотел убить ее мужа. Но адвоката в купе не оказалось, он куда-то исчез. Зато оказалась эта женщина, которая равнодушно поглядела на него, одетого носильщиком, и сказала, что ее зовут Ольга.
…И он убил ее, не раздумывая.
А что, в сущности, такого? Он мучился, рыдал, запершись в комнате, чтобы никто не видел его страданий и не разболтал о них (как многие люди, которых считают слабовольными, Владимир на самом деле был очень горд). После того, как он похоронил Ольгу, заняв денег везде, где только можно, он чуть не сошел с ума, страдал ужасно, невыносимо, думал о самоубийстве, – так пусть Курагин теперь тоже помучается. Пусть гадает, кто из родственников его жертв сумел до него добраться. Ольга за Ольгу – разве это не справедливо? Разве женщина, сидевшая в купе, не пользовалась плодами преступлений своего мужа?
И когда корнет прочитал в вечерней газете, что адвокат Курагин застрелил жену, чтобы соединиться с известной певицей, разбившей не одно сердце, Владимир совершенно успокоился и понял, что судьба на его стороне. Он достал золотую папиросницу, которую Оленька хотела подарить ему на день рождения, закурил папиросу и, глядя на темнеющее над мостами небо, стал думать обо всем, что могло бы у них быть и чего теперь уже не будет никогда.
Эпилог «Золотая роза»
– А Лидия Сергеевна-то как волнуется!
– И не говорите… Накануне генеральной устроила истерику, что позумент на пачке у госпожи Герман, которая танцует принцессу, пошире… а ведь главная партия у Малиновской…
– Осторожнее, черти, промускатон[112] не заденьте!
– Не волнуйтесь, Карл Федорович, все будет как надо…
– Будет? Будет? Не будет, а должно быть! Химики! Химики! Что там со светом? Смотрите у меня…
– Алексей Иванович, – не удержалась Амалия, – а почему осветители в театре называются химиками?
– Почему? Почему… гм… Потому что освещение газовое, а газ – это химия…
– Химики, чтоб вас!
– Карл Федорович, здесь дамы!!
– Приношу свои извинения, сударыня… Но химики… вечно химичат!
Маленький бешеный Вальц – великий Вальц, которого выписали из Москвы специально для постановки «Золотой розы», – пыхтел, как вулкан, бегал так быстро, что порой возникало впечатление, что он находится в нескольких местах одновременно, и ругался, на зависть любому возчику, погоняя рабочих и осветителей. Чигринский, сопровождаемый верным Прохором, метался между гримерок с выражением блаженного ужаса на лице, а Азарян, который сдержал свое слово и должен был дирижировать на премьере и на последующих представлениях, в привычной для него иронической манере рассказывал кому-то из гостей за кулисами:
– В императорских театрах случаются на редкость оригинальные администраторы… Слышали о Майкове, двоюродном брате поэта? Нет? Так вот, подали ему однажды бумагу, что нужны музыканты на пульты вторых скрипок. Майков обиделся и кладет начальственную резолюцию: «Императорский театр достаточно богат, чтобы иметь только скрипки первые…»
К Нередину подбежал помощник режиссера и, жестикулируя, стал ему что-то горячо говорить.
– Что там такое? – нетерпеливо спросил Чигринский.
– Критику из «Русского слова» забыли билет прислать… скандал!
– Я не выдаю билеты, – с вызовом сказал Дмитрий Иванович, дергая шеей. Он взмок, нервничал и мечтал только об одном – чтобы все как можно скорее закончилось и была бы хоть какая-то определенность: провал или успех. – Засуньте его в клоповник, что ли…
– Дмитрий Иванович, – возмутился помреж, – русское слово не может сидеть в клоповнике!
– А клоповник – это что? – с любопытством поинтересовалась Амалия у поэта и по совместительству автора либретто.
– В зале рядом с партером есть свободное пространство, куда пускают зрителей с контрамарками, когда все битком… Фамильярно его и называют «клоповник».
– Вы, кажется, совсем не волнуетесь, Алексей Иванович, – не удержавшись, заметила Амалия.
Поэт метнул на нее быстрый взгляд.
– Это только одна видимость, госпожа баронесса, – сказал он после паузы.
Азарян поднялся, взял свою дирижерскую палочку (он всегда сидел на ней перед представлением – это была его личная примета на счастье) и удалился. Мимо Амалии и Нередина пробежала стайка балерин в колышущихся пачках. Воздух словно сгустился, как всегда бывает перед премьерой, когда вот-вот раздадутся первые такты увертюры. Поняв, что здесь они будут только мешать, Амалия и Нередин перешли в ложу баронессы, где уже сидел Александр.
– Его императорское величество все-таки приехал, – сказал барон Корф. «Все-таки» означало, что царь больше жаловал другую балерину, которая не была занята в спектакле, и до самой последней минуты не знали, будет он или нет.
…Пока Чигринский сочинял балет, пока Нередин шлифовал либретто, пока шли репетиции и писали декорации, умер Александр III, и на престол вступил Николай II. Амалия поймала себя на том, что никак не может составить о личности нового императора определенное мнение, а Россия именно та страна, где многое зависит от личности правителя. Николай Александрович весь был какой-то зыбкий, внешне чрезвычайно учтивый, прекрасно воспитанный, и, конечно, нельзя было представить, чтобы он, к примеру, повел себя с австрийским послом как его отец. (Когда тот намекнул, что Австрия выдвинет свои дивизии к границам России, Александр взял его вилку, завязал ее узлом, бросил на тарелку и сказал: «Вот что я сделаю с вашими дивизиями».)
Но тут Амалия услышала хрустальный звон и поспешила сосредоточиться на том, что происходило на сцене. Из истории принца Карла Орлеанского Нередин сделал очаровательную и грустную сказку о человеке, который не по своей воле пошел на войну, был ранен и попал в замок феи, которая подарила ему золотую розу вдохновения. Но что бы фея ни делала, он не мог забыть свою невесту, девушку, которая могла подарить ему разве что простую розу. В конце концов фея в гневе отказывается от принца, он просыпается в плену и понимает, что прошло много лет и он уже старик. Во сне ему снова является фея, которая просит его образумиться и зовет обратно, завлекая золотой розой и обещая вернуть молодость. Но тут наяву появляется его невеста, принцесса, которая долго искала своего жениха и привезла за него огромный выкуп. Его отпускают, но здесь опять является фея (теперь это, пожалуй, уже злая ведьма), и он, отказавшись от нее, умирает у ног своей невесты.
Уже после первого акта стало ясно, что балет обречен на успех. Публика аплодировала после каждого удачного момента, после каждой находки Вальца и каждого прыжка легкого, как воздух, Гремиславского, танцевавшего принца. Их история любви и ненависти с героиней Малиновской на сцене выглядела настолько органично, что даже сидящий в публике Изюмов пропыхтел: «Прекрасно… изумительно…» и зааплодировал вместе с остальными.
Искренне страдал только критик «Русского слова», которому все-таки пришлось смириться с местом в клоповнике (за что он, само собой, принял решение написать о балете разгромную статью). Рядом с ним на переносном стульчике примостился Леденцов (у него не хватило духу попросить у Амалии место в ее ложе, а она не догадалась его пригласить). Его душа вновь парила в чудесном мире, созданном кудесником Чигринским, и, когда тот, багровый от волнения, вышел на поклоны, Гиацинт так громко кричал «браво», что чуть не оглушил сидящего рядом с ним немолодого господина с желчным лицом, который отшатнулся и посмотрел на горящего энтузиазмом зрителя с явным неодобрением.
Все плыло перед Чигринским, пот заливал ему глаза. Композитор кланялся и кланялся, как заведенный. Сияли люстры, струились блеском бриллианты на шеях и запястьях дам, от золота лож рябило в глазах. Он ощущал не то чтобы головокружение от успеха, но невероятное, ни с чем не сравнимое удовлетворение от того, что все оказалось не зря – его колоссальный труд, старания Алексея, золотая роза, зеленый рояль, история принца-поэта… И если бы кто-нибудь сейчас напомнил ему о том, с чего все начиналось, о его терзаниях и музыкальной немоте, об очаровательной Оленьке и ее гибели, о баронессе Корф и встрече с ней в самый, может быть, драматический момент его жизни – он бы, пожалуй, даже не понял, какое все это имеет к нему отношение, потому что давно уже перевернул эту страницу и почти забыл о том, что случилось когда-то. Он был кудесником, создающим миры, в которых людям хотелось жить, а все прочее – все прочее не имело абсолютно никакого значения.
Валерия Вербинина Сапфировая королева
Глава 1
Невероятное волнение в приморском городе. – Король дна и его подданные. – Подозрения. – Китаец говорит свое слово, причем не по-китайски.
– Господа, я пригласил вас, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет баронесса Корф!
Произнеся эти слова, Виссарион Хилькевич, в прошлом актер-любитель, выдержал значительную паузу. Он хотел дать присутствующим время осмыслить столь сногсшибательное заявление, однако никто из собравшихся в просторной гостиной его особняка даже ухом не повел.
– Кто такая баронесса Корф? – прогудела Розалия Малевич.
Четверть века тому назад Розалия была стройной красавицей, которая с непостижимой легкостью разбивала мужские сердца и давила заостренным каблучком их осколки. Однако с тех пор многое успело перемениться, начиная со стана Розалии и заканчивая ее профессией. Некогда грациозная красавица расплылась и потучнела, но не утратила деловой хватки, которая когда-то позволяла ей бросать любовника, лишь дочиста обобрав его. Ныне же Розалия заправляла сетью веселых домов, где почтенные отцы семейств вкушали отдохновение после трудов на благо государства и находили убежище от папильоток своих жен. Также ей принадлежали заведения попроще, куда захаживали в основном матросы и пролетарии. Несмотря на то что в славном городе О. все были прекрасно осведомлены о характере ее деятельности, пани Малевич пользовалась среди обывателей уважением, которое не могли поколебать ни ее чрезмерно яркие платья, ни ее еще более яркое прошлое. Сейчас, заполнив собой все громадное кресло, Розалия с мученическим видом обмахивалась веером из разрисованных лебединых перьев, и лицо ее лоснилось от пота.
– Похоже, баронесса не лишена интереса, – заметил сутенер Жорж и улыбнулся.
В жизни Жорж носил заурядную фамилию Аронов, но о ней давно уже позабыли, потому что все жители города О. называли его просто по имени. У этого гладкого, сытого, пустоголового брюнета была одна страсть – он обожал говорить стихами и к месту, а еще чаще не к месту уснащал свою речь рифмами.
Хилькевич не любил Жоржа. Хозяин дома пригласил его исключительно из симпатии к Розалии, души в нем не чаявшей. Жорж был ее помощником в нелегком деле управления борделями – настолько, насколько вообще можно было являться помощником мадам Малевич, которая все стремилась контролировать лично и никого не подпускала к своей власти. Хилькевич знал, что иногда Розалия покрикивает на Жоржа, а порой даже пускает в ход кулаки, если тому случается чем-то ее прогневить. Ее раздражало, что он неумен, и в то же время она была готова скорее мириться с его глупостью, чем с чужой сообразительностью. Услышав сейчас слова помощника, мадам насмешливо фыркнула.
– Знавал я когда-то одну баронессу, – объявил ростовщик Груздь. – Но ее точно звали не Корф. Да и никакая она была не баронесса, по правде говоря.
– А вы, граф? – отнесся Хилькевич к молодому блондину, который развалился на диване, поигрывая тросточкой.
– Признаться, мне неизвестно, о какой особе идет речь, – отозвался тот и с истинно аристократическим презрением поджал узкие губы.
Хилькевич повернулся к его соседу.
– Моя не знай никакой баронесс, – сообщил последний, при ближайшем рассмотрении оказавшийся чистокровным китайцем.
Китайца звали Вань Ли, и в О. он с большим успехом занимался торговлей опиумом. Что же до узкогубого графа, то в городе Антонин Лукашевский был известен как шулер, шантажист и вообще темная личность, что, впрочем, не мешало ему посещать дворянские клубы и быть вхожим даже в дом полицмейстера. Стоит, однако, отметить, что у полицмейстера было восемь дочерей на выданье, а на безрыбье, как гласит народная мудрость, и сам станешь раком.
– Может быть, хватит разыгрывать тут сцену из «Ревизора»? – желчно заметил старый вор Пятируков. – Виссарион Сергеевич, что еще за баронесса и почему вы собрали нас здесь, чтобы сообщить нам о ее приезде?
– И, между прочим, оторвали от дел! – пропыхтела Розалия.
Хилькевич скользнул взглядом по ее лицу, по которому катились крупные капли пота, по многочисленным подбородкам, которые студенистыми зигзагами спускались даме на грудь, вспомнил, как невыразимо был когда-то в нее влюблен, – и тотчас же отогнал от себя это воспоминание. Потому что, в конце концов, собрал он здесь вышеназванных господ для чрезвычайно серьезного дела.
– Баронесса Корф – известная авантюристка, – объявил хозяин дома.
В водянистых глазах графа Антонина мелькнули искорки интереса. Морщинистое лицо Пятирукова выразило искреннее недоумение. Он знал Хилькевича очень давно и не мог понять, почему тот так беспокоится по поводу какой-то авантюристки, на которую любой из здесь собравшихся легко сумеет найти управу.
– И что же? – спросил Груздь с любопытством. Старый лис предчувствовал занятное продолжение, и интуиция, как всегда, его не обманула.
– Она авантюристка на службе у императора, – пояснил Хилькевич.
В гостиной повисло напряженное молчание.
– Позвольте, то есть как? – вскинулся Жорж. От удивления он даже забыл вставить в речь очередной стишок.
– Обыкновенно, милостивый государь, – отвечал Хилькевич. – Баронесса Корф весьма ловкая и опасная особа, как мне доложили. Завтра она приезжает в наш город с утренним поездом. Губернатор, полицмейстер и прочие высокопоставленные лица уже предупреждены и вовсю готовятся к ее прибытию.
– А, так вот почему так спешно чинят мостовую возле памятника… – протянула Розалия. – А я-то все гадала, к чему бы это. Царь ведь должен приехать только через три недели! Ну, теперь все ясно!
– И еще цветы на клумбах меняют на свежие, а то старые совсем завяли, – подал голос самый юный участник собрания.
Хилькевич с неудовольствием оглянулся на него.
– Васька! – угрожающе прошипел Пятируков. – Я тебе!
Племянник Пятирукова, молодой, но уже многообещающий вор Вася по прозвищу Херувим, потупился. Он попал сюда только потому, что дядя пожелал познакомить его с могущественным Виссарионом Хилькевичем, господином и повелителем всех преступников в городе. Ни один карманник, ни одна проститутка, ни один попрошайка не задерживался в О., если ему не удавалось найти общий язык с этим приземистым, коренастым, благообразным господином с седыми бакенбардами.
Внешность у Хилькевича была самая что ни на есть располагающая, улыбка поражала своим добродушием, а интонации голоса завораживали прямо-таки генеральской величавостью. О нем и в самом деле говорили, что он когда-то воевал, но где именно и с кем, предпочитали умалчивать. В О. он жил уже много лет и как-то незаметно, неприметно подмял под себя все, что копошилось, прозябало, блистало, жирело и нищенствовало на городском дне. Ни одно крупное дело не свершалось без ведома Хилькевича, и когда случалось какое-нибудь громкое преступление и полиция заходила в тупик, ей приходилось обращаться к нему и униженно просить о содействии. Все знали, что его друзья не остаются внакладе, а о его врагах было доподлинно известно, что они долго не живут. В остальном же господин Хилькевич был весьма приятный человек, хлебосольный хозяин и безупречный гражданин.
Женой его была единственная дочь богатого купца, на которой он женился в сорок лет по любви – к ее деньгам, разумеется, но отчасти и к ней самой. Так как жена не задержалась в этом мире, Хилькевич остался вдовцом и жил в одиночестве в своем большом красивом доме, который охраняли угрюмые слуги из числа преданных ему людей. То обстоятельство, что Виссарион Сергеевич, который мог позволить себе едва ли не любую женщину в О., решил хранить верность умершей супруге, немало озадачило городских сплетников. В их представлении глава преступного мира должен пить, как рыба, кутить и озорничать напропалую, однако Хилькевич был вовсе не таков.
Он был известен в О. своим воздержанным нравом и скромным образом жизни – притом, что все сии достохвальные качества вовсе не мешали ему жестоко разделываться с теми, кто имел несчастье посягать на его власть. Кроме того, он не терпел, когда обманывали совсем уж беззащитных людей, детей и стариков, и полицмейстер де Ланжере никогда не упускал случая рассказать в обществе историю о Хилькевиче и некоем жулике, выманившем у доверчивого ребенка рубль, который мать подарила ему на день рождения. Хилькевич знал эту семью – он всегда все знал! – был в курсе, что мать надрывается на трех работах, чтобы вывести единственного сына в люди, и ему не понравился поступок жулика, как не понравилось и то, что тот похвалялся, сколь легко обвел вокруг пальца наивного мальчонку. На следующее утро представительный полицейский принес матери рубль, объявив, что злодей был пойман и сознался в содеянном, а чуть позже жулика обнаружили в версте от города, избитого до полусмерти. Кто именно его так отделал, навсегда осталось загадкой для правосудия, но только не для сплетников, восхищенных великодушием короля воров, а еще более тем, что оно не принесло ему ровным счетом никакой выгоды.
Однако в большинстве случаев Хилькевич, когда ему приходилось действовать решительно, руководствовался куда более прозаическими мотивами. И тот же красавец де Ланжере, потомок французских эмигрантов, что при императоре Павле Петровиче обосновались в городе, мог поведать немало историй о ворах, которые покидали О. со сломанными пальцами и ненавистью в душе, об убийцах, которых находили в канавах с пробитыми головами, и о внезапных исчезновениях людей, которые по каким-либо причинам сделались неугодны улыбчивому Виссариону Сергеевичу. И де Ланжере отлично знал, что стояло за этими исчезновениями, и все в городе знали, но – ничего не могли поделать. Для проформы губернатор отряжал следователя Половникова к Хилькевичу, и тот принимал гостя на террасе дома, обращенной к морю, вздыхал, уверяя, что он тут ни при чем, и одновременно бросал крошки голубям. Из всех живых существ Хилькевичу больше всего нравились птицы – может быть, потому, что они были вольны летать и отрываться от постылой земли, а может быть, потому, что когда-то в далекой юности – настолько далекой, что даже де Ланжере не смог ничего о ней пронюхать, – король дна промышлял их продажей. И Половников, которому даже не предлагали сесть, кланялся, вздыхал, извинялся, что отнял время у столь почтенного человека, и семенил обратно к себе – писать бумагу по поводу обнаружения очередного мертвого тела, принадлежащего неизвестному лицу.
За много лет, в продолжение которых Хилькевич не без успеха управлял своим двором чудес, его по-настоящему никто не осмелился побеспокоить. Столичные сыщики были далеко, у московских хватало своих дел, а с местными властями он ладил отлично. Однако теперь приезд неведомой баронессы Корф вселял в него смутную тревогу. Он успел уже кое-что разузнать о ней, и то, что разузнал, ему не слишком понравилось. Виссарион Сергеевич был готов смириться с тем, что она красавица, разведена и склонна к различного рода приключениям, но то, что баронесса умна, бесстрашна и никогда не отступалась от намеченной цели, устраивало его куда меньше. Хуже всего, впрочем, была причина, по которой она должна была вскоре оказаться в О. Причина эта представлялась многоопытному Хилькевичу не то что надуманной, а крайне неубедительной, и в глубине души он не сомневался, что на самом деле баронесса явилась за его головой.
– Столько шума из-за какой-то вертихвостки… – проворчал ростовщик Груздь.
– Много шума из ничего, но мы ведь не знаем всего, – вставил Жорж. – Не так ли?
Вася Херувим чихнул и сделал движение, чтобы вытереть нос, но натолкнулся на свирепый взгляд своего дяди, съежился и обхватил себя руками.
– Виссарион! – плачущим голосом воззвала Розалия. – А правда, зачем она к нам едет?
– Из-за некоего Валевского, – ответил Хилькевич.
Граф Антонин Лукашевский вскинул бровь и разом сделался как две капли воды похож на своего предка-короля, который интересовался звездами и поэзией, а в перерыве между означенными увлечениями отравил двух или трех жен, имевших несчастье не разделять его вкусов.
– Позвольте! Вы имеете в виду Леонарда Валевского? Того, который называет себя Леон Валевский?
– У, этот молодчик мне известен, – беззлобно вставил Пятируков. – В своем деле он дока!
– Mais certainement,[113] вы же с ним коллеги, насколько я помню, – кисло заметил граф.
– Нет, – твердо ответил Пятируков, – наши амплуа разные, Антонин Карлович. Он скорее по сейфам специалист, а я больше с людьми привык работать.
– По сейфам он специалист или по чему еще, – вмешался Груздь, – но, право же, просто смешно! Прежде всего потому, что Валевский не наш, он в Варшаве промышляет, а у нас тут, между прочим, не Польша![114]
И он победно поглядел на китайца, который, как всегда, улыбался, сохраняя совершенно невозмутимый вид.
– В Варшаве или не в Варшаве – дело десятое, – фыркнула Розалия. – Я не могу понять, зачем он вообще мог им понадобиться!
– Кажется, он опять сбежал из тюрьмы, – нерешительно заметил Жорж. – Я читал в газетах.
– Он уже раз пять сбегал из тюрем, – отмахнулась Розалия. – Нет, тут что-то не так!
Хилькевич кашлянул и сообщил:
– Он украл драгоценности Агаты Дрейпер.
– Что? – изумился граф.
– Знаменитую парюру,[115] которую подарил ей великий князь Владимир, – пояснил хозяин дома. – В поезде на Варшавско-Венской дороге. Как это ему удалось, до сих пор не могут понять. Горничную на всякий случай арестовали, но она ни в чем не созналась. Говорят, что на одни бриллианты, из которых сделана парюра, можно купить половину нашего города, а ведь там не только бриллианты были.
– Агата Дрейпер – знаменитая танцовщица? – довольно сухо спросила Розалия, поводя необъятным бюстом. Как и все бывшие красавицы, она от души ненавидела красавиц настоящего.
– Да какая там танцовщица… – проворчал Груздь и вслед за тем весьма колоритно обозначил истинный род занятий мадемуазель Дрейпер.
Агафон Пятируков сосредоточенно размышлял, шевеля морщинами.
– То есть драгоценности пропали, свистнул их Валевский, а драгоценности – подарок великого князя, стоят черт знает сколько, и поэтому столичную даму прислали сюда искать Валевского, у которого они должны быть, – подытожил он. – Я правильно понял?
– Ну да, – кивнул Хилькевич. – Все верно, за исключением того, что Валевского в нашем городе нет и быть не может, и искать его тут совершенно бессмысленно. Так что зачем баронесса Корф на самом деле направляется сюда – большой-большой вопрос.
Вася Херувим затаил дыхание, потому что ему снова до ужаса хотелось чихнуть, но он понимал, что если сейчас, в это мгновение, нарушит торжественность момента неуместным чихом, то не видать ему теплого местечка в славном городе О. как своих ушей. Или, допустим, лопаток. Юноша надул щеки, покраснел, стал тереть нос и…
– Аааапчхи!
Сутенер подскочил на месте. Розалия недовольно всколыхнулась.
– Будьте здоровы, Вань Ли, – сказал Груздь с тонкой улыбкой немолодого человека, который сам давно нездоров и отлично знает цену истинному здоровью.
– Сипасиба, – отозвался китаец, который только что чихнул. Он поймал недовольный взгляд Хилькевича и заулыбался. – А почему ви говолиль, что Валевский нет в голод? Он ведь тут есть, да?
– То есть как? – пролепетала Розалия, покрываясь пятнами.
И тут Хилькевич допустил промах (положим, не непростительный промах, за который платишь жизнью, но промах, за который он еще долго будет себя корить после окончания беседы) – позволил себе показать, что не знает чего-то, что ведомо его подчиненным.
– Что? – прошептал он. – Но как… Вы о чем, Вань Ли?
Китаец, в свою очередь, так удивился, что даже улыбаться перестал.
– Ви не знать? Виссалион! Ведь Валевский зедеся, да! Я его видела в госитиница «Евлопейский». Навелное, он там и плозивает, как вы думаете? И что тепеля ви намелена пледплинять?
Глава 2
Наполеон и Рабинович. – Преимущества, которые дает человеку стискивание горла его ближнего. – Неудобства, которыми сопровождается недостаточное стискивание горла. – Угрозы.
Карета графа Лукашевского в облаке пыли лихо промчалась по улице Босолей и свернула на площадь. Возле памятника французскому герцогу, который был здесь первым губернатором и первым же открыл, что О. не деревня и не географическое недоразумение, а город, и посему был весьма почитаем в здешних краях, экипаж графа едва не задел рабочего, который доделывал мостовую, после чего кучер услышал в свой адрес несколько весьма интересных слов. Впрочем, кучер тоже знал разные слова, как интересные, так и очень интересные, и сумел ответить обидчику, не ударив в грязь лицом.
Возле гостиницы «Европейская» карета остановилась, и Антонин Лукашевский быстрее ветра взлетел по ступеням, постукивая по ним тросточкой.
Ровно через четыре с половиной минуты его можно было видеть в коридоре третьего этажа, где он небрежно улыбнулся хорошенькой горничной, которая несла стопку простыней, и проследовал мимо. Но едва горничная скрылась из виду, как Антонин вернулся обратно. Подойдя к одной из дверей, он взял трость под мышку и достал из кармана предмет, до неприличия напоминающий обыкновенную отмычку.
Вероятно, король-звездочет с неудовольствием взирал с небес на то, как его потомок отворяет дверь чужого номера. Поскольку, что бы там ни говорили, одно дело – отравить жену или даже нескольких, и совсем другое – влезть с помощью отмычки туда, где вас никто не ждет. Первое, во всяком случае, позволяет спокойно овдоветь, не пятная свою честь неуместной возней с разводом, в то время как второе попахивает банальной уголовщиной и вообще совершенно не к лицу настоящему дворянину.
Так или иначе, но вследствие манипуляций графа Лукашевского дверь отворилась, и Антонин, осторожно толкнув ее рукой, на цыпочках проник в номер. После чего затворил дверь, спрятал отмычку и огляделся.
Сначала он услышал жужжание мухи возле стекла, а затем уловил спокойное дыхание лежащего на кровати человека. Человек этот был молод, светловолос и, судя по всему, спал сном младенца.
Граф Лукашевский перевел взгляд чуть дальше и заметил на тонконогом рахитичном стуле большой коричневый чемодан. Возможно, Антонин питал слабость к большим чемоданам, к примеру, коллекционировал их. Так или иначе, при виде чемодана его сердце сделало большой скачок.
В следующее мгновение сердце Лукашевского провалилось в пятки, да так там и осталось, потому что лежащий на кровати бесшумно повернулся и открыл глаза. Многие дамы, особенно в Польше, утверждали, что они небесно-голубые; дамы, настроенные более скептично, считали, что они всего лишь серые.
Открыв глаза (то ли серые, то ли голубые – оставим за нашими читательницами решение данного вопроса), лежащий извлек правую руку из-под одеяла. Хуже всего, впрочем, было то, что в руке этой обнаружился громадный сверкающий револьвер.
Из дула револьвера выглянула смерть и посмотрела графу прямо в глаза. И от ощущения, что она находится где-то совсем рядом, Лукашевский весь покрылся холодным потом и почувствовал, как у него ослабли колени.
– Здорово, Антонин, – спокойно промолвил Леон Валевский на чистейшем польском языке. – Зачем пожаловал?
Следует отдать графу должное: его можно было испугать, но если он и терял присутствие духа, то ненадолго. К тому же в глубине души он все-таки не боялся Валевского – как не боится всего лишь вора человек, знакомый с куда более серьезными делами. Антонин дернул головой, словно шею ему давил воротничок, и осклабился.
– Привет, Збышек, – небрежно уронил он. – Вот, зашел тебя проведать.
Его собеседник вздохнул и поправил:
– Леон.
– Ладно тебе, Збышек, – уже развязно проговорил граф, без приглашения садясь на стул по соседству с тем, на котором стоял чемодан. – Всем же прекрасно известно, что никакой ты не Леонард Валевский, что ты сам придумал себе это имя. На самом деле ты Збигнев Худзик, и фамилию тебе дали в приюте, потому что родителей у тебя, найденыша, никогда не было. Нехорошо людей путать, Збышек! – Уголок рта графа насмешливо дернулся.
– Человек имеет право сам брать себе любое имя, какое ему нравится, – возразил Валевский. – А я тем более никому ничего не должен.
– И поэтому ты присвоил себе имя и фамилию сыновей Наполеона?[116] – Граф еще более ехидно сощурился, поигрывая тросточкой.
– Наполеон – великий человек, – уронил Валевский в пространство. – И если уж выбирать себе кого-нибудь в родственники, то я бы точно предпочел его.
– Великий-то он великий, кто же спорит, – согласился Антонин, – только вот на родственника его ты, прости, не тянешь. Между вами нет ни малейшего сходства. Да и вообще, это просто смешно. Он же полководец был, выдающаяся личность, а ты – обыкновенный вор, и более ничего.
– Да ладно, кто бы говорил, – хмыкнул его собеседник. – Можно подумать, ты сам настоящий граф Лукашевский. Я ж знаю, что ты на самом деле Рабинович-Холодец, и вся твоя дворянская родословная не стоит и гроша.
Кровь бросилась в лицо графу, а та, что не бросилась, в то же самое мгновение вскипела в его жилах.
– Пся крев![117] Ах ты сволочь, лайдак,[118] каналья! – взвизгнул он и, бросившись на Валевского, перехватил его руку, державшую револьвер.
Наполеон и король-звездочет поудобнее устроились за облаками и стали с интересом смотреть, как выясняют отношения их самозваные родственники. Револьвер с сухим стуком улетел под комод, да так и не вылетел оттуда. Покатился, суча изогнутыми ножками, отброшенный кем-то из дерущихся, стул. Казалось, что перевес должен оказаться на стороне графа, потому что он был как минимум на полголовы выше своего противника и явно превосходил его в силе. Но Валевский оказался расчетливее, изворотливее, и он, в конце концов схватив графа за горло, сумел существенно затруднить доступ кислорода в грудь врага. Антонин захрипел и попытался попасть противнику растопыренными пальцами в глаза, но Валевский, отведя голову, лишь крепче стиснул свои пальцы и для верности стал еще коленом врагу на ребра. Побарахтавшись, граф стих и стал лиловеть лицом. Сжалившись, Валевский ослабил хватку.
– От…пусти! – простонал гость без родословной. – Ты… меня… задушишь!
– Зачем ты пришел, Антонин? – спросил Валевский.
Граф, лежа на грязном ковре, сказал «кхррр» и мученически закатил глаза.
– Ты ведь не просто так явился, – продолжал Валевский, на которого это зрелище не произвело ни малейшего впечатления. – Ну?
Его противник открыл глаза. Взгляд их поражал своей злобой.
– Ты куда явился, а? – прохрипел граф. – Ты имеешь понятие, что тут за город? У нас здесь – ууу! Сюда нельзя просто так приехать и делать что хочешь! – Он завертелся, пытаясь сбросить пальцы Валевского со своего горла, но маленький блондин держал его цепко и, похоже, вовсе не собирался выпускать. – У нас тут все организовано! Хочешь дело делать – придется платить… Ой, Леон, я сейчас задохнусь!
– Значит, я все-таки Леон, а не Збышек, – удовлетворенно констатировал его противник. – Наконец-то ты запомнил. А что касается работы, то не знаю, что тебе в голову взбрело. Я приехал немного отдохнуть, только и всего.
– Отдохнуть? – просипел гость, лишенный родословной. – Ты за кого меня держишь, Леон? Я тебе кто – совсем frajer,[119] что ли? Ты собрался у нас отдыхать с парюрой Агаты Дрейпер?
– Тьфу ты! – сказал Валевский с досадой. – Так и знал, что сплетня до вас дойдет!
– Ты о чем, а? – подозрительно осведомился граф.
– Не крал я никакую парюру, ясно? – уже сердито промолвил вор. – Не знаю, с чего на меня навесили это, но я драгоценности не брал! Когда произошло ограбление, я вообще был за тридевять земель, в Кракове.
– Рассказывай! – фыркнул граф. – Все знают, что кража парюры – твоих рук дело! Варшавско-Венская дорога – да ты же там начинал, ты ее знаешь как свои пять пальцев! И почерк твой! Шкатулка была заперта в три ларца, ключи от них находились у трех человек, возле шкатулки постоянно находилась горничная, посторонних людей поблизости никто не видел, а драгоценности пропали. Только тебе по силам провернуть такой фокус и уйти незамеченным!
– Ага, – не стал отпираться Валевский. – Мне – или хозяйке парюры.
– Чего? – Граф так изумился, что даже снова заговорил по-русски.
Валевский вздохнул.
– Великий князь Владимир – осел, – сухо сказал он. – И подарил он дамочке драгоценности, которые ему не принадлежали, ясно? Это фамильные вещи императорского дома.
Антонин открыл рот.
– То есть ты хочешь сказать…
– Ну да, скандал и все такое, – кивнул Валевский. – То есть скандал бы произошел, если бы она появилась в тех украшениях где-нибудь за границей. И, конечно, Агата Дрейпер прекрасно все поняла. А драгоценности она терять не хотела, вот и организовала их исчезновение. Если они были вдобавок застрахованы, дамочка сорвала двойной куш, – угрюмо добавил вор. – И что в результате? Меня все ищут за преступление, которого я не совершал, а танцовщица – чтоб ее! – наслаждается жизнью в переделанных украшениях. И как я могу доказать, что непричастен к ограблению? Да никак. Ты же поверил, что украл их я… Да и не только ты, я так думаю.
Антонин задумался. Дело принимало совсем иной оборот, чем он решил вначале. В самом деле, если бы у Валевского была парюра, разве стал бы он селиться в гостинице по поддельным документам, которые помогали ускользнуть от неповоротливых властей, но не уберегли бы его от товарищей по ремеслу, многие из которых знали его в лицо? Однако Антонин не первый год был знаком с Валевским и понимал, что доверять ему можно не больше, чем любому другому вору.
– Зачем ты приехал в наш город? – напрямик спросил граф.
– Сам подумай, – просто ответил Валевский. – Если бы тебе надо было меня найти, где бы ты стал меня искать?
– В Варшаве, – вняв совету и подумав, отозвался Антонин.
– В Варшаве, в Польше, – согласился Валевский, – может быть, даже за границей, в Париже, например. Но никому в голову не придет искать меня здесь, потому что я никак не связан с этим местом.
Он убрал руки с горла графа, однако же никуда не дел свою коленку, которая по-прежнему упиралась Антонину в ребра, стесняя дыхание.
– И все же кое-кому пришла в голову мысль искать тебя именно здесь, – со смешком промолвил Лукашевский.
Леон насторожился. Интонации голоса его собеседника безотчетно не понравились ему.
– Уверяю тебя, – заявил он, – такое невозможно. Я просто сел на первый попавшийся поезд, когда узнал, что меня ищут.
– Сесть-то ты сел, но кто-то, похоже, следил за тобой уже тогда, – ухмыльнулся Антонин. – Иначе с чего бы некоей баронессе Корф являться в наш город по твою душу?
И он с немалым удовольствием увидел, как Валевский, заслышав названное имя, переменился в лице.
– Баронесса Корф? – мрачно спросил он. – Ты говоришь о баронессе Амалии Корф? Вот черт!
– А что, ты уже успел с ней познакомиться? – невинно поинтересовался граф, растирая шею.
– Я люблю женщин, – ответил Валевский, – и отношусь к ним с уважением. Но сия особа – последняя, с которой я хотел бы встретиться.
С этими словами он поднялся на ноги, окончательно освободив своего противника, который незамедлительно тем воспользовался. Схватив трость, граф ударил ею Валевского по ногам. От неожиданности маленький блондин рухнул на пол, и Антонин сразу же набросился на него. Для начала граф использовал неизящный прием, который в О. именовался «взять на кумпол». Прием заключался в том, чтобы как следует приложить лбом противника в лицо, и при удачном применении гарантировал как минимум сломанный нос. Затем граф ухватил Валевского за волосы и несколько раз стукнул его затылком о пол.
– Драгоценностей он не брал… – сипел граф, проверяя головой противника на прочность потемневший от времени паркет. – Думал, я поверю, ха! Не на таковского напали, милостивый государь!
Напоследок он пнул Валевского ногой ниже пояса и, убедившись, что Леон в ближайшие несколько минут точно не сможет продолжать схватку, поднялся.
– Ты чего? – простонал Валевский, видя, как граф подошел к большому коричневому чемодану, покоившемуся на стуле.
– Где парюра? – прямо спросил Антонин. Глаза его горели нехорошим, жестким огнем.
– Ну ищи, коли неймется! – огрызнулся вор, выплевывая кровавый сгусток. – Если найдешь, не забудь отдать мне мою долю. Болван!
Болван Лукашевский обыскал чемодан, а затем осмотрел и ощупал всю постель. Валевский, сидя на полу, тяжело дышал и глядел исподлобья, но с явной иронией, как человек, которому нечего терять.
– Может, ты ее уже кому-то отдал? – предположил граф. Он находился в затруднении, но не хотел признавать этого.
– Как я могу отдать то, чего у меня нет? – сердито спросил вор.
– Или передал кому-то на хранение, – добавил граф в порыве вдохновения.
– Я что, похож на дурака? – обиделся Валевский.
– Смотри, если Виссарион обнаружит, что ты его надул, твой труп выудят из гавани с камнем на шее, – задушевно пообещал граф. – Ой, смотри, Леон!
Однако даже угроза (которая заставила бы побледнеть любого человека, знакомого с местными порядками) не оказала на поляка никакого действия.
– Не пугай кота мышеловкой, – фыркнул Валевский. – Кстати, правду говорят, что вашему Виссариону скоро крышка?
Антонин вытаращил глаза.
– Что? Кто это тебе сказал?
Положим, никто не говорил Валевскому ничего подобного – он только что сам все выдумал, желая позлить собеседника. Но получилось вполне правдоподобно, и, главное, цели своей вор достиг. Антонин даже не столько рассердился, сколько испугался. Уж кому-кому, а ему отлично было известно, что самые большие перемены в жизни начинаются именно с таких вроде бы ничем не подкрепленных слухов, которые передаются шепотом из уст в уста.
– Да люди трепятся, что его дни сочтены, – хладнокровно продолжил лгать Валевский, поводя плечом. – Смотри, как бы тебе не остаться у разбитого корыта, Антонин, с таким-то хозяином!
По лицу графа он догадался, что перегнул палку. Антонин надменно распрямился.
– Ты здесь новенький, – заговорил тот холодно, – и придется тебе сходить к хозяину на поклон, представиться, то да се… Заодно и о парюре ему расскажешь. А то ведь баронесса приедет, губернатор волноваться начнет, людей к нам слать. Одевайся!
– Ага, – кисло промолвил Валевский, утирая кровь из разбитого носа, – сейчас…
В следующее мгновение он быстрее молнии нырнул под комод и достал оттуда свой револьвер, который потерялся в самом начале их с Лукашевским схватки.
– Ты не станешь стрелять, – промолвил граф после паузы. – Слишком громко, все на этаже услышат.
Валевский вздернул подбородок и выпятил губу.
– Кроме того, ты же не мокрушник, Леон. Ты всегда говорил, что в жизни никого не убивал и никогда не пойдешь на мокрое дело, – добавил Антонин. Но увидел в глазах собеседника нехорошие искорки и подался назад.
– Как говорил один великий человек, – задумчиво заметил вор, – «если наши принципы нам мешают, значит, пора их пересмотреть». Именно так.
– Наполеон? – несмело спросил граф.
Валевский кивнул и взвел курок. Чувствуя в коленях отвратительную слабость, граф Лукашевский спиной, спиной двинулся к выходу из номера. На устах его застыла мучительная улыбка.
– Тебе это просто так с рук не сойдет, – пригрозил он.
– Ну, мы еще посмотрим, – задорно ответил Валевский. – Пшел вон!
И граф Лукашевский, которого принимал в своем доме даже полицмейстер де Ланжере (из-за восьми дочерей, но тем не менее…), вышел вон, как последний холоп.
Впрочем, на прощание он все же хлопнул дверью. Однако не слишком громко, потому что, сами понимаете, револьверные пули частенько пробивают двери насквозь.
Оставшись один, Валевский убрал револьвер и поднялся. Затылок у него ныл, во рту стоял противный железистый привкус.
«А все-таки ловко я придумал про принципы, – помыслил он, трогая распухший нос. – Антонин сразу же в лице переменился».
Однако больше всего, по правде говоря, его беспокоил вовсе не Антонин и не его хозяин. А та особа, которая была совершенно с ними не связана и которая, по словам графа, была послана в О., чтобы изловить Леона и, вероятно, изъять у него украденную парюру.
Валевский уже сталкивался с этой особой прежде, и мало того, что она самым беспардонным образом обвела его вокруг пальца, – из-за нее он угодил в тюрьму,[120] и ему пришлось хорошенько потрудиться, чтобы выбраться оттуда. И вот теперь, словно нарочно, баронесса Корф вновь оказалась на его пути, и он не видел в данном обстоятельстве ничего хорошего.
Впрочем, как известно, при надлежащей сноровке и везении любые обстоятельства можно обернуть в свою пользу, а поклонник великого императора Леон Валевский точно не принадлежал к людям, которые легко сдаются. Для начала он решил разузнать, когда именно баронесса Корф появится в городе, и уже после принимать решение, что ему делать.
Глава 3
Тридцать три несчастья следователя Половникова. – Общество любителей российской словесности. – О том, какое влияние на ход истории может иметь чашечка хорошего кофе.
– И когда она приезжает, та баронесса? – сварливо спросила Пульхерия Петровна.
– Поездом в 9.45, – ответил ее супруг, следователь Половников.
Пульхерия Петровна насупилась, причем сдвинутые брови в верхней части ее лица удивительно гармонировали с полоской усов в нижней. Это была высокая, дородная, темноволосая женщина, которая среди соседей слыла образцовой хозяйкой и матерью, но дома была настоящим тираном. Вероятно, не зря про ее мужа-следователя говорили, что он не боится никого из преступников О. Если он перед кем и трепетал, то исключительно перед своей половиной, которая обладала самой неприятной женской чертой – способностью превращать жизнь мужчины в ад.
– Душенька, – робко продолжал Половников, – ты не дашь мне чистую сорочку? А то неудобно… меня с прочими чинами отрядили встречать госпожу баронессу… а я… то есть…
Пульхерия Петровна зыркнула на супруга колючими глазами и взяла еще один кусочек сахару, поскольку чай любила пить вприкуску, а не внакладку.
– Обойдешься, – буркнула она, крепкими острыми зубами разгрызая сахар. – Больно много ей дела – твои сорочки разглядывать… Застегнись на все пуговицы, и хватит с тебя.
Половников хотел было сказать, что на улице жарко, что несвежая сорочка уронит его во мнении сослуживцев, что он не может… но по лицу жены понял, что может и что чистую он все равно сегодня не получит. Когда дело касалось мужа, Пульхерия Петровна была на редкость экономна, и Половников отлично знал, что самая драная одежда предусмотрительно хранится у нее в особом свертке в уголке платяного шкафа – на тот случай, если следователя все-таки пришьют при исполнении служебных обязанностей и она останется вдовой. Пульхерия Петровна и мысли не допускала о том, чтобы хоронить мужа в целой одежде.
А ведь он получал неплохие деньги, был у начальства на хорошем счету и, по совести, один из лучших следователей города. Но где-то, когда-то, в чем-то он обманул мечты этой до сих пор красивой, статной женщины, и она задалась целью мстить ему – всегда, везде, во всем, вплоть до самых ничтожных мелочей. И, выходя из дома и спеша к вокзалу, Половников по привычке спросил себя: «За что она со мной так?»
Да, он был невзрачен, тщедушен и мал ростом, но тысячи, если не миллионы мужчин тоже не могут похвастаться внешностью jeune premier’а[121] и между тем наслаждаются семейным уютом и пользуются если не любовью, то уважением своих жен. Тогда он стал перебирать в уме собственные недостатки, которые могли бы отвратить от него супругу, и не нашел таковых. Он не пил, не курил, не изменял ей, не ссорился с ее родителями, любил детей и делал все, чтобы семья была счастлива. Положительно, Половникову не в чем было себя упрекнуть! Да, он много времени отдавал работе, но ведь не зря же ему недавно дали очередной орден, Анну,[122] за двадцать лет беспорочной службы, и его начальник Сивокопытенко…
– Беспорочная служба! – взвизгнула тогда Пульхерия Петровна, узнав о награде. – Беспорточная служба, наверное!
Половников ускорил шаг. Вспомнив о безобразной сцене, которая разыгралась на глазах у детей, он понял, что впопыхах забыл надеть орден, собираясь на встречу с высокой особой. «Ну и черт с ним!» – рассердившись на себя, решил он.
– Антон Иваныч! Антон Иваныч, мое почтение!
Следователь вздрогнул. Навстречу ему по тротуару мчался встрепанный гражданин средних лет в пенсне, с безумными глазами и лицом таким, словно только что выиграл в лотерею семьдесят пять тысяч рублей. Впрочем, в лотерее Русалкину никогда не везло. Да и не могло повезти – такой уж он был человек.
– Ну что? – вскричал Русалкин, наконец до-бравшись до следователя и крепко стиснув его руку. – Дождались! Кончилось самоуправство и самодурство губернатора, в столице вспомнили и о нас! – Он говорил и тряс руку Половникова, который уже не знал, куда от него деться. – Я всю ночь не спал, написал-таки прошение! По всей форме! – Русалкин наконец оторвался от следователя, извлек из кармана какой-то сложенный листок, которым взмахнул торжествующе, как флагом, и зловеще прошептал: – Вот, полюбуйтесь! И пусть не говорят, что у них нет помещения для нашего «Общества любителей российской словесности»! Ведь это же смешно, помилуйте! Для клуба, где вистуют целые дни напролет, есть! Для какого-нибудь притона мадам Малевич – тоже есть! А словесность должна страдать?
Аполлон Николаевич Русалкин слыл в городе чудаком, и не без оснований. В самом деле, человек, который самозабвенно читает книги и переписывается с журналами, не может быть нормальным. Так решили нормальные люди, почтенные граждане, которые целыми днями взвешивают муку и обсчитывают покупателей, или заведуют ссудными кассами, как небезызвестный ростовщик Груздь, всегда готовый купить краденые вещи, или помогают любовнице управлять веселыми домами, как черноусый красавец Жорж. Все это были люди дельные, полезные обществу, а тут – нате вам! – какой-то бездельник, поклонник литературы, основавший в О. «Общество любителей российской словесности». Уже лет пять он тщетно добивался, чтобы его обществу было выделено от города помещение, и еще дольше боролся за то, чтобы на доме, где некогда останавливался поэт Пушкин, была вывешена мемориальная доска. Своими просьбами Русалкин до смерти надоел губернатору, вице-губернатору, полицмейстеру де Ланжере и всем начальственным лицам, которым было достаточно написать коротенькую записку, чтобы доска была установлена на доме и обществу выделили какой-нибудь угол. Но власти упирались, власти сопротивлялись так, словно от решения этих вопросов зависело их собственное существование.
Справедливости ради, впрочем, следует признать, что у них были кое-какие резоны для такого отношения.
– Голубчик, – стонал полицмейстер де Ланжере, – ну какая, к черту, мемориальная доска? Дом с тех времен уже раза три был перестроен, и даже если б только это… Ведь известно же, что светоч нашей поэзии провел в нем одну-единственную ночь и в письмах оставил весьма нелестную характеристику, что, мол, насекомых много, городишко преотвратный, а сам он «не выспался и не выс…ался».[123] Голубь! Да какая мемориальная доска после такого?
Что же до «Общества любителей российской словесности», то, учитывая, что в многотысячном портовом городе О. общество сие насчитывало всего четырех человек – самого основателя, его сестру Наденьку, их кузена студента Евгения Жмыхова и старенького библиотекаря Росомахина, – де Ланжере имел полное право отказать им в предоставлении помещения, мотивируя тем, что все общество прекрасно может поместиться в гостиной русалкинского дома и нужды в дополнительной территории не имеет. Однако полицмейстер недооценил упорство Аполлона Николаевича. Русалкин принадлежал к людям, которых всякого рода препятствия только разжигают. Он заклеймил де Ланжере как косного сатрапа и с удвоенной энергией принялся строчить повсюду письма, кляузы и прошения, жалуясь на то, как в О. не уважают изящную словесность.
– Вы идете на вокзал? – с надеждой спросил сейчас Русалкин следователя. – Встречаете приезжую даму?
Половников уже давно привык держать лицо и, как бы ему ни было скверно, никогда не выдавать, что у него на душе. Однако теперь он живо представил себе, как явится на вокзал в сопровождении Русалкина, нарисовал себе бучу, которую тот поднимет там, подумал, что именно придется выслушивать де Ланжере в присутствии высокой гостьи, и ему сделалось не по себе. Не то чтобы Половников был излишне подобострастен – ему лучше других были известны слабые стороны и недостатки полицмейстера, – но вместе с тем он знал, что де Ланжере человек отнюдь не недалекий и не бесполезный чинуша, каким его выставлял Русалкин. В представлении следователя полицмейстер определенно не заслуживал скандала, который собирался устроить любитель словесности.
– Поезд будет только в пол-одиннадцатого, – солгал следователь. – Я хотел еще зайти к Теодориди, выпить у него чашечку кофе.
Грек Теодориди держал в городе маленький ресторанчик, известный каждому обывателю. Дело в том, что хотя Теодориди использовал для своих блюд абсолютно те же самые продукты, что и любой другой ресторатор, еда у него почему-то получалась гораздо вкуснее, чем у конкурентов. Его кофе даже дымился как-то по-особенному, не жестким облачком цвета жести, а грациозным лиловатым дымком, воспаряющим ввысь. Половников представил себе этот дымок, вспомнил райский аромат, исходящий от кофе, и на мгновение даже забыл о том, что его семейная жизнь не удалась, как и вся жизнь вообще. Ноздри следователя затрепетали, глаза подернулись мечтательной поволокой.
– Да, хорош кофе у негодного грека! – вздохнул Русалкин.
Не говоря больше ни о баронессе Корф, ни об извилистых судьбах российской словесности, они быстрым шагом добрались до ресторанчика, в коем в тот час находился только один посетитель – невысокий вихрастый блондин с распухшим носом. Оттопырив губу, блондин с видом знатока смаковал райский кофе. Возле его стула стоял большой коричневый чемодан.
– Два кофе, Фемистокл Аристидович, – попросил Половников.
Фемистокл Аристидович кивнул и испарился. Кофе явился через минуту и был так ароматен, так совершенен, что следователь понял: жизнь, несмотря ни на что, чертовски хороша, и даже Русалкин, если вдуматься, – очень, очень славный человек.
– Говорите, баронесса Корф прибывает в 10.30? – забеспокоился Русалкин после третьей чашки.
Блондин, который как раз расплатился и уже приподнялся со стула, собираясь уйти, застыл на месте, однако мужчины этого не заметили.
– Именно так, – подтвердил Половников.
– Ну, тогда нам не о чем волноваться! – жизнерадостно вскричал Русалкин и попросил принести еще по чашке, а в придачу – сладостей, которые (опять-таки по совершенно неизвестной причине) выходили у Теодориди лучше, чем у всех остальных рестораторов.
– Как поживает Надежда Николаевна? – спросил следователь, подобревшим взором щурясь на лиловатые завитки, ускользающие к потолку.
Русалкин ответил, что у его сестры все хорошо, разве что она чрезвычайно переживает из-за отсутствия мемориальной доски на доме, где останавливался когда-то великий поэт. К тому же Наденьку весьма удручает низкий уровень современной словесности. Что за авторы, боже мой, что они пишут, и как, прости господи, они пишут!
– Из современных, – пыхтел Русалкин, – только граф Толстой заслуживает внимания, хотя он порой грешит морализаторством в ущерб художественности и весьма неряшлив с точки зрения стиля. Что же касается остальных…
Блондин за соседним столом перестал слушать. Самое главное он все равно уже узнал – баронесса Корф приезжает в 10.30, стало быть, у него самого есть время, чтобы перед отъездом выпить еще одну чашечку восхитительного кофе, который готовил мрачный волосатый грек. Даже девушка по фамилии Фортуна, в которую Леон был когда-то влюблен, и та не готовила более вкусного кофе. Тут Валевский вспомнил, что она умерла от воспаления легких в семнадцать лет, загрустил и попросил новую порцию чудесного напитка.
В десять часов Половников и Русалкин все-таки нашли в себе силы распрощаться с гостеприимным хозяином ресторации, который поклонился и, сверкнув зубами, пригласил их заходить вновь. Глядя на него со стороны, можно было подумать, будто мрачный Теодориди зазывает их к себе, чтобы зарезать или, во всяком случае, сотворить с ними нечто противозаконное.
Чувствуя себя так, словно они с детства были лучшими приятелями, следователь и поклонник словесности зашагали по направлению к вокзалу. Солнце слепило глаза, воздух отливал золотом, и даже старые деревья вдоль дороги казались помолодевшими. Половников взглянул на часы. «Конечно, опоздали, и от Сивокопытенко мне влетит по первое число… – смутно помыслил он. – Но так все же лучше, чем склока на перроне и оскорбления начальственных лиц. Аполлон Николаевич – неплохой человек, но порою его все же заносит».
Мимо вприпрыжку пробежали несколько мальчишек. Городовой на перекрестке узнал следователя и отдал ему честь. В следующее мгновение со стороны вокзала грянул расхлябанный, нестройный марш.
– Что это? – с удивлением спросил Русалкин.
– Кажется, «Преображенский марш», – пробормотал Половников.
– Так что, неужели война?.. – начал любитель словесности и не закончил фразу.
Мелодия развалилась на части так же резко, как и началась. Еще несколько секунд ухала и надрывалась басом большая труба, но и она засвистела фальцетом и угасла.
Охваченный самыми скверными предчувствиями, следователь поспешил к вокзалу, куда уже стекались толпы любопытных. Русалкин последовал за ним.
Глава 4
Дирижер на лошади. – Начальственные лица. – Благоразумие пана Валевского. – Сюрприз, которого никто не ждал.
По перрону метался начальник вокзала в криво сидящей фуражке, а в глазах его метался ужас. Полицейские чины отжимали от перрона толпу, но она все перла и перла. Половникова, впрочем, сразу же узнали и пропустили беспрекословно, а вместе с ним сумел проскользнуть сквозь оцепление и его спутник.
Здание вокзала было украшено гирляндами цветов. Духовой оркестр настраивал инструменты, а перед ним, сидя на белой лошади, одергивал обшлага рукавов маэстро Бертуччи – потомок итальянца Бертуччи, что-то не поделившего с Наполеоном и сбежавшего от имперского величия в приморский город Российской империи. Маэстро Бертуччи всегда дирижировал, сидя на лошади, и за этот особенный шик, за безупречную элегантность его обожали дамы и завидовали ему мужчины. Вот и сейчас Половников посмотрел на потомка итальянцев с невольным восхищением.
Возле оркестра чертил зигзаги красный, растерянный и раздраженный полицмейстер де Ланжере. Широкоплечий брюнет с пушистыми усами и клиновидной бородкой неуловимо походил на своего предка, короля Генриха IV, – как внешним обликом, так и характером. Он был неглуп, остер на язык, жил одновременно на два дома и при том ухитрялся еще содержать актрису. Сейчас полицмейстер был при полном параде, на боку его висела сабля, на груди скромно теснились ордена. Он оглянулся, увидел Половникова и сделал такое лицо, будто собрался заплакать.
– Что-нибудь случилось, Елисей Иванович? – с тревогой спросил у полицмейстера следователь.
– Поезд опаздывает! – простонал де Ланжере.
– И что? – Половников по-прежнему ничего не понимал.
– Как – что? – рассердился де Ланжере. – Баронесса Корф опаздывает! Что она будет думать о нас после этого?
В их беседу вмешался непосредственный начальник следователя, Сивокопытенко, – почти молодой, почти симпатичный, почти приличный человек, большой карьерист и к тому же поклонник карточной игры. Все чиновники знали, что он крутит амуры с женой Половникова, и втайне жалели следователя. Что же до самого Половникова, то он, похоже, ничего не замечал.
– А вы, однако, настоящий провидец, Антон Иванович! Знали, что поезд опоздает, и потому позволили себе прийти позже!
Половников ничего не ответил, но про себя подумал, как хорошо было бы однажды обнаружить труп Сивокопытенко где-нибудь в канаве и засвидетельствовать факт убийства, совершенного с особой жестокостью. Впрочем, пока Сивокопытенко ладил с Хилькевичем и исправно брал с него мзду, нельзя было надеяться даже на то, чтобы начальник следователя поскользнулся и сломал себе руку, не говоря уже о чем-то более серьезном.
К счастью, разъехидственный намек Сивокопытенко прошел незамеченным, потому что ни полицмейстер, ни вице-губернатор Красовский не обратили на него внимания. Вице-губернатор был молодой человек с жидкими светлыми усами, тоненький, как тростинка, и вид имел такой, словно его в детстве чем-то смертельно напугали и он до сих пор не оправился от того испуга. Он не так давно занял это место и теперь безумно волновался, как бы не осрамиться перед столичной особой. Нервно сплетая и расплетая пальцы рук в белых перчатках, Красовский блуждал по перрону, подходя то к полицмейстеру, то к Бертуччи, у которого уже раз десять спросил, готовы ли его музыканты. Ни на кого более вице-губернатор внимания не обращал.
Внезапно в толпе обозначилось движение. К де Ланжере рысцой подбежал начальник станции.
– Едет, Елисей Иванович! Едет!
Вице-губернатор обернулся и увидел, как из-за поворота выползает курьерский[124] из Петербурга. С усилием волоча громоздкое тело по рельсам, поезд поднатужился и издал хриплый рев.
– Ну, господи, благослови… – прошептал Красовский. – С богом!
Он стиснул пальцы в очередной раз и не заметил, что порвал одну перчатку. Половников на всякий случай проверил, застегнут ли он на все пуговицы, и приосанился. Следователь ничуть не боялся приезда неведомой баронессы Корф и ничего совершенно не ждал от него для себя, но его все же начало охватывать любопытство. Русалкин, который благоразумно держался сзади, приподнялся на цыпочки и вытянул шею. Де Ланжере крякнул и расправил усы.
Поезд потек вдоль перрона, издал звук «хшшшш!» и, поскольку деваться ему было некуда, остановился. Бертуччи взмахнул рукой, и «Преображенский марш» величаво поплыл над головами зевак, над встречающими, над вокзалом, утопающим в зелени. От литавр отскакивали солнечные зайчики и плясали по перрону.
Из вагона первого класса выскочила белая собачонка величиной с кошку, покрутилась вокруг себя, возмущенно залаяла на создающих кошмарный шум музыкантов и шарахнулась в сторону. Вслед за собачкой показалась дородная дама, которая громко журила свою Мими за то, что та убежала, и заодно сухо выговаривала горничной – высокой бледной девушке – за то, что та недоглядела за ее любимицей.
Однако, завидев духовой оркестр, дама порозовела и переменилась в лице. Она обернулась в глубь вагона, сказала: «Пьер! Пьер, посмотри, как тебя встречают! Ah, c’est charmant!»[125] – и милостиво улыбнулась.
На ее зов показался сморщенный, согбенный, дряхлый старичок в генеральском мундире. Судя по возрасту старичка и покрою мундира, обладатель последнего воевал еще с Наполеоном, если вообще не с Чингисханом.
Красовский вполголоса спросил о чем-то кондуктора, и тот кивнул головой в глубь вагона. Дама вынула платочек, готовясь махнуть им толпе встречающих, но тут ее самым неучтивым образом прервал полицмейстер.
– Сударыня, проходите, проходите! – прошипел де Ланжере. – Не стойте здесь!
Дама переменилась в лице вторично, зато ее горничная, которая держала пойманную белую собачку в руках, отчего-то ожила и заулыбалась в сторону. Старенький генерал озадаченно замигал глазками, лишенными ресниц, и Половникову сделалось остро жаль его. Следователь отвел глаза.
Он отвел глаза, поэтому не сразу увидел то, что увидели все – и королевски импозантный де Ланжере, и нервничающий Красовский, и Сивокопытенко, и встрепанный диковатый Русалкин, и дородная дама, которая так жестоко ошиблась в своих надеждах, и генерал, и зеваки, и даже собачонка.
Из вагона показалась дама.
В светлом платье.
В руке она держала белый зонтик от солнца.
Вот, в сущности, и все. Стоит, впрочем, упомянуть, что дама была молода, стройна и красива, причем все три этих качества присутствовали в превосходной степени. Иначе так и останется непонятным, почему Красовский при ее виде уронил перчатку (ту, которую не успел порвать), а де Ланжере ощутил, прямо скажем, некоторое сердцебиение.
– Да… – молвил со вздохом старенький генерал.
И не прибавил ничего.
– Баронесса Корф? – спросил вице-губернатор трепещущим голосом.
Дама кивнула, и в глазах ее бог весть отчего мелькнули смешинки. Сивокопытенко в порыве подхалимского усердия бросился подбирать начальническую перчатку. Не заметив этого, Красовский шагнул, наступил ему на пальцы каблуком и почтительно поцеловал тонкую ручку приезжей дамы.
Сивокопытенко взвыл – но взвыл совершенно безмолвно, отчего его никто не услышал. На глазах его выступили слезы, но подхалимская натура мешала даже намеком обнаружить свое неудовольствие, и он решил потерпеть, пока вице-губернатор сам не соблаговолит сойти с его руки.
– С кем имею честь? – поинтересовалась баронесса.
– Вице-губернатор Красовский, – заторопился молодой человек, – Андрей Игнатьич. А вот наш полицмейстер, господин де Ланжере.
– Елисей Иванович, – уточнил тот, одновременно кланяясь, улыбаясь и подкручивая ус.
Однако гостья не обратила на его маневры никакого внимания.
– А где губернатор? – спросила она. – Я полагала, именно он будет меня встречать.
Красовский замялся. По правде говоря, желчный губернатор недавно поссорился с министром и теперь багровел при всяком упоминании столичных властей. Как его ни уговаривали, он категорически отказался встречать приезжающую из Петербурга баронессу. Более того, губернатор даже высказался против «Преображенского марша», заявив, что какая-то вертихвостка – не посол и не адмирал, чтобы приветствовать ее таким образом, а ее так называемая миссия – чепуха для легковерных. На самом же деле она будет искать компромат, чтобы подсидеть его, губернатора, но он ее не боится и готов отвечать за любые свои действия, равно как и слова.
Бертуччи, доиграв марш, собирался запустить его по второму кругу, но по лицам музыкантов, по тому, как ни с того ни с сего они перестали попадать в такт, решил не искушать судьбу и обернулся. И увидел очень хорошенькую молодую женщину в светлом платье, которая о чем-то говорила с Красовским и де Ланжере. Неподалеку бледный Сивокопытенко растирал кисть руки, не принимая участия в разговоре. Следователь Половников не сводил удивленного взгляда с приезжей дамы. Стоящий возле него Русалкин полез в карман и извлек из него какой-то листок.
Из глубины вагона показалась горничная, повертела головой, заметила де Ланжере и заиграла ресницами. Судя по всему, представительный полицмейстер произвел на плутовку неизгладимое впечатление.
– Что тебе, Дашенька? – спросила баронесса.
– Амалия Константиновна, как быть с багажом?
Красовский обернулся к де Ланжере, де Ланжере обернулся к Сивокопытенко, Сивокопытенко обернулся к Половникову. Последний ограничился тем, что сделал знак начальнику вокзала.
– В ваших краях поезда всегда опаздывают? – спросила баронесса у полицмейстера.
Но де Ланжере был слишком опытен, чтобы его можно было пронять подобными вопросами.
– Поезда везде опаздывают, сударыня, – отвечал он, не моргнув и глазом.
– Я привыкла, что они опаздывают на четверть часа, в крайнем случае на полчаса, – промолвила Амалия Константиновна. – Но чтобы почти на час…
– Это, наверное, потому, что поезд курьерский, – заметила Дашенька. – Быстрее всех и опаздывает больше всех.
Следователь не смог удержаться от улыбки. Тут-то Русалкин и решил, что настало его время, и вскричал, бросаясь к баронессе Корф, словно шел грудью на вражеский редут:
– Сударыня! Не обидьте! Российская словесность страдает… Великий поэт…
Он встряхнул в воздухе прошением, намереваясь продолжать, но тут натолкнулся на взгляд баронессы, как на пушку того самого редута. И взгляд разорвал его в клочья, стер в прах, а прах разметал по ветру.
– Кто пустил сюда этого сумасшедшего? – сквозь зубы, однако же так, что его услышали все, вопросил Сивокопытенко.
– В чем дело? – с неудовольствием осведомилась баронесса.
Де Ланжере с видом мученика объяснил суть дела. Баронесса Корф вздохнула.
– В обществе состоят всего четыре человека! – сердито заметил Красовский. – А Пушкин провел в здании, о котором идет речь, только одну ночь. И отозвался о здешних местах весьма неуважительно!
– Довольно, – произнесла баронесса Корф, и какие-то новые интонации в ее голосе заставили Половникова внимательнее взглянуть на нее. – Аполлон Николаевич… Я правильно помню? Вот и замечательно. Так вот, Аполлон Николаевич, когда ваше замечательное общество будут посещать хотя бы десять человек – постоянно посещать, понимаете? – вы получите помещение. А что касается мемориальной доски… – Баронесса задумчиво прищурилась. – Мы согласны повесить ее на здание, где ночевал поэт, но с обязательным условием: чтобы на ней было выгравировано то, что Александр Сергеевич написал об этом городе, слово в слово. Вы согласны?
Русалкин побагровел. Половников с трудом удержался от улыбки. Ай да баронесса Корф! А с виду такая очаровательная, такая легкомысленная, такая обыкновенная дама. Нет, не зря, не зря ее послали в благословенный город О.! И уж точно она очень умна, настолько, что может оказаться не по зубам им всем.
Включая искушенного де Ланжере.
Включая губернатора.
И даже включая самого Хилькевича, короля дна.
– А может быть… – начал Русалкин и угас.
– Слово в слово, – твердо повторила баронесса. – Выбирайте.
– А дамочка-то красотка, чистый мармелад, – заметил в оркестре музыкант, управлявшийся с литаврами.
– Выбирайте выражения, Саенко! – сурово велел Бертуччи.
Хоть его предок и вынужден был сделать ноги с родины из-за того, что пырнул ножом любовницу, которая предпочла ему наполеоновского солдата, маэстро не терпел, когда о женщинах отзывались неуважительно.
Если бы вместо того, чтобы пререкаться с музыкантом, маэстро поглядел влево, где волновалась сдерживаемая полицейскими толпа, он мог бы увидеть нечто любопытное. А именно, непременно бы заметил невысокого вихрастого блондина с коричневым чемоданом, который завяз в этой толпе, как муха в сиропе. На лице блондина застыла неподдельная мука, нижняя губа страдальчески оттопырилась.
…Узнав от графа Антонина о скором прибытии баронессы Корф, Валевский раздумывал недолго. Слов нет, искушение побороться с баронессой было заманчивым, однако поляк еще помнил отвратительную вонь, которая царила в его последней тюрьме, и вовсе не горел желанием туда возвращаться. Взвесив все «за» и «против», он решил, что самым благоразумным в данных обстоятельствах будет сделать ноги, и тотчас же начал приводить свой план в исполнение.
Однако персональный ангел-хранитель Валевского, подсказав ему наилучший выход из сложившейся ситуации, очевидно, решил куда-то отлучиться. Ничем иным нельзя объяснить то обстоятельство, что Валевский, спеша к вокзалу, увидел на красном доме вывеску заведения с буквами, скверно стилизованными под греческие. Вывеска гласила, что здесь находится несравненная ресторация гражданина Ф. А. Теодориди.
В любое другое время Валевский прошел бы мимо, но тут из ресторации повеяло поистине божественным ароматом. В аромате этом смешались запахи кофе, свежих булочек, халвы, восточных сладостей и счастья.
«Ни за что туда не пойду, – сказал себе Валевский. – И потом, там наверняка грязь и тараканы. Фу!» Но через минуту уже сидел за столиком и потягивал восхитительный дымящийся кофе. Душа его витала в эмпиреях и не вернулась оттуда даже тогда, когда растворилась дверь и в ресторацию ввалились двое: один – возбужденный господин, который все время яростно жестикулировал, и второй – семенящий коротышка в грязной сорочке, которую он тщетно пытался спрятать под наглухо застегнутым сюртуком. Оба посетителя имели вид классических неудачников.
А потом они заговорили, и Валевский узнал, что баронесса Корф будет еще не скоро, и, значит, он успеет уехать до ее прибытия. А раз так, можно выпить еще чашечку превосходного кофе, который готовил угрюмый хозяин.
Леон выпил чашечку кофе, потом еще одну и поспешил на вокзал, но там было столько полицейских и столько зевак, что душу Валевского сразу же наполнили самые нехорошие предчувствия. Он хотел вернуться, однако толпа закружила его, а когда маленький блондин стал выбираться из нее, то нос к носу столкнулся с городовым, который сердито спросил у него, куда он так торопится.
– Мне на поезд! – простонал Валевский, теряя голову.
– Пока дама не приедет, поезда велено не пущать, – строго ответил страж порядка. – Ждите, милостивый государь!
Валевский хотел проскользнуть мимо городового, но увидел в нескольких шагах пару жандармов, которые (так ему показалось) чрезвычайно внимательно смотрели на него. Он отвернулся и смешался с толпой, стараясь как можно меньше бросаться в глаза.
Наконец поезд прибыл, встречающие засуетились, и через пару минут можно было видеть, как начальник станции и его помощники тащат к выходу багаж приезжей дамы. Валевский отлично помнил, что Амалия знает его в лицо, и на всякий случай спрятался между какой-то толстой дамой, от которой удушливо пахло виолет-де-пармом, и золотоволосым юнцом ротозейской внешности. От сильного запаха у Леона стали слезиться глаза, и он несколько раз чихнул.
Когда Валевский перестал чихать, он поднял голову – и увидел напротив себя, шагах в пятнадцати, не более, баронессу Корф. Улыбка слетела с ее губ, а карие глаза смотрели прямо на него. Спасительная толстуха, за которой он прятался, отошла в сторону, юнец тоже куда-то исчез, и теперь вор был ничем (вернее, никем) не прикрыт.
Валевский был, прямо скажем, не робкого десятка, но в то мгновение он словно физически ощутил, как глаза баронессы – красивые, надо признать, глаза с золотистыми крапинками – прожгли в нем две зияющих дыры. В голове его пронеслись обрывки каких-то глупейших мыслей – что вот так все всегда и происходит: ты строишь расчеты, обводишь вокруг пальца всех и вся и под конец попадаешься, да, попадаешься самым жалким образом. Почему он застрял в той греческой кофейне, которая бог весть отчего именует себя ресторацией? Почему не выждал, когда баронесса приедет и отбудет с вокзала, чтобы спокойно с ней разминуться? Почему, наконец, попросту не удрал из города ночью, когда путь был совершенно свободен? Черт побери!
Он с тоской предчувствовал: вот сейчас баронесса Корф, которая, как он уже убедился, умеет действовать на редкость стремительно, тихим голосом отдаст один-единственный приказ, и два десятка жандармов тотчас же раскидают толпу, выволокут из нее Валевского, пнут пару раз для острастки по ребрам и потащат в городской острог. И при мысли о том, что он сам, можно сказать, помог этой чертовой авантюристке одержать очередную победу, у него заныло под ложечкой.
Леон увидел неподалеку от Амалии седовласого господина с морщинистым лицом и про себя удивился, что мог забыть на вокзале известный вор Агафон Пятируков. Вокруг молодой женщины и ее горничной теперь теснились городские чиновники, торопясь засвидетельствовать свое почтение. Какой-то бледный господин, морщась, вертел кистью руки, другой – холеный господин в орденах – подкручивал усы. Валевский поглядел на него мельком и подумал, что этот тип ему кого-то напоминает, и даже вспомнил кого – пана Шледзя, который заправлял в их приюте и нещадно драл маленького Збышека за каждую совершенную оплошность, а еще чаще – просто так. Леон терпеть не мог вспоминать о своем детстве, в котором не было ровным счетом ничего хорошего, и сердито покосился на баронессу Корф, ожидая, когда же та отдаст роковой приказ.
Но баронесса Корф уже отвернулась и нежно улыбалась тому самому Шледзю № 2 в орденах. Валевский перевел дух и мысленно вознес благодарность Антонину за то, что тот его отделал. Наверняка от побоев лицо у него так «поехало», что Амалия, хоть и стояла недалеко, не смогла его узнать.
Баронесса с горничной сели в экипаж Красовского и в сопровождении двух конных казаков покатили по проспекту. Оркестранты стали убирать свои инструменты. Зеваки принялись расходиться, обсуждая платье приезжей дамы, манеры приезжей дамы и то, как приезжая дама поставила на место Русалкина. Полицейские еще некоторое время поприсутствовали для порядка, а потом скрылись из глаз. Утирая пот со лба, Валевский подошел к окошечку, за которым сидел билетный кассир.
– Один до Киева, – попросил он. Подумал и добавил: – Первым классом, вагон для некурящих.
После чего полез в карман за кошельком.
– Ну, сударь? – сердито спросил кассир, глядя, как Валевский хлопает себя по карманам и беззвучно ругается. – Так будем брать билет или нет?
– Кажется, я забыл дома кошелек, – промолвил вор, выдавив из себя улыбку. – Но я еще вернусь!
И, стиснув ручку чемодана, он быстрым шагом двинулся прочь.
Примерно через полчаса после того, как баронесса Корф покинула вокзал, торжествующий Агафон Пятируков положил на стол перед Хилькевичем розовый дамский кошелек в виде расшитого бисером мешочка.
– Вот, – сообщил вор, сияя улыбкой. – Это ее кошелек, как вы и просили. Васька тоже недурной улов хватанул – обчистил в толпе десяток фраеров. У парня явный талант, хорошо бы его на вокзале оставить. Доходное место, ежели с умом взяться, конечно. И платить он вам будет исправно, я обещаю.
Вася Херувим, стоя в стороне, застенчиво шмыгнул носом.
– Посмотрим, посмотрим… – нараспев проговорил Хилькевич. – А приезжей даме наука. Чтоб за вещичками своими приглядывала получше. А то приехала, вишь, краденые ценности искать, хе-хе! Ты за своими сначала уследи!
Король дна довольно рассмеялся.
– Только вот де Ланжере это не понравится, – рискнул заметить Пятируков.
– Не пойман – не вор, – отрезал Хилькевич. – Сколько у нее в кошельке?
Прежде всего король дна был деловым человеком.
– Не знаю, я еще не смотрел, – отозвался Пятируков. – Но кошелек-то тяжелый. Сейчас…
Он полез в розовый мешочек – и тут Вася не узнал своего дядю. Агафон Пятируков разинул рот, вытаращил глаза, да так и остался стоять.
– Что там? – почуяв неладное, спросил Хилькевич.
С несчастным видом Пятируков протянул ему кошелек, и тут Хилькевич увидел, что тот набит вовсе не золотыми монетами и кредитными билетами, а мелкими гладкими камешками.
– Что? Но как… – просипел Пятируков и умолк.
Хилькевич осмотрел кошелек и заметил в отделении для банкнот аккуратно свернутую бумажку. Дернув щекой, король дна вытащил бумажку и развернул ее.
На листке аккуратным дамским почерком было написано:
«Г-ну Виссариону Хилькевичу. В собственные руки.
Зная о ваших способностях и ценя вашу выдумку, я припасла для вас сей небольшой сюрприз. Надеюсь, он придется вам по душе.
Полагаю, нам будет нелишне встретиться и поговорить. К примеру, сегодня, в 3 часа дня, в гостинице «Европейская». Если вы меня опасаетесь, можете взять с собой своих людей в любом количестве.
Надеюсь, вы не заставите меня ждать.
Баронесса А. Корф».
Глава 5
Ценные бумажки разного достоинства. – Неудачный комплимент опытного ловеласа. – Время встречи изменить нельзя.
Горничная Дашенька закончила прихорашиваться перед зеркалом и вышла из номера. Она рассчитывала, что до трех часов – когда у Амалии Константиновны назначена какая-то важная встреча – у нее самой есть свободное время. Но не тут-то было – в коридоре девушку остановил лакей и вручил несколько конвертов с приглашениями. Дашенька надула губы.
– Ну и кто тут? – проворчала она, рассматривая конверты. – К губернатору нас уже звали, к вице-губернатору звали, жена полицмейстера тоже прислала приглашение. Так, надворный советник, генерал… еще один генерал… статский советник Лакомый… Вот повезло его жене, хорошо, наверное, быть госпожой Лакомой! – Горничная сложила конверты, состроив страдальческую гримасу. – И совершенно непонятно, когда у нас будет время ходить по всем этим обедам. Мы и для вице-губернатора еле время выкроили!
– Тяжелая у вас служба, – притворно вздохнул лакей, одним глазом кося на светлые колечки Дашенькиных волос на шее, а другим – на ее соблазнительное декольте.
– И не говори! – поддержала девушка. – Сплошные разъезды, то туда, то сюда. Дома толком побыть некогда, чуть что – и сразу в дорогу.
Лакей хотел продолжить беседу, но тут увидел в конце коридора холеного господина с клиновидной бородкой. Господин мрачно покосился на него, и лакей, сразу же вспомнив о том, что его ждут совершенно неотложные дела, ретировался. Дашенька разочарованно поглядела ему вслед. Господин с бородкой меж тем уже материализовался возле нее.
– Послушай, любезная…
«Любезная» обернулась и, признав симпатичного полицмейстера, вся заискрилась улыбкой.
– А что за письма ты несешь? – строго вопросил подошедший.
– Нехорошо любопытствовать, сударь! – откликнулась горничная и хихикнула.
Услышав глупое хихиканье, полицмейстер сразу же успокоился. Какой бы умной ни была хозяйка, горничная явно ей уступала.
– Я, между прочим, здешний полицмейстер, – важно изрек де Ланжере. – И мне все полагается знать по чину.
Говоря, он вложил в свободную руку горничной какую-то бумажку. Однако продолжение было вовсе не таким, на какое полицмейстер рассчитывал. Дашенька с любопытством поглядела на бумажку, признала в ней трехрублевку и, ослепительно улыбнувшись, засунула ее обратно де Ланжере в карман.
– Не по чину берете, сударь, – сказала она загадочно. – И не по чину даете.
И ласково поглядела опешившему мужчине прямо в глаза.
– Да ты нахалка, однако! – объявил полицмейстер, машинально отмечая, что у нахалки очень красивые глаза, да и все остальное явно заслуживает самого пристального внимания с его стороны. – Может, мне еще радужную[126] тебе дать?
– А хоть бы и так, сударь, – отвечала горничная, томно косясь на собеседника. – Потому как мне отлично известно, что вы хотите узнать.
– Да? – Полицмейстер дивился все больше и больше. – И что же я хочу знать?
– Не погонят ли вас вскорости в шею, – снова хихикнула горничная. – Цельный день за мной всякие господа ходят, деньги сулят и все выспрашивают, не будет ли им от визита моей госпожи какого урону. Смех, да и только!
Однако де Ланжере было вовсе не смешно.
– И что, погонят меня или нет? – довольно-таки сухо спросил он.
– Откуда мне знать? – пожала плечами плутовка. – Только ежели вы верите, что госпожа со мной делится, что да как, вы не правы, сударь, не правы! Не таковский она человек, чтобы прислуге все разбалтывать!
Де Ланжере вздохнул.
– Послушай, милая… Я понимаю, что твоя госпожа многое держит в секрете, но если вдруг… если ты что услышишь… – он облизнул губы, – обо мне или… или о моем месте… – Полицмейстер полез в карман, достал бумажку покрупнее достоинством и со значением поводил ею в воздухе перед носом Дашеньки. Горничная следила за бумажкой, как завороженная. – У меня много врагов, – горько сказал полицмейстер, вкладывая купюру в руку Дашеньки. – И хотя я тружусь, не щадя живота своего, многим мое присутствие в этом городе не по нраву. Я знаю, что меня могут оговорить, опорочить… да-с… – Он заглянул в декольте Дашеньки и приосанился. – Но ты, мне кажется, умная девушка, и…
– Так обычно говорят девушкам, которые не могут больше ничем похвастаться, – с разочарованием заметила Дашенька, отчего полицмейстер поперхнулся. – Не волнуйтесь, сударь, если я что услышу про вас, непременно скажу.
И, стрельнув глазами, чем окончательно добила потомка французского короля, скользнула прочь.
Далеко, впрочем, Дашеньке уйти не удалось, потому что возле лестницы ее поджидал черноусый брюнет с волосами, густо покрытыми фиксатуаром. Костюм на брюнете был просто идеальный, золотые часы поражали воображение тонкостью работы, но, несмотря на это, их обладатель отчего-то не внушал совершенно никакого доверия.
– Красавица-душа, до чего хороша! – промурлыкал он, расплываясь в счастливой улыбке.
– Кому душа, а кому иди мимо, – весьма неприветливо отозвалась Дашенька.
– Мадемуазель, право слово, вы со мной чересчур суровы, – объявил сутенер Жорж. – Можно вас на пару слов?
– Нельзя, – последовал мгновенный ответ.
– Совсем никак? А если так? – В руке Жоржа, зажатая между средним и указательным пальцем, неведомо откуда возникла сложенная бумажка.
Дашенька вздохнула, покосилась вправо, покосилась влево и с видом человека, вынужденного покориться грубому принуждению, взяла бумажку.
– Ты горничная баронессы, принцесса? – спросил Жорж, пристально глядя на нее.
– А ты мне не тыкай, – отрезала Дашенька. Развернув бумажку, поглядела ее на свет и вздохнула: – Фальшивая. Впрочем, чего еще ожидать от такого, как ты!
И в следующее мгновение фальшивая купюра, с помощью которой подручный Хилькевича надеялся задобрить горничную и кое-что у нее выведать, полетела Жоржу в лицо. Сутенер остолбенел.
– Меня можно подкупить, я такой же человек, как и все. Но не фальшивыми же деньгами! – беззлобно промолвила Дашенька и строго поглядела на раздавленного Жоржа. – Передай… сам знаешь кому… чтобы не опаздывал на встречу. Иначе другой раз встреча случится в городском остроге на Райской улице, а твой хозяин будет уже закован в кандалы!
Жорж хотел протестовать, объяснить, что все получилось случайно – он понятия не имел, что бумажка, которую он получил от Хилькевича, поддельная… но Дашенька уже прошла мимо, зажав в руке пачку конвертов и гордо неся голову. К тому же откуда ни возьмись возник полицмейстер де Ланжере и злобно уставился на сутенера. Выругавшись вполголоса (без всякого соблюдения рифм), Жорж подобрал скомканную купюру с пола, оскалился и был таков.
Через несколько минут он уже пил вино в заведении мадам Малевич, расположенном аккурат напротив гостиницы «Европейская». Галстук Жоржа валялся на столе, ворот рубашки был расстегнут, и одна из девиц, стоя сзади в одних чулках и корсете, массировала сутенеру плечи. Все девицы мадам Малевич обожали Жоржа, потому что он был не злой, не жадный и к тому же такой милашка, что просто ах.
– Он выставил меня дураком! – кричал Жорж. – Ассигнация была фальшивая!
– Успокойся, успокойся, мой котик, – гудела Розалия. – Где она?
Жорж кивнул на сюртук, лежащий на диване. Розалия достала злосчастную бумажку и тщательно осмотрела ее.
– Точно фальшивая, – вздохнула она. – Варшавская работа, сразу и не заметишь. А горняшка-то не промах!
– В чем дело? – С этими словами в комнату в сопровождении Пятирукова и графа вошел Хилькевич.
– Зачем вы дали мне фальшивую бумажку, чтобы подкупить горничную? – набросился на него Жорж.
У Хилькевича возникло скверное чувство: ситуация окончательно выходит из-под контроля, если даже Жорж позволяет себе кричать на него при свидетелях. Однако король дна сдержался.
– Мне неизвестно, в чем дело, – холодно сказал он. – Розалия?
Владычица веселых домов обрисовала ситуацию, не забыв упомянуть и о переданной Дашенькой угрозе организовать встречу в остроге, если Хилькевич не придет к баронессе. Король дна нахмурился.
– Это ведь ты дал мне ту ассигнацию, – сказал он, оборачиваясь к Пятирукову. – Откуда она?
Пятируков со смущением ответил, что бумажка была из чужого кошелька – одного из тех, которые стащил его племянник на вокзале, пользуясь теснотой и суматохой. (Никто из присутствующих так никогда и не узнал, что купюра явилась на самом деле из кошелька Валевского.)
– К горничной нам теперь не подобраться, – вздохнул Хилькевич.
– Ну почему? – отозвалась Розалия. – Можно еще Груздя к ней послать, к примеру.
– Груздь слишком старый, он ей не пара, – возразил Жорж.
Он мельком улыбнулся девице в чулках и поцеловал ей руку, и та, истасканная, бесконечно несчастная, в сущности, провинциалочка, приехавшая в большой город за большим счастьем, заулыбалась так, словно ее поцеловал сам король. Розалия сверкнула на нее глазами, и девица поспешно вышла за дверь.
– А какое это имеет значение? – ответил Хилькевич. – Хотя…
Он задумался.
– Я все-таки считаю, что незачем идти на встречу, – проворчал Пятируков. – Мало ли что сказала какая-то служанка…
– В самом деле! – поддержал его граф.
– Если мы не придем, дама может решить, что мы ее боимся, – возразил Жорж.
– И что? – вскинулась Розалия.
– С тем, кто боится, можно сделать все, что угодно, – бросил сутенер.
«Смотри-ка, что ему известно!» – удивился про себя Хилькевич.
– А прийти, – упорствовал Пятируков, – будет все равно что признать свою вину!
– Вину в чем? – пожал плечами Хилькевич. – В том, что сперли мешочек с камушками? Так она сама его обронила на вокзале, к примеру. И что?
Розалия села в кресло и скрестила отечные ноги, обутые в дорогие туфли цвета бордо с золочеными пряжками. По старой памяти туфли были на больших каблуках, и хотя Розалии теперь было нелегко на них передвигаться, она упорно отказывалась сменить обувь на более удобную.
– А мне вот интересней то, что было до мешочка, – внезапно объявила хозяйка.
– Говори ясней, – попросил Пятируков.
– Она нас просчитала, – жестко сказала Розалия. – Она знала, что мы будем делать и как. Она знает о Виссарионе – и, возможно, не только о нем. Но будь она хоть самой умной женщиной на свете, без сведений у нее бы ничего не вышло. Понимаете, о чем я?
Хилькевич кивнул.
– Кто-то нас заложил, – уронил король дна. – Причем до того, как баронесса приехала в город.
– Поэтому хорошо бы узнать, что именно ей известно, – закончила Розалия. – С этой точки зрения встреча с ней может оказаться весьма полезной.
Однако Пятируков не желал сдаваться.
– Ну и что, что ей о нас известно? – с вызовом спросил он. – Все равно она ничего не сможет поделать. И потом, она ищет Валевского и украденную парюру – пусть ищет! Мы что, собираемся ей мешать?
Граф Лукашевский рассеянно потирал усы.
– Должен признаться, – неожиданно проговорил он, – мне это не нравится. Жили мы, не тужили, и тут нате вам…
– Антонин, прошу вас, оставьте рифмы Жоржу, – с гримасой раздражения перебила его Розалия. – Лично мне совсем не понравилось, как уверенно горничная говорила насчет острога на Райской улице. Кстати, откуда им известно, что он именно на Райской улице, а?
Подавленные воры стихли и только переглядывались. Жорж застегнул ворот рубашки и стал завязывать галстук.
– Без десяти три, – напомнил он, показывая глазами на часы в углу. – Счастливые часов не наблюдают, а прочие без них пропадают. Ну так как? Идем или нет?
Без двух минут три Амалия вышла из своего номера и спустилась в Герцогский салон, расположенный на первом этаже «Европейской». Здесь было уютно, чинно и спокойно. Бюст герцога, стоявший на возвышении, взирал на немногих посетителей, которые почтили своим присутствием салон в этот час. Трое или четверо мужчин читали газеты, какая-то полная дама в туфлях цвета бордо пила кофе. Амалия задержалась на ней взглядом и подумала, что дама явно переборщила с косметикой.
Часы в углу пробили три раза. К Амалии подошел слуга, но, получив ответ, что ей ничего не надо, поклонился и отошел.
– Кажется, международное положение осложняется, – произнес мужчина за соседним столиком.
Он сложил газету, которая скрывала его лицо, и, уже не таясь, посмотрел на Амалию. Это был господин в седых бакенбардах, весь облик которого наводил на мысли о беспорочной службе, отличном послужном списке и многочисленных наградах.
– Виссарион Сергеевич? – спросила Амалия. – Вы вовремя, благодарю вас. Не хотите ли пересесть за мой стол?
Виссарион Сергеевич усмехнулся каким-то своим тайным мыслям, однако же приглашение принял.
– Мне сказали, вы хотели меня видеть, – проговорил он, избегая упоминать об инциденте на вокзале. – Итак?
Баронесса Корф вздохнула.
– Полагаю, мы не будем терять время и играть в прятки, пытаясь ввести друг друга в заблуждение, – сказала она. – Вы знаете, кто я, и я знаю, кто вы. Думаю, вам должно быть известно и о том, что именно привело меня в ваш город.
– Лучше скажите вы, сударыня, – очень кротко попросил Хилькевич. – Я старый человек, могу и ошибиться.
Амалия улыбнулась.
– Некто Леон Валевский, российский подданный, – заговорила баронесса, – украл драгоценности, которые один… беспечный человек имел несчастье подарить знаменитой танцовщице. Драгоценности тому человеку не принадлежали и вообще являются фамильной ценностью. Мне поручено вернуть их, причем вернуть любой ценой. А пан Валевский в настоящее время находится в вашем городе.
– Беспечный человек – великий князь Владимир? – невинно поинтересовался король дна.
– Допустим, его звали именно так, – после небольшой паузы ответила баронесса. – Вряд ли это что-то меняет.
– Гм, с какой стороны посмотреть, сударыня. Потому что, насколько мне известно, вы и великий князь одно время были весьма, весьма коротко знакомы,[127] – отозвался Хилькевич лукаво. И улыбнулся, не скрывая своего торжества.
Однако, как оказалось, он сильно недооценил баронессу Корф. На его мелкий укол Амалия ответила ударом, который – если пользоваться боксерским языком – сразу же отправил собеседника в нокаут:
– Положим, мне тоже многое о вас известно. Например, то, что вы убили свою жену.
Улыбка застыла на губах Хилькевича.
– Ложь! – проговорил он, дернув щекой. – Моя жена умерла после болезни.
– Я по натуре невероятно доверчива, – легко согласилась баронесса. – И если вы мне сейчас скажете, что ваша жена умерла оттого, что ее затоптало стадо диких слонов, которое убежало из местного зоопарка, я тоже вам поверю. Только вот к нашему делу смерть женщины не имеет никакого отношения.
– К нашему делу? – насторожился Хилькевич.
– Именно так, – подтвердила Амалия, и старый негодяй почти физически ощутил исходящую от нее угрозу, которая, как он только сейчас понял, вовсе не была шуткой. – Условия мои таковы. Вы заправляете данным городом, вернее, худшей его частью, и наверняка знаете, где находится Валевский, а также императорская парюра. Вы отдаете мне Валевского и драгоценности, которые он украл, и мы с вами будем в расчете. Можете и дальше строить из себя царька преступного мира, я не буду вам мешать. Более того, могу даже пообещать оградить вас от притеснений со стороны властей, если таковые будут иметь место. Как видите, в моих требованиях нет ничего невозможного, и думаю, вам будет легко выполнить мою просьбу.
Хилькевич поймал взгляд Жоржа, который высунул голову из-за газеты за два столика от них. Розалия хмурилась и покусывала губы. Граф Лукашевский, стоя у окна, делал вид, что любуется видом на море, но по его напряженной спине Хилькевич видел, что Антонин не пропустил ни слова из разговора. Старый друг Пятируков так волновался, что даже не заметил – он держит свою газету вверх ногами. Однако сейчас, признаться, король дна жалел, что отправился на встречу со своими сообщниками. Ему не понравился тон баронессы, не понравилось, что она говорила с ним – нет, не как со слугой, а как с каким-то ничтожеством, которое только строит из себя значительное лицо. Никто и никогда в благословенном городе О. не смел обращаться с ним так. И еще ему крайне не понравилось, что приезжая дама упомянула о его жене.
– Какая поразительная просьба, сударыня, – проговорил Хилькевич, не сводя с собеседницы пристального взора. – Право, вы преувеличиваете мои возможности. Почему бы вам не обратиться, к примеру, к господину де Ланжере? В конце концов, он наш полицмейстер и обязан знать, что творится в городе.
– Мне следует понимать ваши слова как отказ? – осведомилась баронесса. – Поверьте, сударь, если бы я могла обойтись одним де Ланжере, я бы уже так и поступила. Но что-то подсказывает мне, что вы можете принести куда больше пользы.
И Амалия очаровательно улыбнулась.
– Боюсь, вы плохо знаете меня, сударыня, – спокойно промолвил Хилькевич. – Я никому не оказываю одолжений, даже хорошеньким женщинам, которые приехали из столицы. Вы собирались оградить меня от притеснений со стороны властей, кажется? – Король дна пожал плечами. – Власти и так никогда меня не притесняли. Не знаю, кто является вашим осведомителем, но уж это он обязан был вам сообщить.
Баронесса вздохнула.
– Значит, вы все-таки отказываетесь, – констатировала она. – Таково ваше окончательное решение?
– Да, – твердо ответил Хилькевич.
– Что ж… – обронила Амалия после паузы. – Tant pis pour vous, tant mieux pour moi.
Хилькевич ждал, что сейчас баронесса произнесет обязательную и, с его точки зрения, совершенно бессмысленную в таких случаях фразу о том, что он вскоре пожалеет о своем решении, но то, что та сказала, его обескуражило. Он не был силен в языках и теперь мучился, пытаясь определить, на что именно столичная гостья намекала. А о том, что ее слова содержали какой-то намек, Хилькевич догадался по блеску глаз дамы.
– Это все, о чем я хотела с вами говорить, – завершила встречу Амалия. – Вы свободны.
Все-таки она не удержалась от искушения обойтись с ним под конец как со слугой. И опять Хилькевич пожалел, что взял с собой своих людей, которые стали свидетелями его унижения.
Поднимаясь с места, он поглядел на лицо баронессы, и тут его словно ударило током – в нем не было и следа досады или раздражения, которые мог вызвать его отказ. Напротив, на нем было написано полное удовлетворение, словно дама услышала именно то, что ожидала и именно чего добивалась. А ведь дело, из-за которого она приехала в О., и впрямь было весьма, весьма важным, и помощь короля воров могла оказаться очень кстати.
«Черт возьми, – в смятении подумал Хилькевич, – уж не нарочно ли баронесса провоцировала меня на отказ? Но зачем ей это нужно?»
Не прощаясь, даже не поклонившись даме, он быстрым шагом вышел из Герцогского зала и направился в дом напротив. Через несколько минут к нему присоединились его сообщники.
– Какая наглость! – восклицала Розалия, воздевая к потолку свои пухлые руки. – Явиться к нам и требовать, чтобы мы выдали одного из наших! Нет, какая наглость!
– Валевский не наш, – напомнил граф. – И никогда не был нашим.
– Все равно, он честный вор и хотя бы поэтому заслуживает уважения! – Розалия вся колыхалась от возмущения.
Пятируков блуждал по комнате, то и дело запуская пятерню в волосы. Видно было, что Агафон чем-то сильно смущен. Граф объявил, что не прочь чего-нибудь выпить. Жорж открыл новую бутылку, да так «ловко», что едва не уронил ее на почти новый ковер. (Заметим в скобках: положим, ковру на самом деле было лет десять, но с точки зрения каких-нибудь версальских ковров он все равно считался младенцем.)
– Что баронесса сказала в конце? – внезапно спросил Пятируков у Хилькевича. – Я не понял ее слов. Она говорила по-французски?
Жорж, который наливал себе вино, насмешливо хмыкнул и перевел:
– «Тем хуже для вас, тем лучше для меня».
– И что сие значит? – растерялся Пятируков.
Хилькевич имел все основания полагать, что лично для него это не значит ничего хорошего, но тут вошла одна из девиц и сказала, что явился Сенька-шарманщик.
– Говорит, у него дело до Виссариона Сергеевича, – добавила девица.
Все шарманщики в городе, равно как и все нищие, были обязаны платить дань хозяину воров. Пятируков нахмурился.
– Сенька же за месяц задолжал, разве нет? Чего вдруг он таким смелым заделался? Раньше все от нас бегал, боялся, как бы ему руку не сломали.
– Не иначе, денежки завелись, – усмехнулся граф.
– Да какие там деньги! – фыркнула Розалия. – Он же пропивает все. Пропащий человек, совершенно пропащий.
– Ладно, – смилостивился Хилькевич, – впусти его. Посмотрим, что ему надо.
Девица вышла и вскоре впустила в комнату невзрачного мелкого субъекта, совершенно плешивого, несмотря на молодость, с серыми бегающими глазками и испитой физиономией. На субъекте был рваный пиджачок, заляпанный пятнами, и неопределенного цвета штаны, а на шее висела шарманка. В руках субъект держал пакет, перевязанный бечевкой.
– Виссарион Сергеич! – пробулькал субъект, радостно осклабившись. – Мы того, с оброком пришли!
Шарманщик полез в карман, едва не выронив пакет, и достал новехонький блестящий рубль.
– Ты никак разбогател, Сеня, – сказал Хилькевич с нехорошей улыбкой.
– Да вы что! – вскричал субъект, всплеснул руками и едва не уронил пакет вторично.
Тут уж граф не выдержал:
– Что у тебя в пакете?
Сенька потупился:
– Не знаю… Ей-богу! Попросили вам передать.
Хилькевич выпрямился в кресле. Розалия приоткрыла рот.
– Кто попросил передать? – каким-то новым, придушенным голосом задал вопрос теперь Хилькевич.
– А черт его знает! – отвечал удивленный шарманщик. – Девушка какая-то… Подошла, говорит: окажи услугу… вот тебе рубль, я знаю, ты задолжал… иди отдай хозяину, он сейчас у Розалии… и пакет ему передай. Я хотел того, в портерную… – Молчание, царившее в комнате, начало пугать Сеньку, он съежился и стал отступать к дверям. – Пришел туда, а ее закрыли… по случаю приезда высокой особы… то есть… Ну и я того, к вам…
– Давай пакет, – велел Хилькевич. Глаза его горели нехорошим стальным блеском.
Сенька съежился еще больше, но пакет отдал. Размоталась бечевка, развернулась упаковочная бумага…
– Фу! – с отвращением воскликнул граф. И даже отступил на шаг назад.
Жорж посмотрел на содержимое пакета и скривился. Пятируков позеленел.
– Что за гадость? – взвизгнула Розалия. – Виссарион, что все это значит?
– Хотел бы я знать, – угрюмо ответствовал король дна.
В пакете, предназначенном ему, лежала дохлая ворона.
Глава 6
Злопамятность пана Валевского. – Его отношение к словесности вообще и к российской в частности. – О том, как иногда может помочь несуществующая невеста.
Пока в веселом доме Розалии Малевич происходили описанные выше невеселые и, прямо скажем, довольно-таки зловещие события, некий блондин, невысокий, складный и ладный, присел на чашу фонтана, расположенного на городской площади, поставил рядом с собой чемодан, утер платком лоб и задумался.
…Когда французский герцог впервые оказался в здешних краях, он оглядел унылые домишки, козу, привязанную к изгороди, лужу посреди дороги, вздохнул и сказал своим спутникам, тоже французам, которые, подобно ему, были вынуждены эмигрировать из-за творящейся на родине революционной чепухи:
– Да, господа, это не Версаль!
После чего повелел считать это место площадью и нарек ее Парижской.
Прошло время, и площадь приобрела почти цивилизованный вид. Она украсилась фонтаном в одном конце, статуей императора Николая в другом и неплохо устроенной мостовой между ними. Кроме того, герцог приказал посадить на площади сирень и акации, которые с тех пор буйно разрослись и давали живительную тень, если солнце светило слишком ярко.
Итак, Леон Валевский присел на чашу фонтана, который все равно бездействовал, поглядел на воробьев, с беззаботным чириканьем прыгавших по мостовой, и задумался, что же ему делать дальше. Выход напрашивался сам собой: стащить кошелек у какого-нибудь неосторожного гражданина, сесть на поезд и уехать как можно дальше от баронессы Корф.
В сущности, такие действия не таили в себе ничего невозможного. Однако при мысли, что ему придется ради спасения жизни и свободы обчищать чужие карманы, Валевского разобрала злость. Он был виртуозом отмычки, мастерски управлялся с динамитом, и не было такого сейфа, перед которым Леон спасовал бы. Но столь вульгарное занятие, как лазание по чужим карманам, вызывало у него, мастера своего дела, примерно то же чувство, которое ощущает, допустим, искушенный писатель, вынужденный сочинять рекламные тексты для заведомо дрянного товара, или оперный певец, которому предлагают исполнять застольные песенки.
Кроме того, Валевского не оставляло неприятное ощущение, что на вокзале его обчистили не просто так, а специально, и теперь молва о произошедшем разнесется по всей Российской империи. Скоро его враги, а также друзья (в воровской среде разница между этими двумя понятиями не столь существенна) будут надрывать животы, узнав, каким дураком его выставили. В самом деле, что может быть смешнее обкраденного вора?
Валевский был самолюбив, а помимо всего прочего, еще и крайне злопамятен. И он дал себе слово когда-нибудь, если ему представится случай, непременно поквитаться с Виссарионом и его шайкой.
Успокоив себя на сей счет, Леон поднялся и подхватил чемодан. Навстречу ему по площади ковылял сухонький старичок в пенсне, тащивший под мышкой связку книг. Валевский налетел на него, извинился, пожелал старичку приятного пути и проследовал дальше.
Вскоре он был уже на городском вокзале. Исследовав кошелек, который неизвестно как перекочевал в его карман из кармана старичка, убедился, что в нем очень мало денег, но, пожалуй, хватит на билет 2-го класса до Киева, и собрался подойти к окошку кассы. Но тут в глаза ему бросились двое жандармов, которые, аккуратно подхватив под локти, уводили куда-то молодого светловолосого человека невысокого роста. Вокруг жандармов бегала раскрасневшаяся дама в желтой шляпке и норовила стукнуть их по ногам зонтиком.
– Отпустите его! – кричала женщина на весь вокзал. – Он ничего не сделал! Негодяи!
– Простите, сударыня, – отвечал тот жандарм, что помоложе, уворачиваясь от разящего зонтика, – но нам велено задерживать всех пассажиров, по приметам похожих на известного вора Валевского. А ваш спутник чрезвычайно на него похож!
Услышав последние слова, Леон нырнул за колонну и вышел из-за нее только тогда, когда жандармы скрылись из виду. Он еще раздумывал, что ему предпринять, когда услышал за спиной выразительный кашель.
– Прошу вас, сударь, пройдемте со мной, – тихо попросил третий жандарм, которого Валевский не заметил.
– А в чем дело? – пробормотал Леон, чувствуя, как стены вокруг него сжимаются до размеров тюремной камеры, а на окнах сами собой вырастают решетки. – Я… я только что приехал! – вдохновенно солгал он.
Жандарм взглянул на его документы (в которых стояли чужое имя и фамилия) и объяснил, что им велено задерживать всех невысоких блондинов, которые пытаются покинуть город. Когда таких блондинов наберется достаточно, подъедет столичная дама, которая знает в лицо нужного ей человека, чтобы опознать его. Валевский похолодел.
– Впрочем, – милостиво сказал жандарм, возвращая документы, – раз вы приехали, а не уезжаете, сударь, вам нечего опасаться.
Валевский выдавил из себя улыбку, подхватил чемодан, негнущейся рукой принял документы и настолько быстро, насколько позволяли приличия, покинул вокзал. Почти бегом он пересек дорогу и двинулся обратно к Парижской площади.
Таким образом, то, что он опустился до уровня обыкновенного карманника, не спасло. Он попал в ловушку, потому что, с одной стороны, его подстерегали баронесса Корф и люди, которых столичная дама отрядила на поиски вора Валевского, а с другой стороны, были Хилькевич и его компания, от которых Леон тоже не ждал для себя ничего хорошего.
«Что же мне делать?» – спросил он себя.
Замечу, то был не извечный вопрос русской интеллигенции «Что делать?», обращенный непонятно к кому, а вполне конкретный вопрос, что может предпринять для своего спасения именно он, Леон Валевский.
Можно, конечно, попытаться покинуть город иначе, чем по железной дороге, но – нужны деньги. Кроме того, Валевский знал, что порт контролируют люди Хилькевича, а он не горел желанием попадаться им на глаза. Еще можно залечь на дно, на что тоже требуются деньги. И можно, наконец, ничего не делать и ждать, когда судьба сама пошлет ему шанс.
И судьба вняла его призыву.
Шанс явился в образе молодой особы с мечтательными глазами и с рыжеватыми кудряшками, которые выбивались из-под отчаянно модной шляпки. (Мадам Саркисян, которая делала такие шляпки по несколько штук в день, уверяла, что это «настоящий Париж», и, возможно, так оно и впрямь было, потому что весь настоящий Париж производился в маленьком подвальчике на той самой Парижской площади.) Помимо шляпки, на особе было голубое платье и востроносые туфельки, пытающиеся притвориться, что они голубые, хотя на самом деле цвет их был лиловым.
Особа прошла мимо Леона, кинув на него рассеянный взгляд. И молодой человек, который тоже умел бросать взгляды, но притом никогда не бывал рассеянным, отметил, что у особы круглые плечи и что она вообще довольно мила, хотя на ее вздернутом носике уместились несколько веснушек. Но тут же Валевский заметил у незнакомки на локтях очаровательные ямочки и мигом позабыл про веснушки.
Леон влюблялся довольно редко, приблизительно один-два раза в месяц, однако если влюблялся, то его было не остановить. Мгновенно приняв решение, он пошел следом за взволновавшей его незнакомкой.
Шагов через сорок девушка поравнялась с тем самым стариком, у которого Валевский похитил кошелек, и просияла улыбкой:
– Здравствуйте, Аркадий Ильич! Вы будете вечером на заседании общества? Сегодня мы будем разбирать стихи Нередина. Брат обещал подготовить интересный доклад!
Старичок собирался было ответить, но тут к ним быстрым шагом подошел Валевский.
– Надо же, какая встреча! А я вас искал, сударь! Вы же обронили возле фонтана свой кошелек!
Леон говорил, и улыбался, и кланялся, и протягивал старику его собственность. Аркадий Ильич смущенно замигал.
– Действительно… – пробормотал он, ощупывая карман. – А я и не заметил, как его потерял… Вы очень любезны, сударь!
– Очень мило с вашей стороны, сударь, – сказала девушка серьезно, оборачиваясь к Валевскому. – Аркадий Ильич – наш библиотекарь, и жалованье у него совсем мизерное. Я даже не знаю, как вас благодарить!
И вдруг Валевский ощутил очень странную вещь – словно проснулась его совесть, которая спала сладким сном много-много лет. Совесть зевнула, обернулась ежиком и мягко кольнула куда-то возле сердца. Ему сделалось стыдно, что он украл кошелек у старика, и еще было стыдно, что разыграл из его возвращения целое представление. Леон смутился, забормотал что-то, даже сделал движение, чтобы уйти… Но девушка истолковала его смущение самым выгодным для него образом.
– По правде говоря, у нас не тот город, где возвращают пропавшие вещи, – сказала она. – Вы ведь нездешний, не правда ли?
Валевский смиренно сознался, что да, и, словно спохватившись, представился:
– Леонард Дроздовский. А вы…
– Надежда Николаевна Русалкина, – весело сказала девушка. – А с Аркадием Ильичом Росомахиным вы уже некоторым образом познакомились.
– Вы надолго к нам? – спросил библиотекарь. Вблизи было видно, что он тощ, как пергамент, и что глаза у него младенчески голубые, добрые и бесхитростные. Тут разбушевавшаяся совесть дала Валевскому такого пинка под ребра, что молодой человек даже малость побледнел.
– Право, не знаю, – сознался Леон, – я при-ехал к моей невесте, то есть думал, что она моя невеста, а она, оказывается, нашла себе другого. Я немного повздорил с ним, ну и…
Его версия складно объясняла синяки на физиономии и к тому же должна была расположить к нему слушателей, что, собственно, и произошло. Для пущего усиления эффекта Леон потупился и стал рассматривать носки своих штиблет. Наденька вздохнула, а старичок-библиотекарь задумчиво кивнул.
– А как вы относитесь к российской словесности? – осведомился он.
Валевский решил было, что ослышался – настолько неожиданным получился вопрос. Наденька засмеялась, встряхнула головой и объяснила:
– Мой брат Аполлон основал «Общество любителей российской словесности». И уже несколько лет добивается, чтобы нам дали помещение. Вот сегодня приезжая дама, как же ее…
– Баронесса Корф, – подсказал библиотекарь.
– Да, так вот баронесса пообещала, что нам дадут помещение, если в обществе будут состоять хотя бы десять человек. Но нас всего четверо: я, брат, кузен Женечка и Аркадий Ильич. – Наденька вздохнула и с надеждой покосилась на Валевского.
По правде говоря, Леон терпеть не мог словесность – хоть польскую, хоть российскую, хоть французскую. Любой текст, написанный буквами, вызывал в его душе непреодолимое отвращение. Подобным отношением он был обязан все тому же пану Шледзю, который заставлял воспитанников учить наизусть длиннейшие стихи и немилосердно лупил детей, когда те делали ошибки. Кроме того, его покоробило, что даже словесность не могла обойтись без баронессы Корф. Однако он посмотрел на Наденьку, на младенческие глаза библиотекаря – и решился, объявил:
– Если вы не против, я хотел бы вступить в ваше общество.
Наденька просияла, библиотекарь умилился и вынужден был даже снять пенсне, чтобы протереть его от набежавших слез.
– Замечательно! – воскликнула Наденька. – Где вы остановились? Как раз сегодня мы будем обсуждать поэта Нередина…
Валевский ответил, что он пока нигде не остановился, и еще раз поплакался на жестокость придуманной невесты. Тут вмешался библиотекарь и сказал, что может предоставить ему комнату на чердаке в своем доме. На время, а там видно будет.
– На самом деле любителей словесности так мало, сударь, – добавил старичок. – И я буду счастлив хоть чем-то вам помочь.
Новоиспеченный поклонник литературы немного поотнекивался для виду, но потом дал себя уломать. По правде говоря, он начал относиться к словесности немного терпимее, раз та позволила ему столь легко получить крышу над головой и приют в тех кругах, где его никто никогда не стал бы искать. И Валевский дал себе слово при первой же возможности почитать что-нибудь. К примеру, Мопассана или Мицкевича.
Стоящий на постаменте император Николай задумчиво сощурился, глядя на человека с коричневым чемоданом, уходящего в сопровождении девушки и дряхлого старика. Возможно, император еще не забыл, как у него под носом Валевский давеча обчистил карманы того самого старика, и бронзового властелина разбирала досада, что он не может сойти с постамента и накостылять по шее мерзавцу.
– Вот ведь прохвост, – желчно молвил император голубю, который сидел на его плече.
Голубь встрепенулся, льстиво курлыкнул: «Прохвост, сир!» – и стал искать у себя под крылом паразитов.
– Что за общество! – вздохнул император.
Но тут на площади показалось новое лицо, причем весьма хорошенькое. Лицо, равно как и все остальные части тела, принадлежало очаровательной вертушке-горничной, и внимание императора тотчас же переключилось на нее.
Глава 7
О том, как следователь Половников пал жертвой полицмейстерской мысли. – Герой и барышня. – Грандиозный план короля воров.
Горничная Дашенька совсем забегалась.
Сначала хозяйка послала ее купить дюжину платков, потом какие-то ленты, потом шелковые кружева рококо. Рококо оказались не того оттенка, и наконец выяснилось, что нужны вовсе не рококо, а сутажет, и в придачу к ним еще кое-какие мелочи, общим числом восемь, список которых госпожа соблаговолила собственной рукой написать на бумажке. Дашенька присела, намекнула, что лавки могут находиться в разных концах города, и получила разрешение в случае необходимости взять извозчика.
На лестнице девушке пришлось отразить натиск репортера Стремглавова, который во что бы то ни стало хотел знать, верно ли, что всю городскую верхушку стараниями баронессы Корф скоро турнут. Стремглавов собирался похлопотать, чтобы к верхушке приплюсовали и его редактора, на чье место он давно метил, но Дашенька разочаровала репортера сообщением, что городская верхушка для госпожи баронессы мелковата, и вообще, ей самой давно пора по делам. Она упорхнула, а Стремглавов застыл на месте в раздумьях, возвращаться ли ему в редакцию или пойти в портерную и перехватить какой-нибудь выпивон. Душа звала его в портерную, но долг требовал присутствия в редакции.
Спас раздираемого сомнениями репортера от окончательного раздвоения личности следователь Половников, который осведомился, не знает ли Стремглавов, где горничная приезжей баронессы. Репортер ответил, что горничная только что ушла, и проводил следователя укоризненным взглядом, в коем ясно читалось: «И этот хочет подсидеть своего начальника!» И так как мучившая его дилемма никак не разрешалась, Стремглавов избрал компромиссный вариант, решив пойти выпить к куму, который писал в газете хроники о потерянных пальто и раздавленных на улицах личахами собаках.
Что же до следователя Половникова, он вновь пустился на поиски Дашеньки. Не то чтобы горничная баронессы была нужна следователю – по правде говоря, скорее наоборот. Просто полицмейстеру де Ланжере пришла в голову занятная мысль, и жертвой этой мысли стал именно Половников.
По мысли полицмейстера, раз баронесса Корф прибыла в их город с деликатной миссией, нелишним будет проследить, чтобы с самой баронессой, не ровен час, ничего не случилось. В сущности, де Ланжере имел кое-какие основания опасаться за сохранность особы госпожи Корф. Если, допустим, Валевский поделился добычей с королем воров и тот взял его под свое покровительство, можно ожидать любых неприятностей. И полицмейстер героически решил, что не оставит госпожу баронессу и станет следовать за ней, что бы ни произошло. Заодно, разумеется, он окажется в курсе всего, что столичная особа намерена предпринять – как против него лично, так и против любого другого лица, находящегося в городе.
А так как Амалия Константиновна прибыла в их город не одна, стоит на всякий случай приставить кого-нибудь и к горничной. Ибо де Ланжере давно находился на своем посту и знал, что похищения людей за Хилькевичем водились, хотя никто никогда пока не смог доказать его причастность.
Де Ланжере решил на всякий случай посоветоваться с Сивокопытенко. Последний горячо одобрил план начальника и предложил прикрепить к Дашеньке Половникова. А что? Следователь – человек опытный, благоразумный. Рядом с ним горничной нечего опасаться.
Полицмейстер дал согласие, и Сивокопытенко, вызвав Половникова к себе, довел до него волю начальства. Признаться, когда следователь уразумел, чего от него хотят, у него заныло под ложечкой. Его, почтенного человека, награжденного орденами, приставляют к какой-то легкомысленной девице лишь на том основании, что она горничная баронессы Корф! Да будь он даже без орденов, все равно, это немыслимо, унизительно, нелепо!
Он мог высказать свое возмущение, мог взбунтоваться, хлопнуть дверью.
Но не стал.
Антон Иванович принадлежал к тому многочисленному типу людей, которым фея-крестная при рождении дала много ума и добросовестности. Увы, та же фея недодала им воли и особенно – наглости, без которой, как всем известно, в современном мире ничего не добьешься. Именно поэтому он жил со злющей Пульхерией, которая не скрывала своего пренебрежения к мужу; именно поэтому нахрапистый Сивокопытенко, а не Половников, ходил в начальниках, и именно поэтому коллеги, хоть и уважали следователя, в глубине души позволяли себе чуточку его презирать.
Однако, как уже говорилось выше, Половников отличался крайней добросовестностью. Раз согласившись на поручение, он готов был сделать все необходимое, чтобы выполнить его.
И он отправился разыскивать егозу Дашеньку, с мучительной неприязнью вспоминая прощальные слова начальника.
Дело в том, что Сивокопытенко намекнул, что на месте следователя он не стал бы церемониться, а ежели бы ему представился случай, немедля бы закрутил с мармеладной Дашенькой романчик. И, произнеся эти слова, начальник прегадко ухмыльнулся.
Ухмылка вышла настолько гадкой, что Половников с отвращением вспоминал ее аж в третьей лавке, куда судьба занесла его в поисках Дашеньки. Он вспоминал ту ухмылку и на площади, по которой горничная, если верить городовым, пробегала несколько минут назад, но где, разумеется, горемычный следователь ее не застал.
Половников снял шляпу и вытер платком лоб. Напротив него возвышался мрачный бронзовый памятник царю Николаю. Завидев следователя, тот, казалось, насупился еще пуще.
«Интересно, – подумал следователь, – куда она могла деться?»
Поглядел на памятник, словно только от него мог получить ответ на интересующий его вопрос. Возможно, было совсем жарко, однако следователю вдруг почудилось, что памятник ему подмигнул.
– Она – это кто? – спросил царь скрипучим голосом.
Половников попятился, беззвучно вскрикнул:
– Простите, сир?
– Если ты о горничной, – все тем же неприятным голосом продолжал бронзовый властелин, – то она проследовала во-он туда. – И кивком головы указал направление. – По-моему, – продолжал памятник задумчиво, – она собиралась взять извозчика.
Царь строго поглядел на Половникова, который все пятился, таращась на говорящий монумент.
– И зачем горничная тебе понадобилась? – горько промолвил тот. – На себя бы в зеркало посмотрел, прежде чем за горничными бегать!
Чувствуя непередаваемый ужас, Половников поспешно ретировался. Возле фонтана он все-таки пересилил себя и оглянулся. Памятник Николаю скучающе смотрел перед собой, чем, собственно, и занимался все предыдущие восемнадцать лет. На его плече сидели уже два голубя.
«Все-таки сегодня слишком жаркий день», – в смятении помыслил следователь и ускорил шаг. По чистому совпадению он двигался теперь именно в том направлении, которое указал ему памятник.
Половников прошел по Шотландской улице, которая не вполне логично примыкала к Парижской площади, но все-таки примыкала, и уже издалека завидел на перекрестке толпу. Тут – надо сказать, весьма некстати – оживилось шестое чувство Половникова, именуемое интуицией. И интуиция дала ему понять, что толпа имеет определенное отношение к нему самому.
«Не может быть!» – сказал себе следователь, похолодев, однако же ускорил шаг.
Подойдя к перекрестку, он заметил причину всеобщего волнения, которая заключалась в опрокинутой пролетке. Кучер, стоя рядом, чесал в затылке и уверял присутствующих, что лошади у него всегда были смирные, и вообще, он знать не знает, что им сегодня в голову взбрело.
Как выяснилось позже, возле Парижской площади в пролетку села барышня с ворохом покупок. Она велела кучеру ехать в гостиницу «Европейская», однако же лошади ни с того ни с сего понесли. Спас положение некий молодой человек, который героически бросился на лошадей и повис на упряжи. То ли благодаря ему, то ли благодаря тому, что пролетка налетела на столб, экипаж наконец остановился. Лошади целы, кучер тоже, что же касается пассажирки, то ее как раз сейчас извлекал наружу тот самый героический юноша.
– С вами все в порядке? – дрожащим от волнения голосом спросил он.
Дашенька подняла голову. Перед ней стоял – нет, возвышался! – золотоволосый, кудрявый, громадного роста молодец, хорошенький, как картинка. Кстати сказать, глаза у него были васильковые.
Прежде чем Дашенька успела что-либо сказать, обладатель васильковых глаз с непостижимой ловкостью выдернул ее из пролетки и поставил на ноги. Горничная покачнулась, однако же сумела устоять, держась за локоть своего спасителя.
– Вы живы? – задал новый вопрос спаситель, возвышаясь над ней.
Горничная посмотрела на него, и в глазах ее зажглись золотые звезды.
– Какой хорошенький! – мечтательно пропела она. – Ну чисто Иван-царевич!
Иван-царевич порозовел и потупился. А Дашенька расшалилась настолько, что, нимало не обинуясь, ущипнула его за бок.
Вася Херувим, который, надо сказать, совершенно не привык к такому обращению, вытаращил глаза. Но тут в прозрачном южном воздухе сгустилась угроза и приняла облик маленького семенящего человечка с глазами больной собаки.
– Что тут произошло, мадемуазель? – тихо промолвил человечек.
Дашенька ответила, что она села в пролетку, лошади понесли, и что больше ничего не помнит.
– Вы ведь Дарья Кузнецова, горничная госпожи баронессы? – добрым голосом осведомился человечек.
Дашенька кивнула, не сводя с него глаз.
– Сударь, – забеспокоился Вася, – простите, а вы кто такой?
– Следователь Половников, – ответил человечек и пронзил его печальным взором, как саблей. – Приставлен высшим начальством к госпоже Кузнецовой в качестве сопровождающего лица. Меня вот какой вопрос интересует, – сахарным голосом продолжал он, обращаясь к кучеру. – Если лошади были смирные, как могло случиться, что они вдруг ни с того ни с сего понесли, и именно тогда, когда в пролетке сидела данная особа?
Кучер с ужасом воззрился на него, почесал бороду, открыл рот, но так и не придумал ничего вразумительного, по каковой причине поспешил рот закрыть.
Как уже наверняка догадался благосклонный читатель, крушение пролетки произошло вовсе не просто так. Хилькевича крайне встревожили загадочные слова баронессы, а еще больше его встревожила неведомо кем отправленная дохлая ворона, которую он получил в качестве подарка. Король дна был почти уверен, что присланный дар вовсе не в духе баронессы, но ему хотелось все же знать наверняка. Поэтому он разработал целый план, как беспроигрышно втереться в доверие к горничной, которая наверняка осведомлена обо всех делах хозяйки.
План включал в себя две части. Первая часть называлась Великая Опасность, вторая – Героическое Спасение. Ибо известно, что обычно люди чертовски недоверчивы, но стоит спасти им жизнь, как они немедленно проникаются симпатией к тому, кто их спас.
Для роли спасителя после непродолжительных раздумий был назначен не кто иной, как Вася Херувим, чья внешность вполне оправдывала данное ему прозвище. Хилькевич рассчитывал, что Васе с его синими глазами, золотыми кудрями и широкими плечами будет куда легче найти общий язык с горничной, чем, допустим, иностранцу Вань Ли или желчному Груздю. Особенно последнего было трудно представить в роли внушающего симпатию спасителя – отчасти в силу возраста, отчасти в силу внешности (мужчина и впрямь слегка напоминал своим видом засохший гриб).
В сообщники пришлось взять кучера, но так как Хилькевич пообещал ему щедро заплатить, тот не стал ломаться. Он следовал за Дашенькой от гостиницы до первой лавки, от первой лавки до второй и дальше, дожидаясь, когда горничная наконец устанет и сядет в его пролетку. Что же до Васи, то молодой человек в скромном, но вполне приличном наряде прохлаждался возле перекрестка, который никак нельзя было миновать, если направляешься к гостинице «Европейская».
– Ну так что? – Половников вперил в кучера полный подозрения взгляд.
Следователь был совершенно уверен: что-то тут нечисто. Но егоза Дашенька все испортила. Она отпустила было локоть Васи и сразу же покачнулась, приглушенно взвизгнула. Если бы Вася не подхватил ее, девушка непременно рухнула бы на мостовую.
– Что с вами, барышня? – участливо спросил усатый городовой.
– Нога… – простонала Дашенька. – Ой, я, кажется, вывихнула ногу…
Зеваки оживились. Тотчас же выдвинулся вперед некий ветеринар, который заявил, что считает своей обязанностью осмотреть ногу, а то не было бы перелома или, допустим, гангрены. На это Вася горячо высказался в таком духе: мол, гангрена пусть будет у него самого вкупе с переломом, и вообще барышня не кошка, чтобы ее осматривал невесть кто. Дашенька, которая висела у него на локте, улыбнулась сквозь слезы, и молодой вор даже забыл о роли, которую ему следовало играть. По правде говоря, горничная ему очень понравилась, и он даже жалел, что та работает именно у баронессы Корф, которая могла причинить его хозяину большие неприятности.
– Как же я доберусь до гостиницы? – стонала Дашенька. – Пролетка опрокинулась, с покупками я запоздала… Ах, горе! Не удивлюсь, если хозяйка даст мне расчет!
Зеваки, учуяв назревающую драму, хищно обрадовались. Один из них советовал идти в аптеку к китайцу, который торгует всякими травками и знает толк в медицине, другой горячо рекомендовал повивальную бабку Пелагею, которая, помимо всего прочего, большая мастерица вправлять кости. Однако Вася и тут оказался разумнее прочих.
– А давайте я вас понесу, – предложил он.
– Как это? – Дашенька широко распахнула глаза.
– Обыкновенно, на руках, – слегка удивленно отвечал Вася. – Как до вас доберемся, и дохтура вызовете, если нога не пройдет.
Тут и Половников пристальнее взглянул на него, но Васе было все равно, кто и как на него смотрит.
– Ах, ну я не знаю, прилично ли… – засомневалась Дашенька. – И вообще…
Однако Вася уже легко подхватил девушку на руки, словно она была пушинкой, напомнил Половникову, чтобы тот забрал из пролетки покупки, и двинулся к гостинице «Европейская». Мальчишки провожали его восхищенными взглядами.
Вслед за Васей семенил с ворохом свертков следователь, но на него уже никто не обращал внимания. Впрочем, для проформы Половников все же успел дать городовым указание задержать кучера опрокинувшейся пролетки.
– Ах, какой вы сильный! – вздохнула Дашенька и прижалась щекой к широкой Васиной груди. – Как вас зовут, Иван-царевич?
– Я не Ваня, – пробормотал тот, краснея. – Я Вася.
По легенде, которую до мелочей разработал Хилькевич, Вася Херувим должен был назваться дворником. Но сейчас все легенды окончательно покинули золотую Васину голову. Если бы в это мгновение Дашенька попросила его запалить корабли в гавани, а Хилькевича повесить на самой высокой мачте, он бы выполнил ее указание, не задумываясь. От ее волос нежно пахло, и ручка, обнимавшая его шею, была тоненькая, как у какой-нибудь барыни. И вся девушка была такая хорошенькая, смешливая, глазастая, что у него начинало сладко покалывать где-то под ложечкой, а может статься, и прямо в сердце.
И молодому человеку стало ужасно жаль, когда перед ними вскорости возникла гостиница «Европейская», несуразная, в смешанном стиле, вся в псевдокоринфских колоннах – и в то же время устремленная ввысь, словно куда-то летящая, милая и нелепая одновременно. Тут его пути с Дашенькой должны были на время разойтись, но Вася не сомневался, что они еще встретятся.
Швейцар, завидя юношу с необычной ношей, выпучил глаза, но сумел-таки проглотить удивление и распахнул дверь.
– Прошу, – сказал он.
Глава 8
Разоблачение знаменитого поэта. – Разные причины тоски у Валевского и Васи Херувима. – Странное поручение баронессы Корф.
– И, разумеется, нельзя пройти мимо замечательной во всех отношениях славы, которую обрели стихотворения господина Нередина.[128] В самом деле, разве не могли иметь успеха легковесные салонные стишки вроде вот этого? Вы только послушайте:
Когда сидишь ты ночью у камина И вспоминаешь умерших друзей, Золу воспоминаний кто незримый Всех чаще ворошит в душе твоей?Русалкин победно вскинул голову и оглядел притихшую аудиторию.
Сегодня в «Обществе любителей российской словесности» собралось больше народу, чем обычно. Библиотекарь Росомахин утонул в кресле, и только изредка было видно, как он мигает своими старческими подслеповатыми глазками. Слева на стульчике с гнутыми ножками примостился кузен докладчика Евгений Жмыхов, студент, который учился в местном университете, а сейчас отдыхал на каникулах. Это был крепко сбитый, немногословный молодой человек с темными кудрявыми волосами. Что бы он с ними ни делал, как ни укладывал, волосы упрямо складывались в прическу типа «копна» и чихать хотели на все ухищрения как хозяина, так и парикмахеров, которые отчаялись хоть как-то привести их в порядок. Из-за столь непослушных волос и из-за того, что Евгений всегда глядел чуть-чуть исподлобья, вид у него был довольно угрюмый, хотя Русалкин, представляя студента Валевскому, объявил, что на самом деле кузен – душа-человек и что к нему можно обратиться за помощью в любое время дня и ночи. Валевский, чьи узкие пальцы душа-человек только что от души стиснул в знак приветствия, малость поморщился и про себя решил, что за помощью к Евгению если и обратится, то в последнюю очередь.
Справа от библиотекаря примостилась Наденька, задумчиво облокотившаяся на стол, на котором лежал протокол заседания. В глубине души Наденька весьма почитала творения Нередина, особенно процитированный ее братом романс, положенный на музыку знаменитым композитором Чигринским. В романсе говорилось о женщине, сидящей у камина и вспоминающей человека, который ее любил, и Наденьку, когда она слышала божественную музыку Чигринского, всякий раз прошибала невольная слеза.
Сегодня Русалкин решил доказать присутствующим, что слава Нередина совершенно незаслуженна, а то, что его стихи известны всей России, вообще пустяк, мелочь, кою не стоит принимать в расчет. И хотя Наденька знала наизусть все напечатанные стихи поэта, она стала бы последним человеком, который вздумал бы возражать брату. С детства Наденька привыкла во всем и всегда соглашаться с Аполлоном – не по бесхарактерности и не из уважения к мнению старшего, а потому, что если ему возражали, Аполлон становился совершенно невыносим. Он обижался, начинал метаться по комнате, жестикулировать, приводить самые несуразные доводы и кричать: «Ну как же ты не понимаешь, как не можешь понять таких простых вещей?!» Проще было согласиться и благоразумно хранить свое мнение при себе, что Наденька и делала. Тем более, если она с Аполлоном соглашалась, брат добрел и в упор не замечал, что Наденька тратит деньги, которые он выделяет ей на дамские пустячки, на книжки стихов столь презираемого им поэта.
Итак, четверо из пяти присутствующих членов общества были те же, что и всегда, а пятым – и новым – лицом в русалкинской гостиной оказался поляк, говоривший по-русски без малейшего намека на акцент. Поляк носил красивое имя Леонард и являлся горячим поклонником вскрывания сейфов и залезания без спросу в места нахождения различных ценностей. Теперь же он люто тосковал – отчасти оттого, что был лишен привычной обстановки, отчасти оттого, что происходящее здесь было глубоко ему чуждо. По правде говоря, если бы не Наденька, на чьи загнутые ресницы он то и дело поглядывал украдкой, он бы уже давно прихватил свой чемодан и ушел пешком по шпалам.
– И ведь были же, – вещал Русалкин, распаляясь, – были у господина Нередина неплохие стихи о тяжести народной судьбы, о царящем вокруг гнете… Да взять хотя бы знаменитую «Деревянную Россию», с которой он начал свой путь! Кто до него осмеливался открыто написать, что держава деревянная? И к чему пришел столь сознательный, столь одаренный молодой человек? – Русалкин горько скривил губы. – К пошленьким виршам о какой-то тоскующей даме, чей образ, конечно, пришелся по душе всем нашим невежественным барынькам. «Кого зовешь ты в темноте кромешной, чье имя гаснет на твоих губах?» – процитировал докладчик и вздернул брови в знак недоумения. – Ну что такого, скажите на милость, особенного в этих строках, что даже Чигринский – между прочим, первый российский композитор нашего времени – сподобился написать к ним музыку? Совершенно непонятно!
И, сочтя, что пригвоздил поэта к позорному столбу, Русалкин развел руками.
В сущности, непонятно было и Валевскому. Он попытался представить себе возраст дамы, которая маялась бессонницей (раз сидела зачем-то ночью у камина) и у которой было немало умерших друзей, и поежился. Положительно, его практическая душа была непростительно далека от поэзии, потому что ни одна из читательниц Нередина даже не задавалась подобными вопросами.
Наденька вздохнула, и по тому, как обиженно дрогнули ее ресницы, как она надула губки, Леон догадался, что Нередин вовсе ей не безразличен и что его стихи затрагивают какую-то струнку ее души, куда сам он – пока! – не имел доступа. И Валевский пошел напролом.
– Кхм… – проговорил он, напустив на себя ученый вид. – Вы позволите возразить вам, Аполлон Николаевич?
С точки зрения Валевского, его новый знакомый носил весьма потешное имя. Впрочем, как выяснилось из разговора с библиотекарем, эксцентричные родители и Наденьку при рождении собирались назвать Дафной. Спасло ее только вмешательство крестной, почтенной столбовой дворянки, которая заявила, что не потерпит подобного безобразия, и настояла на том, чтобы девочке дали имя бабушки.
– Разумеется, Леонард, – несколько удивившись, промолвил Русалкин. – У нас, так сказать, полная демократия!
Он важно выпрямился и поправил свое пенсне, которое сидело несколько криво.
– Что такое слава? – с места в карьер начал Валевский.
Кузен Евгений озадаченно нахмурился.
– Простите, пан Дроздовский, вы собираетесь доказать, что если человек чем-то знаменит, то и критиковать его никто не имеет права? – осведомился Русалкин кротко. Однако его торжествующая улыбка плохо гармонировала с тоном.
– Нет, это все вздор, – отозвался Валевский, тепло улыбаясь Наденьке. – Я вот о чем. Как я понимаю, никто никого не заставляет покупать стихи господина Нередина. Никто никому не приставляет пистолет к голове и тому подобное. То есть, – быстро поправился он, – люди берут его книги абсолютно добровольно. Вы в своем докладе упоминали, что читатели у него совершенно разные, от горничных и студентов до великих княжон и царствующих особ. Как вы думаете, какие темы могут одинаково интересовать горничную, студента, княжну и, предположим, красивую молодую девушку? – Леон покосился на Наденьку, которая потупилась и стала накручивать на палец завиток волос. – Устройство мироздания? Политическое положение Греции? Может быть, анатомия лягушек или теория господина Дарвина? – На сей раз он смотрел уже на Жмыхова, который, как ему было известно, занимался на естественнонаучном факультете. – Нет и еще раз нет. Потому что столь разных людей могут одинаково затрагивать лишь те темы, которые волнуют человечество на протяжении всей его истории. Жизнь, смерть, любовь, – нараспев проговорил Валевский. – Это и только это. Вы спрашиваете, что особенного в процитированных строках? А я вам отвечу: там и не должно быть ничего особенного. Особенное каждый читатель находит для себя, а если не находит, имеет право сказать, что данные строки его не волнуют. Но сие не значит, что они не могут волновать кого-то другого. Вы понимаете, что я имею в виду?
Библиотекарь, задремавший было в своем кресле, поднял веки, и из-под них внезапно сверкнул, как лезвие кинжала, чрезвычайно внимательный взгляд. Однако никто его не заметил.
– Вы, кажется, пытаетесь доказать несостоятельность критики как таковой, – вывернулся Русалкин. Однако даже по лицу кузена он видел, что тот на стороне Валевского.
– Почему же? – удивился поляк. – Любой имеет право высказать свое мнение о прочитанном. Так же, как автор имеет право видеть любого вместе с его мнением, как говорят у нас в Польше, в белых тапках в сосновом ящике.
То ли от хлесткой метафоры, то ли просто от неожиданности Евгений поперхнулся и закашлялся басом.
– Признайтесь, вы поклонник Алексея Ивановича Нередина? – напрямик спросил Русалкин.
– Нет, – совершенно честно ответил Леон. – Боюсь, до сего дня его стихи и я существовали, так сказать, в разных плоскостях.
– В сущности, вы правы, – нехотя признал докладчик. – При столь широком охвате публики… гм… И все-таки, – вырулил он на привычную колею, – я не понимаю Алексея Ивановича. Из всех путей к сердцу людей он выбрал самый легкий, предпочтя серьезной поэзии стихи о любви.
– А у поэтов что, бывают легкие пути? – пожал плечами Леон.
– Браво! – пискнул старичок библиотекарь и захлопал в ладоши. Его бледные щеки даже порозовели от удовольствия.
– В самом деле, – пробасил Евгений, – вся жизнь поэта… и вообще… Ты же упоминал, Нередин тяжело болен и живет в каком-то санатории для чахоточных на юге Франции.
– Нет, – внезапно подала голос Наденька, – я читала в газете, он покинул санаторий и поселился рядом. Но доктора все равно его наблюдают.
Девушка почувствовала, что выдала себя, и стиснула руки под столом так, что побелели костяшки пальцев. Однако ее брат даже не обратил внимания на ее слова.
– Может быть, сделаем перерыв? – предложил Росомахин. – Прекрасный был доклад, Аполлон Николаевич, я получил большое удовольствие!
– Перерыв! – согласился хозяин дома, повеселев. – А потом еще будет доклад о прозе Пушкина, если вы не возражаете.
«Господи, куда я попал?» – в смятении помыслил Валевский, но тут Евгений спросил, кто будет пить крюшон, и Леон откликнулся в первых рядах.
– А вы, оказывается, заядлый спорщик, милостивый государь, – заявил ему Русалкин, когда крюшон был разлит очаровательной Наденькой.
Леон не знал, что можно на это сказать, и потому просто промолчал, косясь на ямочки на округлых локтях Наденьки, которые хоть как-то мирили его с окружающей действительностью.
– И ваша преданность словесности заслуживает всяческих похвал, – продолжал хозяин. – Должен признаться, я чертовски рад видеть столь образованного человека в нашем кругу. И, конечно, всегда приятно поспорить с тем, кто умеет аргументировать. Чувствую, у нас с вами впереди еще немало литературных диспутов!
Образованный человек Валевский, чье образование в обычное время сводилось к умению снять любые кандалы, удрать из любой тюрьмы, сотворить отмычку из булавки, а динамит – хоть из клизмы, вдруг почувствовал, что крюшон уже не лезет ему в горло. И тоска опять схватила его в свои цепкие объятья, как в клещи.
В то же самое время в городе О. тосковал еще один человек, по профессии схожий с Леоном, хотя и принадлежащий к специалистам более низкого, скажем так, профиля.
Звали этого человека Вася Херувим.
Он на руках отнес горничную в гостиницу, где был встречен самой баронессой Корф, которая казалась чрезвычайно встревоженной тем, что произошло с Дашенькой. Тотчас же был вызван доктор; выскочил как из-под земли, словно юркий чертик, полицмейстер де Ланжере, который изгнал Васю, а Половникову устроил допрос с пристрастием.
Явившийся доктор – его оторвали от обеда в ресторане, расположенном в нижнем этаже гостиницы, – занялся ногой Дашеньки, а де Ланжере вполголоса напомнил баронессе, что ее ждут на торжественном ужине, который организовали в честь столичной гостьи отцы города, и что будет нехорошо, если ее там не окажется.
Амалия Константиновна заглянула к горничной, убедилась, что речь идет лишь о вывихе, не слишком, впрочем, серьезном, пожурила Дашеньку, пожелала ей скорейшего выздоровления, вручила доктору три рубля за труды и упорхнула в облаке жасминовых духов. Доктор объявил, что пострадавшей дня на два нужен полный покой, точнее он скажет позднее. После чего отечески потрепал горничную по щеке и удалился. В бороде его застрял кусочек лука – из салата, который местный медик ел в тот момент, когда его позвали к больной.
Дождавшись, когда доктор уйдет, следователь заглянул к Дашеньке – Половников намерен был спросить, не заметила ли девушка чего подозрительного, когда ехала в пролетке. Но горничная объявила, что устала, что доктор прописал ей полный покой, и таким образом избавилась от следователя. Поразмыслив, тот решил заняться кучером опрокинувшейся пролетки. Половников был уверен, что дело не обошлось без вездесущего Хилькевича.
Едва следователь вышел из гостиницы, как на него надвинулась весьма угрожающая тень. Половников подался назад – и тут узнал Васю Херувима.
– А, дворник… Чего тебе, любезный?
Вася дрожащим голосом спросил, как себя чувствует Дашенька. Половников скользнул взглядом по его лицу, на котором было написано искреннее беспокойство, и в свойственной следователям загадочной манере обронил, что жить девушка будет. Сказав так, он удалился, оставив Васю в нешуточных терзаниях. Херувим уже почти воочию видел, как Дашенька останется без ноги, и все исключительно потому, что он, Вася, имел несчастье согласиться на дурацкий план короля дна.
А Дашенька, выпроводив доктора и Половникова, некоторое время полежала в постели, хлюпая носом, потом рывком поднялась и вскочила на ноги. Судя по тому, как резво горничная передвигалась по комнате, доктор получил свои три рубля ни за что, потому что никакого вывиха у мадемуазель Кузнецовой не наблюдалось. Она подошла к окну сбоку, так, чтобы ее не было видно снаружи, заметила напротив гостиницы долговязую фигуру Васи, который смотрел на ее окна, и улыбнулась каким-то своим потайным мыслям.
– Значит, так? – нараспев проговорила она, и ее глаза сузились. – Ну-ну!
После чего преспокойно вернулась в постель, легла и накрылась одеялом.
Тьма сгустилась над городом, и в этой тьме утонули приветственные речи губернатора, витиеватый тост вице-губернатора и еще много, много тостов в честь высокой гостьи. Амалия Константиновна откровенно скучала, но улыбалась всякий раз, как того требовали обстоятельства.
И в то же время библиотекарь Росомахин вместе с Валевским возвращался к себе домой.
– В центре возле гостиницы все фонари зажгли, а у нас как не горели, так и не горят. – Старичок вздохнул и укоризненно покачал головой.
Валевский, которого совершенно укатали рассуждения о прозе Пушкина, молчал и даже не чувствовал сил, чтобы ругаться. У него осталось только одно желание: добраться до жилища гостеприимного библиотекаря и рухнуть в постель.
Через несколько минут мужчины были уже возле небогатого, но опрятного домика, в котором жил Росомахин. Вокруг был разбит небольшой сад, где рос плющ и раскинулись какие-то цветы, едва различимые в полутьме.
Войдя в дом, Валевский огляделся. Книги, газеты, горшки с цветами – и тот особенный затхлый запах, свойственный помещениям, в которых живут одинокие старики. Леон вздохнул. Его бы не удивило, если бы местные мыши давно уже загнулись от бедности.
«Как можно так жить? – подумал вор. – Ведь это же ужасно!»
– Поднимайтесь по лесенке, – предложил библиотекарь. – На чердаке ничего, чистенько. Раньше там прислуга жила, когда еще жена моя, Марфа Ивановна, была жива. – Глаза старика затуманились. – На заднем дворе есть колодец, если что, можете брать оттуда воду.
Валевский был удивлен, увидев, что на чердаке и в самом деле довольно чисто и почти нет паутины. В одном углу стояла кровать, в другом – шаткий табурет с тазом на нем.
– Не слишком-то уютно здесь, конечно, – извиняющимся тоном промолвил Росомахин. – Вы обождите минуточку, сударь, я сейчас…
Не через минуту, а через целых пять он поднялся на чердак, неся с собой картинку из журнала – портрет Пушкина и горшок с розовым цветком.
– Вот, – важно объявил библиотекарь, – чтобы немного, так сказать, украсить обстановку.
Чувствуя в душе и жалость, и пробуждающийся смех, Валевский прикрепил картинку к стене, а горшок поставил на окно. Цветок поглядел на него и отвернулся.
– Когда закончите с вещами, спускайтесь ко мне, попьем чаю, поговорим, – предложил библиотекарь и зашаркал вниз по ступеням. Дождавшись, когда он уйдет, Валевский раскрыл чемодан.
– И нечего на меня смотреть, – заметил он Пушкину по-польски.
Поэт сделал вид, что ничего не слышал. Впрочем, так как он был нарисованный, ничего иного ему не оставалось.
Глубокой ночью де Ланжере сопровождал в карете баронессу Корф обратно в «Европейскую». Ему показалось, что гостья держится сухо, но полицмейстер приписал ее дурное настроение тому, что губернатор пожадничал и выделил для ужина мадеру вместо бордо.
– Елисей Иванович, – неожиданно проговорила баронесса, – я хотела бы попросить вас об одолжении. – Она замялась. – Вернее, это не одолжение, а… Рассматривайте это как просьбу, в которой вы не можете мне отказать.
Елисей Иванович придвинулся к баронессе поближе и, жарко дыша ей в щеку, объявил, что ради блага Отечества готов на все. Решительно на все! Баронесса отодвинулась в угол кареты и спокойным, даже будничным тоном изложила свою просьбу.
Признаться, услышав последнюю, де Ланжере даже не заметил, как сам отодвинулся от баронессы.
– Но, милостивая государыня, – пробормотал он, – это невозможно! Это… это неслыханно! Противозаконно даже!
– Вы уверены? – вроде бы равнодушно спросила Амалия, но тон ее был таков, что даже видавший виды полицмейстер почувствовал: он словно вернулся в гимназическую пору, когда любой наставник имел над ним превосходство. – Брать взятки, к примеру, тоже противозаконно, милостивый государь. Или вы выполните мою просьбу, в которой нет ровным счетом ничего особенного, или вам придется распрощаться со своим местом. Выбирайте!
И де Ланжере выбрал. Однако он все же имел большой опыт общения с начальством и потому спросил:
– А если… гм… если вдруг пойдут слухи… – Полицмейстер встревоженно шевельнул усами. – Я хочу сказать, ведь такое дело невозможно удержать в тайне. Если…
– Не беспокойтесь, – оборвала Амалия, глядя в окно кареты, – вы выполняете мой приказ, только и всего. За последствия ответственность буду нести я.
Де Ланжере поглядел на ее лицо и замолчал.
На том, наверное, можно было бы закончить рассказ о таинственных событиях, произошедших в городе О. летним вечером и ночью. Однако под утро произошло еще одно событие, самое, пожалуй, загадочное и, мы бы даже сказали, малость зловещее.
В пятом часу утра дверь чердачной комнаты, где почивал Валевский, тихо приотворилась, и двое неизвестных застыли на пороге, напряженно вглядываясь в черты спящего.
– Я уверен, это он, – тревожно просипел первый голос. – Тот, кого вы ищете. Он даже имя не стал менять, называет себя Леонардом.
Луна заглянула в окно, бросила отсвет на лицо Валевского, на темную фигуру поэта на портрете, приколотом к стене, покосилась на коричневый чемодан, стоящий возле постели, и ушла за облака.
– Да, это он, – после паузы откликнулся второй голос. – Странно, отчего он до сих пор не покинул город.
– Но при нем нет украшений! – прошептал первый голос. – Я проверял, оружие есть, а украшений нет. Неужели он уже успел их продать?
– Ничего, мы все выясним, – отозвался второй голос. – Следите за ним, только осторожно. Обещаю, за ваше усердие вы внакладе не останетесь.
После чего голоса сгинули в ночи, и только поэт с портрета да луна могли сказать, кто именно наведывался к Леону Валевскому в ту ночь. Но они по природе не болтливы и предпочли оставить решение данного вопроса людям.
Впрочем, надо отметить все же одну странность. Валевский, спавший необыкновенно чутко (что, кстати сказать, вовсе неудивительно для людей его профессии), даже не проснулся, когда растворилась дверь и произошел вышеприведенный разговор.
Глава 9
Невероятное происшествие в гавани. – Неоспоримая польза вавилонского смешения народов. – Брандмейстер и барышни. – Китайское горе.
Жорж открыл глаза и посмотрел на часы. Они показывали девять. На всякий случай он бросил взгляд на занавески, но за ними было совсем светло. Стало быть, сейчас наверняка часов девять утра.
«Боже мой, – зевая, смутно подумал Жорж, – и какого черта я проснулся в такую рань?»
При своей работе сутенер привык ложиться поздно, а вставать еще позднее. Раньше часу дня он обычно не пробуждался. Поэтому Жорж преспокойно повернулся на другой бок, зевнул и приготовился закрыть глаза.
А в следующее мгновение привстал на кровати. Нет, не зря он пробудился столь рано, вовсе не зря…
Жорж напрягся, пытаясь определить, что же именно его обеспокоило, поводил носом и наконец понял.
Запах гари был слабый, едва различимый, но его все же хватило, чтобы Жорж окончательно забыл про сон. Рывком вскочив на ноги, сутенер заметался по комнате, принюхиваясь, потом подбежал к окну и отдернул занавески.
Совершив столь простое действие, Жорж застыл на одной босой ноге, как цапля, раскрыв рот и вытаращив глаза, как человек, пребывающий в крайнем изумлении.
Над гаванью поднималось гигантское облако дыма. Горел какой-то склад, и даже отсюда, с Трианонской улицы, Жорж мог видеть, как лижут крышу языки пламени, как свирепствует огонь, как густеет толпа, сбежавшаяся поглазеть на пожар.
А в то же время репортер Стремглавов, расталкивая всех локтями, пробился в первые ряды зевак. Здесь уже становилось тяжело дышать. Пожар, разгоравшийся в нескольких десятках шагов от них, был ужасен.
Стремглавов поглядел на горящее здание и не то чтобы изумился, но сделал озадаченное лицо и к тому же непочтительно присвистнул:
– Фью! Вы посмотрите-ка, что горит!
Он не докончил фразу, но по его глазам (которые тоже горели, хоть и не в буквальном смысле) можно было догадаться, что полыхающий склад представлял изрядный интерес.
– Наверняка все застраховано, – пробасил стоящий позади него молодой господин.
Стремглавов знал его – кузен помешанного Русалкина, Евгений Жмыхов.
– Думаете? – хмыкнул репортер.
– А то! – уверенно отозвался студент.
«И в самом деле, – подумал Стремглавов, чувствуя разочарование, – с чего бы главному складу Хилькевича гореть? Застраховали, не иначе, и сами же подпалили. Все честь по чести».
Барышни в толпе заволновались, стали подниматься на цыпочки и вытягивать шеи. Стремглавов догадался, что прибыл со своей пожарной командой главный городской брандмейстер, Франц Григорьевич Кольбе. Франц Григорьевич происходил из немцев, которые переселились в О. еще во времена первого губернатора. Французский герцог вообще позволял жить в городе кому угодно, лишь бы не слишком безобразничали да исправно платили налоги. Поэтому в О. смешались потомки людей множества национальностей – французов, армян, немцев, греков, болгар, поляков, турок, итальянцев и даже русских.
Стоит отметить, что министры в Петербурге были не слишком довольны таким вавилонским смешением народов.
– Но, ваша светлость, – возражали они, – если в городе будет столько наций, они же передерутся!
– Нет, – кротко отвечал герцог, – вот если бы в городе жили только две нации, они бы регулярно устраивали поножовщину. А когда их много, времени не хватит выяснять со всеми отношения.
Время показало, что герцог оказался совершенно прав.
Возвращаясь к Францу Григорьевичу, следует отметить, что брандмейстер был весьма видный мужчина. Когда он при полном параде катил на какой-нибудь пожар, городовые отдавали ему честь, а барышни ощущали неподдельное сердечное волнение, ибо выглядел Кольбе не хуже какого-нибудь генерала, а то и короля.
Брандмейстер увидел толпу и страдальчески скривился. Народу собралось столько, что он со своими людьми никак не мог подобраться к горящему зданию. Однако тут Франц Григорьевич заметил неподалеку полицмейстера де Ланжере и, не мешкая, бросился к нему.
– Елисей Иванович! Отгоните толпу, она же только мешает! Мы не можем даже подъехать к складу!
Полицмейстер поглядел на брандмейстера загадочно и заложил руки за спину.
– Скажите, Франц Григорьевич, – вполголоса спросил де Ланжере, – вы беретесь потушить пожар?
Кольбе поглядел на здание, охваченное огнем, и, не колеблясь, кивнул:
– Да.
– Но ведь пожар уж очень сильный, – молвил полицмейстер, и в его взоре, бог весть отчего, блеснула тусклая искра.
– С божьей помощью потушим, – твердо отвечал брандмейстер. – Гавань неподалеку, есть откуда брать воду.
– Да? – как-то неопределенно хмыкнул де Ланжере и стал смотреть на горящий склад. Крыша уже провалилась.
– Елисей Иванович! – в нетерпении вновь напомнил ему о своем присутствии брандмейстер. – Зеваки!
– Ну не могу же я мешать людям смотреть на пожар, – снисходительно молвил полицмейстер и подкрутил ус.
Тут уже и Франц Григорьевич поглядел на него внимательнее.
– Значит, не можете? – после паузы спросил он.
– Не могу, – печально отвечал де Ланжере. – Нет в законах Российской империи такого, который разрешал бы мне это сделать. Самоуправство получается.
– Так что, пусть горит? – уже сердито произнес брандмейстер.
– На все божья воля, – со вздохом отозвался полицмейстер, и во взоре его вновь блеснула все та же тусклая искра. – Догорит и само потухнет, куда ему деться…
Брандмейстер отошел, но не утерпел и все же вернулся.
– То есть пусть горит? – зачем-то с вызовом уточнил он, выпятив подбородок.
– Вы же сами видите, сударь, какой страшный пожар, – качая головой, уронил де Ланжере. – К чему рисковать жизнями людей? У всех жены, дети. Лишнее это.
Франц Григорьевич умолк. Он решил, что Хилькевич застраховал склад и поделился с полицмейстером, чтобы тот дал беспрепятственно тот склад спалить вчистую. В душе брандмейстера кипело негодование, но его было слишком мало, чтобы потушить пожар. Он злобно покосился на де Ланжере и, помыслив мельком, как было бы хорошо, если бы приезжая дама дала знать куда надо о его безобразиях, хотел удалиться, но тут сквозь толпу прорвалась маленькая нелепая фигурка в пестрых восточных одеждах.
– Господин! – взвыл Вань Ли, молитвенно складывая руки. – Горим! Ужас, ужас, ужас! Имущество! Скорее, надо тушить, тушить!
Он говорил, обращаясь то к де Ланжере, то к Кольбе, и забылся до того, что даже схватил брандмейстера за рукав.
– Ведите себя прилично, Вань Ли, – строго остановил его полицмейстер. – Ну пожар, эка невидаль… Лето, в конце концов, жарко. Мало ли что там могло загореться…
Китаец открыл рот.
– Но… но… – Он повернулся к Францу Григорьевичу: – Господин! Пожар! Умоляю вас!
По его лицу текли слезы, и брандмейстер растерялся. Де Ланжере глядел в сторону. «Что за штуки? – подумал растерянный Кольбе. – Они сговорились? Чертов китаец притворяется? Ну и актер, однако!»
– Мы не можем потушить пожар, – сказал он начальственным тоном и приосанился.
Барышни в толпе, глядя на него, млели от восторга.
– Почему? – изумился китаец.
– У нас нет воды, – скорбно ответил брандмейстер.
– Но гавань рядом! Целое Черное море!
Похоже, от волнения Вань Ли наконец научился выговаривать букву «р».
Франц Григорьевич покосился на море, катившее свои волны, и немного подумал.
– Помпы неисправны, – объявил он наконец.
– Что, все? – вытаращил глаза китаец.
– А которые исправны, те слишком старые, – вывернулся брандмейстер.
– Но вы можете хотя бы попытаться! – взвыл Вань Ли. Судя по его виду, он не помнил себя от горя.
– А стоит ли? – вмешался де Ланжере. – Здание уже выгорело дочиста. Подождите, осталось еще совсем немного.
Вань Ли поглядел на него с непередаваемой злобой, прошипел: «Вам это так с рук не сойдет!» и, в китайской манере заложив руки в широкие рукава своего шелкового одеяния, удалился.
– Пожары – ужасная вещь, – вздохнул полицмейстер. – Хорошо хоть, никто из людей не пострадал.
Однако вскоре выяснилось, что кое-кто пострадал очень сильно. Тем самым кое-кем был не кто иной, как Виссарион Сергеевич Хилькевич.
Он узнал о пожаре позже всех, потому что слуги, зная нрав короля дна, побоялись ему сообщить, когда пожар только разгорался. Прибыв наконец в гавань, Хилькевич застал на месте главного склада, где хранились груды контрабанды, мешки с опиумом и всякая незаконная всячина, лишь почерневшие балки и тлеющие угольки.
Хилькевич не побледнел, не покраснел, но в лице все-таки переменился. Быстро подсчитав в уме стоимость нанесенного огнем ущерба, он подумал о том, какую сцену устроит ему Груздь, занимавшийся сбытом контрабанды, что подумает о нем Вань Ли, хранивший на складе свой опиум, и велел как можно быстрее доставить себя к полицмейстеру. Тот давно уже удалился к себе, убедившись, что склад сгорел дотла.
По привычке войдя к полицмейстеру без доклада, Хилькевич увидел, что тот о чем-то разговаривает с маленьким следователем Половниковым.
– Прошу вас, сударь, выйдите, – даже не поворачивая головы в сторону короля дна, сказал де Ланжере.
Собственно, не сказал – процедил сквозь зубы. Да, так будет вернее.
Хилькевич настолько растерялся, что действительно попятился к дверям. Оказавшись в коридорчике, в котором стояли лишь несколько шатких стульев, он, однако, опомнился.
«Сукин сын! Что это на него нашло? Или он перед приезжей дамой выкобенивается?» – воскликнул он про себя и про себя же грязно выругался.
А в кабинете Половников закончил свой доклад.
– Значит, кучер молчит, – подытожил де Ланжере.
– Он сказал, ваше превосходительство, что, если проболтается, ему не жить, – отвечал следователь. – Полагаю, вы сами понимаете, что сие означает.
– М-да… – уронил де Ланжере и сделал губы трубочкой. – То есть они хотели убить горничную или покалечить ее в виде предупреждения госпоже – мол, они люди серьезные и с ними шутить не стоит.
– Возможно, – сдержанно отозвался следователь. – Но улик у нас нет.
– Бедное правосудие, – вздохнул полицмейстер. – Никакой преступник не станет церемониться, чтобы совершить преступление, а мы – изволь соблюдать права, законы, формальности… А если свидетеля подкупят, вся работа псу под хвост, если улик недостаточно, злодей почти наверняка будет на свободе… И есть еще изворотливые адвокаты, которые всякий чих толкуют в пользу обвиняемого, плюс глупые присяжные, которым всегда легче оправдать, чем осудить… Тяжела наша доля!
Половников хотел что-то сказать, но поглядел на холеное лицо полицмейстера, на его королевские усы и ничего не сказал.
– Хорошо, – снова заговорил наконец де Ланжере. – Кучера пока отпустите и установите за ним слежку. Вряд ли наблюдение что-то даст, но тем не менее.
Половников двинулся к дверям.
– Да, Антон Иваныч, – окликнул его полицмейстер, – когда будете уходить, скажите господину, который в коридоре, что он может ко мне зайти.
Следователь прекрасно знал о пожаре на складе, догадывался, с какой целью Хилькевич явился сюда, и слова «господин, который в коридоре» резанули его слух непривычно вальяжной интонацией.
«Однако любопытные у нас творятся дела с тех пор, как в городе объявилась столичная дама», – невольно подумалось ему.
Через минуту Хилькевич широким шагом вошел в кабинет полицмейстера.
– Елисей Иванович, мое почтение… Я не знал, что у вас тут некоторым образом секретное совещание…
Де Ланжере поглядел на его бакенбарды, на зубы, оскаленные в улыбке, и совершенно неожиданно поймал себя на мысли о том, как было бы хорошо, если бы баронесса Корф положила конец власти этого прохвоста. Однако тут Елисей Иванович вспомнил разные приятные дары, которые он получал от Хилькевича, шелестящие купюры, струящиеся золотые монеты и тотчас же раскаялся в недоброжелательности по отношению к своему ближнему.
– Что вам угодно? – спросил он, напустив на себя официальный вид.
Хилькевич поглядел на него с некоторым удивлением и сбивчиво (чего с ним давно не случалось) изложил свою просьбу. Сгорел его склад, на котором находилось видимо-невидимо всякого добра. Вероятно, имел место поджог, совершенный некими злоумышленниками, так не может ли полицмейстер…
– Откуда вам известно, что был именно поджог, милостивый государь? – строго спросил де Ланжере. – Вероятность несчастного случая тоже нельзя исключать.
Однако Хилькевич никоим образом не верил в то, что его склад мог загореться случайно, что он и дал понять полицмейстеру. Де Ланжере задумчиво кивнул. В сущности, ему лучше всех было известно, почему сгорел склад. Ибо он сам поджег его по распоряжению баронессы Корф.
– Что-нибудь уже удалось узнать? – с надеждой спросил Хилькевич.
– Не так скоро, милостивый государь, не так скоро, – вздохнул полицмейстер.
Следствие о сгоревшем складе вел лично Сивокопытенко, который, собственно, и помогал ему склад поджечь. Де Ланжере поймал себя на том, что его так и подмывает улыбнуться, и сурово кашлянул.
– Полагаю, вас скоро вызовут к следователю, – сказал он и развернул какую-то бумагу.
– Это еще зачем? – насторожился Хилькевич.
– Мало ли что, – уклончиво ответил полицмейстер. – Вдруг здание было застраховано, к примеру.
– Милостивый государь… Ваше превосходительство! – возмущенно вскинулся Хилькевич.
– В городе только о том и говорят, – объяснил де Ланжере. – Что поделаешь – слухи!
И полицмейстер с интересом поглядел на растерянного короля дна.
Однако растерянность посетителя длилась лишь мгновение. Он улыбнулся совершенно непередаваемой, волчьей улыбкой, распрямил плечи и шагнул к дверям.
– Я все понимаю, ваше превосходительство, но боюсь, вы выбрали не ту сторону. В конце концов, баронесса Корф будет в нашем городе не вечно, – вкрадчиво шепнул Хилькевич на прощание.
И вышел, испытывая сильное искушение грохнуть дверью так, чтобы та слетела с петель. Однако Хилькевич всегда считал, что только слабаки поддаются эмоциям. Поэтому он почтительнейше прикрыл створку за собой и удалился.
Ему еще надо было посоветоваться со своими, дать указания Васе Херувиму, который призван был охмурить горничную, и успокоить Груздя и Вань Ли, чьи интересы особенно пострадали вследствие пожара.
Надо сказать, что из всех сообщников Хилькевича именно Вань Ли больше всего нуждался в том, чтобы его успокоили. В тот момент, когда король дна беседовал с полицмейстером, Вань Ли медленно пятился в глубь своей аптеки от порога, на котором стоял вихрастый блондин с револьвером. Блондин вздохнул, выпятил губу и спрятал револьвер.
– Ну что, – задушевно шепнул Валевский, – поговорим?
Глава 10
Сеанс без магии, но с разоблачением. – Полицмейстер в холодном поту. – Явление Саломеи.
– Ой, Леон… – пролепетал китаец и угас.
Валевский смотрел на него, насмешливо улыбаясь. Вань Ли поднял руку и на всякий случай закрыл лицо рукавом, однако вор не двигался с места и не пытался нанести физиономии хозяина никакого урона.
– Тебя так давно не было видно… – пробормотал Вань Ли, осторожно выглядывая из-за рукава.
– Всего пару дней, – заметил Валевский отстраненно.
Вань Ли поколебался и опустил руку.
– Я думал, ты уже уехал из города, – объявил он. – Слышал, на тебя облава объявлена?
– Наверняка ты и постарался, китайская морда, – весьма неучтиво отозвался гость с револьвером в кармане.
– Попрошу не оскорблять китайскую нацию! – вскинулся Вань Ли. Чем дальше, тем лучше и правильнее он говорил по-русски.
Валевский презрительно повел плечами.
– Тебе-то что за дело до китайской нации, Карен? Ты же никакого отношения к ней не имеешь.
Вань Ли, которого, натурально, звали при рождении Карен Абрамян, насупился.
– Пусть я китаец и временно, – важно изрек он, – но обижать моих почти соотечественников не позволю.
– Да неужели? – хмыкнул Валевский и схватил его за горло.
– Караул! – заверещал лжекитаец.
Впрочем, не положившись на слова, он вдобавок приложил вора кулаками по ушам, чем вынудил того разжать руки. Освободившись, Вань Ли с невероятной стремительностью бросился к двери, но, на свою беду, зацепился длинными одеждами за этажерку, уставленную фигурками драконов, какими-то склянками и благовонными палочками. Этажерка покачнулась и рухнула на пол вместе со всем содержимым, отчего Вань Ли, не удержавшись на ногах, тоже упал. Валевский, встряхнув головой, подошел к нему и, так как лжекитаец тщетно пытался освободить одежду, наступил на нее ногой.
– Леон! – застонал Вань Ли. – Умоляю, не надо! У меня четверо детей!
– Врешь, – беззлобно ответил Валевский. – Детей, насколько я помню, у тебя должно быть раз в пять больше. И то, – добавил он глумливо, – если считать только Европейскую Россию, без Азии, Финляндии и Польши.
На лице Вань Ли изобразилась самая настоящая паника.
– Впрочем, – добавил вор, – меня это не касается. Скажи-ка мне лучше вот что, любезный: кто сдал меня Хилькевичу? Ты?
Вань Ли (с позволения благосклонного читателя, мы будем продолжать называть его привычным именем) вытаращил глаза и замотал головой так энергично, что по всем законам природы она неминуемо должна была оторваться напрочь.
– Нет! Ты что, Леон! Чтобы я сдал тебя? Да мы же с тобой вместе в тюрьме сидели! Да ты мне как друг! Да я за тебя…
– Значит, все-таки ты, – вздохнул Валевский.
– Он сам узнал! – пискнул Вань Ли.
– От тебя, – отрезал вор. – Больше меня никто из наших не видел. И он послал ко мне эту мразь Антонина. Но от него я отделался. Я хотел сразу же покинуть город, пришел к тебе за деньгами, а ты мне не открыл, и в результате я потерял время. Где деньги, Карен?
– Какие деньги? – нервно спросил почти китаец.
– За кольцо, которое я тебе дал, – объяснил Валевский. – Хватит дурачка-то валять, Карен! Несерьезно!
– А, кольцо… – вскричал Вань Ли и заулыбался так широко, что его глазки превратились в совсем крохотные щелочки. – Ну что ты, Леон! Как же ты мог подставить своего старого друга! Ведь колечко-то меченое, что прикажешь мне с ним делать? Не могу я его принять, никак не могу! Я хотел его вернуть тебе, но уехал по делам, и утром меня тоже не было…
– Сволочь ты, – вздохнул Валевский. – Если ты уехал, откуда тебе стало известно, что утром я тоже приходил?
Вань Ли понял, что выдал себя, и это так огорчило его, что он даже перестал улыбаться.
– А ты мне дал меченое кольцо! – перешел он в атаку.
– С чего ты взял? – сердито спросил Валевский.
– С того, – пропыхтел Вань Ли, – что оно наверняка из тех самых драгоценностей танцорки, которые ты свистнул. А их везде ищут!
Валевский покачал головой, проговорил с сожалением:
– Знаешь, Вань Ли, по-моему, у тебя от опиума окончательно ум за разум зашел. Какие, к черту, драгоценности танцорки? Кольцо ведь мужское. Ты что, не заметил? Какое отношение оно может иметь к Агате Триппер или как там ее? Кольцо с предыдущего дела, я все хотел продать его, да не складывалось.
Тут на лице Вань Ли отразилась такая напряженная работа мысли, что он даже перестал походить на китайца.
– А, – неожиданно догадался Валевский, – я понял. Ты решил, что парюра у меня, поэтому навел на меня своих друзей, рассчитывая, что они возьмут меня за горло, отнимут драгоценности, а барыш вы поделите. Ловко! Только у вас вышла промашка. Ничего я у танцорки не крал!
– Да? – возмутился китаец, переставший походить на китайца. – И ты хочешь, чтобы я тебе поверил? Я – тебе? Ты за кого меня держишь, Леон?
– Но я действительно не брал тех драгоценностей, – устало отозвался Валевский. – Уверен, Агата сама их украла, потому что российские власти заставили бы ее вернуть их. Так или иначе, но заставили бы. Прикажешь мне поклясться, что это был не я? Могу всеми твоими детьми поклясться, к примеру.
– Оставь моих детей в покое, – просипел распростертый на полу лжекитаец. – Во-первых, у меня их нет, а если даже и есть, тебя они не касаются. Во-вторых, всем твоим клятвам можно верить не больше, чем китайским гаданиям. Ай!
Он изготовился опять звать на помощь, потому что Валевский весьма угрожающе наклонился над ним, однако Леон всего лишь поднял Вань Ли с пола и поставил на ноги.
– Подумай своей бестолковой головой, – проговорил поляк, глядя собеседнику прямо в глаза. – Если бы я спер парюру Агаты Дрейпер, я что, пришел бы к тебе ее продавать? Извини, но для такого дела ты стручком не вышел.
Вань Ли открыл было рот, собираясь возмутиться последним оборотом, но подумал (возможно, над тем, что заявил собеседник) и тяжко вздохнул.
– Зачем ты пришел ко мне, Леон? – прямо спросил он.
– Отдай мне кольцо, – потребовал Валевский. – Или деньги.
– Денег дать не могу, – с отвращением ответил Вань Ли и окончательно перестал напоминать китайца.
– Что, дела идут совсем плохо? – поддразнил его Леон.
– Дела идут хорошо, – с еще большим отвращением ответил лжекитаец. – Наш склад сгорел.
– Сгорел? – переспросил Валевский и задумчиво прищурился. Любопытно, уж не постаралась ли тут великолепная баронесса Корф? Хотя какой ей толк от сожженного склада?
Вань Ли наклонился, извлек из-под драконьих останков небольшую шкатулку, открыл ее и вытащил кольцо с сапфиром. Видя, что хозяин подозрительно смотрит на него, Валевский взял у него кольцо и примерил на свой палец.
– Хм, – разочарованно протянул лжекитаец. – Ну да, мужское… Так ты не брал украшения танцорки?
– Нет, – ответил Валевский. – Просто кое-кому очень хочется свалить это дело на меня. И я даже знаю кому, – загадочно прибавил он.
Затем кивнул Вань Ли, спрятал кольцо и двинулся к двери.
– Ты где обретаешься теперь? – спросил лжекитаец вслед.
Валевский обернулся и широко улыбнулся:
– Нигде. Я сматываюсь.
– На вокзале полно полиции, – заметил Вань Ли. – И в порту тоже. Всех проверяют, кто хоть немного похож на тебя.
– И пусть проверяют, – равнодушно отозвался Валевский, потирая мочку уха. – Есть много способов сбежать оттуда, где тебя не ценят.
– И много способов попасть туда, где тебя будут ценить еще меньше, – буркнул Вань Ли. Однако отважился он на последнюю фразу только тогда, когда за его гостем затворилась дверь.
Пока в китайской аптеке происходил сей небезынтересный и во многих отношениях поучительный диалог, люди, явно не ценившие пана Валевского, разрабатывали планы, как найти его и отобрать у него похищенные ценности.
– За вокзал я ручаюсь, – объявил полицмейстер баронессе Корф. – Порт тоже наводнен моими людьми, как в форме, так и в штатском. Главное, чтобы вор не имел возможности скрыться из города.
– Главное – схватить его до того, как он избавится от драгоценностей, – отозвалась высокая гостья. – На всякий случай, Елисей Иванович, распорядитесь проверить все ночлежки, допросите всех осведомителей, не видели ли они кого подозрительного, не знают ли чего… – Она посмотрела на лежащий перед ней листок бумаги и некоторое время молчала, постукивая по столу карандашом. – Кстати, веселые дома тоже надобно будет проверить.
Де Ланжере поперхнулся. По правде говоря, визит Хилькевича не прошел даром, и теперь полицмейстера терзали нешуточные угрызения совести из-за того, что он совершил. Кроме того, он слишком хорошо знал короля дна и не сомневался, что при первой же возможности тот не преминет отомстить.
И вот теперь, получается, все начинается по новой.
В сущности, уже проверка ночлежек затрагивала интересы Хилькевича и компании, потому что ночлежки принадлежали как раз Хилькевичу пополам с графом Лукашевским. Но при мысли, что придется трясти веселые дома Розалии, и особенно при воспоминании о персонах, которые ее дома посещали, полицмейстера прошиб холодный пот.
– Амалия Константиновна, – прошептал де Ланжере, – это невозможно!
Амалия Константиновна откинулась на спинку кресла и пристально посмотрела на собеседника.
– Вы должны понимать, милостивый государь, – со значением уронила она, – что слова «невозможно» для меня не существует.
И опять пауза, и опять постукивание карандашом.
«Мне конец», – с тоской помыслил де Ланжере.
– Кстати, мне говорили, что в порту произошел какой-то ужасный пожар, – заметила баронесса Корф, не спуская с него огненного взора.
– Да, да, – слабым голосом отвечал полицмейстер. Достал платок и утер им лоб. – Пожарные прибыли слишком поздно. Впрочем, кажется, зеваки помешали им проехать.
– Очень печально… – вздохнула баронесса. – Горел какой-то склад, насколько я поняла?
– О да, сударыня. К сожалению, такие случаи иногда бывают.
– А склад не был застрахован? – невинным тоном поинтересовалась Амалия.
Де Ланжере был вынужден ответить отрицательно. Они все проверили, но…
– Очень жаль, – вздохнула его собеседница. – Потому что, если бы склад был застрахован, можно было бы счесть, что его поджег владелец, и без дальнейших проволочек упрятать его в тюрьму.
«Хилькевича – в тюрьму?» – в смятении подумал де Ланжере.
«А почему бы и нет? – шепнул ему голос здравого смысла. – Что он, какой-то особенный? И не такие попадали в острог, в конце концов!»
«Хорошо столичной даме ничего не бояться. Они там в своих Петербургах и ведать не ведают, что за мерзавец этот Хилькевич, – ныл голос осторожности. – Потому-то баронесса и такая храбрая. А ведь, если что, солоно придется тебе, Елисей Иваныч, да-с!»
– Предлагаю обсудить план дальнейших действий, – перешла на деловой тон гостья. – О ночлежках и веселых домах мы уже говорили. Кроме того, неплохо бы навести справки в гостиницах, узнать, кто приезжал сюда за последние недели. Также следует проверить всех, кто занимается скупкой краденого, а для верности еще и ювелиров. Знаю, работа нам предстоит нелегкая, но, в конце концов, ничье усердие не останется незамеченным. – И Амалия Константиновна ослепительно улыбнулась.
Полицмейстер, которому очень понравились последние слова, приосанился, сказал, что сделает все от него зависящее, и напомнил баронессе, что сегодня она должна быть на торжественном ужине у вице-губернатора Красовского.
– Ах, как некстати все эти торжественные ужины… – вздохнула баронесса. – Делом надо заниматься, а не ужины устраивать! Но, конечно, я буду. Придется еще платье выбирать, не знаю, сможет ли Дашенька мне помочь. Она ведь вчера сильно ушиблась. И ужасно испугалась.
– Я надеюсь, ей стало лучше? – осторожно осведомился де Ланжере. Полицмейстер, как и следователь Половников, все больше склонялся к тому, что происшествие с горничной было вовсе не случайностью.
– Гораздо лучше, за что, я полагаю, надо благодарить доктора, – ответила Амалия. – Но она все еще лежит в постели. Ей так тяжело, бедняжке!
Если бы Амалия Константиновна обладала даром видеть сквозь стены или, допустим, по своему хотению мгновенно перемещаться в пространстве, – так вот, если бы баронесса Корф перенеслась в ту секунду в комнату своей горничной, она бы застала там прелюбопытную сцену.
Горничная Дашенька с видом мученицы полулежала в кресле. На левом подлокотнике примостился репортер Стремглавов с тарелкой, возле правого возвышался златовласый Вася Херувим, а напротив Дашеньки стоял тот самый статный лакей Митя, которому она давеча жаловалась на невыносимые тяготы своей жизни.
Все трое мужчин хором убеждали Дашеньку съесть еще ложечку, чтобы подкрепить свои силы. Но Дашенька, судя по всему, не была намерена сдаваться.
– Ну что вы меня уговариваете, господа? – твердила она, надувая губы. – Честное слово, я больше не хочу есть! Не хочу, не хочу!
– Дарья Егоровна, – серьезно сказал репортер, – вы же этак умрете с голоду!
– И что, что умру? – капризно ответила Дашенька. – Все равно никому меня не жаль!
Следователь Половников вошел как раз тогда, когда хор возражений перекрыл последние Дашенькины слова.
– Дарья Егоровна, – умоляюще проговорил Митя, – ну еще ложечку, ради меня, пожалуйста!
– Ради всех нас! – поддержал его репортер.
– Ну, пожалуй, – вздохнула Дашенька, косясь на тарелку. И вдруг добавила, указывая на Васю: – Если вот он станет на колени!
Половников озадаченно мигнул. «Она что, не в себе?» – мелькнуло у него в голове. Но следователь тут же решил, что если кто и не в себе, то именно дворник Вася, который покорно стал на колени перед Дашенькой и улыбнулся.
– Ну, так-то лучше, – объявила горничная. – Подержите-ка тарелку, Иван-царевич!
И тарелка была отнята у Стремглавова и вручена Васе, который покраснел, как маков цвет.
«Саломея!» – с невольным восхищением подумал следователь. Затем кашлянул и для приличия пару раз стукнул костяшками пальцев по двери.
Вася вздрогнул, однако же удержал тарелку в горизонтальном положении. Дашенька сердито покосилась на вошедшего и довольно сухо спросила:
– Что вам угодно?
– Дарья Егоровна, – серьезно проговорил Половников, – мы не закончили наш разговор.
Стремглавов насторожился. Собственно говоря, он явился к Дашеньке с той же целью, что и Вася Херувим, а именно для того, чтобы вытянуть из горничной кое-какие сведения, которые могли представлять интерес для его газеты. Но, попав в комнату Дашеньки, Стремглавов почти забыл, зачем пришел сюда. Потому что Дашенька была прелесть, а ее глаза… Ах, да за такие глаза можно полмира отдать и не заметить. У Стремглавова не было ни мира, ни полмира, и если он чем-то и владел, то весьма скромной частью земли. Тем не менее не исключено, что и ее журналист мог отдать за право видеть Дашенькины глаза… если бы, конечно, у него не было иного выхода.
– А, господин следователь! – весело вскричал он. – Что такое? Неужели вчерашнее происшествие с Дарьей Егоровной было вовсе не случайным? Ну-ка, признавайтесь!
– И кто же мог покушаться на Дарью Егоровну? – проворчал Митя. – Неужто тот варшавский прощелыга, которого везде ищут?
– Откуда вам это известно? – строго вопросил следователь.
– Ну, даже странно, что вы спрашиваете, господин хороший, – отозвался Митя. – Весь город знает, зачем барышнина госпожа к нам приехали!
– Конечно, знает – ловить Леона Валевского, знаменитого вора, укравшего некие весьма интересные драгоценности, вот зачем, – подлил масла в огонь репортер. – Только вот он ли стоит за вчерашним происшествием? Или, может быть, его друзья?
Половников растерялся. И как, интересно, прикажете вести следствие, если весь город, шумный и болтливый южный город, уже осведомлен о происходящем и вовсю работают досужие языки, перемалывая слухи и выдвигая самые различные – не всегда, кстати сказать, нелепые – версии?
– Боже! – воскликнула Дашенька капризно, отодвигая тарелку мизинчиком. – У меня теперь совсем пропал аппетит!
– Кстати, а правда, что сгоревший склад был застрахован? – невинно поинтересовался репортер.
– У! – объявил Митя. – Вот уж в чем можно не сомневаться!
Один Вася молчал и глядел на Дашеньку глазами, полными немого обожания. Ему было очень хорошо рядом с ней, а почему – он и сам не знал.
– Смешной вы, право слово, – обратила Дашенька свое милое личико к Половникову и надула губы. – Я уже говорила вам вчера, что не заметила ничего подозрительного. Если бы заметила, разве я не сказала бы? Ведь я же так пострадала, и если бы вот он меня не вытащил…
И девушка благодарно поглядела на Васю, который окончательно размяк и блаженствовал, на глазах превращаясь в сплошное золотое сияние. Его синие глаза стали совсем лазоревыми.
Половникову надо было многое сказать Дашеньке, но он посчитал излишним распространяться в присутствии посторонних людей. Поэтому спросил:
– Как ваша нога?
Дашенька поглядела куда-то вверх и жалобно сообщила, что ноге лучше, что доктор – просто чудо, а не доктор, но передвигаться ей тяжело по-прежнему, и если бы не друзья (тут она покосилась на Митю), то просто не знала бы, что ей делать.
Вася заметил взгляд девушки, мгновенно потемнел и надулся. Следователь пожелал Дашеньке скорейшего выздоровления и удалился, а горничная объявила, что ей жарко, и послала Стремглавова открыть окно, а Митю – за веером.
– Что вы сидите с этой тарелкой? – глянула она на Васю. – Поставьте ее на стол. Какой вы, однако!
Митя принес веер, совсем хороший веер из расписного шелка и с отделкой из резного перламутра, только одна пластина в нем была сломана и склеена.
– Это барыни? – спросил Митя. – Хороший веер, дорогая вещица.
– Нет, уже мой. Барыня ведь не может с испорченными вещами ходить, вот они мне и достаются. Веера, платья старые, духи, которые ей разонравились, – ответила Дашенька важно. Затем вручила веер Васе, который стал обмахивать ее, снова чувствуя себя на седьмом небе. Если бы в это мгновение его увидел дядя Агафон, он бы лопнул от смеха.
Чувствуя, что какие-то лакей и дворник совсем его оттеснили, Стремглавов напустил на себя ученый вид и обернулся.
– А вы знаете, – сообщил он, – как раз под вашими окнами несколько дней назад убитого нашли. Ей-богу! Мой кум про то дело писал.
– Да вы что? – воскликнула Дашенька, привстала на месте и даже рот приоткрыла. – Правда?
– Ага, – подтвердил репортер, счастливый тем, что ему удалось обратить на себя внимание.
– И кто же это был? – Дашенька аж вся трепетала от возбуждения.
Стремглавов наморщил лоб.
– Да я уже не помню фамилию, честное слово.
– Переписчик какой-то, – буркнул Митя, неприязненно косясь на репортера. – Нашли тоже о чем рассказывать!
– Небось ограбили беднягу, – вздохнул Вася. С его точки зрения, убивать человека лишь для того, чтобы лишить его собственности, был ужасающий дилетантизм.
– Да у него и денег-то не водилось особых, – сказал репортер. – Хотя кошелек пропал, что верно, то верно.
– А может, он в лотерею выиграл? – предположила Дашенька в порыве вдохновения. – А полиция что?
– Ну, наша полиция – известное дело, – фыркнул Стремглавов. – Как громкое дело, так они все на коне, а до простых людей им и дела нет. Никого не нашли. Да и не искали, я думаю. Кому нужен какой-то переписчик?
– Надо же, какие страсти в вашем городе творятся! – вздохнула Дашенька и послала Митю еще за одной порцией суфле.
Глава 11
Полный провал засланного агента. – На всех графьев не напасешься. – О пользе наблюдательности.
– Ну и где же он? – в третий или четвертый раз повторил в нетерпении король дна.
– Задерживается, должно, – ответил Пятируков, недовольно шевельнув бровями.
– Что он, быстрее не мог ее охмурить, что ли? – уже раздраженно спросил Хилькевич. – Столько времени прошло!
Старый вор Пятируков с удивлением покосился на своего друга. Казалось бы, такому умному человеку, как Хилькевич, должно быть известно, что, так сказать, чуйства – материя тонкая, и на раз-два с ними не разделаешься. Какой бы безмозглой ни была Дашенька, должно пройти некоторое время, чтобы ее спаситель Вася смог окончательно втереться к девушке в доверие и вызнать то, что им нужно.
Наконец за дверями раздались тяжелые, неторопливые шаги Коршуна – бывалого каторжника, который в доме Хилькевича исполнял обязанности, примерно соответствующие должности дворецкого. Когда Коршун входил в комнату, всегда возникало впечатление, что в ней не хватает света – настолько мрачным и угрожающим выглядел этот детина с жутким рубцом поперек лица. Коршун покосился на Пятирукова и буркнул, что пришел Вася Херувим.
– Давай его сюда, – распорядился хозяин. – И закрой дверь.
Коршун впустил Васю и удалился, тяжело ступая. Хилькевич беспокойно шевельнулся в кресле.
– Ну, что? – спросил Пятируков. – Как все прошло?
Вася покосился на дядю, на застывшее в ожидании лицо короля дна и, комкая в руках дворницкий картуз, ответил, что он посетил Дашеньку, чтобы справиться о ее самочувствии, узнал, что ей лучше, но что хозяйка к ней даже не заглядывает. И вообще Амалия Константиновна, хоть и отдает прислуге старые платья и почти новые веера, по натуре дама скрытная, пусть и щедрая, по словам горничной.
– Да при чем тут веера? На кой нам сдались такие подробности? – фыркнул Пятируков. – Ты скажи мне лучше, дохлая ворона – это был ее подарок?
Вася сконфузился, забормотал что-то про суфле, про напористых репортеров, к которым горничная, похоже, неравнодушна, и под свирепым взглядом дяди сник окончательно. Хилькевич покачал головой. Он сразу же по лицу Васи догадался, что засланный им агент провалился, причем окончательно и безнадежно.
– Ну не дурак ли, а? – бушевал Пятируков. – Да, дурак ты, Васька, и больше ничего! Олух! Шмаровоз![129]
– Хватит ругаться в моем доме, – холодно оборвал его Хилькевич, и Пятируков тотчас же умолк. – Значит, так. Ты, парень, по-прежнему дружи с горняшкой, может, что и вызнаешь ценное. Только смотри, – добавил король дна с нехорошей улыбкой, – не вздумай в нее влюбляться. Как влюбишься, так и пропадешь ни за грош.
Вася вспомнил блестящие Дашенькины глаза и ничего не ответил, но подумал, что старики все-таки совершенно не разбираются в жизни. Как он может пропасть из-за такой замечательной девушки, как Дашенька?
– Кыш! – велел Пятируков, и Вася, довольный, что его наконец оставили в покое, выскочил за дверь – да так поспешно, что едва не споткнулся о порог.
– Не годится он для таких дел, – заявил старый вор, поворачиваясь к Хилькевичу. – Может, лучше Лукашевского к горняшке заслать? Он попредставительней будет, Антонин-то. Опять же граф, хоть и липовый. А?
– Слишком жирно – граф, даже липовый, для какой-то горничной, ей кто попроще нужен, – желчно ответил Хилькевич. – И вообще, на всех графьев не напасешься. Вася начал над этим работать, пусть и продолжает.
– А может, заслать графа к госпоже? – предложил Пятируков. – Чего там мелочиться-то!
Но Хилькевич только махнул рукой.
– Нет. Она его сразу раскусит. К тому же она наверняка знает, что он с нами заодно. А Васька в городе человек новый, про него никому ничего толком не известно. Если что, он тут ни при чем, да и мы тоже.
Он бросил взгляд на часы.
– Мне все-таки кажется, – рискнул заметить старый вор, – что ворона не ее рук дело. Не станет она такие шутки шутить. Это скорее в духе нашего брата.
Хилькевич потер щеку.
– Меня сейчас волнует не ворона, а склад, – мрачно сказал он. – И то, что чертов де Ланжере стал слишком много себе позволять. Ты представь себе, Агафон, сколько людей в городе, которым мы как кость в горле. И теперь они могут использовать приезд дамы, чтобы попытаться меня погубить.
– Нет, – твердо ответил Пятируков, – им не под силу будет.
– Думаешь? – усмехнулся Хилькевич, косясь на часы. Однако в глубине души ему было все же приятно, что старый друг придерживается именно такого мнения.
– Кто-то должен прийти? – спросил Агафон.
– Да, – ответил хозяин. – Розалия. И еще граф.
Однако первыми пришли вовсе не они, а ростовщик Груздь, раздраженный до такой степени, что остатки волос на его голове прямо дыбом стояли. Хилькевич мрачно посмотрел на него.
– Кажется, мы уже говорили по поводу склада, – промолвил король дна. – И я пообещал тебе, что внакладе ты не останешься.
– Не останусь? – взвизгнул Груздь. – И как, интересно, я буду торговать барахлом, если в мои лавки заявилась с обыском толпа народу? Меня вообще хотят закрыть, к твоему сведению! Нашли какие-то старые жалобы и якобы проверяют их. Вспомнили даже карикатуру в местной газете… А ухмылки на их рожах? Я только посмотрел на них, сразу же сослался на то, что мне приспичило по неотложному делу… И через сортир, там у меня дверка особая, побежал дворами, дворами… Мне адвокат нужен, Виссарион! Я старый человек, я не переживу тюрьмы!
– Опа… – негромко проговорил Пятируков в пространство. Хотел добавить что-то, но покосился на Виссариона и прикусил язык.
Впрочем, Хилькевич понял его и без слов. Баронесса Корф действовала на редкость последовательно: после склада с контрабандой и опиумом она принялась за лавки, сбывавшие краденое, и за ссудные кассы, которые выдавали деньги под залог имущества, зачастую опять же краденого. «Что будет следующим? – подумал Хилькевич. – Заведения Розалии?»
И когда бандерша наконец явилась, повиснув, как всегда, на руке своего ненаглядного Жоржа, Хилькевич без обиняков заявил ей:
– Розалия, нам надо закрываться.
– Что? – неожиданно высоким голосом заверещала пани Малевич. – Закрываться? Мне? С какой стати? Как прикажешь понимать твои слова, Виссарион?
– То есть как закрываться? – возмутился и сутенер. – Может, сразу пойти сдаваться?
Хилькевич объяснил, что пока столичная дама – чтоб ей было пусто! – находится в их городе, им следует соблюдать повышенную осторожность. Груздь, полулежа в кресле, стонал, что не переживет тюрьмы и что скандал его убьет.
Вскоре явился граф Лукашевский, постукивая тросточкой, и довел до всеобщего сведения, что Груздя везде ищут – в его лавках нашли краденые вещи и жаждут получить объяснения, каким образом они оказались у него.
– Да мало ли что нашли, – хладнокровно ответил Хилькевич. – Принесли какие-то люди, вот и все. Кто именно, записано в книгах, а если адреса и фамилии указаны липовые, что ж – он не обязан всех их проверять. Я правильно говорю?
– Правильно-то правильно, – вмешалась Розалия, – но все это должен изложить адвокат. И хотелось бы, чтобы репортеры обо всем не пронюхали!
– Еще и репортеры! – застонал ростовщик. – О, я не переживу!
Теперь он походил уже не на сушеный гриб, а на гриб раздавленный.
– Не дрейфь, Макар Иваныч, – сказал Пятируков, чтобы подбодрить его. – Мы с тобой, и мы тебя не оставим!
– Господи, и за что мне такая напасть? – выдавил из себя Груздь, держась за грудь. – За что?
Граф Лукашевский кашлянул.
– Как я понял, – доложил он, блестя глазами, – ищут то, что уворовал Валевский. Вот нашим кассам и досталось.
– Не вашим, а моим! – злобно огрызнулся Груздь. – Вас-то никто еще не трогал!
Розалия достала платок и вытерла пот, катившийся по лицу. Ее румяна уже расплылись по жаре и превратились в бесформенные пятна.
– То есть им нужен все-таки Валевский, а не мы, – прогудела мадам и повернулась к Лукашевскому. – А ты его спугнул!
– Я? – Граф сделал большие глаза, хоть и отлично понимал, что в случае чего они его не спасут.
– Тебя послали за ним, – ледяным тоном промолвил Хилькевич. – А ты, вместо того чтобы привести ко мне, упустил его, и Леон скрылся. Нехорошо, Антонин!
Жорж ухмыльнулся и изрек, потирая ус:
– Наш Антонин такой один. Но это если верить его словам о револьвере и прочих подробностях встречи, о которой недавно была речь.
– Жорж! – рявкнула Розалия, теряя терпение.
– Что? – повернулся к ней сутенер. – Вы хотите презренной прозы, мадам? Ну так вот вам! С таким же успехом можно верить, что Антонин прирезал нашего польского коллегу, бросил его труп в гавань, а парюру припрятал. И теперь просто морочит нам голову.
Граф Лукашевский потемнел. По выражениям лиц присутствующих он понял, что такая гипотеза была им куда больше по нраву, чем рассказ о том, как Валевский отделал его и выставил за дверь.
– Я сказал правду! – выкрикнул Антонин. – У него был револьвер! Он чуть не убил меня!
– Однако почему-то ты остался в живых, – бросила Розалия. – И ты сам, кстати, вызвался пойти проверить, точно ли это он.
– Верно, – согласился Пятируков. – Никто тебя не заставлял! Даже не просил!
– Вы меня обвиняете? Да вы… вы…
Минут десять в гостиной стоял шум. Складывался он из воплей возмущения, принадлежащих графу, просто воплей, принадлежащих остальным обитателям дна, и, наконец, матерных выражений, причем настолько крепких, что любое перо покраснеет, пытаясь передать их на бумаге. Из-за шума никто даже не услышал, как растворилась дверь, и на пороге возник маленький китаец. Сегодня он казался еще более замкнутым и еще более печальным, чем обычно.
– В чем дело, Вань Ли? – раздраженно спросил Хилькевич, наконец-то заметив нового посетителя.
– Я хотела сказать пло Глуздя, – пробормотал китаец и покосился на ростовщика. – У него неплиятности. Но я визу, вы и так знаете.
– Похоже, неприятности будут у нас у всех, если мы не отдадим Валевского, – огрызнулась Розалия. И обернулась к хозяину дома. – И на кой черт, Виссарион, тебе понадобилось разыгрывать героя? Отдал бы этой…
Ко всему привычный Жорж и то вытаращил глаза, услышав, какими словами его подруга честит баронессу.
– Отдал бы ей этого…
Тут даже Груздь перестал держаться за сердце и с интересом прислушался.
– Отдал бы Валевского, и дело с концом!
– Я не сявка у нее на побегушках, – произнес Хилькевич спокойно. Однако глаза его метали молнии, и Пятируков, который отлично знал, что сие значит, невольно поежился.
– В самом деле, – неожиданно поддержал Розалию граф. – Отдадим Валевского, и все тут. В конце концов, он все равно не наш, а пришлый, и за него мы ответственности не несем.
– Я не могу отдать ей Валевского, – угрюмо возразил Хилькевич, – прежде всего потому, что наш Антонин облажался. Поляк понял, что его ищут, и наверняка давно удрал из города. Прикажете мне теперь его искать? И где, интересно? – По старой театральной привычке король дна выдержал паузу, прежде чем продолжить. – А если к тому же Розалия права и пан Лукашевский сказал нам неправду насчет того, как проходила их встреча…
Граф побледнел. Хотел немедленно протестовать, приводить доказательства своей лояльности, упирать на то, что он бы никогда не то что не посмел, но даже бы не подумал… И тут всех удивил старый ростовщик.
– Я думаю, – спокойно промолвил Груздь, – что пан Лукашевский все же сказал нам правду. Просто кое-кто из присутствующих кое-чего недоговаривает.
Первой опомнилась Розалия.
– Макар Иваныч! Вы это о чем? Что за странные намеки?
– Да так… – уклончиво обронил Груздь, глядя на нее своими старческими водянистыми глазами. – Видите ли, я уверен, что встреча пана Валевского и господина графа завершилась для первого вполне благополучно, потому что видел Леона своими глазами не далее чем несколько часов назад. Сначала я решил, что обознался, потому что это выглядело очень странно, но теперь…
И он умолк, улыбаясь и потирая руки. Груздь никогда не играл в театре, но паузы он умел держать не хуже Хилькевича.
– Что было странно? – нервно спросил Пятируков. – Не молчите, Макар Иваныч! Так что вам показалось странным?
– Да то, – отозвался старый лис, – что господин Валевский выходил из аптеки многоуважаемого Вань Ли, здесь присутствующего. Странно также то, что наш китайский друг ни разу не упомянул об их знакомстве. Не так ли, Вань Ли?
Глава 12
Разные виды либерализма. – Причина, по которой пан Валевский потерял аппетит. – Никогда не говори никогда.
– И опять он… – вздохнул император.
Стоя на постаменте, бронзовый Николай обозревал окрестности. Он сразу же заметил того самого прохвоста, который стащил вчера кошелек у старика. На сей раз быстро шагавший прохвост налетел на хорошо одетого господина, после чего извинился и проследовал мимо. Господин же двинулся своей дорогой, а когда дошел до памятника, бросил на него весьма пренебрежительный взгляд.
– Так тебе и надо, – злорадно помыслил бронзовый властелин, который отлично видел, что Валевский только что повторил свой вчерашний фокус.
Хорошо одетый господин был редактором «Городского вестника» и являлся, между прочим, непосредственным начальником репортера Стремглавова. В городе О. редактор был известен своими либеральными взглядами, а также неустанной борьбой за улучшение существующих улиц. Впрочем, улицы от его борьбы не улучшались, то есть оставались такими же запущенными, грязными и плохо освещенными. Что же касается редакторских взглядов, то известно, что есть два вида либералов: те, которые хотят, чтобы все ходили пешком, и те, которые хотят, чтобы каждый ездил в своей карете. Редактор же был типичным либералом а-ля рюсс,[130] то есть был не против, чтобы все ходили пешком, а карета оставалась у него одного. В раздумьях о неожиданном улучшении городских улиц, которое почему-то совпало с приездом баронессы Корф, он дошел до здания редакции и только там обнаружил, что у него пропал кошелек.
А Валевский, незаконным образом разбогатевший на несколько десятков рублей, продолжил свой путь и на улице Босолей (то бишь «прекрасного солнца» или «жаркого солнца») столкнулся с…
Впрочем, сначала, наверное, нам стоит объясниться по поводу названий городских улиц.
Когда французский герцог только приехал в эти края, он увидел здесь несколько кособоких домишек, грязь вместо тротуаров, животных, которые бродили, где попало, и горстку жителей, которые оставались тут просто потому, что им некуда было деться.
Будь французский герцог русским, допустим, графом, он бы пожал плечами и сказал что-нибудь вроде:
– Ну что ж, если они так живут, значит, им так нравится.
Или:
– Видно, бог судил им всю жизнь быть бедными. Нехорошо вмешиваться в божественный промысел!
После чего отгрохал бы себе в самом красивом месте дворец о четырех этажах в смешанном барочно-египетском стиле с колоннами из хрусталя, обнес бы прилегающую территорию высокой-превысокой оградой и зажил бы себе припеваючи, не думая о том, что творится за пределами огороженной территории.
Однако, как уже сказано, герцог был французом. К тому же у себя на родине он уже имел возможность наблюдать, что может произойти с жителями любого дворца, если за них решат взяться те, что существуют за оградой.
И герцог принялся за дело.
По его указке мостили улицы, расширяли гавань, сажали деревья, привлекали новых жителей, и через какие-то десять лет это место было уже не узнать.
Что же касается улиц, то названия им герцог давал лично. Он не любил названий вроде «улица Кузнецов», где сегодня живут кузнецы, а через полвека будут одни ювелиры и золотых дел мастера. Нет, он давал названия странные, порой даже экзотические, но такие, которые звучали красиво и ласкали слух.
– Ваша светлость, – возражал ему некий русский граф, состоявший при нем в заместителях, – ну зачем называть какую-то грязную канаву улицей Босолей? Пардон за мой французский… Какой смысл?
– Смысл в том, – отвечал герцог, – чтобы люди поверили, что эта улица солнечная, чтобы они захотели увидеть ее именно такой и чтобы они постарались ее такой сделать. Потому что, месье, как вы называете вещи, так они себя и ведут.
И грязная канава, как и предсказывал мудрый герцог, превратилась-таки в солнечную улицу, широкую, нарядную и красивую. Именно на ней наш знакомый Леон Валевский и столкнулся с Наденькой Русалкиной.
– Здравствуйте, Леонард! – сказала Наденька и бог весть отчего порозовела.
Леонард не порозовел, но немножко смутился, потому что прежде все его мысли были только о том, как бы поскорее покинуть благословенный город О., а в присутствии Наденьки мысли потекли куда-то не туда, совсем в другом направлении. Молодой человек невпопад ответил на ее вопрос, куда он идет и что собирается делать, и смутился еще больше.
– Идемте к нам обедать, – пригласила его Наденька. – Брат будет рад поговорить с вами о стихах. И я тоже, – добавила она.
При слове «стихи» Валевский малость закручинился, но, подумав, что Наденька тоже будет за столом, решил, что ради этого можно и потерпеть.
– А после обеда, – продолжала Наденька, – я пойду по знакомым. Стану вербовать новых членов.
– Куда? – изумился Валевский, зачарованно глядя на рыжеватые колечки волос возле ее маленького уха.
Наденька удивленно вздернула брови:
– Конечно, в наше общество, Леонард! Ведь теперь нам не хватает всего пяти человек, чтобы власти дали нам помещение.
Тут ожил персональный ангел-хранитель Валевского и стал изо всех сил тянуть его за собой – к библиотекарю, за чемоданом и прочь из города. Леон открыл рот, чтобы извиниться, сослаться на несуществующие дела и уйти. Уже начало фразы готово было сорваться с его языка, но он поглядел на оживленное лицо Наденьки, в ее блестящие глаза, подумал о том, как же ей, должно быть, невыносимо жить с ее братцем, – и сдался.
Через полчаса Валевский сидел уже в гостиной Русалкиных и смотрел, как Наденька, озабоченно хмуря брови, составляет список знакомых, которых можно попытаться заманить в общество любителей российской словесности. От взора Леона (который в силу своей специфической профессии обладал чрезвычайной наблюдательностью) и в прошлый раз не ускользнуло, что мебель в гостиной вся старая, потрепанная и, в общем-то, должна производить довольно безрадостное впечатление. Но на самом деле тут было необыкновенно уютно. Всюду вышитые салфеточки, нигде ни пылинки, старые часы важно тикают – тон-тон-тон, в шкафах книги, книги, множество книг, и только в одном шкафу – куклы, старые игрушки, шкатулочка с бисером, немного фарфора и несколько хрустальных бокалов. Вошла кошка, старая, беспородная, но тоже уютная, поглядела на Валевского загадочным кошачьим взором и бесшумно скользнула на кресло. Потом появился Евгений Жмыхов, басом осведомился, когда будет обед, и, получив ответ, отошел к окну. В дверь метнулся Русалкин, блеснул стеклами очков, схватил руку Леона и пожал, объявил, что скоро будет, и куда-то убежал.
– Слышали, Наденька, что в городе творится? – спросил студент.
Его кузина удивленно подняла голову от списка.
– Нет, а что?
– Ах, Наденька, – улыбнулся Евгений, – а еще говорят, что женщины – первые сплетницы! Груздя арестовали.
– Неужели? – изумилась Наденька. – Макара Иваныча? За что же?
– Говорят, он краденое сбывал, – пожал плечами студент. – Впрочем, не говорят, а так оно и есть. У меня на курсе у одного студента родителей обворовали, так он не стал ждать действий полиции, а сразу же пошел к Груздю и предложил ему деньги, чтобы вещи вернуть. Вещи не то чтобы ценные, но для семьи дорогие. Ну, Груздь поломался да и назвал адресок лавочки, где они должны были появиться. Тоже его, кстати, только там другой человек сидит, якобы лавочка ему принадлежит, а сам Груздь ни при чем. В общем, мой товарищ у него все и выкупил. То есть почти все. Вот такая история.
– И что же, его все-таки поймали? – спросил Валевский с любопытством.
– Да никто его не ловил, – усмехнулся Евгений. – Говорят, баронесса Корф велела учинить обыск и его арестовать, а де Ланжере очень за свое место боится и не смеет ей перечить.
При одном упоминании имени баронессы Валевский почувствовал, как у него пропал аппетит. «Она что, полагает, если бы я и впрямь украл парюру, то отнес бы ее к старому мошеннику? – подумал Леон. – Это же опасный мерзавец, прикончит ни за грош… И в самом деле ведь убивал несколько раз, если правда то, что Карен мне о нем рассказывал».
– О чем вы тут говорите? – поинтересовался Русалкин, входя в комнату.
– О баронессе Корф, – отозвалась его сестра. – Ты ее видел? Скажи, она очень красивая?
– Обыкновенная, я бы сказал, – пожал плечами Аполлон. – Мне, Наденька, такие лица не нравятся.
– А Женя говорил, она красивая, – вздохнула Наденька.
– Да, – помедлив, согласился студент, – но что-то в ней есть… натянутое, что ли… не знаю даже, как точнее передать.
– А почему баронесса с мужем разошлась? – с любопытством спросила Наденька.
Аполлон побагровел.
– Ну, Надюша, и вопросы же ты задаешь… Давай лучше пойдем обедать, в самом деле!
И хотя Валевский готов был поверить, что у него пропал аппетит, на обед его все же хватило. Еда оказалась простая, без изысков, но вполне сытная, а Русалкин, когда не рассуждал о словесности, оказался очень приятным собеседником. Он рассказывал о местах, в которых хотел бы побывать, – о Париже, Венеции, Риме, которые успел изучить по путеводителям и картам. Но денег от родителей ему и сестре досталось немного, служить в казенном учреждении у Аполлона не получалось, и поэтому мечты о путешествиях пришлось отложить до лучших времен. Валевский слушал его и вспоминал, какие дела он проворачивал в Риме, Венеции и особенно в Париже и какие приключения у него там были. Для восторженного Русалкина это были края его мечты, для Валевского же – вполне конкретные места, где обретались его кореша и их марухи и где можно было при надлежащей сноровке сорвать немалый куш. Леону было и жаль Русалкина, и самую малость досадно, что названные города не вызывали в его собственной душе тех чувств, которые испытывал Аполлон, чудаковатый, но, несомненно, хороший человек.
После обеда Валевский вызвался сопровождать Наденьку в нелегких поисках новых членов общества. И, идя с девушкой рядом по Сиреневому бульвару, Леон спросил себя, чем же его привлекает эта семья, что так не хочется покидать Русалкиных. Конечно, ему нравилась Наденька, хотя он легко предвидел всю ее дальнейшую судьбу – без приданого девушку ждет либо одиночество, либо какой-нибудь неудачный роман, разочарование и тихое старение. И единственной ее радостью всю жизнь будут стихи Нередина, которые одни ее не предадут. Но Наденька еще не знает своей судьбы, идет рядом с ним, Леоном, щурится из-под лиловой шляпки на бьющее в глаза солнце и улыбается прохожим. Или взять хотя бы Аполлона – счастливый неудачник, вроде бы умный, вроде бы образованный, который вызывает у окружающих одни насмешки, но ему они безразличны, молодой человек их даже не замечает. И в свой смертный час он все равно будет верить, что прожил жизнь не зря, хотя так и не поедет – Леон был абсолютно в том уверен – ни в Рим, ни в Париж, ни в Венецию… Или, допустим, студент с копной волос на голове, который за обедом рассуждал о фотографии, которой увлекается, и о том, что когда-нибудь, лет через сто, фотографию будет сделать проще, куда проще, чем сейчас, и снимки даже будут цветными, потому что наука не стоит на месте, развивается… Симпатичная семья, славные люди, ну, не без странностей, конечно, но странности какие-то понятные, приятные и милые. И еще уют в их доме…
«Вздор, – сказал себе Валевский, неожиданно разозлившись, – все это на меня так подействовало, потому что у меня нет семьи, потому что меня бросили, как собаку, едва я родился… Уют! Просто бедность и пустота, которую они пытаются заполнить всякой чушью, вроде своих книжек. Кошмарная, никчемная жизнь…»
Тут же Леон понял, что несправедлив, и разозлился окончательно. В конце концов, какое он имеет право судить об их жизни? Можно подумать, его собственное существование можно назвать образцовым…
– Сначала мы зайдем к крестной, – говорила между тем Наденька. – А потом… Ну, потом пойдем дальше.
И они отправились к крестной, старухе со строгим взглядом, которая даже не стала слушать насчет общества, а сразу же спросила у Наденьки:
– Когда ж ты замуж-то выйдешь? А то смотри, засидишься в девках, поздно будет что-то менять… Смотри!
После крестной были какие-то подруги. Одна из них как раз собралась замуж, а другая помогала ей выбирать фасон платья, и им, само собой, не было никакого дела до общества любителей российской словесности. Подруги поглядывали на Леона и хихикали. Потом Наденька с Валевским навестили нескольких друзей Русалкина, которых до того приглашали вступить в общество раз десять, не меньше. И на этот раз были получены отказы. На всякий случай Наденька заглянула к знакомой своей матери. Знакомая была замужем за каким-то чиновником, и звали ее Пульхерия Петровна.
На звонок явилась горничная. Она отогнала в глубь квартиры рыжую собачонку, которая прибежала из комнат и порывалась выскочить за дверь, и сказала, что Пульхерии Петровны дома нет и неизвестно, когда хозяйка будет.
– Впрочем, если вы хотите что-то ей передать…
На обратном пути Наденька и Валевский молчали.
– Я сегодня уезжаю, Надежда Николаевна, – нарушил молчание Валевский. – Если вы не против, я хотел бы вечером зайти проститься…
Наденька остановилась.
– Так, значит, и вы тоже… И нас опять будет четверо! Бедный Аполлон!
Валевский не знал, как ему реагировать, и решил на всякий случай рассмеяться, Но посмотрел на Наденьку и увидел, что девушка плачет. Тут ему сделалось совсем уж скверно.
В конце концов, он не был виноват, что в городе О. уважали только деньги и ни в грош не ставили словесность. И он, по совести, никак не мог осуждать жителей О., потому что сам был такой.
Тогда Леон пообещал, ненавидя себя за ложь, что уезжает ненадолго, что обязательно вернется, поклялся в верности Пушкину, а заодно и Нередину, стихов которого никогда не читал, польстил Наденьке, сказав, какой у нее замечательный брат, и какой замечательный кузен, и какая замечательная она сама.
– Да, вы вернетесь? – настойчиво спросила Наденька. – Правда вернетесь?
Он снова пообещал, что вернется, отлично зная, что не увидит этот город больше никогда. И «никогда» его было вовсе не то, которое имеют в виду романтические влюбленные, говоря «я никогда тебя не оставлю», а насквозь практическое «никогда», нарушение которого для его жизни было чревато опасностью. Только вот Наденьке о том совершенно не нужно было знать.
Валевский вернулся в домик Росомахина, под укоризненным взглядом поэта со стены быстро собрал чемодан, попрощался с гостеприимным библиотекарем, который, сидя у окна в очках, читал какую-то книжку, и ушел.
Проходя мимо лавочки, где продавались кружева, нитки и всякое шитье, Валевский вспомнил вышитые салфетки в гостиной Русалкиных и еще шкатулку с бисером и подумал, что хорошо бы купить Наденьке какой-нибудь подарок. Он зашел в лавку и спросил самый дорогой набор для шитья, английский, где имелись две дюжины разных иголок, множество катушек с нитками, булавки, ножнички и прочие мелочи, столь любезные женскому сердцу. Коробка была приличных размеров и стоила дорого, но Валевский даже не стал торговаться.
Он занес подарок к Русалкиным, но Наденьки дома не оказалось. Его встретил Евгений и сконфуженно сообщил, что кузина куда-то ушла.
Чувствуя разочарование, Валевский попросил передать ей подарок, поморщился, когда студент на прощание по привычке крепко стиснул его руку, и вышел за порог.
Он собирался покинуть О. не морем и не по железной дороге, а попросить какого-нибудь человека, который не внушит подозрений полиции, – к примеру, приезжего крестьянина – доставить его в соседний город, до которого было восемнадцать верст. А там преспокойно сядет в поезд и поедет туда, куда ему заблагорассудится.
План был хорош, и Валевский почти не сомневался, что он удастся. Однако стоило поляку свернуть в плохо освещенный переулок, как все планы разом рухнули.
Рухнули потому, что неизвестно откуда взявшийся Пятируков прихватил Валевского за правую руку, мешая вытащить оружие, а граф Лукашевский, оказавшийся слева, весьма неприятно ткнул ему в бок дулом пистолета.
Сразу же оценив ситуацию, Леон решил, что разумнее всего будет сдаться.
– Ладно, ладно, – буркнул он. – Я все понял. Ваша взяла.
– И хорошо, что понял, – объявил Агафон и отобрал у него чемодан. Граф тем временем обыскал карманы Валевского и отнял у него револьвер.
– Что в чемоданчике-то? – сладко осведомился старый вор. – Не украшения ли танцорки, случаем?
– Я уже говорил, – устало сказал Леон. – Украшений я не брал! Меня подставили!
– Вот и хорошо, вот и ладушки, – легко согласился Пятируков. – Кое-кто хочет с тобой поговорить. Шагай, и без фокусов! И помни: пистолет заряжен!
Глава 13
Счастье репортера. – О том, как Валевский проникся горячей симпатией к баронессе Корф. – Мертвые птицы.
Репортер Стремглавов блаженствовал.
Мало того, что в порту сгорел большой склад и он, Стремглавов, получил от редактора задание написать на эту тему большую статью по три копейки строчка, так еще власти стали трясти ссудные кассы небезызвестного Макара Иваныча Груздя, полицейские наряды начали обшаривать ночлежки и притоны, а в веселых домах веселье временно прекратилось. Темы были такие, на которые можно долго распространяться в газете, красочно, со смаком, и Стремглавов уже предвидел, что получит в нынешнем месяце гораздо больше, чем в предыдущих, и его репортерская душа пела.
Кроме того, он получил приглашение на торжественный ужин к вице-губернатору Красовскому, а на завтра был назначен бал у губернатора в честь приезда высокой гостьи, и поговаривали, что будет даже фейерверк.
«Интересно, – размышлял репортер, – подадут ли у Красовского устриц? А трюфеля?»
В его представлении именно они ассоциировались с богатством, с тем миром, в который он жаждал попасть, но не мог.
«Если бы я работал не в какой-то провинциальной газетке, а в столице, у господина Верещагина…»[131]
Но господин Верещагин был так же недосягаем, как, допустим, луна или звезды.
«Впрочем, если у меня появятся деньги, что мешает мне перебраться в столицу, снять комнату и попытаться устроиться к нему на работу? В конце концов, фортуна любит смелых. Как там по-латыни… Ах, черт, забыл!»
Он наконец завязал галстук так, как было нужно, повертелся перед зеркалом и, поскольку до ужина оставалось еще некоторое время, решил заглянуть в гостиницу и навестить горничную, которая к тому же могла оказаться полезной в плане информации.
Дашенька уже ходила по комнате. Она слегка прихрамывала и потому опиралась на руку здоровенного дылды с золотыми кудрями и с невероятно глупой (по мнению Стремглавова) рожей. В глубине комнаты маячил лакей Митя.
Если бы Вася был наблюдателен, как, допустим, ростовщик Груздь, он бы не преминул заметить, что хромала Дашенька вовсе не на ту ногу, которую будто бы ушибла. Но Вася не обращал внимания на такие мелочи. К тому же он был ослеплен любовью и отчасти ревностью – ему не нравилось присутствие лакея, с которым Дашенька так мило общалась, а появление наряженного репортера понравилось еще меньше.
– Ой, – воскликнула горничная, завидев Стремглавова, – каким вы нынче франтом!
И заиграла ресницами. А Васе захотелось умереть, причем немедленно.
– Я иду на ужин в честь вашей хозяйки, – важно сказал репортер.
– Ох уж мне эти ужины… – вздохнула Дашенька. – Душно, тесно, потом хозяйка приходит недовольная и говорит, что на завтра ей нужно новое платье, потому что трен сегодняшнего оттоптали провинциальные медведи. И мне приходится в два часа ночи готовить ей новый наряд.
Девушка надула губы и обхватила крепкую руку репортера двумя руками, отчего Херувиму тотчас же расхотелось умирать.
– Вы, Дашенька, – объявил Стремглавов, – ничего не понимаете. На ужине будут первые лица города, господин Красовский произнесет торжественную речь, и вообще… Вашей хозяйке не на что жаловаться!
– Ага, – вздохнул Митя, – господа гуляют, а слуги потом за них отдуваются.
В дверь постучали, и Дашенька сделала Мите знак открыть, а сама села в кресло. Вошел Половников, поздоровался с горничной и серьезно спросил, не собирается ли она куда, потому что ему по должности положено ее сопровождать.
Дашенька заверила следователя, что не намеревается никуда выходить, потому что и по комнате-то передвигается с трудом, и тот удалился. А на прощание даже поклонился горничной, словно та была госпожой.
– Какой странный человек, – заметила Дашенька, когда Половников скрылся за дверью. – Иногда мне кажется, что он ко мне неравнодушен.
Вася попытался представить себе Дашеньку и Половникова вместе и ощутил кромешный ужас. Судя по лицу Мити, тот тоже испытывал некоторое затруднение.
– Ах, Дашенька, Дашенька! – рассмеялся репортер. – Вертихвостка вы, право!
– Вам уже пора идти, по-моему, – вмешался Вася. – Смотрите не потеряйте приглашение, а то вас не пустят.
– Еще бы я его потерял! – возмутился Стремглавов и в доказательство предъявил пригласительный билет, надежно упрятанный в карман сюртука.
Тут в номер заглянул гостиничный лакей и сердито спросил Митю, какого черта он тут торчит, потому что работы невпроворот. С явной неохотой Митя удалился. Репортер тоже ушел, предвкушая трюфельно-устричный вечер, и Вася с Дашенькой остались одни.
Собственно говоря, именно этого Васе и хотелось больше всего, но, осознав, что его мечта наконец исполнилась, он вдруг ощутил ужасную робость. Дашенька с любопытством поглядывала на красавца-вора из-под длинных ресниц, и тот видел, как блестят ее глаза. Потупившись, Вася спросил первое, что ему пришло в голову, – как себя чувствует ушибленная нога.
– Вы уже три раза меня об этом спрашивали, Иван-царевич, – весело ответила симулянтка. – Ладно, повторяю: могло быть куда хуже, если бы вы меня не донесли.
Вася покраснел, побледнел, покраснел вторично и воскликнул, что он готов носить Дашеньку на руках хоть всю жизнь.
– Вы, мужчины, всегда так говорите! – объявила Дашенька и сделала разочарованное лицо. – Ладно, Иван-царевич, что-то я устала, а госпожа еще может меня вызвать после бала. Ступайте-ка к себе в дворницкую.
Вася попробовал было воспротивиться, но Дашенька привела тысячу доводов против того, чтобы он оставался, и Херувиму пришлось смириться. Выйдя из гостиницы, он достал из кармана конверт с приглашением, который успел свистнуть у ненавистного соперника, и порвал приглашение в мелкие клочья.
Что же до Дашеньки, то девушка закрыла дверь на ключ и, убедившись, что за ней никто не следит, скрылась в спальне.
Примерно через четверть часа из номера горничной вышла немолодая женщина в темном платке, которая в талии была раза в два толще Дашеньки. Женщина покинула гостиницу через черный ход, и ее шаги затерялись среди городских улиц.
Известно, впрочем, что ближе ко времени торжественного ужина все та же женщина в темном платке оказалась на площади, возле памятника герцогу. Женщина поглядела на новую мостовую, на освещенные окна особняка Красовского, и губы ее тронула загадочная улыбка.
Сам же вице-губернатор Красовский как раз в эти мгновения беседовал в особняке с губернатором, который явился лично проинспектировать качество подаваемых на стол вин. Впрочем, на самом деле цель у него была несколько иная.
– Значит, устроили облаву в ночлежках? Хе-хе! – проскрипел губернатор. Его правый глаз сверкал сквозь монокль, как драгоценный камень.
– И взяли множество всякого народа, – заметил Красовский.
– А веселые дома? – хихикнул губернатор.
– Некоторые были закрыты, но кое-куда посетители явились по привычке, – объяснил Красовский. – И, узнав, что заведения не работают, стали… м-м… протестовать.
– Говорят, полиция арестовала даже двух статских советников, – уронил губернатор. Глаз его сверкал теперь, как бесценная звезда.
– Трех, – поправил Красовский. – И одного тайного.
– Ах, что творится! – скорбным тоном промолвил губернатор, качая седой головой. – Что творится!
Странным образом, однако, на его лице было написано неподдельное удовольствие и даже, можно сказать, злорадство.
– Кажется, статский советник Лакомый тоже попался? – невинно осведомился он далее.
Красовский порозовел и пояснил:
– Порывался разбить стекло в знак протеста.
– Даже так? – удивился губернатор. – Должен признаться, я никогда не понимал удовольствия, которое получают от посещения заведений такого рода. Да и вообще вокруг любви слишком много… много всего наверчено.
Поскольку сам губернатор находился в преклонном возрасте, вполне естественно, что он не находил ничего особенного в том, что лично ему было уже не нужно. Впрочем, даже куда более умный человек, а именно лорд Честерфильд, на старости лет объявил, что секс – совершенно бесполезное занятие, потому как быстротечно, поза смехотворная и вдобавок оно частенько влетает в копеечку. Странно, конечно, что лорд почему-то не додумался до того же лет в двадцать. Более того, если верить литературоведам, именно Честерфильд в свое время послужил прототипом для создания образа сердцееда Ловеласа в знаменитой «Клариссе».
– А что там насчет варшавского молодчика? Удалось напасть на его след? – поинтересовался губернатор.
– Похоже, что так, – ответил Красовский. – Человека, похожего на него, видели в одной из гостиниц, но потом постоялец неожиданно исчез. Полагают, что он мог уже скрыться из города.
Однако, как уже известно благосклонному читателю, Валевский не успел никуда скрыться. Его приволокли в дом к Хилькевичу, который ждал его в гостиной. Кроме хозяина, в комнате находились также Розалия, которая шепотом о чем-то переговаривалась с Виссарионом, и Вань Ли, под глазом коего красовался здоровенный синяк. Лжекитаец съежился на диване, обхватив себя руками, и мрачно смотрел мимо всех присутствующих.
– Вот он, – объявил граф торжествующе, входя в гостиную.
– Леонард Валевский? – спросил Хилькевич у невысокого блондина, которого Пятируков только что втащил в комнату за шиворот.
– Ну, я, – буркнул поляк.
– Очень приятно. А я – Виссарион Сергеевич Хилькевич, – с любезной улыбкой промолвил хозяин. – Так, значит, мне скоро конец?
– Что, простите? – озадаченно переспросил поляк.
Хилькевич небрежно кивнул Пятирукову, и от удара последнего Валевский согнулся пополам и осел на пол. Его лицо покраснело, он задыхался и кашлял.
– Парюра у него? – спросил Хилькевич у графа.
Тот отрицательно покачал головой.
– Розалия, осмотри его вещички! – распорядился хозяин.
Королева борделей завладела коричневым чемоданом и принялась деловито выбрасывать из него содержимое. Валевский тяжело дышал, но с пола подниматься не торопился. Он отлично знал, куда попал, и понимал, что так просто его теперь не отпустят.
И вообще, несмотря на свою неприязнь к баронессе Корф, Леон неожиданно ощутил, что предпочел бы сейчас находиться в ее обществе. Не говоря уже о том, что баронесса куда более достойный противник, она бы никогда не позволила себе обойтись с ним грубо или уничижительно.
– Вы зря стараетесь, – бросил Валевский, не сдержавшись. – Я не крал этих украшений!
Хилькевич приподнял одну бровь и повернулся к Вань Ли.
– Он плинес мне кольцо, – мрачно уронил тот. Теперь стало заметно, что два зуба у Вань Ли выбиты, так что букву «р» он теперь не выговаривал не потому, что стремился походить на китайца, а потому, что просто не мог.
– Где кольцо? – спросил Хилькевич у Леона.
– У меня в кармане. Я…
Граф Лукашевский за воротник вздернул Валевского на ноги, похлопал по его карманам, нашел кольцо и протянул хозяину дома.
– Кольцо женское, – заметил Хилькевич, тщательно осмотрев его. – Кстати, в списке пропавших украшений фигурирует кольцо с большим сапфиром. – Король дна хищно оскалился.
– Это кольцо из Вены, – огрызнулся Валевский. – Я сам его носил одно время, и оно вовсе не женское.
– Ну да, пальцы-то у тебя тонкие, – усмехнулся Хилькевич. – Берегись, парень! Ты мог обмануть Вань Ли, нацепив на свою руку колечко, но не меня.
Розалия, которая закончила осмотр вещей, теперь ощупывала швы чемодана, пытаясь найти тайник. Валевский отвернулся, брезгливо выпятив губу.
– Где парюра? – грозно вопросил Хилькевич.
– Говори, когда тебя спрашивают, – угрожающе просипел Пятируков, видя, что Валевский не торопится отвечать.
– У меня ее нет, – спокойно промолвил тот.
– И ты ее не крал, по твоим словам, – усмехнулся Хилькевич. – Почему же тогда баронесса Корф приехала в наш город искать тебя и украшения, а?
Валевский пожал плечами:
– Потому что у полиции неверные сведения. Я не имею отношения к этому делу.
Хилькевич покосился на Розалию. Та покачала головой, показывая, что в чемодане никаких тайников нет.
– Где ты спрятал украшения? – мягко, но настойчиво спросил Хилькевич.
– Как я мог спрятать то, чего у меня нет? – вспылил поляк.
В комнате повисло напряженное молчание.
– Мне известно, что ты отличный вор, – сказал наконец хозяин, не переставая зорко наблюдать за Валевским. – Интересно, останешься ли ты таким, если я велю переломать тебе пальцы?
И Вань Ли невольно затрепетал, хотя угроза относилась вовсе не к нему. Однако Валевский не зря выше всех ставил Наполеона – присутствия духа ему было не занимать.
– Можете сразу отрезать мне руки, да и голову заодно, – заявил поляк, глядя прямо в лицо Хилькевичу. – Только это все равно ничего не изменит, потому что если я не брал украшений, я их не брал. И точка!
– И как же ты можешь доказать? – осведомился хозяин дома.
Валевский пожал плечами.
– Не знаю. А как можно доказать, что я не делал чего-то? Вот вы, вы можете доказать, что сами их не крали, например?
Улыбка тронула сжатые губы хозяина.
– Виссарион Сергеевич, – вмешался граф, – можно я за него возьмусь?
– Нельзя, – рыкнул хозяин.
– На словах-то он храбрый, как все поляки, – проворчал Пятируков, – а если его как следует прижать…
– Не стоит, – отозвался Хилькевич. – Тем более что парень нам еще пригодится.
Валевский насторожился. Это было что-то новое, и оно ему крайне не понравилось.
– Ты мне кое-что должен, – пояснил Хилькевич, заметив его вопросительный взгляд.
– Я? – удивился вор. – Я даже не работал в вашем городе!
С его точки зрения, два украденных кошелька (один из которых он к тому же вернул) никак нельзя было считать работой.
– Может быть, – равнодушно уронил король дна. – Но дело не в том. Из-за тебя у меня большие потери: мой склад в порту подожгли, ссудные кассы начали трясти, в ночлежках обыски, Груздь арестован, а заведения Розалии пришлось временно прикрыть.
– Вот именно! – вскинулась владычица борделей. – Надо было сразу же его отдать приезжей дамочке, и дело с концом! Тогда мы бы не потеряли столько денег!
Хилькевич задумчиво почесал бровь.
– Не думаю, что это возместило бы расходы, которые я понес, – объявил он с некоторым сожалением в голосе. – Нет, у меня есть мысль получше. Говорят, ты спец по сейфам?
Обычно на такие вопросы Валевский отвечал: «Да, и самый лучший», что, в сущности, было правдой. Однако сейчас, уловив, куда дует ветер, лишь нехотя пробормотал, что да, он работает с сейфами, но…
– Никаких «но», – оборвал его Хилькевич. – Стало быть, ты поможешь мне избавить одного человека от денег, которые ему все равно не принесут никакой пользы, а твой долг мне вполне покроют. Кроме того, – добавил король дна, – когда дело будет окончено, можешь отправляться на все четыре стороны. Держать тебя я не буду.
Валевский посмотрел на озадаченное лицо Розалии, покосился на Пятирукова, на Лукашевского, на оторопевшего Вань Ли… Подручные Хилькевича явно были смущены таким неожиданным оборотом дела.
– То есть я сделаю для вас работу и вы меня отпустите? – уточнил Валевский.
– Совершенно верно, – кивнул Хилькевич.
И тут до слуха всех присутствующих донесся громкий стук в дверь.
Вань Ли пожелтел и стал как никогда похож на истинного китайца, Розалия открыла рот, Лукашевский потянулся к пистолету. Пятируков взглядом спросил у своего друга, что им делать.
– Открой дверь, – мрачно скомандовал Хилькевич.
– А если явилась полиция? – пролепетала Розалия. – С обыском? Что, если они пришли нас арестовать? Виссарион!
«Господи, какая жалкая шантрапа, – с отвращением подумал Валевский. – Корчат из себя повелителей жизни, угрожают средневековыми пытками, а обычный стук в дверь способен напугать их до судорог». И он мечтательно помыслил, как было бы хорошо, если бы в дом ворвалась Амалия Корф со своими людьми и арестовала всю шайку.
Меж тем повелитель жизни Пятируков сошел по ступеням и подошел к двери.
– Кто там? – спросил он, стараясь говорить уверенно, но вышло хрипло и неубедительно.
– Да я, я! – донесся с той стороны раздраженный голос Жоржа. – Стучу, стучу, а никто не идет… Куда вы все пропали? Открывай, в самом деле!
Успокоившись, Пятируков отворил дверь и впустил сутенера в дом.
– Какого черта вы держали меня на пороге? – спросил Жорж. Судя по полному отсутствию рифм, сутенер был не на шутку рассержен.
– Да мы только сейчас тебя услышали, – сконфуженно объяснил вор. – Коршун куда-то отлучился, наверное, а двери открывать – его обязанность.
Жорж подошел к зеркалу, убедился, что его прическа не растрепалась, поправил галстук и только затем двинулся наверх.
– Взяли поляка, однако? – спросил он у Пятирукова.
– Ага, – подтвердил старый вор. – А ты где был?
– Ходил узнавать про завтрашний бал, меня Виссарион послал, – пожал плечами Жорж. – Поймал Стремглавова, знакомого репортера, он мне все и выложил. По его словам, затевается нечто грандиозное и одиозное. Цветы и птиц везут из-за всех границ. Будет благотворительная лотерея, представление и еще какие-то развлечения. Весь город там соберется, а кто не придет, наверное, от зависти умрет. Будут генералы и советники, молодые дамы и сплетники, полицмейстер и брандмейстер, аристократия и прочая шатия-братия, словом, множество лиц и рож. Правда, не знаю все ж, зачем это нужно Виссариону…
«Ничего, скоро узнаешь», – подумал Пятируков. И, как выяснилось, оказался прав.
Когда они вошли в комнату, Хилькевич как раз заканчивал объяснять что-то поляку.
– И набит кредитными билетами, – донеслись до Жоржа последние слова.
После чего холодные глаза обратились на сутенера.
– Это ты стучал? – неприязненно спросил Хилькевич.
– Я, – ответил Жорж. – Бал назначен на завтрашний вечер. Цветы…
– Всякая ерунда меня не интересует, – оборвал его хозяин дома. – Де Ланжере тоже там будет?
– Со всей своей семьей, – с некоторым удивлением отозвался Жорж. – И со второй семьей… которая ничуть не хуже первой, робко замечу в скобках.
– Ну, вот и благоприятный момент, – улыбнулся Хилькевич.
Валевский нахмурился.
– То есть вы хотите, чтобы я ограбил полицмейстера? – спросил он.
– Да, – спокойно ответил Хилькевич. – Сукин сын получил от меня в свое время… чересчур много, скажем так. А поскольку он перестал защищать мои интересы, я хочу вернуть деньги. Вместе со всем, что находится в его несгораемом шкафу.
Валевский посмотрел на его непроницаемое лицо, перевел взгляд на Розалию, которая вытирала лоб платком, на Вань Ли… Китаец едва заметно качнул головой, и Валевский тотчас же опустил глаза.
«Он что-то затевает… – подумал поляк. – Карен прав, нельзя мне мешаться в такое дело. Ограбить полицмейстера – это не шутка… не шутка… Черт возьми, ну и попал же я в переплет!»
«Надо согласиться, усыпить их бдительность и попытаться бежать, – вкрадчиво шепнул голос осторожности. – В конце концов, и не из таких передряг выбирались. Кроме того, если ты ему и в самом деле нужен, значит, тебе ничего не грозит. Надо воспользоваться ситуацией».
– Мне понадобятся мои инструменты, – сказал Валевский, кивая на чемодан.
– Они у тебя будут, – зевнул Хилькевич. – На всякий случай должен тебя предупредить, Леон. Мне отлично известно, какая у тебя репутация, и я знаю, как ты любишь сбегать из тюрем и прочих мест, где тебя удерживают насильно. Так вот, учти, если ты совершишь глупость и скроешься, – хозяин дома подался вперед, – я найду некую особу из «Общества любителей российской словесности», разрежу ее на части и разошлю их по всем твоим адресам. Так сказать, сувенирчик на память о твоем пребывании здесь. Ты меня понял, умник? Только попытайся удрать, и барышне Русалкиной конец!
Валевский потемнел лицом. Стало быть, они узнали о том, у кого он скрывался. И при мысли, что из-за него с Наденькой может что-то случиться, вору стало совсем нехорошо.
– Не надо лишних угроз, – проговорил он, и в его речи от волнения впервые за все время прорезался четкий польский акцент. – Я все сделаю. Не надо ее сюда мешать.
– Вот и хорошо, вот и ладушки, – одобрил Пятируков.
А Розалия только насмешливо фыркнула.
– Коршун! – крикнул Хилькевич. – Куда же он запропастился… Коршун! – И хозяин нетерпеливо дернул звонок.
Но вместо Коршуна явился другой слуга, по прозвищу Семинарист, который в свое время прославился тем, что грабил монастыри. Семинарист признался, что не знает, где Коршун, забрал чемодан и увел Валевского за собой, пообещав, что будет стеречь пленника как зеницу ока.
– Ты тоже все понял, Вань Ли? – спросил Хилькевич, когда поляк в сопровождении своего стража скрылся за дверью.
Китаец несколько раз кивнул.
– Ну то-то же, – вздохнул хозяин. – Смотри, Карен. Еще раз пойдешь против меня – голову сниму!
Он попрощался с Розалией, отпустил остальных, взял лампу и направился к себе в спальню.
Войдя в комнату, Виссарион Сергеевич сразу же почувствовал: что-то тут было не так, совсем не так, как должно быть. Он взглянул на занавески, за которыми мог кто-то скрываться, покосился на ширмы и только после этого догадался посмотреть на кровать.
На ней был распростерт мертвый Коршун. Его глаза были широко раскрыты, из угла рта стекала струйка крови, похожая на запятую.
На груди убитого лежала дохлая ворона.
Глава 14
Проныра и влюбленный. – Временное перемирие заклятых врагов. – Как следователь Половников гулял со своей собакой и чем это закончилось.
– И еще там были трюфеля, – важно сказал Стремглавов.
Вася, который сидел, уперев локти в колени и поставив на кулаки подбородок, недоверчиво взглянул на него. Дашенька же только вздохнула.
– И устрицы, – добавил репортер, чтобы окончательно добить своего соперника.
Однако Вася лишь насмешливо фыркнул.
– Брось заливать, – грубовато промолвил он. – Небось тебя даже внутрь не пустили!
– Это почему же? – обиделся Стремглавов.
– Да так, – уклончиво ответил Вася. – Я бы только на твою физиономию поглядел и сразу же спустил бы тебя с лестницы. Даже колебаться бы не стал.
– Хорошо, что дворников в приличные места не пускают! – сразу же перешел в атаку репортер.
– Можно подумать, репортеров туда пускают! – не остался в долгу Вася.
– По-моему, вы мне просто завидуете, раб метлы, – презрительно промолвил Стремглавов. – К вашему сведению, меня вчера пустили на вечер даже без приглашения, потому что я в нашем городе уважаемый человек. Вот так-то!
Вася стих и подумал, что Стремглавов – проныра, каких свет не видел, раз даже отсутствие приглашения не помешало ему пройти на званый ужин. Репортер глядел на него и упивался своим триумфом.
На самом деле, конечно, вчера его отказались впустить, и он долго бегал вокруг особняка, умоляя знакомых взять его с собой. Потом к нему подошел сутенер Жорж и стал задавать дурацкие вопросы. Насилу отделавшись от него, Стремглавов вновь стал просить, чтобы его впустили, и наконец прошел внутрь вместе со своим редактором. К тому времени все лучшие места были уже заняты, и репортеру в итоге не досталось ни трюфелей, которыми он хвастал, ни устриц, которых вообще в меню не было.
– А ваша хозяйка, Дарья Егоровна, – заметил он горничной, – между прочим, пользовалась большим успехом, да-с! Маэстро Бертуччи с нее глаз не сводил, и они даже танцевали три раза.
– Бертуччи – это что, дирижер, который всегда на лошади? – спросил Вася.
– Амалия Константиновна, – важно сказала Дашенька, – везде пользуется большим успехом. У господина Бертуччи губа не дура.
– А я, кстати, знаю кое-кого, кто ничуть ей не уступает, – заявил Вася и поглядел на Дашеньку сияющим взором.
Стремглавов кашлянул.
– И кто же это – богемская королева? – поинтересовалась горничная, играя ресницами.
– По-моему, – заявил Стремглавов, даже не пытаясь скрыть улыбку, – наш дворник имел в виду вас.
– Ну, – протянула Дашенька, сложив губы трубочкой, – так и надо говорить, а не ронять намеки! Откуда мне знать, кого вы имеете в виду, а? Разве ж я умею мысли читать?
И девушка поглядела из-под ресниц на Васю так, что тот окончательно потерял бы голову – если бы, конечно, не потерял ее гораздо раньше.
В дверь заглянул лакей Митя, увидел воздыхателей горничной, на которую он сам положил глаз, и насупился.
– Что такое, Митя? – спросила Дашенька.
Митя объявил, что госпожа звала к себе Дашеньку и очень сердится, что ее до сих пор нет.
– Злая какая, – проворчал Вася. – Вы только поправились, а она…
– Вы, Вася, ничего не понимаете, – заявила Дашенька. – Вот вы сколько получаете у себя в дворниках?
Вася понятия не имел, сколько он получает, по той простой причине, что сфера его профессиональных интересов была чрезвычайно далека от подметания улиц.
– Рублей пятнадцать, я думаю, – ответил за него Стремглавов.
– А я получаю гораздо больше, чем может иметь горничная у другой хозяйки, – объявила Дашенька. – И вообще, ежели хотите знать, я при Амалии Константиновне с детства состою, и она никогда меня не обижала.
Затем, взяв обоих поклонников под локти, девушка вывела их из номера, после чего тщательно заперла дверь.
– Распоряжение Амалии Константиновны, – пояснила она с улыбкой. – Не знаю, зачем это надо, но раз надо, значит, надо. До свиданьица, господа!
И Дашенька двинулась по направлению к номеру хозяйки, но в коридоре ее нагнал Митя.
– Ей-богу, Дарья Егоровна, – сказал он, жарко дыша горничной в ухо, – это совсем никуда не годится. Вы всех подряд приманиваете, и меня, и дворника, и пустомелю из городской газеты. Нехорошо!
– А правда, что у вас жена и двое детей в Костроме? – спросила Дашенька, глядя на него полным любопытства взором.
Митя открыл рот и прикипел к месту.
– Вам что, кухарка сказала? – пробормотал он растерянно и с несчастным видом.
– Нет, – беззаботно ответила Дашенька. – Лакей Степа, ваш товарищ.
– А у него, – горя жаждой мести, заторопился сдать приятеля Митя, – у него шесть детей! И жену он колотит!
– Мне-то что? – пожала плечами Дашенька. – Я ему не жена и никогда ею не буду.
И, окончательно сразив Митю этим доводом, она удалилась.
Придя в себя, лакей отправился готовить комнаты для нового важного постояльца, который вскоре должен был приехать в их город. В душе Мити кипела обида на весь женский род, а в голове вертелась неотвязная мужская мысль о том, что женщины – чертовски загадочные существа, и понять их не под силу ни одному представителю противоположного пола.
Что же касается Дашеньки, то она со своей госпожой как раз обсуждала разные насущные дела, когда дверь распахнулась, и в комнату со злым, перекошенным лицом вошел Виссарион Хилькевич.
– А кошелек так и не нашли… – произнесла баронесса, осеклась и сурово поглядела на незваного гостя.
– Что вам угодно, милостивый государь? – возмутилась Дашенька.
– Должен признаться, сударыня, – отчеканил король дна, дергая щекой, – это уже чересчур!
– Вы разумеете закрытие веселых домов вашей замечательной подруги, мадам Малевич? – спокойно спросила Амалия. – Однако вы сами вынудили меня, многоуважаемый. Я приехала в город с совершенно определенной целью, и если кто-то намерен мне мешать, пусть будет готов к тому, что с ним может случиться все, что угодно. – И она победно откинулась на спинку кресла.
Хилькевич закусил губу.
Стало быть, Амалия и в самом деле ничего не знает ни о мертвых птицах, ни о трупе в его доме.
Стало быть, это не ее рук дело.
Стало быть, у него есть дерзкий враг, который намерен воспользоваться моментом и уничтожить его, Хилькевича.
Кто же он? И каким образом смог пробраться в его дом?
– Вы хотите получить Валевского? – спросил король дна напрямик.
Баронесса Корф пожала плечами:
– Вам прекрасно известно, чего именно я хочу, и я никогда этого не скрывала.
– Что ж, прекрасно. – Хилькевич глубоко вздохнул. – Мои люди его ищут. Думаю, через несколько дней поляк будет у вас в руках.
Весь вопрос в том, знает ли она, что Валевский уже у него в руках. Но по лицу баронессы Хилькевич понял, что не знает.
– Вы уверены? – осведомилась Амалия Константиновна.
– Да, я уверен, – отбросил последние сомнения Виссарион Сергеевич. – Но я хотел бы… Не поймите меня превратно, сударыня, я вовсе не собирался перечить вам. И я отнюдь не хочу быть вашим врагом. Поэтому мне было бы желательно, чтобы вы… – Он сделал паузу. – В конце концов, мы могли бы быть друзьями.
– Нет, – сказала баронесса твердо.
– Союзниками, если угодно, – тотчас же поправился Хилькевич. – Поверьте, я могу быть вам очень полезен, и не только в данном деле. Каюсь, я был не прав, когда ответил вам отказом. Но я готов исправиться. – И король дна заискивающе улыбнулся.
– Это все слова, – отмахнулась Амалия. – Мне нужен Леон Валевский, живой, целый и невредимый, а также украшения, которые он украл и которые принадлежат императорскому дому. С вами или без вас, но я найду и его, и их. Если с вами, тогда… – баронесса покосилась на Дашеньку, которая стояла, чинно сложив руки, и делала вид, что ничего не слышит, – тогда я оставлю вас в покое. Если без вас или если Леон Валевский попадет ко мне в виде хладного трупа, я буду очень, очень разочарована. А когда я разочарована, я способна на многое. И по сравнению с этим многим то, что уже с вами случилось, покажется вам сущим пустяком.
– Право, не стоит утруждаться, сударыня, – хрипло проговорил Хилькевич. Его глаза были прикованы к лицу собеседницы. – Я понятливый человек, поверьте. Что красивая женщина хочет, то она и получит. Единственное, я хотел бы уточнить… – Он замялся. – А если вдруг окажется, что Леон Валевский не брал украшений?
– С чего вы взяли? – холодно спросила баронесса.
Хилькевич через силу улыбнулся.
– До меня доходили слухи от моих людей, что он отрицал факт своей причастности к сему делу.
– Какие обороты… – бесстрастно уронила Амалия. – Ах да, вы же, кажется, служили писарем в полиции, как раз после того, как бросили торговать птицами. – Хилькевич вздрогнул. – Повторяю еще раз: мне нужен Валевский и украшения. Если Валевский будет у меня, я так или иначе узнаю, что он с ними сделал. Если украшения вдруг попадутся вам, вы должны немедленно отдать их мне. По-моему, милостивый государь, вы плохо представляете себе, с кем – в моем лице – вам приходится иметь дело. Ну что ж, теперь вы знаете. И для этой силы раздавить что вас, что любого другого непослушного подданного не будет стоить ничего. – Последнее слово она произнесла по слогам и с расстановкой.
Хилькевич стоял и улыбался, но в голове его проносились совершенно неописуемые – по крайней мере, приличным языком – мысли. Чем выше человек ставит себя, тем невыносимее для него терпеть поражение. А Хилькевич до приезда Амалии Корф ставил себя чрезвычайно высоко.
Тем не менее он уточнил:
– Я могу считать, что мы с вами договорились, госпожа баронесса? Я отдаю вам Валевского, а вы, так сказать, вернете все в первобытное состояние.
– То есть позволю вам снова открыть веселые дома, сниму обвинения с господина Груздя и перестану устраивать обыски в ночлежках? – Амалия покачала головой. – Боюсь, не могу обещать вам так много, сударь. Впрочем, пока вы ищете Валевского, предлагаю заключить перемирие. Я не буду предпринимать ничего против вас, но и вы… поторопитесь.
– Я несу большие убытки, сударыня, – промолвил Хилькевич после паузы. – Вы ведь и сами отлично знаете, что пан Валевский – воробей стреляный, его просто так не поймаешь. А моим людям, которые занимаются его поисками, тоже надо платить.
– Что ж, ваша жена оставила вам хорошее наследство, так что вы можете рассчитаться с вашими людьми из тех денег, – равнодушно парировала баронесса. – Но пока вы ничего не сделали для меня, я тоже не буду ничего делать для вас. Все, что я сейчас могу, – это отпустить господина Груздя. В конце концов, он слишком стар для того, чтобы находиться в арестантской.
Тут в голове Хилькевича замелькали мысли уж совсем неописуемые, и один бог ведает, каким образом король дна сумел удержаться от того, чтобы высказать их вслух. Но у него не было на руках ни единого козыря.
Король дна злобно покосился на Дашеньку, которая смотрела в окно с таким видом, словно ее более ничто не занимало, сквозь зубы попрощался с баронессой и вышел.
Спустя несколько минут он оказался уже у Розалии, в заведении напротив, где было непривычно тихо и безлюдно. Граф Лукашевский и Жорж от нечего делать перекидывались в карты, вяло пытаясь надуть друг друга. Злясь на их присутствие, Виссарион Сергеевич вкратце рассказал о своем разговоре с баронессой.
– Мне не нравится, что приезжая дама все время поминает твою жену, – заявила Розалия. – На что она намекает?
– Вероятно, на то, что может отправить меня на бессрочную каторгу, если я пойду против нее, – со злым смешком ответствовал Хилькевич.
– Вздор, мой сеньор, – бросил Жорж. – То дело слишком давнее, и как пить дать никто ничего не сможет доказать.
– Ты опять проиграл, поэт, – поддразнил его граф.
– Век живи, не забывай: везет в любви, а в карты ай-ай-ай, – ухмыльнулся сутенер.
Розалия нахмурилась.
– Виссарион! А что с этими… птицами? Получается, она тут ни при чем?
– Именно так, – угрюмо ответил Хилькевич, – ей даже про них неизвестно.
– Тогда кто же мог… – начал граф, случайно бросил взгляд на карты – и умолк.
– В чем дело, Антонин? – спросил Хилькевич, видя, что Лукашевский хмурится и что-то обдумывает.
– Ни в чем, собственно, – после небольшого колебания ответил граф. – Я просто вспомнил кое-что: завтра в город прибывает некто Николай Рубинштейн. Не может ли он быть как-то связан с тем, что у нас творится?
– Тот самый Рубинштейн? – вырвалось у Розалии. – Первый среди шулеров?
– Надо же, какая птица к нам попасть стремится! – засмеялся Жорж.
– Да, мне говорили о его приезде, – хмуро проговорил король дна. – Но какое отношение он может иметь ко всему этому?
– Не знаю, – задумчиво уронил граф, – не знаю. Но, насколько я помню Рубинштейна, от него можно ждать чего угодно.
– Глупости, – сказала Розалия решительно, – просто глупости! Я знала его мать, его приемного отца, того самого Рубинштейна, и хорошо помню его самого. Чтобы он стал устраивать такое… – Мадам поежилась. – И потом, зачем ему наш город? Он живет то в столице, то в Монте-Карло, то в Бадене, ни в чем себя не стесняет… Я не хочу обидеть никого из присутствующих, но мы для него – глухая провинция, только и всего.
– И тем не менее, – заявил Лукашевский, – странно, что все началось именно перед его приездом.
– Все началось, – поправил его Жорж, – с приездом дамы, прекрасной и упрямой. При чем тут Рубинштейн?
– Рифму, Жорж! – потребовала Розалия. – Рифму!
– Я сейчас умру от бессилия, не рифмуется такая фамилия, – весь лучась самодовольством, объявил сутенер.
«Он что, нарочно? – с отвращением подумал Хилькевич. – Положительно, меня окружают одни идиоты!»
– Я считаю, нелишне будет присмотреть за Рубинштейном, – проговорил король дна вслух. – Для меня ясно, что некто, кого мы не знаем, решил воспользоваться приездом столичной дамы, чтобы взяться за меня. И если вы думаете, что жалкий пьяница Сенька-шарманщик был наугад выбран в качестве посыльного, то совершенно заблуждаетесь. Наверняка забулдыга везде уже раструбил о том, какой презент мне передали.
– Вряд ли, – зевнул граф. – Сенька попал под колеса. Сегодня в газете как раз написали.
– Насмерть? – насторожилась Розалия.
– Трудно выжить после того, как по тебе прокатится карета, – небрежно уронил граф.
– Ты постарался? – с любопытством спросил Жорж, потирая усы.
Граф сделал непонимающее лицо:
– Я? С какой стати?
– Так еще лучше, – заметила Розалия. – Сам упал под колеса, и дело с концом. Что с него взять – пьяница!
«Если только он действительно сам по себе упал под колеса, а не тот, кто прислал мертвую птицу, избавился от нежелательного свидетеля», – шепнул Хилькевичу голос осторожности.
И при мысли, что за гибелью Сеньки-шарманщика мог стоять его враг, который до сих пор оставался невидимым, Виссариону Сергеевичу сделалось не по себе.
– Следствие уже ведется? – на всякий случай спросил он. – Кто занимается делом?
– Половников, кто ж еще, – отозвался граф. – По крайней мере, в газете так было написано.
По правде говоря, у Половникова до сих пор не было времени взяться за расследование уличного происшествия надлежащим образом.
Он пытался, как ему было приказано начальством, не упускать из виду вертушку Дашеньку, но она надолго пропала куда-то, а когда он наконец нашел ее, сделала большие глаза и стала уверять его, что никуда не уходила. Чрезвычайно подозрительным показался следователю и тот факт, что возле горничной постоянно вертелся дворник Василий Хмырько, ее спаситель, который вытащил девушку из опрокинутой пролетки. Половников уже навел справки о дворнике и выяснил, что тот крайне нерадив и почти не появляется на рабочем месте. Кроме того, один из полицейских осведомителей видел вышеназванного Хмырько с морщинистым, как старая черепаха, седовласым господином, как две капли воды похожим на небезызвестного вора Агафона Пятирукова. И Половников задумался, уж не разыграл ли Хилькевич комбинацию с опрокинутой пролеткой и спасением лишь для того, чтобы прикрепить к болтушке горничной своего человека.
Однако тут Дашенька, не так все истолковавшая, нажаловалась госпоже, что Половников не дает ей проходу, призвала в свидетели Васю Херувима и Стремглавова, и вскоре следователя вызвали к Сивокопытенко.
– Мон шер,[132] – делая большие глаза, говорил начальник, – признаться, не ожидал я от вас такой прыти! Каюсь, я советовал вам приударить за этой особой, но… вы же все-таки человек в летах, с положением! Как же можно, в самом деле?
Красный как рак вышел Половников из начальственного кабинета, и весь день никакая работа уже не лезла ему в голову. Он все пытался представить себя пристающим к Дашеньке – и не мог. Не потому, что горничная представлялась ему какой-то не такой, а потому, что сам страдал излишней порядочностью. И поневоле Половников вынужден был заключить, что у его начальника чрезвычайно извращенное воображение.
Мучения следователя продолжились дома, где Пульхерия Петровна накричала на него, мол, она все знает о нем и горничной, и объявила, что он палач ее существования, тиран, мучитель и изверг. После чего в изверга полетела большая некрасивая ваза (которую, по совести, давно следовало разбить). Однако Половников, привыкший к домашним сценам, поймал вазу на лету и водрузил ее на место.
Ужин был, как всегда, когда хозяйка пребывала не в духе, отчасти пережаренный, отчасти недожаренный и целиком пересоленный. После трапезы Пульхерия Петровна велела супругу прогулять Дианку, их домашнюю собачонку. Следователь мог возразить, что с Дианкой прекрасно могла прогуляться и прислуга, но не стал. Он был рад предлогу уйти из дома хотя бы на время.
Медленно бредя по улице вдоль ряда акаций, Половников в который раз спросил себя, когда же все это закончится. И ответил сам себе: никогда. Разве что с его смертью. Или со смертью жены, если милосердный бог приберет ее первой. Но в такую возможность следователю, по правде говоря, не слишком верилось.
Дианка, сопя, ковыляла где-то впереди и попутно обследовала кусты. Собачонка была лохматой, рыжей, а глаза у нее были печальные, как у хозяина. Половников поглядел на нее и с горечью подумал, что эта собака – его единственный друг в целом мире. Вот он, взрослый человек, кончавший университеты, серьезный, непьющий, работящий – и все равно бесконечно одинокий. Нет друзей, есть только сослуживцы да соседи, безликие личности, которых встречаешь на улице или в гостях. Нет любви, есть только жена, которая его от души презирает. Нет близких, есть только дядя, который год проматывающий свое состояние на Ривьере, и дети, которые вроде бы любят отца, но стесняются показать свою любовь, потому что он слаб. «И в чем моя жизнь отличается от жизни того бедолаги-шарманщика, которого раздавила карета? – подумал следователь. – У него не было ни жены, ни детей, вместо крова – какой-то жалкий угол, и он точно так же был одинок. Только для него все уже кончилось, а для меня еще тянется. Господи, да есть ли на свете счастливые люди, в самом деле?»
Дианка смотрела на него, виляя хвостом. Наконец чихнула, подобрала что-то с земли и подошла к хозяину, неуклюже ступая короткими лапами.
– Ну, что ты там нашла? – мягко спросил следователь. – Палочку? Поиграть хочешь?
Но перед ним лежала вовсе не палка.
Очень осторожно он очистил принесенный собакой предмет от грязи и поднес его к глазам.
В следующее мгновение сердце следователя сделало кульбит и взмыло ввысь. В его руке сиял сапфировый водопад, и водопад этот складывался в восхитительное ожерелье. То самое ожерелье, которое было в парюре, подаренной знаменитой танцовщице Агате Дрейпер.
Глава 15
Странное поведение маэстро Бертуччи. – Народ, хлеб и зрелища. – Большой фейерверк.
Ракета взлетела, лопнула с оглушительным грохотом и взорвалась дождем из зеленых звездочек. Вслед за ней взмыли еще несколько ракет, и на мгновение стало светло как днем.
– Малый фейерверк, – объяснил вице-губернатор Амалии Корф, которая стояла возле него на террасе. – А после ужина будет большой.
Молодая женщина рассеянно кивнула, и вид у нее был загадочно-утомленный, словно в своей жизни она видела множество фейерверков, и больших, и малых, и никакие пиротехнические фокусы ее больше не прельщали. Красовский предложил ей руку, и вслед за остальными гостями они вернулись обратно в зал.
– А говорят, что в городской казне нет денег, – наябедничал стоящему рядом мужчине Стремглавов, поглощая мороженое. Сегодня на очередном торжестве в честь высокой гостьи репортер вознаграждал себя за все лишения, которые ему пришлось претерпеть вчера.
– И что? – хмуро осведомился сосед. Он мороженого не поглощал, держался довольно нелюдимо и, как заметил Стремглавов, весь вечер не отрывал глаз от одной особы.
– Странно, маэстро, – объяснил репортер, проглотив еще ложку, – что денег нет на насущные нужды, а на баловство вроде фейерверков есть.
Маэстро Бертуччи, коим являлся сосед Стремглавова, равнодушно пожал плечами, словно деньги были столь несущественной мелочью, что и говорить о них в хорошем обществе не стоило. Но тем не менее сказал:
– Однако, согласитесь, было бы еще более странно, если бы столь высокой гостье не выказали уважения, которое она заслуживает. Я полагаю…
Тут к ним подошла молодая дама в сопровождении своих подруг, и все они желали знать, почему маэстро сегодня не танцует. Маэстро довольно туманно сослался на свои профессиональные обязанности, которые мешают ему танцевать, и дамы удалились, весьма разочарованные.
«Знаем мы твои обязанности, – помыслил репортер, как только маэстро отошел, стараясь держаться поближе к Амалии и ее спутнику. – Лошадь, что ли, убежала? А вот и нет! Просто наш записной сердцеед маэстро Бертуччи пронзен насквозь стрелой Амура. Честное слово, он так поедает глазами петербургскую даму, что, будь она мороженым, – тут Стремглавов скосил глаза на опустевшую вазочку в своей руке, – от нее бы ничего не осталось. Впрочем, если верно то, что я слышал о столичной особе, у нашего маэстро нет никаких шансов. Это здесь Бертуччи может изображать из себя невесть какую величину, а для баронессы Корф он никто и звать его никак».
В главном зале губернаторского особняка меж тем завертелась кадриль. Одновременно в голове у Стремглавова завертелась мысль, нельзя ли перехватить еще чего-нибудь съестного, а также и горячительного. Молодой человек стал пробираться вдоль стены к выходу, косясь на лакеев, которые разносили подносы с шампанским, но те с достойным порицания упорством игнорировали репортера. Пытаясь привлечь их внимание, Стремглавов и сам не заметил, как наступил своей ножищей гренадерских размеров на ножку в розовой атласной туфельке. Обладательница ножки зашипела, как кипящий самовар, и взмахнула локтем. Локоть пришел в контакт с боком репортера и заставил Стремглавова согнуться надвое – не столько от боли, сколько от неожиданности.
– Медведь! – прошипела Дашенька, делая большие глаза.
– А вы не нахальничайте, мадемуазель! – сердито проговорил репортер, потирая ушибленный бок. – Что вы тут делаете, Дашенька?
– Госпожа разрешила мне прийти с ней, – объяснила горничная. – И потом, бал, мало ли что хозяйке может понадобиться.
Стремглавов поглядел на Амалию Корф, которая была сегодня в голубом платье, на старичка губернатора, который пытался делать вид, что танцует с ней, причем макушкой едва доставал ей до плеча, заметил в углу черные глаза Бертуччи, горящие досадой, и ухмыльнулся.
– Знаете, Дашенька, – фамильярно сказал репортер горничной, – когда вы так стоите в толпе у стены, вас можно даже принять за барышню.
Дашенька потупилась.
– А я, может статься, лучше любой барышни буду, – объявила она и хихикнула.
– В самом деле? – изумился Стремглавов.
– А что? – беззаботно спросила горничная. – Разве что туфли немножко сношенные, потому как не мои, а от госпожи достались. Ну и платье… не из шелка, прямо скажем. – Девушка вздохнула. – А вот если бы мне ее платье…
– Ну да, и платье, и туфли, и даже украшения, – кивнул репортер. – И все равно, ты только не обижайся, – вдруг перешел он на свойский тон, – тебя бы никто не принял за госпожу.
– Это почему же? – обидчиво спросила Дашенька и губу выпятила точь-в-точь как Валевский, когда тому что-то было не по нраву.
– Потому, – загадочно молвил Стремглавов. – Манер у тебя не хватает, лоска, понимаешь? И разговариваешь ты, как прислуга, и держишься, как прислуга. Хотя и милая девушка, не спорю. – И в подтверждение своих слов он изготовился приобнять Дашеньку за талию, но горничная отвела его руку.
– Что еще такое? – шепнула Дашенька. – Обниматься, так уж и быть, после свадьбы будем. А до свадьбы – ни-ни!
– Милая, – устало вздохнул репортер, – когда это я предлагал тебе свадьбу, а?
– Ну, не предлагал, так я предлагаю, – не моргнув глазом, объявила Дашенька. – От вас, мужчин, ждать предложения – проще дождаться, когда рак на горе свистнет.
И она ласково улыбнулась совершенно опешившему собеседнику.
– Я и Амалии Константиновне уже все сказала, – продолжала плутовка. – Она мой выбор одобрила. Правда, ей местные донесли, что вы иногда заложить за галстух любите, ну так я вас быстро отучу!
Стремглавов открыл рот, вспомнил, что хотел чего-нибудь выпить, и решил, что выпить надо чего-нибудь существенного, чтобы навсегда забыть и Дашеньку, и слова, которые она только что произнесла. Репортер потер свои жидкие рыжеватые усики, пробормотал: «Я сейчас» и растворился в воздухе.
Люди более практичного склада, впрочем, утверждают, что видели, как он бегом протиснулся к выходу из особняка. А еще более практичные уверяли, будто в своем бегстве Стремглавов не забыл прихватить бутылку портвейна, которую ловко спрятал под сюртук.
Торжество меж тем продолжалось своим чередом. Амалия Константиновна танцевала по очереди с вице-губернатором, полицмейстером де Ланжере, Бертуччи и каким-то стареньким генералом, который никак не хотел отпускать ее. Граф Лукашевский, тоже приглашенный на бал, танцевал с одной из дочерей де Ланжере. Когда танец закончился, граф хотел подойти к Амалии, но его опередил маэстро Бертуччи, который во что бы то ни стало хотел пригласить ее снова.
– Маэстро, – заметил Лукашевский, – вы так часто танцуете с госпожой баронессой, что это начинает казаться подозрительным!
– Еще одно слово, сударь, и я вызову вас на дуэль! – шепнул ему потомок итальянцев. И мило улыбнулся.
Граф закусил губу. Помимо того, что Бертуччи умел дирижировать, сидя верхом на лошади, он еще и считался лучшим стрелком в славном городе О. Поэтому Лукашевский предпочел сделать вид, что не услышал его слов, и отошел в сторону, дожидаясь, когда танец закончится.
Но следующий танец баронесса Корф танцевала с Красовским, потом опять с де Ланжере, и граф сумел подойти к высокой гостье лишь перед большим фейерверком.
– Что вам угодно, сударь? – очень холодно спросила баронесса.
– Меня прислал господин Хилькевич, – промолвил граф. – Он просил передать вам, госпожа баронесса.
Амалия поглядела на его лицо, а затем перевела взгляд на раскрытую ладонь графа, на которой лежало кольцо с довольно крупным сапфиром.
– Что это? – спросила она.
Граф Лукашевский сделал удивленное лицо:
– Мы полагаем, что кольцо может быть из той самой похищенной парюры. И оно досталось нам после долгих поисков.
Баронесса оглянулась на Дашеньку, которая стояла неподалеку от них, и, покачав головой, сказала с сожалением:
– Нет, кольцо не из парюры, хотя и тоже с сапфиром. Боюсь, вас ввели в заблуждение.
К ним стремительными шагами уже подошел маэстро Бертуччи.
– Что-нибудь не так, сударыня? – спросил потомок итальянцев, и по его лицу было видно, что если не так, если граф Лукашевский хоть чем-то посмел задеть милейшую баронессу Корф, то он пожалеет, что родился на свет, и даже восемь дочерей полицмейстера де Ланжере его не спасут.
– Нет, – ответила баронесса, – мы просто разговариваем. О фамильных драгоценностях.
Чувствуя в душе разочарование, граф Лукашевский убрал кольцо в карман и отошел, а общество двинулось к выходу из особняка, чтобы полюбоваться большим фейерверком.
В доме Русалкиных Наденька закончила расчесывать волосы и села у окна. А потом в небе началась огненная феерия. Это было так красиво, так необычно, что у девушки захватило дух.
– Аполлон! Женечка! Сюда, сюда, смотрите скорей!
Но Аполлон ответил, что не видит ничего особенного в происходящем, фейерверк как фейерверк, и вообще, на свете есть куда более важные вещи. А кузен Евгений лишь укоризненно вздохнул и уронил, что подобные излишества – следствие угодничества и пресмыкательства перед особой, от которой власти ожидают для себя неприятностей, вот они и стараются расположить ее к себе.
– Каждый день, – пробасил студент, – то обеды, то праздники. Притом что народ бедствует!
Впрочем, народ, собравшийся на площади, от души веселился, глядя на сказочное действо в небе. Потому что людям, что бы там ни твердили материалисты, нужен не только хлеб, но и зрелища.
Под конец в небе выписался огненный вензель А.К., и тут веселье достигло наивысшей точки. Поэтому, может быть, никто не обратил внимания на темную карету, которая подкатила к губернаторскому особняку.
Из кареты вышел молодой человек во фраке, худощавый и изящный, и вошел в дом. Швейцар, стоявший у дверей и одним глазом косившийся на фейерверк, приосанился и сурово осведомился, приглашен ли молодой человек на вечер.
– Нет, – беззаботно ответил тот. – Наверное, это ужасно, как вы думаете?
В то же время его рука – довольно красивая, надо признать, рука, которую портило разве что то обстоятельство, что перстней на ней было больше, чем пальцев, – порхнула в карман фрака и извлекла из него радужную бумажку.
– Сударь, – в священном ужасе пролепетал швейцар, – но я не могу вас пропустить!
Молодой человек улыбнулся, и тут же швейцар рассмотрел, что в тонких пальцах уже было зажато две бумажки, а не одна. В следующее мгновение пальцы скользнули в карман швейцара и вновь показались наружу, но уже без бумажек.
Швейцар выпучил глаза, поднес руку к карману, но тотчас же спохватился и распахнул дверь. И гость без приглашения, посмеиваясь про себя, вошел в дом.
Он миновал анфиладу ярко освещенных комнат и в третьей или четвертой столкнулся с графом Лукашевским, который остановился, не веря своим глазам.
– Николай? – пролепетал граф. – Но ты же приезжаешь только завтра!
– У меня изменились планы, – беспечно откликнулся знаменитый шулер Николай Рубинштейн. – Так что я приехал сегодня.
– У тебя было приглашение на вечер? – Граф дивился все больше и больше. – Нет, не верю. Как же ты вошел?
– Через дверь, разумеется, – ничуть не покривив душой, ответил его собеседник. – Скажи, а правда, что баронесса Корф в городе?
– Да, – нахмурился Лукашевский, – и от нее нам житья нет!
Рубинштейн улыбнулся.
– Что ж, на нее похоже, – уронил он. – Зачем она здесь?
– Из-за Валевского, – сообщил граф и вслед за тем объяснил, что баронесса приехала в город искать украденную парюру. А поскольку Хилькевич оказался слишком самонадеянным и сначала отказал баронессе, интересы его клана сильно пострадали.
– Никогда не следует отказывать женщине, – усмехнулся Рубинштейн, – особенно такой.
– Ты так говоришь, как будто ее знаешь, – заметил Лукашевский.
Рубинштейн пожал плечами и обронил с загадочной улыбкой:
– Думаю, ни один человек на свете не может похвастаться, что знает баронессу Корф.
Общество меж тем мало-помалу возвращалось из сада в дом. Вслед за остальными в зал вернулась и Амалия, опираясь на руку Красовского. Следом за ней бесшумной тенью двигался маэстро Бертуччи.
– Если хочешь, я могу вас познакомить, – предложил граф. – Вот она, в голубом платье, рядом с вице-губернатором.
Рубинштейн повернулся, увидел даму в голубом – и застыл на месте. По его лицу Лукашевский не мог понять, рад он, или встревожен, или вообще уже сожалеет о том, что пришел на этот вечер. Амалия скользнула по новому гостю совершенно равнодушным взглядом и, сложив свой муслиновый веер с серебряными пластинами, отдала его Дашеньке. Та присела в поклоне, покосилась на Рубинштейна и отошла в сторону. Судя по всему, шулер, чью внешность никак нельзя было назвать отталкивающей, заинтересовал служанку куда больше, чем госпожу.
– У меня нет настроения ни с кем знакомиться, – отверг Рубинштейн предложение графа. – И кроме того, я здесь совершенно по другому делу.
Лукашевский не стал настаивать. Он заметил, что Николай может на него рассчитывать, и отошел. По правде говоря, сейчас графа значительно больше волновали его собственные дела.
Если кольцо, отобранное у Валевского, вовсе не из императорской парюры, значит, поляк сказал правду и он не имел никакого отношения к ее исчезновению. И это не устраивало Лукашевского – не устраивало на уровне некоего инстинкта, потому что люди, говорившие правду, вызывали у него куда большее неприятие, чем те, кто лгал и изворачивался на каждом шагу. Ложь была Антонину близка и понятна, правда же не вызывала ничего, кроме брезгливого сожаления. И, вспомнив, в какой незавидной ситуации оказался Валевский, граф решил, что тот просто frajer, простак, олух и его репутация ловкого мошенника совершенно незаслуженна. Последняя мысль настолько приглянулась графу, что он даже выпил большой бокал шампанского, хотя обычно предпочитал воздерживаться от спиртного.
Что же касается Николая Рубинштейна, то он счастливо уклонился от знакомства с одной из восьми дочерей де Ланжере, на вопрос какого-то дряхлого генерала в старомодном мундире ответил, что не имел чести служить в армии, и, искусно маневрируя между гостями, выскользнул из зала, сбежал по ступенькам и оказался в саду, примыкавшем к губернаторскому особняку. Вероятно, по чистому совпадению несколько минут назад в том же направлении удалилась и горничная баронессы Корф.
Она стояла под деревом и, нисколько не обинуясь, обмахивалась хозяйским веером. Теплый ветер с моря веял в лицо, и где-то в траве трещал сверчок. На секунду он умолк, словно собираясь с силами, и заскрипел снова.
Мягкими, неслышными шагами Николай Рубинштейн подошел к горничной и стал позади нее, заложив руки за спину. Дашенька бросила на него взгляд через плечо и отвернулась.
– Ну-с, Амалия Константиновна, – спокойно спросил он, – и что же означает сей маскарад?
Глава 16
Неромантическое объяснение при луне. – Женщина в маске. – О том, как бесславно закончилось пребывание Валевского в славном городе О.
– Что вы имеете в виду, сударь? – спросила его собеседница.
– Вам и самой это отлично известно, – проговорил Рубинштейн. Несмотря на то, что молодой человек силился казаться бесстрастным, было все же заметно, что он волнуется. – Ваша горничная Даша изображает вас, а вы изображаете горничную, да так удачно, что никто из тех, кто видит вас впервые, ничего не заподозрил. Но ведь я же знаю вас, Амалия! И вообще, нелепо приезжать в такой людный город, как О., и думать, что в нем не найдется хоть одного человека, который бы не знал вас в лицо.
Дашенька – вернее, настоящая баронесса Корф – вздохнула и повернулась к Рубинштейну. Очень медленно она сложила веер и улыбнулась.
– Ну хорошо, – уронила Амалия, – я – это я. И что с того?
И выражение глаз, и манеры, и даже голос – все в ней теперь было другое. Словно соскользнула с ее лица маска плутовки Дашеньки, играющей ресницами, вертлявой и глуповатой, которую никто не принимал всерьез. И под маской оказался совершенно другой человек – закрытый, собранный, держащийся начеку и, если говорить откровенно, вряд ли безобидный.
– Что вы здесь делаете? – спросил Рубинштейн напрямик.
Амалия пожала плечами.
– Разве вам не сказали? По-моему, весь город уже наилучшим образом осведомлен о цели моего визита.
– Вы имеете в виду Валевского и пропавшую парюру? – спросил Рубинштейн. – И вы хотите, чтобы я поверил, что из-за такого пустяка вы решились на столь сложную комбинацию?
– Украшения императорского дома – вовсе не пустяк, поверьте мне. А что касается подмены, которая кажется вам такой сложной, то я не вижу в ней ничего особенного. Само собой, если бы баронесса Корф приехала сюда с особым заданием, местные власти не на шутку бы всполошились. Меня приглашали бы всюду, мне пришлось бы выслушивать десятки речей, одну глупее другой, и бесцельно терять время вместо того, чтобы действовать. А так – Дашенька слушает речи и изображает меня, а я действую. Никто ни о чем не догадывается, но тем не менее все довольны.
– Я вам не верю, – сказал Рубинштейн после паузы, во время которой не отрывал глаза от лица собеседницы.
– Как вам будет угодно, – равнодушно отозвалась Амалия. – Я не намерена ни в чем вас убеждать.
И хотя ни в ее тоне, ни в ее словах не было вроде бы ничего оскорбительного, игрок тем не менее вспыхнул.
– Я прекрасно помню вас, госпожа баронесса, – проговорил он, – и помню, что на мелочи вы не размениваетесь.[133] А сдается мне, господин Валевский как раз и есть одна из таких мелочей. Вы ведь вовсе не из-за него приехали сюда, он не та фигура, из-за которой вы позволили бы себя побеспокоить.
– Вам, видимо, неизвестно, что я уже ловила его, и именно поэтому меня попросили найти его снова, – возразила Амалия. – Сей господин мне хорошо известен, и я представляю себе образ его действий, что в нашем деле немаловажно.
Однако Рубинштейн упрямо покачал головой.
– Нет, причина не в Валевском. Укради он хоть корону Российской империи, вы и то не стали бы заниматься его поисками. Чтобы найти такого, как он, вполне достаточно сил сыскной полиции. Здесь что-то другое, совсем другое… – Молодой человек испытующе посмотрел на баронессу. – Или Виссарион Хилькевич совсем зарвался и совершил непростительную ошибку? Его власть стала кого-то тревожить? Вы находитесь здесь, чтобы его уничтожить?
– О, прошу вас! – поморщилась Амалия. – Чтобы уничтожить Хилькевича, вполне достаточно обвинить его в убийстве жены, и тогда он никого уже не сможет тревожить.
– Да, я слышал о той истории, – кивнул Рубинштейн. – Подручный по приказу Хилькевича задушил его жену, потому что она ему изменяла. Но таковы всего лишь слухи, а доктор написал в свидетельстве о смерти, что женщина умерла от болезни. К тому же все произошло так давно, что доказать уже ничего невозможно. И уничтожить Хилькевича вовсе не так легко, как вы утверждаете.
– Меня не интересует Хилькевич, – спокойно проговорила Амалия. – Меня интересуют Валевский и драгоценности, которые он украл и появление которых за границей может вызвать нешуточный скандал. Боюсь, вы плохо представляете себе, что именно поставлено на карту.
– Боюсь, – возразил молодой человек, – что в картах я как раз разбираюсь лучше всего. И я не верю ни единому слову из того, что вы мне тут рассказали. Уверен, Хилькевич тоже не поверит, когда узнает, кто вы на самом деле.
Нет, это был не разговор двух давних знакомых – то была словесная дуэль, где каждая фраза равнялась выпаду в сторону противника. До сих пор между собеседниками шла нешуточная борьба, где текст значил ничуть не меньше, чем подтекст; и любой внимательный наблюдатель, окажись он поблизости, непременно бы заметил, что Амалия не то чтобы пренебрегает Рубинштейном, но держится так, словно ни капли от него не зависит, а игрок чувствует это и стремится доказать обратное. Последний выпад, очевидно, должен был оказаться смертельным, но в лице Амалии не дрогнула ни единая черточка.
– Так чего же вы ждете? – спросила она. – Идите и расскажите Хилькевичу о своем открытии. Уверена, он щедро вас вознаградит.
– И пойду, – объявил Рубинштейн. И молодой человек даже сделал шаг в сторону особняка, за ярко освещенными окнами которого звучала музыка. Но Амалия не двинулась с места, судя по всему, вовсе не собираясь его удерживать. Тем не менее игрок остановился.
Сверчок умолк. По ветвям деревьев пробежал ветер. Луна застыла в небе, притворяясь, что вовсе не подглядывает за тем, что происходит в губернаторском саду, но ей тоже было любопытно, чем же все кончится. Амалия молчала, молчал и Николай. Наконец Рубинштейн вздохнул.
– Я вовсе не хотел бы оказаться на стороне ваших врагов, – проговорил он.
И снова молчание, освещенные окна, музыка и чей-то смех за окнами.
– Вы мне не доверяете? – спросил Рубинштейн с горечью.
Амалия пожала плечами. Затем ответила с подобием улыбки:
– Полагаю, вы не вправе упрекать меня за это.
– Даже если на самом деле я вовсе не таков, как вы обо мне думаете?
– О, умоляю вас! – перебила его Амалия с гримасой раздражения. – Оставьте выспренние обороты нашим романистам. Уж они-то всегда горазды доказать, что публичная женщина – ангел, которому не повезло с клиентурой, убийца – человек с ранимой душой, которого вынудили убивать исключительно его жертвы, а вор просто любит чужую собственность больше своей. Еще модно ссылаться на среду, наследственность и бог весть что еще. Ну так вот, сударь, я устроена гораздо проще. И убийцу я называю убийцей, вора – вором, а преступление – преступлением.
– Но я говорю вовсе не о ворах и не об убийцах, – возразил Рубинштейн. Судя по его тону, он был задет за живое. – Я говорю только о себе, Амалия Константиновна. Неужели вы не верите, что хоть один человек может оказаться не таким, как все?
– Я не верю словам, – последовал ответ. – Я верю только в конкретные дела. Пару минут назад вы угрожали выдать меня королю местной мрази, а теперь утверждаете, что я должна вам доверять? – Она пожала плечами. – Мое доверие можно заслужить, но вряд ли – таким образом.
– Я думаю, Амалия Константиновна, – после паузы проговорил игрок, – вы и сами прекрасно понимаете, что я бы никогда не смог повредить вам. Только… – Рубинштейн замялся. – Скажите, задание, которое вы выполняете, опасно?
– Нет, – отозвалась баронесса. – Хотя, если Валевский сумел привлечь на свою сторону Хилькевича, у меня могут возникнуть некоторые затруднения.
Рубинштейн почти не сомневался, что истинной целью Амалии был вовсе не Валевский, но по лицу молодой женщины он уже понял, что она ничего ему не скажет. Баронесса Корф умела хранить секреты, и в особенности секреты служебные. Поэтому игрок не стал настаивать и предложил собеседнице руку, чтобы вернуться в дом.
– Вы, кажется, забываете, что я всего лишь горничная, – ответила Амалия с улыбкой.
И уже вновь перед Рубинштейном была Дашенька, которая и смотрела иначе, чем Амалия, и говорила иначе, и даже голос у нее был другой. Причем казалось, что маску молодая женщина надела без малейшего видимого усилия. Невольно игрок подумал, что в Амалии пропала великая актриса.
Поняв, что внизу больше не будет ничего интересного, луна хотела уже скользнуть за облако, но случайно взглянула за ограду особняка – и застыла в небе.
А за оградой стоял высокий золотоволосый юноша, хорошенький, как Иван-царевич, и с бьющимся сердцем прислушивался к разговору двух собеседников в саду.
Вася Херувим знал, что Дашенька должна сопровождать свою госпожу на большой бал. Вход туда самому Васе был, само собой, закрыт, но тут его золотую голову осенила идея.
Идея эта состояла в том, что нет ничего проще, чем перемахнуть через ограду, проникнуть в сад, пробраться в дом, отыскать в нем Дашеньку и сказать ей что-нибудь приятное. К примеру, как он ее любит. Заодно можно и спросить, не согласится ли она стать его женой, потому что без нее Вася не мыслил себе жизни.
Но события повернулись не так, как рассчитывал юный вор, потому что, едва он подошел к ограде и стал примеряться, как бы перелезть через нее, в саду нарисовался противный молодой брюнет в безукоризненном костюме и завел с Дашенькой какой-то странный, ни с чем не сообразный разговор.
Из разговора стало ясно, что Дашенька – никакая не Дашенька, а сама баронесса Корф, что она презирает преступников, а стало быть, и Васю в том числе, и что она вовсе не милая, веселая и добрая девушка, а коварное, двуличное существо, которое ведет какую-то свою особую игру. Впрочем, Вася заметил также, что, несмотря на все это, противный брюнет явно был к ней неравнодушен.
Вася подождал, когда Амалия и Рубинштейн удалятся из сада, потоптался на месте, почесал в затылке и в конце концов решил рассказать обо всем дяде, который наверняка сумеет посоветовать что-нибудь стоящее. Вспомнив, что Агафон Пятируков сегодня вечером отправился в особняк Хилькевича, Вася что было духу побежал туда.
Впрочем, в особняке он не застал никого, кроме Семинариста и слуг. На настойчивые расспросы молодого человека Семинарист наконец процедил сквозь зубы, что Хилькевич удалился на важное дело, что Пятируков его сопровождает и что они захватили с собой того самого варшавского молодчика, которого Семинарист еще недавно стерег.
…В то время, как полицмейстер де Ланжере смотрел на большой фейерверк с террасы губернаторского особняка, держа под руку жену и то и дело поглядывая на свою многолетнюю любовницу, скромно стоявшую поодаль, в его доме хозяйничали незваные гости.
Они отодвинули стол в большой гостиной и сняли со стены картину, за которой обнаружился сейф. Валевский, сбросив сюртук и засучив рукава, принялся за дело. Хилькевич нервно поглядывал на часы, а старый вор с любопытством смотрел на манипуляции поляка. Прошло около десяти минут.
– По-моему, ни черта у тебя не выходит, – промолвил Пятируков.
Валевский прижал палец к губам, и в следующее мгновение Хилькевич услышал щелчок отворяемой дверцы.
– Готово, – сказал Валевский, поднимаясь на ноги и вновь застегивая манжеты рукавов.
Хилькевич отодвинул его, подошел к сейфу и стал рыться в нем. Внутри лежали пачки денег, какие-то конверты, при виде которых у короля дна заблестели глаза, и бриллиантовый гарнитур, который де Ланжере собирался подарить своей новой пассии, актрисе, на день ее ангела.
– По совести, – заметил поляк, надевая сюртук, – мне следовало бы спросить с вас процент за удачно проведенное дело.
– Ага, – согласился Пятируков и аккуратно приложил его старинным подсвечником по голове.
Валевский упал, и тогда Хилькевич вместе со старым вором подтащили поляка к тонкой колонне в углу комнаты. Пятируков достал наручники, которые предусмотрительно захватил с собой, и замкнул одно кольцо вокруг запястья Валевского, а другое – вокруг колонны.
Когда Валевский открыл глаза, он увидел, что намертво прикован наручниками к колонне, а Хилькевич, сердечно улыбаясь, закрывает пустой сейф и вешает картину на место.
– Прощай, Леон, – ухмыльнулся Пятируков. – Не обессудь, но мы обещали отдать тебя баронессе Корф целым и невредимым. А договор дороже денег, как говорится.
– Да, – вмешался Хилькевич, – на всякий случай, если ты упомянешь о нашем участии в деле, учти, что я не забыл про барышню Русалкину. Подумай сам, хочешь ли ты получить в тюрьме посылку с ее головой.
– Ага, – весело подтвердил Пятируков. – Не дрейфь, Леон. Годы в тюрьме пролетят быстро, и оглянуться не успеешь, как выйдешь на волю.
Он помахал поверженному взломщику рукой, Хилькевич учтиво поклонился на прощание, и оба мерзавца удалились, унося с собой добычу.
Оставшись один, Валевский попробовал высвободить руку, но у него ничего не получилось. Тогда Леон стал ругаться – сначала по-польски, потом по-русски, затем по-французски и под конец вспомнил даже испанскую брань, притом что в Испании никогда не бывал.
Как раз когда он припоминал разные сильные выражения, в голову ему пришла мысль, а не получится ли разогнуть хоть одно звено цепи наручников. Оглядевшись вокруг, Леон заметил на полу тот самый подсвечник с амурами, которым Пятируков ударил его по голове. Амуры смотрели жалобно, и на лицах их выразилось полное смятение, когда Валевский не без труда дотянулся до подсвечника и стал колдовать над цепью.
Он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил, как позади него растворилась дверь. А потом…
Нет, положительно сегодня был не его день. Ибо Валевский уже второй раз за несколько минут получил удар по голове, причем на сей раз удар оказался таким внушительным, что вор полностью отключился.
Когда же он все-таки включился обратно в реальную жизнь, в лицо ему светило солнце, а затылок чудовищно ломило, как после похмелья. Валевский приподнялся на локте, соображая, где именно может находиться, но так и не сообразил.
А лежал Леон на берегу какой-то реки. Наверху, на набережной, стоял сухопарый старик с Владимиром в петлице и строго смотрел на распростертого поляка.
Валевский встряхнул головой и сделал попытку встать на ноги. Тут его начало качать, качать, раскачивать, как корабль в бурю, и он едва не упал.
– Эх, молодежь! – осуждающе молвил старик, качая головой. – Не умеете пить, так бы и не брались! Вот в наши времена, помнится, мичман Канарейкин…
Но Валевский не слышал окончания фразы про мичмана, который, судя по всему, завтракал водкой, обедал ромом, а ужинал исключительно чистым спиртом, после чего дожил до ста лет и умер совершенно счастливым. Разинув рот, Леон уставился на приличных размеров надпись за спиной старика.
Надпись гласила: «Добро пожаловать в город Херсон».
Глава 17
Беспокойные мысли. – Херувим идет на повышение. – Объявление войны.
Следователь Половников тщательно запер дверь кабинета. Затем сел за стол, вынул из особой папки список похищенных у танцовщицы Агаты ценностей и пододвинул его к себе, после чего извлек из кармана сапфировое ожерелье, найденное вчера Дианкой, и принялся список изучать.
Изучение списка не оставило никаких сомнений: принесенное собакой украшение действительно является частью императорской парюры и значится в общем реестре под нумером 7.
«7. Ожерелье. Золото, сапфиры и бриллианты; сапфиров 46 штук, не считая мелких, огранены по большей части в форме капли; бриллиантов же 270 штук, в основном круглой огранки».
Половников вздохнул, на всякий случай пересчитал крупные сапфиры в форме капли и убедился, что их ровно сорок шесть, не больше и не меньше. Не остановившись на том, он пересчитал и бриллианты и выяснил, что их действительно двести семьдесят.
Теперь самое время было идти к начальству и предъявить найденную драгоценность, но отчего-то Половников не торопился. Он сидел, покачиваясь на стуле, весьма шатком, потому что другого на работе ему не выдали, невзирая на беспорочную службу, и размышлял.
Размышлял о многом: об Агате Дрейпер, о великом князе Владимире, а также о том, что, служи он сам еще хоть пятьсот лет беспорочно, ему все равно не купить такого ожерелья. Однако больше всего, по правде говоря, следователя беспокоили не эти обывательские соображения, а то, каким образом столь значительная ценность могла оказаться в кустах, откуда их притащила его собачонка.
Вчера Половников как следует осмотрел прилегающую местность, но не нашел больше ни сапфиров, ни бриллиантов, ни ожерелий, ни даже колец. Стало быть, украшение оказалось в кустах случайно, потому что его кто-то обронил.
Тут следователь попытался представить себе человека, роняющего на ходу бесценные ожерелья, и воображение сразу же сказало ему: «Э, нет, батенька! Так не бывает!» Однако ожерелье все-таки лежало на столе, стало быть, требовалось как-то примирить сей факт с действительностью.
Впрочем, дальнейшие размышления Половникова были неожиданно прерваны прискорбным происшествием – стул, на котором он раскачивался, внезапно затрещал и развалился на части.
Следователь поднялся с пола, отряхнул брюки, вновь собрал части стула воедино и сел на него. Процедура была для него привычна, потому что он проделывал ее почти каждый день.
Посидев немного спокойно, Половников, должно быть, принял какое-то решение, потому что убрал ожерелье в карман, засунул список обратно в папку, отпер дверь и принялся изучать материалы по делу о трупе, обнаруженном недавно за городом. Труп, судя по всему, принадлежал некоему Силантию Тихому, более известному в соответствующих кругах под кличкой Коршун и до недавнего времени пребывавшему у Виссариона Хилькевича кем-то вроде дворецкого.
«Неужели Хилькевич и Коршун что-то не поделили? – мелькнуло в голове у Половникова. – Любопытно!»
И он вновь задумался, на сей раз над тем, каким образом вести следствие по этому делу. Но тут его вызвали к начальству.
Угрюмый Сивокопытенко довел до сведения Половникова, что ночью, пока де Ланжере веселился на балу у губернатора, кто-то обчистил дом полицмейстера. Пропали деньги, драгоценности, а также важные бумаги, которые во что бы то ни стало необходимо вернуть.
– Судя по характеру преступления, – раздраженно молвил начальник, – и по тому, как мастерски был открыт несгораемый шкаф, кражу произвел не кто иной, как Валевский. Мало того, что парюру увел, так еще и под носом у нас безобразничает! Знаете, что о нас теперь будут думать в столице?
Половников, которому было совершенно все равно, что о нем думают в обеих столицах Российской империи, а также в Варшаве, Киеве, Гельсингфорсе и Тифлисе, тем не менее кротко заверил Сивокопытенко, что сделает все как надо, и отправился изучать место преступления. Время от времени он дотрагивался до кармана, в котором лежало сапфировое ожерелье, и на губах его блуждала мечтательная улыбка.
Пока следователь выслушивал показания свидетелей, которые, как водится, ничего не видели, не слышали и ведать не ведали, Вася Херувим пересказывал дяде и Хилькевичу то, что ему удалось по чистой случайности узнать прошлой ночью.
Когда он, волнуясь, закончил свое повествование, Пятируков и король дна одобрительно переглянулись.
– Молодец, Васька! – не удержался Агафон. – Право слово, молодец!
Хилькевич кивнул.
– За то, что ты узнал, можешь брать себе вокзал, – объявил король дна. И тут же скривился: – Что-то я рифмами, прямо как Жорж, заговорил… Получается, Рубинштейн знал, кто она такая?
Пятируков кивнул.
– Да. Но нам ничего не сказал. Я его утром видел, между прочим, и он едва ли не памятью мамы поклялся, что приехал сюда морским воздухом подышать. – Старого вора аж перекосило от отвращения. – Как можно верить таким людям?
– Ну, он еще пожалеет, что пошел против меня, – бросил Хилькевич. – Что там с Валевским, его нашли?
Пятируков покачал головой.
– Нет. Гаденыш снял наручники и сбежал. Ловкач, ничего не скажешь!
– Тьфу ты! – энергично выказал Хилькевич свою досаду. И сразу прищурился. – Хотя, с другой стороны, теперь это не так уж важно. Эй, Семинарист! Неси-ка сюда, дружок, бумаги да чернил. Сейчас мы кое-кому отправим письма.
Письма были написаны и отправлены, а затем Хилькевич велел дать знать своим сообщникам, что произошли важные события, и поэтому им необходимо собраться. Граф Лукашевский, Розалия с Жоржем и Вань Ли явились тотчас же. После них при-ехал старый ростовщик, который, едва заметив Васю, желчно осведомился, какого черта среди них делает племянник Агафона.
– Ему разрешено остаться, – вмешался Пятируков. – А ты что, намерен возражать?
Груздь ограничился тем, что сморщился и забрался поглубже в кресло. Хилькевич откашлялся.
– Господа, я собрал вас, чтобы сообщить прелюбопытное известие. Вернее, даже два.
– Опять! – капризно прогудела Розалия. – Да когда же это кончится?
– Во-первых, – продолжал Хилькевич, не обращая внимания на ее слова, – баронесса Корф никакая не баронесса Корф, а подставное лицо. Настоящая же баронесса Корф – ее служанка. Во-вторых, вчера с полицмейстером де Ланжере случилась небольшая неприятность, которая обернулась большой приятностью для нас. Благоволите принять, господа, в счет понесенных нами расходов. – И он раздал собравшимся деньги, вытащенные из сейфа полицмейстера. Теперь аудитория внимала Виссариону Сергеевичу с благоговением. – Кроме того, сейчас в моем распоряжении находятся некоторые любопытные бумаги, которые наш предусмотрительный полицмейстер собирал несколько лет. Его слуга говорил мне о существовании таковых досье, но только вчера я убедился, что они и впрямь существуют.
– Что за досье, месье? – заинтересовался Жорж.
– О, разные счета, донесения агентов, а также фотографии, – небрежно отвечал Хилькевич. – И на фотографиях запечатлены весьма интересные моменты. Впрочем, достаточно, чтобы любая из этих бумаг просочилась в газеты, и начнется такое, что я врагу не пожелаю, поверьте. Кому, например, будет приятно узнать, что наш губернатор содержит шансонетку, связь с которой тщательно скрывает? Или что господин Красовский платит большие деньги за то, чтобы в лечебнице содержали его душевнобольного отца, который когда-то зарезал свою жену и едва не убил сына? А ведь все в городе почему-то считают, что отец господина вице-губернатора давно умер.
– Браво! – воскликнула Розалия и захлопала в ладоши.
– Я не понимаю, – вмешался Груздь, – чего именно вы намерены добиться с помощью компрометирующих бумаг?
– Мира и спокойствия, – отвечал Хилькевич, скалясь. – Для всех нас, но также и для города. Прежде эти господа были вынуждены потакать самозваной баронессе Корф, а теперь мы дадим им возможность одуматься. Они раскаются и поймут, что дружба с нами выгоднее, чем союз со столичной авантюристкой. Тем более что она вскоре уедет, а мы останемся.
– Вскоре? – переспросил граф Лукашевский. – Насколько мне известно, ни Валевского, ни украшений у нее нет и не предвидится.
– Хм, если даже старый знакомый госпожи баронессы – настоящей госпожи баронессы – не верит, что ее целью является именно господин Валевский, то почему я должен верить? – изрек король дна.
В гостиной наступило молчание.
– Значит, с самого начала вы догадались плавильно, Виссалион? – печально спросил Вань Ли. – Она плиехала сюда из-за нас?
Хилькевич кивнул.
– Боюсь, – дипломатично молвил он, – что другого предлога у нее быть не могло.
И хозяин дома победно оглядел своих сообщников.
– Ваше предложение? – наконец спросил Лукашевский.
– Я уже написал письма губернатору, вице-губернатору и другим, – сказал Хилькевич. – Полагаю, теперь они крепко подумают, прежде чем идти против нас.
– А Валевский? – подала голос Розалия. – Где он?
– Я отпустил его после того, как он помог мне открыть сейф, – безмятежно объяснил Хилькевич. – Больше поляк мне не нужен.
– Но баронесса Корф… – пробормотал Груздь.
– Вот пусть и ищет его там, куда Валевский сбежал, – ответил король дна. – Кстати, где баронесса сейчас?
– Самозванка? – Вася Херувим наморщил лоб. – Вместе с властями и духовенством инспектирует новый приют для подкидышей.
– А настоящая?
Вася пожал плечами.
– Неизвестно. В гостинице ее нет.
– Что ж, – уронил Хилькевич, – полагаю, уже сегодня госпожа и ее служанка или, наоборот, самозваная служанка и самозваная госпожа могут собирать вещи и отправляться в обратный путь.
Груздь вытаращил глаза.
– И вы всерьез намерены им это предложить?
– Да, – жестко заявил Хилькевич. – Видит бог, я терпеливый человек, но мое терпение кончилось.
Розалия нахмурилась.
– Виссарион! Ты уверен, что правильно оцениваешь ситуацию?
– Да, потому что с бумагами, которые у меня есть, мы отныне можем диктовать любые условия. А приезжая дама может сколько угодно отдавать приказания, выполнять их все равно не будут.
– Это же война! – пролепетал струхнувший Вань Ли.
– И вы полагаете, что баронесса Корф стерпит такое обращение? – вскинулся Груздь.
– Кажется, тюрьма немало старика испугала, – заметил Жорж, улыбаясь Розалии и подкручивая ус.
– Вот именно, милостивый государь! – отчеканил ростовщик. – И я вовсе не собираюсь туда возвращаться!
– Полно, полно, господа, – миролюбиво отозвался Хилькевич. – Ручаюсь, никто нас не тронет, а если тронет, последствия будут сами знаете какие.
– Вы так говорите, как будто нельзя просто вас арестовать и отобрать у вас досье, – бросил ростовщик. – Вы понимаете, Виссарион, на что идете? Раньше мы ладили с властями, и все были довольны. А теперь вы хотите восстановить против себя не только баронессу Корф, но и губернатора, и де Ланжере, и Красовского, и множество других людей! Неужели всерьез полагаете, что сможете всю жизнь держать их в страхе? Опомнитесь!
– У вас есть какое-то предложение? – напрямик спросил Хилькевич. – Если есть, я с удовольствием его выслушаю.
– Да боже мой, какие могут быть предложения? – застонал Груздь. – Не надо было с самого начала ни с кем ссориться! Надо было отдать ей Валевского, она бы допросила его, убедилась, что драгоценностей поляк не крал, а мы и подавно ни при чем, и уехала бы восвояси!
– Ну да, она бы уехала… – ухмыльнулся Пятируков. – Особенно если учесть, что ее цель – не Валевский, а мы!
Груздь стих и забился в кресло еще глубже, нервно покусывая губу своими остренькими зубами.
– Я думаю, настал самый подходящий момент поговорить с госпожой баронессой по душам, – объявил Хилькевич. – Пусть она не думает, что ей удалось нас провести. И поскольку Валевского в данный момент правильнее всего искать в Польше, если вообще не за границей, надо предложить ей отправиться за ним. Уверен, если ей действительно нужен Валевский, баронесса с радостью согласится.
– Вы наживаете себе врага, Виссарион, – проскрежетал ростовщик. – Смертельного врага. И на вашем месте я бы все-таки как следует подумал, прежде чем отправляться к этой даме с предложением чего бы то ни было.
– Волков бояться – в лесу не появляться, – глубокомысленно изрек Жорж.
– На всякий случай хорошо бы как следует припрятать досье, – проворчал Лукашевский. – Мало ли что им может взбрести в голову…
– Бумаги уже надежно спрятаны, не беспокойтесь, – вмешался Пятируков.
– Так зе, как тлуп Валевского, я надеюсь? – подал голос китаец. – Потому сто, если его возьмут и поляк плоговолится о том, сто именно он отклывал сейф, могут быть очень, очень больсой неплиятности.
– Валевский не проговорится, – твердо ответил Хилькевич. – Я ручаюсь.
И король дна так осклабился, что у присутствующих пропала всякая охота продолжать разговор.
– Ну, – прогудела Розалия, – так кто из нас все-таки отправится к баронессе Корф?
Глава 18
Золотая собака. – Нескромное преображение скромного дворника. – О том, как Вася расхотел жениться и разочаровался в женщинах, хоть и не до конца.
Следователь Половников вернулся домой к обеду, который еще не был готов. Пульхерия Петровна куксилась и свирепо косилась на супруга, но тот, не обращая на это внимания, сказал, что пойдет погуляет с Дианкой, пока еда готовится, и ушел.
– Собачья душа! – злобно выпалила супружница ему вслед.
Примерно полчаса спустя Половников вновь был дома. Он разувался в передней, а Дианка протрусила в гостиную, на свое обычное место под столом.
– Душенька, – крикнул Половников, возясь с обувью, – собака на обратном пути подобрала какую-то гадость, то ли палку, то ли тряпку… Отбери у нее и выбрось, пожалуйста.
Душенька ответила из комнаты ворчанием, что лучше бы ей вообще не рождаться на свет и не видеть такого болвана, коим является ее супруг. Половников еще некоторое время повоевал с ботинком, который никак не хотел сниматься, и, не заходя в гостиную, крикнул, что пойдет вымыть руки.
Когда он наконец вошел в гостиную, Пульхерия Петровна сидела у окна, опершись на руку, и вид у нее был не то чтобы сконфуженный, но явно не такой сердитый, как обычно.
– Ты выбросила палку, душенька, которую Дианка подобрала? – ласково спросил Половников.
И жена, почему-то даже не ругаясь, как обычно, ответила:
– Да. Выбросила.
Пульхерия Петровна метнула на мужа странный взгляд и велела служанке подавать на стол.
Половников потер руки и принялся за еду. Он съел первое, и второе, и десерт, и даже пирожок с мясом, хотя обычно терпеть не мог пирожки, которые у их кухарки выходили похожими на подошву. Потом поднялся, сказал, что сегодня у него будет много дел, поцеловал супругу в голову и удалился.
Из окна Пульхерия Петровна видела, как он уходит, и ей показалось – возможно, из-за солнца, которое било в глаза, – что муж улыбался. Она вздохнула и перевела взгляд на Дианку, которая дремала в корзинке под столом.
– Ах ты моя золотая собака! – с умилением проговорила Пульхерия Петровна.
Золотая собака Дианка, которую хозяйка обыкновенно именовала чумой и лохматой тварью и которую держали в доме только ради дочки, обожавшей животных, испуганно приоткрыла один глаз.
– Где же ты это нашла, а? Где?
И, радостно улыбаясь, Пульхерия Петровна оглянулась на дверь. А затем достала из кармана юбки ту самую «палку», которая при ближайшем рассмотрении оказалась… все тем же сапфировым ожерельем. Правда, сейчас оно было в грязи, что несколько странно, так как вчера Половников озаботился как следует почистить свою находку. Впрочем, возможно, что следователю пришла в голову счастливая мысль поиграть с собакой, используя вместо палки уже знакомое ей ожерелье. В самом деле, чего только не сделаешь для домашнего любимца!
– Ты моя прелесть! – вскричала в экстазе Пульхерия Петровна и сделала попытку приласкать собачонку.
Дианка испуганно заверещала, прижав уши и явно не понимая, что вообще происходит и какая муха укусила хозяйку.
– Интересно, – задумчиво продолжала Пульхерия Петровна, рассматривая ожерелье на свет, – оно настоящее или так, стекляшка? С кем бы посоветоваться, чтобы не привлекать внимания…
Женщина насупила брови и наконец решилась. Спрятав ожерелье, она придвинула к себе чернильницу и написала короткую записку, которую отдала служанке с требованием немедленно отнести господину Сивокопытенко.
– И скажи ему, – добавила Пульхерия Петровна с загадочным видом, – что это очень, очень срочно.
Впрочем, служанке было не привыкать носить господину Сивокопытенко записки, как срочные, так и очень срочные, и она обещала, что исполнит все в точности.
Пока служанка Половниковых с таинственным посланием шла по улицам города, в другом направлении по тем же улицам двигался молодой человек весьма примечательного вида. На нем был новый щучье-серый сюртук модного покроя, черные панталоны, черный же полосатый жилет, из кармашка которого выглядывала цепь от часов, и совершенно парижская шляпа, сшитая мадам Саркисян на Парижской площади. Добавим, что молодой человек был золотоволос, обольстителен и чрезвычайно напоминал собой дворника Васю, который не так давно вздыхал по горничной Дашеньке.
Дворник Вася – или его двойник, как две капли похожий на него, – вошел в гостиницу «Европейская» и объявил, что у него есть дело до госпожи баронессы Корф и что дело это имеет прямое отношение к цели, с которой она прибыла в город.
Баронесса Корф (вернее сказать, переодетая горничная Дашенька) приняла его, заставив прождать всего четверть часа.
– Я от Виссариона Хилькевича, – сообщил двойник Васи, косясь на нее.
– Я уже догадалась, – ответила баронесса-горничная и пристально посмотрела на посетителя. – Кажется, мы уже где-то встречались?
– Возможно, – уклончиво ответил Вася. – Мир, знаете ли, бывает иногда чертовски тесен.
По правде говоря, слова были Агафона Пятирукова, произнесенные им, когда его схватили в Саратове при попытке обчистить купца, которого он раньше уже обворовывал. Однако Вася счел, что фраза вполне подходит к данному моменту.
– Итак? – спросила фальшивая Амалия Корф. – Если не ошибаюсь, мне были обещаны пан Валевский и драгоценности. Ни того, ни другого я не вижу. Где же они?
– Возьми-ка мою шляпу, милая, – весьма неучтиво перебил ее фальшивый дворник, – да позови сюда настоящую баронессу Корф.
По тому, как его собеседница вздрогнула и переменилась в лице, Вася понял, что она не была готова к разоблачению, и воспрянул духом. Херувим был еще очень молод и не знал, что минутный перевес над противником – в знании или в силе – вовсе не обязательно означает выигрыш всей партии.
– Я вас слушаю, – проговорил тяжелый голос от дверей.
Амалия-Дашенька в смятении оглянулась на настоящую Амалию, которая только что вошла, но та держалась так, словно ничего особенного не произошло.
– Что мне делать, Амалия Константиновна? – пролепетала фальшивая Амалия.
– Что хочешь, Дашенька, – ответила Амалия настоящая. – Да, кажется, вечером опять какой-то званый ужин, так что иди, выбери для него драгоценности.
Горничная, исполняющая роль госпожи, скрылась за дверью, и Вася Херувим остался наедине с баронессой Корф.
– По-моему, вы хотели мне что-то передать от вашего хозяина? – спросила Амалия светским тоном.
– Так точно, – подтвердил Вася. – Виссарион Сергеевич готов дать вам время, чтобы вы уехали из города, но небольшое. Потому как Валевский удрал в Польшу, и искать его у нас теперь смысла нет.
Амалия покачала головой.
– Валевский в городе, я видела его на вокзале в день приезда. Совершенно точно, там был он. Я не могла обознаться.
– Но украшений Валевский не брал, – добавил Вася, насупясь. – Зачем вы напраслину на него возводите, сударыня? Нехорошо.
– Он вам сам сказал, что не брал их? – поинтересовалась Амалия. – И вы ему поверили? Нет, его работа, можете даже не сомневаться.
– Ну да, мы и не сомневаемся, – обидчиво ответил Вася. – В том, например, что пан Валевский был для вас только предлогом. А истинная ваша цель нам даже очень хорошо известна.
– В самом деле?
– Да. Вы всех нас хотите извести. Для того сюда и приехали.
– Боюсь вас разочаровать, господин Хмырько, – усмехнулась Амалия, голосом подчеркивая нелепую фамилию собеседника, – но вы не те персоны, ради которых я бы шевельнула и пальцем. А извести вас много ума не надо – достаточно отдать приказ об аресте нескольких человек, и дело с концом.
Вася смотрел на баронессу широко распахнутыми глазами. Ему хотелось думать, что он ее ни капли не боится, но под ложечкой у молодого человека противно ныло.
– Зря я вас тогда из пролетки вытащил, – объявил Херувим с горечью. – Злая вы.
– Но ведь сначала вы и подстроили крушение той самой пролетки, – парировала Амалия, и глаза ее сверкнули золотом. – Так что поступку вашему, как и вашему хозяину, впрочем, – грош цена.
– Мы еще посмотрим, кому цена грош, а кому целковый, – буркнул Вася. – Грозить вы нам можете сколько угодно, только вот ничего у вас не выйдет. Ни губернатор, ни вице-губернатор, ни господин де Ланжере больше не осмелятся против нас идти, мы теперь крепко их держим. Так что лучше уезжайте-ка вы по-хорошему, а то ведь можно и по-плохому с нами распрощаться.
– Вы мне угрожаете, господинчик в ворованной одежке?
Чем дальше, тем неприятнее Амалия становилась.
– Почему в ворованной? – возмутился Вася.
– Потому как сшито не по мерке – рукава коротки и одно с другим не сочетается, – отрезала собеседница. – Хотя чего еще можно ждать от вора, в самом деле!
В ее тоне было такое безграничное презрение, что Вася не на шутку рассердился.
– Я вор? Ну хорошо, пусть так! А вы-то, вы-то чем лучше нас? Карами грозите, запугиваете, Груздя в тюрьму посадили, а он старый человек, у него сердце… того… Виссариона тоже пытались запугать, ворон дохлых ему слали, Коршуна убили… Коршун-то чем вам помешал?
– Каких ворон, какого коршуна? – сердито спросила Амалия.
– А то вы не знаете! Зарезали человека и глазом не моргнули. Совести у вас нет, вот что! Я же даже хотел… хотел Дашеньке предложение сделать, так она мне понравилась. Такая девушка хорошая, душевная… а оказывается, это все был обман! – У Васи на глазах выступили слезы обиды. – Я бы ради нее даже с воровством покончил, стал бы дворником в самом деле, или пожарным, или кем-нибудь еще… А вы лгунья! Вертихвостка! И репортера вы завлекали, который в «Вестнике» пишет, и лакея… И того, который Рубинштейн… Дядя говорит, у него в столице особняк целый, и князья к нему в гости ходят. Даже его не упустили!
«Ах, вот оно что, – подумала Амалия. – Ты подслушал наш разговор в саду, все понял и сообщил куда надо…» И баронессу разобрала досада, как всякого человека, чье дело может провалиться из-за одной-единственной упущенной мелочи.
– Но теперь-то мы все о вас знаем, – прибавил Вася, успокаиваясь. – Так что лучше вам убраться подобру-поздорову, а то мало ли что может случиться.
– И что же со мной может случиться?
– Ну, к примеру, кирпич на голову упадет, – объяснил Вася небрежно. – Или съедите что-то не то… в наше время легко отравиться чем-нибудь несвежим. Или со спутницей вашей, которая вас изображает, что-нибудь произойдет… нехорошее.
– Дальше можешь не продолжать, – усмехнулась Амалия. – Я и так поняла, что Валевский поделился с твоим хозяином, и теперь вы его выгораживаете изо всех сил. Только зря вы думаете, что можете меня запугать. – Баронесса подалась вперед, глаза ее засверкали. – Передай своему хозяину, что если хоть одно украшение из парюры окажется за границей, и он, и ты, и месье Груздь, и ваш друг сутенер со своей тучной подругой – все вы пойдете под суд как соучастники кражи. И мой вам совет – немедленно отдайте мне драгоценности, выдайте Валевского, и тогда, так уж и быть, я оставлю вас в покое и уеду отсюда. А если вы вздумаете водить меня за нос, смотрите, как бы вам самим не съесть чего-нибудь несвежего. Да и кирпичи, по правде говоря, могут падать на разные головы.
И хотя в то мгновение на голову Васи не падал никакой кирпич, Херувим отчего-то сглотнул, побледнел и попятился.
Кроме того, в голове у него мелькнула мысль, что Дашенька, то есть баронесса Корф, становится в два раза краше, когда злится. И соображение сие повергло его в совершенную панику. Он-то был уверен, что разочаровался в женщинах, а на самом деле оказывалось, что и в одной-то не может разочароваться окончательно.
– Я же вам говорю, – пролепетал Вася, – Валевский сбежал… И украшений он не брал… Что вы за человек, в самом деле!
– Мои условия остаются прежними, – отрезала Амалия. – Валевский и парюра, только тогда я оставлю вас в покое. И не надо говорить мне о том, что он давно в Польше, потому что я знаю: нынешней ночью дом полицмейстера был ограблен, а несгораемый шкаф, куда якобы никто не мог залезть без спросу, открыт. Наверняка его рук дело! И рано или поздно я все равно найду, где вы его прячете, так что отдайте мне его сразу, и покончим с этим!
Уже не слушая, что пытается еще сказать растерянный посланник, баронесса королевским жестом указала Васе на дверь.
Глава 19
Груздь на раскопках и его археологические находки. – Визит дамы. – Игрок и его друзья. – Как бешеная собака умерла от зависти, а старый вор страшно обиделся.
Макар Иванович Груздь вздохнул, потер мочку правого уха, с отвращением поглядел за окно и перевел взгляд на страницу учетной книги, которую просматривал, проверяя, не обманывают ли его подчиненные.
Через минуту он перевернул страницу, вновь потер мочку уха, прикусил сустав указательного пальца и задумался, глядя за окно.
Беспокоило его не то, что в ссудной кассе на Райской улице, аккурат напротив острога, приемщик явно занижал количество принятого под залог барахла – занижал упорно, неумно, и даже по его лукавому изворотливому почерку было видно, что он ворует. В сущности, Груздю было достаточно кликнуть своего человека и приказать ему разобраться с приемщиком. Но сейчас ростовщику было совсем не до этого.
Груздь был немолод и за свою жизнь совершил немало поступков, которые никак нельзя назвать похвальными. Однако он всегда ухитрялся уходить от наказания, потому что чуял границу дозволенного. И ему было отлично известно: пословица «что посеешь, то и пожнешь» придумана кем-то от безысходности и отчаяния.
Ибо в реальности можно убить лучшего друга и наслаждаться жизнью, и никакая совесть не будет тревожить убийцу по ночам. Можно украсть, можно обмануть – и никогда не понести наказания. Можно быть последней сволочью и при этом уважаемым человеком, а в душе смеяться над окружающими. И наоборот, можно быть честным, умным, бескорыстным – и пропасть ни за грош.
Теперь Груздь беспокоился, так как то, что затевал его старый друг Виссарион Хилькевич, в понимании ростовщика как раз выходило за границы дозволенного. Противостояние, которое задумал король дна, могло дорого ему обойтись, и еще дороже оно могло обойтись Груздю, которому не так давно впервые в жизни довелось побывать за решеткой.
В тюрьме ростовщику крайне не понравилось, и Груздь не имел никакой охоты туда возвращаться. Но он с тоской предвидел, что когда баронесса Корф рассердится – а то, что затевал Хилькевич, явно не придется ей по вкусу, и столичная дама совершенно точно рассердится, – она может пойти на крайне жесткие меры. И поскольку Груздь успел кое-что разузнать о баронессе и ее друзьях, ростовщик не сомневался, что сила окажется вовсе не на стороне Хилькевича.
Груздь был реалистом, а Хилькевич, как бывший актер, с его точки зрения, был склонен порой переигрывать. Ростовщик понимал, что Виссарион вряд ли сумеет одержать верх в затеваемой им схватке. А в их профессии тот, кто не может оказаться наверху, порой очень скоро оказывается на самом дне.
Ростовщик не хотел оканчивать свои дни на дне. С другой стороны, он привык к этому городу, привык к тому, что дело давно налажено и приносит хороший доход. Нет, приносило – до появления баронессы Корф. И теперь Груздь искренне страдал, пытаясь принять решение, которое окажется в данной ситуации единственно верным.
Наконец он поднялся, прошелся по комнате, со вздохом сказал то ли стенным часам, то ли портрету неизвестной дамы на стене «Да!» и вышел.
Далеко, впрочем, Груздь удаляться не стал, ибо через минуту его можно было видеть в погребе того же дома. Сдвинув в сторону какие-то ящики и бочки, Груздь засучил рукава и принялся копать.
Должно быть, местная земля была крайне урожайна на всякого рода материальные ценности, ибо доподлинно известно, что всего через несколько минут упорного труда Груздь сумел выкопать весьма интересный сундучок. Внутри сундучка обнаружились золотые монеты различного достоинства, а также акции и облигации, надежно упакованные в несколько футляров.
Как раз тогда, когда ростовщик на втором этаже дома перепрятывал акции в более надежное место, внизу, в лавке, зазвенел колокольчик и хлопнула дверь. Проклиная слабеющую память, которая не удосужилась подсказать ему, что надо было запереться и навесить табличку «Закрыто» до того, как лезть в погреб, Груздь убрал ценности в ящик стола и быстро сошел вниз.
«Прогоню к чертовой матери… – размышлял он, хмуро шевеля бровями. – Наверняка какой-нибудь студент опять притащил в залог зимнее пальто, чтобы устроить попойку. До чего же надоела мелочная работа!»
Однако в лавке обнаружился вовсе не студент.
Это была высокая, дородная, статная дама, которую Груздь хорошо помнил. Она являлась женой следователя Половникова, и ростовщик не раз видел ее в церкви.
– Пульхерия Петровна? – удивился хозяин лавки. – Чем обязан чести видеть вас, сударыня?
Пульхерия Петровна оглянулась на дверь и зачем-то понизила голос:
– Скажите, Макар Иваныч… Я правильно понимаю, что вы принимаете вещи в залог?
Гм, помыслил про себя всезнающий Макар Иваныч, жена следователя пришла к нему… выходит, Сивокопытенко ее бросил?
И так как нельзя было просто указать Пульхерии Петровне на дверь, старый ростовщик как можно мягче постарался объяснить посетительнице, что вообще-то его лавка закрыта… то есть была закрыта, потому что в городе происходят разные события… и сегодня он тоже не работает, и вообще…
– Вы разбираетесь в украшениях? – перебила его Пульхерия Петровна.
Груздь понял по ее лицу, что просто так от нее не отделаться, и нехотя кивнул, мол, да, разбирается.
– Тогда, может быть, вы взглянете на это? – спросила Пульхерия Петровна и достала из сумочки сверкающий водопад.
Груздь ожидал, что женщина принесла колечко с худородным изумрудом, в крайнем случае – какую-нибудь фамильную фитюльку, которой грош цена, но увиденное его ошеломило. Хорошо, стул стоял прямо позади него, а то ростовщик так бы и плюхнулся на пол.
– Прошу, – сказала Пульхерия Петровна, торжествуя.
Макар Иваныч сглотнул, покосился на ее лицо, понял, что расспросы надо отложить на потом, вооружился лупой и какими-то приборами и принялся изучать принесенное женой следователя ожерелье.
– Будьте добры, сударыня, – очень мягко попросил он Пульхерию Петровну, – поверните табличку на двери, чтобы снаружи было видно, что мы закрыты… Благодарю вас.
И вновь принялся осматривать камни.
Его душа пела. Вне всяких сомнений, это были настоящие бриллианты, настоящие сапфиры, очень тонкая и искусная работа, хотя одной подвески на ожерелье не хватало. При мысли о том, сколько стоило такое великолепие, Груздя прошиб холодный пот.
Тут он вспомнил еще кое-что, и его словно ошпарило.
В украденной у Агаты Дрейпер парюре было, между прочим, ожерелье с бриллиантами и сапфирами. «Эге, – сказал себе ростовщик, – а уж не может ли оно быть тем самым ожерельем?»
Но как драгоценность могла оказаться у Пульхерии Петровны, чей муж служил следователем, и хоть и был крайне добросовестен в смысле взяток и неправедного наживания имущества, звезд с неба не хватал? Или тут постарался куда более практичный в этом смысле господин Сивокопытенко?
И снова вопрос: как ожерелье могло попасть к нему, если ожерелье и правда то самое? И еще другой вопрос мучил ростовщика: почему Хилькевич, судя по всему, ничего не знает?
– Простите, сударыня, – тихо промолвил ростовщик, – кто еще, кроме вас, осведомлен о…
Но Пульхерия Петровна объявила, что никто. Груздь достал большой клетчатый платок и вытер им лоб.
– Насколько я понимаю, камни настоящие, – веско проговорила жена следователя, не сводя с хозяина лавки пристального взора.
Груздь кивнул.
– И сколько же может стоить ожерелье? – спросила Пульхерия Петровна.
– Весь вопрос в том, каким образом оно к вам попало, – ласково молвил Макар Иваныч и улыбнулся.
– Его нашла в грязи собака, – отрезала Пульхерия Петровна. – Так сколько?
Услышав, каким образом ожерелье оказалось у жены следователя, Груздь вытаращил глаза и необдуманно назвал истинную цену.
– Ах! – вырвалось у гостьи. Она покачнулась, прижала ладонь к пышной груди, а другой оперлась о прилавок. – Скажите, вы купите его у меня?
У ростовщика закружилась голова. Водопад был рядом, холодный, роскошный, сверкающий – манил и соблазнял, завлекал и очаровывал. Но Груздь в любых обстоятельствах оставался реалистом.
– Это слишком большие деньги, сударыня, – пробормотал он. – И у меня их нет. Надо… – Ростовщик осекся и задумался. – Да, пожалуй, мне придется сходить в банк, иначе нельзя. И, возможно, еще занять денег у друзей. – Хозяин лавки развел руками. – Вы и сами понимаете, Пульхерия Петровна, каждый день ко мне с такими вещами люди не приходят.
Жена следователя кивнула:
– Хорошо. Сколько мне придется ждать?
– Приходите завтра утром, в девять, – промолвил Груздь, овладевая собой. – А до завтра я напишу вам расписку в получении товара, как у нас заведено.
Пульхерия Петровна нахмурилась и сухо сказала:
– Боюсь, я не смогу оставить у вас эту вещь. Мне нужны гарантии.
– Но и я не могу идти за деньгами, если вещь будет не у меня, – кротко возразил Груздь. – Мало ли что будет завтра, вдруг вы вообще передумаете продавать, я тогда останусь в убытке. – Он увидел, что женщина колеблется, и добавил: – Если хотите, могу заплатить вам сейчас тысячу рублей, а остальное отдам завтра. Это нормальная практика, поверьте.
Пульхерия Петровна задумалась. По правде говоря, если бы Груздь назвал заниженную цену, она бы уже забрала ожерелье и ушла к кому-нибудь другому, более сговорчивому. Но ростовщик не солгал, он назвал ту же сумму, что и Сивокопытенко, который к тому же предупредил ее: есть вероятность, что ожерелье из похищенной императорской парюры. Кроме того, она понимала, что Груздь знает, кто она, и знает, кто за ней стоит. Стало быть, можно не ждать с его стороны подвоха.
– Тысячу золотом или ассигнациями? – буркнула мадам Половникова.
– Могу и золотом, если хотите, – отвечал Груздь, глядя на нее добрыми, влажными, полными желания угодить глазами.
На том и сговорились. Ростовщик написал записку и унес ожерелье, а взамен отдал неожиданной посетительнице тысячу рублей полновесными золотыми монетами.
– До завтра, Пульхерия Петровна, – сказал он, многозначительно улыбаясь и целуя руку гостьи, пальцы которой слегка напоминали сосиски.
Мало того, Груздь сам растворил перед ней дверь, когда дама уходила.
Что именно происходило в лавке после того, как ростовщик запер дверь за своей гостьей, нам неизвестно. Зато известно, например, что творилось в то же время в Герцогском салоне гостиницы «Европейская», куда минуту назад вошел высокий худощавый брюнет.
– Мой дорогой мальчик! – вскричала полная дама в ярком платье и туфлях на высоченных каблуках. Она привстала с места и растворила объятья. – Ты узнаешь Розалию? Тетушку Розалию, подругу твоей матери?
Николай Рубинштейн позволил себя обнять и даже поцеловать в обе щеки. Но на его лице было такое выражение, что Жорж, сидевший неподалеку от Розалии, ухмыльнулся и покрутил головой.
– Надо же, как ты похорошел! – воскликнула Розалия, отстраняясь от игрока. – Сколько лет мы не виделись: пятнадцать? Двадцать, может быть?
Рубинштейн выдавил из себя требуемые приличиями слова о том, как он рад видеть подругу своей матери, и стал ждать, что за этим последует.
– А ты нас совсем забыл! – хихикнула басом Розалия и игриво стукнула его по руке сложенным веером. – И даже не приглашал к себе в столицу, негодник!
«Вот поэтому, наверное, Амалия меня и презирает, – мрачно подумал Рубинштейн, – из-за того, что мой круг общения составляют такие люди, как мадам Малевич или граф Лукашевский, который в глубине салона прячется за газеткой. А что еще за рожа рядом с ним? Черт возьми, его только не хватало!»
Рожа меж тем поднялась с места и неторопливо направилась к Рубинштейну и его спутнице.
– Ах, какая оказия! – вскричала Розалия. – Агафон, и ты здесь? Вы знакомы, господа?
– Мы уже знакомы, – сказал Пятируков, встряхивая руку игрока. – Ну, как дышится морским воздухом?
– Бывают моря и получше, – спокойно ответил Рубинштейн, отнимая руку.
Агафон вздернул брови и ухмыльнулся. Розалия потянула Рубинштейна к своему столу и усадила возле себя. С другой стороны оказался Жорж, а Пятируков устроился напротив игрока.
– Будем и дальше говорить о морях? – осведомился Рубинштейн с иронией. – Или, может быть, вернемся на грешную землю?
Его собеседники переглянулись.
– Ты нас обидел, Николай. Очень обидел! – объявила Розалия, надувая губы.
Гримаска сохранилась у нее со времен молодости, но теперь, когда Розалия была уже далеко не молода, производила самое несуразное впечатление. Рубинштейн отвел глаза.
– Вряд ли бы мне это удалось, даже если бы я сильно постарался, – холодно ответил он на замечание бордельной королевы.
– Смотри, парень, – предостерегающе шепнул Пятируков, – ты играешь не на той стороне.
– Не смей мне тыкать, мразь! – тотчас же последовал ответ.
Розалия раскрыла рот. Тот Николай Рубинштейн, которого она помнила, никогда бы не осмелился на такую дерзость. Пятируков пожелтел.
– Ой-ой-ой, скажите пожалуйста… – Агафон хотел продолжить, но Розалия сверкнула на него глазами и, не ограничиваясь этим, стукнула его носком туфли под колено.
– Осторожно, господа, не пришла бы беда, – вмешался Жорж. – Имейте терпение, выбирайте выражения.
– Заткнись, Жорж, – бросила ему Розалия. – Николай, я помню твою мать, и я, как и все мы, желаю тебе только добра. А ты повел себя некрасиво. Мы твои друзья, а ты даже не сказал нам, что баронесса Корф вовсе не та, на кого мы думали, а ее якобы служанка.
– Вы мне не друзья, – отрезал игрок. – А дела баронессы Корф меня не касаются, равно как и ваши.
– Ой ли? – покачала головой Розалия. – То-то ты приехал на день раньше, когда узнал, что она здесь. Кстати, если ты намерен заняться в нашем городе игрой…
Рубинштейн улыбнулся.
– По-моему, вам уже должны были сказать, что я приехал просто подышать морским воздухом. Или мне повторить?
– Не испытывай мое терпение, – злобно проговорил Пятируков. – Можешь корчить из себя кого угодно, только учти, что вся твоя сноровка закончится, если тебе вдруг переломают пальцы. Ты явно напрашиваешься, фраерок!
– Я так понимаю, – сказал Рубинштейн в пространство, – что старика укусила бешеная собака. И после того, как она тебя укусила, – отнесся он уже конкретно к Пятирукову, – сдохла от зависти. Потому что с тобой ей все равно не сравниться.
Жорж не удержался и фыркнул:
– Однако! Бедная собака!
– Николай, – настойчиво спросила Розалия, – зачем ты это делаешь?
– Делаю что? – спросил игрок.
– Ты готов поссориться с людьми, которые вовсе не желают тебе зла, из-за какой-то белокурой дряни с желтыми глазами, даже не обращающей на тебя внимания. – Розалия покачала головой. – Ведь дело в ней, так? Только в ней? – Рубинштейн молчал. – Мальчик мой, скажи только слово, и я найду тебе дюжину девок куда лучше, чем она!
Рубинштейн сделал вид, что зевает, и прикрыл рот рукой. Пытаться им что-то объяснить? Зачем – все равно никогда не поймут…
– Дарю всех девок вашему другу, – указал игрок глазами на Жоржа. – Чтобы он не крестился от ужаса всякий раз, когда ему приходится спать с вами в одной постели… тетушка.
Это был нечестный прием, выбранный совершенно осознанно, и удар пришелся в самое больное место. Розалия побледнела и заморгала глазами. Жорж оцепенел.
– Ублюдок, – мрачно обронил Пятируков. И вслед за тем длинно и грязно выругался.
Чья-то тень упала на стол, и Рубинштейн увидел, что граф Лукашевский, сложив газету, подошел к ним.
– Я же вам сразу сказал – бесполезно с ним разговаривать, – небрежно бросил граф. – Вчера мы были вместе на вечере, и он даже не пытался намекнуть мне, что баронесса Корф – совершенно другое лицо.
– Ты еще пожалеешь, что держишь ее сторону, – проскрежетал Пятируков. – И столичная дамочка тоже. Вы все пожалеете!
Розалия беззвучно плакала, и все ее гигантское тело сотрясалось от рыданий.
Рубинштейн поднялся с места.
– Не люблю угрозы, – сказал он спокойно, – и никогда не любил. Но вас я предупреждаю. Если с Амалией что-то произойдет, я убью вас всех и даже колебаться не стану. – Затем сердечно улыбнулся и повернулся к Розалии. – Кстати, моя мать говорила, что ты воровала у нее кольца. И вообще, что худшей подруги, чем ты, у нее в жизни не было.
– Сколько слов, и каких! – покачал головой Лукашевский. – Слушай, а ты не слишком много берешь на себя, а?
– Не больше, чем ты, герр Холодец, – последовал молниеносный ответ. – Всего доброго, господа. Я бы сказал «прощайте», но больше никогда не видеть вас – такое удовольствие, о котором можно только мечтать.
И Рубинштейн удалился с высоко поднятой головой и улыбкой на устах, как победитель, а за его спиной четверо сообщников переглянулись и покачали головами.
Однако, едва Николай вышел из Герцогского салона, его улыбка тотчас же куда-то исчезла. Некоторое время он раздумывал, покусывая губы, но потом решился, легко взбежал по лестнице и постучал в дверь.
Глава 20
О том, как кое-кто не стал кричать караул, а потом пожалел об этом. – Как Жорж превзошел сам себя. – Возвращение.
Груздь поглядел на часы. До отбытия поезда оставалось около сорока минут, стало быть, он все успевал. Морщась, ростовщик стал распихивать по карманам акции и облигации, но их было так много, что карманы распухли и стали подозрительно оттопыриваться. Пришлось взять саквояжик и уложить туда излишки неправедно нажитого богатства.
Затем настала очередь кредитных билетов, кое-каких предметов, которые были ценны для Груздя как память, и, наконец, сапфирового ожерелья, столь недолго украшавшего точеную шейку Агаты Дрейпер, танцовщицы и содержанки. Его ростовщик тщательно упрятал в потайной карман.
В последний раз окинув взглядом комнату, в которой прошло столько лет его жизни, он вздохнул, подхватил саквояж и быстрым шагом двинулся к черному ходу.
Груздь уже решил, что не станет брать извозчика. Старик почти не сомневался, что когда его бегство обнаружат, его станут искать, и не был намерен давать следствию – а заодно и своим бывшим соратникам – верный след, по которому можно будет его вычислить.
«Куплю билет до столицы, но сойду через несколько станций и пересяду на другой поезд… Затем снова пересяду… И еще разок, для верности», – прикидывал ростовщик свои дальнейшие действия.
На улице светило солнце – яркое, беспощадное южное солнце, и Груздь, словно извлеченный из-под земли крот, на мгновение зажмурился, прикрыл глаза рукой.
«Погодка хорошая… – мелькнула мысль. – Ну и славно!»
Он запер дверь и сделал несколько шагов, но тут славная погода закончилась, как по мановению волшебной палочки, – на Груздя надвинулась чья-то тень.
– Ах, мерзавец… – просипел женский голос, – ну и мерзавец…
Перед ним стояла Пульхерия Петровна Половникова.
– Я так и знала! – бормотала супруга следователя. – Так и чуяла! Закрыл лавчонку, а сам – шмыг через черный ход! Хорошо, что я не стала доверять расписке… Но не на таковских напали!
– Что вы, сударыня? – совершенно натурально изумился Груздь и сделал большие глаза. – Я иду в банк, за деньгами… Белены вы объелись, в самом деле?
– В банк? – прохрипела Пульхерия Петровна. – С дорожным саквояжем? За кого ты меня принимаешь, гнусный старикашка? Ты сбежать захотел! С моим ожерельем!
Груздь поглядел ей в лицо и понял, что жестоко обманулся в супруге следователя и что, судя по всему, столичный поезд уйдет через сорок минут без него. А Пульхерия Петровна стояла перед ним, как возмездие, и было это возмездие страшно, свирепо и красно от жары.
– Право же, сударыня, – холодно промолвил Груздь, – так дела не делаются. Вам угодно сомневаться в моей порядочности? Но в таком случае я не вижу смысла вообще продолжать наше сотрудничество.
– Отдавай ожерелье, старый хмырь! – взвизгнула Пульхерия Петровна. – Не то я квартального позову! Полицию! Ты у меня узнаешь, как честных людей обирать!
– Ожерелье в сейфе, – солгал Груздь. – Надеюсь, вы вернете мне ту тысячу, которую я вам дал. Следуйте за мной, пожалуйста. – Ростовщик пожал плечами и как бы про себя прибавил: – Хотя мне странно, с чего вдруг вы стали во мне сомневаться. С этим саквояжем я всегда хожу по городу и никогда не думал, что он только для дороги.
– Ладно, ладно, заговаривай мне зубы! – вскинулась Пульхерия Петровна.
Груздь тяжко вздохнул, как человек, на которого возводят напраслину, вновь отворил дверь и придержал ее, давая пройти Половниковой.
– Прошу… Обождите минуточку, сударыня, я сейчас. Деньги у вас с собой?
Хозяин лавки аккуратно затворил дверь, поставил саквояж на пол и двинулся к облупленному несгораемому шкафу, стоявшему возле конторки.
– Забирай свои деньги, ирод! – крикнула Пульхерия Петровна, бросая на прилавок сверток с тяжело звякнувшими золотыми.
– Право же, сударыня, к чему так ругаться… – вздохнул Груздь, возясь с замком.
Дверца скрипнула и подалась. По правде говоря, сейфом Груздь пользовался крайне редко – всем в городе и так отлично было известно, что ждет того, кто попытается ограбить вроде бы беззащитного старика.
– Ну? – спросила Пульхерия Петровна нетерпеливо. – Где мое ожерелье?
– Вот оно, – ответил ростовщик.
И в следующее мгновение супруга следователя увидела направленное на нее дуло револьвера.
Женщина не успела не то что возмутиться, а даже открыть рот, чтобы крикнуть «караул!». Груздь выстрелил.
Ему показалось, что грохот от выстрела был такой сильный, что его услышали даже у гавани. Однако наружу донесся только громкий хлопок, который при желании легко можно было принять за вылетевшую из бутылки шампанского пробку.
Пульхерия Петровна накренилась, покачнулась и завалилась на бок. По ее груди расплывалось красное пятно.
Груздь брезгливо сморщился. Ростовщик не любил убивать и теперь страдал, что отъезд из города омрачен столь скверным происшествием. Само собой, его никто не отыщет, он примет меры, но вынужденное убийство не на шутку расстроило.
Мысли бежали стремительно. Пожалуй, лучше всего будет спрятать труп в погреб, чтобы его не сразу нашли, это поможет ему выиграть время…
– Дорогая!
Ростовщик вздрогнул и поднял голову.
На пороге стоял господин Сивокопытенко. Он щурился – настолько сильным был переход от яркого солнца к полумраку старой лавки.
– Дорогая, – спросил Сивокопытенко, – ты уже забрала…
Тут он увидел жену следователя на полу, увидел туфлю, слетевшую с ее ноги, револьвер в руке Груздя – и все понял.
Груздь тоже понял: если он сейчас даст уйти свидетелю – все, конец, его схватят, посадят, и остаток дней ему придется провести на бессрочной каторге.
Сивокопытенко поспешно сделал движение назад, и ростовщик, не колеблясь более, выстрелил снова.
Сивокопытенко взвизгнул каким-то тонким, почти женским голоском и упал, но, и раненный, он пытался выползти из лавки и позвать на помощь. Тогда Груздь подбежал к нему и добил выстрелом в голову, после чего расстроился окончательно.
Ростовщик убрал револьвер, оттащил труп начальника только что овдовевшего следователя от двери и поволок к погребу, но на полпути устал и бросил. Кроме того, поглядев на дородную Пульхерию Петровну, он понял, что скорее умрет, чем дотащит ее до подвала. Помимо всего прочего, у него просто не было времени.
Переступив через труп Сивокопытенко, Груздь направился туда, где оставил свой саквояж, подхватил его и вышел, тщательно заперев за собой дверь. Убедившись, что никого поблизости больше нет, старик размахнулся и забросил револьвер в кусты (поскольку в те времена криминалистика пребывала в зачаточном состоянии, ростовщик мог не беспокоиться об отпечатках пальцев, о существовании которых тогда никто не подозревал).
Свернув на улицу, Груздь увидел извозчика, на котором подозрительная Пульхерия Петровна – на горе себе – вернулась со своим любовником. Извозчик ждал господ, которые обещали скоро вернуться, но Груздь успокоил его словами, что заплатит вдвое, и велел как можно быстрее отвезти себя на вокзал.
А тела так и остались лежать в лавке, куда несколько раз стучались бедняки, по привычке пришедшие заложить вещи. Но табличка на входной двери гласила: заведение закрыто, и, повздыхав и потомившись, а также помянув про себя недобрым словом заезжую даму, которая установила в их городе совсем уж невыносимые порядки, посетители уходили домой.
Меж тем заезжая дама (вернее, исполняющая ее роль горничная Дашенька) отбивалась от комплиментов полицмейстера, который возносил хвалу ее красоте, ее душевным качествам, а также украшающим ее бриллиантам. Поблизости находился и маэстро Бертуччи, и каждый раз, когда де Ланжере выходил на новый виток беспардонной лести, у маэстро почему-то так и чесались руки его прирезать.
А напротив гостиницы «Европейская», в заведении Розалии Малевич король дна держал военный совет. Содержательница борделя уже донесла ему о том, что Рубинштейна не удалось перетянуть на их сторону, а Вася пересказал свой разговор с баронессой Корф.
Выслушав их, Хилькевич задумался.
– Может, пришьем игрока? – небрежно предложил граф Лукашевский. – А то он больно дерзок, по правде говоря.
– Пришить ума не надо, – проворчал Хилькевич, насупясь, – вот вернуть обратно будет трудновато.
Это были слова из какой-то пьески, в которой он когда-то играл главного злодея. Впрочем, кроме данной реплики, в пьесе не было ровным счетом ничего занимательного.
– Где Груздь? – спросил король дна.
Жорж ответил, что за Груздем посылали два раза, но он как сквозь землю провалился – лавка заперта, и никто изнутри не отзывается.
– Мозет, он вообще збезал? – предположил Вань Ли в порыве вдохновения.
– Макар Иваныч-то? – буркнул Пятируков. – А с чего ему бегать?
Вань Ли ничего не ответил, съежился и сунул руки в широкие рукава своей китайской одежды.
– Повтори-ка еще раз свой разговор с баронессой, – потребовал Хилькевич у Васи.
И Херувим повторил, что Амалия по-прежнему требовала выдачи Валевского и драгоценностей, что их ультиматум не произвел на нее никакого впечатления и что дама считает, будто они покрывают поляка, который с ними поделился.
– Интересно, – буркнула Розалия, – почему она уверена, что парюру спер именно Валевский? Ведь вроде нет никаких доказательств.
– Она сказала так: «Его работа, совершенно точно, можете даже не сомневаться», – подал голос Вася. Солнце зажигало в его волосах золотые нити, и молодой человек был в то мгновение столь хорош, что королева борделей поглядела на него и, не удержавшись, вздохнула.
– А ты что скажешь, Жорж? – неожиданно спросил Хилькевич у ее спутника. – Можешь даже в рифму.
Сутенер поднял голову. В его глазах мелькнуло удивление – прежде король дна никогда не интересовался его мнением.
– Я полагаю, мы толком ничего не знаем, – проговорил он. – И можем строить любые теории по поводу этой истории. Может, баронесса ищет драгоценности в самом деле и считает, что мы мешаем ее цели. А может, ее цель совсем в другом, но мы-то тут при чем? В конце концов, мы жили мирно, вели себя смирно, почти никому не мешали и место свое знали. А если мешали, зачем присылать к нам даму из столицы, когда достаточно одного приказа? Для Петербурга мы не те лица, с которыми станут церемониться сразу.
Пятируков открыл рот.
– Складно врешь! – только и мог выговорить он. – Ей-богу, складно!
– Ты повторяешь ее слова, – вздохнул Хилькевич. – И ты хочешь, чтобы я им поверил?
– В чем-то Жорж прав, – буркнула Розалия. – Зачем мы Петербургу, в самом деле?
– Вы забываете пло плиезд оцень высокого лица, котолое долзно сколо появиться в насем голоде, – неожиданно подал голос китаец.
– Что? – Граф Лукашевский озадаченно нахмурился.
– Вань Ли, – медленно проговорил Хилькевич, – так ты имеешь в виду…
– Приезд царя, – закончила за него Розалия. – Так что, они решили к монаршему визиту очистить город от нежелательных граждан? – У мадам вырвался смешок, но, не ограничившись им, она витиевато выругалась.
Хилькевич театральным жестом воздел руки к потолку, разрисованному аляповатыми Венерами и Марсами.
– Ну надо же! – И вслед за тем ухитрился выругаться еще более замысловато, чем его соратница.
Граф Лукашевский выронил тросточку, которая со стуком упала на пол. Вася заморгал глазами. Пятируков глазами не моргал, а лишь одобрительно уронил «о…».
– Господа, – вмешался Жорж, который, похоже, один сохранил хладнокровие, – можно много кого послать по матери, но мы все-таки говорим о российском императоре. Каждый имеет право на свое мнение, но все же – чуть больше уважения. Мы как-никак честные воры и сутенеры, а не какие-нибудь бомбисты и террористы.
Граф Лукашевский поморщился. Будучи польским дворянином, хоть и самозваным, он считал, что имеет право относиться критически к российскому самодержцу. Впрочем, в данный момент его куда больше занимало другое.
– Одним словом, поскольку о визите царя давно уже известно и о нем не писал только ленивый, – подытожил Антонин, – за некоторое время до него к нам прислали эту особу. Особа ознакомилась с положением дел в городе, сочла, что мы слишком сильны и что наше присутствие оскорбит… ну, допустим, монаршее самолюбие, а потому принялась нас изничтожать. Так? Или не так?
– По-моему, – несмело заметил Вася, – очень даже складно выходит.
– Вроде бы все логично и вполне прилично, – согласился Жорж, поразмыслив. – За одним исключением: ни о царе, ни о его визите сюда не было сказано ни слова, ни полслова, господа. С самого начала только о Валевском шла речь, который здесь скрывался, избегая встреч.
– Жорж, Жорж… – покачала головой Розалия. – Честное слово, иногда ты бываешь просто невыносим со своими стихами! Хотя в чем-то ты прав. Уже когда Агафон стянул кошелек приезжей дамы на вокзале, записка в нем назначала Виссариону встречу. И сразу же речь зашла именно о Валевском.
– Вы предлагаете мне верить заезжей даме, которой не доверяет даже шулер Рубинштейн? – поднял брови Хилькевич. – Он же ясно сказал, что Валевский для нее не может представлять интерес.
– Дело ведь не столько в Валевском, сколько в украшениях, которые он то ли брал, то ли не брал, – вздохнул Пятируков.
– Но пли нем их не было, – уточнил Вань Ли. – А кольцо, котолое мы насли, оказалось вовсе не из палюлы.
– Он мог и припрятать украшения, – подал голос Вася.
– Допустим, – отозвался его дядя. – Вот скажи, где бы ты спрятал украшения, которые стоят черт знает сколько?
Вася наморщил лоб.
– Ну… Я бы вообще не стал с ними расставаться. Носил бы их с собой, чтоб чего не случилось. Так надежнее. – Юноша увидел усмешки на лицах и поторопился исправиться: – Или зарыл бы в надежном месте… не знаю… При желании ведь можно спрятать все, что угодно.
– Нет, – мрачно проговорил Хилькевич. – Даже если Валевский и впрямь увел бирюльки и припрятал их, то теперь наверняка уже забрал их и смылся из города. Такой стервец не стал бы ждать у моря погоды.
Однако король дна заблуждался.
Наденька Русалкина как раз ложилась вечером спать, когда в ставни снаружи внезапно шлепнулась горсть песка. Недоумевая, девушка набросила на плечи шаль, подошла к окну и отворила его.
– Ой… – прошептала Наденька, не веря своим глазам. – Это вы, Леонард?
Глава 21
Предпочтения пана Валевского. – Находка следователя Половникова. – Кое-что об ураганах, а также о причиняемых ими разрушениях.
Леон Валевский терпеть не мог то, что он называл скверными шутками.
С его точки зрения, кража у него кошелька на вокзале была скверной шуткой, попытка Хилькевича подставить его – очень скверной шуткой, однако увоз Леона неизвестными в Херсон, пока он пребывал в беспамятном состоянии, легко превосходил в скверности все самые пакостные происшествия его жизни.
А поскольку Валевский, как уже говорилось выше, был крайне злопамятен, то и решил, что просто так этого не оставит. Но из Херсона ему оставалось разве что слать своим врагам совершенно бесполезные проклятья, поэтому для начала молодой человек отправился обратно в О.
Стоит признать, что в свете последних событий поступок его был прямо-таки героическим. Ибо в О. находились, во-первых, Хилькевич со своей шайкой, который явно не питал к поляку симпатии, во-вторых, баронесса Корф, бросившая на поиски Валевского все карательные силы города, и, в-третьих, неизвестное лицо или лица, для которых ничего не стоило оглушить человека, чтобы затем увезти его далеко от города и оставить там на произвол судьбы.
Последнее, кстати, больше всего беспокоило Валевского. Леон чуял, что стал мелкой разменной монетой в какой-то большой и сложной игре, что его вовсе не устраивало. И не только потому, что Валевский держался о себе самом весьма высокого мнения и согласен был играть только первые роли, но и потому, что смысл игры ускользал от него, и он никак не мог контролировать происходящие события.
Чтобы, наконец, хорошенько разобраться во всем, молодой человек вернулся в О. и сразу же отправился к Наденьке. По правде говоря, Валевский был счастлив видеть, что с ней ничего не произошло, что никто ей не угрожал и что девушка явно рада его возвращению.
Если бы наш совершенно правдивый рассказ был, допустим, современным фильмом, то в фильме Валевский влез бы в окно, непременно поцеловал бы Наденьку куда-нибудь, потом поцеловал бы еще настойчивее, а потом, как пишут в старинных романах, свершилось бы неизбежное.
Однако Валевский жил в XIX веке, когда к девушкам из хороших семей полагалось относиться с уважением. Поэтому он влез в окно, поцеловал Наденьке руку и скромно объявил, что не мыслит своей жизни без российской словесности и любителей оной, а в особенности без одной из любительниц.
– А где ваши вещи? – спросила Наденька.
Валевский слегка замялся и ответил, что вещи остались далеко. Тут девушка не удержалась и задала ему вопрос, не собирается ли он вернуться к своей невесте.
Валевский озадаченно моргнул, но быстро вспомнил о придуманной невесте и с горечью сообщил, что ее брат теперь злоумышляет на его жизнь, ибо жених номер два тоже от нее отказался, и вообще может случиться небольшой скандалец.
– Ах, бедный! – вздохнула Наденька. И вслед за тем участливо спросила, не голоден ли Леон, потому что такие приключения на голодный желудок могут быть вредны для здоровья.
Валевский с готовностью ответил, что чертовски голоден, и Наденька побежала искать остатки ужина.
Примерно в то же время следователь Половников сидел за столом и, вздыхая, смотрел на пустой стул, на котором должна была восседать его супруга.
Трое детей Половниковых – двое мальчиков и девочка – находились здесь же и, затаив дыхание, смотрели на отца. Служанка стояла у дверей, сложив руки поверх фартука, и то и дело порывалась сказать что-то, но, судя по всему, не осмеливалась.
Часы пробили половину десятого.
– Очень странно, что Пульхерии Петровны до сих пор нет, – пробурчал следователь и покосился на детей. – Василиса, уложите детей. Поздно уже.
Служанка увела младших Половниковых, а следователь просидел на том же месте до полуночи и наконец отправился в спальню.
Спал он плохо, а на работе его ждало известие, что его начальник Сивокопытенко тоже куда-то исчез, и как раз вчера. Все очень встревожены, и де Ланжере приказал начать поиски.
Поиски Половников начал, надо сказать, довольно интересным образом: вернулся домой, проверил, на месте ли Василиса, и затворил дверь. Затем спросил:
– Хозяйка не возвращалась?
– Нет, сударь, – пролепетала струхнувшая служанка.
– Вот как… – уронил следователь. – Кстати, господин Сивокопытенко тоже куда-то исчез, его везде ищут, но не могут найти. Ну, и что ты можешь сообщить мне по этому поводу?
Василиса стала лепетать, что ей ничего не известно, что она честная девушка и ей нет дела до того, что творят господа, но под немигающим взором Половникова (чьи глаза странным образом вдруг перестали походить на глаза больной собаки) задрожала, расплакалась и повинилась. Она носила вчера записку от хозяйки… к господину Сивокопытенко… И тот приехал, долго шушукался о чем-то с хозяйкой в гостиной, а потом господа уехали.
Слушая Василису, Половников скривился, как от физической боли.
– Много вещей с собой взяли? – угрюмо спросил он.
Василиса замигала.
– Да нет, сударь… Ничего не брали, клянусь!
– Вряд ли они бежали без вещей, – вздохнул следователь. – Да и потом, зачем ему ради нее так рисковать своим положением? Скандал на всю Россию, имя в газетах, репортеры перемывают косточки… – Половников строго поглядел на Василису: – Они пешком ушли или взяли извозчика?
Василиса подумала и ответила, что без извозчика тут не обошлось.
– Может, ты запомнила, что за извозчик был? Он что-нибудь сказал? Как выглядел? – продолжал допытываться следователь.
В результате ему удалось вытянуть из горничной, что извозчика она не запомнила, ничего особенного тот не сказал, и экипаж был как экипаж, разве что одно колесо вымазано белой краской. Получив столь ценные сведения, Половников отправился на поиски и уже через час сумел найти того, кто вез его жену и начальника к лавке Груздя.
– О чем беседовали пассажиры, пока ехали, ты не слышал? – спросил следователь у извозчика.
– О чем беседовали? – удивился тот. – Да ни о чем особенном. Говорили о какой-то собаке, смеялись. Потом дама сказала, что к Груздю пойдет сама, мол, ни к чему, чтобы их видели вместе. Вернулась она быстро и велела мне ехать назад. Но на Греческой улице дама стала беспокоиться, говорить, что не доверяет старику, что надо бы обратно… Ну, мы и поехали обратно. Дама вышла, входная дверь была заперта, и она пошла к черному ходу. – Половников, слушая рассказ извозчика, аккуратным округлым почерком делал заметки в записной книжке. – Только ушла, как господин не утерпел, велел мне обождать и отправился за ней следом. Я ждал, а потом появился другой господин. Приказал мне гнать на вокзал и посулил, что хорошо заплатит. Ну я и рассудил, что мне выгоднее, чем тех двоих ждать-то… Они чего-нибудь натворили?
– Пока нет, – ответил Половников. – Как выглядел тот другой господин? Ты можешь его описать?
– А чего его описывать-то? – усмехнулся извозчик. – Хозяин лавки был, куда они пошли, господин Груздь то есть. Хороший человек, только вот в долг у него брать накладно.
Допросив извозчика, Половников сразу же отправился в лавку ростовщика. Однако та была заперта, и внутри, судя по всему, никого не было, хотя сквозь грязные окна ничего нельзя было рассмотреть с уверенностью. Поколебавшись, следователь решил для начала рассказать обо всем полицмейстеру де Ланжере, поскольку дело касалось не только его жены, но и начальственного лица.
Через несколько часов в лавке Груздя было полно народу – и квартальный, и доктор, и пара околоточных, и дворник, и даже сам де Ланжере, усы которого как-то трагически поникли. Полицмейстер с тоской косился на два тела, распростертых на полу, и на следователя Половникова, у которого подергивалась бровь в нервном тике, но который прилежно работал, осматривая место преступления и ища улики.
– Макар Иваныча нигде нет? – спросил де Ланжере, хотя заранее знал ответ. Или, во всяком случае, подозревал.
– Нема, – вздохнул дворник.[134] – Да я со вчерашнего дня его не видал.
Де Ланжере поморщился. Нет, это ни в какие ворота не лезет! И что Хилькевич себе позволяет? Украл его бумаги, угрожает рассказать губернатору и прочим, что именно полицмейстер копил на них компромат. Да мало того что угрожает – позволил своему подручному убить высокопоставленного чиновника. И не только чиновника, кстати, но и жену следователя. Бедный Половников, такой добросовестный, такой умный, такой знающий, ах, до чего же несладко ему пришлось…
– Я только одного не могу понять, – устало промолвил де Ланжере. – Зачем?
Полицмейстер заметил, что следователь присел на корточки, подобрал под конторкой какой-то предмет и осторожно отряхнул его.
– Ваше превосходительство… – негромко проговорил Половников.
И, прежде чем он успел закончить фразу, его превосходительство уже был возле следователя.
– Благоволите взглянуть.
Де Ланжере взглянул, и в то же мгновение усы его взметнулись штопором ввысь. Потому что в пальцах следователя поблескивала подвеска с сапфиром изумительной красоты, обрамленным бриллиантами.
– Кажется, – нерешительно заметил Половников, – это оторвалось от какого-то ожерелья. Видите, вот тут звено, на котором все держалось…
– Цейлонский сапфир, – пробормотал де Ланжере. – А может быть, индийский.
Полицмейстер был весьма сведущ в том, что касалось драгоценностей, ибо и его жена – та, что невенчаная, – и подруга сердца, актриса Торопунькина, выступавшая под сценическим псевдонимом Блисталова, питали особое пристрастие к бриллиантам, изумрудам, рубинам, сапфирам и прочим милым безделушкам, без которых ни одна женщина в косном XIX веке не могла считать себя вполне женщиной.
– Гм, – уронил следователь и задумался. – А не может ли это быть сапфир из той самой парюры?
И он обменялся с де Ланжере весьма значительным взглядом.
В столовой своего особняка Виссарион Хилькевич развернул салфетку, ожидая, когда подадут обед. Но тут на лестнице раздались шаги и голоса, возмущенно заверещал что-то Семинарист, и дверь распахнулась.
– Хозяин! – отчаянно взвыл слуга.
Но было уже поздно, потому что в столовую влетел ураган, и ураган этот имел вид и обличье Амалии Корф.
Хилькевич открыл было рот, собираясь разразиться иронической тирадой насчет того, что он по натуре человек демократичный, однако же горничные ему не нужны и, во всяком случае, к обеду он их не ждал. Но Амалии, судя по всему, не было в то мгновение никакого дела ни до демократов, ни до ретроградов, ни до их тирад. Широкими шагами баронесса пересекла комнату и швырнула на стол сапфировую подвеску.
– Где остальное? – отчеканила она, глядя Хилькевичу прямо в глаза.
Вася и Пятируков, которых король дна на всякий случай оставил при себе и которые примчались на помощь Семинаристу, не сумевшему сдержать незваную гостью, застыли в дверях. Хилькевич поглядел на пылающее гневом лицо Амалии, понял, что шутки тут неуместны, и перевел взгляд на подвеску.
Тут с ним произошла странная вещь. Ему сделалось жарко в груди и вообще как-то неуютно. Король дна понял, что подвеска составляла часть украденной парюры, что парюра находилась в его городе, о чем он не имел ни малейшего понятия. Это было равносильно тому, что его провели, как младенца, и означало если не крушение, то, во всяком случае, первый его признак.
– Должен сказать, сударыня, я… – начал Виссарион Сергеевич.
– О да, – с презрением перебила его молодая женщина, – разумеется, вы ничего не знаете и вообще ни при чем. Ну так вот, к вашему сведению, вещица была найдена в лавке вашего друга Груздя, а является боковой подвеской от ожерелья, которое великий князь имел несчастье подарить Агате Дрейпер вместе с остальными украшениями. Вероятно, подвеска оторвалась во время борьбы, потому что в той же лавке были найдены трупы двух человек.
Теперь Хилькевичу уже не было жарко в груди, но чувствовал он себя совсем нехорошо. У него вдруг возникло ощущение, что он постарел, ослаб, утратил хватку, что жизнь течет мимо него, ускользает и что ничто более в мире он не может контролировать. Король дна ссутулился в своем кресле, страдальчески морщась. Кроме того, он внезапно понял, что литературное выражение «глаза метали молнии» на самом деле вовсе не литературная метафора, потому что обладательница молниеносных глаз стояла как раз напротив него и уже испепелила его до состояния праха. Он даже не мог смотреть в лицо Амалии, потому что не представлял себе, что вообще можно ей сказать.
Груздь, который исчез вчера… Ожерелье, часть которого найдена в его лавке… И на десерт – два трупа, о которых Хилькевич слышал впервые…
Впрочем, все недостающие детали головоломки можно было легко выяснить.
– Вам нужно ожерелье? – угрюмо спросил Хилькевич.
– Мне нужно все, – отрезала Амалия, забирая со стола подвеску. – Все восемнадцать украденных предметов, которые составляли парюру. Включая пуговицы, булавку, браслеты и диадему.
Хилькевич покосился на Пятирукова, и старый вор, поняв его взгляд, вышел, уводя с собой племянника. Дверь за ними затворилась почти бесшумно.
– Должен вам признаться, – проговорил король дна, – что для меня самого ваши слова были… э… некоторым образом неожиданностью.
– Должна вам признаться, – с вызовом парировала Амалия, – что не верю ни единому вашему слову.
– Похоже, недоверие совершенно взаимно, – бросил Хилькевич, – потому что я подозревал вас в двойной игре. Я считал, что под предлогом поисков украшений вы просто-напросто ищете, как бы меня погубить.
– Парюра, – напомнила Амалия, не обратившая ни малейшего внимания на его слова. – Когда она будет у меня?
Хилькевич задумался и почесал бровь. Да, не так-то просто будет найти Груздя, потому что мошенник наверняка успел покинуть город и теперь запутывает следы. Однако король дна отлично знал, что с деньгами в Российской империи нет ничего невозможного, а он был намерен найти своего бывшего соратника любой ценой.
– Мне нужны три дня, – наконец выдавил из себя Хилькевич.
– Два, – поправила его Амалия. – Действуйте. – И баронесса двинулась к дверям. – Должна заметить, что было совершенно излишне убивать уважаемого господина Сивокопытенко, да еще так жестоко. Вам очень повезет, если окажется, что вы и впрямь тут ни при чем.
В голове у Хилькевича мгновенно заметался какой-то фейерверк. Неужели Груздь убил Сивокопытенко? Он что, совсем с ума сошел?
– Черт знает что! – пробормотал расстроенный король дна, когда его гостья наконец ушла.
Через минуту в дверь протиснулась морщинистая физиономия Пятирукова.
– Виссарион, что произошло?
– Ничего, – свирепо буркнул Хилькевич, отшвырнув салфетку. – Собирай всех людей. Пора показать этому чертову городишку, кто тут хозяин!
Глава 22
Некоторые соображения о прожорливости кошек. – Дебри непознанного и звонкая монета. – Разговор с хорошим знакомым, который завершился вовсе не хорошо.
Евгений Жмыхов поднялся рано утром, поколдовал в своей лаборатории, где, по его словам, пытался изобрести приспособление для фотографирования в цвете, и часам к восьми обнаружил, что слегка проголодался.
Данная причина имела прямым следствием то, что вскоре студент оказался на кухне. Евгений помнил, что со вчерашнего ужина остались две котлеты и еще кое-какая снедь, но, когда он залез за котлетами в буфет, выяснилось, что тот оскорбительно пуст.
Поскольку Евгений был человеком сугубо научным и не писал фантастических романов, он не мог даже представить себе, чтобы, допустим, такие материальные вещи, как котлеты (две штуки), испарились в параллельное измерение. Так же напрочь отверг молодой человек предположение, будто котлеты ушли своим ходом наподобие Колобка из сказки.
Пока он размышлял над этой проблемой, дергая себя за волосы, которые, как всегда, торчали непокорной копной, на кухне появилось новое лицо.
– Наденька, – кротко спросил Евгений, устав ломать голову над неразрешимой проблемой, – а куда вчерашние котлеты делись?
Наденька порозовела. Дело в том, что котлеты (как читатель, конечно, уже догадался) уничтожил ее гость, после чего расположился на ночлег в небольшом чуланчике. По словам Валевского, ему было просто некуда деться, потому что брат его невесты обещал подкараулить незадачливого бывшего жениха и разделаться с ним по-свойски.
– Котлеты в буфете, Женечка, – сказала Наденька ласково. – А что?
Евгений оставил в покое волосы и почесал ухо.
– Их там нет, – наконец признался он с несчастным видом.
– А, ну тогда, значит, Дуся их съела, – успокоилась Наденька.
Евгений с ужасом покосился на Дусю, которая стояла в дверях и, шевеля хвостом, с интересом поглядывала на хозяев.
– Но буфет был закрыт! – вырвалось у него.
– Ну, Женечка, как будто ты не знаешь, какая наша кошка хитрая, – пожала плечами Наденька. – Когда ей что-то надо, она всегда найдет, как это заполучить.
Дуся с укоризной поглядела на нее. Между прочим, если бы кошка владела человеческой речью, она бы тоже могла рассказать Евгению много чего интересного. Но, увы, они были не в сказке, и поэтому бедной Дусе оставалось только терпеть поклеп, который на нее возводила хозяйка.
– До чего же прожорливое животное! – вздохнул Евгений, с ностальгией вспоминая вчерашние котлеты.
– Да полно, Женечка, – успокоила его Наденька. – Жизнь не кончилась, котлеты еще будут. Просто буфет надо плотнее закрывать. – Она достала разделочную доску и нож. – Ты иди, я тебя позову, когда завтрак будет готов.
Успокоенный обещанием кузины Евгений вернулся в лабораторию, а Наденька порезала для виду несколько морковок и пошла в чулан, где на старой детской кровати, скрючившись в три погибели, дремал Валевский. Дуся побежала следом за хозяйкой и стала вертеться возле Валевского, который чихнул и проснулся.
– Кошка! – простонал Леон, отворачиваясь. – Брысь!
– Вы не любите кошек? – огорчилась Наденька.
– Я всякий раз начинаю чихать, как только они оказываются слишком уж близко, – объяснил Леон и в подтверждение своих слов снова чихнул.
Дуся сделала попытку забраться к нему на ногу, и Наденька поспешно взяла кошку на руки.
– Который час? – спросил Валевский.
– Чуть больше восьми, – сказала Наденька.
Валевский зевнул и поспешно прикрыл рот рукой.
– Хорошо, что вы меня разбудили, Наденька. Мне надо уходить. – Он кое-как разложился из трех погибелей в нормальное положение и сел на маленькой кровати.
– Скажите… – Наденька порозовела и слегка замялась, – а ведь вы Леонард Валевский?
Тут Леону как-то сразу расхотелось даже чихать.
– И словесность вас вовсе не привлекает, – добавила Наденька, дабы внести окончательную ясность. – Да и невесты в нашем городе у вас нет.
– Нет, – признался Валевский. Изворачиваться и дальше под блестящим взглядом милой девушки было просто немыслимо. – Я просто вор и лжец. Простите меня, Наденька.
Она вздохнула и прижала кошку к себе. Валевский поглядел на ямочки на локтях Наденьки, на завитки волос над ее лбом, и ему захотелось куда-нибудь провалиться, а потом вернуться честным человеком, который не прячется по чуланам и которого, уж во всяком случае, не обвиняют в краже баснословных драгоценностей.
– Вас везде ищут, – наконец сказала Наденька. – И в газете про вас писали.
– Про меня всегда пишут в газетах, – скромно заметил Леон, и это была чистая правда.
– Что же вы теперь будете делать? – спросила девушка после паузы. – У вас есть деньги?
– Нет. У меня ничего нет. – Наденька сделала движение к двери, и Леон прибавил, сердясь на себя: – Но и у вас я ничего не возьму.
Однако она уже вышла за дверь, опустила Дусю на пол и поспешила к себе. Чувствуя неловкость оттого, что втягивает в свои дела такую милую девушку, которая и так могла пострадать из-за знакомства с ним, Валевский наскоро пригладил волосы, поправил воротник рубашки и вышел следом за ней.
В своей комнате Наденька сняла с полки нерединский сборник «У камина», в котором хранила свои сбережения. Сбережения предназначались на покупку следующего сборника или журнала со стихами знаменитого поэта, но в данный момент ей было не до него. Денег оказалось мало, оскорбительно мало, и на глазах у нее выступили слезы, но усилием воли Наденька переборола себя и побежала в гостиную. В ящике секретера, впрочем, денег было еще меньше, чем в секретном хранилище, ибо братец не далее как вчера подписался на новый сногсшибательный журнал, который обещал ниспровергнуть всю современную литературу и увлечь читателей в дебри непознанного. Поняв, что из-за этих дебрей ей никак не удастся помочь Леону, девушка топнула ногой и чуть не разрыдалась, но, помня про рассеянность брата, стала выдвигать и задвигать все ящики подряд – авось где-нибудь обнаружится что-нибудь материальное и сугубо меркантильное. Надежда, как известно, умирает последней именно тогда, когда ей лучше бы загнуться первой, но в данном случае она не только не умерла, но и вполне оправдалась. И когда Валевский вошел в гостиную, Наденька метнулась к нему и сунула ему в руку кошелек с деньгами со словами:
– Вот, это все, чем я могу… могу вам помочь.
Валевский еще никогда не чувствовал себя так скверно, как сейчас. Он хотел отказаться, объясниться, упасть к ее ногам, наконец, но тут вошла Дуся, скользнула к нему, и Леон стал яростно чихать.
– Сейчас Аполлон проснется, – шепнула Наденька. – Идемте!
Она вывела его на кухню и выпустила через черный ход.
– Если вам вдруг что понадобится… – начала Наденька, теребя непослушную рыжеватую прядь волос, – вы всегда можете рассчитывать на нас.
Совесть, которая так некстати пробудилась в душе Валевского, демонически захохотала, и молодой человек окончательно разозлился на себя.
«Не стоило мне вообще приходить в этот дом. Ведь ясно же, что я могу навлечь на них только беду! И вообще…»
Вообще, если бы пан Валевский меньше предавался разговорам с самим собой, а смотрел бы по сторонам, то наверняка увидел бы фигуру, которая нырнула за изгородь при его приближении, когда поляк шел по двору. Но он был поглощен своими мыслями и ничего не заметил.
Чем был занят Валевский остаток дня, нам решительно неизвестно. Впрочем, бронзовый император видел, как известный вор, одетый почему-то как трубочист и к тому же измазанный сажей, спешил куда-то по улице, а через некоторое время объявился на площади, где стоял памятник французскому герцогу, и даже имел нахальство спросить у городового, как ему найти некий дом. В этот дом, собственно, Валевский и направился. Он поднялся по лестнице на второй этаж, убедился, что его никто не видит, постучал и, удостоверившись, что внутри никого нет, с помощью отмычки просочился сквозь дверь.
На город опустилась ночь, когда на лестничной клетке наконец раздались тяжелые шаги. Дверь растворилась, затем зажегся свет, и некто, насвистывая себе под нос, проследовал в комнату, которую условно можно было назвать гостиной, потому что в ней было чуть чище, чем в остальных.
В гостиной человек сел за стол, вынул из кармана что-то, блеснувшее синими искрами, и стал разглядывать это что-то при свете лампы. Потом хмыкнул, достал кое-какие нехитрые приспособления и попытался выковырнуть пару самых крупных сапфиров из оправы. Увлеченный своим занятием, он даже не заметил, что сзади него нарисовался чей-то силуэт, а когда поднял голову, было уже поздно.
– Здорово, Агафончик, – усмехнулся Валевский.
После чего от души врезал старому вору раз, и еще раз, и еще, и продолжал бить его после того, как Пятируков упал на пол. Валевский не отличался особой жестокостью, однако прекратил избивать Агафона лишь после того, как почувствовал, что устал.
– Сс…ука! – прохрипел Пятируков, корчась на полу.
Однако у него еще хватило сил, чтобы выхватить нож и попытаться пырнуть им Валевского. Тут Леон разозлился настолько, что ударил хозяина квартирки с маху каблуком по руке и услышал, как хрустнули пальцы. Агафон взвыл.
– Чего ты от меня хочешь? – простонал старый вор, держась за поврежденную руку. – Скажи, чего?
– А ты думал, что можешь подставить меня, и я это забуду? – холодно спросил Валевский, забирая нож. – Что было в конвертах, которые лежали в сейфе де Ланжере?
Пятируков замотал головой и объявил, что не знает.
– Неверный ответ, – раздумчиво проговорил Валевский. – По-моему, ты хочешь лишиться второй руки.
Приспешник Хилькевича злобно покосился на него и забормотал:
– Бумаги… которые заставят власти вести себя тихо… А то совсем жизни не стало из-за этой… этой…
– Можешь не продолжать, – быстро отозвался Валевский, – я уже понял, о ком ты. Где те бумаги теперь?
Пятируков стал клясться, что понятия не имеет, но в конце концов сообщил, что бумаги Хилькевич забрал себе.
– Что за цацки? – поинтересовался Валевский, кивая на стол, на котором переливалось сапфировое ожерелье, которое Агафон не успел изувечить. – Жирновато для такого, как ты, по правде говоря.
– Будто ты не знаешь? – злобно скривил рот Пятируков. – Ожерелье из парюры. Оно было нас покинуло, да мы его того… вернули.
Валевский нахмурился. Показалось ли ему или на одном из камней темнела засохшая капелька крови?
– Да, да, – ухмыльнулся Пятируков. – Не стоило Груздю пить! Он мне выболтал когда-то по пьяни, где у него запасная хата, на случай, если все плохо обернется. Ну, пока все остальные прочесывали железные дороги и порт, я и отправился прямиком туда. Тяжело со стариком получилось, пришлось его пришить.
– Это Хилькевич приказал ожерелье искать? – спросил Валевский, и желваки на его скулах дернулись.
– Да. Груздь, олух, из-за него двух человек завалил и след оставил, – с отвращением объяснил Пятируков. – Вот дама к нам и прицепилась, мол, отдайте ожерелье, не то худо будет. А ты что, его вообще в первый раз видишь?
– Но не в последний, – спокойно проговорил Валевский и сунул ожерелье себе в карман.
– Ты этого не сделаешь! – вскинулся вор.
– Еще как сделаю, – ответил поляк, блестя глазами. – Нужно же мне моральное, так сказать, возмещение за то, что пришлось иметь с вами дело.
Поняв, что он вовсе не шутит, Пятируков разразился проклятьями:
– Сволочь! Ублюдок! Надеюсь, твоей девке мало не покажется, когда за нее наши возьмутся!
Валевский поднял голову.
– Ты о чем? – как-то тускло и неубедительно спросил он.
– А ты о чем думал? – взвизгнул Пятируков. – Ожерелье обнаружилось в городе, ты тоже тут был… ясное дело, и остальные предметы из парюры где-то поблизости. Может, ты у друзей своих их спрятал? У дурачка-библиотекаря или у Русалкиных, а?
Мгновение Валевский стоял неподвижно, но потом его обуяла такая ярость, что он кинулся на Пятирукова и стал бить каблуком по второй руке. Это было гнусно, это было отвратительно, но если бы он когда-то не дал себе клятву не мараться чужой кровью, он бы вообще убил Агафона.
Пятируков застыл на полу. Чувствуя ярость, отвращение, бешенство, Валевский двинулся к двери. Но, когда уже взялся за ручку, услышал смех. Старый вор, сидя на полу, смеялся, и от его смеха Валевский вздрогнул, переменился в лице.
– Дурак ты, Леон, ей-богу! Чистый дурак! Ты хоть подумал, к кому я сейчас пойду? Кому скажу, что ты все еще в городе? Да тебе повезет, если тебя быстро убьют, не мучая!
Он совершенно не боялся Леона, и это чувствовалось в интонации, в выражении лица, в ругательствах, которыми старый вор завершил свою речь. Валевский медленно обернулся.
– Я бы на твоем месте подумал сначала, как объяснить Хилькевичу, почему ты не сразу отнес ему ожерелье, а зачем-то пошел домой. И уже потом предпринимал бы дальнейшие действия.
Смех резко оборвался.
Чувствуя, что еще мгновение, и он вернется и все-таки прикончит Пятирукова, и до самой смерти будет на нем страшное пятно, от которого не отмыться никакими покаяниями, никакими молитвами, Валевский поспешно удалился.
А старый вор, охая и морщась, поднялся с пола. Ему было больно, но, по правде говоря, он больше изображал страдания, чем страдал по-настоящему. Да и руки у него были изуродованы не слишком сильно. Во всяком случае, Агафон был уверен, что через недельку-две он сможет, как и прежде, заниматься своим основным ремеслом.
Ругаясь, Пятируков достал с полки банку с целебной мазью, которая заживляла все раны в два раза быстрее, и тут за спиной у него скрипнула отворяемая дверь. Агафон резко обернулся – и вздохнул с облегчением:
– А, это ты… Черт, а я думал, Валевский вернулся.
– Он до сих пор в городе? – изумился вошедший. – Неужто совсем с ума сошел?
– Кажется, да, – угрюмо кивнул Пятируков. – Представляешь, я нашел Груздя, разобрался с ним и взял ожерелье, так варшавский молодчик у меня его отнял. Убить его мало, ей-богу! – Тут он заметил в руке собеседника какой-то сверток. – Что там у тебя, а?
– Да так, – ответил тот уклончиво, – птица.
– Курица, что ль? – спросил Пятируков, намазывая руку мазью.
– Нет, – ответил его гость. – Ворона.
Агафон в недоумении поднял голову… Но, увы, порой он соображал слишком медленно.
Тускло блеснуло узкое лезвие. Лампа опрокинулась и упала, и в полной темноте несколько секунд были слышны только возня и сдавленный хрип.
А потом наступила тишина, и в этой тишине было лишь слышно, как через несколько минут хлопнула входная дверь.
Когда луна заглянула в окно, Агафон Пятируков, мертвый, с раскинутыми руками, был распростерт посреди комнаты.
На его груди лежала мертвая ворона.
Глава 23
О том, как Пашка Семинарист учинил обыск и чем тот обыск завершился. – Герой, который всегда является вовремя, как и положено герою. – Странный вопрос баронессы Корф.
В комнате разгром.
Разбитые очки Русалкина валяются на полу. Аполлон, сразу же ставший совершенно беспомощным, тянется за ними. Ухмыляясь, Пашка Семинарист наступает на очки ногой, и слышно, как хрустят стекла.
Наденька в ужасе жмется в углу. У нее одно желание – чтобы ее не видели, чтобы на нее как можно дольше не обращали внимания.
– Где брюлики? – спрашивает Семинарист у ее брата. – Цацки где? А?
Его подручные роются в шкафах, выбрасывают книги, переворачивают все вверх дном.
Русалкины стали легкой добычей незваных гостей. Женечка где-то припозднился – в последнее время он часто куда-то уходит, возвращается за полночь, – дома находились только брат с сестрой. Начитанный брат и романтическая сестра, которые совсем не были подготовлены к нашествию гуннов.
Русалкин лепечет, что ничего не знает, что он вообще не понимает, о чем идет речь… Семинарист делает вид, что хочет замахнуться. Аполлон смотрит на него с ужасом…
– Ну, говори! – глумится Семинарист. – Дом библиотекаря мы уже обыскали, там ничего нет.
– Боже! – вскрикивает Наденька, забыв о себе. – А что с Аркадием Ильичом?
Семинарист щерится.
– Повезло старику, его дома не было… Ну че? Где брюлики-то?
– Я ничего не знаю, – бормочет Русалкин. – Произошло какое-то недоразумение!
– Ага, недоразумение, что домой к тебе шлялся этот сукин сын Валевский, – хохочет Семинарист. – Нам все известно, учти!
– Какой Валевский, о чем вы? – стонет Русалкин.
– Он же Леонард Дроздовский, – поясняет Семинарист. – Знатный ворюга… Он вам украшения оставил на хранение? Или как? Лучше отдай их сразу, потому что мы все равно найдем…
К нему подходит здоровенный детина – один из его корешей, которые обыскивают остальные комнаты дома.
– Ну? – оборачивается к нему Семинарист.
– В спальне ничего, во второй спальне тоже. В сарайчике какая-то лаборатория – колбы, порошки, куски мыла… тоже мне, Брокар выискался… Нигде никаких следов цацок.
– Осторожнее! – стонет Русалкин.
Гунны выбрасывают из шкафа редкие старые книги, переплет у одной из них отваливается… Обманутый выражением его лица, Семинарист оборачивается, но понимает, что хозяин боится только за свою драгоценную библиотеку. Рожу Пашки перекашивает злобная гримаса.
– Ну ладно, – гундосит он. – Не хочешь по-хорошему, будем по-плохому… Ишь какая сестра у тебя знатная, а?
Семинарист делает шаг к Наденьке.
– Не смей трогать мою сестру! – кричит Аполлон.
Наденька не успела даже испугаться. Где-то хлопнула дверь, кто-то закричал, и в комнату ввалился с порезанным, злым лицом Леон Валевский. Перед собой он волок одного из подручных Семинариста, совсем еще мальчишку с виду, приставив к его горлу нож.
– Тю! – дивится Семинарист. – Перо!
Его помощники застыли и стали переглядываться. Пашка подбоченился, чувствуя себя здесь самым главным, человеком, который будет вести переговоры и который уж точно не даст запудрить себе мозги.
Валевский дернул порезанной щекой. Ему явно было не так легко войти в дом, полный гуннов.
– Оставь их в покое, – проговорил он, и снова в его речи прорезался четкий иностранный акцент. – Они тут ни при чем!
– Ну да, так я и поверил, – глумливо ответил Семинарист. – А ты что, Ежика резать собрался?
Ежику было очень страшно, но присутствие приятелей не позволяло ему показывать свой страх. Юнец осклабился и почувствовал, как Валевский поудобнее перехватил его за шею.
– Или вы отпустите их, или я перережу ему горло!
– Гы, ну режь, коли хошь, – милостиво разрешил Семинарист. – Нужен он мне… сявка какая-то…
В следующее мгновение кто-то из воров, подкравшись сзади, ударил Леона по голове. Ежик ловко сбросил его руку и отскочил в сторону. Валевский упал на пол.
– Нет! – закричала Наденька. – Не надо, прошу вас!
Но Леона все-таки успели ударить несколько раз, причем ногами.
– Хватит… – вмешался Семинарист, который ни на мгновение не забывал, зачем они здесь. – Хватит, кому сказал!
Подошел к Валевскому, схватил его за отвороты рубашки и заставил приподняться с пола.
– Где цацки? Где парюра? Куда ты их дел? – нараспев проговорил Семинарист.
Валевский вздернул подбородок.
– Пропил, ясно? Дурак! Нет у меня никакой парюры и никогда не было!
– Ну ладно, – прошипел Семинарист и извлек из кармана складной финский нож. Щелкнула пружина, ослепительно сверкнуло острое лезвие. – Где парюра? Последний раз спрашиваю. Охота еще возиться, глаза тебе резать…
– Брось нож.
Леон удивленно повернул голову – насколько это было возможно в его положении пленника.
В дверях стояла белокурая особа в простом черном платье и в черных же перчатках. Правая перчатка сжимала револьвер.
Из-за спины особы высовывался остренький носик библиотекаря Росомахина.
– Аркадий Ильич! – вырвалось у Наденьки. – Слава богу, вы целы!
– Так… – протянул Семинарист. – А вот и баронесса Корф!
Русалкин вытаращил глаза. Он был близорук, но уже по цвету волос, по очертаниям фигуры догадался, что стоящая в дверях особа никак не может быть баронессой Корф – той темноволосой женщиной, которая пообещала ему на вокзале, что его обществу любителей российской словесности выделят помещение, если в нем будут состоять хотя бы десять человек.
– И шулер вместе с ней, – подлил масла в огонь Ежик и хихикнул.
Тут только Наденька разглядела в полумраке за блондинкой высокого, худого молодого брюнета с маленькой головой и изящными руками. Брюнет покосился на Ежика и ничего не ответил.
– Брось нож, – повторила Амалия. – А всем остальным я советую сдаться.
– Да? – недобро усмехнулся Семинарист и несильно полоснул Валевского лезвием по шее.
Грянул выстрел, и вслед за тем затрещали двери, загрохотали половицы под чьими-то тяжелыми шагами, задребезжало разбитое стекло. В комнату ворвались полицейские, схватили воров, скрутили Валевского, от избытка служебного рвения наступили на руку Русалкину и едва в общей куче не повязали Наденьку.
Одним из последних мимо Амалии в комнату семенящими шажками вошел следователь Половников, прищурился, поглядел на труп Семинариста, лежавший посреди комнаты, и отвернулся.
– Леонард Валевский? – спросил Половников у поляка.
– Полагаю, глупо было бы это отрицать, – ответил тот. Затем подбородком указал на Амалию: – Госпожа знает меня в лицо.
– Вы разумеете Дарью Егоровну Кузнецову? – удивился Половников.
– Нет. Я говорю о баронессе Корф.
– Но… – начал следователь в смущении.
– Я настоящая баронесса Корф, – вмешалась Амалия, – а моя служанка изображает меня. Ваш город слишком гостеприимен, чтобы тут можно было спокойно работать, поэтому мы и выдумали подмену… Обыщите его.
Валевского обыскали, и вскоре ожерелье из императорской парюры было уже у Амалии в руках.
– Где остальное, пан Валевский? – спокойно спросила Амалия.
Вор покачал головой.
– Я отобрал эту вещь у некоего Пятирукова, а он из-за нее убил своего приятеля Груздя. – Леон поглядел на мертвого Семинариста, который теперь казался жалким и бесполезным, как сломанная кукла. – Вы его убили?
– Боюсь, что так, – ответила Амалия.
– Я могу забрать пана Валевского для допроса? – вмешался следователь.
– Нет, сначала я сама поговорю с ним, – отрезала молодая женщина и сухо улыбнулась. – Простите, но я приехала в город только из-за него и, по чести, первой должна побеседовать с ним.
Собеседник слегка поклонился в знак того, что ничуть не возражает против ее главенства. Какая странная вещь – интуиция, мелькнуло в голове у Амалии. Ведь Половников – прекрасный следователь, отнюдь не взяточник, если верить осведомителю, и притом хороший человек, а между тем… между тем она в его присутствии ощущает себя не в своей тарелке. «Может быть, он когда-то кого-то убил или погубил? – смутно подумала Амалия. – Но он мне неприятен, этот семенящий человечек с грустными глазами и невыразительным голосом. Да, решительно неприятен…»
Однако ее отвлекли от размышлений громкие голоса, раздававшиеся снаружи. Оказалось, что вернулся Евгений Жмыхов и околоточный у входа задержал его. Студент бушевал и протестовал, но Половников быстро разъяснил ему ситуацию: грабители напали на дом, господин Росомахин вызвал подмогу и заодно дал знать баронессе Корф. Ничего особенного, никто не пострадал, за исключением одного человека, но поскольку человек тот абсолютно чужой, то можно считать, что все окончилось лучше некуда.
– Боже мой… – пробормотал Евгений. Непокорные волосы стояли теперь на его голове прямо-таки дыбом. – Наденька! Аполлон! Мне даже в голову не могло прийти! Что произошло?
Русалкин, который тщетно пытался собрать воедино разбитые и растоптанные очки, ответил, что пятый поклонник российской словесности, господин Дроздовский, оказался на самом деле Леоном Валевским, однофамильцем сына французского императора, и этого однофамильца подозревают в том, что он украл какие-то драгоценности. Грабители почему-то решили, будто драгоценности могли оказаться в их доме, устроили обыск, сломали один шкаф и испортили несколько книг. Однако варварство побеждено, книги он подклеит, а что до шкафа, то его тоже можно починить.
– Кажется, и в Наденькиной спальне грабители что-то разбили, – добавил Аполлон несмело.
Евгений изменился в лице.
– А моя лаборатория? Боже мой! Я же проводил там опыты… опыты с фотографией… Туда ни в коем случае нельзя было впускать свет, иначе все мои труды… Ах, что за невезение!
Он заметался, извинился перед Наденькой и побежал в сарай проверять, что там да как. Наденька, всхлипывая, все еще сидела в углу. Кошка Дуся, которая со свойственной кошкам прозорливостью куда-то спряталась во время нашествия, вылезла из своего укрытия и стала робко ластиться к девушке. Но Наденька оттолкнула ее:
– Оставь меня!
Девушка поймала взгляд Валевского, которого увлекали к выходу из комнаты полицейские, хлюпнула носом и отвела глаза. Полицейские уводили и воров, которые вяло переругивались со своими конвоирами. Под ногами хрустели осколки стекла. Амалия и ее небольшая свита уже удалились. Аполлон поднялся и, потирая ноющие ребра, стал искать что-то в ящике стола.
– Вам помочь, сударь? – очень вежливо спросил Половников.
Маленький следователь задержался у дверей и, похоже, вовсе не собирался уходить. Наденька хлюпнула носом, погладила наконец Дусю, которая теперь дулась и отворачивалась, и, стоя на коленях, стала собирать выброшенных из шкафа кукол и разные мелочи.
– Я ищу старые очки, – сконфуженно проговорил Русалкин. – Эти же никуда не годятся, а без очков я совсем ничего не вижу.
Половников подошел, и вдвоем они наконец смогли найти очки, однако совсем древние и со сломанной дужкой. Аполлон вздохнул:
– Погодите, кажется, у кузена была проволока, он сумеет нам помочь… Женя! Женя, у тебя есть проволока?
Евгений принес кусок проволоки, кое-как починил очки и удалился. По его лицу было видно, что он крайне расстроен. Судя по всему, его фотографические опыты надо было начинать снова.
– Возможно, нам придется поговорить с вами, – мягко промолвил Половников.
– О чем? – спросил Русалкин. Вновь обретя зрение, он прежде всего стал собирать рассыпанные книги, не обращая внимания на все остальное.
– О том, каким образом вы познакомились с Валевским, – ответил следователь. – Думаю, вы даже не отдаете себе отчета в том, какой опасности избегли, милостивый государь.
– Позвольте, – перебил его раздраженный Русалкин, – но это просто ужасно! В нашем городе 216 тысяч человек, и только четверо из них интересуются словесностью. А господин Дроздовский – простите, господин Валевский – стал пятым. И он рассуждал о стихах очень интересно! У нас с ним были прелюбопытные диспуты…
– По какому именно поводу, простите? – печально осведомился маленький человек с глазами больной собаки.
– О стихах Нередина, – подумав, важно заговорил Русалкин. – И о прозе Пушкина. Хотя господин Валевский придерживался довольно-таки обидного мнения о нашей литературе. По его словам, когда у других, более просвещенных наций были Бокаччо, Вийон, Шекспир и Сервантес, у нас в России вместо словесности была пустыня. Мы, мол, чудовищно отставали от европейских стран, обезьянничали, копировали, порой еще хуже – оригинальничали, но все это было пошло, плохо, ученически скверно. И вот наконец пришел Пушкин, которому пришлось создавать все практически на пустом месте, из ничего. Поэзию и прозу, причем как чистую беллетристику – вспомним «Повести Белкина», – так и серьезный реалистический роман, к которому Пушкин подошел лишь в конце жизни. Я говорю, разумеется, о «Капитанской дочке». И хотя господин Валевский путал «Капитанскую дочку» с «Пиковой дамой», но он же все-таки иностранец, ему простительно. А мысли он высказывал очень, очень глубокие!
И тут двое мужчин услышали чье-то рыдание. Плакала Наденька, сидя на полу в нескольких шагах от трупа Семинариста и закрыв лицо руками. Слезы капали сквозь ее пальцы, плечи девушки дрожали, и смотреть на нее было настолько невыносимо, что даже Русалкин забылся и выронил книгу, которую держал в руках.
– Простите, ради бога, – проговорила Наденька, подняв наконец голову, – но я не могу… не могу… Такой уютный у нас был дом, а теперь…
Она с ужасом посмотрела на труп и отвернулась.
– Да, я думаю, можно его увезти, в самом деле, – сказал Половников поспешно. – Синельников! – В дверях показалась чья-то усатая физиономия. – Будь так любезен, попроси там поторопиться… Пусть забирают тело в мертвецкую, да как можно скорее.
Он учтиво поклонился Наденьке и ее брату и двинулся к выходу. Через несколько минут пришли люди в шинелях и забрали тело. Теперь в гостиной русалкинского дома все было почти как всегда, разве что один шкаф лежал опрокинутый да пол был усеян разбросанными вещами, книгами и битым стеклом. Дуся поглядела на все это, жалобно мяукнула и, подойдя к хозяйке, потерлась головой о ее платье.
Что же касается незваных гостей, то их отвезли в полицейское управление и стали там допрашивать. Одно за другим зажигались окна в вечернем полупустом здании, слышались шаги и голоса, хлопали двери, заполнялись какие-то бумаги, и кто-то побежал уже ставить самовар, чтобы не было так неуютно. Потому что товарищи Семинариста держались упорно и не желали говорить, кто именно заставил их напасть на дом Русалкиных. Валевского сразу же отделили от остальных воров, и в кабинет его привели совершенно особый, тот, в котором сиживал при своей жизни покойный господин Сивокопытенко. За дверью тотчас же поставили человека, и еще двое стерегли поляка в самом кабинете, чтобы тот не вздумал выскочить в окошко. И хотя баронесса Корф могла сразу же допросить его, без особых проволочек, она начала с того, что вызвала доктора. Медик заклеил порезы Валевского и, осмотрев его, объявил, что не находит сломанных костей, разве что несколько синяков. Но это все пустяки, добавил старый доктор с улыбкой, до свадьбы заживет. Он пожелал баронессе спокойной ночи и удалился, оставив после себя сильный запах йодоформа.
Амалия села за стол красного дерева, за которым раньше сидел Сивокопытенко, и положила на него ожерелье и оторванную подвеску. Рубинштейн и старичок библиотекарь по ее просьбе ждали в соседней комнате.
– Можете выйти, – сказала баронесса конвоирам, – вы мне не нужны.
Полицейские потоптались, но не осмелились перечить и ушли. Амалия проверила, подходит ли оторванная подвеска к ожерелью, и убедилась, что они и впрямь составляли не так давно единое целое. Загадкой было лишь то, каким образом подвеска вообще смогла оторваться – насколько могла судить Амалия, все элементы ожерелья были пригнаны друг к другу очень прочно, и нужна была недюжинная сила, чтобы оторвать хоть один.
Она поглядела на невозмутимое лицо Валевского, который сидел напротив нее, сложив руки, с полосками пластыря на лице и шее. У него был вид человека, который не намерен сдаваться, несмотря ни на что, и Амалия сразу же поняла, что разговор предстоит непростой.
– Значит, вы не имеете никакого отношения к краже парюры? – спросила она по-польски, чтобы их не смогли понять те, кто находился за дверью.
Валевский покачал головой.
– Никакого, госпожа баронесса. Уверяю вас, это клевета. А ожерелье, которое вы при мне нашли, я сегодня отнял у пана Пятирукова, потому что он сильно им дорожил.
– В самом деле? – заметила Амалия. – Господин Половников!
И через несколько секунд маленький следователь уже стоял в дверях.
– Господин Половников, будьте так добры, съездите с людьми за господином Агафоном Пятируковым и привезите его сюда. Мне надо с ним побеседовать.
Половников пообещал, что постарается обернуться как можно скорее, и вышел.
– Вы давно знакомы с паном Пятируковым? – спросила Амалия.
Валевский повел плечами.
– Он пытался одно время промышлять на Варшавско-Венской дороге. Впрочем, уже довольно давно.
– А не так давно, как я понимаю, вы что-то с ним не поделили?
Валевский улыбнулся:
– Сущие пустяки, госпожа баронесса. Когда я отобрал у него безделушку, то счел, что он вполне покрыл свой долг мне.
Его светлые глаза озорно блеснули. И хотя ребра и скула ныли у Леона до сих пор, с каждой фразой он все больше и больше становился похож на прежнего Валевского, задиру и насмешника, который не лез за словом в карман. Судя по всему, баронессе не понравилась такая перемена, потому что она пристально поглядела на своего собеседника и внезапно спросила:
– Скажите, Леон, зачем вы вернулись из Херсона?
Глава 24
Самый поразительный сыщик на свете. – Непреложное доказательство причастности пана Валевского к исчезновению драгоценностей. – Вопросы без ответов.
Валевский хотел было, по своему обыкновению, отшутиться, но тут с поляком произошла странная перемена. А именно: он покосился на Амалию, заморгал глазами с видом крайнего изумления, открыл рот, закрыл его и задвигался на стуле.
– Послушайте, – наконец проговорил Леон, – откуда вам известно о…
Он осекся, но Амалия и так поняла, что он имеет в виду. Как, как она могла так ошибиться? Ведь прежде ей ничего не стоило заниматься зараз и двумя, и тремя делами, а теперь она совершает промахи, досадные просчеты, вовсе не обязательные в ее положении. И который раз баронесса устало подумала о том, что ей не стоило возвращаться в особую службу, пусть даже ради одного-единственного задания, что надо было оставить прошлое в прошлом и не тревожить его. Финита. Баста. Новая жизнь.
Правда, что в ней такого интересного, в новой жизни?
Ну, можно жить для себя, путешествовать, покупать приятные безделушки, знакомиться с разными интересными людьми, заводить необременительные романы. Смотреть, как растут дети, наконец. Наслаждаться каждой минутой своего существования, чувствовать, как из бесшабашной молодости переходишь в зрелость, как становишься мудрее, где-то мягче и терпимее, где-то с точностью до наоборот. Читать книги, может быть, снова выйти замуж, может быть, совершить какое-нибудь безумство…
Какая скука, боже ты мой!
Амалия почувствовала на себе пытливый взгляд Валевского, но не стала поднимать взора. Ожерелье Агаты Дрейпер сверкало на столе, как искусно сплетенная сапфировая ловушка.
– Так, значит, это вы отвезли меня в Херсон, – наконец проговорил Валевский. – Потому что иначе… – Леон дернул щекой, – иначе откуда вам знать, что я там оказался.
Баронесса могла сказать, что он преувеличивает, и придумать десяток доводов в свою защиту, но ей неожиданно стало скучно. К чему хитрить, к чему пытаться обмануть друг друга? Нет ничего более унизительного, чем вот такая бесполезная ложь.
– Зачем? – вырвалось у Валевского. Он подался вперед, пытаясь поймать взгляд баронессы, но та упорно не хотела на него смотреть. – Послушайте, я имел дело с множеством сыщиков. Папийон в Париже, Джеббинс в Лондоне, Фрейберг в Варшаве… Они все пытались поймать меня, и кое-кому это даже удавалось. Но вы! Признаться, я впервые встречаю такого сыщика, как вы, – который, чтобы найти преступника, нарочно увозит его подальше. Нелепо, немыслимо, просто неправдоподобно, наконец! Да просто вообще черт знает что такое, если вам угодно знать мое мнение!
Валевский был ошеломлен, ошарашен, растерян. В жизни ему многое довелось видеть, и не так давно знаменитый вор был уверен, что никто и ничто больше не сумеет его удивить. Но оказалось, что он ошибался. Причем удивил его как раз тот человек, которого, по его разумению, Валевский знал почти как самого себя и думал, что уж он-то точно не сумеет преподнести ему никаких сюрпризов.
– Зачем вы это сделали? – спросил Валевский уже в изнеможении.
И тут увидел, что баронесса улыбается.
– У меня были веские причины, поверьте.
– Какие? – Вор развел руками. – Если вы увезли меня, значит… значит, я был вам не нужен. Так? Или не так?
В кабинете, некогда принадлежавшем господину Сивокопытенко, наступило молчание.
– Вы приехали сюда вовсе не за мной, – наконец проговорил Валевский. – Получается, вам известно, что я не брал тех драгоценностей.
Амалия покачала головой.
– Этого я никогда не говорила, – возразила она.
– Но когда произошло ограбление, я находился в совершенно другом месте!
– Только если верить вашим словам.
– У меня есть свидетели!
– Которым вы внушили сказать то, что выгодно для вас.
– Но я говорю правду! У меня нет драгоценностей!
Баронесса вздохнула:
– Зачем вы вообще приехали в город О.?
– Меня везде искали из-за этой чертовой парюры, – сердито ответил Валевский. – И я решил поехать в место, которое ни один человек не сумел бы со мной связать.
И тут Леон вспомнил свою попытку бегства, вспомнил вокзал, запруженный толпами народа, красного де Ланжере, похожего на его воспитателя, Агафона Пятирукова в толпе и Амалию, которая шла рядом с другой дамой, темноволосой и миловидной. И еще он вспомнил ее карие глаза с золотыми искорками, которые смотрели на него в упор.
Конечно, баронесса увидела его! И не могла не узнать! Но тем не менее отвернулась и притворилась, что видит впервые в жизни, потому что не он был ее истинной целью, потому что ее привело в город что-то другое, совсем другое… то, что было куда важнее, чем все похищенные парюры и все Валевские на свете.
– Вы ведь узнали меня тогда, на вокзале? – напрямик спросил Леон.
Амалия усмехнулась:
– Вас? О да, конечно.
– Достаточно было одного вашего слова, чтобы меня тогда арестовали, – сердито промолвил поляк.
– Верно. Но я его не произнесла.
И, услышав равнодушно брошенное «не произнесла», Валевский бог весть отчего страшно надулся.
– Почему вы сразу же не покинули город, когда узнали о моем приезде? – осведомилась Амалия.
Леон отвел глаза. Что он мог сказать? Что ему были нужны деньги, и он принес Карену, то есть Вань Ли, кольцо на продажу, а тот стал хитрить, сказал, чтобы приходил потом, а потом было уже поздно? Что Валевский потерял время и оказался обложен со всех сторон, как дикий зверь? Да еще про то, что на вокзале у него украли кошелек, отчего он попал в совсем уж безвыходное положение?
– Я хотел помериться с вами силами, – буркнул Валевский.
И, странное дело, баронесса притворилась, будто поверила его словам. Или ей было все равно?
– И поэтому вы остались?
– Да.
– Вы нашли приют у некоего Аркадия Ильича Рысенкова… нет, Росомахина. Вы давно с ним знакомы?
– Всего несколько дней. Он потерял кошелек на улице, я вернул его ему, мы познакомились. – Амалия вздернула брови, но ничего не сказала. – Библиотекарь состоит в «Обществе любителей российской словесности», и таким образом я познакомился с остальными членами общества – паном Русалкиным, панной Русалкиной и их кузеном. Но это все вряд ли вам интересно. – Леон закусил губу. – Скажите, неужели вы приехали в О., чтобы положить конец бесчинствам Хилькевича?
Амалия метнула на собеседника быстрый взгляд.
– Господин Хилькевич – почетный гражданин и уважаемая личность в городе, – возразила она. – С чего вы взяли?
– Просто я припоминаю все то, что вы делали под предлогом поисков меня и пропавших драгоценностей, – отозвался арестованный и принялся загибать пальцы. – Сначала сгорел склад опиума и контрабанды, затем пострадали ссудные кассы, позже начались обыски в ночлежках и притонах, а веселые дома были закрыты. И кому же пришлось солонее всего? – Валевский выпятил нижнюю губу. – Правильно, Хилькевичу, который считает себя повелителем местной шантрапы. Только вот считать он может все, что угодно… а мне не верится, что вы могли опуститься до такого жалкого существа, как этот женоубийца. Значит, все-таки не он. Тогда кто?
– Может быть, все-таки поговорим о парюре, которую вы украли? – предложила Амалия. И по бесстрастному лицу молодой женщины Леон понял, что, каково бы ни было ее истинное задание, о нем она не проронит ни слова.
– Я уже говорил вам. Я не брал драгоценностей!
– А я вам не верю, – уронила баронесса, зорко наблюдая за ним.
– Почему? Скажите, какие у вас доказательства, что я имею отношение к их похищению?
– Никаких. За исключением того, что ни один человек в мире, кроме вас, не смог бы украсть драгоценности так, как они были украдены.
И Амалия улыбнулась торжествующей улыбкой, а Валевский почувствовал невольную досаду.
– А вы не думаете, – спросил он, – что Агата Дрейпер сымитировала похищение своих украшений? Полагаю, танцовщица отлично понимала, что ей подарили вещь, на которую не имели права… и что рано или поздно парюру придется вернуть.
Однако Амалия упрямо покачала головой.
– Нет, нет, нет. Парюра находилась в поезде, с нее не спускали глаз, и тем не менее она словно растворилась в воздухе. Понятия не имею, каким образом вам это удалось, но тем не менее – браво, пан Валевский.
– Я уже говорил вам… – начал закипать поляк.
– А я уже говорила вам, что не верю ни единому вашему слову, – перебила Амалия. – Давайте лучше побеседуем про замечательное сапфировое ожерелье, которое пан Половников нашел в вашем кармане.
– Ожерелье не мое, – возразил Валевский. – Я отнял его у Пятирукова, а Пятируков ради него убил Груздя.
Баронесса нахмурилась. Опять Груздь… старый ростовщик, мошенник, в чьей лавке ни с того ни с сего были обнаружены два трупа… И сапфировая подвеска, которую никак нельзя было оторвать, к примеру, в пылу борьбы.
Допустим, Пульхерия Петровна и ее любовник принесли ожерелье на продажу, и Груздя обуяла жадность. Но тогда оставался открытым вопрос, каким образом ожерелье попало к супруге следователя или к ее поклоннику.
Амалии было известно, что Сивокопытенко брал взятки, но царское ожерелье с огромными сапфирами – такое чересчур даже для Сивокопытенко. Так что, драгоценность попала в его руки случайно? Каким образом?
Или тут как-то замешан тот маленький человечек, который ей инстинктивно так не нравится, супруг Пульхерии Петровны? Но у него-то каким образом могло оказаться ожерелье?
Если нашел, то где? Если купил, то откуда деньги? И у кого вообще он мог его купить?
Амалия чувствовала, что дело начинает все сильнее занимать ее, хотя, собственно говоря, вовсе не оно должно было интересовать ее в эти минуты.
– И что, Пятируков так просто позволил отобрать у себя баснословную драгоценность?
Валевский улыбнулся:
– У меня с детства хорошо развит дар убеждения, госпожа баронесса. Помнится, еще пан Шледзь в приюте…
– Я помню, он был одним из первых, кого вы обокрали, – кивнула Амалия. – Вы увели у него все сбережения, и ваш воспитатель вынужден был наняться сторожем, чтобы хоть как-то прокормиться. – Она шевельнулась в кресле. – Что вы сделали с Пятируковым, пан Валевский?
– Вряд ли вам стоит беспокоиться из-за такой малости, – ответил Леон, усмехнувшись. – Полагаю, старый вор жив-здоров и вскоре будет пакостить по-прежнему. Я только слегка его проучил.
– Вот как? Значит, это он заставил вас ограбить дом де Ланжере? Вместе с Хилькевичем, к примеру?
– Не вижу смысла отрицать то, что вам и так, должно быть, отлично известно, – улыбнулся поляк. – Если вы увезли меня в Херсон, то, уж наверное, знаете, что произошло со мной у де Ланжере.
Амалия не стала уточнять, что появилась в доме полицмейстера уже после того, как Хилькевич и Пятируков ушли.
– И все-таки вы не сказали самого главного, Леон. Зачем все-таки вы вернулись из Херсона?
В ее устах имя «Леон» прозвучало очень просто, чуть ли не по-семейному.
Впрочем, двое собеседников и в самом деле были знакомы довольно давно.
– Я уже говорил, что хотел помериться с вами силами, – проворчал Валевский, косясь на Амалию. – Кроме того, мне не нравится, когда меня водят за нос.
Баронесса пожала плечами.
– Что ж, панна Русалкина и впрямь очень мила, а если к тому же месье Хилькевич угрожал, что с ней разделается…
– Это все ваши домыслы, – чуть поспешней, чем следовало, возразил Валевский. – Я ни словом о подобном не обмолвился.
– Тогда поговорим о нашем деле, – на удивление легко согласилась Амалия. – Вы – безвинная жертва клеветы и оказались в городе совершенно случайно. Парюры у вас нет и никогда не было, о том, где она находится, вы не имеете ни малейшего представления. Ожерелье попало к вам только потому, что вы решили свести счеты с господином Пятируковым, который со своим сообщником обманом заставил вас открыть сейф в доме господина де Ланжере. Вообще вам ровным счетом ничего не известно, и ничего нового вы мне не расскажете. Я правильно вас понимаю?
– Ну почему же, кое-что мне все-таки известно, – возразил обиженный Валевский. – К примеру, что некая особа делает вид, будто ищет драгоценности, тогда как на самом деле просто всех дурачит. И вообще, коли уж речь зашла о драгоценностях, я не услышал от вас ни одного объяснения, почему они должны быть именно у меня. За исключением, конечно, совсем уж фантастической версии, что украл их я, потому как больше некому.
Амалия подняла голову и возразила ровным голосом:
– Вынуждена разочаровать вас, пан Валевский, но то, насколько фантастична моя версия, не будет иметь для вас совершенно никакого значения. Потому что за вами числится столько всего, что одно разбирательство затянется на полгода, а то и дольше. Считайте, вам повезло, что ваша вина в деле похищения парюры не может быть доказана. Иначе, должна признаться, разбирательство было бы куда более коротким и проходило бы при закрытых дверях. Вы понимаете, что я имею в виду?
Валевский хотел было ответить язвительной фразой по поводу произвола, который творится в славной Российской империи. А заодно собирался пройтись на тему того, что жизнь и свобода человека здесь явно ничего не стоят, а также, если подвернется случай, в выгодном свете упомянуть Наполеона. Однако Амалия просто не дала ему времени на то, чтобы произнести мало-мальски приличную тираду. На ее звонок пришли конвоиры, и Валевского увели.
Через минуту в дверь постучали.
– Войдите! – крикнула Амалия.
На пороге возникла чья-то согбенная фигура.
– Можно, госпожа баронесса? – почтительно осведомился Аркадий Ильич Росомахин. – Вы сказали мне, чтобы я зашел к вам после того, как вы допросите этого мошенника.
– Да, – сказала Амалия, – входите. Если вас не затруднит, закройте дверь поплотнее… Вот так. Прежде всего, я полагаю, нам необходимо рассчитаться.
Глава 25
Господин осведомитель. – О том, что лучшая доброта та, за которую платят звонкой монетой. – Невидимый враг, который стал видимым.
– Что ж, было бы весьма нелишне, сударыня, – промолвил старый библиотекарь, кланяясь.
Он сел напротив Амалии и чинно сложил руки на коленях. Молодая женщина достала из кармана увесистый кошелек, содержащий, судя по виду, вовсе не презренные копеечки, и протянула Росомахину.
Аркадий Ильич заглянул в кошелек, и его старческие щеки окрасились бледным румянцем, а глаза влажно заблестели. С видом полного удовлетворения он кивнул и спрятал дар.
– А вы, сударыня, чрезвычайно щедры, – объявил библиотекарь, с умилением глядя на свою собеседницу. – Не то что господин, который был тут до вас, – тот и жалованье-то частенько задерживал.
Амалия нахмурилась.
– Он не мог задерживать жалованье, – резко проговорила баронесса. – Жалованье осведомителям особой службы выдается из секретного фонда и всегда приходит в срок.
– Не мог, однако ж задерживал, – вздохнул Росомахин. – И вообще с вами, сударыня, куда приятнее иметь дело. Во всех отношениях, – тонко польстил старичок.
Амалия, хоть и отлично знала цену лести, все же невольно улыбнулась.
– А я думала, что успела утомить вас своими поручениями, – заметила она.
– Ничуть, сударыня, – возразил библиотекарь. – Опять же, приятно в моем возрасте чувствовать, что ты при деле и хоть чем-то можешь помочь властям. При всей своей симпатии к Александру Сергеевичу Пушкину и прочим свободолюбцам из числа светочей нашей словесности я всегда был сторонником существующего порядка.
– В самом деле?
– Да, сударыня. Если исходить из весьма непопулярной теории, что каждый получает ту власть, которую заслужил, мы имеем более чем пристойную власть. Позвольте полюбопытствовать, вы читали сборник «Письма Маркевича»? Он был выпущен не так давно, год или два тому назад.
– Нет, – сухо ответила Амалия, – я не считаю господина Маркевича настолько значительным писателем, чтобы штудировать еще и его письма.
– В сборнике не только письма, – возразил старик, – но и, например, ответы графа Алексея Константиновича Толстого, стихотворца, автора «Князя Серебряного» и вообще писателя весьма достойного. И граф Толстой, заметьте, вовсе не для публики пишет своему другу Маркевичу: «Каким бы варварским ни был наш образ правления, правительство лучше, чем управляемые. Русская нация сейчас немногого стоит, русское дворянство – полное ничто, русское духовенство – канальи, чиновники – канальи, не существует уже и флота – этих геройских каналий, три четверти которых я бы велел повесить, если бы был главнокомандующим, но которые все же чего-то стоили; в литературе, за исключением меня, канальи такие, что дальше некуда. Позор нам! И это мы еще хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем новые начала и смеем говорить о гнилом Западе».[135] – Библиотекарь вздохнул. – Я говорю к тому, сударыня, что хотя страна наша и замечательна со всех точек зрения, обширна и обильна, но словно тяготеет над нею какой-то темный рок. Беспорядок испокон веков прививается здесь куда лучше, чем порядок, и каждое положительное движение имеет самые непредсказуемые последствия. Взять хотя бы отмену рабства…
Старик вдруг заметил, что баронесса не слушает его, и обернулся. В дверях стоял Николай Рубинштейн.
– Я же попросила вас подождать, пока я не вызову, – недовольно проговорила молодая женщина.
Николай хотел возразить, мол, он не слуга, чтобы за ним посылали, но посмотрел на утомленное лицо Амалии, на круги под ее глазами и решил, что это лишнее.
– Значит, вы осведомитель? – спросил он у библиотекаря. – То-то мне показалось странным, как легко господин Валевский нашел у вас приют…
В самом деле, Аркадий Ильич приютил у себя поляка вовсе не потому, что тот выказал горячую любовь к российской словесности. Библиотекарь сразу же заподозрил, что складный блондин с синяком на физиономии вовсе не тот, за кого себя выдает, и решил хитростью задержать его у себя. За ужином Росомахин подсыпал Валевскому в чай снотворное, обыскал его вещи и со всех ног бросился за Амалией, которая, опознав жильца, удивилась, почему тот задержался в городе. По ее поручению библиотекарь следил за Валевским, и если изредка упускал его из виду, то потом все равно снова брал след. Именно Росомахин дал знать Амалии, когда Хилькевич и Пятируков приковали Леона в доме полицмейстера. Молодая женщина позвала на помощь Рубинштейна, вдвоем они оглушили поляка и увезли его в Херсон.
– А некоторые сочли, что вы были просто непростительно добры к неизвестному человеку, – добавил игрок с улыбкой, обращаясь к Росомахину.
– Ах, сударь, – вздохнул тот, – вам ли не знать, что лучшая доброта та, за которую платят звонкой монетой!
– Кстати, я должна вам сообщить кое-что, – вмешалась Амалия. – Молодчики Хилькевича разгромили ваш дом, пока вы докладывали мне, где именно видели Валевского. Если вам нужна помощь, я могу…
– Я должен сначала посмотреть, каков ущерб, – ответил библиотекарь. – Дома у меня разве что книги и газеты, денег я там не держу. – Старик поднялся с места. – Если, сударыня, узнаю что новое по другому нашему делу…
– Да, – кивнула баронесса, – непременно дайте мне знать.
Аркадий Ильич поклонился и вышел. Рубинштейн проводил его взглядом и невольно подумал, что, попроси у него старик денег и посетуй на невыносимую бедность, он бы отдал ему последний рубль, даже не задумываясь.
– Зачем вы здесь? – спросила Амалия. – Я уже у Русалкиных сказала вам, что вы можете возвращаться в гостиницу.
– Уже поздно, – мягко заметил Николай, – разрешите проводить вас домой. Или ваши дела на сегодня еще не закончены?
Амалия поморщилась и поглядела на сапфировое ожерелье.
– Я послала Половникова за Агафоном Пятируковым. В сущности, поручение совершенно бесполезное, но я не могу уйти, пока…
Однако поручение оказалось вовсе не бесполезным, потому что за дверями раздались семенящие шажки, и в кабинет без стука вошел – даже вкатился – запыхавшийся следователь. Амалия сразу же отметила, что тот не на шутку взволнован.
– Он убит, – доложил Половников, часто-часто мигая.
– Кто убит? – не поняла Амалия.
– Агафон Пятируков. Причем… – Половников замялся. – Он лежал посреди комнаты, а на груди у него находилась дохлая ворона.
Ворона… Баронесса неожиданно кое-что вспомнила, и перед ней возникло искаженное обидой лицо того, кого она, изображая горничную, называла Иваном-царевичем. «Виссариона тоже пытались запугать, ворон ему слали, Коршуна убили…»
– Я думаю, – нарушил молчание Половников, – надо еще раз допросить Валевского. Если поляк отнял у Пятирукова ожерелье, а затем убил его…
Но Амалия только отмахнулась.
– Нет, – сказала она, – Валевский тут ни при чем, он не идет на мокрые дела. Скажите, Антон Иванович, вам случайно не известен человек по фамилии или кличке Коршун?
– Известен, – кивнул следователь. – Только, гм, как бы получше выразиться, он не человек уже, а труп.
– Коршун был как-то связан с Хилькевичем? – допытывалась Амалия. – Я имею в виду, до того, как стал трупом?
Следователь объяснил, что Коршун исполнял в доме Хилькевича обязанности дворецкого и что лично он, Половников, был сильно удивлен, когда за городом обнаружили его тело. Амалия задумалась.
– А в последнее время… допустим, после моего появления здесь… больше никто из подручных Хилькевича не погиб при странных обстоятельствах?
Половников пристально поглядел на нее.
– Вы полагаете, – наконец проговорил он, – что кто-то убивает людей Хилькевича одного за другим, желая ослабить его позиции, дабы занять его место? Решил использовать ваш приезд и…
– Дело в том, – объяснила Амалия, – что дохлая ворона появляется в нашем деле не первый раз. Один человек уже упоминал прежде, что Хилькевич получал ворону или ворон еще до гибели Пятирукова.
– Это знак, – неожиданно подал голос Рубинштейн.
– Что еще за знак? – повернулась к нему молодая женщина.
– По-моему, он был в ходу у атаманов разбойничьих шаек в прошлом веке, – небрежно ответил Рубинштейн. – Дохлая ворона – предупреждение, что главарю не жить.
Пока баронесса совещалась со следователем и Рубинштейном, в одном из кабинетов управления востроносый молодой полицейский – один из тех, кто ездил вместе с Половниковым, чтобы задержать Пятирукова, – написал короткую записочку и вручил ее одноногому мальчишке-нищему, который полз на костылях мимо полицейского управления. Востроносый полицейский шепнул мальчишке что-то на ухо и сделал значительное лицо. Калека уныло кивнул и продолжил свой путь, но за углом отдал костыли товарищу, встал на обе ноги (откуда взялась вторая, так навсегда и осталось загадкой для истории) и припустил во весь дух. А через двенадцать с половиной минут уже входил во двор дома Виссариона Хилькевича.
Король дна прочитал записку, побурел лицом и велел сейчас же собирать людей. Заложив за спину руки, он расхаживал по большой гостиной, и глаза его горели нехорошим, стальным блеском.
Из записки Хилькевич узнал, что Валевский схвачен и что баронесса Корф завладела ожерельем. Но куда существеннее было второе сообщение – о старом друге Пятирукове и о том, в каком виде его нашли. Виссарион Сергеевич представил себе мертвого Агафона с вороной на груди, и короля дна начала обуревать такая ярость, что он был готов крушить все подряд.
Хилькевич прекрасно знал, что именно означает дохлая ворона: конец его власти, конец ему самому, конец всему. И его раздражала какая-то дешевая театральность угрозы. В конце концов, к чему подобные выходки? Можешь убить – убей, но зачем так глумиться, да еще над мертвыми?
Вася Херувим, который теперь неотлучно находился при Хилькевиче, встречал и впускал гостей. Первым прибыл Вань Ли, который жил совсем недалеко. Следом за ним появился граф Лукашевский, а последними прибыли Розалия и Жорж.
– Закрой дверь, – бросил Хилькевич Васе, – и сядь.
Вань Ли зевнул и прикрыл рот ладонью. За окнами было уже совсем темно.
– Что такое? – недовольно спросила Розалия. – Зачем нас собрали, да еще ночью?
– Ну и веселье… – отметил Жорж. – Это что, по поводу ожерелья?
– Нет, – мрачно ответил Хилькевич. – Ожерелье уже у баронессы Корф.
– Она алестовала Глуздя? – изумился китаец.
– Не совсем. Груздя отыскал Агафон и отнял у него драгоценность. Но потом ожерелье похитил варшавский молодчик, а Агафон…
Виссарион Сергеевич все-таки позаботился о том, чтобы по старой театральной привычке выдержать паузу идеальной длины. Присутствующие затаили дыхание. И тут у Хилькевича по позвоночнику пробежал неприятный холод.
Все ждали продолжения фразы.
Кроме одного.
Никто из пришедших не подозревал, что Пятируков убит. Никто, кроме того, кто и зарезал Агафона.
Король дна в смятении отвернулся. А ларчик-то открывался до отвращения просто, господа… строил козни, подбрасывал ворон и убивал не какой-то там затаившийся враг, тать в ночи, а человек, который находился сейчас в одной с ним комнате. Человек, который знал его, Хилькевича, как облупленного; человек, который был вхож к нему дом; наконец, человек, которого ни Коршун, ни Пятируков ни капли не опасались. Убить короля дна и присвоить его власть хотел один из пятерых, сидевших в гостиной с такими напряженными лицами и ждавших, что он им скажет.
Так кто же из них? Вань Ли, он же Карен Абрамян? Юный наивный Вася, который приходится убитому, между прочим, племянником? Граф Лукашевский, известный мастер темных дел? Двуличная Розалия, которая никогда не питала к нему, Хилькевичу, даже симпатии, не говоря уже о любви? Или Георгий Аронов, он же Жорж, с виду дурак дураком и уши холодные, а на самом деле… Да точно ли он так глуп, как притворяется?
И тут Хилькевич сообразил, как ему вывести врага на чистую воду. Не то чтобы в его голове сразу же, в какие-то доли мгновения, сложился идеальный план, но он понял, какой линии ему придерживаться и как себя вести.
– Виссарион! – пробасила Розалия. – Что с тобой?
– Так что там с Агафоном? – спросил граф.
Неимоверным усилием Хилькевич заставил себя улыбнуться.
– Кажется, я говорил о Пятирукове? – хрипло пробормотал он, раздирая ворот рубашки. Дышать ему все-таки было тяжело, сказывалось колоссальное нервное напряжение последних дней. – Так вот, он убит. Его зарезали и на грудь бросили дохлую ворону.
Розалия беззвучно ахнула. Граф Лукашевский остолбенел. Вань Ли открыл рот, хотел что-то спросить, но передумал и рот закрыл.
– Валевского работа? – неожиданно спросил Вася. – Скажите, да?
– Валевского со счетов сбросьте смело, он не пойдет на мокрое дело, – парировал Жорж.
– Нет, это не он, – покачала головой Розалия. – Исключено!
– Но тогда кто? – выкрикнул Вася по-мальчишески звонким голосом, сжимая кулаки. – Кто же?
– Тот же человек, который прислал мне дохлую ворону через Сеньку-шарманщика, а потом зарезал Коршуна, – спокойно ответил Хилькевич. – Судя по всему, некто решил, что с приездом баронессы Корф настал благоприятный момент, чтобы избавиться от меня. Однако, – и тут в голосе его зазвенела угроза, – он заблуждался.
– Но, черт побери, так не может продолжаться! – вскинулся граф. – Выходит, что же, нас всех одного за другим перережут, как кур? Надо найти его и… и самому ему прописать дохлую ворону!
– Правильно, – кровожадно одобрил Жорж. – Надо его поймать и голову ему оторвать.
– Да поймать его, я думаю, дело нехитрое, – оскалился Хилькевич. – Дело в том, что тот, кто все и затеял, находится среди нас.
Вань Ли икнул и вытаращил глаза.
– Ви сельезно, Виссалион? И кто зе он?
– Признаться, – задумчиво продолжал Хилькевич, – мне было нелегко его вычислить. Зато теперь я совершенно уверен, что это именно он.
И король дна торжествующе поглядел на лжекитайца, который в то мгновение вообще пожалел, что родился на свет. Вася подался вперед, готовый по первому знаку хозяина схватить Вань Ли.
– Виссарион, – пролепетала Розалия, и голос ее с привычного баса взлетел аж до сопрано, – послушай… Ты уверен? Ты уверен, что это именно он?
– Ну конечно, я уверен, – весело откликнулся Хилькевич. – Не правда ли, Жорж?
Глава 26
Торжество разума и волшебная анаграмма. – Конец врага. – О том, как Леон Валевский высказал весьма обидное мнение о государе императоре Александре Павловиче, а Амалия его поддержала.
Розалия оцепенела. Жорж, впрочем, оцепенел тоже.
– Ой, мама… – сказал Вань Ли на чистом русском языке и угас окончательно.
– Послушайте, – сутенер все-таки нашел в себе силы для возмущения, хоть и нерифмованного, – это что, какая-то шутка?
– Нет, – равнодушно ответил Хилькевич, – вовсе нет. Ты подговорил одну из бордельных девиц передать Сеньке сверток с вороной, ты убил Коршуна и вышел из дома, а затем сделал вид, что только что вернулся и тебе никто не открывал. И, наконец, ты убил Агафона, которому даже в страшном сне не могло привидеться, что нужно тебя опасаться.
– Однако… – пробормотал граф Лукашевский. – Я… я даже не знаю, что сказать!
Но Васе Херувиму определенно было что сказать, и он сказал, хоть и в весьма непечатной форме. Затем Вася вцепился убийце своего дяди в горло, повалил его на диван и стал душить. Розалия завизжала и сделала попытку оторвать Васю от ненаглядного Жоржа, но даже дородной бандерше было не под силу остановить разъяренного юношу.
– Виссарион! – стонала Розалия. – Умоляю тебя! Виссарион, это же безумие! Ты хуже наших судейских, они хоть требуют доказательств, прежде чем засадить! У тебя есть доказательства? Скажи, есть? То, что ты сказал, не тянет даже на подозрение!
– А по-моему, все вполне логично, – заметил граф и, не обращая более внимания на удушаемого Жоржа, налил себе в стакан воды.
– А ты что скажешь, Вань Ли? – поинтересовался Хилькевич. – По-твоему, я не прав?
– Откуда мне знать? – пролепетал растерянный китаец. – Но ведь так пло любого можно сказать, что он что-то пеледал или что он мог кого-то там залезать… – Вань Ли умолк и съежился под пристальным взглядом короля дна.
– Конечно, – неожиданно согласился Хилькевич. – Но раз я так сказал, значит, у меня есть доказательства. Все дело в воронах… Вася!
Херувим, который сейчас скорее напоминал демона, чем ангела, внял все-таки зову короля дна и оглянулся. Жорж уже хрипел.
– Хватит, – небрежно молвил Хилькевич. – Это слишком легкая для него смерть. (Розалия всхлипнула.) Он умрет иначе, а пока – не спускай с него глаз!
– Вы сумасшедший старик! – взвизгнул Жорж. Он сипло дышал, его лицо было багрового цвета. – Я никого не убивал!
– Ну да, и к воронам ты не имеешь никакого отношения, – хмыкнул король дна. – Скажите мне, друзья, – он и сам не заметил, как с его языка сорвалось совершенно непривычное для него слово, – а зачем вообще кому-то слать ворон? Допустим, ты желаешь извести этого человека и занять его место. Но для чего…
– Да пропадите вы пропадом с вашим местом! – взвился Жорж. – С чего вы взяли, что оно вообще мне нужно?
Вася угрожающе навис над ним, но сутенер, похоже, исчерпал лимит своего страха. Он глядел зло, и уголок его рта подергивался. Граф посмотрел на него и, покачав головой, отвел глаза.
– Такие знаки, – спокойно продолжал Хилькевич, – хороши разве что в романах, но все книги, как вам известно, есть вранье от первого до последнего слова. Так зачем же переносить в жизнь то, что должно остаться уделом чьего-то необузданного воображения? Разве что, – хозяин дома усмехнулся, – если у убийцы у самого хорошо развитое воображение, если он склонен к театральным жестам и если, наконец, он не слишком умен. Потому что одно его пристрастие к дешевым эффектам позволит его вычислить.
Виссарион Сергеевич сделал паузу и обвел присутствующих тяжелым взглядом. Потом снова заговорил:
– А теперь давайте подумаем, кто из нас по складу характера не побрезговал бы где-то выискивать дохлых ворон, с риском для себя возиться с ними и подкладывать их на место преступления. Возьмем, к примеру, Вань Ли. Похоже ли такое на него? Нет. Максимум, на что он способен, – разыгрывать из себя китайца или увести в другом городе груз с опиумом. Или, допустим, Антонин Лукашевский. Тот может и убить, и зарезать, но какие-то мертвые птицы – не в его характере. С Васей, я думаю, все и так ясно, он чересчур молод для столь сложной комбинации. Что же до тебя, Розалия…
– Ты говоришь, как прокурор! – обозлилась королева борделей. – Но все это слова, слова, слова! – выдала мадам, даже не подозревая, что только что процитировала бессмертного Вильяма Шекспира. – И я вижу, к чему ты клонишь. Мол, Жорж любит дешевые эффекты, единственный среди нас говорит стихами, а значит, ворон подбросить мог только он. Так вот, Виссарион, заявляю тебе: чушь! Чушь, и более ничего! Потому что я хорошо знаю Жоржа и готова за него поручиться. Он не способен на то, о чем ты говоришь!
– И тут мы подходим к самому главному, – кивнул Хилькевич. – Почему были выбраны именно вороны? Всем известно, что я люблю птиц, так что знак получался вдвойне зловещим. Но почему вороны? А вот почему. Если слегка переставить буквы в слове «ворона», то мы получим «Аронов». Это называется анаграмма, другое слово из тех же букв, – пояснил король дна. – И кто же из нас носит фамилию Аронов, а?
– Вы сошли с ума… – прошептал Жорж. Теперь он был бел, как полотно. – По-вашему, я выбрал ворон, чтобы указать сам на себя?
– Ну, ты думал, что имеешь дело со старым дураком, чье место не грех и занять, – снисходительно пояснил король дна. – А при твоей любви к театральной дешевке соблазн был слишком велик.
Хилькевич распрямился, почувствовав, что последним доводом прихлопнул сутенера, как могильной плитой. И тут Жорж сам поторопился подтвердить его слова – сорвавшись с места, бросился к окну, чтобы попытаться выпрыгнуть наружу. Но Вася был начеку. Он настиг Жоржа и стал избивать его.
– Виссарион! – зарыдала Розалия.
И Хилькевич внял, Хилькевич снизошел, Хилькевич хлопнул в ладоши. Вошли слуги, которым король дна шепотом отдал несколько указаний. Васю оторвали от жертвы, у которой губа была рассечена, глаз заплыл, а щегольской светлый костюм приказал долго жить. Шатающегося Жоржа уволокли, Вася же, злобно покосившись на Розалию, стал собирать с пола опрокинутые в пылу борьбы вещи.
– Ты зверь! – крикнула Розалия Хилькевичу, топнув ногой. – Просто зверь! Что ты теперь с ним сделаешь?
Граф Лукашевский потер жидкие светлые усики и попросил:
– Может быть, обойдемся без подробностей? Не надо портить присутствующим аппетит.
– Все равно я не верю, что это он! – горячилась Розалия. – Не верю! Вот ты тут рассуждал о характере, о соответствии… Он не способен на такое, поймите! Он же трепло! Юбочник! Трус! Только с бабами и умеет обращаться… А взять нож и зарезать Коршуна – поступок из совсем другой оперы! Или Пятирукова…
Вань Ли поежился.
– Залезать человека много ума не надо, – буркнул лжекитаец. – Только мне стланно, сто Золз метил на твое место, Виссалион. – Затем он повернулся к растерянной бандерше. – Ты не обизайся, Лозалия, но Золз – он зе дулак. Пличем дулак, который понимает, что он дулак, и не лезет куда не надо. С чего бы ему взблело в голову заделаться главным? Это все лавно высе его возмозностей. Понимаете, что я имею в виду?
– А по-моему, он просто дурак, и точка, – пожал плечами Лукашевский. – Кроме того, вы, Вань Ли, приписываете ему какую-то сверхъестественную мудрость, утверждая, что он знал пределы своих возможностей. Все люди смотрят на жизнь одинаково: сначала попробуем, а там поглядим. Жорж такой же, как и все.
– Вот именно! – выкрикнул Вася. По его лицу было видно, что он не на шутку переживает из-за смерти дяди.
– И заметьте, – добавил граф, – что Жорж начал именно с Коршуна и Агафона, то есть с людей, которые стояли к Виссариону Сергеевичу ближе всего. Как он разделался с Коршуном, мы уже знаем. Позвонил, Коршун открыл, Жорж осмотрелся, решил, что момент подходящий, и убил его. Потом улучил момент, пришел в квартиру к Пятирукову и убил его, пока мы были заняты поисками Груздя.
– Все верно, – кивнул Хилькевич. – Только вот мне что интересно, Антонин. Я ведь ни словом не упомянул, что Пятирукова убили в его квартире. Ты у нас ясновидец или как?
И король дна с интересом посмотрел графу в глаза.
– Но ты же говорил… – пролепетал Лукашевский.
– Ничего подобного я не говорил, – отрезал Хилькевич. – Розалия?
– Нет, не говорил! – выкрикнула бандерша.
– Виссалион даже не упоминал о квалтиле, – поддержал ее Вань Ли. – То есть… погодите… Антонин?
Граф облизнул губы.
– Я все объясню… Дело в том, что я… Я знал, что Агафон убит. Мне сказали…
– Тебе не могли сказать, – возразил Хилькевич. – Когда я начал говорить об Агафоне, ты с невинным видом спросил, что с ним случилось. Да, ты знал, что он убит, но знал не потому, что тебе об этом сказали. Ты знал, потому что сам убил его. – И Виссарион добавил, чтобы окончательно добить поверженного врага: – Конечно, убийца именно ты, а не Жорж. Антонин, неужели ты думал, будто я поверю в его вину? Я полагал, ты умнее.
Граф приподнялся с места, хотел что-то сказать, но не успел. Что-то хлопнуло в руке Хилькевича, и на темном сюртуке графа стало расплываться небольшое пятно. Лукашевский упал навзничь и больше не шевелился. Король дна равнодушно поглядел на тело и убрал револьвер в карман.
– Вася! Жорж в комнате наверху, ребята его стерегут, но я шепнул им, чтобы не смели его трогать. А ты сейчас пойдешь и извинишься перед ним… за то, что испортил ему физиономию. Понял?
– Так ты… – начала Розалия, сверкая глазами.
– Да, – с непринужденной улыбкой ответил Хилькевич, – я избрал его на роль козла отпущения. Антонин успокоился, а когда успокоился, совершил ошибку, которая его выдала.
– Виссалион, – вырвалось у китайца, – так сто же, Антонин…
Хилькевич кивнул. Теперь, когда все было кончено, ситуация его даже немного забавляла.
– Ему уже давно было тесно под моим началом, и он разработал целый план, как свалить меня, но не подпасть под подозрение. Думаю, и вороны были выбраны не случайно – если бы я сам не догадался, он бы как-нибудь подсказал мне, что это анаграмма фамилии Жоржа. На крайний случай, наверное, Антонин мог подсунуть Жоржу и орудие убийства, чтобы я отбросил последние сомнения. – Виссарион Сергеевич поймал негодующий взгляд Розалии и улыбнулся. – Видишь ли, Розалия, твой Жорж сам напрашивался на роль козла отпущения. Очень уж его стишки, манеры и прочее раздражают людей.
– Так ты знал! – заверещала бандерша. – Знал, что он ни при чем… и позволил… Его же до полусмерти избили! И ты позволил… Ненавижу!
Она топнула ногой так, что стекла в рамах отозвались легким звоном, и бросилась к выходу – оказывать помощь своему ненаглядному Жоржу.
– Но ведь кого-то я должен был выбрать на роль убийцы, – заметил Хилькевич благодушно. – Иначе мне бы не удалось вывести на чистую воду настоящего убийцу, Антонина.
– Да… просто гениально… – пробормотал Вань Ли. И покосился на тело графа. – Гм, Виссалион, надо бы его куда-нибудь ублать. Комната красивая, он тут явно лишний.
– Ладно, ладно, – сказал Хилькевич, – сейчас Вася вернется, и я ему скажу, чтобы отвез труп подальше и бросил в море.
– Зачем подальше? – удивился китаец. – Моле же в двух шагах от дома.
– Очень мне надо, чтобы падаль снова ко мне приплыла, – с пренебрежительной гримасой пояснил Хилькевич и хохотнул: – Кроме того, Васе не повредит подышать свежим воздухом. Воображаю, как ему Розалия с Жоржем сейчас физиономию начистят. Особенно Розалия, конечно, стараться будет… Эх, женщины, женщины! И почему они всегда выбирают черт знает кого?
– Да, это воплос! – со вздохом согласился отец не то четырех, не то двадцати (если верить молве) детей.
В следующее мгновение сверху донесся приглушенный вопль Васи, у которого мстительная Розалия ухитрилась вырвать часть кудрей.
– Ну, началось, – сказал Хилькевич, пожимая плечами.
В то время, как Розалия выдирала у бедолаги Херувима вторую золотую прядь, в полицейском управлении Амалия посмотрела на часы.
– Полагаю, – несмело заметил Половников, – нам придется поговорить о гибели Агафона с Хилькевичем. Однако сейчас ночь, значит, придется ждать утра.
Амалия поморщилась.
– Думаю, вам придется самому посетить его, – сказала она. – Если у господина Хилькевича появился какой-то враг, который хочет сжить его со свету, меня это мало интересует.
– Да, я помню, вы приехали к нам по другому делу, – поклонился Половников. – Может быть, вам угодно осмотреть вещи, которые были при господине Валевском?
– Зачем? – спросила Амалия.
– Если ожерелье было найдено при нем, то, может быть, он прячет остальное где-то еще? – пояснил следователь. – Должен признаться, что я уже осматривал его вещи, но ничего особенного среди них не обнаружил. Однако одно дело я, а другое…
– Несите, – распорядилась Амалия. И когда следователь вышел, поморщилась и потерла виски, как человек, находящийся в состоянии крайнего утомления.
– Может быть, – подал голос игрок, – проще признаться ему, что вы приехали вовсе не из-за парюры, и рассказать, что за дело привело вас сюда?
Однако Амалия не успела ответить, потому что Половников уже вернулся, неся в руке небольшой сверток.
– Вот, прошу, сударыня. Самодельная отмычка… Какая-то мелкая монетка, судя по всему, наполеоновской чеканки… Платок, кошелек… И все.
Но отмычка не заинтересовала Амалию, точно так же как не заинтересовала монетка наполеоновских времен, которую, должно быть, Валевский носил с собой на счастье.
– На платке кровь, – подал голос Половников. – По-моему, его собственная… поляк вытирал ее, когда мы везли его в управление.
– Должна признаться, что не вижу здесь ничего особ… – начала Амалия и умолкла, глядя на кошелек.
Это был простой кошелек русской кожи, не то чтобы богатый на вид и не то чтобы шибко привлекательный. Амалия взяла его в руки, повертела, открыла, проверила наличность и зачем-то провела пальцем по тиснению внутри кошелька, на сгибе.
– Антон Иваныч, Валевский еще здесь? – неожиданно спросила она. Следователь кивнул. – Отлично, давайте его сюда!
– Что с кошельком? – не утерпел Рубинштейн, когда Половников вышел.
– Ничего, – ответила Амалия. Но по блеску ее глаз шулер видел, что баронесса лукавит. – Кошелек как кошелек, только вот тиснение… Видите? Ничего особенного в нем не замечаете?
Приглядевшись, Рубинштейн заметил, что тиснение складывалось из трех искусно переплетенных букв.
– «О», «З» и «Б»… нет, по-моему, «В», – пробормотал Николай. – И что же они значат?
– «З.В.О.», – поправила Амалия. – «За верность Отечеству». Такие кошельки получали люди, которые… которым удалось отличиться в особой службе или для особой службы. Среди них был Семен Воскобойников, переписчик… то есть все в городе думали, что переписчик. От него мы получали много ценных сведений. Но недавно Семена убили, как раз когда он собирался сообщить нам… – Баронесса осеклась. – Меня послали расследовать это дело, потому что репутация местной полиции нам прекрасно известна – отнюдь не те люди, которым можно давать секретные поручения. Чтобы успокоить их, я придумала причину своего визита – поиски украденной Валевским парюры… потому что его никак не могло быть в этом городе. И пока я убедилась бы, что его здесь нет, я успела бы узнать нужные мне сведения. Но по какой-то причине Валевский оказался именно здесь и постоянно путался у меня под ногами, как и Половников, которого де Ланжере приставил ко мне. В конце концов я освободилась от них обоих, но… но мое расследование продвигалось туго. И хотя я была уверена, что Семена убили те, за кем он следил, нельзя было исключать и обычного ограбления, например. Тем более что с тела исчезли кошелек и золотое кольцо.
– Ах вот как… – медленно проговорил Рубинштейн. – И поэтому вы ополчились на Хилькевича…
– Я не могла с уверенностью утверждать, что он тут ни при чем. Как не могла утверждать и обратного, заметьте. Мы искали улики и перетрясли все лавки, все ссудные кассы, где сбывается ворованное барахло. Прочие меры были лишь для отвода глаз. И в конце концов нам удалось найти кольцо. Но приемщик клялся и божился, что впервые видел женщину, которая его заложила, а если, мол, кольцо ворованное, то на нем ведь не написано, что его украли. В его книге были записаны данные, которые сообщила женщина, но названного ею дома не существует, так что мы снова оказались в тупике. И вот теперь появляется кошелек… причем у самого неожиданного человека. Пока непонятно, что это значит, но я намерена выяснить и на сей раз пойду до конца.
Дверь растворилась, Половников ввел Валевского, который зевал и отчаянно тер глаза кулаками. Светлые волосы Леона растрепались, и если не считать пластырей на физиономии, вид у поляка был как у барина, которого зачем-то вытащили из постели и поволокли на допрос.
– Садитесь, пан Валевский, – пригласила Амалия. – А вы, Антон Иванович, подождите в коридоре.
Не тратя времени на препирательства, следователь вышел, хотя вполне мог бы возмутиться распоряжением. «И все-таки почему он мне столь не по душе? – снова подумала Амалия. – Умный или, во всяком случае, неглупый, вежливый, услужливый, даже не берет взяток…» Но поскольку ее мысли были сейчас вовсе не о Половникове, баронесса вскоре отвлеклась.
– Мне казалось, – уронил Леон в пространство, – мы уже завершили наш разговор.
– Нет, – ответила Амалия и взяла со стола серебряную монетку. – Кажется, это ваш талисман?
Валевский посмотрел на монетку, на лицо собеседницы, понял, что она вызвала его вовсе не для того, чтобы беседовать о талисманах, и решил: настало время ее проучить.
– Я сентиментален, – заявил поляк, – а Наполеон моя большая слабость. Вообще я считаю его величайшим из людей, если хотите знать, сударыня.
– В самом деле?
– Да. Всякий раз, когда я думаю о Наполеоне, у меня захватывает дух. Начинания французского императора во всех областях, его военные походы, его чувство юмора, энциклопедическая образованность, ум… – Глаза Валевского затуманились. – Что за человек, боже мой! И только эта старая ироничная дама, мировая история, могла устроить так, чтобы его победил – нет, не кто-то, равный ему по величию, а плешивый деспот, властелин рабов… и отцеубийца к тому же, если называть вещи своими именами.
– Вы разумеете, кажется, государя императора Александра Павловича? – необычайно кротко осведомилась Амалия, и глаза ее сверкнули золотом.
– Я счастлив, сударыня, что мы с вами поняли друг друга, – не моргнув кивнул Валевский. – Должен признаться, мне с детства надоела вся та чепуха, которую нам вдалбливали в головы, – о выигранном сражении при Бородине, в то время как оно было проиграно, поле битвы оставлено и Москва позорно брошена на произвол судьбы. Особенно смешно, что Кутузова еще и объявляют великим полководцем.
И Леон с любопытством стал ждать, что скажет в ответ сторонница деспотической власти, состоящая к тому же в особой его императорского величества службе.
– Что ж, по поводу сражения при Бородине я, пожалуй, соглашусь с вами, – уронила Амалия. – И по поводу Александра Первого – тоже. Только при всех своих недостатках он был все-таки не самый худший правитель.
– Вы еще скажите, что Наполеон – великий человек, – проворчал Валевский, уязвленный тем, что ему не удалось вывести собеседницу из себя.
– Конечно, великий, – поддержала Амалия, которая видела насквозь все его уловки. – Хотя моя прабабушка, которая знала императора лично, была от него не в восторге. По ее словам, ей встречались генералы и получше, и повыше ростом. По крайней мере, так она писала в письме к мужу сестры.
При мысли, что прабабушка собеседницы видела вблизи самого Наполеона, живого, из плоти и крови, Валевский расстроился окончательно и решил, что в жизни везет вовсе не тем, кто того заслуживает, а вообще черт знает кому. Сам-то он за право видеть Наполеона хоть одним глазом с легкостью отдал бы полжизни.
– Впрочем, довольно о Наполеоне, – не дала ему долго печалиться баронесса. – Лучше скажите мне, сударь, откуда у вас этот кошелек.
– Нашел на улице, – с готовностью сообщил Валевский.
Амалия вздохнула.
– Уверен, он его украл, – подал голос до того молчавший игрок.
– Ах, сударь, сударь, не стоит судить о других по себе! – насмешливо парировал Валевский.
И хотя Рубинштейна было нелегко вывести из себя, поляк все же с удовольствием отметил: шулер переменился в лице.
– В Херсоне вы были без денег, – размышляла вслух Амалия. – Я же помню, мы проверяли ваши карманы. А потом…
Она задумалась.
– Я украл его в Херсоне, – сказал Валевский, чувствуя, что еще немного – и баронесса догадается, от кого именно к нему мог попасть кошелек. – А в чем дело?
– Ни в чем, – ответила Амалия. – Антон Иванович!
И на пороге тотчас же материализовался следователь Половников, у которого был такой бодрый вид, словно шел вовсе не третий час ночи.
– Антон Иванович, – быстро спросила Амалия, – кажется, вы задержались в доме Русалкиных дольше всех? Скажите, вы не заметили там ничего… странного?
Половников задумался и наконец ответил, что странного ничего не было. Русалкин долго искал старые очки, а потом чинил их, в комнатах царил настоящий разгром, и барышня Русалкина плакала, а Евгений Жмыхов очень переживал из-за своей лаборатории.
– Какой еще лаборатории?
– У него лаборатория, – объяснил Половников. – Студент занимается фотографированием, кажется… хотя я не уверен… Когда я заглянул в дверь, мне показалось, что там какие-то куски мыла. А что?
– Так, значит, мыло… – проговорила Амалия, усмехнувшись. – Ах, щучья холера! И что мне стоило заглянуть в ту чертову лабораторию самой!
Баронесса сорвалась с места и скомандовала:
– Антон Иваныч, собирайте людей, мы едем к Русалкиным. А этого, – она кивнула на Валевского, – заприте, да понадежнее!
Затем Амалия схватила со стола ожерелье, подвеску и кошелек и шагнула к двери. Следом за ней поспешил Николай Рубинштейн.
Половников озадаченно покосился на Валевского, который таращил на него глаза, не понимая, что происходит. Впрочем, сам следователь понимал ничуть не больше.
– Однако дела… – пробормотал Половников и, достав платок, вытер им лоб.
А затем произошло нечто сверхъестественное. Во всяком случае, когда Половников потом рассказывал о случившемся сослуживцам, он уверял, что произошло именно нечто сверхъестественное.
Леон Валевский исчез.
Только что поляк был здесь, а в следующее мгновение испарился, скрылся, растворился в воздухе, ушел в параллельное измерение. Дверь не скрипнула, окно не растворилось, а Валевский пропал, словно его никогда тут не было.
Вместе с ним исчезла и серебряная монетка со стола.
Глава 27
Дама и динамит. – Пропавшая запонка. – Разделяй и властвуй.
Кошка Дуся только-только начала засыпать после полного треволнений дня. Но едва ей нарисовался в сладкой дреме живший по соседству кот Мурзик, хулиган и знатный мышелов, как кто-то начал стучать в дверь. Сон развалился на части, и оказалось, что она находится все в той же разгромленной гостиной, где еще не до конца успели прибраться.
Стук повторился еще громче и настойчивей, и через гостиную, зевая, прошлепала в домашних пантуфлях с лампой в руке Наденька Русалкина.
– Ах, ну что там еще… – простонала девушка, открывая дверь.
Совершив сие простое действие, она вытаращила глаза и отступила назад, едва не выронив лампу.
Перед ней стоял Леон Валевский.
– Ой, – растерянно молвила Наденька. Потому что надо же было, в конце концов, хоть что-нибудь сказать. – А вы…
– Я сбежал, – объяснил Леон. – Это во-вторых. А во-первых, доброе утро. Или доброй ночи? Честно говоря, я не уверен.
После чего он весьма уверенно оттеснил Наденьку в глубь дома и ногой захлопнул дверь.
– Я позову на помощь, – сказала Наденька слабеющим голосом, отступая.
– Не советую, – многозначительно молвил Леон и поглядел на нее загадочно. Настолько загадочно, что Наденька окончательно проснулась.
– Вы не имеете права советовать мне что бы то ни было, – сказала она, начиная сердиться. – Потому что вы обманщик.
– Как и все люди на земле, – парировал Валевский.
– И… и вор!
– Таково мое призвание, и я ничего не могу с этим поделать. Вы же не станете требовать от пианиста, чтобы он колол дрова.
– Ах! – возмутилась Наденька. – И вообще, вы ни во что не ставите российскую словесность!
– Терпеть не могу книги и тех, кто их пишет, – объяснил Леон. – Как-то мне пришлось сидеть в одной камере с сочинителем бульварных романов, так то время было настоящей пыткой. Он прикончил жену согласно рецептам из своих книжек, но его схватили уже на следующий день, незадачливый душегуб замучил меня вопросами, что он сделал не так. А в конце концов оказалось, что его просто видел дворник, когда убивец тащил труп к реке.
– Так вы что, собираетесь меня прикончить? – распахнула глаза Наденька.
– Нет, – честно ответил Леон. – Собственно, я всего лишь хотел вас предупредить.
– Наденька, в чем дело?
На пороге показался взлохмаченный Аполлон Русалкин, который на ходу прилаживал на нос очки.
– Между прочим, – объявил Валевский, – я серьезно рискую. Но, конечно, мне уже раньше следовало догадаться. Такая идиллическая картинка – «Общество любителей российской словесности», возвышенные разговоры… А на самом деле вы просто обыкновенные обманщики. Поделом мне!
– Мы вас не обманывали! – возмутилась Наденька.
– Ну да, конечно, – фыркнул Валевский. – И динамит в лаборатории вы изготовляете исключительно из любви к науке. Мыло похоже на динамит, только вот эффект у них слегка различается, – довел он до сведения слушателей. – Интересно, что вы задумали? Взорвать государственный банк? Обчистить петербургский монетный двор? Или ваши аппетиты куда скромнее и с вас вполне хватит флотской казны, к примеру?
Брат и сестра в изумлении переглянулись.
– Наденька, – жалобно спросил Русалкин, – наш гость что, бредит? Какой динамит? Какая флотская казна?
– Да, притворяйтесь, притворяйтесь! – возмутился Леон. – То-то ваш кузен в лице переменился, когда выяснилось, что люди Хилькевича залезли в его лабораторию. Только учтите, если я догадался, что вы стряпали там динамит, то и она тоже догадается. А в таком случае вас ждут очень серьезные неприятности!
Из скромности, должно быть, Валевский не стал упоминать, что Амалия догадалась о содержимом лаборатории раньше его.
– Нет, это просто поразительно! – вырвалось у Аполлона. – Прежде всего, Женя занимается фотографией. Я не знаю, что вы себе навоображали, но…
– Женя хочет изобрести цветную фотографию, – поддержала его сестра. – Он говорит, что изобретение может принести нам много денег… И мы никогда ему не мешали. Да и кузен нам тоже не мешал, в лаборатории всегда было очень тихо, ни шума, ни запахов…
– С чего вы взяли, что Женя делает динамит? – буркнул Русалкин. – Ну, лежит там какой-нибудь кусок мыла… И что? Да, Женя был расстроен, что негодяи открыли дверь… Но ведь для его опытов нужна была темнота, а теперь ему придется начинать все сначала!
Леон поглядел на его лицо, перевел взор на Наденьку, пытаясь уловить хоть какие-то признаки фальши… Бесполезно: двое – брат с сестрой – были кристально, до отвращения чисты. И, поняв это, он совершенно растерялся.
– Я могу взглянуть на лабораторию? – наконец спросил Валевский. – Только одним глазком.
– Лаборатория не моя, а Жени, – возразил Аполлон. – Не думаю, что я имею право…
– Перестань, Аполлон, – неожиданно поддержала поляка Наденька. – Все равно там дверь сломана. Женечка пытался ее заново закрыть, но створка перекосилась, и он просто ее прикрыл.
– Благодарю вас, – коротко откликнулся Валевский.
Лаборатория, где Евгений Жмыхов, если верить его словам, занимался фотографией, располагалась в сарайчике, который стоял во дворе позади дома. Леон толкнул дверь и вошел. Наденька и Аполлон последовали за ним.
Морщась, Леон втянул носом царивший тут специфический запах, бросил быстрый взгляд на реторты, на какие-то перегонные кубы, склянки, заметил на полке тетрадь и стал листать ее. Вся она была испещрена непонятными формулами и алхимическими пометками.
Вздохнув, Валевский отложил тетрадь и снова осмотрелся. Но нигде поблизости не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего мыло или динамит, столь сильно на мыло похожий.
– Женечка рассердится, – умоляюще проговорил Аполлон, поправляя очки. – Может быть, нам лучше уйти отсюда?
Не отвечая, Валевский подошел к столу, который стоял под окном. Там лежало нечто, прикрытое большим куском мешковины.
Валевский приподнял тряпицу, взял то, что под ней находилось, покрутил в пальцах, поднес к носу – и, вернув на место, поспешно отступил назад.
– Что там? – спросила Наденька и даже на цыпочки приподнялась.
– Мыло, – ответил Валевский каким-то странным голосом. – Куски мыла. Нет, похоже, я действительно ошибся… Идемте отсюда.
– Что вы тут делаете?
В дверях стоял Евгений Жмыхов, но не его появление показалось Наденьке странным в то мгновение. Конечно, студент имел полное право прийти в свою лабораторию хоть в три часа ночи, только вот в голосе его звенела угроза, а брови были неприязненно сдвинуты.
– Мы хотели посмотреть на мыло, – пролепетала Наденька. – Господин Дроздовский… то есть господин Валевский сказал, что это может быть динамит. Ой…
Евгений сжал кулаки и сделал несколько шагов к Валевскому.
– Вы – проныра! – мрачно сказал студент поляку. – А знаете, что бывает с пронырами?
– А вы знаете, что бывает с теми, кто изготовляет динамит? – огрызнулся Валевский, на всякий случай отступив назад. – Или вы собираетесь рассказывать мне сказочки, как вашим кузенам, что занимаетесь тут фотографией, а мыло варите для отдохновения души? Я, черт возьми, по роду своей профессии нередко имел дело со взрывчаткой! И я вам скажу, что вот это, – Леон указал на то, что пирамидой возвышалось под мешковиной, – вовсе не мыло!
Аполлон Русалкин оторопел.
– Так, значит… Женя, он ведь неправду говорит? Женя!
– Аполлон… – дрожащим голосом прошептала Наденька. – Аполлон, мне страшно… Идем отсюда, прошу тебя!
– Боюсь, никто отсюда не уйдет, пока все окончательно не разъяснится, – прозвенел вдруг голос Амалии Корф.
Наденька со страхом обернулась к незваной гостье, которая неожиданно возникла в дверном проеме, и тут Евгений Жмыхов, очевидно, принял решение. Он бросился к кузине, вырвал у нее из руки лампу и отскочил к столу, на котором лежал динамит.
– Ни с места! – закричал студент. Глаза его налились кровью, на лбу вздулись жилы. – Я всех взорву, слышите? Всех! Я брошу лампу на стол, и вы все взлетите на воздух! Сатрапы! Палачи!
– Женя… – пробормотал Аполлон. – Женя, но это же…
Студент затряс головой.
– Всех взорву! – По его щекам катились слезы. – Вы нас вычислили, но вам все равно не жить!
– Леон, – спросила Амалия у Валевского, – там и в самом деле динамит?
– Да, – ответил тот, кусая губы и досадуя на себя.
Наденька покачнулась, и молодой человек поддержал ее под локоть. Евгений бросил взгляд на кузину, и в его лице мелькнуло что-то человеческое… Что-то, чем Амалия обязана была воспользоваться.
– Послушайте, – баронесса старалась говорить как можно спокойнее, – ваша кузина тут ни при чем, и ее брат тоже. Вы хотите, чтобы они тоже погибли?
Рука студента, державшая лампу, дрогнула.
– Не имеет значения, сколько потребуется жертв, чтобы положить конец гнусной тирании, – гордо произнес он.
Услышав его слова, Наденька залилась слезами.
– Можете не уговаривать меня, – добавил Евгений. – Я все равно брошу лампу.
– Дайте им уйти, – неожиданно проговорила Амалия. Она вскинула голову, ее глаза сверкали.
– Что? – Студент явно растерялся.
– Дайте им уйти, – повторила баронесса. – А я останусь. И тогда бросайте лампу.
– Это какая-то ловушка? – недоверчиво спросил Евгений. – Вы пытаетесь меня поймать?
Студент поудобнее перехватил лампу, которая сдавленно зашипела. И Аполлон поймал себя на том, что не может оторвать от нее взгляд.
– Нет, – ответила Амалия. – Просто в отличие от вас я считаю каждую человеческую жизнь самостоятельной ценностью.
– О да, – кивнул Евгений, – и вы блистательно подтвердили вашу теорию, когда несколько часов тому назад убили человека в нашем доме. А ведь его жизнь, если верить вам, тоже была самостоятельной ценностью.
– Вы меня поймали, – согласилась Амалия. – Впрочем, ценность ее стремительно обесценилась, когда тот господин попытался перерезать глотку пану Валевскому. – Баронесса пожала плечами. – Хотя можете думать обо мне что вам угодно. Вы дадите им уйти?
Наденька тихо плакала. Евгений скользнул по ней взглядом, перевел взор на бледное лицо Русалкина и нехотя кивнул.
– Пусть уходят, – сказал он, – я даю им одну минуту. А потом брошу лампу. В конце концов, – добавил студент с усмешкой, – одной служительницы самодержавия будет вполне достаточно. Хотя мы хотели вовсе не этого – мы хотели уничтожить оплот самодержавия.
Баронесса обернулась к Аполлону.
– Там, снаружи, господин Рубинштейн, господин Половников и остальные. Предупредите их, чтобы уходили как можно быстрее. Даже так: бежали со всех ног. Думаю, после взрыва тут останется очень немного.
И Амалия улыбнулась – храбрая женщина, которая намерена была держать лицо до конца, несмотря ни на что.
Русалкин с трепетом посмотрел на баронессу Корф и повел прочь сестру, которая шаталась и еле держалась на ногах от ужаса. Последним из сарая вышел Леон Валевский. Он обернулся к Амалии, хотел что-то сказать, но удержался и быстро скрылся за дверью.
– Вы собирались убить царя? – спросила Амалия у Евгения. – Когда он приедет в ваш город?
Свободной рукой студент извлек из кармана часы и взглянул на них.
– Сорок секунд… Да, мы хотели его убить, но возникла сложность – возле нас постоянно вертелся один переписчик. Уверен, он был вашим агентом. И нам пришлось начать с него.
– Вы убили его и украли вещи, чтобы происшествие больше походило на ограбление, – заметила Амалия. – Кто отнес кольцо убитого в ссудную кассу – ваша кузина?
– Нет, одна девушка. Она разделяла наши идеи.
– А кошелек? – настойчиво спросила Амалия. – Почему вы не избавились от кошелька?
– Я принес его домой, – удивленно проговорил Евгений, – и засунул куда-то. В конце концов, там были деньги! Но потом… Наверное, я просто о нем забыл. У меня хватало забот, потому что динамит никак не получался нужной нам мощности. Как вы его нашли?
– Повезло, – уклончиво ответила Амалия. А про себя подумала: должно быть, Валевский нашел ночлег у Наденьки, обыскал ящики, увидел кошелек с деньгами и стащил его. А уже потом кошелек попал на глаза ей самой. Хотя какое значение это имеет сейчас?
– Пять секунд, – сказал Жмыхов, пряча часы в карман. – Прощайте, баронесса Корф. Надеюсь, вам понравилось в нашем городе…
Интересно, подумала Амалия, на что похожа смерть?
И тут она увидела.
Стекло за спиной Евгения разлетелось мелкими осколками, и в окно головой вперед влетел Леон Валевский. Всей массой своего крепко сбитого тела он врезался в студента, и Евгений, не устояв на ногах, упал. Лампа вылетела из его руки на пол и разбилась.
Лежа на полу, Жмыхов тряхнул головой. На лице его застыло ошеломленное выражение.
– Ах, – просипел он, – так вы заодно! Сатрапы!
Амалия, подбежав к горящим осколкам лампы, ногой затоптала языки пламени. Евгений ударил Валевского и уже собирался схватить Амалию, но тут в дверь ворвались фигуры в мундирах и набросились на студента.
Валевский, которому здорово досталось, приподнял голову. В глазах мельтешили какие-то пестрые пятна, по лицу текла кровь, но тут молодой человек почувствовал на нем теплую женскую руку и странным образом сразу же успокоился.
– Лежите, лежите, – сказала Амалия. – Почему вы вернулись, Леон?
Он и сам хорошенько не знал. Лишь знал, что если бы оставил молодую женщину в одном помещении с обезумевшим бомбистом, то это воспоминание преследовало бы его всю жизнь. Но Валевский не был бы Валевским, если бы не придумал какое-нибудь язвительное объяснение.
– Должен вам признаться, сударыня, – проговорил поляк, – в мире есть две по-настоящему отвратительные вещи: терроризм и тещи. Все прочее я могу вынести.
И, сочтя, что сказал все, закрыл глаза.
В своем особняке Хилькевич подошел к окну. Машинально отметил про себя, что на улице, несмотря на поздний час, довольно оживленное движение. Причем больше всего здесь было полицейских карет. «Что, интересно, они опять затеяли?» – неприязненно подумал король дна.
В дверь постучали, и через мгновение вошел Жорж, чье лицо было густо усеяно кровоподтеками. Сутенер поглядывал на расстегнутую манжету на руке и хмурился.
– В чем дело? – спросил Хилькевич.
– Я запонку потерял, – буркнул Жорж. – Наверняка она где-то здесь. Когда меня приволокли наверх, ее уже не было.
Он покосился на пятнышко крови на ковре, оставшееся там, где упал граф Лукашевский, встал на колени и принялся смотреть под диванами и мебелью.
– Ты извини, что все так получилось, – сказал Хилькевич, налив себе вина. – Надо же было мне кого-то изобличить, чтобы заставить Антонина совершить ошибку.
– А если бы граф ее не совершил? – проворчал Жорж. – Если бы разгадал ваш замысел? Тогда что, вы убили бы меня?
– Нет, конечно, – ответил король дна с широкой улыбкой. – Я ни мгновения не верил, что мой тайный враг – ты.
– Нелепость какая-то, – проворчал Жорж, заглядывая под шкаф. – Куда она могла деться?.. А где Вань Ли?
– Только что ушел. Вася увез тело, так что никто ничего не узнает. – Хилькевич поставил бокал на стол. – Надеюсь, не надо тебе говорить, чтобы ты держал язык за зубами?
– За кого вы меня принимаете! – обиделся Жорж, поднимаясь на ноги. – Черт, любимая запонка была, бриллиантовая… Ищи ее теперь!
Он подошел к Хилькевичу и наклонился, чтобы посмотреть под столом.
– Оставь, – велел Хилькевич. – Слуги найдут, вернут тебе. Никуда она не денется.
– Ага, – ответил Жорж. И вдруг, резко распрямившись, коротко и сильно ударил Хилькевича снизу вверх ножом под сердце.
Король дна издал сдавленный стон и повалился грудью на стол. Жорж дернул щекой и вонзил нож еще глубже.
– Сво… – побелевшими губами просипел Хилькевич. – Как же ты…
Он умолк и захрипел, скребя по столу ногтями.
– К твоему сведению, – спокойно проговорил Жорж, – именно я убил Коршуна. И когда ты стал объяснять, как я все провернул, мне сделалось не по себе. Я думал, ты и впрямь меня вычислил.
Хилькевич шевельнулся.
– Так это ты…
– Нет, – покачал головой Жорж. – У меня к тебе были свои счеты. Давние, давние счеты. Про графа ты угадал правильно – ворону тебе прислал он. И он же укокошил Пятирукова. Я все про него понял, потому что случайно видел, как Антонин толкнул под карету Сеньку-шарманщика. Тогда я решил, что грех было бы не воспользоваться моментом.
И Жорж беспечно улыбнулся, словно рассказывал об удачной проделке, которая сошла ему с рук.
– Что ты там хрипишь? – Сутенер прислушался. – А, понял. Мало денег? Нет, денег мне всегда хватало. А убить я тебя хотел из-за Насти.
По телу Хилькевича пробежала судорога. Он приподнял голову…
– Да, да, – подтвердил Жорж, – из-за твоей жены, которую ты приказал убить ни за что, просто потому, что она была из богатой семьи и ты был ее наследник. Говорят, ты стоял и смотрел, как твой друг Коршун ее душит. – Жорж покачал головой. – Как же ты мог, а? Удавил бы лучше толстую Розалию или любую другую маруху, но Настю за что? Она была такая хорошая! Я с детства ее знал, она никогда никому не делала зла… Я даже обрадовался, когда она вышла за тебя. Думал, что буду чаще ее видеть… потому что сам был недостаточно для нее хорош, понимаешь? И в моей жизни, в моей паскудной жизни, будь она проклята, Настя была единственным человеком, который… который что-то для меня значил, ради которого я бы пошел на все. А вместо этого… – Он дернул щекой. – Я даже не мог побывать на ее могиле, потому что ты бы сразу же начал подозревать неладное. Ты ведь так и не узнал, к кому она ходила, Настя тебе ничего не сказала… – По щекам Жоржа потекли слезы. – А ведь мы просто разговаривали! Мы даже не успели стать любовниками, черт возьми!
– И ты… – прохрипел Хилькевич.
– Что я? – злобно скривился Жорж. – Я трус, да! Тряпка! Ничтожество! Но я затаился и ждал… Я знал, что когда-нибудь настанет миг, когда мне удастся поквитаться с тобой за все. Если бы не эта мысль, я бы давно уже повесился. И тут к нам в город приехала баронесса Корф… Антонин решил, что настал подходящий момент, чтобы тебя свалить, и я подумал: почему бы и не подыграть ему, черт возьми? Тем более что мне нужны были только двое: Коршун и ты. Убить его оказалось так легко! А тебя еще легче, потому что душка Антонин, как оказалось, подложил мне в карман окровавленный нож – наверное, тот, которым он зарезал Агафона. Антонин рассчитывал, что меня будут обыскивать, и улика окончательно меня погубит… а получилось – сделал мне наилучший подарок. Как же приятно иметь преданных друзей!
Недооценил, вяло подумал Хилькевич. Взор ему застилала кровавая пелена. Недооценил… ах, как обидно, как досадно… Думал, кто-то пытается занять его место, а тут всего-навсего личное дело… личное… Из-за Насти, простушки Насти с испуганными глазами, за которую он не дал бы ни гроша… а для кого-то она оказалась самая лучшая на свете. И этот человек, Жорж, слабак, так возненавидел его, что затаился на годы, подстерегая удобный момент для мести. Черт возьми, ведь предсказывала ему цыганка в Орле… нет, в Феодосии, что пропадет из-за женщины, из-за женщины, из-за…
Взгляд Хилькевича застыл, изо рта выбежала струйка крови.
Жорж поглядел на мертвого короля дна, вытер слезы, достал из кармана якобы потерянную запонку и, развалившись в небрежной позе на диване, стал прилаживать ее на место.
– Жорж! – В комнату вошла Розалия. – Жорж, нам пора идти… Виссарион! Что такое? Жорж!
Сутенер застегнул запонку и улыбнулся. Скула адски болела, глаз заплыл, и вообще выглядел Жорж прескверно, но самочувствие у него странным образом было отличное.
– Я его убил, – сказал он просто.
Розалия покачнулась и прислонилась к стене.
– Ты? За что?
– А за то, – холодно ответил сутенер. – Нечего со мной шутки шутить. За порчу лица я любого проучу наглеца. Кто слишком много на себя берет, тот рано или поздно смерть найдет.
Розалия с ужасом поглядела на него и метнулась в дверь.
Через четверть часа в гостиной возле остывающего тела горячо спорили четверо: Жорж, Розалия, Вань Ли и Вася, чьи золотые кудри по неизвестным причинам слегка поредели.
– Но ведь кто-то будет должен занять его место! – кричала Розалия. – Мы не имеем права упускать из рук такое дело!
– Да уж, – согласился Вася. – Зачем нам чужие там, где лучше всего подойдут свои?
– Ну так в чем дело? – пожал плечами Жорж. – Все можно решить умело. Пусть Карен станет во главе предприятия, у него есть обо всем понятие.
– Но он же китаец! – воскликнула Розалия. – Кто станет его слушать?
– В самом деле, – пробормотал Вань Ли, – из-за Китая у нас могут возникнуть неплиятности!
– Он китаец, а я нет, – вставил Жорж. – Будем вдвоем возглавлять совет.
Розалия открыла рот.
– Ты? Ты будешь заправлять делами? А как же я? Как же мои девочки? Кто будет заботиться о нас? Как хочешь, Жорж, но это несправедливо!
И тут Вань Ли впервые показал, что он вполне достоин своей должности.
– Насему юносе пола опелиться, – важно объявил он. – Бели его в дело. Увелен, у девочек с ним не возникнет хлопот.
– А что, хорошая мысль! – заметил Жорж. – Место что надо, удовольствие невероятное, соединяешь приятное… с очень приятным!
Вася, о котором шла речь, порозовел и опустил глаза, а Розалия поглядела на него пристально и приосанилась.
– Мне надо подумать, – томно пробасила мадам Малевич. – Я не готова брать себе в помощники кого попало. Для начала он должен пройти испытательный срок.
– Он согласен, – ответил за Херувима Вань Ли. – А мы с Жоржем будем заново налаживать предприятие. Нелегко придется, но, поскольку конверты из сейфа де Ланжере у нас, думаю, мы быстро найдем с властями общий язык.
– Ну наконец-то ты заговорил по-человечески! – проворчала Розалия.
Все рассмеялись.
– А с этим что делать? – спросил Вася, кивая на мертвое тело.
– Блосить в воду и забыть о нем, – пожал плечами Вань Ли. – Тащи его на белег. Когда найдут, пусть сами лазбилаются, от чего он умел. Хотя, насколько я знаю де Ланжеле, он должен напиться от ладости.
– И не только де Ланжере, по правде говоря, – вставила Розалия и обернулась к Жоржу. – Котик мой, как ты правильно сделал, что избавил нас от него! Я никогда не говорила об этом вслух, просто побаивалась, но Виссарион в последнее время просто зарвался!
– Ничего, – ответил Жорж, скалясь, – уверяю вас, без него нам будет куда лучше, чем с ним.
– Рифму! Рифму! – потребовала Розалия.
– И пусть все невзгоды развеются, как дым! – вставил Вася, улыбаясь.
Розалия хихикнула и крепко взяла его под локоть.
– Я чувствую, мы с тобой сработаемся, красавчик! – пробасила бандерша, а двое остальных мужчин обменялись понимающими взглядами.
Глава 28
Брожение умов. – Возвращение парюры. – О том, как маэстро Бертуччи не доиграл марш, а повествование подошло к счастливому концу.
В городе О. наступило великое брожение умов.
Сначала обнаружилось, что баронесса Корф – вовсе не баронесса Корф, а ее служанка, в то время как служанка как раз и есть настоящая баронесса. Затем выяснилось, что баронесса – та, которая настоящая, – прибыла в город с особым заданием и что задание будто бы имело весьма отдаленное отношение к поискам похищенной парюры.
Кроме того, среди студентов местного университета начались аресты. Король дна Хилькевич куда-то исчез, да так и не объявился, а в столичных газетах появилась туманная, но оттого не менее зловещая заметка о раскрытии заговора, который имел своей целью отнятие жизни у его императорского величества во время приезда оного величества в некий южный город.
Узнав, что в образе плутовки Дашеньки он имел дело с самой баронессой, а также вспомнив, как давал ей взятку и заглядывал в декольте, полицмейстер де Ланжере заболел от огорчения. Столь вольное поведение было, с его точки зрения, совершенно недопустимо. Но тут жена (та, которая невенчаная) весьма кстати напомнила ему, что губернатор и вице-губернатор проштрафились куда сильнее, расточали хвалы самозванке, приняв ее за аристократку, и что это унижает их куда больше, чем его – фамильярное обхождение с баронессой.
– А Бертуччи, поговаривают, собирался сделать госпоже баронессе предложение, – добавила невенчаная жена, чтобы окончательно излечить хворающего супруга.
– Да ну! – вытаращил глаза полицмейстер. – Той, которая горничная? Вот срам-то! Он же говорил, что не женится ни за какие коврижки!
– Ну мало ли что вы, мужчины, говорите, – вздохнула невенчаная супруга, припоминая красивые черные глаза маэстро.
– Ты слышал о Бертуччи? – спросила венчаная супруга, едва де Ланжере после долгого трудового дня вернулся домой. – Вот смех-то!
– Мне некогда заниматься всякими пустяками, – с достоинством ответил полицмейстер, падая в кресло. – Мы, матушка, на государственной службе заговоры распутываем, а заговорщики не дремлют!
– А что с похищенными украшениями? – спросила законная половина. – Удалось найти что-нибудь, кроме ожерелья?
– Увы, нет, – вздохнул де Ланжере, с горечью косясь на ее жеваную шею.
И в самом деле, если дней через пять заговор был раскрыт окончательно и все бомбисты взяты под стражу, то парюра, украденная у Агаты Дрейпер, как в воду канула. Валевский на все расспросы о ней упорно отвечал, что не имеет к ее исчезновению ни малейшего отношения.
Его вновь арестовали после того, как он прыгнул в окно, чтобы спасти Амалию, но отделили от остальных заключенных и обращались с ним с подчеркнутым уважением. Однако какие бы услуги поляк ни оказал баронессе, за ним числилось слишком много дел, чтобы его могли отпустить, и в конце концов было решено перевезти его в Варшаву, где должно было состояться самое громкое слушание – по поводу дерзкого ограбления Польского банка, произошедшего аж несколько лет назад.
– Эх, сошлют меня на каторгу… – вздыхал Валевский, поедая божественные эклеры, которые ему приносили по особому разрешению от шеф-повара гостиницы «Европейская». – Холод, Сибирь, тоска и уголовники… Что может быть гаже? – Леон доел последний эклер, облизнул пальцы и с ностальгией покосился на пустую тарелку. По натуре Валевский был сладкоежкой, что вовсе не мешало ему сохранять завидную фигуру. – И будет мне так плохо, что я, пожалуй, даже начну читать книги. Еще и заделаюсь поклонником какого-нибудь Дюма или, не приведи господи, Достоевского. – Молодой человек скривился от отвращения.
Баронесса Корф, слышавшая его слова, не смогла удержаться от улыбки.
– Вам понравится Дюма, – сказала она. – Кроме того, я не уверена, что вы задержитесь на каторге, пан Валевский.
– У меня слабые легкие, – пожаловался Леон и в доказательство кашлянул два раза. – Я простужаюсь на любом сквозняке, а ваша каторга для меня – почти наверняка чахотка и скорая смерть. И кто будет обо мне жалеть? – Он пожал плечами. – Никто!
– Почему вы вернулись? – спросила Амалия.
– Воображаете, что я сделал это ради ваших прекрасных глаз? – задорно осведомился поляк. – Можете не волноваться. Вы спасли мне жизнь, когда тот мерзавец пытался перерезать мне горло, и я счел, что долг платежом красен. – Он зевнул и прикрыл рот рукой. – Кстати, вы нашли парюру?
– Нет, – ответила Амалия. – Но де Ланжере ее ищет.
– Значит, украшения никогда не будут найдены, – философски подытожил Леон.
Когда Амалия вышла из здания тюрьмы, она сразу же заметила Наденьку Русалкину, которая стояла на противоположном тротуаре и, судя по всему, кого-то ждала. Увидев баронессу, девушка поспешно подошла к ней.
– Мы можем поговорить, сударыня? – проговорила Наденька, волнуясь. – Это… это может быть очень важно.
Амалия пригласила ее к себе в гостиницу, и вскоре барышня Русалкина уже входила в ее номер. В дверь заглянула Дашенька, сменившая наряд госпожи на более привычный, справилась, не нужно ли чего баронессе, и удалилась.
– Я бы хотела спросить о Женечке, – заговорила Наденька, нервно комкая в пальцах ручку сумочки. – Что его ждет?
Амалия поморщилась.
– Его будут судить. Заговор, убийство агента… Вряд ли он легко отделается.
– Вот как… – протянула Наденька, и по ее тону Амалия поняла, что вовсе не судьба кузена волновала девушку. – А… а пан Валевский?
– Его тоже будут судить, – ответила баронесса, – хоть и за другие дела, в которых он замешан. Конечно, у него будут некоторые смягчающие обстоятельства, к примеру, его помощь в моем собственном расследовании, но тут не все просто. Да и в деле с парюрой никто не снимал с него подозрений, а многие высокие лица придают ему очень, очень большое значение.
– Скажите, а если бы… – Наденька нервно завела за ухо прядь волос, – если бы он вернул драгоценности… его бы могли отпустить?
Амалия удивленно подняла голову, и Наденька, решившись, взяла обеими руками свою сумочку, вытряхнула ее содержимое на стол.
– Вот, – проговорила Наденька. Губы девушки дрожали. – Тут… тут все.
В самом деле, тут было все – заколки и пуговицы, украшенные сапфирами и бриллиантами, кольца и запонки… И диадема, сплющенная, очевидно, для компактности формы.
– Я не сразу нашла, – принялась рассказывать Наденька в ответ на вопросительный взгляд Амалии. – Он принес мне подарок… большую коробку с нитками, булавками и иголками… Там они все и лежали – на дне, под лентами и прочим… – Девушка покраснела. – Подарок был чудесный… у меня в жизни не было ничего подобного. И главное, он даже ни слова мне не сказал… Я перепрятала драгоценности и никому, даже брату, о них не обмолвилась. А потом увидела Леона под окном, поздно вечером… и решила, что он вернулся за драгоценностями. Я думала только о том, как бы его спровадить… в голову мне лезли разные гадкие мысли, я думала даже его выдать властям. Я же никогда не была богатой… и не подозревала, что это такое. Но он ушел утром… просто ушел. И мне стало так стыдно… И еще более стыдно, когда в дом ворвались те грабители, и он пытался нас защитить…
Так, подумала Амалия, стало быть, старый библиотекарь плохо обыскал вещи Валевского, или же ловкий вор сумел его обмануть и надежно скрыл свои сокровища… Все-таки она была права: именно поляк украл парюру у Агаты Дрейпер. Украл – и отдал просто так девушке, которая была чем-то ему симпатична.
– А ожерелье? – внезапно спросила Амалия. – Что вы можете сказать о нем?
Но Наденька только покачала головой.
– Там не было ожерелья, что вы… Я все отдала, что там было.
Амалия поглядела ей в лицо, тщательно осмотрела все предметы, лежащие на столе, и, отделив брошку, протянула ее девушке.
– Она не из парюры. Оставьте ее себе.
Наденька отчаянно покраснела и сглотнула.
– Я не могу… Какое я имею право? Ведь вещи не мои…
– Имеете, имеете, – перебила ее Амалия. – Парюра будет возвращена в собственность императорской семьи, но прочих драгоценностей это не касается… Думаю, в ларце Агаты Дрейпер была не только парюра, но и другие украшения. Помнится, мне показывали какое-то кольцо, оно тоже не являлось частью парюры…
Валевский, подложив ладонь под щеку, дремал, когда лязгнула дверь. Приоткрыв глаза, он увидел на пороге силуэт в светлом платье и недовольно отвернулся.
– Я чувствую себя так, будто уже на каторге, – объявил арестант, капризно выпятив нижнюю губу. – А между тем меня только завтра должны увозить… Ну что еще?
Амалия подошла совсем близко, и Валевский увидел, что баронесса улыбается.
– Леон, – неожиданно сказала она, – не хотите рассказать мне, каким образом вы украли парюру?
Валевский приоткрыл глаза, заворочался на жесткой постели, проворчал:
– Я уже говорил вам: я ее не брал.
– А у меня другие сведения, – возразила Амалия. – Кроме того, просто варварство – так портить диадему, чтобы впихнуть ее в чемодан. Ну? Так вы ничего не хотите мне рассказать? Вы отдали драгоценности одной особе… отдали просто так, потому что вам стало ее жаль или по другой причине… Но себе вы должны были оставить хоть что-то на память о столь замечательном деле. Что именно, Леон? Ожерелье? И что с ним потом стало?
Валевский сощурился и стал тереть кулаками глаза. И откуда баронессе удалось узнать, что он в самом деле оставил себе ожерелье, но потом, когда его схватили Пятируков и граф и поволокли к королю дна, изловчился по дороге незаметно выбросить драгоценность в кусты? Само собой, это было не слишком дальновидно, но если бы ожерелье нашли при Леоне, ему бы грозила неминуемая смерть…
А потом ожерелье нашла собака и принесла своему хозяину, следователю Половникову, который разработал целый план, как с помощью безделушки избавиться от надоевшей жены и ее любовника. А потом… потом произошло еще много всяких интересных событий.
– Я хочу спать, – буркнул Валевский.
Амалия поглядела на него, покачала головой и скользнула к двери.
– Кстати, я понятия не имею, о чем вы говорите, – сказал Леон ей вслед. После чего отвернулся к стене и преспокойно заснул.
Назавтра баронесса Корф, столь удачно исполнившая данные ей поручения (как истинное, так и мнимое), отбывала из города. Вновь вокзал был украшен гирляндами цветов, и маэстро Бертуччи, сидя на белой лошади, поправлял рукава, чтобы дать сигнал к началу «Пребраженского марша».
Для баронессы, уезжавшей со своей горничной и хорошим знакомым господином Рубинштейном, был подан особый вагон. В то же самое время с дальних путей вокзала готовился отбыть другой поезд – с решетками на вагонах. В одном из таких вагонов сидел Леон Валевский и, хмурясь, глядел сквозь зарешеченное окно на пути.
– Слышь, поляк, – сказал конвоир, заглядывая к нему, – к тебе дама.
У Леона было скверное предчувствие, что он знает, кем именно является посетительница, тем более что только одна особа в городе могла выговорить себе право навестить узника перед его отправкой в Варшавскую цитадель. И в самом деле, вскоре рядом с ним стояла Амалия Корф.
– А вы хорошо выглядите, – заметила баронесса. – Почти все порезы зажили.
– Неужели вас интересует, как я выгляжу? – осведомился Валевский с намеком на сарказм в голосе.
– Скорее ваш внешний вид должен интересовать вас, – парировала Амалия. – Воображаю, что будет твориться, когда вас привезут в Варшаву! Все репортеры выбегут вас встречать, и может быть, им даже разрешат сделать снимки. Так что в ваших же интересах хорошо выглядеть, Леон!
– Не называйте меня «Леон», – попросил Валевский, сверкнув глазами. – Каждый раз, когда вы произносите мое имя, у меня в груди что-то переворачивается, и я начинаю опасаться за свое здоровье.
И молодой человек надулся, услышав веселый смех собеседницы.
– Ну ладно, пан Валевский, – заговорила Амалия по-польски, протягивая ему коробку. – Держите! Это вам на прощание от месье Андре. Так сказать, чтобы подсластить вашу горькую участь.
Валевский открыл коробку и увидел в ней дюжину эклеров – тех самых эклеров, которые делал для него шеф-повар «Европейской». Конвоир, который до той поры смирно стоял в дверях, встревожился.
– Простите, сударыня, – забурчал он, – но запрещено передавать арестантам еду… Запрещено! Мало ли что там окажется…
– О, не беспокойтесь, сударь, – ответила Амалия, смеясь. – Само собой, в самом большом эклере спрятаны отличные напильники, чтобы облегчить узнику бегство… – Вдруг баронесса оборвала смех и, строго поглядев на конвоира, заговорила уже другим, холодным тоном: – Вы что? Не знаете, что ли, с кем говорите? Стыдитесь! Ваши предположения вовсе не делают вам чести…
Струхнувший конвоир зачем-то отдал честь, запер дверь камеры на колесах и проводил даму наружу, где ее уже ждал вице-губернатор Красовский.
– Его императорское величество приезжает через неделю, – сообщила ему Амалия. – Полагаю, мне не стоит давать вам указания, как именно следует его встречать. Однако рекомендую вам воздержаться от упоминаний об арестах в университете, равно как о том, что я здесь делала. Визит должен пройти как обычно, и ничто не должно его омрачить.
Красовский заверил баронессу, что сделает все от него зависящее, дабы его императорское величество чувствовал себя в О. как дома.
– А что с парюрой? – не удержался вице-губернатор. – Господин де Ланжере говорил мне – вы отыскали все предметы, кроме одного.
– Да, не хватает брошки, – вздохнула Амалия. – Но это пустяк, я уверена, ювелиры по эскизам сделают вторую, точно такую же.
– А как именно вам удалось найти парюру?
– Секрет! – ответила Амалия, лучась улыбкой.
Она поднялась на перрон, дружески кивнула библиотекарю, чья старческая физиономия выглядывала из-за рядов зевак, и насмешливо покосилась на репортера, который, стоя впереди всех, быстро-быстро писал что-то в своем блокноте. Душа Стремглавова пела – редактор пообещал ему оплатить заметку об отбытии высокой особы по пять копеек строчка, и журналист поневоле стал склоняться к мысли, что вовсе не надо ему ехать в столицу, когда можно сделать карьеру и здесь. Кроме того, у него была наготове отличная история для друзей – о том, как он звал замуж горничную Дашеньку, но та ответила отказом, и только потом ему стало известно, что предложение он делал никакой не Дашеньке, а самой натуральной баронессе Корф.
Де Ланжере подал знак Бертуччи, тот взмахнул рукой, и оркестр принялся исполнять «Преображенский марш». Половников, стоявший в толпе провожающих, приосанился. Он только что получил очередной орден за неоценимую помощь в расследовании и, кроме того, занял место безвременно почившего господина Сивокопытенко. Теперь дома у Половникова жила новая служанка, которая отменно стирала, гладила, готовила и вдобавок присматривала за детьми. Антон Иванович каждый день ходил в чистой рубашке, а большего от нее (по крайней мере, пока) он не требовал.
Николай Рубинштейн помог Амалии подняться в вагон. Щурясь из-под шляпки на солнце, баронесса оглядела флажки и ленты на здании вокзала, толпу на перроне и улыбнулась.
– Поезд отправляется! – прокричал кондуктор.
Дашенька бросила последний взгляд на господина Бертуччи, который сидел на лошади, приковывая к себе восхищенные взоры, и со вздохом направилась в глубь вагона.
– Ты что-то невесела, – заметила Амалия. – Что, тебе не хочется уезжать?
– Вовсе нет, – возразила Дашенька, – мне хочется домой.
Амалия подошла к окну. Перрон потек мимо окон, застучали колеса. Де Ланжере, стоя впереди провожающих, махнул платком.
– Приезжайте к нам еще! – крикнул он и прослезился от избытка чувств.
Амалия сняла шляпку и села на диван. Николай устроился напротив. Ему многое хотелось сказать спутнице, но, по правде говоря, больше всего он корил себя за то, что не догадался тогда прыгнуть в окно, как Леон Валевский. Все-таки по природе Рубинштейн был вовсе не подготовлен к подобным поступкам. И он невольно пожелал про себя, чтобы Валевский пробыл на каторге как можно дольше.
А де Ланжере, провожая взглядом удаляющийся поезд, снял шляпу и вытер платком лоб, буркнув себе под нос:
– Фу, слава богу…
В следующее мгновение он услышал в толпе аханье и возгласы. Обернувшись, полицмейстер увидел, как Бертуччи, бросив оркестр, на своей лошади галопом мчится вслед за уезжающим поездом. Де Ланжере вытаращил глаза.
– Он что, сошел с ума? – слабым голосом спросил полицмейстер. – Кого он хочет догнать, а?
– Кажется, я знаю кого, – объявила в толпе его невенчаная жена и захлопала в ладоши, словно поступок Бертуччи мог как-то касаться ее лично.
В поезде Николай Рубинштейн поглядел в окно и удивленно приподнялся:
– Амалия Константиновна… Смотрите, за нами кто-то едет!
– Дашенька! – крикнула Амалия. – Дашенька!
Но та уже все поняла и метнулась в коридор.
Бертуччи, нагнав поезд, перебрался с седла на подножку вагона. Дашенька подала ему руку и помогла забраться в вагон.
– Знаете, я только сейчас понял, – признался потомок итальянцев. – Я совсем не хочу с вами расставаться, Дашенька… кем бы вы ни были.
Лошадь, оставшись без всадника, продолжала бежать за поездом. Тогда баронесса приказала остановиться, забрать животное и закрыть его в особом вагоне для перевозки лошадей. И хотя ее распоряжения были чем-то совершенно неслыханным, ведь поезду не полагалось останавливаться не на станции, машинисту и кондукторам все же пришлось подчиниться.
Меж тем как курьерский поезд мчал Амалию и ее спутников в Санкт-Петербург, другой поезд увозил к польской границе Леона Валевского, который сидел в своей камере в обнимку с коробкой эклеров и вздыхал так, что мог бы разжалобить камень.
Наконец Валевский поглядел в окно, прикинул, что они уже успели отъехать достаточно далеко, и решил, что по жаре эклеры могут испортиться. Открыв коробку, Леон принялся уничтожать прощальный подарок шеф-повара Андре и баронессы Корф, но тут его ждал сюрприз – в самом большом эклере арестант обнаружил… связку тонких и чрезвычайно острых напильников.
Некоторое время молодой человек сидел, таращась на них и беззвучно шевеля губами. Потому что вспомнил ироническую реплику Амалии о том, что, разумеется, она позаботилась передать ему средства для облегчения побега. И в конце концов Леон решил, что баронесса Корф – чертовски коварная особа, которая всегда поступает так, как хочет, и способна на то, чего от нее не ждешь.
Однако у него была собственная гордость, и меньше всего поляк хотел быть обязанным своим бегством баронессе Корф, которую, по совести, терпеть не мог и которая вообще-то, по логике вещей, являлась его заклятым врагом.
Поэтому он выкинул напильники в щель между досками пола, доел эклеры, вытер о себя руки и вытащил откуда-то – истории так и осталось неизвестным, откуда именно, – предмет, напоминающий дамскую шпильку для волос. Поколдовав над ним, Леон вставил его в замочную скважину, затаил дыхание и мягко повернул…
Через пять минут тот же конвоир, который не без основания подозревал эклеры шеф-повара Андре в том, что они могут содержать недозволенную законом начинку, в одном нижнем белье лежал в камере Леона. Руки конвоира были связаны, а во рту торчал кляп, сделанный из его же носка. Судя по выражению лица солдата, ему данный факт был сильно не по душе.
Валевский переоделся в форму своего стража, огрел того на прощание по голове, чтобы не вздумал сорвать его планы, повернул лежащего без памяти узника лицом к стене, заботливо накрыл одеялом и вышел.
Напоследок Валевский тщательно закрыл за собой дверь.
На ближайшей станции конвоир, из-под фуражки которого задорно торчал вихор светлых волос, отлучился по нужде, да так и не вернулся. И, поскольку поезд не мог ждать, состав отправился без него.
Возможно, конвоир стал жертвой разбойников, которые специализировались исключительно на охранниках арестантских вагонов. Возможно, зачитался романом Дюма или Достоевского и пропустил отправление своего поезда. Или, возможно, встретил девушку своей мечты и решил, что есть на свете дела более важные, чем стеречь мазуриков, которые и без него попадут туда, где им уготовано место. А возможно, просто провалился в параллельное измерение.
Так или иначе, он бесследно исчез.
Валерия Вербинина Эхо возмездия
© Вербинина В., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Глава 1 Пасьянс, который не удался
Доктор Волин не любил осени. Дни, когда листва становится золотой, когда солнце, нечасто выглядывающее из-за облаков, светит по-особенному нежно и щемяще, когда птицы собираются в стаи, чтобы улетать, и природа готовится к зиме, – эти дни, прославленные столькими поэтами, означали для него лишь грозное увеличение числа простудных заболеваний, среди которых непременно встретится пара запущенных случаев воспаления легких, с которыми придется повозиться. Он не любил коварства осенней погоды, которая то приголубит, то остудит. Как аккуратиста, его раздражала грязь на калошах, уездные дороги, кое-где превращающиеся в форменное месиво, и невыразимо унылый вид, какой приобретают облетевшие деревья в пасмурный день. Скрепя сердце, доктор еще готов был мириться с ранней осенью – самой очаровательной ее порой, которую называют «бабьим летом»; но и тут Георгий Арсеньевич чуял подвох. Ведь бабье лето вовсе не лето, и вообще, если разобраться, в нем ничего нет, кроме обмана. Просто несколько теплых дней, которые мало что значат и, уж конечно, ничего не могут изменить. Потому что осень – вот она, и, если холода ударят внезапно, в земской больнице опять не будет хватать коек для всех заболевших. И опять ему придется хлопотать, унижаться, писать бесполезные письма в управу, а долгими одинокими вечерами, сидя в своем домике возле больницы, смотреть на сумерки за окном и чувствовать опустошенность, знакомую всякому, кто понимает, что его хлопоты тщетны, и все равно продолжает бороться, несмотря ни на что.
Обо всем этом доктор Волин размышлял по пути к Одинцовым, куда его вызвали сегодня. Работа в земской больнице отнимала у Георгия Арсеньевича много времени, но он никогда не отказывал в помощи, если его о ней просили. Впрочем, вне больницы у Волина было мало пациентов, потому что старый врач Брусницкий ревниво оберегал свои интересы и вовсе не собирался сдавать своих позиций. У него лечились по большей части богатые помещики и зажиточные горожане, а к Георгию Арсеньевичу чаще всего обращались либо больные, которые не могли осилить гонорарных аппетитов его коллеги, либо те, кто оказался в обстоятельствах, когда позвать на помощь молодого доктора было проще. Весной Волин лечил знаменитого историка Снегирева, несколько месяцев назад вправлял вывих кучеру генеральши Меркуловой, а сейчас направлялся в имение к Одинцовым. Доктор любил ходить пешком, и так как имение находилось всего в трех верстах от больницы, он решил прогуляться. День был солнечный, ясный, но в воздухе уже ощутимо веяло прохладой, как это нередко случается в последнюю декаду сентября. Волин как раз обходил большую канаву, когда его внимание привлек тоненький писк. Наклонившись, Георгий Арсеньевич вытащил из травы крошечного белого котенка. Тот дрожал всем телом, и в его голубых глазах застыл немой вопрос: не обидит ли его огромное существо, пришедшее на его отчаянный зов?
– Что же мне с тобой делать, братец? – спросил доктор вслух.
Котенок жалобно мяукнул. Вздохнув, Георгий Арсеньевич сунул его в карман и двинулся дальше. Через четверть часа доктор был уже у дома Одинцовых.
Волин знал, что в семье имеются отец и мать, но сам он имел дело только с младшим поколением – Евгенией, невзрачной круглолицей блондинкой невысокого роста, и безалаберным Николенькой. Евгении уже сравнялось двадцать пять, а в XIX веке это считалось серьезным возрастом для женщины, которая не сумела выйти замуж. Николенька был на три года моложе сестры, но она обращалась с ним так, словно разница между ними составляла лет десять, не меньше. Родители появлялись в имении редко, и, по слухам, доктору было известно, что каждый из них живет своей жизнью, что у матери есть постоянный любовник, а у отца даже несколько любовниц. Это отчасти объясняло поведение Евгении – она вела себя по отношению к брату так, как вела бы себя в ее представлении другая, правильная мать, и не замечала, что слишком часто перегибает палку. Она требовала, чтобы Николенька кутался, чтобы не курил, не ездил в город играть в карты, чтобы читал умные книги, умные статьи – хотя бы того же Снегирева, к примеру – и имел собственное мнение по поводу земского управления, успехов химии, внешней политики Российской империи и перспектив воздухоплавания. Но Николенька не любил умные книги – как, впрочем, и любые книги вообще, – не был склонен прислушиваться к чужому мнению, если оно не совпадало с его собственным. В таких обстоятельствах его жизнь с сестрой в одном доме неминуемо стала бы адом, – стала бы, не будь Николенька так очаровательно безалаберен и не обладай он поистине бесценным умением ладить с людьми, даже такими строгими, как его сестра. Что бы Евгения ни предпринимала, ей не удавалось перевоспитать брата и заставить его настроиться на серьезный лад. Кое-как он закончил гимназию, в которой запомнился учителям одними проказами, но с университетом ему вскоре пришлось распрощаться, причем он даже не мог толком объяснить, за что же его отчислили.
– Видите ли, Георгий Арсеньевич, мне просто стало скучно. Просыпаюсь я как-то утром, вспоминаю, что надо идти на занятия, и думаю: а зачем? Так никуда и не пошел, и назавтра тоже, и послезавтра. Потом прошел месяц… или два? И меня, представьте себе, отчислили…
Он говорил и улыбался своей открытой, бесхит-ростной, какой-то детской улыбкой, и доктор поймал себя на том, что вот-вот кивнет и ответит снисходительной репликой в том духе, что Николенька поступил совершенно правильно и в университетах вообще нечего делать.
В тот раз, уйдя от Одинцовых, доктор Волин решил, что Николенька просто никчемный молодой человек, сам доктор при этом был всего на пять лет его старше. Пустое место, и более ничего, сердито думал Георгий Арсеньевич. Вольно ж этому лоботрясу учиться кое-как и бросать университет, когда есть небедные отец и мать, когда можно в любой момент уехать в имение и жить там, ни о чем не беспокоясь!
Одним словом, доктору Волину ужасно хотелось осудить Николеньку и проникнуться к нему презрением, но что-то подобное получалось только на расстоянии, а вблизи Георгий Арсеньевич видел, что Николенька, может быть, и никчемный, но вовсе не такой дурной человек, как могло показаться. «Возможно, если бы не поведение родителей… У его матери роман с промышленником, об их отношениях судачат все кому не лень… Почему мне кажется, что он какой-то пришибленный, что ли? Всегда улыбается, всегда в хорошем расположении духа, всегда готов отпустить шутку или каламбур… Что-то в таком поведении не вполне нормальное… или я фантазирую?»
– Вот, оторвали от дел занятого человека, – произнес Николенька, лучась улыбкой, – а что это за зверь – ваш? – Он показал на котенка, который высунул голову из кармана доктора.
Георгий Арсеньевич спохватился и объяснил, что он нашел котенка и что тот, судя по всему, голоден. Евгения тотчас же вызвала горничную и велела принести блюдечко с молоком.
– Это очень мило с вашей стороны, Георгий Арсеньевич, что вы не оставили живое существо умирать, – заметила она доктору.
Волин слегка поморщился – его собеседница говорила искренне, но отдающие штампом слова «мило» и «живое существо» царапали слух. Впрочем, он не в первый раз замечал, что Евгения подбирает для своих мыслей выражения, которые так или иначе искажают суть того, что она хочет сказать. Например, сейчас она была уверена, что сделала собеседнику комплимент, а получилась довольно высокомерная и шаблонная реплика. Горничная принесла блюдечко, и котенок стал жадно лакать молоко.
– Так зачем вы меня вызвали, Евгения Михайловна? – спросил доктор.
Он был почти уверен, что повод окажется пустячным, и не ошибся. Краснея и то и дело сплетая и расплетая пальцы, Евгения заговорила о том, что она недавно прочитала статью о туберкулезе и что ее беспокоит кашель брата. Николенька время от времени вставлял замечания, которые должны были показать, что его кашель – сущие пустяки и он даже не помышляет заболеть чахоткой.
– Что ж, я полагаю, мы можем пройти в соседнюю комнату, и я вас осмотрю, – сказал доктор.
– Вы очень меня обяжете, Георгий Арсеньевич, – сказала Евгения и принялась нервно гладить котенка.
Доктор Волин едва удержался от того, чтобы не брякнуть: «Замуж бы вам надо, Евгения Михайловна, да не маяться всякой ерундой». Николенька покосился на него, и по тому, как блеснули глаза молодого человека, Георгий Арсеньевич с неудовольствием понял, что тот угадал его мысли.
– Прошу, – суше, чем ему хотелось бы, промолвил доктор.
Когда через несколько минут он вернулся в сопровождении Николеньки, Евгения Михайловна раскладывала пасьянс, а котенок, побродив по комнате, забрался в коробку рукоделием, забытую на полу возле кресла, и свернулся калачиком.
– Ну, что? – с тревогой спросила Евгения, переводя взгляд с брата на доктора.
– Пациент будет жить, – весело ответил Николенька.
– Я не вижу никаких следов туберкулеза, – сказал Волин. – Небольшая инфлюэнца, только и всего. – Он мог бы сказать «простуда», но предпочел слово, звучащее по-ученому. Доктор не в первый раз замечал, что именно такие необычно звучащие слова надежнее всего успокаивали людей.
Он не ошибся: Евгения просияла.
– Вы меня успокоили, Георгий Арсеньевич… В нашем положении… – она покраснела и запнулась, – я хочу сказать, наша семья… И вообще…
– Уверен, наш гость охотно простит твою мнительность, – заметил Николенька с улыбкой.
– Разумеется, – отозвался доктор. – Поверьте, я был бы искренне огорчен, если бы у вас действительно обнаружился туберкулез.
– Я тоже, поверьте, – в тон ему ответил Николенька, подходя к столу. – Восьмерку на девятку…
– Нет, не надо! Николенька!
– Иначе пасьянс не сойдется.
– Он не сойдется, если трогать эту восьмерку!
– Почему? Восьмерку на девятку… а семерку сюда… гм…
– Ну вот, я же говорила! Пиковая дама мешает… И никак ее не обойти.
– А если так?
– Все равно пиковая дама не даст завершить пасьянс, – Евгения в досаде смешала карты и, собрав их, принялась раскладывать снова. – Вы верите в гадания на картах, Георгий Арсеньевич?
– Нет.
– Почему?
– Я, Евгения Михайловна, скучный человек, – улыбнулся доктор. – Я предпочитаю верить в науку. А гороскопы, гадания, кофейная гуща – это, простите меня, несерьезно.
– Даже когда то, что они предсказывают, сбы-вается?
– Это вам так кажется, – серьезно ответил Волин. – То, что вы называете предсказанием, включает в себя набор самых общих элементов, которые к тому же зачастую можно трактовать по-разному. Кроме того, внимание обычно привлекают гадания, которые хоть как-то совпадают с реальностью, и вокруг них поднимают самый большой шум, а большинство предсказаний, что называется, бьет мимо цели, и о них попросту забывают.
– Наверное, вы правы, Георгий Арсеньевич, – вздохнула Евгения, – и все же… Все же хочется думать, что судьба подает нам знаки… и как-то направляет нас… – Она энергично перетасовала карты, разложила их на столе и, морща лоб, принялась за толкование: – Хлопоты… дорога… король – наверное, Николенька, имеешься в виду ты… А это что? Опять пиковая дама. Не иначе какие-то неприятности. – Евгения недовольно повела плечом и смешала карты. – Простите, Георгий Арсеньевич, я, наверное, вас задерживаю со своими глупостями… Сколько мы вам должны?
– Три рубля, Евгения Михайловна.
– Ах, ну да, конечно…
Она завозилась, достала кошелек, вытащила из него три рубля и протянула доктору. Всем присутствующим почему-то в это мгновение было немножко неловко. «Вероятно, Павел Антонович Снегирев вывел бы отсюда какое-нибудь шибко умное заключение… В Европе деньги переходят из рук в руки как нечто само собой разумеющееся, а у нас пациент и мнется, и тянет время, и вовсе не оттого, что ему нечем платить – это-то как раз было бы понятно… И я, получив деньги, стараюсь как можно скорее спрятать их, словно я их украл…»
– А ваш зверь, доктор? – напомнил Николенька, когда Волин, попрощавшись, сделал движение к двери.
Котенок сладко спал среди обрезков ткани. Георгий Арсеньевич посмотрел на него, и замкнутое обычно лицо доктора немного смягчилось.
– Простите, вы, конечно, правы… Я заберу его.
– Он проснется, – тревожно сказала Евгения, глядя на доктора. – Зачем? Знаете что, Георгий Арсеньевич, оставьте его пока у нас. Обещаю, я буду о нем заботиться… А то вы все время в больнице, вам некогда за ним следить… А когда он подрастет, я верну его вам, если вы пожелаете.
– Вы очень добры, Евгения Михайловна, – серьезно ответил доктор. – В самом деле, ему лучше будет у вас, моя работа оставляет мне слишком мало времени… – Он взялся за ручку двери и, вспомнив о чем-то, обернулся. – Представляете, я даже не успел дать ему имя.
Глава 2 После метели
Вечером пошел первый снег, и то были вовсе не легкие порхающие снежинки, которые тают, едва коснувшись земли, – нет, в уезд наведалась настоящая ведьма-метель, которая несколько часов кряду сыпала и сыпала белые хлопья. Когда доктор на следующее утро выглянул в окно, он увидел, что клены и сирени, с которых до сих пор не облетели листья, покрыты слоем рыхлого снега. Эта полуфантастическая картина – серо-черные стволы, желтые и багряные листья и всюду белый снег – была бы дорога сердцу живописца, но Волин насупился так, словно увидел своего старого врага, от появления которого не ждал ничего хорошего.
«Для серьезных обморожений, пожалуй, еще не время… Но если какой-нибудь мужик хватил лишку и заснул на улице, то последствия могут быть самыми плачевными…»
Наскоро позавтракав, он направился в больницу, где его уже ждали фельдшер Поликарп Акимович Худокормов и медсестра Ольга Ивановна Квят. В больнице, по правде говоря, работали и другие люди, включая сиделок и сторожа, но именно этих двоих Волин привык воспринимать как своих основных помощников.
Фельдшеру Худокормову недавно исполнилось сорок лет, он происходил из соседней деревни и знал наперечет чуть ли не всех жителей волости, особенности их характера и их болезни. Что касается его внешности, то, если сложить русые волосы, небольшую бороду, нос картошкой и прибавить к этому очень зоркие и все примечающие глаза, вы получите вполне исчерпывающий портрет Поликарпа Акимовича. К положительным качествам фельдшера можно было отнести, в первую очередь, смекалистость, а к отрицательным – излишнюю говорливость. По правде говоря, Георгий Арсеньевич особенно ценил Худокормова за то, что тот не создавал ему проблем: не продавал втихаря на сторону больничный спирт, не занимался лечением больных без ведома доктора и не вносил путаницу в многочисленную документацию, которую вели в больнице.
Медсестре Ольге Ивановне Квят было лет двадцать пять, и она приехала из Петербурга. Блондинка, не то чтобы красивая, но и не дурнушка, она очень мало занималась своей внешностью и оттого редко производила выгодное впечатление. О себе она рассказывала крайне неохотно. Она казалась собранной, профессиональной и чрезвычайно замкнутой, но Волин был далеко не глуп и подозревал, что за ее упорным молчанием скрывается какая-то тягостная – и, вероятно, банальная – житейская драма. Почти каждую неделю она получала письма, которые потом рвала в мелкие клочья, и не раз после этого доктор видел ее с красными глазами.
– Много народу сегодня? – спросил Волин у фельдшера, который вел учет пришедших на прием.
– Никак нет-с, Георгий Арсеньевич. И двух десятков не наберется.
– Пока я буду делать обход, наверняка еще подойдут, – усмехнулся доктор. – Тяжелых нет?
Поликарп Акимович ответил, что таковых не наблюдается, и Волин в сопровождении Ольги Ивановны отправился делать обход.
Желтые стены, серые одеяла на койках, лица, светящиеся надеждой, лица, утратившие ее, температурные листки, сиделки – этот обход был такой же, как всегда, и доктор выписал двух пациентов, в состоянии которых был совершенно уверен.
Потом начался прием больных, и одни пациенты конфузились, рассказывая о своих хворях, а другие, наоборот, впадали в неуместное красноречие и говорили много такого, что вообще не относилось к делу. По характеру Волин был человеком скорее порывистым и резким, но по отношению к тем, кто обращался к нему за помощью, он проявлял удивительное терпение. Впрочем, сегодняшний прием выдался сравнительно легким: ни одного тяжелого случая, ни одного обморожения, чего доктор подсознательно опасался. Последней в очереди оказалась молодая красивая баба, которая привела свою дочку – худенькую девочку примерного вида с хитрющими глазами. Ребенка в больнице знали хорошо – девочка была сущим бесенком, лазила по деревьям, карабкалась на крыши, постоянно попадала в какие-то приключения и то и дело что-нибудь себе ломала. На этот раз она отделалась сломанным пальцем. Оказав медицинскую помощь, Волин назначил дату следующего приема и повторил ее несколько раз, чтобы мать и дочь не забыли прийти. Выслушав его, баба застенчиво шмыгнула носом.
– Я тут это, – заговорила она сбивчиво, – хотела к вам обратиться… спросить то есть… Это не насчет Кати, а про меня. У меня под мышкой такая штука, я на нее раньше и внимания не обращала, а теперь неприятно как-то… Но я при нем раздеваться не буду! – добавила она, краснея и кивая на фельдшера.
Волин отослал ухмыляющегося Поликарпа Акимовича и попросил пациентку зайти за ширму и снять одежду до пояса. Ольга Ивановна велела Кате пока посидеть на стуле, подождать, пока мама освободится. Девочка села – и замерла, как мышка.
Увидев «штуку», о которой шла речь, Волин потемнел лицом. Он сразу же понял, что это такое. Ольга Ивановна метнула на него быстрый взгляд – она тоже догадалась.
Задав несколько вопросов и ощупав соседние ткани, доктор сказал пациентке, что она может одеваться. Георгий Арсеньевич был мрачен и избегал смотреть на свою помощницу. Катя слезла со стула и подошла к матери, та взяла ее за руку.
– Так это скоро пройдет? – спросила баба, и надежда, прозвеневшая в ее голосе, подействовала на Волина, как пощечина. Он дернулся.
– К сожалению, это не пройдет, – буркнул он, ненавидя себя, и свое личное бессилие, и бессилие медицины вообще.
– Ну что вы, доктор! Конечно, пройдет… Мне еще Катьку замуж выдавать! Вы нашего мельника на ноги поставили, а уж ему-то было куда хуже, чем мне…
Она засмеялась, сверкнув белыми зубами, и тряхнула головой. Чувствуя себя невыразимо скверно, доктор велел Ольге Ивановне выдать болеутоляющее – которое, в сущности, уже никого не могло спасти, как и любое другое лекарство. Не доживет пациентка до свадьбы своей дочери, потому что ее похоронят, а муж-крестьянин, как это часто бывает, скоро найдет себе другую жену. И закончится для Кати привольная жизнь, пойдет сирота, попрекаемая мачехой за каждый кусок хлеба, в батрачки, но тоненькая, слабенькая, не выдержит тяжелой работы, надорвется, рано умрет и обретет вечный покой рядом с могилой своей матери. И ничего, ничего нельзя будет изменить.
– Cancer?[136] – тихо спросила Ольга Ивановна после того, как дверь за пациентками и сопровождавшим их незримым ангелом смерти закрылась с легким скрипом.
Волин дернул щекой.
– Полгода, максимум год, – безнадежно ответил он. – Худокормову не говорите, не стоит.
Фельдшер частенько захаживал в деревенский трактир, где, общаясь с мужиками, нередко разбалтывал поставленные диагнозы. Волин пытался ему внушить, что тайну болезни негоже нарушать, Поликарп Акимович кивал с умным видом, божился, что он больше не скажет ни слова – и все продолжалось по-старому.
– Надо бы дверь смазать, – промолвил Волин с внезапным раздражением. – И чего она скрипит?
Ольга Ивановна вышла, не сказав ни слова, а доктор, досадуя на себя за свою несдержанность, стал заполнять бумаги. Вошел Худокормов, покосился на грозовое лицо начальства и, смутно помыслив: «Дело плохо, кто-то неизлечимо болен – неужели Аксинья? У нее же прадед до ста двух лет дожил», стал возиться с лекарствами, переставлять склянки. Скрипнула дверь – вернулась медсестра, неся небольшую баночку с маслом, которое аккуратно накапала на петли.
– Ради бога, простите, Ольга Ивановна, – поспешно сказал Волин.
Тень улыбки скользнула по ее бледному лицу. По правде говоря, с самого утра это был первый раз, когда она улыбнулась в его присутствии.
– Ничего, Георгий Арсеньевич, – сказала она тихо. – Я все понимаю.
Поликарп Акимович шевельнул лохматыми бровями, с интересом ожидая продолжения, но его не последовало. Фельдшер вполне искренне уважал доктора за его знания и серьезное отношение к делу, но это вовсе не мешало Худокормову немного презирать Волина – тем особым презрением, которое крепко стоящие на земле деревенские жители испытывают по отношению к городским, инстинктивно чуя их уязвимость, которая возрастает вместе с уровнем цивилизации. В представлении Поликарпа Акимовича доктор и медсестра из столицы были два сапога пара, и он бы ни капли не удивился, если бы они «замутили» роман. Но Волин, к досаде фельдшера, держался в сугубо профессиональных рамках и, по правде говоря, обращал на Ольгу Ивановну не больше внимания, чем на свой стетоскоп.
– Слышали про Анну Тимофеевну-то? – спросил Поликарп Акимович, поняв, что установившееся в кабинете молчание может продолжаться сколько угодно.
– Про генеральшу? – рассеянно осведомился Волин, складывая листы, – а что с ней такое? Заболела?
– Нет, – ответил фельдшер, гордясь своей осведомленностью, – у нее приезжие усадьбу сняли. Какая-то баронесса Корф.
– Я думала, сейчас уже не дачный сезон, – заметила Ольга Ивановна, убирая склянку с маслом.
– У баронессы болен родственник, ему врачи прописали свежий воздух, – объяснил фельдшер. – А генеральша пока во флигель перебралась. Ей приезжие кучу денег заплатили за аренду, но у нее вряд ли много останется, ведь надо платить в банк по закладной. Имение-то давно заложено. Болтают, банк даже грозился его отнять…
– Ну и к чему нам это знать? – вздохнул Волин.
– Я подумал, может быть, вам будет интересно, – спокойно ответил Поликарп Акимович, выдержав его взгляд. – Может, тот больной к вам обратится, по врачебной-то части.
– Скорее уж к Якову Исидоровичу, – усмехнулся Волин. Он отлично знал, как старый доктор Брусницкий умел обхаживать пациентов, сулящих ему прибыль.
– А вы ничем не хуже Якова Сидорыча, – внушительно промолвил его собеседник. – Я бы даже сказал, что вы лучше. Да-с.
Тут, пожалуй, надо сделать небольшое отступление и пояснить один момент. Доктору Брусницкому было за пятьдесят, и первую половину своей жизни он благополучно именовался Яковом Сидоровичем. Но, обзаведясь солидной практикой и разбогатев, он вдруг вспомнил, что его отец звался благородным именем Исидор, а не простецким Сидор, и теперь требовал, чтобы его самого величали Яковом Исидоровичем, и никак иначе. Само собой, все в округе были отлично осведомлены об этом пунктике старого доктора, и те, кто его недолюбливали, не упускали случая его уколоть, употребляя именно тот вариант отчества, который вызывал раздражение Брусницкого.
– Пойду-ка я еще раз взгляну на Фаддея Ильича, – сказал Волин, не желая вступать в бессмысленную дискуссию о том, лучше он или хуже. – Мне не нравится, что у него температура держится и не спадает.
К пяти часам он вернулся домой, и Феврония Никитична, которая убирала у него и готовила, а также немного помогала при больнице, стала разогревать ужин. По возрасту Феврония годилась доктору в матери, и она ни минуты не могла находиться в покое. Всегда, когда Волин ее видел, она что-то протирала, убирала, мыла или хлопотала по дому. Едва приехав в уезд, доктор спас ее мужа от неизлечимой болячки, и оттого Феврония ощущала к нему нечто вроде личной преданности. Она обо всем знала, все примечала и, бывало, доводила до его сведения нечто такое, о чем не знал или не желал сказать даже всеведущий Поликарп Акимович. Вот и сейчас, например, она сообщила, что доктор Брусницкий ездил вчера за тридцать верст к богатой больной, на обратном пути угодил в метель и простудился.
– Яков Исидорович – человек осторожный, – сказал Волин. – Думаю, вряд ли он серьезно за-болел.
– В постели лежит, кашляет, чихает и ругается на чем свет стоит, – объявила Феврония. – Он очень рассчитывал, что приезжий пациент к нему обратится, но кто ж пойдет к больному врачу?
– Вам-то откуда все это известно, Феврония Никитична? – не удержался доктор.
– А как же, сударь? Племянница моя у него горничной служит, вот от нее я все и знаю.
В дверь постучали, и через минуту вошла Ольга Ивановна, неся небольшой конверт.
– Я взяла на себя смелость отнести вам… Это доставили от доктора Брусницкого.
Волин разорвал конверт. Почерк у Якова Исидоровича был вовсе не каракулистый, как у большинства врачей, а очень даже аккуратный, закругленный и четкий. Волину даже показалось, что в присланной записке он был аккуратнее, чем обычно, и он мельком подумал, что старого доктора, должно быть, душило особенное раздражение, когда он писал.
– Он просит меня навестить вместо него фабриканта Селиванова, – сказал Волин, складывая письмо обратно в конверт. Селиванов был богач, год назад купивший имение в уезде. Он также приценивался к соседнему имению генеральши Меркуловой, и хотя получил от нее отказ, намерений своих не оставил. Раньше Волин видел фабриканта только один раз, на каком-то скучном торжественном обеде, на котором собралось земское начальство и разные нужные люди. Про себя, впрочем, Волин называл их «ненужными людьми», потому что не мог скрыть от себя, что они его раздражают. Он признавал только деятельность, имеющую практический результат, и его выводили из себя сборища сытых господ, которые часами могли вести сытые разговоры обо всем и ни о чем, а затем расходились, довольные собой, друг другом, жизнью и своим местом в этой жизни.
– А что такое с господином Селивановым – несварение желудка от того, что съел очередного ребенка? – желчно спросила Ольга Ивановна.
Доктора настолько изумила нехарактерная для нее горячность, что он мог только пробормотать:
– Простите?
– Он использует на своих фабриках детский труд, – бросила его собеседница. – И некоторые дети, представьте себе, умирают.
Волин смутился. По правде говоря, только сейчас ему пришло в голову, что он ровным счетом ничего не знает о женщине, с который более полугода работает бок о бок. Может быть, она социалистка? Или коммунистка? Из какой она семьи, кто пишет ей письма, и почему она иногда приходит на работу с красными глазами?
– Впрочем, наверное, вам это неинтересно, – сказала Ольга Ивановна, видя, что Волин медлит с ответом.
Она вышла, и даже подол ее коричневого платья шуршал как-то особенно неодобрительно, словно разделял отношение своей хозяйки. Волин обескураженно поглядел ей вслед. А что, в сущности, он мог сказать? Осудить Селиванова, о котором, если говорить начистоту, почти ничего не знал? Объявить, что развитие промышленности не приводит ни к чему хорошему и что поэтому все фабрики надо закрыть? Сказать, что не фабрики надо закрывать, а совершенствовать законодательство и стремиться улучшать условия труда?
– Вы бы хоть поели, Георгий Арсеньич, – сказала Феврония Никитична. – На ногах с самого утра.
– Да, поем, а потом поеду к Селиванову, – отозвался доктор.
Ольга Ивановна занимала две комнаты в небольшом флигеле при больнице. Почти всякому, кто навещал ее, при виде непритязательной мебели и беленых стен, на которых не было ни единой картины, даже ни одной фотографии, неизбежно приходила на ум монастырская келья. Никаких растений в горшках, вышитых салфеток и тому подобных мелочей, которые способны создать ощущение уюта даже там, где есть только обшарпанные шкафчики и скрипучие половицы. Человеку свойственно приручать пространство, в котором он живет; но женщина, которая поселилась здесь, словно мыслила себя отдельно от окружающего мира – или же не снисходила до того, чтобы вообще придавать ему какое-то значение.
После разговора с Волиным Ольга Ивановна стремительным шагом дошла до флигеля и, затворив дверь, прислонилась к ней. Когда первый порыв прошел, молодой женщине стало мучительно стыдно своей недавней вспышки, – так стыдно, что даже щеки у нее зарделись.
«И зачем я его обидела? Единственный по-настоящему приличный человек среди этих… этих… Даже если бы Селиванов был убийцей, он бы все равно поехал его лечить. Сколько времени он потратил на того мельника, который никак не хотел выполнять врачебные предписания, и ведь вылечил же его, хотя остальные доктора давно отступились… – Она заломила руки и почувствовала, что вот-вот расплачется. – Ах, как нехорошо получилось, как нехорошо!»
Некоторое время она ходила по комнате, пытаясь успокоиться и расстраиваясь все сильнее и сильнее, потом приняла решение сейчас же пойти к доктору и извиниться. Но когда Ольга Ивановна вернулась к домику, в котором жил доктор, она услышала от Февронии, что Волин велел заложить шарабан[137] и только что уехал.
Глава 3 Красный плющ на белой стене
Дорога к усадьбе, которую купил Селиванов, вела мимо имения генеральши Меркуловой, и когда шарабан доктора поравнялся с ее садом, раздался негромкий треск. Кучер Пахом громко высказал все, что он думает о причине треска, о старом шарабане, о своей горемычной судьбе и об этом мире вообще. Доктор, морщась, вылез из экипажа.
– Значит, колесо? – спросил Волин. – Починить можно? Сходи в дом, попроси помощи.
– Я мигом, Георгий Арсеньевич!
Высокая кирпичная стена, ограждающая сад, была покрашена в белый цвет, и с той стороны наружу свисали плети плюща, чьи бордового оттенка листья и почти черные ягоды были присыпаны снегом. Доктор прогулялся вдоль стены, чтобы размять ноги, и неожиданно увидел молодую веточку плюща, которая каким-то непостижимым образом ухитрилась вырасти в горизонтальном направлении, поперек остальных ветвей. Листья на ней были нежные, мелкие, бледно-зеленые.
«Вот так и моя жизнь, – мелькнуло в голове у Волина. – Наперекор всему, не так, как у остальных… Скоро уже зима, а она совсем свежая, как будто сейчас только весна. Впрочем, – тотчас же поправил он себя, – все это вздор. Всего лишь глупая ветка плюща, которая выросла не там и не так, как надо».
Он сделал еще несколько шагов, смутно размышляя о том, почему его не сердит поломка шарабана, из-за которой его визит к Селиванову откладывался, и о том, что когда-то имение генеральши считалось самым красивым и самым богатым в уезде. В то время у Анны Тимофеевны был муж-генерал, прочное положение в свете и три статных красавца-сына, в которых она души не чаяла. Семья Меркуловых слыла хлебосольной, богатой и щедрой, они устраивали званые вечера, праздники, первоклассные охоты и первыми в уезде построили на собственные средства школу для крестьянских детей, но Анну Тимофеевну окружающие почему-то не любили ни тогда, ни после, когда ее муж умер и выяснилось, что финансовые дела семьи вовсе не так хороши, как должны были быть. Все три сына, как это нередко случается в семьях военных, пошли в армию, но служба в ней не пошла им впрок. Старший сын утонул на переправе во время военных маневров, средний ухитрился влипнуть в темную историю с растратой казенных денег и, когда о ней стало известно, застрелился. Какое-то время казалось, что младший, Феденька, любимец матери, будет примерным офицером и не разделит печальную участь своих братьев, но глупейшая ссора с командиром полка и пощечина последнему решили его судьбу. Федор Меркулов был разжалован и сослан на остров Сахалин.
Анна Тимофеевна не собиралась сдаваться. Она писала письма императору, ездила в Петербург к старым друзьям мужа просить помощи, но ее хлопоты не увенчались успехом. Лицо генеральши с крупными твердыми чертами, которое многим знакомым прежде казалось неприятным и высокомерным, приобрело то особенное растерянное выражение, какое появляется у людей, которые не знают за собой никакой особой вины и раз за разом терпят жестокие удары судьбы. Когда закончились деньги, пришлось заложить имение, и уже несколько месяцев уездные сплетники изнывали от любопытства, предвкушая скорую схватку между генеральшей и Селивановым, который жаждал это имение заполучить. Поначалу фабрикант намеревался его купить и счел, что обстоятельства вынудят Анну Тимофеевну согласиться на половину стоимости. Он был крайне удивлен, наткнувшись на категорический отказ, и в раздражении пообещал, что все равно заполучит усадьбу за еще меньшие деньги, когда банк конфискует ее у генеральши за неуплату процентов.
«А ведь он добьется своего, – подумал Волин. – Кто даст в долг немолодой женщине, у которой сын ссыльный? Судя по звукам, колесо уже чинят… Пора возвращаться к шарабану».
Размышления увели его довольно далеко от дороги; та часть стены, возле которой он стоял, уже не была окрашена, и мало того – в одном месте почти осыпалась, так что при желании можно было заглянуть в сад. Георгий Арсеньевич повернулся, чтобы уйти, и машинально бросил взгляд внутрь. В саду возле старого клена, чьи желтые лапчатые листья были присыпаны снегом, стояла молодая красивая дама в бордовом платье и соболином полушубке, которую доктор никогда прежде здесь не видел. Она просто стояла, скрестив руки на груди, и смотрела перед собой, но Волина поразило выражение ее лица: необыкновенно решительное, сосредоточенное и, по правде говоря, таящее нешуточную опасность.
Доктор застыл на месте. У него возникло такое чувство, как будто он только что, прогуливаясь в обычном русском лесу, увидел тигра или ягуара. Но вот из дома женский голос позвал: «Амалия!», и дама повернулась в ту сторону. Прежде, чем уйти, она бросила взгляд в сторону стены и, разумеется, заметила Волина. Георгий Арсеньевич считал, что смутить его нелегко, но в тот момент ему было так неловко, что он предпочел бы провалиться сквозь землю. Незнакомка сухо прищурилась, ослабив свой смертоносный взор, и быстрым шагом удалилась прочь. Прошуршали опавшие листья под ее востроносыми сапожками, и только тогда, когда она скрылась из виду, доктор смог перевести дух.
«А я-то хорош! Наверняка она приняла меня за какого-нибудь местного ротозея… И зачем я сошел с дороги? Ждал бы себе у шарабана, пока его починят…»
Глубоко недовольный собой – тем более что он не мог сам себе толком объяснить причину этого недовольства, Волин вернулся к шарабану, и Пахом объявил, что можно ехать.
– Ну так, поехали, – пробурчал доктор, забираясь в шарабан.
Через несколько минут он уже поднимался по ступеням крыльца дома Селиванова. Волина встретила хозяйка, полноватая, благодушная темноволосая дама в пенсне, но по ее остреньким глазкам и некоторым замечаниям он сразу же понял, что она не так проста, как кажется. Муж ее, Куприян Степанович, спустился вниз через несколько минут. Невысокий, скуластый, лобастый, с темной бородой и широкой улыбкой, он производил поначалу впечатление весельчака и бонвивана, но опыт научил Волина, что первое впечатление, как набросок к картине, никогда не бывает вполне верным. Фабрикант носил дорогую печатку, был прекрасно одет и распространял вокруг себя аромат отличных духов, но, несмотря на это, доктор легко представил себе, каким Селиванов был до того, как заработал свои миллионы.
«Мальчик на побегушках, потом, очевидно, приказчик… В юности был худ и вечно недоедал, зато теперь может себе позволить любые деликатесы и весьма пользуется этим…»
Они ушли в кабинет Селиванова, где в камине ярко полыхал огонь, и фабрикант стал излагать свою проблему: у него стал побаливать желудок, хотя раньше Куприян Степанович на него не жаловался. Разговаривая с пациентом, доктор невольно вспомнил слова Ольги Ивановны.
– Полагаю, что пока стоит ограничиться диетой и посмотреть, как ваш желудок будет реагировать, – сказал Волин, осмотрев больного. – Диета не значит, что вам придется есть мало. Диета означает, что продукты должны быть такие, чтобы, если угодно, не доставлять организму лишних хлопот. Вы часто в молодости недоедали?
Куприян Степанович усмехнулся.
– Бывало, что и голодал. Но неужели через столько лет мне все это аукнулось?
– Возможно, – ответил Волин и пустился в подробное объяснение того, что Селиванову можно есть, а чего нельзя. Собеседник слушал его внимательно и порой задавал уточняющие вопросы, но Георгий Арсеньевич поймал себя на мысли, что все равно не доверяет ему.
«Какого черта я тут делаю? Сколько бы я ни говорил ему о бульоне и необходимости отказаться от спиртного, он все равно поступит по-своему… Знаю я этих богатых пациентов, которые свято уверены, что законы природы на них не распространяются!»
Выслушав доктора, Куприян Степанович потянулся за коробкой сигар.
– Вы курите, Георгий Арсеньевич? Берите, не стесняйтесь… У меня самые лучшие сигары, таких даже в столице днем с огнем не сыщешь…
Мужчины закурили и, глядя на дым, поднимающийся к потолку, Волин попытался сформулировать для себя, почему Селиванов все-таки ему не по душе. Неужели только из-за своего богатства и холеного барского вида?
«Пожалуй, не знай я о его состоянии, я бы счел его вполне обыкновенным и даже располагающим к себе человеком… Смех у него заразительный, но вот эти его глаза… Он смеется, а они подстерегают реакцию собеседника… А может быть, все гораздо проще? Что, если я всего-навсего завидую ему, а вообще он довольно симпатичная личность и уж точно вовсе не глуп?»
– А вот Яков Исидорович считает, что желудок-то у меня из-за нервов разгулялся, – вздохнул фабрикант, стряхивая пепел. – Хотя, пожалуй, он не прав. Все началось еще до того, как я узнал о генеральше.
– Вы об Анне Тимофеевне? – машинально спросил Волин. – А она тут при чем?
– Да ведь я рассчитывал по дешевке ее имение заполучить, – криво усмехнулся Селиванов, и в этот момент мало кто уже рискнул бы назвать его симпатичной и располагающей к себе личностью. – А теперь не выйдет-с. Наша генеральша Кислозвездова прознала, что у заезжей баронессы денег куры не клюют, и выклянчила у нее в долг столько, что хватит выкупить имение у банка. Взамен Кислозвездова разрешила семье баронессы жить в усадьбе столько, сколько им заблагорассудится…
Волин не сразу вспомнил, что генеральша Кислозвездова[138] – персонаж одной из малоизвестных вещей Козьмы Пруткова, запомнившийся фабриканту, судя по всему, лишь из-за своей своеобразной фамилии, так как между персонажем и Анной Тимофеевной не было ровным счетом ничего общего. И еще доктору не понравилось, что его собеседника, человека начитанного и неглупого, прямо-таки корежило от злости, когда он рассказывал о своем поражении.
– Обхитрила меня старуха, – продолжал меж тем Селиванов, недобро щуря глаза. – Кто бы мог подумать, а? Хотя понятно, ради кого она так старается. Про сына ее слышали?
– А что такое с Федором Алексеевичем?
– Ах, ну да, вы тоже не в курсе, – вздохнул Селиванов. – Я и сам узнал только потому, что мне один столичный знакомый проговорился. Помилование господину Меркулову вышло. Блудный сын возвращается с Сахалина. В армию ему, конечно, путь заказан, но ведь штатские тоже живут…
Однако Волин не был настроен продолжать эту тему.
– Приезжая баронесса – это госпожа фон Корф? – спросил он, думая о незнакомке в саду генеральши. – Мне о ней говорили, но я уже забыл, что именно. – Он предпринял отважную попытку солгать: – Кажется, она уже немолода?
– Нет, немолодая – это ее мать, а баронессе лет тридцать, насколько я понял, – отозвался Селиванов. – С ними приехал больной дядя баронессы, брат ее матери, который изводит всех своими капризами. – Фабрикант поморщился и со всего маху швырнул недокуренную сигару в полыхающий камин. – И какого черта им приспичило снять дом именно у старухи? – со злостью спросил он. – Если бы не они, я бы его заполучил уже в этом году…
– И вы из-за этого расстроились? – спросил Волин, пристально глядя на своего собеседника.
– У нас с женой две дочери, старшей через пару лет будет семнадцать, и надо думать о приданом, – пожал плечами Селиванов. – Что может быть лучше соседней усадьбы? Все рядом, по-семейному, и зять перед глазами, чтобы глупостей не натворил.
Волин почувствовал, что на сегодня с него хватит общения с сильными мира сего, и решительно поднялся с места.
– Уже уходите, доктор? – спросил Куприян Степанович с удивлением.
– Да, мне надо возвращаться в больницу.
– Ах да, верно! Земство…
Селиванов поднялся, вытащил три рубля и, прежде чем Георгий Арсеньевич успел выразить свой протест, засунул их доктору в карман, словно тот был слугой или половым в трактире.
– Рад был с вами познакомиться, доктор, – сказал Куприян Степанович, глядя снизу вверх на побледневшего от бешенства Волина, который был больше чем на голову выше его. – Я ведь вас еще на том обеде заприметил. Деятели наши несли всякий вздор, а вы молчали… Далеко пойдете, это я вам точно говорю!
Глава 4 Разговоры
«Почему я просто не дал ему в морду?»
Ночью снег полностью сошел, а следующий день был полон хлопот. В больнице предстояли две операции, да еще вдобавок в деревне муж зарезал жену, и Волину пришлось ехать на вскрытие. Тем не менее он нет-нет да и задавал себе вопрос, который мучил его со вчерашнего дня.
«Почему я просто не дал ему в морду? Вот черт возьми!»
Ольга Ивановна ходила, шурша платьем, и то и дело бросала на хмурого доктора встревоженные взгляды. Вчера она так и не подыскала удобного случая, чтобы извиниться, и ей казалось, что сегодня Волин мрачен и выглядит раздражительнее, чем обычно, именно из-за ее выходки.
Она начала нервничать, волноваться и уже вечером, после приема, который в тот день затянулся, разбила склянку с бромом[139], когда ставила лекарства обратно в шкаф.
– Ради бога простите, Георгий Арсеньевич… – пробормотала она, не зная, куда деваться от стыда. – Я… я заплачу.
– Глупости говорите, – буркнул Волин, который, сидя за столом, просматривал карточки, куда заносились сведения о больных. – Еще не хватало, чтобы я из вашего жалованья вычитал… Просто возьмите себя в руки и больше ничего не разбивайте.
«Да что ж он – слепой, что ли?» – подумал фельдшер, изнывая от любопытства. Он взял стопку карточек, которые Волин уже просмотрел, и удалился, притворив за собой дверь. Ольга Ивановна достала веник и подмела пол.
– А насчет Селиванова вы оказались правы, – добавил доктор. – Тот еще фрукт оказался. Ждал, когда Анна Тимофеевна окончательно разорится, чтобы прибрать к рукам ее имение.
Ольга Ивановна замерла на месте.
«Но не это самое противное, – про себя продолжал Волин, – а то, что я взял у него три рубля, и он теперь думает, что он меня купил. Что же мне делать с этими деньгами? Пущу их на лекарства для больницы, в самом деле…»
Он поглядел на бледное, напряженное лицо Ольги Ивановны и подумал, что она неважно выглядит.
– Вы хорошо себя чувствуете? – спросил Волин напрямик. В том, что касалось здоровья, он предпочитал обходиться без окольных путей.
– Я… – его собеседница выдавила из себя улыбку. – Я просто немного устала. Значит, вы на стороне Анны Тимофеевны?
Вопрос был задан, чтобы продлить разговор, но Волин воспринял его всерьез.
– Я? Я, простите, ни на чьей стороне, – пожал он плечами. – Любой может заболеть, и ему понадобятся мои услуги. Да и Анну Тимофеевну я знаю еще меньше, чем господина Селиванова… – Он помедлил, прежде чем задать следующий вопрос как можно более небрежным тоном. – Баронесса Корф – ее родственница?
– Баронесса Корф – петербургская пустышка, – колюче ответила Ольга Ивановна. – И к тому же разведенная женщина. Насколько мне известно, между ней и Анной Тимофеевной нет ничего общего.
Волин с опозданием вспомнил, что говорить с одной молодой женщиной о другой молодой женщине – занятие совершенно бесполезное, и предпочел углубиться в бумаги. Поликарп Акимович простоял с той стороны двери минут пять, прежде чем убедился, что продолжения беседы не будет, и с сожалением вошел.
– К Павлу Антоновичу скоро приезжает гость, – заметила Ольга Ивановна, чтобы хоть что-нибудь сказать.
– Что за гость? – буркнул Волин, не поднимая головы.
– Джонатан Бэрли, англичанин. Кажется, он собирается писать книгу о России и… словом, он обратился к Снегиреву.
– Зачем?
– Статьи Павла Антоновича о России и русском характере переведены на многие языки, – отозвалась Ольга Ивановна с некоторым удивлением. – Думаю, мистеру Бэрли будет что с ним обсудить.
Поликарп Акимович страдал. По его мнению, два взрослых, образованных, достойных человека обсуждали сущий вздор вместо того, чтобы поговорить о себе и своих чувствах.
– Боюсь, я не читал статей Снегирева о России, – равнодушно отозвался Волин, убрав последнюю карточку и поднявшись с места. – Видел только его обращение к властям по поводу того бедолаги, которого обвинили в убийстве четырех человек.
– Студента Колозина?
– Да, кажется, так его звали.
– Сейчас идет суд, – сказала Ольга Ивановна. – Не исключено, что Колозина оправдают. Общественное мнение настроено в его пользу, и во многом благодаря хлопотам Павла Антоновича.
Но Волин не был расположен говорить об уголовщине, как, впрочем, и о Селиванове. Направление его мыслей переменилось: теперь его интересовал только один человек – дама в саду, которую, судя по всему, звали Амалией Корф.
«Немка? Но на немку она не слишком похожа… – Он встряхнулся. – И почему я не могу выбросить ее из головы?»
На другой день, покончив со всеми делами, Георгий Арсеньевич велел седлать лошадь и отправился проведать доктора Брусницкого, который жил в уездном центре – городе Александрове.
Старый брюзга был дома, и его морщинистое красное лицо, свидетельствующее о склонности к апоплексии, не выразило ровным счетом никакого восторга, когда горничная доложила, что доктор Волин явился его навестить.
– Коллега! – протянул Яков Исидорович, вкладывая в одно-единственное коротенькое слово пуд иронии, сарказма и бог весть чего еще. – Как это мило с вашей стороны, что вы вспомнили о моем существовании! Кстати, о сем бренном существовании: я не болен ни воспалением легких, ни даже бронхитом, а всего лишь немного простыл. Кхе, кхе, кхе!
Так что…
– Полно вам, Яков Исидорович, – укоризненно промолвил Волин. – Вы ведь отлично знаете, что в уезде вас никто не заменит.
– Пытаетесь ко мне подольститься? – Брусницкий нахмурил свои кустистые седые брови. – Что это на вас нашло, молодой человек?
– Я видел баронессу Корф, – сознался Волин. – И хотел бы разузнать о ней побольше.
Яков Исидорович закашлялся, и гость поспешно подал ему стакан с отваром, стоявший на маленьком круглом столике.
– Я незнаком с баронессой, молодой человек, – ворчливо заметил Брусницкий. – С чего вы взяли…
– С того, что вы обычно все обо всех знаете. Ну же, Яков Исидорович! Кто она, что она, откуда она и вообще?..
– Она вполне здорова, – хладнокровно отозвался старый врач. – Может быть, вы все же хотите ра-зузнать о ее больном дядюшке, которому наверняка скоро понадобятся услуги доктора?
– К черту дядюшку! Меня интересует только его племянница.
– Н-да, – вздохнул Брусницкий. – Коллега, простите меня, старика, но таким манером вы никогда не разбогатеете. И если хотите послушать доброго совета, то забудьте о баронессе Корф. Это богатая, пресыщенная дама, у которой куча денег и несколько имений в разных частях Российской империи. Какой-то ловкий лекаришка в Петербурге внушил ей, что ее дяде нужен именно здешний климат, и она привезла его сюда. Анна Тимофеевна непрактичная женщина, но тут даже она сообразила, что своего упускать нельзя… Вы уже ужинали? Впрочем, что вы могли есть в своей больнице… Оставайтесь, мы устроим лукуллов пир… Нет-нет, возражения не принимаются! Вы не представляете, коллега, как мне обидно: лечил тут всех, буквально всех, и хоть бы одна собака заглянула, узнала, как сейчас мое здоровье! Только вы и пришли, и то потому, что вам приглянулась пара прекрасных синих глаз…
Волин смутился.
– Я даже не заметил, какого цвета у нее глаза, – признался он.
– Однако вы не поленились притащиться ко мне за столько верст, чтобы расспросить о ней подробнее, – вздохнул Брусницкий. – Коллега, кого вы хотите обмануть? Птица, о которой вы говорите, совершенно не нашего полета. Будь ее воля, она бы не пускала нас с вами дальше передней… Кстати, кто ваш батюшка?
– Дьяк, – помедлив, признался Волин.
– А мой – мещанин из Юрьева-Польского, – хмыкнул его собеседник. – Ей-богу, коллега, забудьте вы о ней. Найдите себе симпатичную барышню с хорошим приданым… – Волин нахмурился. – И не надо делать такое лицо, коллега. Вы – земский врач, я – уездный, в нашем мире баронессы если и появляются, то надолго не задерживаются. Я вполне допускаю, что на вас нашла мимолетная блажь, но задумайтесь над простейшей вещью: что вы можете предложить этой богатой даме? Дежурства в земской больнице? Умирающих от оспы мужиков? Свою родню, которая хлебает чай из блюдечка так громко, что слышно в соседней комнате? – Георгий Арсеньевич вспыхнул и стиснул челюсти. – Коллега, верьте моему слову: если из чего-то не может выйти ничего, кроме унижений, лучше вообще не начинать. А теперь, пойдемте ужинать, и если вы мне скажете, что в жизни встречали лучший соус, чем тот, который нам сейчас подадут, клянусь, я зарежусь скальпелем!
Глава 5 Ученый и его семья
Вспоминая на следующее утро свой визит к старшему коллеге, доктор Волин ощутил приступ недовольства. Ему не нравилось, что Брусницкий, которого он по большому счету не уважал и считал большим пронырой, узнал о его интересе к баронессе Корф. Кроме того, Георгий Арсеньевич начал думать, что в какой-то миг у него просто разыгралось воображение, и оттого он стал придавать увиденной в саду женщине слишком большое значение.
Неделя прошла без особых происшествий. Волин принимал больных, лечил, делал операции, общался с Поликарпом Акимовичем, больничными сиделками и Ольгой Ивановной. Однажды она передала ему приглашение на вечер к Снегиревым. Волин собирался отказаться, но почему-то подумал, что туда может заглянуть баронесса Корф, и в последний момент согласился.
Само собой, что, явившись на вечер, Георгий Арсеньевич сразу же понял, что женщина, которую он видел в саду, сюда не придет, и более того – что ее присутствие тут попросту невозможно. Компания у Снегирева собралась пестрая, трескучая и весьма демократическая. Тут была Нина Баженова, отзывающаяся на имя Нинель, свободомыслящая дама неопределенного возраста, с губами, каждая из которых величиной напоминала хороший пельмень. Свободомыслие Нинели заключалось в том, что она по поводу и без повода демонстрировала свою неприязнь к России, хотя прожила тут почти всю свою жизнь, не считая редких выездов за границу, была вполне обеспечена материально и никогда не испытывала никаких притеснений со стороны властей. Помимо Нинели в большой и со вкусом обставленной гостиной собрались Евгения и Николенька Одинцовы, а также смахивающая на шулера личность, которая, однако же, оказалась репортером известной столичной газеты, молчаливый господин – фотограф той же газеты, Ольга Ивановна, сдобная темноволосая дама лет пятидесяти, которая не отрывала круглых птичьих глаз от хозяина дома, жадно ловя каждое его слово, и, наконец, сам Павел Антонович и его домочадцы. Разговор, как это нередко случалось там, где присутствовал Снегирев, шел о России.
– Спор западников и славянофилов – уже вчерашний день, – говорил Павел Антонович. – Даже не так: позавчерашний. Уверяю вас, дамы и господа, пройдет меньше ста лет, и наши внуки уже не будут помнить, о чем, собственно, шла речь и вокруг чего возникали такие жаркие дискуссии…
– Хорошо бы для начала прожить эти сто лет, – заметил Николенька беспечно. Темноволосая дама сердито оглянулась на него, но вскоре заметила, что Снегирев улыбается, и тоже заулыбалась. Молодой репортер слушал, кивая с умным видом, и думал, когда же позовут обедать. Он вместе с фотографом приехал издалека и, хотя и успел сегодня перекусить, все же чертовски проголодался.
– Однако этот спор отражает размышления общества – или как минимум его части – о том, в какую сторону нам идти и каким государством нам, в сущности, быть, – продолжал Снегирев, поблескивая очками и благожелательно оглядывая своих слушателей. – Полагаю, что в той или иной форме данный спор, то затухая, то возобновляясь, будет продолжаться еще долго, очень долго, десятилетия или даже столетия, и, в конце концов, многие позабудут, с чего он начинался…
Павел Антонович отличался невысоким ростом, носил небольшую бородку и не мог похвастать особой красотой, но стоило побыть в его обществе пять минут, как вы забывали обо всех его недостатках. Он определенно был умен, но не пытался подавлять других ни умом, ни авторитетом, ни своими знаниями, ни чем-либо еще. В общении он был очень сердечен, и многие оппоненты долго собирались с духом, чтобы написать о Снегиреве какую-нибудь крупную гадость, но не выдерживали и откладывали перо. Узок круг русских интеллигентов, и страшно далеки некоторые из них от совершенства, но казалось, что Павел Антонович близок к нему, как никто иной. Он не гонялся за чинами и наградами, ни перед кем не заискивал, не замарался ни в каком сомнительном деле, не занимался травлей коллег или кого-либо еще, жил если не отшельником, то вполне уединенно, призывал милость к падшим и вообще был кристально честен как с собой, так и с другими. Переходя к мелочам жизни, которые иной раз стоят десятка выигранных битв, можно отметить, что Снегирев не держал любовницы, никогда ни на кого не поднял руки, не играл в карты и даже почти не употреблял бранных слов – почти, потому что он их, конечно, знал, но никто их от него отродясь не слышал. В век, далекий от идеала, он ухитрялся быть практически идеальным человеком, но доктор Волин не верил в идеальных людей и не доверял им. Ему казалось, что в один прекрасный день непременно выяснится, что даже у столь положительной личности, как Снегирев, имеется какой-нибудь изъян; однако, до сих пор Павел Антонович не подал никакого повода для нареканий.
А пока, пожалуй, единственным, к чему можно было придраться в доме Снегирева, являлась семья последнего. Более четверти века Павел Антонович был женат на миловидной, любящей светлые шелковые платья особе, которая, несмотря на сорок с лишком прожитых лет, вела себя как девочка, жеманилась и говорила тоненьким голоском. Мужа она называла «Павочка», всех уверяла, что ничего не понимает в домашних делах, но строго следила за порядком, и все расходы, вплоть до самых незначительных, записывала в особую тетрадку. Трое детей четы Снегиревых оказались странной смесью отдельных черт матери и отца. Мать называла их непременно уменьшительными именами – «Сашенька», «Наденька», «Лидочка»; старшие уже выросли и в свой черед обзавелись семьями, но даже сейчас редко кто звал их иначе, чем «Сашенька» и «Наденька».
Сашенька был долговязый, с упрямым выражением лица, носил очки и служил в петербургском правлении конно-железной дороги. Наденька рано вышла замуж по любви, вскоре рассталась с мужем, часто приезжала к отцу погостить и выглядела не по годам усталой, разочарованной женщиной. Что касается Лидочки, то из всех трех она была самой очаровательной, и за романтический вид, задумчивость и любовь к чтению ее в семье дразнили «тургеневской барышней» – хотя она была не только задумчивой, но и смешливой, а порой непосредственной, как ребенок. В общем, Сашенька, Наденька и Лидочка являлись самыми что ни на есть обыкновенными людьми, но рядом со столь значительной и известной личностью, как их отец, их обыденность воспринималась чуть ли не как преступление. Волин знал, что сын Снегирева живет не по средствам и часто просит у отца деньги; что Наденька ненавидит своего мужа и его любовницу, разрушившую ее брак; а Лидочка целыми днями читает книги, витает в облаках и упорно держится вдали от любой практической деятельности. Все это было мелко, бескрыло и скучно, и, вероятно, доктор сурово осудил бы Снегиревых, если бы сам себя тоже не считал скучным и бескрылым человеком.
– Когда мы обращаемся к истории, – рокотал Павел Антонович, – а историю необходимо понимать, чтобы понимать сегодняшний день, мы видим, что у того, что принято называть Россией, изначально были другие условия, чем у незначительной части Европы, которая обычно понимается под некой эталонной Европой. Согласитесь, дамы и господа, что, когда вы произносите слово «Европа», вы имеете в виду вовсе не Румынию, к примеру…
– Разумеется, имеются в виду передовые европейские страны, – довольно сухо заметила Нинель.
– Вы сказали «разумеется», но, если вдуматься, ничего само собой разумеющегося тут нет, – отозвался Снегирев. – Наши западники хотели бы, чтобы Россия стала точно такой же передовой и европейской страной, как какая-нибудь Франция, которую они лелеют в мечтах – я говорю о мечтах, потому что в реальной Франции на самом деле хватает своих проблем. А так как в характере русского человека присутствует категоричность, которую он склонен приносить во все сферы жизни, наш западник обычно не останавливается на утверждении, какой страной Россия должна быть. Ему обязательно надо пойти дальше и объявить, что в своем нынешнем состоянии Россия мало чего стоит, а самый радикальный западник к тому же непременно начнет кричать, что мы держава второго сорта. И вообще, как мы смели побеждать Наполеона, который великий и все такое прочее, да и победой это не назовешь, его победил климат, русская зима и так далее, и тому подобное…
– Простите, Павел Антонович, но я вынужден поставить вопрос ребром, – вмешался репортер. – Так Бородино – победа или поражение?
– Это героическое поражение, равное победе, потому что оно сделало возможным выигрыш всей войны, – серьезно ответил Снегирев. – Россия поняла, что, даже потеряв Москву, она останется Россией. Но я не стану обсуждать сейчас войну с Наполеоном, это тема для целого исследования, хотя я недавно опуб-ликовал статью о состоянии русского общества, его колебаниях до и после Бородино… И, кстати сказать, Михаил Илларионович Кутузов – вовсе не такая однозначная фигура, каким его хотел видеть в своем замечательном романе граф Толстой…
Репортер понял, что к столу позовут не скоро, и смирился.
– Я уже упоминал о русском характере, – продолжал Павел Антонович, – нам свойственна категоричность, которую многие находят утомительной. А еще русскому человеку свойствен, как бы это сказать… стихийный патриотизм, назовем его так. У себя дома русский может смеяться над какими-то официальными проявлениями любви к отечеству, которые ему навязывают, но едва он понимает, что его поведение пытаются каким-то образом использовать против него же, он сразу настораживается. Отдельные заявления западников оскорбили очень многих людей, и оттого возникла потребность в некой теории, которая обосновала бы… так сказать, право России быть самой собой и ни на кого не оглядываться.
– Так у России есть своя миссия или нет? – спросила Нинель Баженова. – Свой особый путь и прочее, о котором говорят эти господа?
– Строго говоря, каждое государство идет своим путем, насколько ему позволяют соседи и исторические условия, – с улыбкой ответил Снегирев. – Но Россия к тому же… Словом, сколько ее ни изучай, она всегда хоть в чем-то остается непредсказуемой. Полагаю, ответ на ваш вопрос может звучать так: да, у России есть свой особый путь, но тот, кто думает, что знает его, заблуждается, потому что не исключено, что его не знает даже сама Россия.
Доктор уже имел прежде дело с хозяином дома как с пациентом, но никак не мог решить, как к нему относиться. Деятельность Павла Антоновича, его рассуждения о России, о русском пути и о русском характере казались Георгию Арсеньевичу чем-то слишком отвлеченным, чем-то, что отдавало шарлатанством. С другой стороны, Волин не мог отрицать, что Снегирев был блестяще эрудирован и совершенно искренне увлечен своим предметом. Солидные газеты и толстые журналы охотно брали к публикации его статьи и хорошо за них платили, но точно так же он писал статьи для менее известных и малоденежных журналов, если они просили его о сотрудничестве. Кроме того, он заступался в печати за людей, которых, как он считал, несправедливо осудили или обвиняли в преступлениях, которые они не совершали. Самым ярким делом последнего времени стал процесс студента Дмитрия Колозина, которого обвинили в том, что он зверски убил свою квартирную хозяйку, ее мужа и детей. Все обвинение против Колозина было построено на том факте, что на момент убийства у него не было алиби, и из газет Волин знал, что как раз в эти дни процесс подходит к концу и скоро будет оглашен приговор. Само собой, что, как только тема России была исчерпана, речь в гостиной зашла о студенте Колозине и о заступничестве хозяина дома.
– Мы живем в эпоху возмутительного произвола! – шумно вздохнула Нинель Баженова. – Куда катится Россия?
– Ну, после того, когда Павочка разоблачил в прессе полицейские методы и то, как велось следствие, Колозина уже не посмеют осудить, – заметила хозяйка дома, улыбаясь гостям.
Волину сделалось скучно. Он отошел в угол гостиной и стал ждать момента, когда можно будет незаметно сбежать, но тут к нему подошла Евгения Одинцова.
– А ваш котенок обжился у нас, – сказала она, блестя глазами. – Николенька назвал его Фруфриком и до сих пор не может объяснить почему.
– Я сто раз тебе говорил почему, – отозвался ее брат. – Потому что он любит взять какую-нибудь бумажку и шуршать ею, пока не надоест. А бумага издает такой звук: фруф! Фруф!
– Все ты выдумываешь, – проворчала Евгения. – Он нитки любит куда больше… А мой брат влюбился!
– Нет! – Николенька покраснел.
– Не нет, а да! – настаивала Евгения. – Каждый день теперь прогуливается возле усадьбы генеральши, чтобы хоть одним глазом увидеть баронессу Корф.
– Да тут больше не на кого смотреть, – пожал плечами Николенька. – Не по Нинели же вздыхать!
Евгения, не удержавшись, фыркнула, но тут же поторопилась принять серьезный вид.
– Интересно, Колозина осудят или нет? – спросила она. – Как вы думаете, Георгий Арсеньевич?
Вместо доктора ответил ее брат.
– Надеюсь, что осудят, – объявил он.
– Ты говоришь так нарочно, чтобы меня позлить, – вздохнула сестра. – Нельзя осуждать человека только из-за того, что у него нет алиби.
– Он ссорился со своей хозяйкой и не платил ей за квартиру, – упрямо напомнил Николенька.
– Но это не значит, что именно он ее убил! Да еще ее мужа и двух детей, один из которых еще в колыбельке лежал… – Евгения содрогнулась. – Взрослых – ну, я еще могу понять… но детей-то за что?
– Это опасная точка зрения, Евгения Михайловна, – негромко заметил доктор. – Получается, вы признаете, что взрослых убивать можно, а детей – нельзя.
– Я вовсе не это имела в виду! – вспыхнула его собеседница. – Я считаю, что, конечно, никого нельзя убивать… Но можно понять какие-то обстоятельства…
– Которые оправдывают человека, нанесшего женщине больше десяти ударов ножом?
Тут Николенька почувствовал, что пора вме-шаться.
– Я думаю, вы оба на самом деле считаете, что никого убивать нельзя, – сказал он, успокаивающе улыбаясь сестре. – И вообще, зачем говорить об этом? Есть суд, и пусть он решает, виновен Колозин или нет.
– Если есть суд, я не могу иметь своего мнения? – вскинулась его сестра. – И потом, сколько известно случаев, когда суды ошибаются…
Из другого угла гостиной Ольга Ивановна наблюдала, как Волин разговаривает с Одинцовыми. Ей казалось, что Георгий Арсеньевич очень оживлен, а некрасивая Евгения – чем черт не шутит – завлекает его, а он вовсе не против. На самом деле доктор думал, что он с куда большей охотой оказался бы сейчас возле ограды сада, с которой свисают багряные ветви плюща, и посмотрел бы, гуляет ли в саду таинственная баронесса Корф. Однако вместо баронессы Корф Георгию Арсеньевичу приходилось волей-неволей смотреть на хозяина дома и его гостей, которые, по мысли Волина, никак не могли ее заменить.
Наконец, пришло время садиться за стол, и доктор оказался между Евгенией и темноволосой дамой, которую, как выяснилось, звали Любовью Сергеевной Тихомировой. Она была вовсе не в восторге от того, что ее посадили далеко от хозяина дома, и постоянно вытягивала шею в его сторону, когда Снегирев говорил что-то, смеялся или даже просто ел. Волин уже успел составить о ней исчерпывающее представление: рядом с ним сидела одна из тех неудовлетворенных натур, которые с легкостью увлекаются модными философскими течениями, пропагандируют новых поэтов, превозносят новые формы в искусстве и, сами неспособные на творчество и на сколько-нибудь оригинальные мысли, постоянно ищут себе некоего духовного поводыря, который выразил бы то, что они хотели бы думать и чувствовать. Сейчас у Любови Сергеевны наступила «эпоха Снегирева»: ей казалось, что именно он даст ей то, чего не хватало прежде, и придаст смысл ее шаблонному существованию. Она жадно внимала каждому его слову, даже замечанию о том, что котлеты сегодня удались на славу, и Волин как-то очень живо вообразил себе, как она вернется вечером в гостиницу и будет записывать в дневнике подробнейший отчет о том, как она провела вечер, с длинными цитатами Павла Антоновича. Разговор за столом вращался вокруг Колозина и его дела, и Снегирев рассказал, как получил от молодого человека отчаянное письмо, которое его тронуло, как заинтересовался расследованием, как хлопотал о встрече с обвиняемым, общался с его матерью, со слезами заклинавшей Павла Антоновича спасти ее сына, и как пришел к выводу, что тот невиновен в чудовищном преступлении, которое ему приписали. Почему-то Георгий Арсеньевич никак не мог избавиться от ощущения, что Снегирев говорит в большей мере для присутствующего репортера, чем для гостей.
«И что я тут делаю?» – в который раз мелькнуло в голове у доктора.
– Павел Антонович, как вы думаете, Колозина оправдают? – спросил репортер.
– Я совершенно в этом уверен, – ответил хозяин дома. – Посудите сами: орудие убийства не найдено, вещи, пропавшие из дома убитой, – а там были деньги, какие-то дешевые колечки, еще что-то – не найдены… Я бы на месте полиции заинтересовался слугой, уволенным незадолго до убийства. И еще была служанка, которой по странному совпадению не оказалось дома в момент преступления.
– У слуги имеется алиби, – напомнил репортер. – А служанка отпросилась к больной матери.
Молчаливый фотограф вздохнул и принялся изничтожать вторую порцию чудо-котлет, не обращая никакого внимания на бурлящую вокруг него дискуссию. Лидочка тоже молчала и смотрела на узор скатерти, и по ее лицу нельзя было сказать, о чем она думает и думает ли она вообще.
– Да мало ли кто мог убить и ограбить этих бедолаг! – вскричала Тихомирова.
– В самом деле, – поддержала ее Нинель Баженова. – Однако полиции обязательно надо было обвинить бедного студента…
– Колозин вовсе не бедный, – хмыкнул Николенька. – Его настоящий отец был купцом первой гильдии и кое-что оставил по завещанию его матери. По крайней мере, так он мне говорил.
– О, – заинтересовался репортер, – так вы знаете Дмитрия Ивановича?
– Так, самую малость. Мы с ним учились в университете, но друзьями не были.
– Почему же ты мне ничего не рассказывал? – изумилась Евгения. – Такое громкое дело…
– Что я должен был рассказывать – как несколько раз видел его на лекциях и два раза с ним разговаривал? – пожал плечами Николенька.
– По-моему, вы что-то путаете, – решительно сказал сын хозяина дома. – Об отце Колозина известно достаточно, он был скромный мещанин и умер несколько лет назад.
– Значит, Дмитрий Иванович меня мистифицировал, – коротко ответил Николенька, и по его лицу Волин понял, что эта тема ему неприятна.
Хозяин и гости еще несколько минут беседовали о Колозине и его злоключениях, но, когда хозяйка дома поняла, что тема студента уже малость поднадоела присутствующим, она заговорила о предстоящем визите мистера Бэрли.
– Кажется, он пользуется известностью у себя на родине? – спросил репортер.
– О да, он крупный специалист по России, – ответил Снегирев. – Весьма уважаемый человек. Мы переписывались с ним какое-то время, потом он упомянул о своем намерении посетить Россию, и я пригласил его к себе.
– Павочка и не думал, что мистер Бэрли согласится на этот раз, – проворковала хозяйка. – Понимаете, он хотел приехать еще в прошлом году, но что-то его задержало.
– Он разошелся со своей невестой, – пояснил Снегирев. – И ему было не до поездок.
– Ну не то чтобы разошелся, просто она вышла замуж за другого, – усмехнулась Наденька, и даже в этой простой фразе чувствовалось, что она испытывает удовольствие от того, что есть не только брошенные женщины, которые страдают, как она, но и женщины, способные сами бросать мужчин.
– Должно быть, на него это ужасно подействовало, – заметила Ольга Ивановна.
– Полагаю, что да, – сказал Павел Антонович, – хотя англичане замкнутый народ в том, что касается выражения чувств. О том, что случилось, я узнал из оговорки мистера Бэрли в одном из его писем. Но у него в это время даже почерк немного изменился, так что я думаю, что да, ему пришлось очень непросто.
«А ты, однако, разбираешься не только в русском характере, раз заметил, что у совершенно чужого человека изменился почерк, – мелькнуло в голове у доктора. – И почему я так предубежден против Снегирева? Его жена пищит и жеманится, но глаза у нее злые, все примечающие… А Лидочка, хоть и не сказала ни слова с самого начала обеда, если не считать просьбы подать соль, по-моему, в грош не ставит все свое семейство. Нинель Баженова в своем репертуаре, готова придраться к чему угодно, лишь бы лишний раз обругать власти… Репортер говорил о правосудии и о прочем, но лицо у него холодное, и ему совершенно наплевать, посадят Колозина или оправдают… Ему было бы наплевать, даже если бы студента должны были повесить… Для него трагедия Колозина – лишь материал для статьи по пятаку строчка. Интересно, попросит фотограф третью порцию котлет или нет? Вторая-то уже давно тю-тю…»
Но тут кто-то из присутствующих упомянул баронессу Корф, и Волин весь обратился в слух.
– Я слышала, что ее дядя очень плох и долго не протянет, – сказала хозяйка дома.
– Он, кажется, поляк, – Нинель Баженова разлепила свои губы-пельмени, чтобы процедить эту простую фразу с иронией, неизвестно к чему относящейся. – А она сама далеко не безупречная особа.
– Неужели? – уронила Наденька.
– Мне говорили, что она оставила мужа и что… Ну вы сами понимаете… – Нинель Баженова хихикнула. Как и многие женщины, не вышедшие замуж, она обожала перемывать косточки тем, чья семейная жизнь по каким-то причинам не удалась. – Мужа ведь не оставляют просто так, вы понимаете? Должно быть, дело было в любовнике…
– Не понимаю таких женщин, – сказала хозяйка дома металлическим тоном, посылая говорившей сердитый взгляд. Госпоже Снегиревой не нравилось, что все эти разговоры велись при ее младшей дочери, которую она по привычке считала еще ребенком.
– Ты, мама, вообще ничего не понимаешь, – заметила Наденька, и вновь в ее голосе прозвенело нечто, похожее на зависть к женщинам, которые осмеливаются бросать мужей, не дожидаясь, когда те сами бросят их.
– Кажется, она очень богата, – сказала Евгения. – Мы с братом нанесли визит Анне Тимофеевне, и она познакомила нас с баронессой. Что-то в ней есть… – она поморщилась, – не слишком приятное…
«Ну конечно – ведь она гораздо красивее тебя и одевается гораздо лучше», – мысленно съязвил Волин. Он был раздосадован оттого, что в его присутствии чернили незнакомку из сада, а он не мог ниче-го возразить, потому что сам даже не был ей пред-ставлен.
– Вы слышали, что сын Анны Тимофеевны возвращается из ссылки? – спросила хозяйка дома, решительно меняя тему. – Уже и телеграмму прислал, что на следующей неделе будет дома.
Нинель Баженова тотчас углядела в новости повод, чтобы лишний раз лягнуть власть, и не замедлила им воспользоваться.
– Этого и следовало ожидать, – объявила она и победным взором обвела гостей. – Кому-то грозит пожизненная каторга за убийство, которого он не совершал, а кто-то дал пощечину командиру полка, и нате вам: не прошло и двух лет, как его помиловали.
И тут молчавшая до того Ольга Ивановна удивила Волина.
– А вы, сударыня, жестоки, – сказала она, неприязненно щуря свои серые глаза. – Просто жестоки. Значит, по-вашему, человек должен страдать в ссылке вдали от матери, у которой никого нет, кроме него, за какую-то пощечину? Вы бы тогда были довольны, не правда ли? Довольны?
Как и большинство пылких обличителей, Нинель Баженова сразу же сдулась, почувствовав серьезное сопротивление.
– Собственно говоря, я имела в виду совсем другое… Вы меня не так поняли!
– Я прекрасно вас поняла, – колюче заметила Ольга Ивановна, сердитым жестом бросая на стол салфетку. – Я поняла, что у вас нет сердца, и мне этого вполне достаточно.
«Интересно, будет скандал или нет?» – подумал репортер, изнывая от жгучего любопытства. Но тут все услышали заливистый смех Лидочки и с изумлением оглянулись на нее.
– Лидочка, что с тобой? – всполошилась мать.
– Так, вспомнила одну смешную шутку из книги, – отозвалась дочь, глядя на нее безмятежным взором.
Угроза скандала миновала, и Любовь Сергеевна почувствовала, что настал благоприятный момент, чтобы овладеть всеобщим вниманием.
– Лично я считаю, – сказала она, напуская на себя томный вид, – что однажды наступит такое время, когда тюрьмы, ссылки и прочие виды наказания станут не нужны.
Павел Антонович усмехнулся.
– Для этого человек должен нравственно измениться, но видите ли, в чем дело: технический прогресс в последнее время развивается бешеными темпами, а нравственный уровень многих людей остается тот же, что и в Средние века. Возьмите хотя бы дело Колозина, о котором мы тут столько говорили. Ведь кто-то же счел возможным убить четырех человек из-за нескольких рублей и пары дешевых колечек…
– Это ужасно, – сказала Наденька больным голосом. Но Волину показалось, что она говорила и думала вовсе не о преступлении, а о своем, о наболевшем, и что не имело к Колозину никакого отношения.
– Так что пока такие злодеяния возможны, общество будет требовать наказания для преступников и мириться с тюрьмами, ссылками и прочим, – добавил Павел Антонович, поднимаясь с места. – И оно, скажу вам по секрету, согласно мириться даже с отдельными несправедливо осужденными, лишь бы в целом система работала без сбоев.
– Ну, Павочка, ты-то точно не дашь никого обвинить безвинно, – промурлыкала хозяйка дома, и хотя ее слова прозвучали как лесть, Волину показалось, что она вовсе не обманывается относительно своего супруга. Молчаливый фотограф оглядел стол и мысленно пожалел, что не успел попросить третью порцию котлет, которые ему очень понравились.
Глава 6 Неожиданный пациент
После вечера у Снегиревых прошло несколько дней, и наступил октябрь. Однажды после напряженного дня доктор Волин с комфортом расположился у себя, чтобы прочитать книгу Шарко[140]. Георгий Арсеньевич неплохо знал французский и высоко ставил своего знаменитого коллегу и его работы, но сейчас, когда он читал, его не покидало странное ощущение. Ему казалось, что на самом деле нет ни доктора Шарко, ни Парижа, ни Франции, а есть только бесконечная русская равнина, по которой гуляет ветер, и где-то на этой равнине затеряны унылые деревушки, его больница и дом. Он поймал себя на том, что не помнит, что именно говорилось на предыдущей странице, перелистнул и начал читать заново. Ветер то выл за окнами, как потерявшая хозяина собака, то свистел, как лихой человек. В раздражении Волин отшвырнул книжку, которая перелетела через всю комнату, шмякнулась об стену и упала на пол. Тотчас же доктору стало стыдно – книга, во всяком случае, уж точно была ни в чем не виновата. Он поднялся с дивана, подобрал ее и разгладил помятые страницы, но тут в дверь постучали, и вошла Феврония Никитична, неся в руках конверт.
– Из усадьбы генеральши прислали, – сказала она.
От конверта пахло духами. Доктор распечатал его и увидел незнакомый женский почерк. В письме его приглашали, если он сочтет для себя удобным, при-ехать завтра в любое время и дать заключение о здоровье некоего Казимира Браницкого, которое внушало серьезные опасения авторше послания. Подписано было «баронесса Амалия Корф».
– Там слуга ждет ответа, – сказала Феврония Никитична. – Что ему передать?
Волин вздохнул и потер рукой лоб. По правде говоря, теперь, когда очное знакомство с таинственной дамой из сада зависело только от него, он вдруг почувствовал себя как-то нелепо и даже глупо.
– Скажи, что я приеду завтра, как только смогу, – проворчал он. – С утра у меня обход и прием больных… Значит, раньше четырех часов никак не получится.
На следующий день в пятом часу вечера доктор уже вылезал из шарабана возле усадьбы генеральши Меркуловой. Лежащая у крыльца большая черно-белая собака, которая от старости уже почти не лаяла и не бегала, безучастно взглянула на Волина и отвернулась.
Баронесса Корф ждала доктора в гостиной. Платье на ней было другое, темно-серое, закрытое, на пальцах и в ушах – ни одного украшения. Доктор подумал, что ей лет тридцать, что она, безусловно, красива, но в красоте ее нет ничего необыкновенного. Вообще, видя гостью генеральши вблизи, он разочаровался. Она показалась ему вполне заурядной, как книга в дорогом переплете и с золотым обрезом, но с непритязательным текстом внутри.
Тут он увидел, как блеснули ее глаза, и с некоторым неудовольствием понял, что она тоже оценивает его и взвешивает на неких внутренних весах, призванных определить, что он за человек и как с ним себя держать. Доктору Волину было двадцать семь лет; его высокий рост и широкие плечи наводили на мысли о крестьянском происхождении, но небрежно подстриженные и зачесанные русые волосы, изящные пальцы и выражение лица заставляли думать скорее о художнике или о человеке, занимающемся творчеством. Впрочем, неистребимый запах медикаментов, исходивший от Георгия Арсеньевича, не оставлял сомнений об истинном роде его занятий. Собираясь к баронессе, он постарался одеться как можно лучше, но, как это часто бывает у людей, равнодушных к своей внешности, у него получилось произвести впечатление лишь наполовину; кое-где одежда была излишне мешковата, а кое-где, наоборот, топорщилась.
– Я очень рада с вами познакомиться, доктор Волин, – промолвила баронесса негромким, мелодичным голосом. – По словам Анны Тимофеевны, вы лучший из местных врачей, а нам нужен именно лучший. Видите ли, доктор, мой дядя болен, и несмотря на все принятые меры и консультации у других врачей, ему не становится лучше.
– Вы обращались к Якову Исидоровичу? – сухо спросил Волин, решив не обращать внимания на лестную рекомендацию генеральши, тем более что был уверен, что это наверняка неправда. Люди, которые вызывают вас лечить своего кучера, не станут уверять своих великосветских знакомых, что вы чудо какой доктор.
– Да, он уже был у нас, – Амалия слегка поморщилась, и доктор понял, что Брусницкий чем-то ей не понравился. – Он прописал дяде диету, цыпленка, бульон… и все в таком же роде, наговорил множество ничего не значащих слов о том, что «общее состояние удовлетворительное», что «будущее покажет», и укатил восвояси.
– Вас что-то беспокоит, сударыня? – спросил Волин напрямик.
– Меня беспокоит мой дядя, – отчеканила Амалия, и по ее тону доктор понял, что перед ним женщина с характером, которая не позволит кормить себя неопределенными заверениями. – Он плохо себя чувствует, хандрит, постоянно говорит о смерти, а в Петербурге несколько раз неожиданно падал в обморок. Сейчас ему стало лучше, но ненамного, и я хочу ему помочь, чего бы это ни стоило. Вот, собственно, и все, доктор, – с некоторым вызовом заключила она.
Волин сказал, что ему нужно осмотреть пациента, и баронесса Корф пригласила его следовать за собой. Больной дядюшка дожидался доктора в одной из соседних комнат. Он сидел в широком кресле, закутавшись в клетчатый плед, а когда выпутался из пледа и встал навстречу доктору, то оказался невысоким кругленьким господином лет пятидесяти, с небольшими светлыми усами и печальным выражением лица. Звали дядюшку Казимир Станиславович Браницкий, и по-русски он говорил без всякого акцента.
– Я оставлю вас, господа, – сказала Амалия после того, как представила мужчин друг другу.
Прошуршало ее платье, и шаги баронессы стихли за дверью. Дядюшка Казимир вздохнул.
– Ну-с, доктор, с чего начнем? – с надеждой спросил он.
Волин задал вопросы о симптомах недомогания, о болезнях, перенесенных прежде, о том, чем болели родители Казимира, и о выводах, к которым пришли предыдущие доктора. Больной вздыхал, хныкал, жаловался на боли и там, и тут, и еще здесь, говорил о бессоннице и о мрачных предчувствиях, но чем больше доктор слушал его, тем меньше верил. В Петербурге Георгий Арсеньевич имел дело с выдающимся диагностом, который мог поставить диагноз, лишь подержав человека за руку; у доктора Волина был другой метод, о котором он, впрочем, никому не говорил – он всегда смотрел больному в глаза и по их выражению инстинктивно понимал, сильно ли тот страдает и каковы его шансы выжить. Так вот, сколько Казимир Станиславович ни напускал туману и ни сотрясал воздух жалобами, глаза у него оставались ясные, безмятежные, отчасти даже иронические, и поневоле доктор пришел к заключению, что перед ним редкостный пройдоха. Для очистки совести Георгий Арсеньевич тщательно выслушал пациента и измерил ему пульс, но только укрепился в своем мнении. Человек, который сидел перед ним и изображал больного, был на самом деле оскорбительно здоров и только зря тратил его время. Дернув щекой, Волин поднялся и молча стал убирать стетоскоп в свой чемоданчик.
– Так мне продолжать сидеть на диете, доктор? – жалобно спросил Казимир. – И что со мной такое? Я скоро умру?
– Полагаю, что нет, – буркнул доктор и, не прощаясь, вышел.
Он вернулся в гостиную, где баронесса Корф сидела в кресле и смотрела на облетевшие мокрые липы за окном. Когда доктор вошел, она тотчас же повернула голову и поднялась ему навстречу.
– Что скажете, Георгий Арсеньевич? Это серьезно? Он ведь выздоровеет, не так ли?
В ее голосе звенела тревога, и Волин, уловив ее, досадливо поморщился.
– По совести, сударыня, я не имею права брать с вас деньги за визит, – сказал он серьезно. – Простите меня, госпожа баронесса, но… Ваш дядя совершенно здоров. – Амалия вскинула голову и недоверчиво посмотрела в лицо доктору. Машинально он отметил, что глаза у нее и впрямь не то медовые, не то янтарные, как у тигрицы, с потрясающими золотистыми искорками, которые то вспыхивали, то исчезали. – Он здоров как лошадь, – упрямо повторил Волин, – а для чего он притворяется больным, мне неизвестно. Впрочем, данный феномен известен довольно давно и именуется ипохондрией. Полагаю, сударыня, что вашему дядюшке просто-напросто нравится, когда вы беспокоитесь из-за него, и чем больше вы переживаете, тем больше он чувствует свою значимость.
Произнося это, Волин мельком подумал, что, наверное, надо было преподнести ей новость о здоровье дядюшки в более светской и изящной форме; но доктор не забыл замечание Брусницкого о том, что баронесса и люди, подобные ей, никогда не пустили бы его дальше передней, если бы не необходимость, и оттого не стал выбирать слов. От Георгия Арсеньевича не укрылось, что его собеседница озадачена. Озадачена, но не удивлена. То, что он сказал ей, вовсе не являлось для нее сюрпризом. Интересно, почему? Уж не догадывалась ли она, что дядюшка дурачит ее?
– Это просто поразительно… – вырвалось у баронессы. – Вы… скажите, вы уверены, что все обстоит именно так?
– Абсолютно уверен, – твердо ответил доктор. – К сожалению, с такими мнимыми больными, как ваш дядя, очень трудно иметь дело. Если вы попытаетесь вывести его на чистую воду, он разыграет негодование, упадет в очередной обморок… То есть притворится, что упадет в обморок, потому что вещи такого рода симулировать легче всего…
– Что же мне делать? – спросила Амалия, и нечто, похожее на растерянность, прозвенело в ее голосе.
– Даже не знаю, госпожа баронесса, – устало ответил Волин. – Если человек болен, его можно вылечить; но если он притворяется, никто не может сказать, когда ему надоест изображать больного. Во всяком случае, вы можете не волноваться за здоровье своего родственника. Все его хвори существуют только в его воображении, и я бы даже рискнул сказать, что на самом деле он куда крепче, чем вы или я.
– Я очень рада, доктор, что мне пришлось иметь дело именно с вами, – сказала баронесса Корф, испытующе глядя на своего собеседника. – И хотя вы считаете, что у вас нет права брать с меня деньги, я все же не хотела бы быть вам должной. – Она протянула ему три рубля, и жест этот сопровождался такой бесподобной улыбкой, что, хотя Волин собирался отказаться, он и сам не заметил, как деньги оказались в его руке, и ему ничего не оставалось, кроме как спрятать их в карман. – Я только очень прошу вас никому ничего не говорить, – продолжала баронесса. – Дяде Казимиру нравится думать, что он болен, и если пойдут толки, он может вообразить бог весть что. С него станется решить, например, что на самом деле от него скрывают правду и что ему осталось жить совсем недолго. А так он будет изображать больного, пока ему не надоест, а когда это произойдет, он, вероятно, сразу же выздоровеет. И мы сможем вернуться в Петербург.
Доктор Волин ощутил приступ досады. Ну, конечно же, баронесса останется здесь ровно столько, сколько захочет ее дядя; а что, если он завтра же объявит, что чувствует себя превосходно и все его недомогания прошли?
– Можете не волноваться, сударыня, – пообещал Георгий Арсеньевич. – Я никому ничего не скажу.
Тут в гостиную вошла немолодая дама, чем-то похожая на Амалию, и баронесса представила ее доктору как свою мать Аделаиду.
– Как здоровье моего дорогого брата? – с тревогой спросила дама.
– Все гораздо лучше, чем мы думали, – сказала Амалия, посылая Волину предостерегающий взгляд. – Я тебе потом объясню.
Вызвав горничную, баронесса поручила ей проводить доктора, и Георгий Арсеньевич удалился с чувством, похожим на сожаление.
Выйдя на крыльцо, он услышал лай и увидел, как старая собака из последних сил спешит к человеку в кожаном пальто вроде офицерского и потрепанной фуражке, который вылезал из только что приехавшего экипажа. Подбежав к незнакомцу, она положила передние лапы на пальто и принялась размахивать кренделем облезлого хвоста, как флагом.
– Ах ты, Жучка! – растроганно воскликнул вновь прибывший и погладил ее. – Какая же ты старая стала… Ну, ну, ничего!
Хлопнула дверь флигеля, и в следующее мгновение Волин увидел генеральшу Меркулову. В первое мгновение он даже не узнал ее лица, настолько оно изменилось и словно налилось счастьем. Она выбежала наружу, как была, в темном платье с оборками, и даже не набросила на плечи шаль, хотя было уже довольно холодно.
– Федя! Феденька! Вернулся! – закричала она на весь сад молодым, хватающим за душу голосом и бросилась сыну на шею. – Вернулся! Боже мой, наконец-то, наконец-то! Феденька!
Она и плакала, и смеялась, и ощупывала небритое лицо сына, заросшее щетиной, а потом они обнялись и стояли так долго, не говоря ни слова. Черно-белая Жучка прыгала вокруг них, виляя хвостом, и сипло лаяла. Но тут Федор Меркулов заметил постороннего.
– Мама, что за доктор, зачем? Ты не заболела? – с тревогой спросил он.
Анна Тимофеевна тряхнула головой и вытерла слезы, блестевшие на щеках.
– Нет, это… это к нашим жильцам… Я сдала им дом, потому что… – она запнулась, подбирая слова.
– Впрочем, неважно, – сказал Федор, улыбаясь. – Раз ты так поступила, значит, нельзя было иначе… Стыдно признаться, но я ужасно голоден. И кто же сейчас живет в нашем доме?
Глава 7 Странные сообщники
Стоя у окна гостиной, Амалия фон Корф смотрела, как Федор Меркулов и его мать идут через сад по направлению к флигелю, а доктор в своем шарабане выезжает за ворота. Когда стук подков утих, Амалия вышла из комнаты и отправилась на поиски своего дяди.
Страдалец Казимирчик, он же мнимый больной, уютно устроился в комнате, примыкающей к его спальне, и был занят делом. А именно, он уничтожал ужин, приготовленный кухаркой Настей. Ужин этот состоял из предписанных Брусницким цыпленка и бульона, а также из блюд, которые, вероятно, не рискнул бы прописать ни один доктор на свете. Когда Амалия вошла, Казимирчик был занят тем, что приговорил к казни расстегаи и один за другим отправлял их в рот, даже не прибегая к помощи вилки. Если в мире и существует совершенное, ничем не замутненное блаженство, то именно оно было написано на физиономии почтенного пана Браницкого. Сладострастно жмурясь, он лакомился расстегаями и, видно, забылся до такой степени, что даже появление в дверях мрачной, как грозовая туча, Амалии не навело его на мысль, что больному приличествует вести себя иначе и уж, во всяком случае, не наслаждаться жизнью настолько откровенно.
– Амн… мнэ… ум… – промычал Казимирчик, и, наконец, проглотив большую часть того, что было у него во рту, сумел сформулировать членораздельно: – Ну, что сказал обо мне доктор?
Амалия пожала плечами.
– Представь себе, он заявил, что ты здоров как лошадь, – уронила она.
Страдающий ипохондрией пан Браницкий в изумлении вытаращил глаза, однако же расстегай дожевать не забыл.
– Это возмутительно, – горестно промолвил дядюшка, косясь на блюдо, на котором осталось всего два расстегая. – Просто возмутительно! У меня нет слов! Я, оказывается, здоров как лошадь! С какой стати, спрашивается? В конце концов, лошадь – особа женского пола. Я и лошадь! Нет, это черт знает что такое! А может быть, – в порыве вдохновения предположил Казимирчик, – он сказал, что я здоров как жеребец? В конце концов…
– Нет, – безжалостно оборвала его Амалия, – он заявил, что ты здоров как лошадь. И точка.
– Отвратительно, просто отвратительно, – расстроенно промолвил Казимирчик, протягивая пухлую ручку за предпоследним расстегаем. – Четыре врача, четыре петербургских светила нашли, что у меня не в порядке сердце, легкие, нервы и… Впрочем, при дамах об этом упоминать не стоит… Одним словом, все доктора дали мне понять, что я развалина, дни мои сочтены и я дышу на ладан. Каждый врач выписал мне три-четыре анафемски дорогих рецепта и посоветовал переменить обстановку. Один порекомендовал Карлсбад, другой – Ниццу, третий – Гурзуф, а четвертый велел просто покинуть Петербург, и как можно скорее. И что? Я приезжаю во Владимирскую губернию, хирею, скучаю, питаюсь черт знает чем…
– Вам предписали цыпленка и бульон, – напомнила Амалия стальным голосом.
– Ну, никто не мешает мне съесть их после того, как я покончу с расстегаями и с этим изумительным десертом, – парировал бессовестный Казимирчик, кивая на горку соблазнительных кремовых пирожных, ожидавших своего часа. – Но на что это похоже? Четыре столичных врача, уважаемых человека, сошлись на том, что я тяжко болен… а какой-то земский врач имеет наглость утверждать, что я здоров! Да еще как лошадь!
Он был так возмущен, что съел очередной расстегай еще быстрее, чем предыдущие.
– Дядя, – в изнеможении промолвила Амалия, – я, кажется, ясно просила вас вести себя, как полагается больному, и не подавать повода для подозрений, а вы что? Этот земский врач увидел вас впервые в жизни и сразу же понял, что вы симулируете…
– Я вел себя, как обычно, – сухо ответил Казимир. – И уверяю тебя, точно так же я вел себя с остальными врачами, которые кивали с умным видом, выслушивали меня и всякий раз заключали, что я действительно болен. Что нашло на этого типа из земства – ума не приложу. Очевидно, он действительно хороший врач, и его не проведешь. Гхм! Ну что ж, бывает…
– Тот, кто догадался об одном, вполне может догадаться и обо всем остальном, – проворчала Амалия. – Что, если доктор поймет, что твоя болезнь – всего лишь предлог?
– Думаешь, он помешает тебе втереться в доверие к…
– Дядя!
– Хорошо, хорошо, я все понял. Ни слова больше о… гхм! – Кашлянув, дядюшка сцапал последний уцелевший расстегай и, чтобы выгадать время, с чувством съел его. – Амалия, я всегда говорил тебе: у меня нет никаких способностей, чтобы помогать тебе в чем бы то ни было. Но разве меня кто-нибудь когда-нибудь слушал? Я терпеть не могу врачей и обращаюсь к ним только при крайней необходимости. Поверь мне, я начинаю чувствовать себя больным от одного вида любого доктора, даже если на самом деле мне не на что жаловаться. Я городской житель и не люблю деревни, тем более осенью. А ты заставляешь меня изображать больного, есть бульон и киснуть в этой усадьбе. Я уж не говорю о том, что вся твоя история о больном дяде, которого врачи зачем-то послали дышать воздухом во Владимирскую губернию, вообще не выдерживает никакой критики.
– Сожалею, что разочаровала вас, – сухо промолвила Амалия, которую этот разговор стал уже немного утомлять. – Но мне нужно находиться именно здесь и именно сейчас, и вдобавок чтобы мое пребывание в усадьбе казалось вполне естественным. Больной родственник – очень удобный предлог, так что, дорогой дядя, вам придется пострадать еще некоторое время. А теперь прошу меня извинить, мне надо поговорить с нашей хозяйкой.
– И с чего она взяла, что я хочу страдать? – уронил Казимирчик в пространство, когда дверь за его племянницей затворилась. – Как по мне, в жизни есть масса куда более интересных вещей!
Он вперил задумчивый взор в горку пирожных, прикидывая, можно ли взяться за них немедленно или все же стоит немного передохнуть и съесть цыпленка.
Пока баронесса Корф и ее дядюшка-симулянт вели столь странный и, прямо скажем, подозрительный разговор, доктор Волин трясся в своем шарабане, который вез его обратно в больницу. Подъезжая к зданию, он увидел, что Ольга Ивановна стоит на крыльце, и подумал, что кому-то из пациентов стало хуже; но оказалось, медсестра ждет его, чтобы поделиться новостью, которую он и так знал.
– Федор Меркулов вернулся из ссылки, – сказала она.
Георгий Арсеньевич рассеянно кивнул.
– Знаю. Я видел, как он приехал.
– А Павлу Антоновичу прислали телеграмму из Петербурга, – добавила Ольга Ивановна. – Студента Колозина оправдали.
«Зачем она говорит все это мне?» – со смутным раздражением подумал Волин. Он понимал, что от него ждут какой-то реакции, хотя бы одобрительного восклицания, и его сердило, что он непременно должен быть в восторге от освобождения невинов-ного или интересоваться возвращением человека с Сахалина, хотя процесс Колозина и семейные дела Меркуловых, если подумать хорошенько, никак его не касались. Ольга Ивановна скользнула взглядом по лицу Георгия Арсеньевича и едва заметно усмехнулась.
– Впрочем, мне кажется, вас это совершенно не интересует, – сказала она.
– Вы правы, – резче, чем ему хотелось бы, ответил Волин. – Меня куда больше интересует, что будет с моим пациентом, который сломал позвоночник. Меня интересует, будет ли в следующем году эпидемия холеры, тифа и дифтерита, и если будет, сколько человек она заберет. Кого там убил Колозин или не убил, не имеет никакого отношения к моей жизни и никогда не будет иметь, и я не собираюсь тратить на него свое время.
– А вам не кажется, что вы не правы, доктор? – спросила Ольга Ивановна. Она старалась говорить спокойно, но даже по блеску ее глаз можно было понять, что она задета за живое. – Потому что можно думать об эпидемии, лечить людей и все же немного обращать внимание на то, что творится вокруг. Простите, если вам кажется, что я поучаю вас, – быстро добавила она, – но я все же думаю, что вы совершаете ошибку.
– Потому что не впадаю в экстаз при новости, что Колозина оправдали?
– Ах, доктор, – устало проговорила Ольга Ивановна, – ну вы же все понимаете! Если бы не заступничество Снегирева, произошла бы чудовищная судебная ошибка, невиновного человека отправили бы в Сибирь и сломали бы ему всю жизнь. И то, что Федор Меркулов вернулся домой, тоже благо, потому что его мать больше не будет изводить себя и мучиться. Не будьте циником, лишь бы показать, как вы отличаетесь от остальных… Это нехорошо, ей-богу, нехорошо!
Ни один человек не любит, когда ему указывают на его заблуждения, и доктор Волин не был исключением. Признаться, первое, о чем он подумал – а не написать ли в управу письмо, чтобы Ольгу Ивановну перевели куда-нибудь и на ее место прислали кого-нибудь другого. Вслед за этой мыслью явилось смутное желание сказать медсестре нечто такое, что поставит ее на место раз и навсегда и отобьет у нее охоту учить его жизни. Но тут Георгий Арсеньевич заметил в окне физиономию фельдшера, представил себе, какие слухи тот может распустить о его беседе с Ольгой Ивановной, и, буркнув, что ему надо идти заниматься делами, удалился.
В кабинете было тепло, большие часы отмеряли время, издавая однообразный щелкающий звук. Волин ощущал глубокое недовольство и, по природе склонный анализировать все движения души, попытался разобраться в его причинах. Он прошелся из угла в угол, заложив руки за спину, хмурясь. Нет, дело было не в Ольге Ивановне и не в ее словах; недовольство он ощутил, еще когда возвращался в больницу, а все почему? Потому что баронесса Корф, о которой Волин навоображал бог весть чего, оказалась вполне обыкновенной женщиной, которую водил за нос ее собственный дядюшка. Вряд ли она сильно отличалась от обывателей, которых он знал – нервной Евгении Одинцовой, ее никчемного братца, стяжателя Брусницкого, Куприяна Степановича Селиванова – фабриканта с психологией кулака и либеральничающей Нинель Баженовой, которая при всем своем свободомыслии платила прислуге унизительно мало.
Но тут Волин вспомнил, как Амалия стояла тогда в саду, скрестив руки на груди, как смотрела перед собой, и заколебался. Он бы дорого дал, чтобы узнать, какие мысли были у нее в голове в тот миг.
«И опять мои фантазии… Но все-таки, почему у нее было такое выражение лица?»
Поликарп Акимович поскребся в дверь и, когда доктор крикнул «Войдите!», с почтительнейшим видом просочился внутрь.
– Что-нибудь случилось? – спросил доктор, бросив на него быстрый взгляд.
– Да как посмотреть, Георгий Арсеньевич, – степенно ответил фельдшер, и, не зная, как приступить к такому тонкому предмету, решил вывалить все сразу. – Бабы меня спрашивают: мол, правда ли, что Ольга Ивановна к вам неровно дышит? А я уж и не знаю, что им сказать.
На всякий случай Поликарп Акимович покосился через плечо на дверь, куда можно было бы спастись бегством в том случае, если бы реакция доктора оказалась слишком бурной. Но Волин, судя по его лицу, не испытывал ничего, кроме вполне естественного удивления.
– Глупостей не говорите, – сухо сказал доктор.
– Да что глупостей? – вскинулся фельдшер. – Она мне шагу ступить не дает, норовит сама выполнять все ваши указания. Сиделки намедни про вас шушукались, так она отчитала их и велела замолчать.
– Да? Что же сиделки обо мне говорили?
– Удивлялись, почему вы до сих пор не женаты, – ответил фельдшер. – И… э… одна болтала, что у вас любовница, только никто о ней не знает, потому что вы ее прячете, а другая говорила, что вы хотите жениться на Евгении Михайловне или на Лидочке Снегиревой, потому и стараетесь не подавать повода для пересудов.
– Тьфу ты! – вырвалось у доктора.
– Вздор, конечно, – поддакнул фельдшер, преданно глядя на него. – Вы бы, если захотели, могли и к дочке Селиванова посвататься…
– Ей по возрасту еще нельзя замуж выходить, – напомнил Волин в изнеможении и, как оказалось, зря.
– Ну так это пока, Георгий Арсеньевич, – жизнерадостно осклабился фельдшер. – Девки что яблоки, зреют быстро…
У доктора остро заныл висок. Волин отвернулся и увидел за окном сидящую на дереве молодую сову. Когда все вокруг держат любовниц и считают вполне естественным брак по расчету, очень трудно, попросту невозможно втолковать кому-то, что ты совсем другой породы. «Идеалист ли я? Нет, не идеалист… Просто нравственно брезглив, вот что. И какого черта он приплел сюда Ольгу Ивановну? Вовсе она в меня не влюблена…» Но тут на память Волину пришло множество мелких моментов, которым он прежде не придавал значения, – взгляды Ольги Ивановны, которые он с некоторых пор ловил на себе, ее постоянная поддержка в любых вопросах, касающихся больничных дел, ее готовность сопровождать его к тяжелым больным, которых нельзя было привезти. Даже ее неловкие попытки привлечь его интерес, ее замечания, которые она ему делала недавно, были продиктованы влюбленностью, желанием видеть его лучше, чем он был.
– Дорогой Поликарп Акимович, – сказал Волин серьезно, – я очень благодарен за ваш интерес к моим сердечным делам, но, голубчик, не городите чепухи! Пока я не составлю себе состояния, у меня нет морального права жениться. Вы же сами понимаете: жизнь врача может оборвать любая болезнь, с которой он имеет дело. Что будет с моей вдовой, если я умру от холеры или какой-нибудь другой заразной бестии? Надо сначала крепко стать на ноги, а уже потом думать о браке…
По лицу своего собеседника Волин понял, что отговорка, за которую он ухватился за неимением лучшего, оказала свое действие, и Поликарп Акимович теперь будет считать, что его начальник себе на уме и вообще ему пальца в рот не клади. Если бы доктор сказал правду – а именно, что Евгения, Лидочка и Ольга Ивановна привлекали его не больше, чем Нинель Баженова с ее одутловатым лицом и губами-пельменями, фельдшер бы озадачился и решил, что Георгий Арсеньевич «выделывается»; но упоминание о деньгах не вызывало никаких вопросов. В самом деле, глупо растрачивать себя на мимолетные связи, уж куда лучше скопить капиталец и посвататься к невесте с солидным приданым. И еще Поликарп Акимович подумал, что доктор не обращал внимания на Ольгу Ивановну, потому что метил куда выше. Интеллигенты все такие: считаешь их остолопами, а они возьмут и выкинут фортель, оставив всех в дураках. Как, к примеру, Яков Сидорыч Брусницкий, который и университеты кончал, и либеральничал, и пламенные речи на обедах произносил, а потом выжил предыдущего доктора, забрал уезд в свои руки и стал драть с больных три шкуры. И ладно бы Яков Сидорыч был врач от Бога, так нет же: одного присяжного поверенного лечил от печени, а тот в конце концов умер совсем от другого.
– Ну, раз вы так говорите, Георгий Арсеньевич… Вообще, я считаю, вы совершенно правы… Конечно, Якова Сидорыча подвинуть будет нелегко, но он ведь старик уже, и никто из нас не вечен, верно? – Фельд-шер издал конфузливый смешок. – А что дядюшка баронессы, серьезно болен или нет?
Волину не хотелось лгать, и поэтому он коротко ответил:
– Я уверен, он поправится.
– Еще бы ему не поправиться, когда его лечит такой доктор, как вы! – хмыкнул Поликарп Акимович и, видя, что по каким-то причинам Волин не склонен обсуждать своего пациента, заговорил о лекарствах, которые нужно было приобрести для больницы.
Глава 8 Брат и сестра
– Разумеется, как только мы узнали, что Федор Алексеевич вернулся, мы нанесли Меркуловым визит, – сообщила Евгения.
Брат и сестра Одинцовы, Наденька и Лидочка, сидели в гостиной дома Снегиревых и разговаривали. Сад за окнами, черный и молчаливый, словно застыл в ожидании зимы, но ее не было, и Николенька угрюмо думал, что они с Евгенией опять застрянут в усадьбе на полгода, потом еще на полгода, и вот так пролетит вся его жизнь.
– Федор Алексеевич, как странно это звучит! – протянула Наденька, и что-то смягчилось в ее сухом, напряженном лице женщины, которую подкосил первый же удар судьбы. – А ведь когда-то для меня он был просто Федя… Когда мы только приехали сюда… Он сильно изменился? – требовательно спросила она.
Евгения замялась.
– Я думала, после ссылки человек должен измениться, – призналась она.
Николенька покрутил головой и фыркнул.
– Моя сестра была уверена, что он постарел лет на двадцать, поседел и подурнел, – объявил он. – И она была разочарована, когда увидела, что все совсем не так романтично.
– Николенька! – рассердилась Евгения. – Господи, ну что за человек… Нельзя же так, в конце концов!
– Извини, если я тебя задел, – добавил Николенька, – но, по-моему, если кто-то вернулся из ссылки таким же, каким и был, надо радоваться. Тем более, если говорить начистоту, я вовсе не уверен, что у него все гладко. За обедом он выглядел каким-то потерянным, что ли…
– Ну это как раз понятно, – кивнула Наденька. – В армию он вернуться не может, а чем ему заниматься? Хозяйством? Меркуловы всегда были неважными хозяевами… А ведь долг баронессе Корф никто не отменял.
Николенька покосился на нее, машинально отметил, как она сидит на стуле, словно палку проглотила, как в перерывах между репликами отпивает мелкими глотками чай из чашки, и у него мелькнула нехорошая мысль – что если бы он был ее мужем и каждый день вынужден был видеть, как она сидит вот так и пьет чай, он бы тоже сбежал от нее к другой. В некоторых людях раздражают все их привычки и жесты, даже самые обыденные.
– Говорят, Селиванов снова предложил Анне Тимофеевне выкупить у нее имение, – сказала Лидочка. – И намекнул как раз на то, что долг баронессе она выплатить не сможет.
– Это уже не новость, – отмахнулась Наденька, ставя чашку на блюдце. – Конечно, Анна Тимофеевна ему отказала. Говорят, он обращался и к баронессе, предлагал перекупить у нее долг, и тоже получил отказ.
– Кстати, – оживилась Евгения, – что вы думаете о баронессе Корф?
– Мы незнакомы, – отозвалась Наденька, и весь ее вид выражал неодобрение тем людям, которые судят о ком-то на основании слухов или разговоров. – Папа послал ей приглашение на завтрашний вечер, и она ответила запиской, что обязательно будет. Кстати, не забудьте, пожалуйста, что вы тоже обещали прийти!
– Павел Антонович празднует свой триумф? – полюбопытствовал Николенька.
– Да, Сашенька привезет Колозина из Петербурга. Тот сам пожелал приехать, чтобы поблагодарить папу за участие в его судьбе. Еще, конечно, будет мистер Бэрли. Вы, наверное, видели его внизу, он приехал за несколько часов до вас. Такой типичный англичанин, длинные зубы, как у лошади, волосы серые и сам весь тоже какой-то серый. Но костюм на нем сидит – просто загляденье. Наши мужчины так одежду носить не умеют.
Лидочка рассмеялась.
– По-моему, он вам не понравился, – сказал Николенька.
– Папа ужасно наивен в некоторых вещах, – помедлив, призналась Наденька. – Ему кажется, что он обязан развеять заблуждения, которые некоторые питают по поводу нашей страны. Он считает, что настоящую Россию мало кто знает, а за границей вообще довольствуются готовым набором глупостей: что у нас медведи на улицах ходят, что русские сами похожи на медведей, и все в таком же духе. Этот Бэрли будет гостить у нас почти месяц, а вы сами понимаете, что такое терпеть в своем доме постороннего человека. Одно дело – хорошие знакомые, друзья, родственники, но совершенно чужой человек…
– Он хотя бы говорит по-русски? – спросила Евгения.
– Да, и неплохо. Сегодня уже пытался заговорить с Лидочкой о Пушкине. Ему, наверное, кажется, что если мы дочери ученого, то должны быть такими же умными, как и папа.
– Ну, хотя бы этот Бэрли вас немного развлечет, – заметил Николенька. – Согласитесь, осень в наших краях не слишком веселая. Вы расскажете ему, что не любите Пушкина, а любите Нередина[141]…
– Нет, Нередин нравится Лидочке, – возразила Наденька. – А мне с некоторых пор любые стихи – как сироп, который я терпеть не могу. Все говорят о любви, и все врут.
– Ну, Наденька… – протянула Евгения, немного обескураженная столь категоричным заявлением.
– Все не могут лгать, – объявила Лидочка упрямо. – А Нередин пишет очень хорошо!
– Ну, конечно, все разбираются в поэзии, одна я ничего в ней не понимаю, – насмешливо протянула Наденька и сделалась неприятной окончательно и бесповоротно. Лидочка покраснела, как пион, порывисто вскочила и выбежала из комнаты.
– Ну вот, обиделась, – сказала Наденька, ни к кому конкретно не обращаясь. – И, как всегда, я виновата!
Евгении сделалось неловко, но она почувствовала себя легче, когда взглянула на брата и поняла, что ему тоже неловко.
– А я считаю, что мама с папой делают ошибку, когда позволяют Лидочке забивать себе голову всякой чепухой, – добавила Наденька, нервно водя пальцем по краю блюдца. – В книгах нет настоящей жизни, они хороши только как сказки, их нельзя воспринимать всерьез… а она воспринимает! И что с ней будет, если она ждет принца на белом коне, а вместо него… Вместо него приползет паршивая мокрица?
Очевидно, ей хотелось выразиться куда более резко и категорично, но она сумела взять себя в руки.
– Может быть, все еще наладится? – робко спросила Евгения.
– Вы сами еще надеетесь на это? – с ожесточением бросила Наденька. Лицо Евгении застыло. Николенька метнул на нее быстрый взгляд и поднялся с места.
– Я вспомнил, что мы не покормили Фруфрика, – сказал он. – Идем, Женя. Нам пора.
Наденька поняла, что перегнула палку, и, не зная, как исправить ситуацию, спросила, будут ли они на завтрашнем вечере. Евгении в расстройстве хотелось огрызнуться: «Нет, и пропадите вы все пропадом», но воспитание пересилило, и она пообещала, что они с братом приедут, даже не сомневайтесь.
– На месте ее мужа я бы сбежал еще до венчания, – негромко промолвил Николенька, когда брат с сестрой возвращались домой.
Евгения поняла, что он хочет ее утешить, улыбнулась и поправила ему шарф.
– Ты меня задушишь! – проворчал Николенька, ослабляя шарф.
– Ты простудишься! – сердито сказала сестра.
– Нет, если ты оставишь мой шарф в покое!
Обычно после этого Евгения пыталась еще в несколько приемов подступиться к шарфу и закутать Николеньку понадежнее, но сейчас она не стала настаивать и отвернулась к окну.
– Может быть, нам уехать отсюда? – негромко спросила она. – Как ты думаешь?
– Отец нам ясно дал понять, что не желает нас видеть, – усмехнулся Николенька. – А про мать ты и сама знаешь. Она сейчас в Венеции, сама знаешь с кем, и совершенно счастлива без нас. Если завтра мы тут подохнем, они даже на наши похороны не приедут.
– Что ты такое говоришь! – в ужасе вскрикнула Евгения, хватаясь за голову и отшатываясь. – Боже мой, Николенька, что же ты говоришь!
– Посмотри мне в глаза и скажи, что я не прав. Ну? – У Евгении задрожали губы. – Я бы и сам сбежал куда глаза глядят, но денег у нас нет. На жизнь в деревне хватает еле-еле, а на город уже не хватит. Соседи считают нас богачами, им и невдомек, что мать с отцом все тратят на себя и на своих… впрочем, не важно. – Он поморщился. – И зачем ему сюда ехать?
– Ты о ком? – изумилась Евгения.
– Да о Мите Колозине. Для чего он едет сюда?
– Ты же сам слышал: чтобы поблагодарить Павла Антоновича, который столько для него сделал. – Евгения пытливо всмотрелась в брата. – Николенька, в чем дело?
– Ни в чем, Женя. Но на вечер к Снегиревым я не пойду.
– Почему?
– Потому что не хочу.
– Почему, Николенька? – Брат не отвечал и только хмурился. – Что случилось? Это из-за Колозина?
– Не задавай мне вопросов ради бога, – уже раздраженно промолвил брат. – Я просто не хочу туда идти, разве не понятно? Павел Антонович – очень хороший человек, но я, знаешь ли, предпочитаю людей, с которыми можно поговорить о погоде и сенокосе, а не тех, которые вещают о России, русском предназначении и тому подобном.
– Неправда, – возразила Евгения. – Он не вещает и не встает на ходули. Павел Антонович очень приятный собеседник и очень умный. Поговоришь с ним – и сама словно становишься умнее.
– Ну, а я как поговорю с ним, так всегда после этого чувствую себя дурак дураком, – проворчал Николенька. – Так что лучше я останусь дома с Фруфриком, а ты потом расскажешь мне, как прошел вечер у Снегиревых.
Глава 9 Припадок
– Разумеется, я туда не пойду, – сказал доктор Волин. – Что мне делать на этом вечере?
Ольга Ивановна закрыла дверцу шкафа с лекарствами и обернулась к своему собеседнику.
– Но ведь там будет очень интересно… Павел Антонович замечательный человек, а в нашем уезде так мало мыслящих людей! – Георгий Арсеньевич подумал, что выражение «мыслящие люди» обычно означает «мыслящие, как я», но вслух ничего не сказал. – Будет этот англичанин, Анна Тимофеевна с сыном… баронесса Корф…
– Англичанин – это Бэрли? – как можно более небрежно уронил Волин, чтобы не выдавать своего интереса к совершенно другому персонажу.
– Да, он бегло говорит по-русски, восхищается графом Толстым и… Значит, вы не пойдете?
Откинувшись на спинку стула, Волин потирал усы и делал вид, что размышляет. На самом деле для себя он уже все решил.
– Вы меня уговорили, Ольга Ивановна, – сказал он. – Пожалуй, я схожу туда, раз в больнице сейчас затишье и нет тяжелых больных.
Он условился с медсестрой, что Пахом отвезет их обоих к Снегиреву, и вновь углубился в изучение историй болезни. Когда настало время ехать, Георгий Арсеньевич обратил внимание на то, что его спутница облачилась в совершенно новое платье – голубое, шелковое, и невольно подумал о том, что же наденет сегодня баронесса Корф.
Ее, однако, не было видно, зато Волин сразу же заметил Наденьку, которая, как всегда, держалась очень прямо, госпожу Тихомирову, смотревшую на хозяина дома влюбленными глазами, Нинель, которая забрасывала потоком слов симпатичного студента, неизвестного Георгию Арсеньевичу, и еще несколько человек, которые были доктору интересны еще менее, чем она сама. Сашенька представил студента вновь прибывшим. Это и был тот самый Дмитрий Колозин, из-за которого, если верить газетчикам, российское общество раскололось надвое. У Колозина были каштановые вьющиеся волосы, открытое лицо, приятная улыбка и раздвоенный подбородок. Неподалеку от студента на маленьком диванчике уютно расположился одетый с иголочки господин средних лет, напоминающий не самый удачный гибрид лошади, филина и человека.
«Англичанин», – подумал Волин, едва увидев его, и не ошибся. Мистер Бэрли пожал доктору руку, с любопытством покосился на платье Ольги Ивановны и сказал Волину и его спутнице несколько любезных слов. Вскоре в дверях показались новые гости: помолодевшая и похорошевшая Анна Тимофеевна с сыном, брат и сестра Одинцовы, причем нахохлившийся Николенька имел такой вид, словно его волокли сюда на аркане, а он упирался изо всех сил.
Лидочка порхала среди гостей, как бабочка, ее мать расточала всем комплименты, не переставая строго следить за порядком и одновременно давать указания прислуге. С опозданием, чтобы дать почувствовать свою значимость, явились фабрикант Селиванов и его супруга, сверкающая драгоценностями. Причем разговаривавшие о возвышенных материях Нинель и Любовь Сергеевна, завидев украшения гостьи, поджали губы и обменялись красноречивым взглядом, полным неприязни к вновь прибывшей гостье.
Однако не прошло и пяти минут, и о госпоже Селивановой все забыли напрочь, потому что в гостиной появилась баронесса Корф в сопровождении своего дядюшки. На Амалии не было кричащих драгоценностей, но платье цвета малахита, черная бархотка с изумрудной подвеской и бриллиантовые заколки в светлых волосах образовывали вместе с их хозяйкой живое произведение искусства, насколько им вообще может быть прекрасная женщина в безу-пречном обрамлении, роль которого играют наряд и украшения. Следует отдать должное и дядюшке Казимиру – почувствовав, что его спутница стала центром всеобщего внимания, он тотчас же как-то незаметно отодвинулся в тень и смирился со своей ролью второстепенного элемента, навроде брошки на платье его племянницы. Хозяин дома, вспомнив, что Амалия незнакома с большинством присутствующих, стал представлять гостей баронессе. Она слушала Павла Антоновича, рассеянно играя веером из перьев, и в ее глазах Волину порой чудились отблески того же странного пламени, которое он впервые уловил там, в саду, за белой стеной с алым плющом. Нет, она не была ни высокомерной, ни неприятной; но доктору почему-то казалось, что ей приходится делать усилие над собой, чтобы казаться сердечной и любезной.
«Зачем вообще она пришла сюда? – думал Волин. – Из-за Колозина? Но она почти не обратила на него внимания… Или она приняла приглашение на вечер просто от скуки и отчасти – чтобы развлечь дядюшку, который, должно быть, иногда становится невыносим?»
От доктора не укрылось, что почти все женщины, за исключением Лидочки и генеральши, поглядывают на баронессу с плохо скрытой враждебностью. Лидочка, судя по всему, была очарована, как может быть очарован ребенок в сказке появлением феи; что касается Анны Тимофеевны, то в ее отношении чувствовалась теплота и вместе с тем что-то еще, нечто, напоминающее смутное беспокойство. «Но так и должно быть, – сказал себе Волин, – ведь от баронессы Корф зависит благополучие генеральши и ее сына». Что касается присутствующих мужчин, то их отношение к баронессе было прямо противоположно отношению женщин. Николенька, забыв о притащившем его аркане и о том, что сестра привела его на вечер чуть ли не силой, острил и нагромождал каламбуры в расчете на улыбку баронессы; хозяин дома впервые за многие годы забыл о России и русском народе; Селиванов покусывал изнутри нижнюю губу и хмуро думал, что, сколько ни одевай его жену, она все равно будет выглядеть как старая калоша; Сашенька и Дмитрий Колозин не могли глаз оторвать от Амалии; Федор Меркулов держался скованно, но Волин не сомневался, что и ему баронесса очень нравится, просто он отвык от высшего общества и не нашел случая привлечь к себе внимание гостьи. Единственным, на кого обаяние Амалии никак не подействовало, казался англичанин. Он смотрел на нее с невозмутимым видом – точно так же, как смотрел бы, к примеру, на тарелку с овсянкой, и хотя Волина это ни в малейшей мере не касалось, он отчего-то почувствовал себя задетым. Когда мы восхищаемся чем-то, нам приятно, если наше восхищение разделяют, и неприятно, если кто-то противопоставляет ему свой скептицизм. Но тут из прихожей послышались сердитые голоса, и доктор машинально повернул голову к дверям.
В следующее мгновение они распахнулись, и на пороге показалась странная пара: одетая в дешевенький тулупчик рыжая востроносая женщина лет сорока пяти, за которой следовал унылый человечек с тараканьими усами, судя по выправке и виду – отставной унтер-офицер. Он часто и встревоженно моргал, оглядывая приодетых гостей и богатую усадебную обстановку. Складки жира над его короткой пухлой шеей походили на брыли. Что касается его спутницы, то она, наоборот, казалась жилистой, энергичной и каждой своей клеточкой источала неприязнь по отношению к тем, кто находится в гостиной.
Первой опомнилась хозяйка дома.
– Что вам угодно? – спросила она высоким неприятным голосом. – Вы из газеты? Но мы сегодня не ожидали репортеров…
– Из газеты, как же! – вызывающе ответила странная женщина, покрепче стискивая сумочку, которую она держала в руках. – Я хочу этому подлецу в глаза посмотреть, вот что! Как вас земля носит, а? – обратилась она к Снегиреву. – А еще почтенный человек называется! Писатель!
Тут Сашенька почувствовал, что пора вмешаться, и решительно выступил вперед.
– Простите, сударыня… Кажется, я имел честь видеть вас прежде, но не припоминаю…
– Да Печка я, Печка! – взвизгнула баба. – Василиса Матвеевна, вот как меня зовут! А это мой муж Терентий Емельянович, штабс-капитан… в отставке…
Ее спутник изобразил нечто вроде поклона, одновременно дергая супругу за рукав, чтобы призвать ее к порядку. Однако Василиса только отмахнулась.
– Это сестра жертвы, – пояснил Сашенька, обращаясь не только к отцу, но и к гостям, которые переглядывались с недоумением. – Той… той женщины, которую убили.
– Верно, убили! – провизжала Василиса. – А кто убил? Да вот этот и убил! – Она выбросила вперед руку и обличающим перстом указала на Дмитрия Колозина, который не знал, куда ему деться. – Что ховаешься в уголочке, а? Прячешься? От Бога не спрячешься, он все видит! Изверг! Убийца! Душегуб! За что ты Ванечку зарезал, а? Бедного моего племянника… Такой ведь хороший был мальчонка, такой смышленый! И сестру его убил, хотя она еще в колыбельке лежала! Будь ты проклят, убийца!
– Сударыня, – пробормотал студент, теряясь, – ну что вы, ей-богу… Ведь и суд признал, что это неправда, я никого не убивал…
– Ты их убил! – кричала Василиса, не слушая его, – ты, ты это сделал, больше некому! И гнил бы ты сейчас в тюрьме или в Сибири, если бы не он! – Она повернулась, тыча пальцем в ошеломленного Снегирева. – Вот, полюбуйтесь! Радуешься, мерзавец? Четырех человек убили… Сестру мою, ее мужа, двух детей маленьких, а ты заступаться, да? Так вот тебе, заступник!
И она плюнула в лицо Снегиреву, но плевок не долетел и повис на холеной бороде хозяина дома.
– Боже мой, – кричала хозяйка, – Наденька, зови слуг! Егор, Никита, сюда, скорее! Она сумасшедшая!
Рванувшись вперед, Василиса замахнулась сумочкой, чтобы огреть Снегирева по голове, но тут с ней что-то случилось, она рухнула на пол и стала биться в корчах. Из ее рта текла пена.
– У нее эпилептический припадок! – крикнул Волин, бросаясь к ней. – Ольга Ивановна… хотя нет, у вас сил не хватит… Вы, сударь, помогите мне! – Он обернулся к штабс-капитану. – Будете делать что я скажу, понятно? А вы, дамы и господа, отойдите, прошу вас! Человек тяжело болен… Необходимо оказать помощь, иначе последствия могут быть самыми плачевными!
Глава 10 Вечер, ночь и утро
Как решительно всем известно, скандалы делятся на две категории:
первая – скандалы, в центре которых оказываемся мы сами,
и вторая – скандалы, затрагивающие других людей.
С первой категорией все ясно: в ней нет ничего хорошего, за исключением тех случаев, когда человек скандалами привлекает к себе внимание и продвигает свою карьеру. Но тут необходимы чутье, такт, мера, умение чувствовать момент и тысяча других качеств, без которых профессиональный скандалист быстро сдуется и вернется туда, откуда он вышел, – на помойку жизни. И тогда уже никакой скандал ему не поможет.
Что касается второй категории, то, если вы стали зрителем скандала, некоторые рекомендуют наслаждаться им, как представлением. Есть также мнение, что скандалы вредны для общества и, коль скоро нечто подобное происходит на ваших глазах, ваш долг – растащить скандалистов и погасить конфликт любой ценой. Однако я все же советую подумать о пути номер один, по той простой причине, что зрителю ничего не грозит, в то время как человек, ввязывающийся в скандал даже с самыми благими намерениями, становится его участником, а никакой участник не застрахован от травм и телесных повреждений, вплоть до самых тяжелых.
Скандал, произошедший в доме Снегирева, произвел на присутствующих особенно гнетущее впечатление. Слишком уж резким получился переход от блистательной баронессы Корф к не понять откуда взявшейся базарной бабе, плюющей в лицо интеллигентам и дерущейся сумочками. Если бы слуги вывели Василису Печку и ее мужа из дома, скандал, по крайней мере, получил бы свое логическое завершение, и зрители были бы удовлетворены, а так вышло, что ворвалась, смутила покой и нахамила тяжело больная женщина, с которой и взять-то нечего. Во время припадка она потеряла сознание и теперь, несмотря на усилия доктора Волина, не приходила в себя.
– Часто с ней такое бывает? – спросил Георгий Арсеньевич у отставного штабс-капитана, который с отчаянием на лице стоял на коленях возле тела своей жены.
– Бывает? – тупо переспросил штабс-капитан. – Конечно, сударь, бывает… В последнее время еще чаще, чем раньше…
Дмитрий Колозин обернулся к Снегиреву:
– Павел Антонович, это ужасное недоразумение… Я видел эту женщину на суде, где она распространяла обо мне чудовищные небылицы, но я понятия не имел, что она проследует за мной и сюда…
– Голубчик, вы ни в чем не виноваты, – сказал хозяин дома, успокаивающе похлопав его по плечу. – Раздражительная женщина, явно она не здорова… Выбросьте этот эпизод из головы.
Он увидел, как сверкают глаза у его жены, как раздуваются ее маленькие ноздри, и смешался.
– Я не хочу, чтобы эта особа находилась в нашем доме, – зло отчеканила госпожа Снегирева.
– Леночка, дружочек, – пробормотал Павел Антонович, – но ведь ей плохо…
– Она плюнула тебе в лицо, хотела тебя ударить, а что, если бы она решила тебя убить? – Леночка картинно сложила руки. – Мало ли, что может прийти ей в голову…
Ее слова услышал штабс-капитан.
– Моя Василиса не убийца! – сердито бросил он. – Не то что некоторые, – он покосился на Колозина, – кого вы принимаете под своим кровом…
– Полно вам, милостивый государь, – сказал фабрикант со скучающей гримасой. – Господин Колозин оправдан судом, и у властей к нему нет никаких претензий. Что касается вас, уважаемый, то ни вас, ни вашу жену сюда никто не приглашал… И я совершенно разделяю мнение Елены Владимировны, что тут вам совершенно делать нечего.
– Ворвались к приличным людям, устроили совершенно безобразную сцену… – пропыхтела Нинель.
– И не говорите! – горячо поддержала ее Любовь Сергеевна.
Волин поднялся на ноги. Он почти физически чувствовал, как в гостиной сгустилась атмосфера всеобщего недоброго чувства. Есть люди, которые не вызывают сострадания, что бы с ними ни происходило, и, судя по всему, рыжая веснушчатая женщина со смешной фамилией «Печка» и ее муж-подкаблучник относились именно к этой категории. Какие бы трения ни были между гостями Снегирева и его родными в прошлом, сейчас почти все они объединились в своей неприязни к жене штабс-капитана. Даже невозмутимый Бэрли, судя по его плотно сжатым губам, и тот присоединился к всеобщему неодобрению. Поглядев на Амалию, Волин увидел на ее лице странное, отрешенное выражение, но приписал его тому, что баронесса Корф была слишком хорошо воспитана, чтобы выражать свою неприязнь более откровенно.
– Как вы добрались сюда? – спросил Волин у штабс-капитана.
– От станции нас довез какой-то крестьянин.
– Он еще здесь?
– Нет, он сказал, что торопится к себе и не может нас ждать.
– Эту женщину нужно доставить в больницу, – пояснил Георгий Арсеньевич, поворачиваясь к гостям.
– Так везите же! – вырвалось у генеральши.
Штабс-капитан умоляюще посмотрел на Федора Меркулова, безошибочно распознав в нем бывшего офицера, но, хотя военные обычно поддерживают друг друга, тот только покачал головой и отвернулся.
– Хорошо, я отвезу ее, – решился Волин. Штабс-капитан встрепенулся.
– Я поеду с вами! Я не оставлю ее!
– Не имею возражений, – устало ответил доктор.
Вечер был безнадежно испорчен. Вместо того, чтобы сидеть за одним столом с баронессой Корф, дышать ее духами и смотреть, как переливаются золотом ее волосы в свете ламп, ему придется возиться с больной Печкой, заполнять бумаги, а если она, не дай бог, преставится, то и вообще хлопот не оберешься…
Вызванные хозяйкой дома слуги подняли бесчувственную женщину и понесли, штабс-капитан метался вокруг них и пытался им помогать, но в результате только мешал. Кто-то должен был пошире раскрыть двери, чтобы удобнее было нести тело, и Сашенька поспешил сделать это, но по его лицу Георгий Арсеньевич видел, что вовсе не желание помочь движет молодым человеком, а все то же стремление как можно скорее избавиться от скандалистки и забыть, что она вообще существует на свете. Уходя, Волин расслышал, как Бэрли с ученым видом спрашивает у хозяина дома:
– А у вас имеется… как это сказать… наказание за самовольное проникновение в чужая собственность?
– Разумеется, есть, – ответила за отца Наденька, – но эта женщина явно больна, и зачем папе вызывать полицию, когда можно обойтись врачом…
Василису Печку кое-как пристроили в шарабан, причем голова ее свешивалась вниз, как у мертвой. Начал сыпать мелкий колючий снег.
– Подождите! Георгий Арсеньевич, подождите!
Волин обернулся и увидел, как Ольга Ивановна, даже не надев пальто, сбежала с крыльца.
– Я могу поехать с вами… Я ведь нужна вам?
– Ольга Ивановна, я не имею права лишать вас такого прекрасного вечера, – серьезно произнес доктор. – И в шарабане мы все не поместимся… Приезжайте, когда вечер закончится, я пришлю за вами Пахома, он вас подождет.
Но его слова не обманули Ольгу Ивановну – она поняла, что ее присутствие доктору неприятно, он заметил отвращение, с каким она смотрела там, в гостиной, на Василису и ее никчемного мужа, и теперь Волин осуждает ее за это. Из ее рта вырывался пар, но Ольга Ивановна даже не чувствовала, как ей холодно.
– Как скажете, доктор, – стараясь говорить как можно более ехидно, промолвила она.
Георгий Арсеньевич посмотрел на ее несчастные глаза и смягчился.
– Идите в дом, Ольга Ивановна… Вы простудитесь, не нужно этого. Идите, не стойте тут на ветру.
У нее отлегло от сердца, она подумала, что доктор все-таки заботится о ней… Но Волин уже забрался в шарабан, и думал он только о том, что ему делать, если больная в ближайшее время не придет в себя.
– Она ведь не умрет? – умоляюще спросил штабс-капитан. Складки жира на его шее и те обвисли от горя.
– Будем надеяться, что нет, – хмуро ответил Волин. – И зачем вы сюда приехали!
Он все еще переживал из-за испорченного вечера, но штабс-капитан понял его по-своему.
– Поверьте, доктор, я ведь тоже говорил ей: зачем? – зашептал он. – Говорил, все равно ничего хорошего из этого не получится… А она как удила закусила: хочу, мол, в глаза бесстыжие ему поглядеть, подлецу этому!
Терентий Емельянович судорожно всхлипнул и закрыл глаза рукой. От него пахло потом, дешевым табаком и горем – смесь, которую даже более спокойному человеку, чем Волин, было нелегко вынести. Но тут до мужчин донесся слабый стон, и Василиса приподняла голову.
– Где я… Что это со мной? Терентий…
– Василиса!
Он обрушил на жену поток слов. «Как же она его испугала!» Говорил он, не надо им было сюда приезжать…
– Куда? – изумилась его жена.
– Позвольте, – вмешался доктор. – Скажите, сударыня, вы что, ничего не помните?
– Я не знаю… Все как в тумане… я…
Не закончив фразу, она снова потеряла сознание.
– Господи боже мой! – простонал штабс-капитан. – Ведь я же знал, ничего хорошего из нашей поездки не выйдет! Говорил я ей…
И в последующие несколько минут он на разные лады пережевывал эту мысль, не слушая никаких увещеваний. Легко вообразить состояние Волина, который схватывал смысл с первого раза и терпеть не мог, когда ему что-то повторяли.
В больнице Василиса Печка пришла в себя, и речь ее сделалась более осмысленной, но доктору не нравилось, что больная выглядела вялой и слабой, отвечала с заминкой и вообще мало чем напоминала ту склочную злобную бабу, которая совсем недавно устроила скандал в снегиревской гостиной. При одном упоминании об убийстве, жертвой которого стала ее старшая сестра, Василиса начинала плакать и метаться на постели, и Волин был вынужден дать пациентке успокоительное.
– Вам есть где остановиться? – спросил он у мужа.
Терентий Емельянович всполошился.
– Доктор, куда ж я пойду, когда она здесь? Я возле нее посижу, вдруг ей помощь понадобится или что еще…
– Для этого есть сиделки, – буркнул Георгий Арсеньевич.
– А если сиделка уснет? И потом, зачем им ради нас тревожиться?.. Я тихо буду сидеть… Слово чести, доктор, миленький, я никому мешать не буду! Мне бы только убедиться, что с ней все хорошо…
Волин посмотрел на его тараканьи усы, на полные мольбы глаза, на подрагивающие брыли и, не удержавшись, спросил:
– Вы ее очень любите, не так ли?
– Она жена моя, – как-то очень просто и естественно ответил Печка, даже не удивившись такому вопросу. – Как же мне ее не любить?
Обернувшись к больной, Георгий Арсеньевич увидел, что она закрыла глаза и задремала. Тонкие губы ее после приступа были сероватого цвета, жилка на виске беспокойно подрагивала.
– Ладно, можете оставаться, – проворчал доктор. – Полагаю, утром вашей жене станет лучше. Припадок был очень сильный.
Он заглянул еще к нескольким пациентам, поговорил с сиделками и отправился в свой домик, где Феврония Никитична суетилась, зажигая лампы. Она уже узнала обо всем от Пахома и была не прочь обсудить эту тему с Волиным, но в его лице было нечто такое, что заставило ее воздержаться от вопросов.
Когда служанка ушла, доктор посмотрел в окно и увидел, что снег прекратился. По правде говоря, Георгию Арсеньевичу ужасно хотелось вернуться в дом Снегиревых, но он сознавал, что будет выглядеть странно. Кроме того, Пахом уже уехал за Ольгой Ивановной.
Презирая себя и свое малодушие, доктор разделся и лег в постель, но посреди ночи его подняли: умирал старый больной, Фаддей Ильич, который когда-то был богатым крестьянином, смотрел на всех свысока и имел две семьи, а потом его дети объединились против него, обобрали его и бросили умирать. Волин видел, как старик отошел, и последнее, что тот сумел выдавить из себя перед концом, было:
– Эх, доктор… Как жить-то хочется!
Мертвеца унесли из палаты, чтобы не волновать остальных больных, а Волин поднялся в кабинет, заполнил необходимые бумаги и вернулся было к себе, но заснул не сразу. Когда он открыл глаза, за окном было совсем светло. Волин нащупал возле кровати жилетные часы, которые обычно носил с собой, откинул крышку. Стрелки показывали половину десятого.
– Боже мой, обход!
Он вскочил с постели, заметался, приводя себя в порядок и одеваясь на ходу.
– Ольга Ивановна просила вас не будить, – сказала Феврония Никитична в ответ на упреки доктора. – Сказала, что вам надо отдохнуть.
– С каких это пор…
Волин хотел сказать: «С каких это пор Ольга Ивановна отдает распоряжения в больнице», но вовремя заметил, что медсестра стоит в дверях, и повернулся к ней с раздраженным видом. Феврония Никитична покосилась на покрасневшее от досады лицо доктора, на бледную и решительную Ольгу Ивановну, бочком протиснулась к выходу и была такова.
– Ольга Ивановна, – сухо проговорил доктор, – я очень ценю ваши профессиональные способности, но давайте не будем относиться друг к другу как к детям, которые требуют поблажки или могут спать, сколько им заблагорассудится. По вашей милости я пропустил обход, и что теперь обо мне будет думать персонал?
– Полагаю, то же, что и всегда, – ответила Ольга Ивановна. – Люди здесь очень высокого мнения о вас, потому что видят, как вы много трудитесь. – Она замялась. – Я подумала, что небольшой отдых вам не помешает, потому что ночью, когда этот бедолага умер, у вас сделалось такое лицо…
– Вы преувеличиваете мою чувствительность, Ольга Ивановна, – сказал доктор с неудовольст-вием.
– Я надеюсь, вы успеете позавтракать, – добавила его собеседница. – То, что случилось, просто ужасно, но вам придется туда поехать.
Волин нахмурился.
– Случилось? О чем вы говорите, Ольга Ивановна?
Не прошло и четверти часа, как доктор выскочил из экипажа возле усадьбы Одинцовых. Из дома навстречу ему выбежала Евгения.
– Георгий Арсеньевич, слава богу, что вы здесь! Приехал следователь… и он допрашивает Николеньку, представляете?
– Это он нашел тело? – быстро спросил доктор. Евгения залилась слезами.
– Не он! Фруфрик нашел! Мы утром хватились, что его нигде нет… Пошли искать… Брат первый услышал, как Фруфрик жалобно мяукает в кустах… Николенька пошел туда, увидел тело, закричал мне, чтобы я не подходила… – Она вцепилась обеими руками в шинель доктора. – Почему они его допрашивают? Мне кажется, Георгий Арсеньевич, это неспроста… Они его подозревают!
Но тут из дома вышел щеголеватый молодой человек с тонкими черными усиками, которого доктор сразу же узнал, потому что пересекался с ним раньше. Это был следователь Михаил Яковлевич Порошин.
– Георгий Арсеньевич, мы вас ждали… Прошу за мной. А вам, сударыня, лучше вернуться в дом… Ваш брат вас ждет.
– Вы уже закончили допрос? – спросила Евгения.
Порошин усмехнулся.
– Какой допрос, сударыня, бог с вами… Просто разговор о том, что он знает об убитом, что думает о преступлении… Обычная формальность. – Следователь повернулся к Волину. – Идемте, доктор.
Сад Одинцовых был засыпан снегом, и по многочисленным следам можно было сделать заключение, что утром тут побывало большое количество самых разных людей. Следователь привел Волина к кустам боярышника, за которыми лежало тело, накрытое рогожей. Подняв ее, доктор увидел Дмитрия Колозина. Студент был мертв как минимум несколько часов.
Глава 11 Страх
Враг был большой и мягкий, и в него приятно было вонзать когти. Фруфрик прыгнул на клубок, но не рассчитал сил, и клубок покатился по полу, разматывая нить. Фруфрик оскорбленно мяукнул и снова бросился на клубок. Обычно Евгения, видя, что творит котенок с нитками, не могла удержаться от смеха; но теперь она даже не смотрела, чем занимается ее любимец.
В дверях показался Николенька. На пороге он немного замешкался, словно сомневался, стоит ему входить или нет, и Евгения машинально отметила, что это было что-то новое. Обычно Николенька входил широкими шагами, бросал какую-нибудь шутку или замечание, и от него веяло спокойным оптимизмом и уверенностью, что все будет хорошо – уверенностью, которая больше всего поддерживала Евгению в ее нелегкой жизни. А теперь он медлил на пороге, как чужой, и лицо у него было чужое – сконфуженное, если не виноватое.
– Они все еще в саду? – спросила она, просто чтобы сказать хоть что-нибудь.
– Да, доктор осматривает тело, а следователь что-то у него спрашивает.
– Почему?
Она хотела спросить: «Почему Колозин оказался в нашем саду?», но у нее не хватило сил закончить фразу, и брат ответил на совсем другой вопрос.
– Наверное, потому что он доктор, – пожал плечами Николенька, падая в кресло. – Причина смерти и всякое такое. Хотя я сразу же понял причину, как только перевернул тело. Его застрелили, выстрелом сзади в голову.
– Тебе не надо было трогать тело, – проговорила Евгения, чуть не плача. – Во всех уголовных романах[142] об этом пишут.
– Ты забыла, я их не читаю? – рассердился Николенька. – Я спускаюсь в свой собственный, между прочим, сад, ищу своего собственного котенка, нахожу его следы, иду по ним, и нате вам – ни с того ни с сего вижу человека, который лежит без движения, присыпанный снегом. – Евгения содрогнулась. – Фруфрик пищал возле него, сводя меня с ума. Не знаю, почему мне показалось, что Колозин еще жив и можно что-то сделать. Я приподнял его и увидел сзади на волосах кровь, а под волосами – маленькую такую дырочку. Тут появилась ты и закричала не своим голосом…
– Я испугалась! – крикнула Евгения, теряя самообладание. – Ты бы тоже испугался… Только вчера мы видели его у Павла Антоновича, он казался очень оживленным и даже надерзил баронессе Корф… А сегодня он труп, понимаешь, не человек, а труп! – Она подалась вперед, в глазах ее блестели слезы. – Николенька, я ничего не понимаю! Скажи, ну пожалуйста, что он делал у нас в саду?
– Откуда мне знать? – раздраженно спросил ее брат.
– Но почему у нас, почему именно мы? Николенька…
– Женечка, ей-богу, я знаю не больше твоего… Если он ехал на станцию, она совсем в другой стороне. И потом, куда тогда делись кучер, и экипаж, и лошади?
Евгения шмыгнула носом и достала носовой платок.
– Николенька… А он не мог прийти, чтобы повидаться с тобой?
Нет, она не ошиблась: брат действительно на-прягся.
– Зачем я ему?
– Ну, затем, что ты знал его в Петербурге.
– Господи, Женечка, да мало ли кто его знал… Мы ведь не были друзьями! Так, шапочные знакомые…
– Николенька, скажи: почему ты не хотел идти на вечер к Снегиревым?
Брат надулся и откинулся на спинку кресла, положив одну ногу плашмя на колено другой.
– Потому что думал, что там будет скучно, – с вызовом произнес он.
Евгения отвернулась.
– Ты не хотел с ним встречаться, – тихо сказала она.
– Женечка, что за фантазии… При чем тут Колозин? Я просто был не в настроении…
– А ведь он тоже был не рад тебя видеть, – продолжала Евгения, отводя со лба непокорную светлую прядь. – Когда он заметил тебя, то перестал улыбаться, хотя до того казался таким веселым… Николенька, скажи мне правду: это не ты?
– Женечка, о чем ты?
– Николенька, ты ведь не убивал его? Я не знаю, что со мной будет, я этого не переживу…
Брат вскочил на ноги, схватился за голову и сделал несколько шагов по комнате.
– Да что же это такое… Везде, где он появляется, даже после смерти… – Николенька осекся и не закончил фразу, видя, с какой мольбой сестра смотрит на него. – Ну, вот что. Я не знаю, что ты вообразила, но я не убивал его и не имею никакого отношения к его убийству. И я не имею ни малейшего понятия, как он оказался в нашем саду! – с ожесточением закончил он.
– Почему же следователь допрашивал тебя так долго?
– Вовсе нет! Мы говорили минут пять…
– Двенадцать минут, я засекала время! О чем он мог говорить с тобой двенадцать минут? Да еще попросил меня удалиться из комнаты!
– Он расспрашивал меня, как я нашел тело, со всеми подробностями. А тебя попросил уйти, чтобы ты не мешала ему работать. Свидетелей всегда допрашивают с глазу на глаз.
– Допрашивают не свидетелей, а преступников! А свидетели дают показания…
– Не знаю, что ты вбила себе в голову, – сказал Николенька после непродолжительного молчания. – Но я не преступник. Впрочем, кажется, я уже говорил об этом…
– Николенька, мне страшно, – сказала Евгения, зябко ежась, хотя в комнате было жарко. – Мне просто очень-очень страшно. Прости меня.
– Ничего, я даже польщен, – пробормотал брат, двигая кочергой поленья в очаге. – Разное бывало в жизни, но пока никто еще не принимал меня за убийцу.
Он пересел в другое кресло, поближе к огню, и посадил Фруфрика себе на колени.
– Когда же ты у нас научишься ловить мышей, а? – спросил Николенька, гладя котенка. – А то наша кошка стала совсем старой…
– Как ты думаешь, кто его убил? – спросила Евгения.
– Откуда мне знать? – ответил ее брат уже с раздражением. – Но раз уж его убили, должна быть какая-то причина. Как, по-твоему, у кого была самая серьезная причина?
И тут Евгения почувствовала, как у нее отлегло от сердца.
– До чего же я бестолковая! Ну конечно же… Эти… как их… Сверчок… нет… Печка, да? А он к тому же военный…
– Человек, привычный к оружию, – кивнул Николенька. – Думаю, это он убил Колозина.
– Как это ужасно, – проговорила Евгения больным голосом. – Человека обвинили в том, чего он не совершал, после долгих мытарств оправдали… и сразу же после суда его убивают… Но я одного не понимаю – при чем тут наш сад? Что Колозин мог здесь делать? И ведь он слышал угрозы этой эпилептички… Что же он не поостерегся?
– Его сзади застрелили, – напомнил Николенька, морщась. – Как уж тут остеречься-то…
– Нет, я все же не понимаю… – бормотала Евгения, нервно сжимая и разжимая пальцы. – Вот ты говоришь, что его застрелили. Но у меня чуткий сон, эти кусты не так далеко от моих окон, а между тем я ничего не слышала… Звук выстрела, понимаешь? Я его не слышала…
– Я об этом не подумал, – признался Николенька. – Кстати, я ведь тоже ничего не слышал…
Брат и сестра переглянулись.
– А что, если его убили не здесь? – проговорила Евгения, волнуясь.
– И привезли к нам, чтобы нас заподозрили в убийстве? Мило…
Он заметил, что сестра задумалась, и тяжело вздохнул. «Ну, сейчас пойдут гипотезы, одна другой невероятнее… Кто из знакомых настолько нас не любит, что мог подбросить труп… Нинель, к примеру… А что? Всегда ждешь каких-нибудь пакостей от того, кто тебе неприятен…»
– Его убили в доме Снегирева, – наконец произнесла Евгения. Ее брат аж подскочил на месте.
– Я смотрю, чтение уголовных романов даром не проходит… Откуда такие выводы?
– Снег, – почти беззвучно промолвила его сестра. – Ты же сам сказал, что труп был присыпан снегом… Вокруг не было никаких следов, кроме твоих, моих и еще Фруфрика… Вчера вечером шел мелкий снег, но, когда мы возвращались домой, он прекратился. Когда я ложилась спать, снег тоже не шел… А утром все было уже белым-бело, значит, снег шел ночью и утром. Ты понимаешь? Колозин пролежал там несколько часов, наверное… А нашли мы его в начале девятого утра…
– Он действительно был совсем холодный, когда я до него дотронулся, – нехотя признался Николенька. – Ты думаешь, что…
– Его принесли к нам в сад, и снег успел засыпать все следы, которые оставил убийца, – продолжала Евгения. – Когда Колозин был убит? Получается, ночью или ранним утром… Вчера он остался ночевать в доме Павла Антоновича. Ночь или раннее утро поздней осенью – не то время, когда городской житель станет выходить из дома… Хотя я допускаю, он мог пойти куда-то даже ночью… Если, например, речь шла о встрече с человеком, которого он хорошо знал…
– Идти куда-то ночью в незнакомой местности? – фыркнул Николенька. – Не знаю, может быть, герои уголовных романов так и делают, но в жизни… Хотя…
– Что? – спросила Евгения, увидев, как изменилось выражение его лица.
– Ничего, – угрюмо ответил ее брат. – Просто я вспомнил, что Колозин мог не спать до трех утра, а иногда и до четырех… Он сам мне говорил.
– Тогда, может быть, он вышел из дома из-за бессонницы, преступник подстерег его, убил и привез тело к нам, чтобы замести следы, – сказала Евгения.
– Тогда возникает другая проблема – откуда убийца знал, что Колозин может выйти из дома, – заметил Николенька. – Кроме того, у Снегиревых есть собаки, почему они не залаяли и не разбудили весь дом?
– Потому что Павел Антонович, как и мы, считает, что нехорошо держать животных на холоде, и сейчас собаки живут в доме, – напомнила Евгения. – Они спали, Колозин вышел, а муж той женщины следил за домом… И застрелил его.
– И никто в доме ничего не услышал, – проворчал Николенька. – А штабс-капитан вместо того, чтобы просто сбежать, зачем-то потащил тело к нам в сад.
– Я просто выдвигаю теории, а доказательства пусть ищет следователь, – сердито произнесла Евгения. – И потом, откуда мы знаем, что убийца непременно штабс-капитан? Колозин вчера наговорил дерзостей баронессе Корф… Ты помнишь, какие у нее были глаза? Если хочешь знать мое мнение, эта женщина умеет ненавидеть…
– Ничего ты, Женечка, не понимаешь, – вздохнул Николенька, гладя котенка. – Колозин просто из кожи вон лез, чтобы привлечь ее внимание, а ей до него не было никакого дела. Она строила глазки англичанину, который гостит у Снегирева.
– Это ты, Николенька, ничего не понимаешь, – парировала Евгения, задетая за живое. – Чтобы такая женщина, как баронесса Корф, могла увлечься этим филином… Да никогда в жизни! Уверена, тебе показалось…
Николенька мог много чего рассказать о тех, кто с легкостью подозревает красивую женщину в убийстве, но горячо защищает ее, когда речь идет о неподходящем поклоннике, однако он предпочел наслаждаться своей наблюдательностью молча и, улыбаясь, взъерошил шерстку котенку, который пытался вскарабкаться ему на плечо.
– Вообще, чем больше я думаю об этом преступлении, тем меньше понимаю, – призналась Евгения. – Наверное, я перегнула палку, когда сказала, что баронесса Корф могла убить Колозина… Она обычная светская женщина, если не считать внешности, конечно… И этот штабс-капитан, который дергал свою жену за рукав, чтобы ее утихомирить, и был явно не рад, что приехал сюда… Не очень-то и он похож на убийцу, по правде говоря… – Она встряхнулась. – Впрочем, пусть следователь разбирается, это его работа. Конечно, я расскажу ему, что снег успел засыпать следы и что мы не слышали никакого выстрела… Ведь чем быстрее он отыщет убийцу, тем лучше.
– Разумеется, – рассеянно пробормотал Николенька, снимая котенка, который упорно карабкался по его груди, и сажая его на пол.
– Ты больше ничего не хочешь мне сказать? – не удержалась Евгения.
– Я? Нет, ничего.
– Прекрасно, – заключила сестра, поднимаясь с места. – Тогда я пойду искать господина Порошина.
Глава 12 В больнице
Палата, в которую доктор Волин определил незваную гостью Снегирева, находилась на втором этаже, в самой дальней части крыла. Помещение было маленькое и узкое, как пенал. Здесь стояли всего две кровати, которые были короче, чем кровати обычных больных. В эту палату чаще всего помещали детей, страдающих опасными заразными заболеваниями, но в то время, о котором идет речь, никаких эпидемий в уезде не было, и помещение пустовало до тех пор, пока в нем не появились штабс-капитан и его супруга.
После ухода Волина Терентий Емельянович, не чуя под собой ног, опустился на свободную кровать и долго-долго смотрел в лицо своей спящей жены. Еще до того, как ей дали успокоительное, по настоянию доктора, Василиса переоделась в больничную одежду, придававшую ей полуфантастический вид и наводившую на мысли не то об осужденной, не то о нищенке. Ее тулуп, платье и дырявые поношенные чулки грудой лежали на деревянном стуле, стоявшем возле стены, и всякий раз, когда взор отставного штабс-капитана падал на эти чулки, ему хотелось плакать. Чулки словно символизировали всю их жизнь, далекую от тонких материй, которую они латали и чинили в безуспешной попытке выкроить из нее что-то более-менее пристойное. Супруги Печка знали о себе, что они не птицы высокого полета и никогда ими не станут, и нельзя сказать, чтобы их это особо печалило. По-настоящему их задевало только одно: что у них не было детей. Много, много было пролито слез, пока Василиса не смирилась и не обратила всю свою нерастраченную любовь на племянников, детей своей родной сестры. И оттого она оказалась вдвойне не готова к тому ужасу, который неожиданно обрушился на нее.
Убийство, зверское, бессмысленное, квартира сестры, залитая кровью, полицейские формальности, допросы, похороны, на которые собрались все знакомые и знакомые знакомых, и каждый подходил и выражал Василисе и ее мужу свое сочувствие – все промелькнуло перед внутренним взором отставного штабс-капитана, как один непрекращающийся кошмар, который хочется поскорее забыть. Но то, что случилось, относилось к разряду происшествий, которые не получится забыть – до самого последнего вздоха.
Терентий Емельянович немного знал Колозина и несколько раз беседовал с ним о каких-то мелочах. После убийства отставной штабс-капитан истерзал себе всю душу, пытаясь нащупать в своих воспоминаниях нечто, подобие следа, хотя бы намек на то, что все завершится так страшно и жестоко, что студент разрушит их с Василисой жизнь до основания. Но Колозин всегда вел себя как самый обычный человек, а когда его задержали, на допросах он держался на удивление спокойно и ничем не показал, что он действительно виновен.
Оттого отставной штабс-капитан и терзался сомнениями. Он не был уверен, что Дмитрий Колозин убийца, однако Василиса, знавшая от сестры о ее разногласиях с жильцом, ни минуты в этом не сомневалась. Совершенно ни от кого не таясь, она кровожадно радовалась, что проклятый студент, убивший ее сестру, мужа сестры и их двух детей, получит по заслугам. Но тут в дело вмешался Павел Антонович Снегирев, и внезапно выяснилось, что дело-то шито белыми нитками. Ну, ссорился Колозин с сестрой Василисы, ну, не платил за квартиру, но орудие убийства не найдено, пропавшие из квартиры жертвы вещи не обнаружены, и вообще доказательств убийства у следствия никаких нет, если не считать показаний соседки-алкоголички, которая видела, как студент выходил из квартиры. Обвинению очень хотелось верить, что выходил как раз после преступления, что день и время события соответствовали версии о том, что Колозин виновен, но защита сразу же обратила внимание на то, что свидетельница путает даты, она не раз ругалась в прошлом с обвиняемым и вообще ее словам веры нет. Что же касается того факта, что у Колозина не было алиби, так как в момент совершения преступления он просто гулял по улицам, то ведь никому же не возбраняется ходить по Петербургу столько, сколько ему заблагорассудится…
Однако никакие доводы, которых оказалось достаточно для того, чтобы убедить общественное мнение в невиновности Колозина, не могли смягчить Василису. Она упорно продолжала считать, что студент виновен, что ему удалось обвести всех вокруг пальца, он убийца, проклятый душегуб и чудовище, которое хуже любого зверя. А когда она поняла, что Колозин ускользнул от наказания благодаря тому, что обратился за поддержкой к знаменитому Снегиреву, она возненавидела Павла Антоновича едва ли не больше, чем того, кого считала губителем своих близких.
А потом была долгая, мучительная поездка с пересадками в вагонах третьего класса, изумленные лица слуг в имении Снегирева, ужасный скандал, завершившийся припадком, четыре стены, окрашенные в желтый цвет, и кровать с серым одеялом, на которой Василиса заснула, поджав ноги.
Терентий Емельянович вздохнул. Здесь, в полумраке палаты, он бодрствовал не один – вместе с ним было сознание собственного бессилия и еще кое-что, что было еще горше – страдание из-за того, что его жена так изводит себя. Он услышал, как скрипнула дверь, и повернул голову.
– Меня зовут Ольга Ивановна, – тихо сказала женщина, стоявшая на пороге, – я здесь работаю. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь ко мне или к сиделкам.
Он пробормотал несколько слов благодарности, но тут Василиса застонала, заворочалась во сне, и он умолк. Ольга Ивановна внимательно посмотрела на его лицо и вышла. Тяжело вздохнув, штабс-капитан сел поглубже на кровати, привалился спиной к стене и сам не заметил, как провалился в беспокойный сон.
Когда он проснулся, то увидел, что жена смотрит на него и легко улыбается.
– Ты… ты… – он хотел продолжить, но не смог закончить фразу.
– Набедокурила я вчера, а, Терентий?
– Да уж!
В дверь заглянула вчерашняя медсестра, Ольга Ивановна. Лицо у нее было хмурое, но почему-то – штабс-капитан не смог бы объяснить, почему – он сразу же уловил, что это была, так сказать, не посторонняя хмурость, а нечто, к чему имели прямое отношение он и Василиса.
«Ишь, какая неприятная», – неодобрительно подумал Терентий Емельянович. Вот вчерашний доктор ему понравился, но он определенно был человек совсем другого склада, чем эта фифа с напряженным лицом.
– Как вы себя чувствуете? – спросила медсестра.
– Благодарствуем, гораздо лучше, – ответила Василиса звонким голосом.
Медсестра метнула на нее странный взгляд и совершенно неожиданно спросила:
– Скажите мне вот что: кто-нибудь из вас выходил из палаты сегодня ночью?
– Зачем? – искренне удивился Терентий Емельянович.
– Ну, мало ли, – туманно ответила неприятная особа. – Вдруг вам так захотелось.
Штабс-капитан и его жена обменялись быстрым взглядом.
– Если вы хотите сказать, что нам тут не место… – начала Василиса дрожащим голосом.
– Нет, – отмахнулась странная медсестра, – я вовсе не о том. Дмитрий Колозин убит.
Терентий Емельянович, который пытался зевнуть, прикрыв рот рукой, застыл на месте. Василиса вытаращила глаза, потом завозилась, приподнимаясь на кровати.
– Как – убит? – пронзительно закричала она, волнуясь. – Что значит убит?
– Убит значит убит, – отрезала Ольга Ивановна, – ничего больше. Так ночью вы не выходили отсюда?
Василиса открыла рот.
– Да кто же его так? Божечки мои! Как это вышло? За что его?.. А почему вы спрашиваете, не выходили ли мы? – внезапно насторожилась она. – Вы что же, думаете, что кто-то из нас…
– Не важно, что я думаю, – сухо ответила Ольга Ивановна. – Будет следствие, и для вашего же блага лучше, если вы не попытаетесь сейчас бежать.
– Бежать? Да вы что? – заверещала Василиса. – Мы здесь останемся… чтобы все разузнать хорошенько! Да я… Я руку пожму тому, кто его убил! Вот!
Она разрумянилась, ее глаза горели так, словно она только что выиграла в лотерею целое состояние, рыжие нечесаные волосы свисали, как у ведьмы.
Ольгу Ивановну покоробило. Она вышла, прикрыв за собой дверь, передала сиделкам указание – ни в коем случае не выпускать этих двоих из больницы, после чего пошла будить доктора.
«А я так хотела, чтобы он отдохнул хоть немного… пока больных мало… Какое у него лицо сделалось тогда ночью… Словно этот противный старик Фаддей Ильич был ему самый близкий и родной человек…»
А пока палата, в которой лежала Василиса Печка, сделалась центром всеобщего притяжения. То и дело в дверь кто-нибудь заглядывал, а самые бесцеремонные еще и навязывались с вопросами, кто именно укокошил студента: муж или жена.
Отставной штабс-капитан бледнел, краснел, шевелил усами, нервно чесал складки жира над шеей и клялся, что он не убивал Дмитрия Колозина, даже пальцем его не тронул. Что касается Василисы, то она с удовольствием включилась в игру и теперь уверяла всех, кто был согласен слушать, что студент умер из-за того, что она ему желала смерти и даже молилась о ней.
Впрочем, едва на пороге показался следователь Порошин, Василиса сразу же сбавила тон и, исподлобья глядя на представителя власти, принялась отвечать на вопросы.
– Имя, сословие, вероисповедание, место жительства…
Однако на главные вопросы Василиса Печка и ее муж твердо ответили «нет»:
Нет, не убивали Колозина.
Нет, ночью никто из них не покидал больницу.
Нет, они понятия не имеют о том, кто мог его убить.
– Вы прибавьте, прибавьте в протокол, – добавила мстительная Василиса, – что не важно, кто его убил, важно, что он получил по заслугам…
Из-за снега дерево за окном казалось совсем белым, и на одной из веток его сидела сова, а может быть, филин. Отставной штабс-капитан посмотрел на него и отвернулся.
Глава 13 Пропавший гость
– А теперь, полагаю, – сказал Павел Антонович, – мы можем поговорить о том, что такое русский характер и чем он отличается от характера других наций.
Постороннему наблюдателю было бы очень легко описать кабинет хозяина дома, в котором сейчас находились Павел Снегирев и Джонатан Бэрли. Просторная комната была заставлена разномастными книжными шкафами, которые тянулись вдоль стен и громоздились даже в простенках между окнами. На корешках красовались надписи на русском, французском, немецком, английском и других языках. Книги царствовали в кабинете безраздельно, и оттого все остальное – бюро и кресло возле окна, небольшой диван, простой камин без всяких украшений, темный ковер на полу – имело вид случайных элементов обстановки, даже несмотря на то, что все они находились в кабинете больше полутора десятков лет. Джонатан Бэрли примостился на диване, устремив внимательный взор на своего собеседника, который расхаживал по комнате, заложив руки за спину.
– Было бы неправильно рассматривать национальный характер в отрыве от исторических условий формирования нации, а также географических условий, в которых она находится, – продолжал Снегирев, поглядывая то на лицо англичанина, то на языки пламени в камине, то на книги в ближайшем шкафу. – Я уже не раз говорил – и продолжаю настаивать – русская нация сложилась в борьбе со всем, что на протяжении веков хотело ее уничтожить. Силы, которые противостояли русскому народу, приходили как с Востока, так и с Запада, и в этом контексте набеги печенегов, монголо-татарское нашествие и война с Наполеоном стоят в одном ряду. Если мы обратимся к географии, то нельзя не констатировать, что лучшие места на земном шаре достались вовсе не нам. Наши зимы холодны и суровы, лето не всегда балует нас теплом, а переходные сезоны утомительно растянуты во времени и влекут массу неудобств. Что можно сказать о человеке, которому мало того что приходится жить в не слишком благоприятных условиях, так еще к нему периодически являются незваные гости, чтобы не дать ему жить в принципе? Конечно, он не будет оптимистом; конечно, он не сможет позволить себе легкомыслия, потому что оно слишком дорого может ему обойтись; и, конечно же, ему придется научиться давать отпор любому, кто попытается его задеть. Отсюда наш русский пессимизм, наша категоричность, о которой я уже говорил, и наша готовность давать воинственный отпор везде и всегда, вплоть до дискуссий о дамской косметике, – готовность, которую многие мои коллеги путают с хамством, но которая по сути таковой не является.
Джонатан Бэрли шевельнулся.
– Вчера за ужином вы упоминали о двойственности русского характера. Что именно вы имели в виду, сэр?
– Попробую объяснить, – оживился Павел Антонович. – Дело в том, дорогой сэр, что у русского характера есть две стороны, и люди, которые не дали себе труда вникнуть в предмет, на этом основании часто упрекают нас в двуличии. В обычной жизни, когда на горизонте нет никаких угроз, русский человек, если можно так выразиться, расслабляется. Вы видите добродушного, беспечного, частенько ленивого мужичка, который довольствуется малым, если судьба не предоставляет ему большего, – но если предоставляет, он не успокоится, пока не исчерпает все ее блага. Эту русскую черту можно хорошо видеть на примере наших людей, которые неожиданно разбогатели и пускаются во все тяжкие, – пояснил Снегирев. – Умение довольствоваться малым, о котором я говорю, некоторые путают со смирением, с какой-то особой русской терпеливостью и прочим. Я же полагаю, это одна из сторон совсем другого качества – внутренней свободы, которая у русских не связана с материальным благосостоянием, с государственным строем и вообще ни с какими внешними признаками. Свобода, о которой я говорю, – еще очень мало изученный предмет. Во всяком случае, это не свобода по типу «плевать я хотел на всех остальных людей», а свобода в стиле «моя душа – моя крепость», если можно так выразиться. У разных людей она будет выражаться по-разному. Один может дойти до стремления стать юродивым, другой ограничится тем, что будет уделять внешнему миру лишь столько внимания, сколько необходимо. При этом со стороны будет казаться, что он полностью включен в деятельность, которая от него требуется обстоятельствами, и ни о чем другом даже не помышляет. Внутренняя свобода, о которой я говорю, порой требует и внешнего соответствия; так вот, когда русский попадает на бескрайний простор, где от горизонта до горизонта – леса, луга, поля, река, он чувствует, что это его, русское, родное, близкое его душе и в то же время близкое всем русским вообще…
Джонатан Бэрли откашлялся.
– Свобода внутри себя – это, конечно, весьма интересный предмет, – осторожно заметил он, – хоть он и вызовет немало споров… Но мы, кажется, начали говорить о том, что у русского характера есть две стороны. Какая же вторая?
– Ах да, – Снегирев слегка поморщился. – Когда кто-то видит русского в условиях мирной жизни – безалаберного, беспечного, где-то даже чрезмерно доверчивого, – посторонний наблюдатель начинает думать, что стоящий перед ним человек слаб и не представляет из себя ничего особенного, а значит, с ним легко будет справиться. Но все дело в том, что русский в условиях мира и русский в условиях войны – это два совершенно разных человека. На войне русский становится совсем другим. Если он решил сражаться, он будет сражаться до конца, жестоко, не щадя ни себя, ни тем более врага – потому что история предыдущих поколений научила его: с врагами договариваться бесполезно, их можно только уничтожать. Если врагу нанесен существенный урон, то даже поражение у нас перестает считаться таковым, и самый яркий пример – то же самое Бородино…
– Вне всяких сомнений, это очень удобно – считать поражение победой, – заметил Бэрли с легкой иронией.
– Ну, вы, англичане, тоже любите утверждать, что Наполеона победили только вы, а усилия России и союзников ничего не значат, – парировал хозяин дома. – Не так ли?
– Я пишу книгу не о Наполеоне, а о вашей стране, – дипломатично напомнил Бэрли.
– Чтобы написать книгу о России, надо пожить тут хотя бы несколько лет, – устало ответил Павел Антонович, садясь в кресло возле бюро. – Простите меня, но недостаточно выучить язык и прочитать в оригинале Пушкина, Достоевского и графа Толстого. А вы приехали сюда на несколько дней и думаете, что вам удастся понять Россию, поговорив со мной и пообщавшись с ограниченным количеством людей… Это невозможно, просто невозможно!
– Боюсь, у меня другая точка зрения на данный вопрос, – усмехнулся Бэрли. – Простите меня, сэр, но необязательно съесть целого барана, чтобы понять вкус баранины. Достаточно и одной котлеты.
Возможно, в намерения почтенного ученого вовсе не входило демонстрировать свою самоуверенность, но в тот момент он выглядел настолько самодовольным, что Павел Антонович, хоть и был по натуре крайне мягким человеком, впервые задумался о том, не совершил ли он ошибку, впустив этого типа в свой дом. Увидев выражение лица хозяина дома, Бэрли решил перевести разговор на другую тему.
– Я видел у вас на столе черновик статьи, и заголовок меня заинтересовал, – промолвил он.
Снегирев повернулся и бросил взгляд на листки, лежащие на бюро.
– Ах да, статья… «Нация и сверхнация». По правде говоря, в ней я некоторым образом подвожу итог моих многолетних размышлений о таком важном предмете, как русская нация.
– Вот как? – молвил Бэрли, учтиво поднимая одну бровь. – И к каким же выводам вы пришли в вашей статье?
– Ну, если быть кратким, то есть нации и есть сверхнации. Сверхнации – это более крупные нации, обладающие, так сказать, большей силой притяжения и не замыкающиеся на себе. Русские – это сверхнация.
Тут, признаться, мистер Бэрли ощутил некоторое волнение – как если бы собеседник ему только что сказал, что англичане – нация второго сорта, хотя Павел Антонович не только не утверждал ничего подобного, но даже и не думал об этом.
– Сверхнации, – с увлечением продолжал Снегирев, – выходят за пределы собственно нации и принимают к себе всех, кто пожелает быть их частью, вне зависимости от происхождения и прочих условий. Поэтому императрица Екатерина – русская, хоть и немка по происхождению, Барклай-де-Толли – русский, хоть и с немецко-шотландскими корнями, и Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, сколько бы абиссинских предков у него ни насчитывалось. Я даже больше скажу: чтобы стать частью сверхнации, не обязательно отказываться от своей принадлежности к другой нации. Человек может считать себя русским и белорусом одновременно, или русским и немцем, или русским и шотландцем. Я не люблю делать прогнозы, но мне представляется, что будущее планеты именно за сверхнациями и, возможно, сверхдержавами. При этом национализм никуда не денется, особенно там, где дело касается малочисленных и исчезающих или, напротив, только переживающих становление наций.
Мистера Бэрли так и подмывало вступить в дискуссию, а для начала дать понять уважаемому собеседнику, что это, конечно, очень удобно – считать себя представителем сверхнации, в то время как есть куда более достойные кандидаты на эту должность, но тут дверь отворилась без стука, и в кабинет заглянула хорошенькая светловолосая барышня в голубом платье. Вид у нее был встревоженный, между тонкими бровями пролегла едва заметная складочка, которая придавала ее юному свежему лицу особенно пикантный и очаровательный вид.
– Папа, там…
Она набрала воздуху в грудь, смущенно оглянулась на англичанина, который при ее появлении забыл обо всем на свете, и потупилась.
– Что, Дмитрий Иванович уже вернулся? – рассеянно спросил Павел Антонович. – И куда же он ходил?
Утром за завтраком неожиданно выяснилось, что гость Снегиревых куда-то ушел, причем прислуга не знала, куда именно, и никто не видел, как он выходил из дома. Хозяйка дома всполошилась и тайком велела прислуге пересчитать все ценные вещи, не исключая серебряных ложек; но все вещи оказались на месте, а потрепанный чемоданчик Колозина, с которым он приехал, по-прежнему стоял в его комнате.
– Он не упоминал вчера, что собирается куда-то? – спросил Павел Антонович у сына. – Нет? Ну что ж, погуляет и вернется… Раз его чемодан в комнате, значит, он скоро вернется.
По правде говоря, исчезновение Колозина не слишком занимало Снегирева, который собирался обсудить со своим английским гостем судьбы России, ее историю и характер русского народа. Но, хотя мысли Павла Антоновича были совсем о другом, он все же заметил, что дочь сильно нервничает.
– Маша узнала, что Колозина нашли, – выпалила Лидочка. Машей звали одну из горничных. – И… он мертв.
Павел Антонович озадаченно поглядел на дочь, и мистер Бэрли решил, что настало его время вмешаться.
– Мисс, прошу вас не волноваться и рассказать нам все, что вам известно, – внушительно заговорил он, глядя на подавленную девушку полным участия взором. – Что случилось с этим молодым человеком? Какое-то несчастье?
– Конечно, несчастье, – ответила расстроенная Лидочка, всхлипнув. – Его убили!
Павел Антонович Снегирев знал шесть иностранных языков и считался одним из умнейших людей в своей стране; но в тот миг его хватило только на глупейшее восклицание, которое мог бы издать и какой-нибудь дворник:
– Не может быть!
– Я решила, что Маша что-то напутала, и мама тоже так подумала, – объяснила Лидочка, часто-часто мигая. – Мама даже накричала на Машу, что та говорит глупости, но та уверяет, что узнала обо всем от Яши, слуги Одинцовых. Колозина нашли в их саду, и его… его застрелили! Следователь уже приехал…
– Он внизу? – спросил Павел Антонович, приподнимаясь.
– Нет, следователь пока у Одинцовых, – ответила Лидочка, ища по всем карманам платок, которого, как всегда, не оказалось на месте. – У меня в голове не укладывается… Мы же сидели вчера за одним столом, а сегодня человека уже нет…
– Полагаю, ваша полиция во всем разберется, – сказал Бэрли. – Лично я готов оказать содействие в расследовании и рассказать о том, чему был свидетелем вчера вечером.
Павел Антонович нахмурился.
– Вы имеете в виду тех двоих, которые…
– Они ворвались в ваш дом, – жестко промолвил Бэрли. – Угрожали вам и вашему гостю. Полагаю, они должны понести наказание за свои действия.
– Но ведь Дмитрий Иванович их знал! – вырвалось у Снегирева. – И слышал точно так же, как и мы… Как же им удалось выманить его из дома? Не понимаю…
– Не вижу смысла говорить об этом сейчас, сэр, – внушительно промолвил Бэрли, косясь на Лидочку, весьма его занимавшую. – Убийство – крайне неприятное событие, но именно для таких событий и существует полиция. Пусть они разбираются, как именно убили мистера Колозина и кто это сделал. И если вы хотите знать мое мнение, то я совершенно убежден, что следствие будет недолгим.
Глава 14 Загадочная телеграмма
Дядюшка Казимир тяжело вздохнул, взял ложку, с обреченным видом зачерпнул бульон из тарелки и вылил содержимое ложки обратно. Так он поступил несколько раз, причем с каждым разом вздохи делались все громче; но тут, шурша шелковым платьем, в комнату вошла баронесса Корф.
– Дядя, так это вы вздыхаете! А я-то грешным делом подумала, что на нас идет ураган…
Ее губы и глаза улыбались, и, хотя тон фразы был довольно-таки насмешливым, дядюшка поймал себя на том, что еще немного, и он сам заулыбается в ответ. Амалия умела улыбаться так, что от нее словно исходило сияние. Казимирчик понял, что его племянница находится в прекрасном расположении духа, и решил немного побузить.
– Я не хочу бульон, – объявил он, насупившись.
– Дядя, не забывайте: вы больны!
– Будем считать, я уже выздоровел, – хладнокровно ответил дядя.
– Кроме того, – не преминула уколоть его племянница, – сегодня умеренность вам не повредит. На вчерашнем ужине вы ели за двоих.
– На меня плохо повлияло появление этой дамы, у которой изо рта пошла пена, – объяснил Казимир. – Надеюсь, когда я приду к Снегиревым в гости в следующий раз, такого не случится. Кстати, когда мы должны нанести им визит?
– Вы пока можете отдохнуть, а я собираюсь поехать к ним сегодня, договориться насчет собаки, – отозвалась Амалия, опускаясь в кресло и беря газету.
– Собаки?
– Это просто предлог. У них дома две таксы, я без ума от такс и мечтаю о чистокровном щенке. Если бы вы вчера не были заняты едой, то слышали бы мой разговор с хозяйкой по этому поводу.
Казимир вздохнул.
– Что? – спросила Амалия, уловив на его лице выражение, которое говорило ей, что дядюшка готовит какую-то каверзу.
– Абсолютно ничего, – ответил дядюшка, тотчас же принимая безразличный вид. – Прекрасный бульон, настолько прекрасный, что у меня не хватает духу до него дотронуться.
– Дядя!
– Если я скажу, тебе это не понравится, – быстро проговорил Казимирчик.
– Сначала скажи, – потребовала Амалия, складывая газету и кладя ее на стол. – Я жду! – с нажимом добавила она, видя, что дядя колеблется.
– Ну, раз ты так настаиваешь… – Казимирчик вздохнул и мысленно прикинул расстояние от Амалии до находящихся поблизости тяжелых предметов, которые она могла в него метнуть. Не то чтобы она питала предосудительное пристрастие к швырянию вещами в своих ближних, просто Казимирчик по природе был осмотрителен и всегда предпочитал держать в уме самый худший вариант развития событий. – Вот тебе мое мнение: ничего у тебя не выйдет. Так что можно не изображать, как ты любишь такс, не ходить к Снегиревым в гости, не тратить зря свое время… и вообще.
Амалия сразу же перестала улыбаться, и ее глаза сверкнули так, что, если бы поблизости оказался кто-то посторонний, он бы подумал ровно то же, что и Евгения Одинцова: баронесса Корф умеет ненавидеть, и еще – что тому, кто станет у нее на пути, точно не поздоровится.
– Дорогой дядя, – промолвила она вкрадчиво, но так, что у Казимирчика побежали по коже мурашки, – не могли бы вы подробнее объяснить, что именно вы имеете в виду?
– Могу, – немного нервно промолвил ее собеседник. – Видишь ли, вчера тебе удалось произвести впечатление почти на всех мужчин, которые там находились. Я имею в виду хозяина дома, фабриканта, доктора Волина, господина Одинцова, студента… Но именно тот, кто тебе нужен, совершенно… э… не заинтересовался. И я боюсь… то есть это исключительно мое мнение, сама понимаешь… Боюсь, что мистер Бэрли тобой не заинтересуется. Не потому, что с тобой что-то не так, а просто потому, что его привлекает другой тип женщин.
– Какой же? – холодно спросила Амалия.
– Уверен, ты бы и сама заметила, если бы не препиралась со студентом, – хмыкнул Казимирчик. – Потому что мистер Бэрли не сводил с нее глаз.
Амалия задумалась.
– Лидочка Снегирева?
Ее собеседник кивнул.
– Вздор, – решительно сказала Амалия. – Ему тридцать семь, а она в два раза моложе его! И во-обще…
– Хочешь сказать, что я ничего не понимаю в человеческих отношениях? – осведомился Казимирчик ангельским голосом. – Говорю тебе, он к ней неравнодушен. Может быть, это еще не любовь, но Лидочка не обращает на него внимания, а когда у чувства появляются препятствия, оно растет как на дрожжах.
– Лидочка очень мила, – решительно сказала Амалия. – Но в ней нет ничего особенного.
– Дело не в Лидочке, а в том, что в голове у мистера Бэрли, – объяснил Казимир тоном лектора, разъясняющего профану сложную научную проблему. – Он из тех англичан, которые высоко ставят неиспорченность и свежесть. Ему не женщина нужна, а девушка, понимаешь? Это, конечно, вовсе не значит, что сам он чист и безгрешен. Судя по его роже, все обстоит с точностью до наоборот. Не сомневаюсь, что в своем Лондоне он частенько захаживал в известные дома, где посетителей стегают плеточкой… И невеста ему отказала, конечно, не потому, что он недостаточно для нее хорош, а потому, что почувствовала, он с червоточинкой.
– Дядя, – сказала Амалия обманчиво ровным тоном, – позвольте вам напомнить, что вчера за весь вечер вы обменялись с мистером Бэрли десятком фраз о погоде, железной дороге и газетах, которые вы читаете. Ах да, еще раз вы попросили его передать сахар. Позволительно ли мне узнать, из чего вы сделали столь… э… умопомрачительные выводы?
– Я же сказал: достаточно посмотреть на его рожу, – сухо промолвил Казимирчик, которого этот разговор уже начал утомлять. – Объясняю прямо: он impuissant[143], которого возбуждают только плетки и невинные девушки. Не хочешь мне верить – дело твое, но лично мое мнение таково: ты ничего не добьешься. Нет, конечно, ты можешь попытаться, но тебе не удастся сделать так, чтобы ты могла влиять на него в том ключе, который тебе нужен.
Амалия задумалась. Когда-то она недолюбливала своего дядюшку и считала его ненадежным человеком, повесой и эгоистом, но впоследствии ей пришлось убедиться, что при всей своей кажущейся никчемности и поверхностности ее родственник далеко не глуп, а в некоторых отношениях даже умнее многих. Кроме того, он имел весьма похвальную привычку высказываться только тогда, когда не сомневался в своей правоте, и, если сейчас Казимир был так категоричен, как минимум имело смысл принять его слова в соображение.
– А Павел Антонович знает? – спросила она.
– О том, что Бэрли неравнодушен к его дочери?
– Да.
– Нет, и мать ее пока тоже ничего не заметила. И скажу тебе больше: они вовсе не обрадуются, если узнают.
– Почему вы так решили? Разумеется, Павел Антонович умный человек, но я сомневаюсь, что он обладает вашей проницательностью… м-м… по поводу лондонских домов.
– В этой семье очень любят своих детей, – спокойно ответил Казимир. – Ты заметила, надеюсь, что старшая дочь после неудачного брака вернулась к родителям? И сын наведывается как минимум раз в месяц, судя по его разговорам.
– Он обычно просит у отца денег, – вставила Амалия.
– Нет, – безмятежно ответил Казимир, – если нужны деньги, есть сто тысяч способов взять их в долг в Петербурге. Деньги – это просто предлог, чтобы лишний раз увидеть родителей. А что касается мистера Бэрли, то, даже если не принимать в расчет его возраст, он не понравится Снегиревым в качестве жениха. Ведь он захочет увезти Лидочку с собой, и одно это выведет их из себя… Я заслужил жаркое за консультацию?
– И тарелку пирожных, – отозвалась Амалия ему в тон.
Казимир открыл рот, чтобы уточнить, какие именно пирожные он жаждет увидеть на своей тарелке, но тут без стука растворилась дверь, и вошла мать Амалии.
– Генеральша хочет тебе что-то сказать, – объявила Аделаида дочери. – Говорит, что это может быть важно.
– Я сейчас выйду к ней, – ответила баронесса Корф, поднимаясь с места. Казимирчик вздохнул и перевел взгляд на остывший бульон.
Когда Амалия показалась в гостиной, Анна Тимофеевна стояла посреди комнаты, хотя вообще-то это был ее дом, и она могла бы и присесть. Женщины обменялись приветствиями, и Амалия указала генеральше на большое кресло.
– Нет, я всего лишь на минутку, – быстро сказала Анна Тимофеевна. – Я подумала, что вы захотите узнать… Дмитрий Колозин убит.
– О! – вырвалось у Амалии. – Как это случилось?
– Никто не знает. Его застрелили. Одинцовы нашли его труп в своем саду.
– Одинцовы? А они тут при чем?
– Совершенно непонятно! Насколько мне известно, расследовать дело будет Михаил Порошин… Кажется, неглупый молодой человек, но карьерист… И товарищ прокурора Клеменс Федорович Ленгле ему под стать, но он еще не приехал… Бедная Евгения, конечно, натерпелась страху на допросе. Вряд ли Порошин думал, что она или ее брат как-то замешаны в этом убийстве, просто у него манера нагонять на всех оторопь, и не угрозами, а так… обстоятельно все выпытывая…
– Как все это некстати! – вырвалось у Амалии.
Она отвернулась с досадливым жестом.
– Хотя если преступника сразу же арестуют… Сестра убитой еще в больнице или уже скрылась?
– В том-то и дело, сударыня, в том-то и дело! – воскликнула Анна Тимофеевна. – Те двое, чьи угрозы мы слышали вчера вечером, всю ночь провели в больнице… Сиделки и сторож уже поручились, что Свечкин или как его там… и его жена никуда не уходили. Мотив был только у этого отставного штабс-капитана и его супружницы. Но если они ни при чем, кто же тогда убийца?
– Я благодарю вас, сударыня, за то, что вы мне обо всем сообщили, – произнесла Амалия, хмурясь. – Крайне неприятная история, в самом деле…
Попрощавшись с генеральшей, Амалия отправилась искать мать.
– Мама, тебе придется поехать на почту и отправить срочную телеграмму. Слугам я ее доверить не могу.
– Говори, что надо делать, – отозвалась Аделаида, не выказав ни малейшего удивления. Она села к столу и положила перед собой лист бумаги.
– Текст такой. – Амалия прошлась по комнате, размышляя. – «Дядя Казимир смертельно болен. Гость историка»… Нет, об убийстве упоминать не нужно, это лишнее… «гость историка Снегирева серьезно пострадал». Отправить нужно по этому адресу. – Баронесса подошла к столу, взяла из рук матери перо и надписала над текстом одну строку, начинавшуюся со слова «Петербург».
– Мой брат смертельно болен, потому что не ест куриный бульон? – скептически осведомилась старая дама.
– Нет, это просто код, что мне нужна срочная помощь, вот и все. Следующая фраза указывает, что именно вызвало затруднение.
– Я, конечно, не собираюсь давать тебе советов, – проворчала Аделаида, – но я все же не понимаю, к чему такая спешка. Наша семья не имеет к Колозину никакого отношения, мы просто присматриваем за моим больным братом, вот и все!
– В телеграмме не было бы нужды, – ответила Амалия, хмурясь, – если бы следователь сразу же нашел убийцу. А раз у подозреваемых алиби, следователь заинтересуется, чем Колозин был занят в последние часы своей жизни, а незадолго до смерти он был на ужине в доме Снегирева, где присутствовали и мы с Казимиром.
– Это ничего не значит, – промолвила Аделаида с неудовольствием.
– Это значит, что следователь начнет проверять всех присутствующих, – возразила Амалия. – Убийство Колозина станет громким делом, властям захочется отличиться, а когда человек начинает искать, то нередко находит то, чего не нужно.
– Вроде твоей истинной деятельности? – вздохнула Аделаида. – Прости меня, но я все же не представляю, как твоя служба сможет повлиять на расследование. Тем более что дело действительно будет громкое…
– Поживем – увидим, – отозвалась Амалия и, вызвав слугу, велела закладывать для матери экипаж.
Глава 15 Предложение
Лежа на софе, Федор Меркулов перебирал струны гитары. Он находился в том странном состоянии духа, которое бывает у человека, добившегося того, к чему он стремился, и не знающего, куда ему двигаться дальше. С первого дня ссылки Федор мечтал вернуться домой, и теперь, когда он вроде бы вернулся, его не покидало ощущение, что все не так, как должно быть, и сама мечта его исполнилась как-то неправильно и коряво. Его подспудно раздражало, что приходится довольствоваться флигелем, а в родительском доме живут чужие люди, и надо договариваться всякий раз, когда он хочет зайти туда. Кроме того, Федор был умен и не мог не видеть, что его возвращение мало что решает. Он вырос с мыслью об армии как об единственной возможной карьере, но путь туда ему теперь был заказан. Куда бы он ни попытался устроиться, ему все равно придется рассказывать о пощечине, ссылке и Сахалине; а ведь, если верить Снегиреву, русский человек может быть снисходителен к согрешившему, но на того, кто попался и понес наказание, смотрит как на последнего неудачника.
Вздохнув, Федор извлек из гитары протяжный печальный аккорд и в следующее мгновение услышал за дверью шаги матери. Поспешно сев на софе, он отложил гитару в сторону и разгладил волосы. Дверь отворилась.
– Я тебе не помешала? – спросила Анна Тимофеевна мягко. – В саду холодно, но хорошо хоть ветра нет…
– Вы куда-то выходили?
– Только до дома и обратно.
– Зачем?
– Сказала нашей гостье, что Колозин убит.
– Она нам не гостья, – буркнул Федор, насупившись.
– Федя! Не забывай, что…
– Что я должен не забывать? Что благодаря ей меня вернули из ссылки? Лучше бы я остался на Сахалине вместо того, чтобы быть обязанным не понять кому…
– Федя, перестань! – Генеральша зажала ему рот рукой. – Подумай обо мне… Что ты такое говоришь?
– Мне не нравится эта женщина, – проворчал Меркулов, высвободившись. – Что за игру она ведет?
– Мне нет дела до этого, – твердо ответила Анна Тимофеевна. – Она выполнила свою часть обязательств, я буду выполнять свою. Она добилась твоего помилования, и банк аннулировал наш долг. Она решила поселиться в доме – пусть! Захотела познакомиться с Павлом Антоновичем и его семьей – сколько угодно! И если она попросит меня о чем-то, я не стану ей отказывать.
Федор вздохнул.
– По-твоему, Павел Антонович со всеми его глубокомысленными рассуждениями о России стоит того, чтобы вытаскивать меня из ссылки и заставлять банк забыть о нашем существовании?
– Я не знаю. Мне все равно. И… Федя, пожалуйста, держи себя в руках, когда имеешь с ней дело. Я не должна была говорить тебе о том, кому ты обязан помилованием, я не должна была рассказывать тебе о долге, но… Видишь, я не удержалась. А ты теперь злишься.
– Я не злюсь, – поморщился молодой человек. – Просто я не люблю сталкиваться с тем, чего не понимаю. И мне не нравится, что Колозина убили.
– Мне это тоже не нравится. Но при чем тут баронесса фон Корф?
– Ни при чем, однако вы все же пошли к ней и сказали, что он убит.
– Я подумала, что это может ее заинтересовать.
– И какова была ее реакция?
– Она была ошеломлена.
– Вот как?
– Да, а что тебя удивляет?
– Так, ничего, – пробормотал Меркулов после паузы. – Странная перепалка у нее вчера состоялась с этим Колозиным.
– Этот молодой человек был невежлив, – строго заметила Анна Тимофеевна. – Крайне неумно с его стороны. Мог бы сообразить, что баронессу Корф не проймешь такими замечаниями, которые он вчера себе позволял – о богатых дамах, которые равнодушны к страданиям бедняков, и о женщинах, у которых нет сердца, потому что так им проще жить.
Федор поморщился.
– Он мне тоже не понравился, – признался офицер. – Но если выбирать между ним и баронессой, то я не знаю, кто из них хуже.
– Ну вот, опять ты воображаешь о нашей гостье бог весть что, – произнесла мать. – Между прочим, я наводила о ней справки. Баронесса Корф – внучка генерала Тамарина, разведена, ее муж служит при дворе…
– И этот прохиндей, которого она приволокла с собой, действительно ее дядя?
– Да, это ее дядя, а дама – действительно ее мать. Феденька…
– Что?
– Скажи, ты не подумывал о том, чтобы же-ниться?
Тут, признаться, сын на несколько мгновений утратил дар речи.
– Жениться? На ком? Уж не на баронессе ли?
– При чем тут баронесса? – изумилась мать. – Впрочем, если ты вдруг решишь именно так, уверяю тебя, я не стану возражать…
– Не решу, – буркнул сын, – но вообще как-то странно… Мне – жениться? Да какая женщина за меня пойдет…
– А ты подумай, подумай, – зашептала генеральша, с любовью и тревогой глядя на него. – Женишься, успокоишься, будут у меня внуки, а мне, Феденька, ничего больше от этой жизни не надо. Только чтобы видеть тебя здоровым и довольным, чтобы у тебя была семья и детки. Я не хочу, чтобы ты остался один, когда я умру.
Только что Федор готов был рассердиться, но теперь он почувствовал в горле ком.
– Мама, ну ей-богу… Ну что вы такое говорите! Вы еще долго проживете, я уверен…
– А я все время думала, что умру и не увижу, как ты вернешься, – как-то очень просто сказала Анна Тимофеевна, и по ее тону он понял, что эта мысль действительно ее не отпускала. – Все друзья твоего отца, все, кто мог бы похлопотать за тебя… они пальцем о палец не пожелали ударить, понимаешь? И тут появилась баронесса Корф… Ты не думай о ней плохо, пожалуйста… Она мне вернула веру в то, что чудеса возможны, даже когда все от тебя отказываются…
Она заплакала, слезы текли по ее морщинистым желтоватым щекам. Федор подошел к ней, неловко поцеловал ее руку, она погладила свободной рукой его русые волосы.
– Ты все-таки подумай насчет свадьбы, – добавила генеральша, доставая платок. – Сколько есть хороших женщин, которые ждут, когда их позовут замуж…
– Как Нинель Баженова? – усмехнулся Мер-кулов.
– Господи, Феденька! Она-то тут при чем?
Сын, не выдержав, рассмеялся.
– Простите, мама… Просто я как-то очень живо вспомнил, какое у нее вчера было выражение лица, когда она сидела за столом и смотрела на баронессу… Почему-то Нинель мне напомнила ворону, которая сердито топорщит перья… Может быть, из-за темного платья…
– Феденька, оставь Нинель в покое. Женщине уже за сорок, а в этом возрасте нет ничего хорошего, если живешь в одиночестве… – Анна Тимофеевна замялась. – А что ты думаешь о Женечке Одинцовой?
– С меня хватит того, что я думаю о ее родителях, – коротко ответил Федор, и по его лицу мать поняла, эта тема для него закрыта.
Вошла горничная и доложила, что приехал Куприян Степанович Селиванов, у него важное дело к барину – настолько важное, что он ни за что не примет отказа.
– А, этот скучный человек, который хотел купить наше имение за бесценок… – Меркулов нахмурился.
– Наверное, тут что-то другое, – сказала Анна Тимофеевна. – Он ведь знает, что имение не продается.
– Хорошо, я поговорю с ним, – решился Федор и добавил, оборачиваясь к горничной: – Зови его сюда.
– А я, пожалуй, пойду распоряжусь насчет обеда, – добавила Анна Тимофеевна.
Она удалилась, в дверях столкнувшись с Селивановым, который вошел прямо так, как приехал – в дорогой шубе и шапке, с тростью в руках.
– Зря вы не сняли шубу, милостивый государь, – сказал Федор, глядя на незваного гостя и чувствуя, как его охватывает неприязнь, с которой он ничего не мог поделать. – Во-первых, у нас натоплено, а во-вторых, вы наследите на полу.
– Ничего, прислуга уберет, – отмахнулся фабрикант. – Да и разговор у нас будет коротким, Федор Алексеевич. – Он подошел к офицеру вплотную, и тот невольно встревожился, заметив азартные огонечки, поблескивающие в глубоко посаженных темных глазах гостя. – На случай, если вы вздумаете кричать, топать ногами или указывать мне на дверь, скажу сразу же: я все знаю.
– Вы? – изумился Федор. – Простите, я что-то не понимаю…
– Я знаю, это вы убили Дмитрия Колозина. – Фабрикант оскалился. – Да, Федор Алексеевич, не повезло вам. Я же видел, как вы тащили его труп.
– Но ведь была ночь…
Меркулов осекся, поняв, что выдал себя окончательно и бесповоротно. Глаза Селиванова торжествующе сверкнули.
– Вы ведь только что из ссылки, милостивый государь, и сразу же за убийство… Нехорошо получится, совсем нехорошо! Положим, я мог бы тотчас же пойти к следователю, этому олуху Порошину, и рассказать ему все, что я видел, но у меня доброе сердце.
– Да неужели? – мрачно бросил Федор. Он начал понимать.
– Продайте мне имение, а я вам дам… Ну, скажем, две тысячи рублей. И никому не скажу, что вы убийца.
– Две тысячи рублей! – вспыхнул офицер, – да вы в своем уме? Наше имение стоит гораздо больше!
– Стоило, – медовым голосом поправил его фабрикант. – Пока вы не прихлопнули студентика… и ладно бы никому не известного, так что обществу ни холодно ни жарко, есть он или нет его… Нет, сударь, вы ухлопали бедолагу, которого только что оправдали благодаря заступничеству неравнодушных людей, да-с! У нас такого не прощают… Так что, милостивый государь, скандал будет на всю Россию. И даже ваша девка, которая вытащила вас из сахалинской ссылки, вам тут не поможет.
– Что? – болезненно вскрикнул Федор, отшатываясь. – Да как вы смеете…
– О, у меня в Петербурге большие связи, – усмехнулся Селиванов. – И я быстро узнал, что своим освобождением вы обязаны баронессе Корф. Какой ей резон вступаться за вас? Не держите меня за дурака, милостивый государь!
Вне себя Федор сделал движение, чтобы схватить фабриканта за воротник, но тот отступил и больно ударил молодого человека по рукам тростью.
– Полегче, Федор Алексеевич, полегче! Вы знаете, что я знаю, это вы убили Колозина, и покончим на этом. Как и почему это случилось, мне, по правде говоря, совершенно наплевать. Главное – мне достаточно нанести один визит Порошину или Ленгле, чтобы разрушить вашу жизнь раз и навсегда. И что тогда будет делать ваша бесценная маменька? Она же не переживет, если вас сошлют второй раз… Не переживет!
– Вы мерзавец, – мрачно уронил Федор, чувствуя полное, ослепительное бессилие, осознание которого способно было свести с ума. – Просто мерзавец.
– Совершенно верно, – покладисто согласился Селиванов, – и ваше счастье, что я мерзавец, который хочет заполучить ваше имение. А то был бы я мерзавцем и сознательным гражданином – и сразу же доложил бы куда следует. Так что, Федор Алексеевич? Решим вопросец полюбовно?
– Откуда мне знать, что вы не донесете на меня после того, как я отдам вам имение? – недобро сощурился его собеседник.
– Федор Алексеевич, я деловой человек. Такой пустяк, как правосудие, меня не интересует. Меня заботит только одно: мои интересы. Если вы продадите мне имение, то, будьте благонадежны, я забуду то, что видел этой ночью. Я вообще случайно оказался снаружи – бессонница, то да се… Луна светила… Правда, потом стал хлопьями сыпать снег…
– Все вы врете, – холодно сказал Федор, с ненавистью глядя на своего собеседника. – У таких, как вы, бессонницы не бывает. Признавайтесь: почему вы шляетесь по ночам?
– Будет вам, Федор Алексеевич, – усмехнулся фабрикант. – Ну что вам дадут эти скучные подробности? Допустим, я подозреваю, что у меня воруют кое-что, и хочу поймать вора с поличным. Ночью я обходил территорию, не заметил ничего подозрительного, и вдруг бах! Выстрел где-то в стороне. Ну я и пошел на звук, и как раз подоспел к тому моменту, когда вы вывели из конюшни лошадь и пытались погрузить на нее труп, а она чуяла мертвеца, храпела и упиралась. Я за деревом стоял и все видел, милостивый государь… Что ж вы его подальше не отвезли, а? Не ровен час, Порошин догадается, где на самом деле студентика ухлопали…
– Это из-за лошади, – ответил Меркулов удрученно. – Я хотел оставить труп в лесу, но недалеко от дома Одинцовых лошадь встала на дыбы и сбросила тело. Я не смог погрузить его обратно, и мне пришлось оттащить его в кусты. Я никому не хотел причинять неприятностей, просто так получилось…
– Поторопились вы, конечно, и ошибок понаделали, – заметил Селиванов с таким видом, будто они обсуждали домашнее задание нерадивого гимназиста. – Кстати, строго между нами: за что вы его так, а?
– Я принял его за грабителя, – выдавил из себя Федор.
– Так я и думал, – кивнул фабрикант. – Погорячились… Так что, Федор Алексеевич, по рукам? Я распоряжусь насчет купчей?
– Что я скажу матери? – хрипло спросил офицер, проводя рукой по лицу. – Я… Не могу… Так сразу… Дайте мне хотя бы время!
– Время я вам, пожалуй, дам, – уронил Селиванов веско. – Двадцать четыре часа, и ни минутой больше. Но хочу сразу же пояснить кое-что. – Тон его сделался жестким, глаза засверкали, как лезвие ножа. – Если вы думаете, что вам удастся разобраться со мной, как с господином Колозиным, вы заблуждаетесь. Я принял меры и записал все, что видел этой ночью. После моей смерти конверт вскроют, и вам не поздоровится. Я ясно выражаюсь?
Федор кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Селиванов скользнул взглядом по его бледному лицу и мельком подумал, что немногого же стоит императорская армия, если ее офицера, хоть и бывшего, может скрутить в бараний рог внук простого крестьянина, каким являлся сам фабрикант.
– Даю вам время до завтрашнего вечера на объяснение с маменькой, – бросил Селиванов на прощание. – И не забудьте предупредить свою девку и всю ее родню, что им скоро придется отсюда убираться. Я не люблю, когда чужие люди ходят по моей собственности.
Он поудобнее перехватил трость и вышел. Стиснув виски, Меркулов опустился на софу и стал смотреть на пятна от снега на полу, которые оставил незваный гость.
– Что же мне делать? – проговорил Федор в отчаянии. – Боже мой, что же мне делать?
Глава 16 Мотив
– Вопреки всему, что пишут в романах, – сказал Порошин, – работа следователя адски скучна.
Ольге Ивановне ужасно хотелось, чтобы следователь ушел и оставил ее в покое. Она нервничала, у нее дрожали руки, когда она переставляла склянки в больничном шкафчике, и она боялась, что разобьет что-нибудь в присутствии этого лощеного и невыносимо уверенного в себе господина, и он будет думать, что она в чем-то виновата, хотя Ольга Ивановна не знала за собой никакой вины – он просто был ей противен, и она не могла ничего поделать с этим.
– Взять хотя бы убийство Колозина, – продолжал Михаил Яковлевич, задумчиво поглядывая на бледную медсестру и отмечая ее странную нервозность. – Все было бы проще простого, если бы выяснилось, что жена Печки или он сам ночью покидали больницу. Но Василиса до сих пор плохо себя чувствует и еле держится на ногах, а отставной штабс-капитан всю ночь просидел возле ее постели. Значит, никто из них не убивал. Возникает естественный вопрос: кто же тогда это сделал? Вот вы, например, что думаете, Ольга Ивановна?
– А почему вы меня спрашиваете? – резко спросила молодая женщина, захлопывая шкафчик.
– Потому что ситуация крайне странная, согласитесь! Колозин приехал из Петербурга, чтобы поблагодарить Павла Антоновича за заступничество. Здесь его вроде бы никто не знает, кроме Николая Одинцова, который с ним учился. В доме Снегирева состоялся торжественный ужин, а вскоре после него студента находят мертвым. Вы же видели Колозина вчера, может быть, заметили что-то?
– Ну, насколько я помню, никто не угрожал его застрелить, – сухо бросила Ольга Ивановна. – И никто вообще ему не угрожал, не считая тех двоих.
– Но, может быть, было что-то еще? Вы не заметили в его поведении ничего странного?
– Странного? – Ольга Ивановна пожала плечами. – Он очень искренне благодарил Павла Антоновича, потом говорил всякие глупости… пытался задеть баронессу Корф, потом предложил тост за мистера Бэрли и сказал, что если тот пожелает описать его процесс в своей книге, то Колозин к его услугам. Что было дальше, я не знаю, потому что за мной приехали, и я ушла.
– Насколько мне известно, – сказал Порошин, – доктор Волин разрешил вам остаться до конца вечера. Можно узнать, почему вы поторопились вернуться в больницу?
Ольга Ивановна нахмурилась.
– Я была уверена, что Георгию Арсеньевичу понадобится моя помощь, – сдержанно промолвила она.
– Весьма похвально с вашей стороны, – кивнул следователь, решив покамест не заострять на этом внимания. – Возвращаясь к Колозину: вы больше не помните ничего особенного? Какие-то мелочи, может быть, которые показались вам необычными?
– Вы все время возвращаетесь к одному и тому же, – уже с раздражением промолвила Ольга Ивановна. – Поймите же наконец: Павел Антонович – интеллигентнейший человек, и его гости – замечательные люди. Не было такого, чтобы Колозину кто-то угрожал, или оскорблял, или каким-то образом пытался его задеть. И я уверена, что в тот вечер ему даже в голову не могло прийти, что идут последние часы его жизни.
Она встрепенулась и повернулась к двери. Через несколько секунд Волин показался на пороге. Врачи в то время носили не халаты, а фартуки, закрывающие одежду спереди, и фартук доктора был заляпан темной кровью.
– Я закончил вскрытие, – сказал Волин, протягивая следователю пулю. – Вот это я вытащил у него из головы. Насколько я могу судить, Колозина застрелили из дешевого револьвера.
Он подошел к рукомойнику, но вода текла тонкой струйкой, и ее было недостаточно. Ольга Ивановна вышла стремительными шагами, вернулась с большим кувшином и стала лить воду доктору на руки.
– Ну, было бы странно, если бы его застрелили из пушки, – протянул Порошин, разглядывая пулю. – А что насчет времени смерти?
– От двух до четырех часов ночи, судя по всему.
– Скажите, Георгий Арсеньевич, вы уверены в стороже и сиделках?
– Вполне, – ответил доктор. – Палата, куда положили Василису Матвеевну, находится на втором этаже. Сиделки заглядывали ночью, Ольга Ивановна тоже заходила, при каждом осмотре господин Печка был на месте, сторож внизу опять-таки не видел, чтобы он покидал здание. Вы же говорили с ним, и с сиделками, и с Ольгой Ивановной…
– Сторож мог задремать, уснуть и пропустить тот момент, когда преступник вышел, – проворчал Порошин, – сиделки и Ольга Ивановна находились в палате не все время, и вообще…
– А удивление Печки, когда он узнал, что Колозина убили? – напомнил доктор, снимая фартук и поворачиваясь к следователю. – Он ведь был не на шутку изумлен, и его жена тоже. Ольга Ивановна ведь вам рассказала об их реакции…
– Некоторые преступники любого актера за пояс заткнут, – буркнул следователь. – На эмоции полагаться опасно.
– Признайтесь, вас бы попросту устроило, если бы он оказался убийцей, – бросила Ольга Ивановна с ожесточением.
– Да, – не стал отпираться Порошин, – потому что это имело бы смысл. Но Колозин, который зачем-то ночью отправился погулять, вследствие чего был застрелен неизвестно кем и не понять за что… Как-то в этом не слишком много смысла, вы не находите?
Доктор вздохнул.
– Давайте сначала я расскажу вам кое-что, что обнаружил при более тщательном осмотре. На теле Колозина имеются незначительные повреждения, и они были получены не при жизни, а уже после смерти.
– То есть тело перевозили? – быстро спросил следователь.
– Полагаю, что да. Он был убит где-то в другом месте.
– Что ж, это объясняет, почему Одинцовы уверяют, что никто из них не слышал выстрела, – сказал Порошин, хмурясь. – Кстати, никто из их прислуги тоже ничего не слышал. Скажите, Георгий Арсеньевич…
– Да?
– Может быть, у Одинцовых есть враги? Потому что труп убитого человека не оставляют где попало. Если двигаться по этой дороге дальше, то буквально через несколько минут въезжаешь в лес. Почему же преступник не оставил тело там?
– Полагаю, вам лучше всего обсудить вопрос о врагах с Одинцовыми, – с неудовольствием промолвил Волин. – Лично мне неизвестно, чтобы они с кем-то даже ссорились. Их тут скорее жалеют, но так как они люди самолюбивые, никто эту жалость старается не показывать.
– Скажите-ка мне вот что, господин следователь, – вмешалась Ольга Ивановна. – Вы полдня допрашивали Одинцовых и их прислугу, а также больничный персонал и подозреваемых. Вам не кажется, что логичнее было бы допросить Павла Антоновича и его домочадцев? Ведь Колозин все-таки ночевал в их доме…
– Но труп-то был обнаружен в саду Одинцовых, а главные подозреваемые находятся у вас в больнице, – усмехнулся Порошин. – Теперь, когда мы знаем, что у них алиби, и знаем, что тело перевозили, я могу двигаться дальше.
Он спрятал пулю, церемонно поклонился и исчез за дверью.
– Он просто боится, – сердито сказала Ольга Ивановна. – Допрашивая Павла Антоновича, можно нарваться на неприятности, это не какие-то там Одинцовы, за которых в прессе никто не заступится!
– Лучше пойдите и проверьте наши фонари, – сказал доктор. Медсестра с недоумением взглянула на него.
– Зачем, Георгий Арсеньевич?
– Если кто-то выходил ночью, – ответил Волин, напирая на слово «кто-то», – ему нужен был фонарь. Иначе он не ушел бы далеко. А если он выходил, в фонаре стало меньше масла… Проверьте, Ольга Ивановна.
Когда она вышла, доктор сел и задумался. Мысли его скользили и набегали друг на друга, как морские волны. Он думал о том, что должна сейчас чувствовать мать убитого студента, думал о том, что ему делать с Ольгой Ивановной, и еще думал об ослепительной баронессе Корф с ее черной бархоткой, с которой свисала великолепная подвеска с изумрудами в ренессансном стиле. Все-таки в этой женщине была какая-то загадка, которую он не мог разгадать.
Волин так погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как вернулась Ольга Ивановна.
– Все фонари в порядке, – сказала она. – Никто не выходил. И… – она поколебалась, – приехала госпожа Баженова. Уверяет, что ей нужно с вами поговорить.
– Со мной? – вяло удивился Волин. – Я никогда ее не лечил. Ее врач – Брусницкий.
– Она как-то странно возбуждена, – заметила Ольга Ивановна. – И мне почему-то кажется, что ее здоровье тут ни при чем.
Доктор поморщился.
– Скажите ей, я могу уделить ей пять минут, – проворчал он.
Едва увидев Нинель, доктор понял, что Ольга Ивановна не зря употребила слово «возбуждение». Свободомыслящую даму прямо-таки распирало, и, глядя на нее, Волин мрачно подумал, что пятью минутами тут точно не обойдется.
– А Михаил Яковлевич уже уехал? – затарахтела Нинель. – Ольга Ивановна мне сказала, что его нет… Слава богу! Вы не представляете, доктор, до чего я не хотела застать его здесь! Ведь тогда мне пришлось бы сказать ему… Вы меня знаете, доктор, я старая противница властей, но, в конце концов, убивать людей никто права не имеет…
– Сударыня, – пробурчал Волин, даже не пытаясь казаться вежливым, – уверяю вас, что если у вас есть какие-то вопросы к господину Порошину, то ответить на них я не смогу даже при всем желании. Уж извините…
– У меня – вопросы? Ха! – Нинель рассмеялась высоким, режущим ухо смехом. – Это он скорее был бы счастлив задать мне кое-какие вопросы… Ведь тогда, может быть, он бы узнал, за что убили этого несчастного студента.
Она говорила настолько уверенно, что доктор заколебался. Но Волин, помимо всего прочего, был умен и отлично знал, что на прямой вопрос от некоторых женщин не так-то легко добиться прямого ответа.
– Неужели? – как можно более равнодушно уронил доктор, пристально глядя на свою собеседницу. – Полагаю, вы станете меня убеждать, что Колозин был убит из-за того, что властям пришлось не по душе его оправдание…
– Боже мой, Георгий Арсеньевич, ну что за фантазии! Если бы речь шла о политическом деле, я бы, возможно, согласилась с вашей гипотезой, но тут все-таки совершенно другой случай… Это чистая уголовщина!
– То есть у вас тоже есть какая-то гипотеза, Нина Андреевна. Я правильно понимаю?
– Это больше чем гипотеза, доктор! Понимаете, я задержалась вчера у Снегиревых… Я стояла на лестнице и слышала, как Колозин разговаривал с кем-то. Дословно он сказал следующее: «Я знаю, кто их убил. Я точно знаю, кто убил Изотовых». Вы понимаете? Изотовы – это та самая семья, в убийстве которой его обвиняли. – Доктор промолчал. – Ну же, Георгий Арсеньевич! Все очень просто: Колозин знал, кто преступник, и убийца каким-то образом услышал его слова! Именно поэтому несчастный студент и был застрелен!
Глава 17 Разбитые мечты
– Вздор, – решительно заявил Волин. – Если Колозин знал, кто убийца, почему не выдал его раньше? Почему не сказал полиции? Когда человека обвиняют в убийстве и ему грозит серьезное наказание, ему нет смысла кого-то покрывать!
Нинель поджала свои губы-пельмени, и они стали похожи на вареники; впрочем, в данном случае разница получилась несущественной. Как особу свободомыслящую, ее покоробило слово «выдал».
– Я могу только сказать, что я совершенно уверена в том, что слышала именно эти слова, – сухо промолвила она. – А что касается вопроса о том, почему Колозин не назвал полиции имя настоящего убийцы… Может быть, потому, что был ему чем-то обязан. Или считал неприемлемым для себя доносить на другого человека.
– Который зарезал четырех человек, в том числе двух детей? Тогда получается, ваш Колозин просто мерзавец.
– Вы слишком прямолинейны, доктор, – вздохнула Нинель. – Возможно, Колозин видел в нем не убийцу, а, например, близкого друга. Полагаю, что, если бы речь шла о постороннем, он бы не стал его защищать.
– А кому именно Колозин сказал, что знает настоящего преступника?
– Доктор, – обиженно пропыхтела Нинель, – подслушивать вовсе не в моих привычках… Но мне кажется, это была Наденька.
– Их разговор мог слышать кто-нибудь, кроме вас? – Нинель заколебалась. – Полно, Нина Андреевна, вы ведь сами заявили, что убийца каким-то образом услышал слова студента. Вы заметили кого-нибудь поблизости?
– Никого. Но кто-то стоял под лестницей и курил. Я видела дым.
– Но не человека? Только дым?
– Увы, нет!
Волин задумался.
– С другой стороны, Наденька вполне могла потом пересказать кому-то слова Колозина, и они дошли до убийцы. Так что не факт, что преступник действительно находился возле лестницы.
– Не знаю, кому она могла их пересказать, – проворчала Нинель, исподлобья косясь на своего собеседника. – Половина гостей к тому времени уже разъехалась.
– А кто оставался в доме?
– Павел Антонович, его семья, мистер Бэрли, Колозин… я, конечно… эта назойливая особа – Любовь Сергеевна… Меркуловы… Ах да, еще Одинцовы.
– Боюсь, мне затруднительно представить кого-нибудь из членов семьи Снегиревых в качестве убийцы, – сказал доктор, пожимая плечами. – То же самое я могу сказать о мистере Бэрли и госпоже Тихомировой. Анна Тимофеевна, это просто нелепо, простите. Ее сын, по-моему, уже был сослан, когда произошло убийство в Петербурге… Одинцовы? Да ну, глупости…
– Но ведь кто-то же убил Колозина! – вскинулась Нинель. – И я… Георгий Арсеньевич, я просто не знаю, что мне делать! Я не люблю полицию… но ведь я свидетель! Я обладаю важной информацией…
Грудь ее бурно вздымалась, и на всякий случай Волин отодвинулся.
– Я думаю, вам лучше вернуться домой и ждать, когда Порошин вас навестит, – сказал доктор. – Ему все равно придется разговаривать со всеми, кто присутствовал на ужине. Рано или поздно очередь дойдет и до вас.
– А он не будет подозревать меня в убийстве студента? – с беспокойством спросила Нинель.
– Зачем ему это делать?
– Ну, к примеру, для того, чтобы замарать мое имя, – гордо ответила Нинель.
– У вас есть огнестрельное оружие? – спросил Волин.
– Нет, зачем оно мне?
– Тогда, полагаю, вам нечего опасаться. Возвращайтесь к себе, ждите Порошина и ничего не бойтесь.
Ему пришлось повторить эти слова в разных вариациях раз двадцать, прежде чем Нинель решила последовать его совету.
– Ах, доктор, – вздохнула она на прощание, – вы не поверите, как я завидую вам, что вы ушли с вечера раньше всех! С той минуты, как я узнала о гибели этого несчастного молодого человека, я испытываю ужасные душевные терзания… А следователи бывают так грубы, так бестактны!
«Господи, если бы эта несносная баба знала, как я вчера завидовал тем, кто остался на ужине!»
Но тут явился Поликарп Акимович, объявивший, что в больницу привезли роженицу, у которой уже начались схватки, и мысли доктора переключились на работу, которую ему предстояло сделать.
Следователь Порошин тоже думал о работе, поэтому он вернулся в свой кабинет и заполнил ровным, аккуратным почерком с длиннющими хвостиками девять страниц документов, которые должны были запечатлеть его служебное рвение. Если бы понадобилось, он написал бы еще столько же, однако ему пришлось прерваться из-за появления сухопарого блондина с глазами немного навыкате и усами щеткой. Это был товарищ прокурора Клеменс Федорович Ленгле, и знающие люди уверяли, что он далеко пойдет. Впрочем, говорили они это уже лет десять, и все эти годы товарищ прокурора оставался там же, где и был.
Ленгле витиевато извинился за опоздание, туманно намекнув на обстоятельства непреодолимой силы, вынудившие его задержаться в другом месте из-за предыдущего расследования. Порошин отлично знал, что обстоятельства непреодолимой силы жили в городе Александрове, что у них были прекрасные черные глаза и великолепные ножки, а также – что они не имели к расследованиям и юстиции вообще никакого отношения. Впрочем, следователь тотчас же забыл обо всем, как только Ленгле упомянул, что его уже атаковали газетчики.
– Удивительно пронырливый народ! – добавил товарищ прокурора, стягивая перчатки. – Откуда они узнали, что именно мы с вами будем заниматься убийством Колозина?
Он разоблачился, избавившись от шубы, шапки и шарфа, одернул мундир и протянул руку за отчетом – но, увидев, сколько Порошин успел написать, состроил легкую гримасу.
– Давайте покороче и на словах, – сказал товарищ прокурора. – Подозреваемые?
– Василиса Матвеевна Печка и ее муж, отставной штабс-капитан Терентий Емельянович Печка. Дама – сестра убитой Арины Изотовой, – пояснил Порошин. – Они считали, особенно жена, что Колозина зря оправдали и он и есть убийца. Оба идеальные кандидаты, особенно муж, но беда в том, что у них алиби.
– Надежное?
– Не идеальное, но вполне убедительное. Тем не менее я запретил им уезжать вплоть до завершения следствия.
– Другие варианты?
– Пока никаких.
– Вы уже были у Павла Антоновича?
– Н-нет, – после легкой заминки признался Порошин. – Думаю, нам стоит поехать к нему вдвоем.
– Почему? Думаете, он заартачится?
– Дело весьма щекотливое, – признался Порошин, помедлив. – И я бы хотел, чтобы на допросе присутствовал свидетель. А то вдруг в газетах напишут, что власти притесняют уважаемого че-ловека…
– Осторожничаете? – Ленгле метнул на Порошина быстрый взгляд. – Полагаю, вы правы: осмотрительность нам не помешает. Что показало вскрытие?
– Жертва убита из дешевого тульского револьвера, один выстрел сзади в голову, смерть наступила мгновенно. – Следователь продемонстрировал пулю, которую Волин извлек из головы Колозина. – Клеменс Федорович, скажу вам честно: пока концы с концами не сходятся. Я навел справки – студент никогда прежде не бывал в наших краях. Он приехал только вчера, появился на ужине у Снегирева, ночью куда-то вышел и сразу же был убит. Кстати, тело с места преступления увезли и зачем-то подбросили Одинцовым.
– Трудности на то и даются, чтобы их преодолевать, – изрек товарищ прокурора. – Не думайте, милостивый государь, что награды достаются просто так. Дело будет громкое, аппетитное… Если мы с ним справимся, возможен перевод не то что во Владимир или Москву, а прямиком в Петербург…
– Хорошо бы сразу в Петербург, – брякнул Порошин. – Столица империи… Я там учился…
Ленгле кашлянул и напустил на себя безразличный вид.
«Разъедусь с женой… дам ей столько, чтобы она оставила меня в покое… Буду жить с Варенькой, и баста… Какие у нее ножки, какие глазки! Этот осел Порошин только о карьере и думает… За лишний орден удавится, хотя я тоже не против орденов… но Варенька, однако же, лучше…»
«Вот сухарь немецкий, – мрачно думал Порошин, – небось только и думает, как бы меня объегорить, когда мы раскроем дело… Хорошо этим прокурорским! Следователь делает всю грязную работу, а они знай снимают сливки… Мне бы только в Петербург перебраться, я на все согласен, чтобы его рожу больше не видеть…»
Тут, однако, охотников делить шкуру неубитого медведя прервали, потому что явился служащий и принес телеграмму.
– Из Петербурга… срочная…
Ленгле удивленно приподнял брови, взял телеграмму и распечатал ее, после чего как-то старчески крякнул и протянул текст Порошину.
Следователь прочитал телеграмму, удивленно заморгал и на всякий случай прочитал еще раз, но текст остался ровно таким же и ни на знак не переменился.
– Что это такое, Клеменс Федорович? – возмутился Порошин. – «По делу Колозина ничего не предпринимать», «ждать приезда следователя по особо важным делам», «выполнять инструкции, которые он привезет»? Да за кого они нас держат?
– М-да, – вздохнул его собеседник. – Крупное дело, сударь, оно, как тарелка варенья. Всякая муха так и норовит к нему приложиться.
Следователь вытаращил глаза. Он и раньше замечал, что сухарю Ленгле присуще своеобразное чувство юмора, но не ожидал, что товарищ прокурора рискнет высказаться столь прямо.
– Но… Клеменс Федорович! У нас в губернии есть свой следователь по важнейшим делам, если уж на то пошло… Почему Петербург? Зачем присылать к нам не понять кого? Возьмите меня или хотя бы вас: мы знаем в уезде всех помещиков, их семьи, знаем, кто на что горазд… А следователь из Петербурга, что он будет делать? И вообще это… Это вмешательство в нашу юрисдикцию, между прочим!
– О, я вижу, вы намерены сопротивляться, – усмехнулся товарищ прокурора. Он подошел к окну и, заложив руки за спину, смотрел на заснеженный двор. – Послушайте моего совета, Порошин: даже не пытайтесь. Я служу дольше вас, и на моей памяти это первый случай, когда человека присылают из Петербурга – а ведь, между прочим, у нас тут всякое бывало. Случались и преступления, по сравнению с которыми убийство студента – так, сущие пустяки, и, однако же, в столице никто по этому поводу даже не шелохнулся.
– Но ведь Колозин… – начал следователь, сбитый с толку.
– Знаю, – кивнул товарищ прокурора. – Я знаю все, что вы мне скажете: громкий процесс, громкое оправдание, благородный Снегирев, счастливый студент, чье имя узнала вся Россия. Но поймите: им там, в Петербурге, совершенно наплевать на такого, как Колозин, несмотря на всю его известность. – Ленгле круто повернулся, гипнотизируя следователя взглядом. – Ради какого-то студента они палец о палец не ударили бы, а между тем… а между тем проходит несколько часов, и нате вам: срочная телеграмма. Что там в первой строке – «ничего не предпринимать»? И что же это значит?
– Что, Клеменс Федорович?
– Мы чего-то не знаем, – медленно проговорил товарищ прокурора. – Что-то с этим делом не так, милостивый государь. Обычная уголовщина должна расследоваться обычным порядком, а тут… – Он удрученно покачал головой. – И ведь это не первая странность, которая имела место в последнее время.
– Вы хотите сказать… – нерешительно начал Порошин, мучительно пытаясь сообразить, куда клонит его собеседник.
– Да, я говорю о странном помиловании Федора Меркулова, – сказал Ленгле, стряхивая с обшлага какую-то крошечную ниточку. – Простите меня, но Сахалин – вовсе не то место, откуда возвращают через столь короткий срок. Если Меркулова собирались помиловать, то могли бы сослать его куда-нибудь поближе. – Товарищ прокурора прищурился. – Интересно, он сам хотя бы понимает, насколько ему повезло?
Глава 18 Пассажир первого класса
– Многие люди, – сказал Павел Антонович, – искренне считают, история – это нечто чрезвычайно далекое и не имеющее к ним самим никакого отношения. Так вот, они в корне не правы. История – это всегда вчера. История – это то, из чего вышел сегодняшний день.
Тут ему пришлось прерваться, потому что в кабинет заглянула Лидочка. Не будь хозяин дома так увлечен своим предметом, он бы сразу же заметил, что Джонатан Бэрли мгновенно повернул голову в ее сторону, хотя незадолго до того, когда в комнату заходила старшая дочь хозяина дома, он даже не шелохнулся.
– Э… случилось что-нибудь еще? – с некоторым смущением осведомился Павел Антонович.
– Приехала эта дама, госпожа Тихомирова, – сказала Лидочка. – И не одна, а с целым ворохом сплетен.
Снегирев с минуты на минуту ждал визита следователя Порошина, с которым придется тратить время на малоприятное объяснение о том, почему Колозин был убит вскоре после того, как приехал к нему в гости. Павел Антонович не имел ни малейшего представления о том, зачем студент ночью покинул дом, куда он ушел и кто его прикончил, но Снегирев понимал, что в качестве хозяина ему придется отвечать на множество вопросов, без которых, по правде говоря, он бы прекраснейшим образом обошелся. Все, что случилось, казалось ему настолько диким, что даже сейчас он до конца не верил, что оно произошло на самом деле.
– У меня нет сейчас возможности поговорить с Любовью Сергеевной, – довольно сухо промолвил Павел Антонович. – Пусть Наденька извинится перед ней и объяснит, что я занят.
– Любовь Сергеевна говорит, что из Петербурга приедет какой-то очень важный следователь, – произнесла Лидочка тем очаровательным звонким голосом, какой бывает только у очень юных девушек. – Именно он будет расследовать убийство Колозина.
– Из Петербурга? – в изнеможении промолвил Павел Антонович.
Англичанин молчал и только переводил свои бес-цветные глаза с Лидочки на ее отца. По правде говоря, Бэрли не очень хорошо понимал, что происходит, но он чувствовал тревогу, разлитую в воздухе, и она ему не нравилась. Он не сомневался, что убийство Колозина – чудовищный случай, но что Снегиревы приличные люди и, само собой разумеется, не имеют к нему никакого отношения. Стало быть, им не о чем волноваться; однако они волновались, и гораздо больше, чем приличествует людям, которые не замешаны в преступлении.
– Наверное, имеется в виду следователь по особо важным делам, – пробормотал Павел Антонович, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Да, кажется, она так и сказала, – кивнула Лидочка, подумав. – Это я перепутала. И еще Любовь Сергеевна сказала, что тот отставной штабс-капитан и его жена ни при чем, они не могли… ну… убить Колозина.
– Я ничего не понимаю, – вздохнул Снегирев, опускаясь в кресло. И повторил, чеканя слоги: – Ни-че-го. Сашенька завтра должен был вернуться в Петербург вместе с Колозиным, а теперь…
Бэрли долго крепился, полагая, что истинному джентльмену не следует говорить ничего такого, что может поставить его собеседников в неудобное положение; но тут он все же не выдержал.
– Прошу прощения, сэр, если мой вопрос покажется вам странным, но… вас что-то беспокоит?
– Меня беспокоит, что мой гость был убит, – мрачно ответил Павел Антонович. – И я все время пытаюсь понять, не было ли вчера чего-то такого… чего-то, что пролило бы свет на его поведение… Потому что он даже не намекал на то, что собирается ночью куда-то идти. И в его поведении я не заметил ничего странного… Ничего, что хоть как-то объясняло бы то, что случилось потом.
– Между прочим, – задумчиво произнес Бэрли, косясь на Лидочку, – вчера я услышал слова мистера Колозина, которые показались мне… необычными. Я стоял под лестницей и курил. Мистер Колозин говорил с кем-то на верхней площадке, и если я правильно его понял… Он сказал, что знает, кто на самом деле убил Изотовых.
– Да, мы с сестрой тоже слышали эти слова, – Лидочка повела плечиком и сделалась еще очаровательнее. – Но он так говорил, чтобы набить себе цену. Ему ужасно хотелось казаться интереснее, чем он был.
– Почему вы так думаете? – с любопытством спросил Бэрли.
– Потому что, когда Наденька стала спрашивать у него, что он имеет в виду, он стал говорить всякие глупости, – сердито ответила Лидочка. – Что он знает, но ни за что не скажет, потому что не имеет права, и все в таком же духе. Вообще мне кажется… прости, папа, но он за ужином выпил больше, чем следует. По-моему, баронесса Корф тоже осталась не в восторге от его манер…
– По правде говоря, я не заметил, чтобы он много пил, – признался озадаченный Снегирев.
– Ну, не то чтобы много, но достаточно, чтобы… чтобы стать развязным и неприятным. – Павел Антонович нахмурился. – Папа, прости, я знаю, что ты его защищал и что он невиновен, но я просто говорю, какое у нас от него осталось впечатление.
– У нас? То есть не только у тебя?
– Ну, Наденьке он тоже не понравился, – протянула Лидочка. – И Федору Алексеевичу тоже. Федор Алексеевич так и сказал про него: «Мутный тип».
– Вам, кстати, стоит пообщаться с Федором Алексеевичем, – заметил Снегирев, обращаясь к Бэрли. – Полагаю, опыт человека, побывавшего в ссылке, может обогатить вашу книгу рядом интересных деталей.
– Вряд ли, – сухо ответил Бэрли. – Вчера я уже завел речь об этом с мистером Меркуловым, и он дал мне понять, что не собирается ни говорить о ссылке, ни вспоминать о ней.
Лидочка сжала губы, хотя ее так и распирало от смеха. Когда англичанин произносил последнюю фразу, он был на удивление похож на нахохлившегося филина. Кроме того, Лидочка краем уха слышала тот самый разговор и отлично помнила, что Федор, едва речь зашла о ссылке, потемнел лицом и категорически отказался служить материалом для книги, а когда собеседник стал настаивать, вспылил и просто-напросто послал англичанина к черту.
– Что ж, полагаю, это его право, – рассеянно промолвил Павел Антонович, – хотя с точки зрения науки…
Лидочка, не выдержав, фыркнула и поспешно закрыла руками рот. Она вся покраснела и смотрела на собеседников блестящими смеющимися глазами. От ее гибкой фигуры, лица и светлых волос исходило такое очарование, такая беззаботность, что у Снегирева не хватило духу сделать дочери замечание.
– Ну, раз уж кое-кого наука совсем не интересует, – сказал Павел Антонович, безуспешно пытаясь напустить на себя строгий вид, – то вот тебе задание. Иди к Любови Сергеевне и постарайся разузнать у нее побольше о том, что за следователь приезжает, как его зовут… э… женат он или нет, любит он собак или кошек… словом, все, понимаешь?
– Но она ничего не знает! – протянула Лидочка разочарованно. – Только то, что он очень важный и из Петербурга…
– Прекрасно, – заключил Павел Антонович, – тогда скажи ей, чтобы она непременно все разузнала… и пока не разузнает, пусть не возвращается обратно! – в порыве вдохновения добавил он.
Лидочка фыркнула, но тотчас посерьезнела и, опустив ресницы, чинно проследовала к выходу. Любой, кто мог наблюдать мистера Бэрли в этот момент, мог убедиться, что сходство с филином не прошло для него даром: по крайней мере, голова у него тоже могла поворачиваться почти на сто восемьдесят градусов, когда он провожал дочь хозяина тоскующим взором.
Узнав, чего от нее ожидает хозяин дома, Любовь Сергеевна объявила, что она приложит все усилия, чтобы удовлетворить любопытство своего кумира, и вообще, если Павлу Антоновичу нужна какая-нибудь помощь, она будет счастлива ее оказать. Попрощавшись с младшими Снегиревыми, она удалилась.
– Наконец-то мы от нее избавились, – проворчал Сашенька, когда шаги гостьи стихли за дверью. – Я думал, она уже никогда не уйдет!
Лидочка пожала плечами, устроилась в кресле возле окна и раскрыла книгу. Наденька села на диван и стала рассеянно гладить полосатую кошечку, которая скользнула к ней на колени. Часы пробили два. В комнату заглянула мать, и по кислому, как уксус, выражению ее лица старшие дети тотчас почувствовали, что она не в духе и не прочь закатить скандал.
– Эта особа уже уехала? – спросила мать тонким, злым голоском. – Очень хорошо! Не понимаю, о чем думают женщины, которые набиваются в гости к женатым мужчинам… изображают из себя преданных почитательниц, а сами готовы на бог весть что!
– Мама, не надо, – пробормотал Сашенька, испытывая мучительную неловкость.
Само собой, его замечание оказало действие, совершенно противоположное тому, на которое он рассчитывал.
– Чего не надо? – рассердилась мать. – Сколько я перевидала за свою жизнь таких, как Любовь Сергеевна… Все тише воды, ниже травы, «ах, Павел Антонович, вы такой гений»… А у самих на уме только одно! И еще это убийство, о котором наверняка будут писать все газеты… Боже мой, ведь я же говорила Павочке: зачем, ну зачем ты вмешиваешься? Как чувствовала, ничего хорошего из этого не получится…
– Конечно, ему не надо было вмешиваться, – сказал Сашенька сухо. – Чтобы невинного человека сослали за то, чего он не совершал…
– А его бы не сослали! – вскинулась мать. – Ведь не было никаких улик, вообще ничего не было… Одни подозрения. В наше время не признают виновным, когда нет ничего, кроме подозрений!
– Ничего вы, мама, не понимаете, – ответил сын сердито. – Когда происходит такое громкое убийство, полиции обязательно надо обвинить хоть кого-нибудь. Они не смогли поймать настоящего преступника, ну, и обвинили Колозина.
– Какой смысл сейчас говорить об этом? – с раздражением промолвила Наденька. – Колозин убит! А остановился он в нашем доме! Проблемы будут вовсе не у Колозина – как вы не понимаете, в самом деле, проблемы будут у всех нас!
Ее вспышка странным образом разрядила обстановку: мать почувствовала, что дочь в какой-то степени на ее стороне, но что она взвинчена, и поэтому сейчас не время и не место устраивать скандал.
– Мы ни в чем не виноваты, – упрямо проговорил Сашенька. – Мы его не убивали.
– Боюсь, что это нам еще придется доказать, – бросила Наденька с ожесточением. – Где ты был ночью, кстати?
– Как – где? Спал.
– А следователь спросит, один ли ты спал, и кто может подтвердить, что ты был у себя всю ночь. – Сашенька побагровел. – Понимаешь теперь, что будет?
– Вот об этом я и говорила, – удовлетворенно заметила мать. – А если бы Сашенька не привез его сюда, все было бы прекрасно.
– Получается, теперь я виноват? – вскинулся сын. – Так, что ли?
– Разве я обвиняю тебя в чем-нибудь? Конечно же, нет. – Мать вздохнула. – Просто все получилось так, что хуже не придумаешь. И еще этот англичанин, который будет думать о нас бог весть что…
– Я все-таки не могу понять, кто мог убить Колозина, – пробормотал Сашенька, пожимая плечами. – Если бы его застрелили вчерашняя эпилептичка или ее муж, которые вбили себе в голову, что он убийца… тогда никаких вопросов. Но если они ни при чем…
– Да, все очень странно, – кивнула мать, переставляя безделушки на этажерке и критически оглядывая ансамбль. – Я осмотрела его вещи, думала, найду в них что-нибудь, но он взял с собой совсем маленький чемоданчик, и там нет ничего интересного.
– Мама, – сказала Наденька после паузы, – вам не кажется, это уже чересчур?
– Ему все равно уже ничего не нужно, – парировала мать, пожимая плечами. Лидочка метнула на нее быстрый взгляд и снова углубилась в книгу. – И я ничего не брала, если ты об этом. Я проверила его вещи, осмотрела на всякий случай комнату, поговорила с прислугой – все без толку. Он просто зачем-то ночью вышел из дому и был убит. – Она прищурилась, испустив неприятный смешок. – Думаю, следователю, который будет расследовать это дело, придется нелегко… Очень нелегко!
Курьерский поезд – то есть экспресс, который прежде никогда здесь не останавливался – сбавил ход, подходя к станции. Лязгнули колеса, состав остановился, и через несколько мгновений дверь вагона первого класса распахнулась, пропуская хорошо одетого пассажира. Кондуктор помог ему вынести чемодан.
Как только пассажир сошел на перрон, дверь затворилась, и поезд, свистнув на прощание, тронулся с места. Он загрохотал, набирая ход, и через несколько минут скрылся за поворотом.
Незнакомец остался на перроне один. На вид ему можно было дать лет сорок или чуть больше того. Темные усы, умные глаза, но внешность в общем и целом не привлекающая внимания. Хмурясь, он оглядывал станцию, единственный фонарь, слабо светивший в сгущающихся сумерках, деревья, покрытые снегом. Вытащив часы, господин бросил взгляд на циферблат, но тут издали послышался звон колокольчика. К станции подкатили сани, запряженные тройкой лошадей, и оттуда вылез следователь Порошин.
– Однако, запаздываете, милостивый государь, – холодно заметил господин, беря свой чемодан. – Вам же прислали вторую телеграмму и предупредили, когда и куда именно я приеду.
Следователь хотел оправдываться, что впервые на его памяти курьерский останавливается на этой станции, но у приезжего господина было такое выражение лица, что у Порошина пропала всякая охота с ним объясняться.
– Распутица, Сергей Иванович… – «Вот черт, как же его фамилия? Забыл…»
– Сергей Васильевич, – сухо поправил следователь по особо важным делам, который приехал из Петербурга и обладал властью тормозить где угодно скорые поезда. Он забрался в сани, Порошин помог поставить туда чемодан и сел рядом со столичным гостем.
– Трогай! – крикнул следователь ямщику.
– А теперь, с вашего позволения, – сказал гость, – я хотел бы услышать в подробностях все, что вам известно об убийстве Колозина, а также то, что вам уже удалось установить в ходе следствия.
Порошин прокашлялся и рассказал, как сегодня утром Николай Одинцов нашел в саду окоченевший труп. От находки следователь перешел к результатам вскрытия, после чего поведал о вечере у Снегирева, описал всех, кто присутствовал на нем, а также незваных гостей, которые устроили скандал и угрожали жертве. Однако впоследствии проверка алиби выявила, что те, у кого был мотив разделаться со студентом, не имели такой возможности, а кроме них и подозревать-то было некого.
– Да, положение не из легких, – заметил гость из Петербурга. – Вот что: отвезите-ка меня к генеральше Меркуловой. Мне нужно поговорить с баронессой Корф.
– Но сейчас уже больше семи часов, а пока мы доедем…
– Будет неудобно тревожить баронессу в столь поздний час? – Сергей Васильевич усмехнулся. – Не извольте беспокоиться, милостивый государь. Скажите мне лучше вот что: раз вам известно, что тело Колозина переносили, почему вы не искали место преступления? Это раз. Два: почему вы не допросили Снегирева, его семью и прислугу? Почему не обыскали вещи студента?
– Потому что мы с Клеменсом Федоровичем получили телеграмму, которая запрещала нам что-либо предпринимать, – сухо ответил Порошин. – Нам было предписано дожидаться вас, так что, милостивый государь, если мы вас разочаровали, то вовсе не по своей вине.
– Ну, до разочарования пока далеко, – хмыкнул Сергей Васильевич. – Но работы нам предстоит немало, и если вы с Клеменсом Федоровичем полагаете, что меня прислали исключительно для того, чтобы я отнял у вас все лавры, то вы заблуждаетесь. – Порошин вспыхнул, но ничего не сказал. – Первое: надо будет опросить всех, кто присутствовал на ужине, всех, кто находился в доме Снегирева. Второе: надо найти место преступления. Третье: оружие. Каким бы дешевым ни был револьвер, из которого застрелили Колозина, он кому-то должен принадлежать. Четвертое: мы должны понять, почему студент был убит. В этой части вопросов пока больше всего. Можно строить какие угодно догадки, но, милостивый государь, мне нужны факты и только факты. Если мы не раскроем дело, причем в кратчайшие сроки, боюсь, это произведет на общество гнетущее впечатление. Кое-кто уже начал распускать слухи, что убийство Колозина – будто бы месть полиции за то, что его оправдали, а следователя, который вел его дело, уволили с треском. – Порошин нахмурился. – Мы-то с вами знаем, что разговоры о мести – сущий вздор, но видите ли, в чем дело: в современном мире правда мало кого интересует, зато очень многих интересует, как бы ее истолковать и подать в своих целях. И даже если мы с вами завтра же найдем убийцу и предъявим оружие, из которого застрелили студента, некоторые газетчики все равно напишут, что подданные российского императора живут в стране возмутительного беззакония, все плохо и дальше будет только хуже…
Сергей Васильевич говорил и говорил, а Порошин поймал себя на мысли, что его отношение к гостю из Петербурга коренным образом изменилось. Перед ним явно был жесткий, подкованный и чрезвычайно умный человек, не упускавший ни единой мелочи. И еще следователь подумал, что, кем бы ни был таинственный убийца Колозина, его песенка спета. Прибывший из Петербурга следователь по особо важным делам определенно знал свое дело, и знал его весьма хорошо.
Они завернули во двор генеральши Меркуловой, и сани остановились, не доехав несколько метров до крыльца. Сергей Васильевич вылез и вытащил свой чемодан.
– Мне пойти с вами? – спросил Порошин.
– Нет, не стоит, – ответил следователь по особо важным делам. – Завтра с утра мы примемся за дело, так что постарайтесь сегодня отдохнуть как следует. Я поговорю с этой дамой, а потом ее кучер отвезет меня.
– Что ж, тогда до завтра, – сказал Порошин.
Кивнув ему на прощание, Сергей Васильевич взбежал на крыльцо и постучал в дверь. Ему открыла горничная, а когда он снимал пальто, вниз спустилась мать Амалии.
– Госпожа баронесса дома? – осведомился гость. – Сергей Васильевич Ломов, из Петербурга, следователь по особо важным делам. Мне необходимо с ней поговорить.
– Прошу вас следовать за мной, – сказала Аделаида. – Моя дочь вас ждет. Чемодан можете оставить здесь.
И через несколько секунд следователь оказался в гостиной, где на стенах висели кавказские шашки, а в очаге полыхал огонь. Баронесса Корф в платье цвета спелой вишни поднялась из кресла навстречу гостю и сделала матери едва заметный знак. Кивнув, Аделаида вышла и тщательно прикрыла за собой дверь.
– Добрый вечер, Сергей Васильевич, – сказала Амалия.
– Возможно, что добрый, – отозвался гость из Петербурга, изучающе глядя на свою собеседницу. – А возможно, и наоборот.
– Что вы хотите этим сказать? – спросила баронесса, нахмурившись.
Сергей Васильевич вздохнул.
– Скажите, Амалия Константиновна, – вкрадчиво промолвил он, – за что вы убили Дмитрия Колозина?
Глава 19 Двое у камина
Баронесса фон Корф замерла на месте, не сводя пристального взора со своего собеседника. Затем ее глаза блеснули, а губы раздвинулись в легкой улыбке.
– Может быть, Сергей Васильевич, вы хотите присесть? – спросила она, жестом указывая на одно из стоявших в гостиной кресел, обитых темно-синей тканью.
– Благодарю вас, сударыня, – ответил следователь, – но я могу и постоять. Итак: это вы убили Колозина?
– С какой стати мне его убивать? – с неудовольствием спросила баронесса Корф.
– Ну, например, с такой, что человек ни с того ни с сего вышел ночью из дома. Куда он мог пойти в такой час в незнакомой местности? Только к лицу, которое способно… э… внушить желание к такому приключению. При всем моем уважении, – добавил Сергей Васильевич, отвешивая галантный и вместе с тем весьма иронический поклон, – я никак не могу вообразить, чтобы этим лицом оказались Евгения Михайловна Одинцова или, к примеру, Анна Тимофеевна Меркулова.
– Вы бредите, милостивый государь, – холодно сказала баронесса.
– Ну, до этого еще не дошло, – жизнерадостно ответил Ломов, садясь в кресло. Он завладел кочергой, словно был у себя дома, и без всяких церемоний принялся ворошить поленья в горящем очаге. – Кроме того, преступнику хватило одной пули, чтобы прикончить студента, у убийства нет ни единого свидетеля, труп обнаружен вдалеке от места преступления… Что, госпожа баронесса, вполне в вашем духе. Поэтому я отбрасываю всякие околичности и прямо спрашиваю вас, сударыня: это ваших рук дело?
– Нет.
– То есть вы не поэтому прислали нам телеграмму?
– Нет. Я послала телеграмму, чтобы расследование убийства не повлияло на порученное мне задание.
Странный следователь несколько мгновений буравил свою собеседницу недоверчивым взглядом, но Амалия казалась спокойна, как никогда, и только уголок ее рта опустился, обозначая не то разочарование, не то какое-то схожее с ним чувство.
– Досадно, – вздохнул Ломов, возвращая на место кочергу. Амалия села в кресло, глядя на своего собеседника без всякой симпатии. – Я это к тому, что, если бы вам по каким-то причинам понадобилось прикончить студента, мы бы, конечно, закрыли на это глаза. А теперь…
– У меня не было никаких причин, – сказала Амалия голосом, который даже зазвенел от неприязни. – И я его не убивала.
– Тогда кто его убил? Вы ведь были на том самом ужине в доме Снегирева, где произвели на присутствующих… гхм… прямо скажем, неизгладимое впечатление. Мог ли, по-вашему, кто-то из гостей иметь на Колозина зуб?
– Давайте посмотрим, – легко согласилась Амалия. – Итак, на ужине были я и дядя Казимир – но мы сразу отпадаем. Доктор Волин уехал вместе с незваной гостьей, у которой произошел эпилептический припадок, и ее мужем. Медсестра Ольга Попова… тут она называет себя фамилией матери – Квят – уехала примерно с середины вечера.
– Так это та самая Попова?.. – начал Сергей Васильевич.
– Да, та самая. Лично у меня ни доктор, ни медсестра не вызывают никаких подозрений. Кто дальше? Снегирев, его жена Елена Владимировна, их дети… – Амалия задумалась, потом решительно покачала головой, – нет, нет и еще раз нет. Фабрикант Селиванов и его супруга… Для них Колозин вообще ничего не значил, по-моему. Нинель Баженова, хваткая дама, которая рассуждает о свободе и втайне через посредников дает деньги в рост… Мне, честно говоря, надо сделать нешуточное усилие, чтобы вообразить, как она ночью с револьвером охотится за студентом. Англичанин, мистер Бэрли…
– Кстати, о Бэрли, – перебил ее Сергей Васильевич, – как продвигается ваше дело?
Амалия вздохнула.
– Мистер Бэрли, – объявила она, – увлекся Лидочкой Снегиревой.
– О! – только и мог вымолвить пораженный Ломов. – А вы…
– Боюсь, я его не интересую. Так сказать, не в его вкусе.
– В таком случае, – задумчиво уронил Ломов, – он просто осел. Кстати, почему вы решили, что вы не в его вкусе? Ведь он только что приехал…
– Так считает мой дядя.
– Ну, если ваш дядя, тогда… И все же я не могу поверить, что вы не найдете… гм… способа изменить ситуацию.
– Вы, кажется, изволите шутить, – проворчала баронесса. Сергей Васильевич поторопился принять серьезный вид.
– Нет, я… Кхм! Собственно говоря, сударыня, ваша репутация прежде была такова, что вы изыскивали способы выполнить любое дело, которое вам поручали…
– Ну, пока еще ничего не окончено, – протянула Амалия, и ее тон и сверкнувшие золотом глаза заставили Ломова невольно насторожиться. – Я вхожа к ним в дом, Павел Антонович весьма со мной любезен… Впрочем, мы, кажется, обсуждали, кто из гостей показался мне подозрительным?
– Именно так.
– Ну, мистера Бэрли можно сразу же вычерк-нуть, – решительно сказала Амалия. – Он приехал незадолго до Колозина и совсем ничего о нем не знал. Кто еще был на вечере… Николай и Евгения Одинцовы? – Она нахмурилась. – Знаете, Сергей Васильевич, вот с Николаем Одинцовым не все так гладко. Весь ужин он избегал встречаться с Колозиным взглядом, и на его лице появлялось скептическое выражение, когда тот говорил.
– Причина?
– Не знаю. Но я бы сказала, студент ему определенно был неприятен.
– А что насчет Федора Меркулова? – спросил Сергей Васильевич.
– Почему вы задали вопрос именно о нем?
– Потому что он военный и умеет обращаться с оружием, например. А еще, сударыня, он человек с клеймом.
– Вы, кажется, на меня в претензии за что-то, – заметила Амалия после паузы.
– И не только я, сударыня, но и наше начальство. Вы должны были договориться с Анной Тимофеевной о содействии нам взамен на частичное списание ее долга по имению, а в результате нам пришлось аннулировать весь долг и к тому же вернуть из ссылки ее сына.
– К сожалению, – довольно сухо промолвила Амалия, – она не соглашалась на другие условия, а время поджимало.
– Нет, – Ломов покачал головой. – Это вы ее надоумили, госпожа баронесса. Как человек, я не осуждаю вас: вам просто стало жаль эту обреченную старуху. Но как агент особой службы…
– Видите ли, Сергей Васильевич, в чем дело, – промолвила Амалия. – Нельзя заручиться чьей-то поддержкой, делая добро наполовину. Или целиком, или никак. Чтобы человек поверил вам, нужно снять с его шеи петлю, а не слегка ее ослабить. Я ясно выражаюсь?
– Только не надо подводить аморальные принципы под свое доброе сердце, сударыня, – усмехнулся Ломов. – У вас это плохо получается.
Несколько мгновений, показавшихся бесконечными, два агента особой службы поедали друг друга глазами. В камине треснуло полено и рассыпалось снопом искр.
– На вечере Федор Меркулов едва обращал внимание на Колозина, – наконец промолвила Амалия тяжелым голосом. – Он был просто счастлив чувствовать себя в знакомой обстановке, среди людей, большинство из которых он знает с детства – хотя раньше, возможно, многие из этих людей его раздражали. Я отвечаю за свои слова: у него не было никакой причины убивать студента. То же самое относится и к его матери.
– Кажется, мы обсудили всех гостей, – заметил Сергей Васильевич. – Хотя нет: осталась Любовь Сергеевна Тихомирова. Что насчет нее?
– Она влюблена в Снегирева, – ответила Амалия, подумав. – С идейной стороны, если можно так выразиться. Это, впрочем, не означает, что его жене не следует быть начеку: у некоторых дам увлечение идеями очень быстро заканчивается постелью с их автором. Для нее Дмитрий Колозин был живым свидетельством торжества ее обожаемого Снегирева над косной системой, и, разумеется, она ни за что не причинила бы ему вреда.
– Мгм, – буркнул Сергей Васильевич, потирая усы, – получается, все чистенькие, ни у кого никаких мотивов… кроме Одинцова, который слушал жертву со скептическим лицом… Но если бы Одинцов по каким-то причинам и убил бы Колозина, то надо быть последним идиотом, чтобы тащить труп в свой собственный сад. – Он нахмурился. – А не могли ли студента просто-напросто принять за грабителя? Убили, испугались и увезли подальше?
– Надо понять, куда Колозин выходил ночью, – сказала Амалия. – Тогда, я думаю, станет ясно, кто его убил.
– Я тут расспросил местного следователя, – сказал Ломов. – Когда тело обнаружили, нигде поблизости не было фонаря. Что-то я сомневаюсь, что студент вышел ночью из дома с пустыми руками. Надо выяснить, какой фонарь он захватил с собой, и искать его. Либо его забрал убийца, либо он до сих пор валяется на месте преступления. – Он сделал крохотную паузу. – Скажите, Амалия Константиновна, я могу рассчитывать на вас?
– Разумеется, Сергей Васильевич. Ваша легенда следователя по особо важным делам вполне надежна?
– Легенда? – изумился собеседник баронессы. – Сударыня, все мои бумаги в полном порядке. Лет десять назад мне по поручению… Впрочем, вам об этом знать совершенно не обязательно… Словом, тогда же родился следователь Ломов, который колесил по империи, работал то там, то сям… а совсем недавно его произвели в следователи по особо важным делам и направили сюда. Я должен разобраться с убийством Колозина и сделать так, чтобы расследование никоим образом не помешало вашей миссии. И можете не сомневаться, госпожа баронесса: я сделаю все, чтобы выполнить данное мне поручение.
Глава 20 Особое поручение
Пока Ломов и Амалия в гостиной дома генеральши обсуждают местных жителей, погоду, дороги, уездное и земское начальство, я предлагаю моему читателю перенестись в город на Неве в последний месяц лета, чтобы узнать, какое именно задание поручили баронессе Корф и почему ее начальство придавало ему такую важность.
Однажды Сергей Васильевич Ломов, о котором вы, надеюсь, уже успели составить некоторое представление, получил вызов к своему начальнику, генералу Багратионову. По правде говоря, Сергей Васильевич счел, что ему поручат какое-нибудь дело, которое было бы нелишним, потому что он уже несколько месяцев маялся от скуки и не знал, чем себя занять. Ломов вовсе не просил от судьбы многого, боже упаси! Если бы его послали кого-нибудь убить, выкрасть из-за границы какого-нибудь опасного типа и доставить его в Россию или просто подстраховать коллегу-агента, занятого на сложном задании, его честолюбию этого оказалось бы вполне достаточно.
Итак, Ломов явился к генералу Багратионову и, к своему неудовольствию, услышал, что начальник позвал его лишь для того, чтобы с ним посоветоваться. Если и было на свете что-то, что Сергей Васильевич ненавидел всеми фибрами своей души, то это были советы, причем он терпеть не мог как давать их, так и получать. Когда у Ломова пытались спросить совета, он обычно ограничивался краткой и энергичной рекомендацией избавиться от того или от той, которая по каким-то причинам мешала его собеседнику жить. Но хотя все, решительно все, кто имел дело с Сергеем Васильевичем, знали, что от него не дождешься ничего, кроме безапелляционного «да замочи ты его(ее) и ни о чем не беспокойся», у него все равно продолжали спрашивать совета по поводу самых безнадежных ситуаций, над которыми веками бились лучшие умы человечества и так и не смогли их разрешить – к примеру, что делать, если жена загуляла, если норовит загрызть теща или если начальство делает все, чтобы отравить вам жизнь.
– Я бы хотел, – сказал генерал Багратионов, – обсудить с вами одного из наших агентов. Принимая во внимание ваш опыт, Сергей Васильевич, а также тот факт, что данный агент неплохо вам известен…
По правде говоря, тут Ломов насторожился, и очень сильно насторожился. В голове у него быстрее молнии промелькнул десяток вариантов, один хуже другого – к примеру, генерал подозревает кого-то из своих людей в измене, и Ломову поручат проверить, так это или нет, причем в случае утвердительного ответа ему же и придется предателя ликвидировать. Сергей Васильевич считал свою службу военной, а на войне нет ничего особенного в том, что вы убиваете врага; но в том, что вы убиваете своего, оказавшегося врагом, все же нет ничего хорошего.
– Могу ли я узнать, о ком именно идет речь? – с неудовольствием спросил он.
– Это дама, – ответил генерал, – и она один из самых ценных наших агентов. Проще говоря, это баронесса Корф.
Тут, признаться, Ломов прикипел к месту. Он не слишком жаловал женщин, подвизающихся в особой службе, но к Амалии Корф все же относился лучше, чем к прочим, и то, что ее в чем-то подозревали, произвело на него самое удручающее впечатление. А генерал меж тем продолжал:
– Все дело в том, что я собираюсь поручить баронессе одну весьма, гм, щекотливую миссию… которая требует, так сказать, известной доли патриотизма… Как, по-вашему, баронесса Корф – патриотка?
С точки зрения Ломова, проверять патриотизм человека имело смысл только до того, как его принимали на особую службу, потому что после этого задаваться вопросом о том, является ли твой агент патриотом, было верхом нелепости. Но, понимая, что от него ждут другой реакции, Сергей Васильевич собрался с духом и промычал нечто, что можно было истолковать как утвердительный ответ.
– То есть, по-вашему, она наш, русский человек, – подытожил генерал, – несмотря на польскую родню с немецкими корнями.
– Ну конечно же, Амалия Константиновна – русский человек! – обиделся Ломов. – Слопает с костями и даже не поморщится…
Как видим, не только Павел Антонович Снегирев размышлял об особенностях русского характера, хотя мысли агента Ломова по тому же предмету носили исключительно прикладной характер и вряд ли претендовали на то, чтобы быть изложенными в печатном виде.
– Пожалуй, поскольку мы с вами давно знаем друг друга, я могу открыть вам причины своего затруднения, – промолвил генерал, вперяя в собеседника пронизывающий взор. – Хотя баронесса Корф – одна из самых красивых женщин, каких я знаю, наша служба почти никогда не использовала ее внешние данные в интересах дела. Ну, вы понимаете, Сергей Васильевич… Когда требуется произвести на кого-то благоприятное впечатление… на мужчину, занимающего высокий пост, например…
Тут, честно говоря, Ломов порядком удивился. Он-то считал, что дело обстояло с точностью до наоборот и что Амалия без зазрения совести использовала свою красоту и обаяние, просто умело это скрывала. А Багратионов меж тем продолжал:
– Но так как сейчас наступил момент, когда мы не можем обойтись без… Словом, без женского влияния, мне придется дать баронессе поручение. И у меня есть основания думать, что оно ей не понравится.
– Ну, – пробасил Ломов, – тогда вы сможете ее уволить.
Он с интересом стал ждать, что ему ответят.
– Это исключено, – промолвил Багратионов стальным голосом. – Я согласен, у Амалии Константиновны есть свои причуды и с ней не всегда легко иметь дело, но как агент она совершенно незаменима. Я расспрашивал вас о том, считаете ли вы ее патриоткой, чтобы понять, можно ли воздействовать на нее в этом направлении, если она… гм… захочет отказаться.
«А она наверняка захочет, – мелькнуло в голове у Ломова. – Ой, до чего же скверно! Там, где сомнения начинаются еще до дела, обычно все заканчивается только одним: провалом…»
– Ваше превосходительство, – промолвил он вслух, – я правильно понимаю, на самом деле вы вызвали меня не для того, чтобы посоветоваться со мной, а для того, чтобы я в случае чего повлиял на баронессу Корф?
– Полагаю, – задумчиво ответил генерал, – это может оказаться нелишним.
– В таком случае, – заметил Ломов, – я хотел бы уяснить себе суть дела. Кого именно баронессе предстоит охмурить: короля, посла, министра?
Услышав слово «охмурить», Багратионов насупился, но у Ломова был такой безмятежный вид, что генерал решил не заострять внимания на неуместном простонародном выражении.
– К сожалению, все гораздо сложнее, – ответил Багратионов на вопрос Сергея Васильевича. – Если все сложится так, как мы думаем, и этот господин приедет осенью в Россию… Он всего лишь историк и исследователь. И он собирается написать книгу о нашей стране.
Тут, признаться, Сергей Васильевич попытался представить себе лицо баронессы, когда она узнает, что ей достался не принц и не король, а всего лишь обычный историк, но тут его воображение с позором капитулировало, и он успел лишь смутно подумать, что последствия могут быть… ну да, непредсказуемыми.
– И Амалия Константиновна… – решил он все же расставить точки над «ё».
– Баронесса Корф должна будет повлиять на него таким образом, чтобы он сподобился написать о нашей стране если не хвалебную, то, по крайней мере, приличную по тону книжку. К мнению этого олуха за границей весьма и весьма прислушиваются… и положительный отзыв, исходящий от данного лица, нам вовсе не повредит.
– Теперь я понимаю, почему вы упомянули о патриотизме, – вздохнул Сергей Васильевич. – Без любви к отечеству браться за такое дело будет сложновато.
Но генерал Багратионов умел распознавать иронию, даже если она скрывалась за самой невинной интонацией, и свирепо сверкнул на подчиненного глазами.
– Можете быть уверены, Сергей Васильевич, я и сам не в восторге оттого, что так получилось, – сухо промолвил генерал. – Однако книги мистера Бэрли читают в Букингемском дворце, и поэтому с ним вынуждены считаться и в Зимнем. Нас бы вполне устроило, если бы он ничего не писал о России, но так как он не собирается отказываться от своего намерения, пусть хотя бы он напишет о нашей стране то, что нам не стыдно будет прочесть.
– Ну, я, к примеру, все равно не читаю то, что пишут о России люди, которые тут никогда не бывали, – проворчал Ломов. – Одной книжкой больше, одной книжкой меньше – какая разница? И потом, как бы ни обстояли дела, все равно о нас ничего хорошего не напишут. – Он поморщился. – Почему бы просто не заплатить Бэрли денег вместо того, чтобы утруждать баронессу Корф?
– Он не возьмет, – покачал головой Багратионов. – Пару лет назад он выпустил книгу о Румынском королевстве, и тогда ему предлагали деньги, чтобы он смягчил кое-какие выражения, а когда он отказался, даже пригрозили его убить. Но ни деньги, ни угрозы действия на него не оказали. Значит, надо пойти другим путем. Если баронесса Корф сумеет на него повлиять, то… Вы же сами понимаете, влюбленный человек с легкостью принимает на веру то, что ему говорит любимая женщина…
– Ну, если бы я был влюблен, меня бы насторожило, что моя любовница пытается меня учить, что я должен думать о русской истории, например, – хмыкнул Ломов. Он был раздосадован и даже не пытался этого скрыть. – А как баронесса сумеет втереться к нему в доверие? Как бы случайно познакомится с ним на приеме в Петербурге?
– Нет, Бэрли будет жить не в Петербурге, а в имении своего знакомого, – ответил Багратионов, беря со стола лист, исписанный крупным почерком. – В этом-то как раз и загвоздка. Впрочем, я просмотрел список тех, кто живет по соседству, и у меня зародился один план…
Глава 21 Красное и белое
Федор Меркулов вытащил из ящика стола револьвер, крутанул барабан, откинул его и, убедившись, что он пуст, тщательно зарядил его. Потом некоторое время посидел за столом, почти не чувствуя в ладони тяжести оружия.
В той ужасной, невыносимой ситуации, в которой он оказался, он видел только один выход: застрелиться. Тогда Селиванов уже не сможет шантажировать его и требовать, чтобы он отдал имение за бесценок. Но Федор думал не только о Селиванове, но и о своей матери. Каково ей будет, когда она потеряет своего последнего сына?
Значит, стреляться нельзя. Что же тогда? Отдать все этому гнусному кровопийце и пойти по миру? Две тысячи рублей только с виду кажутся деньгами, на которые можно прожить; таким людям, как он и Анна Тимофеевна, их хватит ненадолго. И что подумает о нем мать, когда узнает, что он…
У него закололо в виске, он встряхнул головой и понял, ему в любом случае не хочется стреляться здесь, во флигеле собственного дома. В самом доме, под портретами предков – еще куда ни шло. Но путь в дом был закрыт, потому что там царствовала неприятная ему баронесса Корф – интриганка, от которой лично он не ожидал ничего хорошего.
Услышав в коридоре шаги матери, он сунул в карман халата револьвер, быстро взял газету и сделал вид, что читает, но так нервничал, что не сразу заметил, что держит лист вверх ногами.
Анна Тимофеевна произнесла несколько фраз о том, что вечером приезжал следователь по особо важным делам из Петербурга, он долго беседовал с баронессой, потом заночевал в доме, а утром уехал. Федор вяло отвечал. Он думал о том, что, когда он умрет, мать будет вспоминать именно эти последние их встречи, со слезами перебирать в памяти все слова, которые он сейчас произносит, и у него было такое чувство, что его душа рвется пополам.
Они позавтракали, потом мать заметила, что у халата одна из пуговиц держится на честном слове, и, как Федор ни протестовал, халат у него отняла. Когда она вернула ему халат, Меркулов вспомнил о револьвере и испугался, решив, что мать догадалась о его намерении. Но револьвер по-прежнему лежал в кармане, Анна Тимофеевна не обратила на него никакого внимания.
День был холодный, ясный, безветренный, и Федор подумал, что если он умрет, то ничего не переменится: солнце будет светить точно так же, и по двору будут бегать маленькие сыновья кучера, швыряя друг в друга снежками. Внезапно ему все опротивело: он быстро оделся, забрал с собой револьвер и зашагал куда глаза глядят.
Едва он вышел за ворота, как увидел роскошный экипаж доктора Брусницкого. Кучер придержал коней, и Федору волей-неволей пришлось поздороваться со старым врачом.
– Слышали о новом следователе? – спросил доктор после обмена приветствиями. – Нагрянул утром к Снегиревым, забрал вещи студента, осмотрел дом от подвала до чердака, велел прислуге искать какой-то фонарь, которого нет на месте… и добился-таки того, что нашли, одного фонаря не хватает. У Елены Владимировны сделалась жуткая мигрень, я еду сейчас к ней… Если вы к ним, могу вас подвезти.
Федору очень хотелось послать к черту и Брусницкого, и госпожу Снегиреву, и вообще весь свет, который никак не хотел оставить его в покое. По правде говоря, старому доктору бывший ссыльный был интересен только как собеседник, с которым можно было обсудить свежие новости. Этот петербургский следователь – о-го-го, местным он еще покажет! Бодр, резв, энергичен, всюду сует свой нос, всех, кто не хотел с ним разговаривать, поставил на место… И не успел Меркулов опомниться, как уже оказался в экипаже и время от времени даже подавал Брусницкому односложные реплики.
– Сын Снегирева хотел сегодня вернуться в Петербург, так следователь сказал, что не отпускает его, а если тот ослушается, даст телеграмму, чтобы его сняли с поезда и арестовали… Пока, говорит, убийца не найден, вы отсюда не уедете.
– Неужели?
– Да-с, представьте себе… – Брусницкий ухмыльнулся неожиданно озорной усмешкой. – Мало того, следователь затребовал отчет обо всем оружии, какое имеется в доме.
– Да ведь у них ничего нет, – буркнул Федор. – Ну, ружья охотничьи, но Павел Антонович уже давно на охоту не ходит…
– А у Елены Владимировны, представьте себе, нашелся револьвер, – ответил старый доктор, смакуя каждое слово. – Она сказала, что когда-то купила его, потому что они с мужем были в каком-то итальянском городе, и их там пытались ограбить на улице.
– И что, Колозина убили из этого револьвера? – спросил Федор, колюче прищурившись.
Брусницкий расхохотался.
– Какое там! Следователь осмотрел его, обнюхал и объявил, что из него вообще никогда в жизни не стреляли… Вот после этого Елена Владимировна и слегла с мигренью.
Федор представил себе лицо жены Снегирева в то время, как ее допрашивал петербургский следователь, представил, как тот грозно требует объяснений насчет револьвера, а Елена Владимировна лепечет своим тоненьким голоском всякие нелепые отговорки, и не мог удержаться от улыбки. Однако почти сразу же его охватила грусть. Он подумал о том, что умрет и никогда уже не увидит чудака Снегирева, хорошего, в сущности, человека, светлое платье его жены, Наденьку, словно проглотившую аршин, Лидочку с ее воздушной прелестью… Доктор Брусницкий метнул взгляд на лицо Федора, обращенное к нему в профиль, и невольно встревожился. Такое же выражение – словно человек присутствовал здесь лишь номинально, а на самом деле находился как бы где-то в другом месте – он уже однажды видел, и ничего хорошего в этом воспоминании не было. Переворошив пласты памяти, Яков Исидорович добрался до истоков того, что его насторожило: ведь почти так же выглядело лицо бывшего однокурсника, которого он видел за полдня до того, как тот свел счеты с жизнью. «Что это на него нашло? – с беспокойством подумал старый врач. Он не слишком жаловал людей, но Федор Меркулов был ему скорее симпатичен. – Помилование получил, приехал из ссылки… Неужели из-за того, что его в армию уже не возьмут? О матери бы хоть подумал, негодник…»
Едва Федор вошел в дом Снегиревых и снял шинель, он понял, что усадьба стоит на месте, и все кажется таким же, как было, но уют, который царил тут когда-то, потерпел крушение. Дом может рухнуть снаружи или изнутри, как здание или как общность людей; здесь, очевидно, налицо был второй случай. Прислуга шныряла по коридорам с виноватыми глазами, где-то что-то разбили, и чей-то резкий голос стал отчитывать провинившуюся, взлетая порой до визга. Потом хлопнула дверь, послышались торопливые шаги, и, обернувшись, Федор нос к носу столкнулся с Наденькой. Она была красной, как мак, и ее прическа, которую она обычно укладывала очень тщательно, волосок к волоску, немного растрепалась.
– Яков Сидорович, наконец-то! – воскликнула она, завидев врача. – Здравствуйте, Федор Алексеевич… Вы, наверное, к Сашеньке? Он так и не уехал… Его не отпустили… Бог знает что у нас тут творится! Прошу приготовить для мамы простейшее лекарство – сначала ничего не делают, потом разбивают стакан…
– Все наладится, Надежда Павловна, – сказал Федор серьезно.
Но тут к ним подошла Лидочка, и он сразу же забыл о старшей сестре.
– Федор Алексеевич! – воскликнула девушка. – Как хорошо, что вы здесь… А то нам страшно!
– Глупостей не говори, – резко бросила Наденька. – Чего нам бояться?
– Ну так Колозин, наверное, тоже ничего не боялся, – простодушно парировала Лидочка, – а что с ним стало…
Видя, что Наденька готова вспылить, доктор Брусницкий вмешался и попросил проводить его к больной. Когда он ушел в сопровождении старшей сестры, Лидочка исподлобья покосилась на Федора.
– Наверное, не стоило мне так говорить, да? Нехорошо получилось…
Федор и сам не заметил, как у него вырвалось:
– Из-за этого Колозина столько неприятностей!
Лидочка удивленно посмотрела на него, ее светлые глаза заблестели.
– Вот! Вы говорите точь-в-точь как мама… Ой! Вы ведь не сердитесь, правда? Ну скажите, что вы не сердитесь!
Федор, улыбаясь, заверил ее, что он ничуть не рассержен тем, что его сравнили с Еленой Владимировной, скорее даже наоборот… Лидочка засмеялась, а потом спросила его, правда ли, что на Сахалине водятся киты.
– Правда, – ответил Федор.
– И вы их видели?
– Видел.
– А я не видела, – сказала Лидочка, глядя на него блестящими, оживленными, мечтательными глазами. – Так, наверное, и проживу всю жизнь, не увидев ни одного кита.
– Откуда же вы узнали про китов на Сахалине? – произнес приятный женский голос, и Федор увидел, как к ним подходит баронесса Корф.
– Я читала книгу господина Чехова[144], – ответила Лидочка, порозовев и смутившись.
Амалия поглядела на нее с любопытством и раскрыла веер. Смутившись не менее, чем Лидочка, хоть и по совсем другой причине, Федор довольно неловко приветствовал баронессу и поцеловал ее узкую белую руку.
– Я и не знал, что вы будете здесь, сударыня, – сказал он.
– Боюсь, вчерашняя беседа с господином из Петербурга на меня плохо подействовала, – поморщилась Амалия. – Он учинил нам настоящий допрос и так напугал моего дядюшку, что бедняга слег в постель. По-моему, следователь считает, что вечер у Снегирева и убийство Колозина как-то связаны между собой. И ему ужасно не понравилось, что я не могла вспомнить ни одного человека, который во время ужина пообещал бы Колозину застрелить его, если тот вдруг пойдет ночью прогуляться.
– О, я знаю! – оживилась Лидочка. – Мотив и подозреваемый! А еще должна быть… как это… возможность, да!
– Но что же мы тут стоим? – спохватилась Амалия, складывая веер. – Может быть, пройдем в гостиную?
– А мне известно, почему убили Колозина, – объявила Лидочка. – Потому что он знал, кто настоящий убийца.
– Ничего не поняла, – призналась Амалия после паузы.
– Он сказал, что знает, кто убил ту семью. Ну, тех… Изотовых, да? – в убийстве которых его обвинили.
– И что? – спросил Меркулов.
– Ну как же, Федор Алексеевич! Колозина услышали… Настоящий убийца услышал и испугался… И принял меры.
– Хотите сказать, настоящий убийца был в вашем доме? – недоверчиво спросила Амалия.
– Глупости какие-то, – проворчал Федор.
– С одной стороны, да, – сказала Амалия. – А с другой – Колозина ведь оправдали, но настоящего убийцу так и не нашли. Так что, Лидочка, придется вам сейчас рассказать все, что вы знаете. Кстати, а почему вы не сказали об этом следователю из Петербурга?
– Он меня почти ни о чем не спрашивал! – сердито воскликнула Лидочка. – По-моему, он меня вообще всерьез не воспринимает…
– Как некрасиво с его стороны! – вздохнула Амалия. – Но, Лидочка, если вам что-то известно о преступлении, вы должны будете ему сказать. Иначе тот, кто убил Колозина, может убить еще раз.
Летит птица-тройка по дороге, огибающей лес, и везет сани, в которых, прикрытый меховой полостью важно расположился фабрикант Селиванов. Эх, хорошо лег снег в этом году – ровно, чисто, быстро, всего за какие-то два дня. Воздух холодный, но не такой студеный, чтобы резать легкие, словно ледяным ножом, а холодный, как любимое мороженое…
– Карр! – ворона на сосне, серая, горбатая, с ободранным хвостом. Не ворона, а какая-то карикатура на ворону.
Куприян Степанович посмотрел на нее и невольно засмеялся, сверкая белыми зубами.
– Эх, ворона, ворона, проворонила ты свою жизнь, а у меня скоро будет новое имение, и когда дочка моя выйдет за…
Бах!
– Барин! – взвыл кучер. – Стреляют!
Бах!
Лошади взбесились, понесли, сани опрокинулись, полость оторвалась, Селиванова выбросило в снег. По раздробленной ноге у него текло что-то красное и липкое – кровь.
– А-а-а! – взвыл он, корчась на снегу.
Кучер, который тоже упал, поднялся на ноги, но тут увидел, как качнулись кусты неподалеку, роняя комья снега… Потом увидел какую-то темную фигуру с бородой, блеск двустволки, которую хладнокровно перезаряжали на ходу…
– Караул! Православные!
Всплеснув руками, кучер бросился бежать. Он петлял, как заяц, и пуще всего на свете боялся обернуться. Почему-то ему казалось, что, если он это сделает, ему выстрелят в спину.
Чувствуя, что смерть тут, совсем рядом, Селиванов собрал свою волю в кулак и пополз. Его шапка упала в снег, раненая нога причиняла страшную боль, но он все полз и полз, пока не почувствовал, как в щеку ему уткнулось теплое – после двух недавних выстрелов – дуло двустволки.
– Нет, – прошептал он, – нет, нет…
Два выстрела грянули одновременно, из обоих стволов. Селиванова отбросило в снег. Кровь и мозг окрасили белый наст.
Человек в черном тулупе вскинул двустволку на плечо и, бросив на дорогу быстрый взгляд, ушел туда же, откуда и пришел, – в лес, то самое место, откуда испокон веков являются лихие люди и демоны.
Глава 22 Тень и свет
В тот день доктору Волину оставалось принять еще десятка два больных, но все смешалось в земской больнице, когда неожиданно прибежала Феврония Никитична и заголосила:
– Фабриканта убили! Куприяна Степаныча… Ой, горе-то какое!
Фельдшер Худокормов, который привык первым приносить все известия, аж побурел лицом от зависти и, дабы избавиться от конкурентки, вслух выразил сомнение, что Феврония не знает, о чем говорит. Но тут двое мужиков привели шатающегося Данилу, кучера Селиванова. Когда он понял, что находится в безопасности, с ним сделалась форменная истерика, и доктору пришлось повозиться, чтобы привести его в чувство.
– Я-я-я это, зна-начится, еду… – бормотал Данила, заикаясь. – А тут: бах! Бах! Ло-лошади понесли… Я побежал… Потом слышу: бах! А п-потом ти… тишина…
– Вы видели, что ваш хозяин именно мертв, а не ранен? – спросил Волин. – Видели хотя бы, кто стрелял?
– Я только разочек оглянулся, когда добежал до холма! – простонал кучер. – Ведь он бы и меня… того… Тулуп у него был черный! Бородища, как у лешего! И ружье…
Он зарыдал, содрогаясь всем телом. Георгий Арсеньевич обернулся, ища взглядом Ольгу Ивановну.
– Он не пьян, – сказал доктор, хмурясь, – но его что-то сильно напугало… Знаете что, придется поехать туда и проверить, что с Селивановым…
– Я поеду, – сказала Ольга Ивановна просто.
– Если он действительно убит, не трогайте тело, – добавил доктор. – Пусть Порошин или этот… петербургский… разбираются.
– Они захотят вызвать вас, если убийство действительно имело место, – напомнила медсестра.
– Да, разумеется, в этом случае я приеду…
Однако новости обладают способностью распространяться с непостижимой быстротой, и не прошло и часа, как Любовь Сергеевна вкатилась в гостиную Снегиревых, экстатически вращая глазами, и объявила:
– Вы слышали? Куприян Степанович мертв… Убит!
Лидочка открыла рот, Федор застыл в изумлении, а пока Наденька искала, что можно сказать на столь сногсшибательное заявление, баронесса Корф спросила, прищурившись:
– В самом деле? И что же вам об этом известно?
– О, – с жаром вскричала почтенная дама, подсаживаясь к столу, – совсем немного!
После чего пустилась в подробные объяснения, и речь ее текла – по часам – шестнадцать с половиной минут. Она включала в себя описание лошадей Куприяна Степановича (ныне покойного), саней Куприяна Степановича (idem[145]), его кучера – непьющего, но трусоватого малого, привычек фабриканта, включая привычку ездить по дороге вдоль опушки леса, и, наконец, убийства, которое резюмировалось следующим образом: кто-то взял ружье и застрелил господина Селиванова, когда он в санях и с кучером мирно катил по данной дороге. Fin[146].
– И знаете, – добавила Тихомирова, – по правде говоря, меня совсем не удивит, если убийство Куприяна Степановича как-то связано с убийством господина Колозина!
– Нет, – вырвалось у Федора, – этого не может быть!
Он увидел устремленные на него золотые глаза Амалии и быстро поправился:
– Я хочу сказать, что общего может быть между таким, как Селиванов, и петербургским студентом?
– По правде говоря, – нерешительно заметила Наденька, – я не припомню, чтобы Куприян Степанович даже говорил с нашим гостем, во время ужина или после него.
– Странно, – разочарованно протянула Лидочка, – я тоже не помню, чтобы они общались…
– Здесь определенно какая-то тайна! – вскричала Любовь Сергеевна. – Ах, бедный Павел Антонович, как ему нелегко будет все это перенести!
– Вы, наверное, хотите сказать – бедная семья Селиванова, – негромко заметила Амалия, и хотя она была не по душе Меркулову, он почувствовал, что восхищен той твердостью, с которой она поставила настырную гостью на место.
Впрочем, тут выяснилось, что и экзальтированная поклонница Павла Антоновича в карман за словом не лезет.
– А что такого может быть с семьей Селиванова? – пожала она плечами. – Сейчас они – богатые наследники… Вот и все. Тем более что его жена вовсе не хотела за него выходить, она была влюблена в другого, но ее родители сочли, что он слишком много проигрывает в карты…
– Откуда вам все это известно? – спросила пораженная Наденька.
– Так мой покойный муж – ее дальний родственник, – ответила Любовь Сергеевна снисходительно. – Кстати, ему пришлось ее возвращать, когда она пыталась сбежать из-под венца. Но, поскольку Куприяна Степановича больше нет, теперь она без помех сможет выйти за того, о ком мечтала многие годы…
– Поразительно, – пробормотала Лидочка. – Я же видела ее… Мы все ее видели! Никогда бы не подумала, что она способна на такое… Она же всегда выглядела… Как пишут в романах, «буржуазно»…
– Ты еще скажи, будто она убила мужа, чтобы соединить свою жизнь с другим, – проворчала Наденька.
– Женщина вполне может убить, если решится, – серьезно сказал Федор. – На Сахалине я наслышался таких историй… Впрочем, наверное, это вам неинтересно…
– Вы правы: это нам неинтересно, – сухо сказала Наденька. – Нет ничего более омерзительного, чем уголовщина.
– Не всякое убийство – уголовщина, – заметила Амалия.
– С меня довольно того, что убийство есть убийство, – отрезала Наденька. – И оно всегда омерзительно. У Селиванова остались двое детей, у Колозина одна мать, он был ее единственный ребенок… Вы можете себе представить, каково ей приходится теперь? А мой отец, в доме которого Колозин ночевал перед тем, как его убили… Из-за этого папу теперь имеет право в любое время допрашивать мерзкий сыщик!
На глазах у нее выступили слезы, она всхлипнула и полезла за платком. Лидочка протянула руку и попыталась погладить сестру по плечу, но та отдернулась, сверкнув на нее глазами.
Скрипнула дверь, вошел Сашенька, и только тут Федор сообразил, что никто до сих пор не замечал отсутствия младшего Снегирева.
– Что случилось? – удивленно спросил молодой человек, оглядывая присутствующих. – Что-то с мамой?
– Нет, – ответила Лидочка. – Куприяна Степановича убили.
– Кто убил? – озадаченно спросил Сашенька, поправляя очки.
– Неизвестно, – Наденька скомкала платок. – Где ты был?
– Гулял. Господин Ломов не запретил же мне покидать дом…
– Мы все сидим как на иголках, а ты гуляешь? – сердито спросила старшая сестра.
Дело явно катилось к семейной ссоре, и, судя по взглядам, которыми молча обменивались Лидочка, Федор, баронесса Корф и даже Любовь Сергеевна, никому из них не хотелось на ней присутствовать.
– Мне надо было подумать, – спокойно ответил Сашенька.
Он стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, и хотя выражение его лица нельзя было назвать ни заносчивым, ни оскорбительным, ни дерзким, все же было в нем что-то такое, что провоцировало на конфликт.
– И до чего же ты додумался, позволь спросить? – едко спросила старшая сестра.
– Следователь Ломов вовсе не глуп, – сказал молодой человек. – Утром он осмотрел наш дом, чтобы убедиться, что Колозина убили не здесь, а в другом месте. Теперь он и его люди ищут, где именно произошло преступление. Это правильно, но, если бы я вел следствие, я бы стал прежде всего искать оружие.
– Как хорошо, что ты не следователь, – проговорила Наденька с иронией.
– Но револьверы есть у многих, – возразил Федор. – В чем смысл?..
– Ну мы же не в армии, Федор Алексеевич, – отозвался молодой человек, косясь на красивую баронессу Корф и отмечая, что она на редкость внимательно его слушает. – Мы находимся в сельской местности, народ тут привычный к ружьям, но никак не к револьверам. Револьвер – оружие городское… и военное тоже. Вот у вас, Федор Алексеевич, он есть?
– Нет, – солгал его собеседник.
– А у вас, Любовь Сергеевна?
– Зачем он мне? Боже упаси! – Любовь Сергеевна повела плечами, и ее пышный бюст заколыхался волнами. – Я до ужаса боюсь всего, что стреляет.
– А у вас, баронесса, есть револьвер?
– Нет, – спокойно ответила Амалия, хотя на самом деле предпочитала не расставаться с оружием, которое, впрочем, тщательно скрывала.
– Вот видите! – удовлетворенно заметил Сашенька. – Между прочим, во всей нашей семье револьвер нашелся только у маменьки, и то она никогда из него не стреляла. Надо искать того, у кого было оружие. Уверен, когда найдется оружие, найдется и мотив.
– Ну, оружие у владельца могли и украсть, – протянула Амалия. – Кроме того, нелегко добиться правды, когда речь идет о преступлении. Любой может сказать, что у него нет оружия, хотя на самом деле это не так.
Федор нахмурился. Ему не нравился оборот, который принимал разговор.
– Отчасти вы правы, госпожа баронесса, – сказал Сашенька, – но мы живем не сами по себе, а среди других людей, которые волей-неволей замечают множество мелочей нашей жизни. Не думаю, чтобы кому-то удалось утаить такой факт, как владение оружием.
– Ты-то что так волнуешься? – не выдержала Наденька. – Посмотреть на тебя, так можно даже заподозрить… что-нибудь нехорошее.
– Разве ты не понимаешь? – мрачно спросил брат. – Это я привез Колозина сюда. Я привез его на смерть, ясно тебе? Как, по-твоему, я сейчас должен себя чувствовать? Я ничего не могу сделать для него, кроме как способствовать тому, чтобы его убийца был найден.
– До чего же обидно, – невпопад протянула Лидочка, склонив голову набок. – Я не умею стрелять, оружия у меня тоже нет, и… и меня никто не будет подозревать!
Федор не мог удержаться от улыбки.
– Кажется, ты до сих пор считаешь, что попала в один из романов, которые тебе так нравится читать, – строго сказала Наденька, обращаясь к сестре. – Но в жизни, если рядом происходит убийство, все оказывается вовсе не так… занимательно. Стоит следователю спросить у тебя, что ты делала ночью и кто может подтвердить, что ты спала, и тебе от стыда захочется провалиться сквозь землю.
– Мне нечего стыдиться, – спокойно сказала Лидочка. – Я спала, а потом проснулась. У меня в комнате летает муха и жужжит, я уже несколько дней не могу ее поймать.
– Муха – в это время? – удивился Сашенька. – Но сейчас уже нет никаких мух.
– Есть, но только в моей спальне, – вздохнула Лидочка. – Она стукалась о шкафы или о стены, точно не знаю, и сердито жужжала. Я встала, думаю, может, удастся ее поймать… Но спросонья я плохо соображала, как это сделать. А потом я оказалась у окна и выглянула наружу. Я только потом поняла, кого я увидела.
– О чем ты говоришь? – изумилась Наденька.
– За окном была ночь. И земля, присыпанная снегом, как бы светилась во мгле. А еще я увидела желтую точку, как будто кто-то нес фонарь. И тень.
– Тень с фонарем? – недоверчиво спросила Любовь Сергеевна.
– Нет, с фонарем шел человек. А тень я заметила, когда она перебегала между деревьями. – Лидочка помолчала. – Но тогда я не очень задумывалась над тем, что вижу. Муха куда-то забралась и перестала жужжать, я легла в постель и заснула. Когда я узнала, что Колозина убили, я вспомнила то, что видела ночью, но не была уверена, сон это или явь. А сегодня следователь пришел и искал пропавший фонарь. Или он догадался, или ему кто-то сказал… Словом, я поняла, что мне не привиделось. Я действительно видела, как Колозин уходил из нашего дома с фонарем. А тень, которая следовала за ним, – это и был тот человек, который его убил.
Глава 23 Револьвер
– Сознайся, что ты сейчас все это придумала, – проворчала Наденька.
– Я ничего не придумывала, – коротко ответила Лидочка, но упрямства, прозвеневшего в ее голосе, с лихвой хватило бы на двух братьев, таких как Сашенька.
– Потрясающе! – восхитилась Любовь Сергеевна. – Лидия Павловна, но ведь по всему выходит, что вы… Как это называется… Важный свидетель, вот!
Лидочку никто и никогда еще не звал по имени-отчеству, и, по правде говоря, она даже немного растерялась.
– Так это правда? – спросил Сашенька недоверчиво. – Ты видела, как Колозин уходил?
– Думаю, да. Я видела только… ну… как бы силуэт со спины. И фонарь. Кто еще это мог быть?
– У вас очень острое зрение, если вы заметили в сумерках тень его преследователя, – уронила Амалия.
– Я его заметила только потому, что земля была покрыта снегом, – парировала Лидочка, вскидывая голову. – Если бы я знала, насколько это важно, я бы присмотрелась, а так… Я просто увидела чью-то тень на фоне снега, которая перебегала от дерева к дереву.
– Вы не помните, который был час? – спросила Амалия.
– У меня в спальне нет часов, – покачала головой Лидочка.
– Луна светила?
Девушка улыбнулась.
– Как в стихах Пушкина. «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные глядела…»[147] – процитировала она.
– Снег падал?
– Нет. Не было ни снега, ни вьюги, ни ветра… ничего. Тихая, чудесная, спокойная ночь. Поэтому я долго не могла потом решить, сон это был или явь.
– Куда он шел? – спросил Сашенька. – Я имею в виду Колозина.
– Он вышел на дорогу и остановился. Может быть, размышлял, куда идти дальше. Но я не видела, куда он двинулся, потому что легла спать.
– А что вы можете сказать о его преследователе? – подал голос Федор.
– Я же говорю, это была тень. – Лидочка улыбнулась и блеснула глазами. – Если бы я узнала кого-то, разве я стала бы молчать? Все произошло из-за того, что меня разбудила противная муха…
– Ты должна была рассказать нам об этом раньше, – проговорила Наденька, волнуясь. – Как ты могла столько времени молчать?
– О чем молчать? Что такого я видела? Кто-то шел с фонарем, кто-то, может быть, следил за ним… В конце концов, мало ли кто мог выйти той ночью! Но я поговорила с прислугой и поняла, что никто не выходил… кроме одного человека, который не вернулся…
Сашенька подошел к окну и остановился там, заложив свои длинные руки за спину.
– Все-таки я не могу понять, куда он мог пойти, – проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь. – И еще убийство Куприяна Степановича… Он-то тут при чем?
– И не говорите! – неизвестно к чему вздохнула Любовь Сергеевна. – Вообще жизнь ужасно неромантична. Хочется, чтобы мотив убийства был, как в захватывающем романе… А ведь наверняка окажется, что все случилось из-за денег, или по какой-то другой прозаической причине.
– Произошло уже два убийства, – напомнила Амалия мягко. – А что касается денег, то особых капиталов у Колозина не было.
– Но он сказал, что знает, кто убил Изотовых, – подал голос Федор. – Может быть, дело все-таки в этом?
– Интересно, кто будет расследовать убийство Селиванова, – заметила Наденька. – Порошин или господин из Петербурга?
Ее замечание повлекло за собой жаркую дискуссию, подробное описание которой заняло бы не одну страницу. Для нашего повествования существенен разве что тот факт, что те же люди, которые не признавали за следователем Порошиным никаких особенных качеств, через три-четыре фразы говорили, что все-таки было бы лучше, если бы следствие вел он – да и по убийству Колозина, тоже.
– Михаил Яковлевич работает тут уже несколько лет, он понимает, кто на что способен, и не станет тревожить лишний раз честных людей, а от петербургского сыщика можно ожидать чего угодно…
Впрочем, разговор о преступлениях уже успел поднадоесть присутствующим, и оттого, когда баронесса Корф заговорила о собаках, все с удовольствием подхватили новую тему.
Амалия хотела вернуться домой к обеду, но ей пришлось остаться на обед у Снегиревых, причем пригласил ее лично сам хозяин. Мистер Бэрли, который являлся частью ее задания, тоже присутствовал за столом, но баронесса Корф только лишний раз убедилась, что из всех присутствующих женщин ему интересна только Лидочка Снегирева в простом голубом платье.
В усадьбу генеральши Меркуловой баронесса Корф вернулась в расположении духа, которое никак нельзя было назвать безмятежным. Амалии случалось быть недовольной собой, но работа все же нечасто являлась поводом для подобного отношения. Сейчас она не могла отделаться от ощущения, что проигрывает партию вчистую, и ее не слишком утешало то обстоятельство, что Джонатан Бэрли даже не подозревал о том, что является ее противником. Раз за разом Амалия прокручивала в голове сложившуюся ситуацию, прикидывая разные варианты развития событий, но ей пришлось прерваться, так как неожиданно приехал Сергей Васильевич Ломов.
«Гм, – смутно помыслил особый агент, косясь на красивое, но недовольное лицо Амалии, – а англичанин-то, подлюка, оказался крепким орешком… Кто бы мог подумать!»
– Хорошо, что вы заехали, Сергей Васильевич, – сказала Амалия. – У меня для вас есть кое-какая информация.
После чего она рассказала ему о том, что Лидочка видела ночью из окна, и о том, что Колозин перед смертью упоминал, что знает, кто совершил убийства в Петербурге.
– Свидетельство барышни заслуживает внимания – при условии, конечно, что она не выдумала его, начитавшись женских романов, – проворчал Ломов, верный себе. – А насчет Колозина мне уже сообщили – я успел побеседовать с несколькими свидетелями до того, как произошло второе убийство. – Он выразительно скривился. – Колозин разговаривал с дочерями профессора, и их беседу также слышали как минимум госпожа Баженова и мистер Бэрли. Возможно, слова Колозина слышал еще кто-нибудь, но, если считать, что его убили из-за них, возникают сразу два вопроса. Первый – кого он имел в виду, и второй – кого он мог покрывать. – Ломов промолчал, изучая Амалию своими глубоко посаженными глазами. – Вам известно, сударыня, что Дмитрий Колозин какое-то время учился вместе с Николаем Одинцовым, и они даже снимали комнаты в одном доме?
– Нет, я этого не знала.
– А вам известно, что Одинцов бросил университет незадолго до того самого убийства?
– Гм… В сущности, можно было заподозрить нечто подобное.
– Заподозрить, – с расстановкой проговорил Ломов. – Тут, как изволите видеть, уже не подозрения, а что-то среднее между подозрениями и уверенностью. Из всех, кто присутствовал на вечере, Колозин знал только одного человека, все остальные были ему незнакомы. Павла Антоновича в расчет не берем – он познакомился со студентом только тогда, когда шло следствие. Собственно говоря, теперь самое время как следует взяться за Одинцова, но убийство фабриканта перечеркнуло мои планы. Вдова в истерике, местные власти в ужасе, Порошин и Ленгле мечутся и выдвигают теории одна нелепее другой.
– А можно просто факты, без теорий? – спросила Амалия.
– Факты? Ну что ж… Итак, мы имеем дело с очень хорошим стрелком. Говорю это сразу же, поскольку преступник отстрелялся по движущейся мишени – я имею в виду сани Селиванова – как в тире. Из особых примет кучер запомнил только черный тулуп и седую бороду. – Ломов вздохнул. – Также преступник, судя по всему, был в курсе привычек фабриканта, в частности дорог, по которым тот предпочитал ездить. Стреляли из двуствольного ружья… а не револьвера, прошу заметить. Найдены следы от валенок, причем довольно крупные. К сожалению, по ним не удалось установить, куда ушел преступник – он пересек небольшой лес, а затем выбрался на дорогу, на которой его следы затерли сотни других ног и колес. По описанию вроде как выходит, что фабриканта застрелил какой-то мужик, но я, сударыня, вот что вам скажу: хладнокровие, с которым осуществлено это преступление, – нечто в своем роде выдающееся.
– Или преступнику просто повезло, – сказала Амалия. – У Селиванова были враги?
– Вдова клянется, что случались разногласия с другими фабрикантами, но исключительно на денежной почве и будто бы не такие, чтобы Куприяна Степановича могли из-за них убить.
– Чтобы из-за денег не могли убить, – пробормотала Амалия, глядя на огонь в камине, – это нечто новое.
– Ну, вы войдите в мое положение, сударыня! Не могу же я сказать убитой горем женщине, что она городит вздор… – Прежде, чем произнести следующую фразу, Ломов немного помедлил. – Как вы считаете, убийство Селиванова может быть связано с убийством студента или нет? Спрашиваю, потому что волей-неволей мне придется расследовать их оба…
– С одной стороны, обстоятельства совершенно разные, – сказала Амалия, подумав. – С другой – два убийства друг за другом… Кстати, Селиванов недавно приезжал сюда. Буквально вчера.
– К вам?
– Нет, к Меркуловым.
– Наверное, опять надоедал генеральше разговорами о том, как он хочет купить ее имение, – проворчал Ломов. – Кстати, ее сын хорошо управляется с ружьем?
– Он не мог убить Селиванова, – усмехнулась Амалия. – Мы с ним находились в тот момент в доме Снегирева. Забудьте о Федоре Алексеевиче. Я прекрасно помню, что вы считаете его человеком с клеймом, но, уверяю вас, он ни при чем. Между прочим, при мне упоминали, что вы забрали в интересах следствия вещи Колозина. Удалось обнаружить среди них что-то интересное?
– Абсолютно ничего, – Ломов выразительно скривился. – Но есть два настораживающих момента. Первый: в вещах студента зачем-то рылась маменька. Сама она об этом забыла упомянуть на допросе, зато не забыла одна из горничных, у которой недавно вычли из получки за разбитую сахарницу.
– Вот как! – протянула Амалия, и ее глаза зажглись. – А горничная, случаем, не заметила, чтобы ее госпожа присвоила или утаила что-то из вещей?
– Она уверяет, что Елена Владимировна все перерыла, но, кажется, ничего не взяла, – Ломов издал сухой смешок. – Когда я спросил у хозяйки дома, что она искала в вещах жертвы, она стала бледнеть, краснеть, падать в обморок, лгать и изворачиваться. В конце концов, я заставил ее признаться, что убийство студента заставило ее понервничать, она подумала, что среди его вещей окажется нечто, что прольет свет на случившееся, и поэтому все просмотрела. По-моему, она гораздо больше опасалась, как бы Колозин не притащил в их дом что-нибудь скверное – вроде запрещенных изданий, к примеру.
– Скажите, вы ей верите? – спросила Амалия.
– Я никому не верю, – спокойно ответил особый агент, он же по совместительству следователь по особо важным делам. – Может быть, она сказала правду, а может быть, и нет. Странно, что Снегирева считают умным человеком…
– Вы это к чему?
– Будь он так умен, как о нем говорят, он бы на ней никогда не женился.
– О! Сергей Васильевич, давайте все-таки не будем смешивать личную жизнь и…
– Нет, сударыня, будем. Еще как будем, – ответил Ломов, который по части упрямства мог сравняться со своей собеседницей и даже превзойти ее. – Лично мне даже жаль, что горничная разбила всего лишь одну сахарницу, а не целый сервиз. Если бы ее лишили жалованья за несколько месяцев, она, может быть, вспомнила бы, что Снегирева взяла из чемодана студента именно то, чего там недостает.
– А что, там чего-то не хватает?
– Ну да. Помните, я говорил, что есть два настораживающих момента? Второй момент – вещи Колозина. Меня сегодня целый день рвут на части, и я никак не могу сесть и спокойно разобрать содержимое чемоданчика. Если бы меня на полчаса оставили в покое, я бы понял, что именно меня беспокоит.
– Вы можете оставить чемоданчик Колозина здесь, – быстро сказала Амалия. – Я посмотрю.
– Думаю, так и придется сделать, – усмехнулся Ломов, поднимаясь на ноги. – Я нарушаю все мыслимые и немыслимые должностные инструкции, но так как Порошин и Ленгле не дадут мне покоя, придется просить вас о помощи. В вещах студента не хватает какой-то мелкой вещи, пустяка, который совершенно точно должен там находиться. И я чувствую, что упускаю что-то, и бешусь, потому что никак не могу вычислить, о чем именно идет речь.
Во флигеле генеральского дома Федор Меркулов тяжелым шагом подошел к своему столу и какое-то время стоял возле него, глядя на лампу, столешницу, стопку любимых книг и чернильный прибор. Потом усталость взяла свое, и он опустился на сиденье стула.
Все разрешилось без его участия, Селиванов исчез, как будто его никогда и не было. «Позвольте, а конверт? – бухнул чей-то голос в его мозгу. – Он же обещал оставить конверт на случай своего исчезновения…»
– Соврал, – пробормотал Федор, обращаясь не то к часам, не то к семейной фотографии на стене. Мама сидит с горделивым видом, три сына стоят вокруг нее, все трое – в военной форме. Теперь остался только он один. Как, как ему могло в голову прийти, что он имеет право свести счеты с жизнью и бросить мать – одну, совсем одну?
Неловко повернувшись, он залез рукой в карман и достал револьвер. Сейчас тот, похоже, смирился и выглядел как бесполезный кусок металла… Почти как детская игрушка.
Федор откинул барабан, чтобы разрядить оружие, и замер. Он совершенно точно помнил, что зарядил револьвер утром, до того, как выйти из флигеля. Но сейчас в барабане не было ни единого патрона.
Меркулова бросило в жар. Он выдвинул ящик стола, машинально убрал в него оружие, задвинул ящик, издавший легкий скрип, и вышел в соседнюю комнату.
Анна Тимофеевна сидела в широком кресле, читая журнал. Она бегло улыбнулась сыну и перелистнула страницу.
Чувствуя в горле ком, Федор подошел к ней и неловко опустился на колени возле ее кресла. Слегка изменившись в лице, Анна Тимофеевна отложила журнал и вопросительно посмотрела на сына. На широкой руке генеральши, лежавшей на подлокотнике, были видны морщинки и немногочисленные коричневые пятнышки, но это была самая дорогая рука на свете, и он припал к ней губами, а потом прижался лбом.
– Мама, прости меня, – только и мог проговорить Федор. Его душили рыдания. – Я больше никогда… никогда…
– Ничего, – шепнула мать и свободной рукой погладила его по темно-русым волосам. – Все будет хорошо, Феденька, даю тебе слово… Все будет хорошо!
Глава 24 Опасная бритва
Доктор Волин привык не замечать усталости, но в последние дни на него навалилось слишком много: влюбленность Ольги Ивановны, поставившая его в затруднительное положение, вечер у Снегирева, не оправдавший его ожиданий, занесенное снегом тело Колозина у кустов боярышника и все, что было связано с убийством Селиванова – снег, почерневший от крови, и труп, у которого практически не осталось головы.
При жизни Куприян Степанович был не последним человеком в уезде и не позволял обращаться с собой кое-как, но после смерти он почти сразу же и определенно превратился в обузу, причем для всех, кто имел с ним дело. Порошина стошнило, как только он увидел месиво, оставшееся от головы Селиванова, товарищ прокурора храбрился, но ему тоже было не по себе, следователь по особо важным делам, приехавший из Петербурга, куда больше интересовался следами убийцы, чем собственно жертвой. Когда зашла речь о том, везти ли тело в больницу, где в погребе было оборудовано нечто вроде ледника, или сразу домой к фабриканту, Ольга Ивановна не удержалась и колюче заметила:
– Он ведь нашу больницу и знать не хотел. Когда вы, Георгий Арсеньевич, просили построить еще один корпус, который очень помог бы в случае холерных эпидемий… Помните, что сказал тогда Селиванов? Что если кто-то умирает от холеры, значит, так тому и быть и нечего вмешиваться в божественное предназначение…
Волин нахмурился. Он находил, что злопамятность не к лицу женщине – да и мужчине тоже, если уж на то пошло.
– Речь сейчас вовсе не об этом, Ольга Ивановна, – промолвил он с неудовольствием. – В конце концов, мы прекрасно обошлись без участия господина Селиванова. Я только что узнал: новый корпус начнут строить весной, благотворители выделили для него деньги.
Но утихомирить медсестру было не так-то просто.
– Если Селиванов не хотел давать деньги на больницу, его право, – бросила Ольга Ивановна воинственно. – В конечном счете, никто ведь его не заставлял. Но глумиться-то зачем?
В конце концов, решено было доставить почившего фабриканта к нему домой, а следователь из Петербурга поехал вперед – предупредить вдову и расспросить ее о том, кто мог желать Селиванову смерти. В больнице доктора еще дожидались несколько десятков пациентов, которых он не успел принять.
Волин закончил прием в шестом часу вечера и отправился проведать несколько пациентов, за состоянием которых он следил особенно пристально. Убедившись, что им ничего не угрожает, он решил навестить отставного штабс-капитана и его жену, которые по-прежнему находились в палате на втором этаже.
Они забросали доктора вопросами о том, что происходит, почему убили Селиванова и когда петербургский следователь планирует схватить убийцу студента. Тщетно Георгий Арсеньевич пытался им объяснить, что он ничего об этом не знает; по их лицам он видел, они ему не верят и не поверят, какие бы доводы он ни представил.
В ходе разговора он допустил ошибку, необдуманно спросив у Василисы, почему она уверена, что ее сестру и всю семью сестры убил именно Колозин.
– Да кто ж еще мог это сделать? – заверещала Василиса, волнуясь. – Только он мог их убить, и больше никто!
Доказательства? Извольте: Василиса видела, как Колозин злобно смотрел на ее сестру («так злобно, что у меня душа в пятки ушла»). Он не любил детей и жаловался на то, что они не дают ему выспаться. Он задерживал плату за комнату и говорил хозяйке и ее мужу дерзости. И вообще он мерзавец, гадюка и душегуб!
По правде говоря, распрощавшись с Василисой и ее мужем, Волин почувствовал облегчение. Он не любил людей, которые глухи к любым доводам рассудка, – людей, которых не проймешь никакими аргументами.
«Интересно, что она скажет, если Порошин и его петербургский коллега найдут настоящего убийцу Изотовых… Будет ли ей хоть немного стыдно за свои обвинения, за скандал, который она устроила у Павла Антоновича? Скорее всего, нет… Просто она накинется на нового убийцу с той же неутомимой ненавистью, с какой преследовала студента…»
Он прошелся по кабинетам, проверяя, все ли в порядке, и в крошечной комнатке рядом с прозекторской увидел на металлическом столе вещи, которые Феврония Никитична забыла или не успела убрать. Это были шинель, обувь, шапка и прочее, что принадлежало убитому Колозину.
«Ах да, я же просил ее ничего не трогать, потому что петербургский… следователь Ломов сказал, что вещи могут ему еще понадобиться… Но все же им нечего тут делать. Надо убрать их в шкаф».
Доктор принес газеты и стал заворачивать в них предметы одежды. С мелкими вещами он справился быстро, но шинель соскользнула на пол и ударилась о него с глухим стуком, который озадачил Георгия Арсеньевича. Ощупав ее, Волин сообразил, что под правым карманом, между сукном и подкладкой, есть как бы дополнительный потайной карман, и там лежит какой-то металлический предмет. Повозившись некоторое время – с первого раза в потайной карман проникнуть не удалось, – Волин извлек на свет опасную бритву.
Сказать, что доктор был озадачен, значит, не сказать ничего. Он осмотрел бритву и убедился – ее лезвие тщательно заточено, в сложенном виде она чрезвычайно напоминает складной нож. Однако, согласитесь, бритва все же не относится к тем предметам, которые люди обычно берут с собой, отправляясь на прогулку, да еще прячут в особый карман.
Доктор вспомнил слова Нинель Баженовой о том, что Колозин знал, кто убил Изотовых. Что, если он пошел дальше? Если, к примеру, он попытался убийцу шантажировать… Тот назначил ночью встречу, поэтому студент вышел из дома, а бритву захватил, чтобы обезопасить себя?
В сущности, Георгию Арсеньевичу было достаточно на этом остановиться, вызвать кого-нибудь из тех, кто вел следствие, и рассказать им о своей страшной находке. Но вместо этого он спрятал бритву, завернул шинель студента в несколько слоев газет и вместе с остальными вещами убрал ее в шкаф, который запер на ключ.
Доктора съедала смутная тревога, и у этой тревоги была вполне конкретная причина. Как Волин ни пытался убедить себя, что ему мерещится, что такая дама, как баронесса Корф, не может иметь отношения к происходящим в уезде странным событиям, он снова и снова возвращался к тому, как она стояла в саду генеральши с выражением лица, которое не сулило ничего хорошего. И еще его беспокоило, что место убийства Колозина до сих пор не было определено.
Решившись, он вышел из кабинета, разыскал Пахома и велел закладывать сани; но уже в дороге, когда они ехали в имение генеральши Меркуловой, доктор едва не велел повернуть обратно.
«У меня просто нервы не в порядке… Положим, мне хочется ее видеть, и я придумываю… Бог весть, что придумываю… И чем я лучше жены штабс-капитана? Ее хотя бы извиняет то, что она необразованна, а я… курс окончил в университете… был на хорошем счету у профессоров…»
Он велел остановить сани, не доезжая до ворот, взял фонарь и пошел вдоль ограды. Ветер налетал порывами и трепал стебли плюща, с которых уже успели облететь все листья. Внимательно глядя себе под ноги, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму, доктор дошел до того места, где часть ограды обрушилась и можно было забраться прямиком в сад.
Тут его внутренний Георгий Арсеньевич Волин, что был на диво благоразумен и признавал только здравый смысл, возвысил свой голос, заклиная доктора вернуться; но Волин неблагоразумный и опрометчивый, само собой, его не послушал.
Сквозь дыру в ограде он забрался в сад, причем сделать это оказалось гораздо легче, чем он думал; но тут правая нога доктора наступила на что-то ломкое, что громко хрустнуло в знак протеста. Доктор сделал шаг в сторону, наклонился и осторожно счистил снег с того, что он только что раздавил. Это оказался небольшой фонарь вроде того, который он сейчас поставил рядом с собой, чтобы оставить руки свободными.
Поднявшись на ноги, доктор взял свой фонарь и посветил вокруг. Он и сам не знал, что еще рассчитывает найти в этом зловещем саду, но так как зрение у него было острое, он сразу же разглядел бурое пятнышко засохшей крови на ближайшем кусте – точнее, на листочке, который до сих пор не опал даже несмотря на то, что пришла зима.
Тут ветер повеял на Георгия Арсеньевича не то сиренью, не то каким-то сложным цветочным букетом, и, подняв голову, доктор Волин увидел в нескольких шагах от себя баронессу Корф, которая стояла, пряча руки в пушистую муфту.
– Добрый вечер, Георгий Арсеньевич, – сказала Амалия. – Позволительно ли мне спросить у вас, милостивый государь, что вы делаете в моем саду?
Глава 25 Бумага на столе
Яков Исидорович Брусницкий трудился не покладая рук.
Собственно говоря, старый врач терпеть не мог работать, хотя тщательно это скрывал. Также он терпеть не мог большинство своих пациентов, но уж в этом, будьте благонадежны, он вообще никогда никому не признавался.
Однако с тех пор, как стало известно об убийстве фабриканта Селиванова, Брусницкому пришлось поступить в распоряжение вдовы и ее дочерей. Он метался по огромному особняку усопшего, выписывая успокоительные капли, бормоча утешающие слова, принимая хрустящие бумажки за свои услуги, и по какой-то странной прихоти судьбы на несколько часов сделался для Екатерины Селивановой и ее дочерей самым близким человеком на свете.
Им казалось, что только он может хоть как-то облегчить то горе, которое душило их и разрывало изнутри. У старшей дочери случился самый настоящий нервный припадок, младшая, еще маленькая, не осознавшая разумом всего ужаса случившегося, страдала за компанию, как могут страдать только дети. Вдова пыталась держаться, но то и дело срывалась на слезы и причитания.
Она рассказала Брусницкому, что когда-то не хотела выходить за Селиванова и пыталась даже сбежать из-под венца, но она рада, что у нее ничего не получилось, потому что их брак оказался очень прочным, и сама она считала его удачным. Муж делал все для нее и девочек, она чувствовала себя как за каменной стеной, и вот теперь… теперь…
– Яков Сидорович, но кто, кто же? – глухо рыдала она, совсем позабыв о том, что доктор терпеть не мог такой вариант отчества. – Кто мог его убить?
По правде говоря, Брусницкого так и подмывало ответить «следователь из Петербурга». Ломова он невзлюбил сразу же, едва увидел его лицо и почувствовал, как пальцы Сергея Васильевича стиснули его руку.
«Пожатие, как у медведя… С виду простачок, но знаем мы таких простачков, которые сложными на завтрак закусывают… – подумал Брусницкий, с неудовольствием косясь на следователя по особо важным делам. – Два убийства за два дня, шутка ли! А был такой тихий уезд…»
Помимо всего прочего, Ломов не понравился старому доктору тем, что не проявил должной деликатности и принялся допрашивать вдову почти сразу же после того, как она узнала об убийстве мужа. Впрочем, ничего особенного убитая горем женщина сообщить не смогла.
– Да, муж занимался делами, но у него не имелось таких врагов, которые пожелали бы его убить. Нет, ему никто не угрожал, и ни о чем подобном он никогда не упоминал. Нет, он никого не боялся. И, уж конечно, у него были прекрасные отношения со всеми в округе.
– Может быть, вы заметили в его поведении какие-то странности в последнее время? – отчаявшись, спросил Ломов.
Екатерина Семеновна задумалась.
– Нет… то есть… Хотя, наверное, это не относится к делу… Он хотел выставить лошадь на скачки… купил кобылу у господина Галанина… Господин Галанин ему рассказал, на какие ухищрения идут конкуренты, чтобы загубить возможного чемпиона… И Куприян очень волновался… Он даже стал вставать по ночам и проверять, как там его кобыла…
– Он ведь мог выставить сторожей, – проворчал Ломов.
Вдова всхлипнула.
– Мой муж любил повторять: «Доверяй, но проверяй…» В конюшне были сторожа. Но он боялся, что их могут подкупить… или они заснут, и ночью кто-то проберется, сделает что-нибудь с лошадью, и она будет хромать…
Мрачно сопя, Ломов смотрел на несчастное, опухшее от слез лицо собеседницы и думал: «Что я вообще тут делаю? Зачем я здесь?». Чутье говорило ему – а своему чутью агент особой службы привык доверять – что убийство Колозина и уж тем более неожиданно последовавшее за ним убийство Селиванова просто так раскрыть не удастся, и он не мог отделаться от ощущения, что обманывает столько людей – и даже неплохих людей – лишь для того, чтобы еще большая, чем он, обманщица, блистательная баронесса Корф, смогла провернуть комбинацию, которую иначе как жульнической не назовешь…
– Я понимаю, как вам тяжело было говорить о вашем муже сейчас, – сказал Ломов, – но вы должны понимать, сударыня, что следствие должно от чего-то отталкиваться, и я расспрашивал вас не потому, что не уважаю ваше горе, а потому, что надеюсь с вашей помощью выйти на верный след.
Собеседница горячо заверила его, что она все понимает и ничуть не обижается и, если у него будут еще вопросы, которые могут помочь следствию, она всегда, в любое время будет счастлива на них ответить…
– Могу ли я задать вам вопросы по другому делу, сударыня? – спросил Сергей Васильевич серьезно. – Обещаю, они не займут много времени.
Селиванова кивнула, не сводя с него глаз.
– Вы, как и ваш муж, находились позавчера на ужине у Снегирева, вскоре после которого Дмитрий Колозин был убит. У вас есть какие-нибудь соображения… Может быть, вы что-то заметили, или слышали, или… вам кажется, что вы знаете, кто убийца…
– У меня нет доказательств, – жалобно сказала Екатерина Семеновна, доставая платочек, – но мне кажется, что к смерти этого молодого человека каким-то образом причастна баронесса Корф.
– Зачем баронессе Корф убивать Дмитрия Колозина? – изумился Ломов.
– Ну, к примеру, она позвала его на свидание, потом передумала, а когда он стал угрожать ей разоблачением, застрелила его, – безмятежно ответила госпожа Селиванова. – И потом, вы меня простите, милостивый государь, но женщина всегда найдет, из-за чего прикончить мужчину…
Искренне надеясь, что то, что он подумал, не отразилось на его лице, Ломов поблагодарил свою собеседницу, еще раз попросил прощения за то, что потревожил ее в такое время, и удалился.
Не прошло и получаса после его отъезда, как к дому стали съезжаться визитеры. Это были знакомые Селиванова, деловые партнеры, уездное и земское начальство, соседи, кое-кто из бывших работников и вообще все, кто желал выразить свои соболезнования – или поглядеть на труп и убедиться, что фабриканта действительно больше нет, а значит, имеет смысл некоторым образом порадоваться тому, что сами они еще живы.
Тело Куприяна Степановича уложили в спальне, навертев вокруг остатков головы темное покрывало, чтобы скрыть страшную рану. Одна из горничных упала в обморок, и Брусницкому пришлось приводить ее в чувство; потом упала в обморок старшая дочь, которая пришла посмотреть на отца. По правде говоря, старый врач старался сторониться всего, что было связано с похоронами и смертью; и вот теперь ему пришлось находиться в доме, где лежит убитый, и к тому же посетители донимали Брусницкого вопросами о том, кто убил фабриканта и кто теперь будет вместо него вести дела. Кроме того, некоторые посетители будто бы из-за избытка скорби покушались выпить лучшие ликеры хозяина, которые стояли в спальне, а одного соболезнующего доктор поймал на том, что тот пытался спрятать в карман серебряные ложки. Тут терпение Якова Исидоровича подошло к концу, он вызвал слуг и попросил их как следует присматривать за всеми, кто входит в спальню.
– Чертовы стервятники!
Сам он хотел уехать к себе, но вдова попросила его задержаться, подкрепив слова деньгами.
– Доктор, я не выдержу… Не уезжайте, Яков Сидорович, я прошу вас! Я не за себя больше всего боюсь, а за девочек… Если что случится, не за земским же доктором посылать!
Брусницкий покорился своей судьбе и гонорару, утешая себя тем, что его поставили выше коллеги и конкурента.
Увы, в погоне за золотым тельцом старый доктор пропустил самое главное, а именно: одного из визитеров, который направился не в спальню, где лежало тело, а в кабинет Селиванова, причем найти его сумел не сразу, а только после того, как заглянул в несколько комнат. Оказавшись в кабинете, странный гость зажег свечу и быстро осмотрел бумаги, лежавшие на столе, после чего заглянул в ящики.
Не обнаружив того, чего искал, гость стал лихорадочно озираться и, завидев в углу запирающийся шкаф для документов, стал искать ключи. Их нигде не было видно. Кусая губы, гость смотрел на шкаф, как на смертельного врага, потом решился, сгреб бумаги в центр стола и швырнул туда горящую свечу. Убедившись, что бумага загорелась и огонь стремительно распространяется, поджигатель быстрыми шагами вышел из кабинета и спустился по лест-нице…
– Пожар!
– Горим!
Не прошло и получаса, как заполыхал весь дом. Слуги выбежали наружу, таща в панике первые вещи, попавшиеся на глаза; вдова Селиванова возле дома страшно кричала, зовя детей; наконец Брусницкий чуть ли не силком вытащил их из здания – младшая замешкалась, ловя собачку, которая никак не давалась на руки. Усадьба горела, как факел, и пожар был виден на много верст вокруг.
– Он говорил… – прорыдала Екатерина Семеновна, уткнувшись лицом в плечо доктору, – говорил, что, если его не станет, моя жизнь рухнет… Боже мой! Боже мой, какой ужас!
– Погребальный костер, – пробормотал Брусницкий, косясь на полыхающий дом. – Дом был застрахован?
Селиванова отлепилась от него и молча кивнула, вытирая слезы.
– Надеюсь, конюшни не загорятся, – добавил доктор, – все-таки они расположены в стороне. Та лошадь, которую купил ваш муж, стоит больших денег. Продадите ее, если… если появится такая необходимость. Вам есть где переночевать сегодня?
– Я не знаю… – пролепетала Екатерина Семеновна. – Я… я просто не знаю… что делать, как быть… Все так неожиданно на меня свалилось…
Яков Исидорович вздохнул.
– Я могу пригласить вас к себе, – сказал он, – но у меня все просто, без затей, по-холостяцки. Впрочем, для того, чтобы переночевать, я думаю, мой дом подходит, а завтра утром вы решите, что вам делать.
– Ах, доктор, – воскликнула Селиванова, – я так вам благодарна! Вы… вы просто самый лучший человек из всех, кого я тут знаю! Яков Сидорович… вы, пожалуйста, не думайте, что на пожаре я все потеряла… Я щедро отблагодарю вас за то, что вы сделали!
– Нет, сударыня, – твердо промолвил Брусницкий, – то, что я сделал, я сделал не ради денег, а… а потому, что я честный человек. Оставьте деньги себе, вам они наверняка еще пригодятся… Может быть, вы захотите отблагодарить меня потом, когда у вас все будет хорошо, а я верю, что однажды так и будет…
И ему стало даже немного совестно, когда его собеседница уткнулась лицом ему в плечо и снова заплакала, но на этот раз – с некоторым облегчением. Ведь доктор Брусницкий, которого все считали сухарем, стяжателем и вообще малоприятным типом, оказался таким чудесным, отзывчивым, бескорыстным человеком, и мало того – он пообещал ей, что ее жизнь наладится. В самую трудную минуту ее жизни он протянул ей руку помощи, и Екатерина Семеновна решила, что никогда этого не забудет.
Глава 26 Место преступления
– Так что же вы делаете в моем саду? – спросила Амалия, видя, что доктор Волин медлит с ответом.
– Я нашел, где убили Колозина, – решился Георгий Арсеньевич. – Это произошло здесь. Кажется, его фонарь до сих пор лежит тут, под снегом, – он махнул рукой, указывая, где именно.
Волин с облегчением увидел, что его слова по-настоящему ошеломили Амалию и что она не ожидала ничего подобного. Доктору было бы крайне неприятно думать, что женщина, занимавшая его мысли, могла иметь какое-то отношение к преступлениям, произошедшим в уезде.
– Однако! – вырвалось у Амалии. – А… э… Если не секрет, почему вы… то есть, что навело вас на мысль…
– Я нашел в кармане Колозина бритву, – сказал доктор.
– В кармане? – изумилась Амалия. – То есть в его одежде? А разве Сергей Васильевич… разве следователь из Петербурга не осмотрел вещи жертвы?
– Конечно, осмотрел, – ответил Георгий Арсеньевич, – но он не виноват, что пропустил бритву. Она была спрятана в потайном кармане.
Амалия уже изучила содержимое чемодана Колозина и обратила внимание на то, что кисточка для бритья имеется, а бритвы нет. И вот, не угодно ли, не проходит и часа, как появляется совершенно постороннее лицо, земский доктор, и говорит, что он нашел бритву в кармане шинели убитого студента.
– Но это очень странно… – в замешательстве пробормотала Амалия. – Почему Колозин взял бритву с собой?
– Может быть, потому, что у него была назначена встреча с кем-то, кому он не слишком доверял?
Волин рассказал Амалии о своей гипотезе.
– Я думаю, Колозин через пролом забрался в сад… В руке у него был фонарь, в ночи Дмитрия Ивановича хорошо было видно, и человек, который хотел его убить, просто подошел к студенту сзади и выстрелил. Колозин упал, фонарь разбился, немного крови попало на лист, висящий на кусте… – Георгий Арсеньевич показал на пятно на листе. – А потом убийца, должно быть, перевез тело к Одинцовым, чтобы направить следствие по ложному пути.
– Я все-таки не понимаю, – произнесла баронесса Корф, с любопытством глядя на своего собеседника, – почему вы решили искать место преступления в саду Анны Тимофеевны. Бритва, шантаж, ночная встреча, убийство… Ну допустим. Но почему именно здесь?
Волин смутился. Ему было неловко признаваться, что его вело наитие, а больше всего – желание снова увидеть баронессу Корф, и он сказал:
– Я стал думать, куда Колозин мог дойти ночью пешком. Ольга Ивановна упоминала, что следователь и его помощники осмотрели чуть ли не каждый дюйм в поместье Снегирева, и точно так же изучили дом и сад Одинцовых. Поэтому я вспомнил об усадьбе генеральши…
– Ольга Ивановна – это мадемуазель Попова? – спросила Амалия.
– Ее фамилия Квят, – отозвался Волин. – Она моя фельдшерица. – В то время слово «фельдшерица» употреблялось чаще, чем «медсестра».
– Нет, – покачала головой его собеседница, – Квят – это фамилия ее матери, а сама Ольга Ивановна – дочь Попова, миллионщика. Вы слышали ее историю? Года два назад о ней только и говорили. Она была влюблена, хотела выйти замуж за молодого человека, который считался в свете выгодной партией, родители Ольге не препятствовали… Все было уже сговорено, но за две недели до свадьбы она застала жениха в постели со своей горничной. Одно неприятное открытие потянуло за собой другие, у жениха оказалось множество любовниц, к тому же он успел наделать множество долгов. В конце концов, он вышел из себя и сказал Ольге, что никогда ее не любил и собирался жениться на ней только из-за денег… Что, Георгий Арсеньевич?
– Ничего, сударыня, – однако доктор хмурился, какая-то мысль явно не давала ему покоя. – Я несколько лет безуспешно добивался того, чтобы больницу расширили… и тут неизвестные благотворите-ли согласились оплатить постройку еще одного корпуса…
– Разумеется, это сделала Ольга Ивановна, – усмехнулась Амалия. – У нее был сложный период в жизни, она порывалась то наложить на себя руки, то пойти в монахини, и ее родные были просто счастливы, когда она решила, что станет просто спасать людей… – Ветер закружил вокруг собеседников, клубком гоняя снежную пыль. Амалия поморщилась и поудобнее перехватила тяжелую муфту. – Вот что, Георгий Арсеньевич: в саду ветрено, и я предлагаю продолжить нашу беседу в доме. Кучер вас ждет? – Волин кивнул. – Скажите ему, чтобы он ехал обратно в больницу, и идите в дом. Я буду в гостиной.
Не прошло и четверти часа, как Георгий Арсеньевич устроился напротив полыхающего камина и с наслаждением чувствовал, как по его телу разливается тепло. Амалия сидела в соседнем кресле, хмуро разглядывая бритву Колозина, которую ей отдал доктор.
– Осторожно, она острая, – сказал Волин.
– Не понимаю, – пробормотала Амалия, складывая бритву. – Что ему здесь было нужно?
– Может быть, он просто заблудился и пришел не туда? – предположил Георгий Арсеньевич, с любопытством глядя на нее.
– А куда же он шел – к Селиванову, который живет по соседству? Ну уж нет, милостивый государь… Куприян Степанович, возможно, был не ангел, но семьи он не резал и детей не убивал.
– Что вас беспокоит, сударыня? – прямо спросил доктор. Так же прямо, как он привык говорить с пациентами об их недомоганиях.
– Все, – отрезала Амалия, кладя сложенную бритву на стол. – Кто ему сказал, что в ограде есть дыра и через нее можно попасть в сад? Почему он взял с собой эту адски острую бритву и зачем явился сюда ночью? Вы говорите о шантаже… Допустим, но кого он мог тут шантажировать? Федора Меркулова, который только что вернулся с Сахалина? Анну Тимофеевну? Вздор какой-то!
– Может быть, кто-то назначил ему встречу в вашем саду, но этот кто-то не является членом семьи Меркуловых? – сказал Волин. – Хотя что толку гадать… Пусть петербургский следователь разбирается, он же для этого сюда и приехал.
– У следователя сейчас второе убийство, еще хуже первого, – вздохнула Амалия. – Прежде чем он найдет, кто и за что убил Колозина, мое имя вываляют в грязи, и не раз, – добавила она задумчиво.
– Ну, нет! – вырвалось у доктора.
– Как только станет известно, что Колозина убили в моем саду… Ну хорошо, в саду Меркуловых, начнется бог весть что, – жалобно промолвила Амалия и посмотрела Волину прямо в душу своими поразительными золотыми глазами.
– Я думал, – осторожно заметил доктор, – что такая женщина, как вы, не станет дорожить мнением глупцов, которые зовутся обществом.
Тут у баронессы Корф, которая, если говорить начистоту, ничуть не обманывалась относительно своих достоинств, возникло скверное ощущение, что молодой земский доктор ее раскусил. И вообще, хотя он производил впечатление человека, которого не интересует ничего, кроме его работы, именно он, основываясь на довольно-таки шатких предположениях, нашел место гибели Колозина, в то время как сама она почти каждый день ходила неподалеку и ничего не заметила.
Но тут Амалия увидела, как Волин смотрит на нее, и мысли ее приняли совершенно иной оборот.
«Господи, ну почему мне поручили завлечь этого зануду Бэрли, а не кого-нибудь поинтереснее, посимпатичнее… и поумнее, если уж на то пошло!»
– Если вы опасаетесь нескромности с моей стороны, – добавил Георгий Арсеньевич, – то я могу пообещать, что никому не скажу ни слова о том, что я узнал.
– Ну как это, никому не сказать ни слова, – протянула Амалия и как бы невзначай коснулась руки доктора, – уж господину Ломову определенно придется все рассказать…
– К черту господина Ломова! – пылко объявил Волин и, притянув к себе Амалию, поцеловал ее.
Так мистер Бэрли получил отставку еще до того, как добился благосклонности баронессы Корф, а Георгий Арсеньевич задержался в доме до самого утра, причем общество Амалии заставило его настолько забыться, что он почти не обратил внимания на пожар у Селивановых.
Глава 27 Разговоры
Сергей Васильевич Ломов провел беспокойную ночь.
Предположим, ночь баронессы Корф тоже нельзя назвать спокойной, но по совершенно иной причине, и вряд ли кто-то отважился бы назвать ее неприятной. В случае с Ломовым ни о каком приятном времяпровождении речи не шло.
Он расспрашивал людей, которые хорошо знали Селиванова, которые имели зуб против Селиванова, которые могли бы что-то знать о том, почему фабрикант был убит, но все нити обрывались, никто ничем не мог помочь, а потом стало известно о пожаре, и пришлось бросать все и ехать туда, где от трехэтажного дома остались лишь обгорелые стены, покрытые зловещей черной копотью.
Сам собой напрашивался вывод о поджоге, о том, что пожар был как-то связан с убийством, и Сергей Васильевич стал ловить на себе полные недоумения взгляды Порошина и Ленгле. И в самом деле, есть два убийства и странный пожар, а следствие топчется на месте, и никаких подвижек что-то незаметно.
Итак, ночь не удалась совершенно, а утром Ломов получил записку от баронессы Корф с просьбой незамедлительно приехать к ней. Но так как особый агент находился в прескверном расположении духа, тон письма произвел на него самое неблагоприятное впечатление.
«Бобик я ей, что ли, на побегушках? И почему бы открытым текстом не написать, если она сумела узнать что-то? Ах, госпожа баронесса, любите же вы напускать туману…»
Порошину Сергей Васильевич поручил продолжить расследование убийства фабриканта, а сам, проигнорировав настойчивое приглашение Амалии, сначала решил навестить Снегиревых.
Поговорив с Лидочкой и записав ее показания, Ломов решил для очистки совести еще раз опросить прислугу. Сказать по правде, он не ожидал ничего особенного, но одна из горничных вспомнила, что после того, как разъехались гости, студент расспрашивал ее о том, кто живет по соседству, причем больше всего его заинтересовала усадьба Меркуловых, и он захотел в подробностях узнать, как туда добраться пешком.
– И вы ему рассказали?
– Да, сударь… Если идти по большой дороге, то далековато будет, ну, а если повернуть и срезать через лесок… Там в одном месте ограда сада обвалилась, и можно сразу же попасть в сад, а если идти до ворот, то они гораздо дальше…
– Скажите, Дмитрий Иванович как-то обосновал, почему его интересует именно усадьба Меркуловых?
– Ничего он не говорил, – покачала головой девушка.
Ломов внимательно посмотрел на горничную.
– Почему, когда я приезжал в прошлый раз, вы не упомянули о вашей беседе с Колозиным?
– Так я думала, это ж не важно… Его ведь в саду Одинцовых нашли. А теперь говорят, что его убили в другом месте…
Тут Сергей Васильевич учуял, что в коридоре кто-то бесшумно подошел к закрытым дверям комнаты, в которой он разговаривал с горничной, и напряженно подслушивает, весь аж закоченев от любопытства. Не было никаких настораживающих признаков, посторонних шумов и прочего, но выучка – великая вещь, и Ломов не сомневался, что с той стороны двери, затаив дыхание, стоит женщина.
«Маменька, что ли? – весело подумал он. – Сегодня она, как только завидела меня, сразу же заявила, что у нее мигрень, и удалилась».
– Войдите! – не удержавшись, преувеличенно бодро крикнул он.
Дверь растворилась не сразу. На пороге, положив руку на дверную ручку, стояла Наденька в бледно-желтом платье, перехваченном в талии черным поясом, и взгляд, которым она смерила «следователя по особо важным делам», никак нельзя было назвать дружелюбным.
– Все еще допрашиваете наших слуг? – сухо спросила она.
– Я выполняю свою работу, сударыня, – ответил Ломов.
Некоторое время Наденька молчала, нервно поджимая губы и стискивая дверную ручку так, словно та была ее врагом.
– Я полагаю, – проговорила наконец молодая женщина, – вы могли бы войти в положение моего отца… который уж точно ни в чем не виноват… Прошлый раз вы задали ему несколько вопросов… формальных, как он сказал… И вот теперь вы снова в доме, говорите с моей сестрой, с прислугой… а папа весь извелся, из-за того, что вы обходите его вниманием, понимаете? Ему кажется, что вы его в чем-то подозреваете…
– Сударыня, – сказал Ломов скучающим тоном, словно собирался разъяснить самые элементарные вещи, которые его собеседница должна была бы понимать и так, – я, право, не понимаю, в чем вы меня упрекаете. В прошлый раз ваш отец заявил мне, что убийство Колозина потрясло его и он понятия не имеет, кто преступник. Поэтому я больше не беспокою Павла Антоновича, а проверяю и уточняю заново открывшиеся факты, которые, может быть, имеют отношение к убийству… А может быть, и нет.
– Но… – Наденька смешалась, – может быть, вы все-таки скажете это папе? Я имею в виду, что вы не подозреваете его и… все остальное… Поймите, он никогда еще не попадал в такую историю… Ему все кажется странным и пугающим… Хотя, с вашей точки зрения, вы всего лишь делаете свою обычную работу…
«Ах, знала бы ты, что такое для меня обычная работа!» – ностальгически помыслил Сергей Васильевич, сохраняя каменное выражение лица.
– Хорошо, я поговорю с вашим отцом, – сказал он, поднимаясь с места и собирая бумаги. – Раз уж вы настаиваете, – колко добавил он.
Однако, поднявшись в кабинет Снегирева, Ломов увидел, что Павел Антонович был не один. Самое удобное, самое лучшее, самое теплое место в комнате прочно оккупировал мистер Бэрли. Он не сидел – он восседал, как на троне, в своем обычном коричневом костюме безупречного покроя, и хотя присутствие англичанина не входило в планы хозяина дома, гостеприимство не позволяло ему указать коллеге на дверь.
– Вот… и собственно говоря… – невпопад заговорил Павел Антонович, окидывая Ломова пристальным взглядом и нервным жестом потирая руки. – Как продвигается расследование? Или, может быть, – спохватился он, – нам не положено знать о таких вещах?
– Расследование продвигается, – ответил Сергей Васильевич, – но, к сожалению, я пока не могу назвать вам имя преступника. Все чрезвычайно осложнилось из-за убийства господина Селиванова…
– О да, мои домочадцы были просто в ужасе! – воскликнул Снегирев. – И этот пожар… Кто-то упоминал, подозревают даже поджог…
– Мы проверяем все версии, – коротко ответил Ломов. Тут Павел Антонович спохватился, что не предложил гостю сесть, и поспешил исправить свою оплошность.
– Скажите, милостивый государь, – промолвил Ломов, опускаясь в кресло, – во время вечера в вашем доме вы не заметили, чтобы Колозин общался… ну, например, с Федором Меркуловым?
– С Федей? – удивился Павел Антонович. – Нет, я, кажется, уже упоминал, что больше всего Дмитрий Иванович общался с баронессой Корф.
Бэрли едва заметно улыбнулся, и Ломов тотчас же повернулся в его сторону.
– Вы хотите что-то добавить, сэр? – очень вежливо спросил Сергей Васильевич.
– Самую малость, – ответил англичанин. – Я бы сказал, что мистер Колозин общался с баронессой, но она вовсе не желала общаться с ним.
– А помимо этого, вы не заметили во время вечера ничего странного? – поинтересовался Ломов.
– За исключением тех двоих, которые ворвались в дом без приглашения, ничего, – благодушно ответил англичанин. – Это был очень милый вечер. Прекрасные люди, замечательная атмосфера. Я бы ни за что не поверил, если бы мне сказали, что вскоре один из присутствующих будет убит.
– То есть ничего подозрительного?
– Ничего. Поверьте, когда мне стало известно об убийстве, я долго размышлял, пытался вспомнить, не прошли ли мимо моего внимания какие-то важные вещи. Не было никаких странностей, ничего, что могло бы насторожить. Хотя… – Бэрли немного помедлил, – я удивлен тем, что ваши медицинские дамы позволяют себе ходить в шелковых платьях. Должно быть, они много получают?
– Боюсь, мне неизвестно, сколько получает Ольга Ивановна, – ответил Ломов, не уточняя, что особа, о которой они говорили, могла носить не только шелковые платья, но и украшения, при виде которых скукожились бы от зависти все британские герцогини. – Ну что ж, господа, пожалуй, я не смею больше вас обременять своим присутствием. – Он поднялся с места.
– Вы не против, если я задам вам один вопрос, сэр? – учтиво спросил Бэрли.
– Задавайте.
– Мы с мистером Снегиревым обсуждали русский характер… пришли к разным любопытным выводам, но он, как и я, профессионал. Наш подход сугубо научный, а мне хотелось бы услышать мнение постороннего лица. Вы ведь, насколько я понимаю, русский?
– Абсолютно, – объявил Ломов, не вдаваясь в уточнения по поводу прабабушки-финки и другой прабабушки – то ли черкешенки, то ли турчанки, которую его предок привез с собой из какого-то восточного похода.
– В таком случае, надеюсь, вы сможете мне ответить, – учтиво промолвил англичанин. – Как именно вы бы характеризовали русский характер, сэр?
Бэрли с любопытством стал ждать, что ему ответит собеседник.
– Чертовски сложный вопрос, – хмыкнул Ломов, который отлично понимал, что человек неподготовленный, будь он хоть сто раз русский, станет метаться мыслью и неизбежно запутается, пытаясь ответить. – Пожалуй, сэр, чтобы вы уяснили, что такое наш характер, я расскажу вам одну историю. Однажды где-то далеко в океане враги схватили русского и… допустим, бросили его без оружия и вообще без ничего на острове, на котором жило племя людоедов. – Бэрли недоверчиво распрямился. – Когда через год враги проплывали в том же месте, они увидели, что русский сидит на берегу, доедая последнего людоеда. Надеюсь, сэр, – веско заключил Ломов, – что теперь вы понимаете, что такое русский характер.
– Ну что ж… – пробормотал Бэрли, поглаживая подбородок, – история любопытная… как аллегория… Хотя я должен признаться, что она все-таки звучит фантастически…
– Да какая там фантастика, – хмыкнул Сергей Васильевич, блестя глазами. – Открою вам секрет: этим русским был я.
Он удалился, оставив хозяина дома и его гостя недоумевать, правда ли их гость пошутил и, если да, почему он говорил так уверенно.
Глава 28 Выстрел в ночи
– Нет, – сказал дядя Казимир, – я не смогу пойти сегодня в гости к Снегиреву. Во-первых, у меня будет болеть голова. Во-вторых, я буду простужен.
И в подтверждение своих слов он аппетитно чихнул, прикрыв рот маленькой пухлой ручкой.
– В-третьих, – сказала Амалия, – вы туда пойдете.
– В-четвертых, – решил не сдаваться дядюшка, – я подвергаюсь притеснениям, гонениям и… и унижениям! Зачем я тебе нужен? Какая от меня польза в доме Снегирева?
– Я буду очаровывать Бэрли, – объявила Амалия, – а вы будете перехватывать любого, кто попытается мне помешать. Будь то Снегирев с разговорами о России, Любовь Сергеевна с последними сплетнями и особенно – Лидочка. – Дядя открыл рот для возражения, но Амалия угадала его мысль. – Вы хотите сказать, что у нее ничего такого нет на уме, но вы забываете, она может повредить мне одним своим присутствием… Кто-то приехал?
Дядя без особого интереса посмотрел за окно.
– Это Анна Тимофеевна вернулась откуда-то, – сказал он. – Хотя… она даже не стала выходить. Сказала что-то сыну и снова уезжает. Ты, наверное, ждешь Сергея Васильевича?
– Должна же я сказать ему, что Колозина убили у нас под носом, – проворчала Амалия. – Мне одно не дает покоя. Зачем он взял с собой бритву? Для защиты это совсем неудобное оружие. Простой столовый нож и то лучше.
– Взял первое, что попалось под руку, – предположил Казимирчик, деликатно зевая, – или он вовсе не защищаться хотел, а перерезать кому-нибудь горло, например.
– Дядя! Вы просто невыносимы!
– И вообще нечего искать логику в поступках людей, потому что они чаще всего руководствуются вовсе не ею, – назидательно добавил дядюшка. – Важнее всего не то, что было у него в карманах, а то, что Колозин зачем-то вышел ночью из дома и был убит недалеко от нас.
– После чего волшебным образом переместился в сад Одинцовых, – задумчиво протянула Амалия, и ее глаза сверкнули.
– Ты куда? – спросил Казимир, видя, что его племянница с решительным видом поднимается с места.
– Пойду навещу Федора Алексеевича, – коротко ответила Амалия.
– А может, лучше подождать Ломова? – Нет слов, Казимир умел схватывать на лету.
– Справлюсь одна, – отрезала баронесса Корф.
Когда горничная доложила Федору, кто пришел, молодой человек досадливо поморщился и отвернулся к окну. По правде говоря, у него не было никакого желания общаться с Амалией, и его сердило, что он не может не принять ее. У Меркулова был порывистый характер, но он отлично понимал, что того, кто вызволил вас из серьезной беды, злить нельзя, иначе он вполне может переменить свое отношение и устроить вам какую-нибудь пакость.
– Хорошо, зови ее, – проворчал Федор.
И хотя Амалия была ему неприятна, он все же сделал попытку убрать бумаги со стола и отставить подальше пепельницу, полную окурков.
Начало разговора не удалось: Федор произнес несколько бессвязных фраз о том, как он рад видеть гостью и надеется, что ей удобно жить в их доме. Последние слова прозвучали так, словно он хотел ее упрекнуть, и молодой человек покраснел, сердясь на себя.
– Собственно говоря, я пришла сюда, чтобы поговорить о Селиванове, – сказала Амалия. – И о пожаре, который случился ночью. Меня чрезвычайно беспокоит сложившееся положение, и если вам что-то известно…
– Боюсь, я совсем мало знал господина Селиванова, – поморщился Федор. – Он пытался купить наше имение, но хотел, чтобы оно досталось ему за бесценок. Еще я видел его на вечере у Павла Антоновича, но там мы не общались.
– А когда Куприян Степанович недавно был у вас, чего он хотел?
– Все того же самого. Но я не намерен продавать имение.
– Понимаю. А зачем вы увезли тело Колозина?
Тон Амалии, когда она произносила последние слова, был таким же будничным, как и до того, однако от нее не укрылось, что ее собеседник непроизвольно дернулся и переменился в лице.
– Сударыня, прошу прощения, но я…
– Давайте сразу же упростим дело, Федор Алексеевич, – перебила его Амалия. – Мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что речь идет вовсе не об украденной горсти конфет. Вы рассказываете мне сейчас все и начистоту, и я буду думать, как решить этот вопрос с петербургским следователем. Или же я вызываю его, и объясняйтесь с ним сами, как хотите. Итак?
– Я его не убивал, – хрипло промолвил Федор.
– Все и начистоту, – повторила Амалия. – И сядьте. Рассказ будет долгим, потому что я захочу знать мельчайшие подробности.
Дернув челюстью, Федор рухнул на софу и обхватил голову руками.
– Думаю, вы мне не поверите, – проговорил он с горечью. – Если бы мне рассказали такое, я бы точно не поверил.
– Вы встречали Колозина раньше, до вечера у Снегирева?
– Нет, – он опустил руки и свесил их между колен. Вся фигура Федора выражала безнадежность.
– У вас были с ним какие-то конфликты, ссоры? – допытывалась Амалия.
– Как я мог с ним ссориться, если я его не знал? – уже сердито вскричал молодой человек.
– Хорошо, тогда какое впечатление он произвел на вас во время вечера?
– Он напомнил мне одного офицера из нашего полка, – с отвращением ответил Федор. – Тот всегда был чистенький, говорил гладко, умел подольститься к любому и особенно к командиру, а на деле был шулер и свинья.
– Как он умер? – поинтересовалась Амалия.
– Офицер? Зачем вам это знать?
– Простое человеческое любопытство. Так что с ним произошло?
– Точно никто не знает. Его просто нашли в злачном месте с проломленной головой.
– Деньги и ценные вещи?
– Были на месте, – Федор беспокойно шевельнулся. – Если вы думаете, что я имею отношение к его смерти…
– Сейчас меня интересует только Колозин, – сказала Амалия. – Вы с матушкой уехали после вечера. Что было дальше?
– Дальше? Ничего. Я пожелал ей спокойной ночи и ушел спать.
От Амалии не укрылось, что Федор сделал паузу перед тем, как начать следующую фразу – и не начал ее, потому что, очевидно, не успел толком обдумать, как ему выразить то, что он должен был сказать.
– Продолжайте, – подбодрила его Амалия.
– После возвращения с Сахалина я плохо сплю, – признался Федор. – Все дело в том, что там день, когда у нас ночь. И… словом, я почти заснул, когда сквозь сон услышал выстрел.
– Почему вы решили, что это именно выстрел?
– Сударыня, – усмехнулся Федор, – я военный человек… То есть был им. Конечно, я отличу звук выстрела от… да от чего угодно.
– Что было дальше? – спросила Амалия.
– Я встревожился и решил посмотреть, что происходит. За окном была ночь, кому взбрело в голову стрелять в такое время? В прошлом году почти все наши собаки погибли от какой-то болезни, и сад никто не охранял. Одним словом, я оделся, прихватил с собой свечу и вышел. Жучка спала в коридоре, я перешагнул через нее… В саду еле светилось какое-то бледное пятно, я направился туда и увидел разбитый фонарь, в котором догорало масло, и тело на земле. Он лежал лицом вниз, – пояснил Федор, – и мне пришлось его перевернуть. Ветер все время пытался погасить свечу, и мне приходилось то и дело закрывать ее ладонью, поэтому переворачивать тело было жутко неудобно…
– Там был кто-то еще?
– Нет. Никого.
– Как, по-вашему, Колозин попал в сад?
– Странный вопрос… Конечно, пролез там, где стена обвалилась. Он успел сделать буквально несколько шагов по нашему саду, и тут в него выстрелили сзади.
– Вы заметили какие-нибудь следы? Ведь до того падал снег.
– Никаких посторонних следов в саду не было, – твердо проговорил Федор.
– Вы уверены?
– Конечно, уверен.
– Получается, убийца стоял с той стороны стены?
– Наверное. Потом я сообразил, что надо было взглянуть, какие следы он оставил. Но в тот момент я не мог мыслить спокойно, я…
Он запнулся и побагровел.
– Вас охватила паника?
– Да. Я… у меня было ощущение, что моя жизнь только что начала налаживаться… И вот опять все рухнуло. Я не понимал, зачем Колозин был здесь, не понимал, кто его убил, но… его застрелили, и вот он я – бывший военный, только что из ссылки… Поймите, – страстно проговорил Федор, подавшись вперед, – я не за себя боялся на самом деле, я подумал, что это убийство, шум, который вокруг него поднимется, допросы, следователь, грязные домыслы газетчиков… они разорвут сердце моей матери… И поэтому я решил избавиться от тела. Я хотел увезти его в лес, но конь, на которого я погрузил тело, почуял мертвеца и стал нервничать… Я не мог с ним сладить. До леса мы не добрались, потому что конь вырвался, взвился на дыбы, и труп упал на землю… Я не смог погрузить его обратно, и мне пришлось оттащить тело в кусты.
– Которые находились в саду Николая Одинцова, – негромко заметила Амалия.
– Мне очень жаль, поверьте, – выдавил из себя Федор. – Но я не мог тащить на себе труп до леса… Даже ночью на дорогах попадаются люди, и… Вы, конечно, вправе презирать меня… Я и сам себя пре-зираю…
– Избавившись от тела, вы вернулись к себе? – спросила Амалия.
– Да, я был уверен, что не усну после всего, что случилось… но я лег и сразу же заснул как убитый… Позже я спохватился, что фонарь Колозина остался лежать в саду, но утром намело столько снега, что фонарь полностью скрылся под ним, и я решил ничего не трогать, чтобы не привлекать внимания.
– Не сомневаюсь, что потом вы не раз и не два возвращались мыслями к событиям той ночи, – заметила Амалия. – Как по-вашему, кто мог убить Колозина?
– Не знаю.
– Но хотя бы какие-то соображения у вас есть?
– Я не понимаю, кому вообще нужно было его убивать, – уже сердито отозвался молодой человек. – Простите, сударыня… но я даже подозревал, что это может быть как-то связано с вами…
– Со мной? Почему?
– Не знаю, – беспомощно признался Федор. – Просто вы… и это убийство… Зачем он забрался в наш сад? Хотя, наверное, я зря заговорил об этом…
– А как насчет тех двоих, что устроили скандал на вечере? Как по-вашему, могут они иметь отношение к убийству?
– Вздор, – решительно ответил Федор. – Ему было стыдно за жену, он отставной штабс-капитан, офицер, и он вовсе не убийца. А она – обыкновенная базарная баба. Все, что она может – это ругаться и сыпать оскорблениями. Слова – это метод нападения слабых людей, сильные сразу переходят к действиям…
– Скажите, что вы думаете о Павле Антоновиче и его семье?
– Что я думаю? – удивился молодой человек. – Они всегда были очень добры ко мне. Прислали мне на Сахалин разные вещи, книги… Ужасно неловко, что я до сих пор не поблагодарил Елену Владимировну…
– Вряд ли это была Елена Владимировна, – заметила Амалия, поднимаясь с места. – Думаю, что за посылками вам стоит совершенно другой человек.
– Вы хотите сказать… Надежда Павловна? – недоверчиво спросил Федор.
– Теплее, теплее, – улыбнулась Амалия. – Уверена, это была Лидочка. И даже могу объяснить почему, – добавила она, видя, что Федор готов возра-зить. – Романтическая девушка ее возраста не будет просто так читать «Остров Сахалин», это вовсе не развлекательная книжка. И она все время смотрит на вас… Только не думайте, что я говорю о книге.
– Сударыня, я не понимаю… – пробормотал ее собеседник, теряясь, – мы, кажется, вели речь совсем о другом… Тот следователь из Петербурга… Я готов рассказать ему все, что я сделал… Если он решит обвинить меня в сокрытии улик… но я не виновен в убийстве!
– Кажется, господин Ломов только что приехал, – сказала Амалия, бросив взгляд за окно. – Я передам ему то, что вы мне сказали. Возможно, он пожелает с вами побеседовать, чтобы уточнить кое-какие детали. Пока же я прошу вас никому не говорить о том, что вы видели тело Колозина в саду и тем более – что вы перевезли его в другое место. Кстати, вашей матери известно?..
– Нет, – горячо воскликнул Федор, – нет, я ничего ей не говорил! Я бы сгорел от стыда…
– Значит, о том, что случилось в ту ночь, будем знать только мы двое, – сказала Амалия, подходя к двери. – И еще одна маленькая просьба, Федор Алексеевич. Если вы вдруг снова где-нибудь наткнетесь на труп или случится еще что-то такое экстраординарное, ничего не предпринимайте, а зовите меня. Вы меня поняли?
– Как скажете, сударыня, – пробормотал пораженный Федор. – Хотя… я искренне надеюсь, что больше ничего подобного не произойдет.
Глава 29 Два студента
– Амалия Константиновна, что вы сделали с земским врачом?
– Я, Сергей Васильевич? Ничего.
– А почему же он так злобно на меня смотрел? Я ехал к вам, он попался мне на дороге и бросил на меня такой взгляд… В чем дело, сударыня?
– Вам показалось, Сергей Васильевич, – дипломатично промолвила его собеседница.
– Госпожа баронесса, – с гримасой раздражения промолвил Ломов, – при моей работе, если бы мне что-то казалось, я бы давно уже был трупом. И только не говорите мне, что вы перепутали Волина с мистером Бэрли.
– Сергей Васильевич! – Амалия сверкнула глазами на собеседника, но никакие глаза в мире, пусть даже самые прекрасные и самые сердитые одновременно, не могли произвести впечатления на ее коллегу.
– В сущности, я понимаю, почему вы оказали врачу предпочтение, – хладнокровно заметил Ломов. – Но не заставляйте меня напоминать вам, сударыня, о цели вашей миссии. Вас должен интересовать вовсе не земский доктор, а английский историк… А я пока попробую разобраться с тем, что тут творится. – Он немного помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. – Судя по всему, вы приняли на веру рассказ Меркулова? Могу ли я узнать почему?
– Детали, – сказала Амалия. – И ничего, кроме деталей.
– Например?
– Собака, которая спала в коридоре и через которую он перешагнул. Или свеча, которую надо было прикрывать от ветра и одновременно переворачивать тело. Он описывал то, что было, понимаете? Думаю, Меркулов сказал правду: он никого не убивал.
– Что ж, в таком случае я сейчас поеду к Одинцовым, – сказал Сергей Васильевич. – Пора всерьез браться за братца… Простите, сударыня, за Николая Одинцова.
– Полагаете, он мог убить Изотовых, а Колозин знал о его вине, но по какой-то причине решил молчать?
– Решил, – кивнул Ломов, – а потом передумал. Колозин стал требовать денег, Одинцов назначил ему встречу в чужом саду и убил его. Хотел бы я видеть его лицо, когда он утром отправился искать котенка и обнаружил труп приятеля в своем саду. Любопытная получилась ситуация, вы не находите?
– Хорошо, – сказала Амалия, – действуйте. Если Одинцов – убийца, вам остается только найти того, кто застрелил фабриканта. Но если Одинцов ни при чем…
– Тогда я продолжу искать убийцу, – ответил Ломов. – Если что-то выяснится, Амалия Константиновна, я обязательно дам вам знать.
Он попрощался с баронессой Корф и, не заходя во флигель, где не находивший себе места Федор Меркулов мерил комнату шагами, отправился к Одинцовым.
Николенька, сидя на диване, играл с Фруфриком, а Евгения, примостившись в кресле, вышивала. Когда вошел Ломов, она уронила вышивку и поднялась с места.
– Сергей Иванович! – От волнения она забыла его отчество. – А мы… мы вас не ждали… Может быть, чаю? Вы… вы официально или…
– Возможно, еще не вполне официально, – сказал Сергей Васильевич, отмечая про себя, что брат и сестра встревожены его появлением, но по-разному: сестра только чует угрозу, но не понимает, с какой стороны последует удар, а брат напрягся, потому что отлично знает, в чем дело. – Я бы хотел поговорить с Николаем Михайловичем с глазу на глаз, если вы не возражаете.
Евгения побледнела, ее губы задрожали. Она метнула на брата мученический взгляд, подобрала вышивку, оборвав нить и уколовшись, но даже не заметила этого.
– Я… я буду рядом, – шепнула она Николеньке.
Опустив голову, молодая женщина быстрыми шагами вышла из комнаты. Николенька мрачно смотрел на Ломова. Лицо у брата было такое же круглое, как у сестры, но черты более правильные, хотя красавцем его никто бы не назвал. Он олицетворял собой тот тип внешности, нередкий в России, которому совершенно не идет злость; а сейчас он именно что злился.
– Если я назову вас мерзавцем, вы меня арестуете? – выпалил молодой человек, багровея.
– Поверьте, я руководствуюсь исключительно благими мотивами, – холодно ответил его собеседник, садясь в кресло, стоявшее напротив Одинцова. – Уверен, вашей сестре вовсе не обязательно знать то, что вы мне сейчас расскажете.
– Я вам уже все сказал, – буркнул Николенька. – Но если вам угодно что-то обсудить…
– Мне угодно обсудить Дмитрия Ивановича Колозина и то, как вы жили с ним в одном петербургском доме, – отрезал Ломов. – Заодно, как я полагаю, вам придется рассказать, почему вы ни с того ни с сего бросили университет.
Котенок мяукнул. Николенька опустил голову и смотрел невидящими глазами на зверька, который крутился возле него на диване.
– Глупо я поступил, конечно… – устало проговорил молодой человек. – Надо было мне догадаться, что вы все равно узнаете. Да, я знал Колозина, и очень хорошо… Я верил, что мы были друзьями.
– Давайте по порядку, – попросил Ломов. – Как именно вы с ним познакомились?
– Поселились в одном доме. Я на втором этаже, он на четвертом. Постоянно сталкивались во дворе и вскоре выяснили, что оба учимся в университете. Я поступил на первый курс, он был уже на третьем. Я был, как я понимаю теперь, восторженным дурачком. – Николенька говорил медленно и печально, словно речь шла о дорогом любимом покойнике. – Столичный воздух ударил мне в голову. Петербург – особый город… да… А Колозин…
Он замолчал.
– Он был очень умен и много читал. Мог говорить убедительно и красиво о справедливости, долге, о том, что надо работать над собой, что общество не станет лучше, пока человек сам не усовершенствует себя. Конечно, потом я обнаружил, что все свои умные мысли он понадергал у графа Толстого или у кого-нибудь еще, но тогда я об этом не догадывался. – Николенька судорожно сглотнул, кадык на его шее дернулся. – Я им восхищался. Я был так рад, что у меня есть друг, который… Который лучше меня, понимаете? Я был скучный, провинциальный, не слишком образованный, плоско шутил, не умел одеваться. Мне казалось, что рядом с Митей Колозиным я стану лучше. А потом…
По лицу Николеньки пробежала судорога, он оборвал себя на полуслове и отвел глаза.
– Что-то произошло? – спросил Сергей Васильевич. – Что-то, что было связано с вашим другом?
Николенька дернул щекой.
– Однажды я шел домой и услышал на подходе к нашему двору какой-то нечеловеческий крик. Я весь похолодел… я подумал, что так кричит живое существо в смертной муке… Я бросился на крик… и возле стены я увидел Колозина. Он стоял в нескольких шагах от нее и с размаху швырял об нее что-то, что сначала показалось мне чем-то вроде мятой тряпки. Я не сразу сообразил, что это была кошка. – Лицо молодого человека исказилось. – Она… она жила у нас во дворе… просто брошенная кошка… обычный зверь… ее никто не обижал, она никому не мешала… Боже мой!
– Что сказал Колозин, когда увидел вас? – спросил Ломов.
– По-моему, он немного растерялся, но тотчас же включил свою силу убеждения и стал говорить, что кошка была бешеная и она бросилась на него… Но я видел ее утром – она была такая же, как всегда. Я понял, он лжет, он мучил кошку просто потому, что… ему так захотелось. Он несколько раз говорил при мне, что только глупцы сюсюкают с детьми и животными… – Николенька медленно покачал головой. – Почему я не ударил его? Почему я…
– Потому что вы человек другого склада, – сказал Ломов. – Не забивайте себе голову.
– Да, но я должен был сделать хоть что-то… а на меня словно напало оцепенение… Кошка корчилась на мостовой и издавала этот ужасный звук… не то визг, не то стон… Я не смог добить ее… пришлось вызывать дворника. А со мной после этого случая что-то произошло. Я понял, что, когда Колозин говорил о справедливости, свободе и прочем, он врал… Потому что справедливые люди не истязают животных. Никакие принципы ничего не стоят, если вы сами их не придерживаетесь… И… со мной что-то произошло… Я не мог больше видеть этот дом, этот двор, не мог видеть самодовольную физиономию своего бывшего друга… Он был просто мелочный, тщеславный, жестокий тип… А я навоображал себе о нем бог весть что… Он ведь постоянно мне врал, понимаете? Он врал, что у него богатый отец, врал, что надо становиться лучше, а сам в глубине души потешался над теми, кто ему верил… Я перебрался в другую квартиру и перестал общаться с Колозиным, но мне по-прежнему было физически плохо. Я не мог отделаться от мысли, что все люди – лицемеры и мерзавцы, и чем больше они прикидываются порядочными, тем они на самом деле хуже. Я стал пить, но мой желудок так устроен, что я даже толком напиться не могу, меня тошнит после нескольких рюмок… Закончилось все тем, что я перестал ходить на лекции… а потом меня отчислили. Вскоре я прочитал в газете об убийстве Изотовых и о том, что Колозина задержали… Честно вам скажу: я не удивился. После того, что я видел, я считал вполне вероятным, что он убил четырех человек. Сам я вернулся домой и постарался забыть все, что было с ним связано. Я почти не сомневался, что его осудят, но тут в дело вмешался Павел Антонович, стал доказывать, что Колозин ни при чем, против него нет никаких улик… и все это обсуждали без конца у нас, у Снегирева, у других знакомых… Потом Колозина оправдали, и он решил приехать к Павлу Антоновичу поблагодарить его за заступничество. Я не хотел идти на вечер, я чувствовал, что мне нечего там делать, но Евгения принялась настаивать, как же так, она одна, а я не приду… Пришлось мне сопровождать ее и слушать за ужином всю ту чушь, которую он нес… о торжестве справедливости и прочем, что я слышал уже не раз… Я был рад, когда мы с сестрой наконец уехали. Единственное, ради чего стоило побывать на том ужине, – это баронесса Корф… Вы ее видели? Какие плечи, какие глаза, какая осанка… а волосы!
– Скажите, Николай Михайлович, Колозин говорил с вами в тот вечер? – спросил Ломов.
– Нет. Он пытался подойти ко мне после ужина, но я просто-напросто сбежал в другую комнату.
– А что вы можете сказать об Изотовых? Вы ведь жили в одном доме и наверняка видели квартирных хозяев Колозина, когда навещали его.
– Люди как люди, – пожал плечами Одинцов. – Я не обращал на них особого внимания. У хозяйки голос был такой же пронзительный, как у сестры, и когда она начинала кричать, Колозин уверял, что ему хочется убежать из дома.
– В последний вечер своей жизни он заявил, что знает, кто на самом деле убил Изотовых, – сказал Ломов. – Как по-вашему, кого он мог иметь в виду?
– Он назвал меня? – Николенька переменился в лице. – Послушайте, такая выходка вполне в его духе… Ему страшно не понравилось, когда я попытался ускользнуть из-под его влияния после того дикого случая с кошкой. Он просто решил отомстить мне таким образом, понимаете? Если бы Колозин на самом деле знал, кто убийца, он бы сразу же сказал следователю… Стал бы он сидеть в грязной камере с другими преступниками… Не такой это был человек! Он себя холил и лелеял… одевался очень обдуманно… Может быть, не как щеголь, потому что денег у него было немного, но старался выбрать самую лучшую одежду… Это кошку несчастную можно было бить о стену, а себя он очень любил…
– Что вы почувствовали, когда увидели его в саду? – не удержался Ломов.
– Я даже не понял сначала, что происходит. Его сильно замело снегом… Фруфрик пищал… Я подумал, может быть, какой-нибудь пьяница забрел в сад и замерз… Подумал, может быть, можно еще что-то сделать, спасти его… А потом увидел лицо. Я оцепенел… Ведь он считал себя сильным, неуязвимым, а жизнь обошлась с ним в точности как он с той кошкой… И именно Фруфрик привел меня к его телу. Но, конечно, все это вздор… совпадения, которые ничего не значат…
Николенька умолк, отвернулся и угас. Лицо у него было теперь измученное, под глазами были видны синяки от треволнений, недосыпания и разговора, который совершенно его вымотал.
– Скажите, – спросил Ломов, – если Колозин знал убийцу, мог он его шантажировать, например?
– Возможно. Но не только ради денег, а и из желания помучить.
– Он встречался прежде с кем-то из присутствующих на вечере? Кроме вас, разумеется.
– По-моему, ни с кем, – ответил Николенька, поразмыслив. – Понимаю, о чем вы думаете. Он хвалился, что знает настоящего убийцу, и его самого убили. Но он не был знаком ни с кем, кроме меня… Вы меня арестуете?
– Пока – нет. Вы сказали о нем: тщеславный, жестокий, самолюбивый. У такого человека наверняка имелись враги. Кто-нибудь из них мог желать ему смерти?
– Кто-то смеялся над его речами, кто-то его недолюбливал, – ответил Николенька. – Но у него не было таких врагов, чтобы они угрожали его жизни. Ни одного.
Глава 30 Детская мечта дядюшки Казимира
Павел Антонович Снегирев был человеком весьма-весьма хлебосольным, и вечера у него пользовались заслуженной популярностью. Сам Снегирев полагал, что это происходит оттого, что Александровский уезд Владимирской губернии – место приятное, но слишком сонное, и люди здесь тянутся к интеллектуальному общению, которого им зачастую не хватает. У его жены было на этот счет свое мнение, которое, впрочем, она никогда не высказывала при муже – она считала, что мало кто откажется поесть на дармовщинку, да еще в обществе личности, знаменитой на всю Россию. Хотя Павел Антонович зарабатывал много, деньги у него не задерживались, и Елена Владимировна вся извелась, изобретая такие ужины, чтобы они были не слишком дорогостоящими и в то же время не роняли славу ее мужа. Она аккуратно, но твердо отваживала тех, кто, по ее мнению, не мог ничего дать Павочке в плане общения и лишь объедал ее семью; но все усилия хозяйки дома пошли прахом после того, как стало известно об убийстве Колозина. То и дело в усадьбу наведывались самые разные люди – репортеры столичных и провинциальных газет, следователи и полицейские, друзья и сторонники Павла Антоновича, не друзья и не совсем сторонники, а также любопытные, которым не лень было приехать, чтобы лично узнать, как Павел Антонович Снегирев справляется с постигшим его несчастьем. Устав от вынужденного общения с людьми, которых она вовсе не жаждала у себя видеть, на очередной вечер Елена Владимировна решила пригласить только ограниченное количество знакомых: соседей Меркуловых и их гостей, Одинцовых, Нинель Баженову и вдову Селиванова. Последняя письмом ответила, что приехать не сможет, и это разочаровало хозяйку дома, которая считала, что вдове отлично известно, кто убил ее мужа, но она ловко водит следствие за нос. Такого же мнения придерживалась и Нинель.
– Убили Куприяна Степановича, конечно, из-за его махинаций, – говорила Нинель, аж посверкивая глазами от удовольствия, – а дом она сама подожгла, чтобы получить страховку.
– Но я слышала, что у нее дети едва не сгорели… – пыталась возражать Анна Тимофеевна.
– Ах, да оставьте! – воскликнула Нинель. – Выдумать-то можно что угодно…
– Но зачем ей страховка? – недоумевала Елена Владимировна. – Селиванова – богатая вдова…
Хотя хозяйка дома была не прочь верить, что жена убитого знает больше, чем говорит, мысль, что та могла быть поджигательницей, ее все же шокировала.
– Откуда вы знаете, что она богата? – усмехнулась Нинель. – Может быть, у Селиванова дела совсем плохи. Может быть, он оставил одни долги… Сами знаете, как у нас в России бывает: сегодня миллионщик, завтра погонщик…
В другом углу гостиной Евгения Одинцова, нервно заводя за ухо прядь волос, рассказывала Наденьке о визите Ломова, который допрашивал ее брата. Сам Николенька в это время стоял у окна и не принимал в разговоре участия.
– Я думала, что все о нем знаю… а он ничего не говорил мне про Колозина! – Она обиженно оглянулась на брата. – Я чуть не упала в обморок от страха там, за дверью… Я думала, следователь его арестует…
– Меня не за что арестовывать, – промолвил Николенька негромко, ни к кому конкретно не обращаясь. – Я не убивал его.
– Ну, а если бы следователь так решил?..
Николенька пожал плечами, подошел к столу, на котором лежала забытая кем-то колода карт, сел и стал раскладывать пасьянс.
– Он Лидочку допрашивал больше часа, уверена ли она, что видела в окно, как Колозин уходил, – сказала Наденька.
– Он мне не нравится, – решительно сказала Евгения, – но я думаю, он найдет убийцу… С такой обстоятельностью, вниманием ко всем мелочам… – Она повернулась к брату. – Ты забыл про шестерку червей.
– Ничего я не забыл, – сухо возразил Николенька. – Она мне пока не нужна.
– Но под ней только одна карта, и ты можешь освободить целый ряд!
– Мне не нужен свободный ряд. Что я стану с ним делать? У меня все равно нет открытых королей!
Мистер Бэрли, проходя мимо, бросил быстрый взгляд на стол, но, увидев, что Николенька всего лишь раскладывает пасьянс, равнодушно отвернулся и проследовал дальше. Однако этот момент не ускользнул от Казимира Браницкого, который сидел на диване и потягивал кофе. Дядюшка Амалии не считал себя каким-то особенно проницательным человеком, но то, что он только что заметил, его заинтересовало. «Эге, – сказал себе Казимирчик, – а что, если?..» И хотя мало кто рискнул бы назвать его авантюристом, в его голове тотчас же сложился дерзкий план, который в случае удачи мог означать его скорое возвращение в Петербург, по которому Казимирчик – прямо скажем, неожиданно для себя – успел порядком соскучиться.
Шурша лиловым бархатным платьем, к нему подошла Амалия.
– Кажется, Лидочка сейчас в соседней комнате, – хладнокровно заметил дядюшка. – И мистер Бэрли наверняка где-то поблизости от нее.
Амалия нахмурилась.
– Что, ничего не выходит? – добродушно спросил дядюшка, ставя чашку на столик.
– Стоит мне только захотеть… – начала Амалия, оглядываясь. Но ни хозяйка дома, беседовавшая с Баженовой и генеральшей, ни Одинцовы с Наденькой не обращали на них внимания.
– Но ты же не хочешь, – перебил ее дядюшка. – У тебя это на лице написано. А что, если я сумею тебе помочь?
– Каким это образом? – недоверчиво спросила его собеседница.
– Ну, – туманно ответил Казимирчик, почесывая ухо, – есть разные методы. Правда, вряд ли я смогу заставить его написать о России хорошо, но что, если я уговорю его не писать вообще?
– Он несколько лет общался по почте со Снегиревым и потратил время, чтобы приехать сюда, – сухо сказала Амалия. – По-твоему, теперь он оставит свою затею?
– Еще как, – объявил дядюшка, – если я возьмусь за дело. Но мне нужно… э… некоторое поощрение.
– Вас уже поощрили за то, что вы приехали сюда, – не преминула уколоть его Амалия. – И довольно щедро, учитывая, что вам ничего не приходится делать.
– Вот именно, – с готовностью подтвердил ее собеседник. – А если я сделаю за тебя твою работу, это должно быть оплачено дополнительно.
– Сколько? – мрачно спросила Амалия.
– Не так быстро, – сказал Казимирчик. – Собственно говоря, речь вовсе не о деньгах.
Амалия напряглась – и, как оказалось, вовсе не зря.
– В детстве, – доверительно сообщил Казимирчик, – у меня была мечта.
Амалия похолодела.
– Когда я был маленьким мальчиком, я однажды видел у одного из наших родственников – очень дальних, разумеется, потому что нам такие вещи были не по карману, – золотой портсигар. Такой, понимаешь ли… из цельного золота, совершенно роскошный… И спереди – бриллианты. – Глаза Казимирчика мечтательно зажглись. – Каждый бриллиант был величиной с горошину, не меньше, а все вместе они сверкали, как… словом, сверкали. Столько лет прошло, а я до сих пор помню их огранку, их расположение, их непревзойденный блеск. Так вот, я с самого детства мечтал о таком портсигаре. Чтобы я достал его из кармана и все подумали, что я князь, не меньше.
Амалия перевела дыхание.
– Э… Дядя, вы же сами говорили, что вы не созданы для богатства!
– Я говорил? – всполошился Казимирчик. – Когда это было?
– Во время ваших прошлых именин.
– Боже мой! – расстроился дядюшка. – Должно быть, я тогда слишком много выпил. Шампанское ударило мне в голову… Лично я всегда считал как раз наоборот: честный человек не создан для бедности. И потом, золотой портсигар – это вовсе не богатство, а самая необходимая вещь. Да!
Он посмотрел на Амалию с лукавством, которое она плохо выносила и в более спокойном состоянии.
– Дядя, – терпеливо сказала Амалия, – вы хотя бы понимаете, о чем вы меня просите? Простите меня, но с вашим характером, с вашими привычками… Как только у вас заведется такая дорогая вещь, с вами непременно что-нибудь случится! Или вы ее потеряете, или, еще хуже, на вас нападут, ограбят и проломят вам голову… И что я тогда скажу матери? Она же не простит, если с вами что-то произойдет!
И тут баронесса Корф убедилась, как опасно становиться между человеком и его детской мечтой.
– Ты совершенно права, – сокрушенно промолвил Казимирчик. – С такой вещью из дома не выйдешь. Значит, тогда мне нужны два портсигара: один – такой, как я описал… с крупными бриллиантами… а второй – попроще, просто из цельного золота. Первый я буду держать у себя в столе и любоваться на него, а второй буду носить с собой.
Он с надеждой посмотрел на племянницу, которая пребывала в явном затруднении. По правде говоря, Амалия считала, что убивать родственников – дурной тон, но в эти мгновения она была близка к тому, чтобы пересмотреть свою точку зрения.
– Вы хоть понимаете, что мне не возместят ни копейки, если я удовлетворю вашу просьбу? – наконец промолвила она. – Я даже не говорю о том, сколько стоят такие вещи…
– Так ведь деньги все равно останутся в семье, – безмятежно парировал негодный Казимирчик. – И потом, мне показалось, что он того стоит.
– Кто? – Его собеседница аж подскочила на месте.
– Ну, доктор… Гм! Так мы договорились?
– Договорились, пропадите вы пропадом! – не выдержала Амалия. Она и сама не заметила, как повысила голос.
Евгения и Наденька прервали свой разговор и удивленно оглянулись на нее.
– Это было невежливо, – хладнокровно уронил Казимирчик, поднимаясь с места. – Поэтому тебе придется позаботиться о том, чтобы у моих портсигаров были достойные футляры. Я не собираюсь хранить их, завернув в носовой платок!
И, воспользовавшись тем, что Николенька куда-то отошел, он подсел к столу, завладел колодой карт и принялся их перебирать.
– Дядя, вы не играете в карты, – мрачно сказала Амалия. – Вы обещали моей матери…
– Обещал, а теперь нарушу слово, – кивнул неисправимый Казимирчик. – Потому что детская мечта того стоит. Кстати, если что, в карты я совсем не умею играть и постоянно проигрываю.
– Ну, раз так… – Амалия нахмурилась. – С какой стати вы взяли, что Бэрли можно на этом поймать?
– Я видел, как он смотрит на карты, – безмятежно ответил Казимирчик. – Поверь мне, он азартен. Когда у человека скучная, книжная, однообразная жизнь, он сойдет с ума, если не найдет себе отдушину. Твой мистер Бэрли – скрытый игрок, или я не Казимир Браницкий! Веди его сюда и больше ни о чем не беспокойся.
Побежденная уверенностью, которая звучала в его тоне, Амалия отправилась в соседнюю комнату, где Лидочка предпринимала нешуточные усилия, чтобы остаться с Федором тет-а-тет, но ей мешал Бэрли, который пытался отвлечь ее разговором о пустяках, и ни капли не облегчал задачу Сашенька, который вообще не понимал, что происходит, и только путался у всех под ногами.
– А где Павел Антонович? – спросила Амалия.
– В кабинете беседует с очередным газетчиком, который хочет знать, за что убили Колозина, – проворчал Сашенька. – Папа уже устал объяснять, что он понятия не имеет, что случилось.
– Пресса – это очень важно, – рассеянно промолвил Бэрли, глядя на Лидочку. Взгляд его перебегал со светлых колечек волос над тоненькой шейкой девушки на ее длинные ресницы, потом обратно на шею и ниже, на маленькую грудь под пестрой материей платья, и Федор, заметив этот взгляд, нахмурился.
– Полагаю, Анна Тимофеевна будет рада, если вы придете и поможете сменить тему, – сказала ему Амалия. – Госпожа Баженова уже полчаса доказывает, что Селиванова сама подожгла себя, чтобы получить страховку, это становится скучно.
Таким образом баронесса Корф добилась того, чтобы вся компания переместилась в большую гостиную, и, как бы невзначай взяв под руку мистера Бэрли, направила его к столу, за которым сидел Казимир.
– Дядя, – сказала ему Амалия тоном упрека, – вы же обещали не брать больше карт в руки! После того, как вы столько проиграли…
– О, – неопределенно протянул Бэрли, – так вы играете в карты?
– Сейчас только по маленькой, – вздохнул Казимир. – Между нами, сэр, это лучший вид отдыха. Конечно, человеку, который не признает карт, трудно с этим согласиться…
– Я немножко играю в карты, – признался Бэрли. – Совсем чуть-чуть.
– О! – оживился Казимир. – Так, может быть, сыграем до ужина одну партию? Ставка… ну, допустим, пять копеек. Чтобы игра не теряла интереса, – пояснил он.
– Почему бы и нет? – степенно ответил мистер Бэрли и сел к столу.
Они сыграли партию, и еще одну, и еще, и когда пришло время ужинать, мистер Бэрли отказался и объявил, что он сыт. Лицо его раскраснелось, короткие волосы, казалось, стали дыбом. Ставки уже давно переросли скромные пять копеек, и настал момент, когда Казимир проиграл почти все.
– Дядя! – воскликнула Амалия, – я так и знала, что вы опять все проиграете… Заканчивайте игру, и мы поедем домой.
– Да-да, разумеется, дорогая, – рассеянно ответил Казимир, – только закончим эту партию…
Он закончил ее и выиграл, потом выиграл снова, и опять, и опять. Бэрли весь вспотел и попросил разрешения отыграться. Казимир объявил, что он не против. Бэрли выиграл, потом проиграл, потом выиграл, потом выиграл почти все, что было на столе (а к тому моменту там лежали и монеты, и кредитные билеты, и даже золотые часы Казимирчика, которые он поставил, когда закончились деньги). Остальные гости давно разъехались, кроме Амалии, которая сидела на диване и с преувеличенным вниманием смотрела в окно. Снегиревы ходили через гостиную на цыпочках, дивясь про себя и гадая, когда закончится этот картежный марафон. Казимир снова отыгрался, потом проиграл, потом выиграл у Бэрли и в третьем часу ночи отнял у него все, даже его часы. Англичанин хотел бежать к себе и ставить на кон средства, отложенные на обратную дорогу, но Казимир великодушно отказался, объявив, что не имеет права оставлять его без ничего.
– Но я хочу отыграться! – вскричал Бэрли, вцепившись в волосы. – Мне так везло почти до самого конца… У меня еще есть медальон моей матушки…
– Нет, что вы, сэр! – с чувством промолвил Казимир. – Мне будет совестно… Хотя, если хотите, мы сыграем не на деньги…
– А на что? – с надеждой спросил англичанин.
– На вашу книгу. Разделим ее на главы, и… сыг-раем!
– Но она еще не написана! Я не могу… И что вы будете делать с текстом, которого даже нет?
– Да, – вздохнул Казимирчик, подгребая к себе груду денег и предметов, лежащих на столе, – это я не продумал… В самом деле, если книги даже нет… Но вы отличный малый, и я хочу дать вам возможность отыграться. – Бэрли затрепетал. – Знаете что? – великодушно промолвил дядюшка Амалии. – Давайте так: если я проиграю, вы получаете деньги, а если выиграю, вы не пишете книгу. То есть ваш текст, он как бы мой, но его вообще нет… и… словом, вот что я предлагаю. Хотя, наверное, это нелепо, – с сожалением добавил он, – и вы откажетесь.
Увы, мистер Бэрли не отказался и в пятом часу утра проиграл подчистую все – включая свою книгу о России, которая даже не была написана.
– Дядя, – простонала Амалия, – вам же вчера было совсем плохо! Доктор запретил вам волноваться…
– Никаких волнений, – ответил Казимир, поднимаясь с места и рассовывая выигранное по карманам. – Надеюсь, сэр, мы еще встретимся у Павла Антоновича и еще сыграем… А пока ваша книга принадлежит мне, и вы ее не пишете. Помните: вы дали слово!
– О да, не беспокойтесь, мы, англичане, всегда держим свое слово! – пообещал Бэрли. Вид у него был одновременно и несчастный, и удовлетворенный, какой бывает лишь у человека, который совершил ошибку, но считает, что все было не зря.
Когда Амалия и Казимир вернулись в усадьбу Анны Тимофеевны, снаружи уже начало светать.
– Разумеется, никакой игры больше не будет, – сказала Амалия. – Вы заболеете, сляжете в постель, будете чуть ли не при смерти, а потом я вас увезу.
– Я могу заболеть хоть сейчас и уехать в Петербург для консультации с докторами, – безмятежно ответил дядюшка.
– Нет, если вы сразу же уедете, он может догадаться, – покачала головой Амалия. – Не беспокойтесь, вы скоро вернетесь домой… и я тоже.
– Надеюсь, бриллианты на портсигаре будут крупными, – сказал Казимирчик на прощание. – Помни, я рассчитываю на твою порядочность!
И он закрыл за собой дверь.
Глава 31 Последний свидетель
У Сергея Васильевича Ломова день выдался куда менее насыщенным, чем у баронессы Корф. Он отдавал указания, заполнял бумаги, разговаривал с людьми, а ближе к вечеру отправился навестить Любовь Сергеевну Тихомирову, которая остановилась в ближайшем заштатном городке у своей дальней родственницы. С остальными гостями, которые вместе с Колозиным присутствовали на ужине у Снегирева, Ломов уже успел побеседовать, но хотя они были готовы рассказать ему все, что знали, и наперебой выдвигали различные версии, он до сих пор не мог подобрать ключа к убийству студента.
Тихомирова жила в небольшом деревянном домике напротив церкви. По комнатам слонялась маленькая безучастная старушка в черном, которую Любовь Сергеевна представила как свою двоюродную тетку. В начале разговора Ломов уточнил подробности для протокола и узнал, что его собеседнице пятьдесят два года, вдова, из мещан, православного вероисповедания. Муж ее погиб на охоте, когда у него в руках разорвалось ружье, и оттого она терпеть не могла огнестрельного оружия. Тетка принесла кофе, но Сергей Васильевич посмотрел на него и, определив по оттенку напитка, что его не ждет ничего хорошего, решил не рисковать.
– Если вы захотите с ней поговорить, то помните, пожалуйста, она глухая, – сказала Тихомирова.
– Вообще-то я приехал, чтобы поговорить с вами, – напомнил Ломов.
Любовь Сергеевна оживилась и стала объяснять, она никогда прежде не давала показаний, она приехала в уезд, чтобы познакомиться со Снегиревым, и что Павел Антонович – прекрасный человек, но сама она никак не ожидала, что у него в доме произойдет убийство.
– Колозина убили вовсе не в доме, – сказал Ломов.
– Ах! Все-таки в саду у Одинцовых?
– Нет, и не там.
– А где же? – Любовь Сергеевна загорелась любопытством.
– Тайна следствия, но я скажу вам, если вы мне расскажете что-нибудь интересное, – ответил Ломов, изображая галантную улыбку. Он почти не сомневался, что зря теряет время со свидетельницей, которая вряд ли замечала кого-то, кроме ее обожаемого Снегирева, но роль следователя по особо важным делам требовала жертв.
Однако почти сразу же Сергей Васильевич уловил, что его собеседница как-то закручинилась, и на ее лицо набежала тень.
– Я и в самом деле знаю кое-что, – призналась она, помедлив. – Но… но мне все же кажется, что он просто пошутил.
– О чем вы, сударыня? – осторожно спросил Ломов.
Тихомирова шумно вздохнула и, порывшись в сумочке, достала из нее дамскую записную книжечку величиной с ладонь, с золотым обрезом и кожаным переплетом.
– Тут мои заметки, – пояснила она, немного стушевавшись. – Я буду сверяться с ними, чтобы освежить память.
– Вы ведете дневник? – напрямик спросил Ломов.
– Что? Нет! – Любовь Сергеевна порозовела. – Это просто записи… дорожные расходы… интересные мысли, которые приходят в голову… разговоры умных людей… Вечер у Павла Антоновича показался мне выдающимся событием, – пояснила она, – поэтому, когда я вернулась домой, я записала то, что запомнила.
Она открыла книжку, нашла нужную страницу и откашлялась.
– Итак, «Вечер у П. А.». Ну, тут понятно, о чем речь… «Семья: жена – молодится, сын – невыразительный молодой человек, старшая дочь…»
– С вашего позволения, – не утерпел Ломов, – я бы предпочел перейти прямо к сути. Что вы запомнили о Дмитрии Колозине?
Любовь Сергеевна нахохлилась. Она предпочла бы обсудить некоторые мысли Снегирева, в частности его слова о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, а Россия есть Россия, но, вероятно, интересы следователя по особо важным делам влекли его в совершенно другую сторону.
– Положительный молодой человек, – ответила Тихомирова на слова Сергея Васильевича. – Производил самое приятное впечатление. То есть… – она помедлила, – мне так казалось вначале. Когда я его увидела, то не удивилась, что Павел Антонович заступился за него. Правда, за ужином Колозин выглядел уже не так безупречно… Он все время пытался обратить на себя внимание баронессы Корф и делал это… не как воспитанный человек. И еще я заметила, он пьет гораздо больше, чем полагается в его возрасте. Дважды он надерзил Павлу Антоновичу: первый раз – когда тот сказал, что на протяжении истории то, что мы называем Русью и Россией, есть не одно государство, а несколько разных государств, каждое из которых складывается не обязательно даже из обломков предыдущего, а создается и воссоздается вокруг русской идеи и ее носителей, – Любовь Сергеевна заглянула в книжечку и изложение слов Снегирева прочитала по ней. – Эта идея также не является данностью, она эволюционирует и развивается. Временами, к сожалению, она утрачивает свою силу, превращается в формальность, и тогда может произойти разрушение государства. Так считает Павел Антонович, а Колозин на это ответил, что идеи не создают государств. Второй раз студент нагрубил Павлу Антоновичу, когда тот сказал, что ненависть некоторых русских к России – это единственная форма любви к ней, которая им доступна. Тут Колозин засмеялся и сказал, что, если бы у людей не было родины, ими невозможно было бы манипулировать и призывать их на войну, например. «Было бы забавно, если бы каждый мог выбирать свою родину, – продолжал он, – почему-то я думаю, что нищие и убогие страны сразу окажутся никому не нужны».
– Полагаете, Колозина могли убить из-за его рассуждений? – мягко спросил Ломов, чтобы вернуть собеседницу на землю.
– Боюсь, его рассуждения никого не интересовали, кроме его самого, – ответила поклонница Снегирева, насупившись. – Ему просто хотелось привлечь к себе внимание, хотя он должен был понимать, что люди собрались, чтобы послушать Павла Антоновича, а не его. Не все, конечно – например, баронесса Корф была совершенно равнодушна к хозяину дома…
«Однако!» – помыслил Сергей Васильевич, а вслух спросил:
– Могу ли я узнать, сударыня, почему вы так решили?
– Она делала вид, что интересуется предметом разговора, и задавала вопросы Павлу Антоновичу и мистеру Бэрли, – сказала Любовь Сергеевна, – но только из вежливости. На самом деле ей было скучно. Она чаще смотрела на вазу в центре стола и на свою тарелку, чем на людей.
Ломов беспокойно шевельнулся.
– Я очень рад, что мне попался такой наблюдательный свидетель, как вы, – заметил он, уводя разговор от опасной темы. – Может быть, вы запомнили о Колозине еще что-нибудь?
– Я к этому и веду, – строго ответила Любовь Сергеевна и перелистнула страницу в книжечке. – После ужина я не стала сразу уезжать. Я думала, Павел Антонович может сказать еще что-нибудь интересное… Но он куда-то ушел, а говорили другие. Некоторые гости уехали. Я тоже начала думать, что и мне пора домой, но я не хотела исчезнуть, не попрощавшись с хозяином. И тут я услышала разговор Колозина с дочерьми Павла Антоновича. Он сказал им, что знает, кто убил Изотовых.
– По словам дочерей, – заметил Ломов, – он не назвал имени, и даже намека не дал.
– Да, так оно и было, – подтвердила Любовь Сергеевна. – Они заинтересовались и попытались выведать у него имя, но как только Колозин понял, что они в его власти, он стал их дразнить, будто он не имеет права говорить им об убийце, это может быть опасно, и все в таком же духе. Потом младшая дочь Снегирева сказала, что он все выдумывает, а старшая поддержала ее словами, что Колозин на самом деле ничего не знает и только морочит им голову. Он объявил, что в таком случае больше ничего им не скажет, и ушел в гостиную. Предыдущий разговор был на верхней площадке лестницы, – на всякий случай пояснила Любовь Сергеевна, – и любой мог его слышать.
– Боюсь, вы не сообщили мне ничего нового, – поморщился Сергей Васильевич. – Мне известно о разговоре, который вы описали, и он задает больше вопросов, чем дает ответов.
– Погодите, вы еще не дослушали, что было потом, – сказала Любовь Сергеевна. – По правде говоря, поведение Колозина меня возмутило. Мне не понравилось, как он обращался с дочерями Павла Антоновича, и мне не понравилось, что он замалчивал имя убийцы. Поэтому я пошла за ним и попыталась его убедить, что он не прав и что, если он действительно знает, кто убийца, он должен сказать, потому что этот человек может снова совершить преступление. Он выслушал меня, недобро прищурившись, – Тихомирова поежилась, – и смотрел на меня с таким неприязненным видом, что я даже немного струхнула под конец. Потом он наговорил мне дерзостей, что разговор был не для моих ушей и что в моем возрасте стыдно подслушивать. Я снова стала его убеждать, что он обязан назвать имя убийцы, но он перебил меня и сказал буквально следующее: «Вы глупая старая курица. Это я их убил, ясно вам? Поэтому я знаю, кто убийца». По правде говоря, я опешила, – нервно продолжала Любовь Сергеевна, – а он заметил это и стал расписывать, что мамаша постоянно требовала деньги, папаша был полное ничтожество, а дети все время визжали и хныкали, и все они ему надоели до тошноты. Еще он сказал какую-то странную фразу – что прикончить их было не труднее, чем кошку, которая шипела на него во дворе. Но… он ведь сказал неправду, да? Он рассердился и хотел меня проучить, и я так это и поняла…
– Подождите, – перебил собеседницу Ломов. – Он точно упоминал кошку?
Любовь Сергеевна кивнула, не сводя с него круг-лых блестящих глаз.
– Если вы ему не поверили, – медленно проговорил Ломов, – такой человек, как Колозин, должен был это заметить. Он упоминал какие-то подробности, чтобы убедить вас? Говорил что-то… еще?
– Ох, ну вы же не думаете… – испуганно залепетала Любовь Сергеевна. – Он что-то говорил о тишине… что дети шумели, мать бегала, скандалила, ее муж заходил к нему в комнату и заводил бесконечные бессмысленные разговоры… а когда они умерли, наконец стало тихо, и он впервые за долгое время был счастлив… Но… он ведь мог и придумать все это, да? Он ведь не убивал их… Он же не мог! Его суд оправдал… И Павел Антонович столько для него сделал…
Ломов молчал.
– А Колозин, мне кажется, вовсе не был ему благодарен… – бормотала Любовь Сергеевна, припоминая. – Он говорил ужасные вещи… что раз Снегирев купился на его сказочку, какой он умный… Говорил, что будет забавно поглядеть на выражение лица Павла Антоновича, когда Колозин перед отъездом скажет ему, что от всей души благодарен Снегиреву за хлопоты, потому что убил тех четверых и не знал, как выпутаться… Я… честное слово, я не знала, куда от него деться… Я решила тогда, что Колозин все же слишком много выпил… Но теперь я понимаю, что для пьяного он говорил чересчур логично…
Любовь Сергеевна положила записную книжку и стиснула руки.
– Боже мой, – пробормотала она, – что теперь будет…
– Вы кому-нибудь рассказывали о вашем разговоре с Колозиным? – спросил Сергей Васильевич мрачно.
– Нет. Я… я думала, он хотел посмеяться надо мной… И мне было неприятно вспоминать об этом.
– При вашем разговоре кто-нибудь присутствовал?
Любовь Сергеевна энергично помотала головой.
– А кто-нибудь мог вас слышать?
– Я не знаю… Не знаю. Наверное, мог, – удрученно промолвила она. – Но когда я вышла из гостиной, я никого не заметила.
Глава 32 Санки
Когда Сергей Васильевич проснулся на следующее утро, он вспомнил, что вчера вечером едва успел отправить две телеграммы в Петербург и что из-за этого пришлось беспокоить начальника почтово-телеграфной конторы, потому что в Александрове присутственные места закрывались рано.
«Интересно, успеют ли они управиться сегодня… Хотя… Если обыск будет проводить толковый сотрудник… и если нам повезет во втором случае… Мало ли где он или она могли покупать оружие, в самом деле…»
Едва Ломов приехал на службу, следователь Порошин сообщил, что хотел бы обсудить одну бумагу, которую обнаружили на фабрике Селиванова.
– Что в ней? – проворчал Сергей Васильевич. Мысли его всецело были заняты делом Колозина, и ему было непросто переключаться на убийство фабриканта.
– Это черновик купчей, – ответил Михаил Яковлевич. – Впрочем, взгляните сами…
Ломов опустился на стул – скрипучий, старый казенный стул, который мог бы написать мемуары о десятках самых разнообразных людей, которые на нем сидели, – пробежал глазами документ и нахмурился.
– Вздор какой-то… За имение полагается 2000 рублей платы… причем «2000» зачеркнуто, и сверху приписано «1500». Потом и эта цифра зачеркнута, написано 1200. Меркуловы что, совсем с ума сошли? – Ломов поморщился. – Не производят они такого впечатления…
И неожиданно выражение его лица переменилось, причем так стремительно, что Порошину, по правде говоря, сделалось малость не по себе. Только что перед ним был заурядный господин с совершенно невыразительной внешностью, а теперь сидел словно совсем другой человек – напряженный, жесткий, собранный.
– Постойте-ка… – медленно проговорил Сергей Васильевич. – Так Селиванов, значит, ходил по ночам проверять, как лошадь? А если он слышал выстрел в ту ночь, когда убили Колозина, и пошел посмотреть, что происходит? И тогда…
Он замолчал.
– Нет, это не Федор Меркулов, – промолвил он сквозь зубы, глядя мимо Порошина, который ничего не понимал. – Он был на виду, когда убивали Селиванова. Вот что: Анна Тимофеевна хорошо стреляет?
– Она-то? – удивился следователь. – Да она на охоте стреляла лучше многих… генерал был страстный охотник, и она тоже… Они оба были отличные стрелки…
– Оно и видно, – вздохнул Ломов, поднимаясь с места. – Тулуп и борода, которые запомнил свидетель, наверняка тоже объясняются просто. Борода сохранилась с какого-нибудь маскарада, а тулуп позаимствован у одного из слуг. Ружье наверняка в доме, а если она от него избавилась, слуги должны были заметить, что одно из ружей пропало. Это Анна Тимофеевна убила Селиванова.
– Но… за что? – пролепетал Порошин.
– Бумагу не потеряйте, это улика, – бросил Сергей Васильевич. – Он думал, что ее сын убил Колозина, и пытался их шантажировать. Не знаю, при чем тут поджог, но она была у Селивановой, выражала соболезнования? – Следователь несмело кивнул. – Бьюсь об заклад, поджог – тоже ее рук дело. Возможно, она пыталась уничтожить следы этой купчей, но не подумала, что черновик документа может храниться на работе. За дело, милостивый государь, за дело! Сегодня мы должны разобраться с убийством Селиванова раз и навсегда!
Вчера Лидочка сказала Федору, что собирается на следующее утро вместе с братом и сестрой кататься на санках, и пригласила его пойти с ними. Федор попытался сослаться на то, что он уже взрослый, что странно бывшему офицеру – и бывшему ссыльному – кататься на санках, но посмотрел на свежее личико Лидочки, на ее блестящие глаза и сам не заметил, как ответил «да». И наутро он катался с горки на санках вместе с Лидочкой, а Сашенька и Наденька почему-то не пришли. Федор понял, что Лидочка на самом деле пригласила только его одного, а им ничего не сказала, и это было и трогательно, и неловко, потому что он видел теперь, что баронесса Корф оказалась права, и Лидочка действительно им увлечена. Она хохотала, и щеки у нее разрумянились от мороза, и ворсинки на пушистой шапочке смешно стояли дыбом, а потом…
А потом, когда он предложил перекусить у них, потому что их дом был ближе, они двинулись по тропинке через лес. Федор тащил санки, Лидочка оживленно говорила обо всем на свете. Но вот они вышли из леса и стали спускаться к усадьбе, и он сразу же увидел чужие экипажи у ворот и сердцем почувствовал нависшую над домом тень беды. Санки, которые он нес, словно налились свинцом. Лидочка посмотрела на его потемневшее лицо – и враз перестала улыбаться.
– Что это, Федор Алексеевич? – тихо спросила она.
– Я не знаю, – хрипло проговорил он. – Неужели…
Флигель был полон посторонних людей, которые осматривали комнаты. Среди присутствующих Меркулов узнал Ломова, которому по очереди подносили найденные ружья, и он тщательно их осматривал.
– Что все это значит, милостивый государь? – вырвалось у Федора. – Потрудитесь объясниться…
Он осекся, увидев в глубине комнаты мать, которая сидела в кресле, сложив руки на коленях.
– Меня вот что интересует, – сказал Ломов, отдавая коллеге очередное ружье, которое он осматривал, и, поворачиваясь к Федору, спросил: – Вы знали, что ваша мать собирается убить Селиванова?
– Он ничего не знал, – подала голос Анна Тимофеевна. – Я сама решила убить Куприяна Степановича.
Лидочка побледнела и приоткрыла рот.
– Потому что он вас шантажировал? – спросил Ломов.
– Из-за него мой сын чуть не покончил с собой, – ответила Анна Тимофеевна. – Деньги тут ничего не значили, поверьте!
– Он думал, что я убил Колозина, – проговорил Федор устало. – И стал требовать, чтобы я продал имение за бесценок. Я не убивал Колозина, но Селиванов видел, как я увозил его тело из нашего сада. Я только что вернулся из ссылки, и если бы он обвинил меня в убийстве… Кто бы поверил, что убийца – не я?
Вошел Порошин, неся двустволку, и протянул ее Ломову.
– Взгляните, Сергей Васильевич… Она висела на стене, но по следам на пыли я понял, что ее недавно снимали.
Анна Тимофеевна отвернулась.
– Зачем дом-то подожгли? – деловито спросил Ломов, осматривая ружье.
– Он говорил, что оставил письмо, в котором обвинил моего сына в убийстве, – ответила генеральша.
– А если бы погибли люди? – Сергей Васильевич едва заметно кивнул, возвращая двустволку Порошину.
– Ну так никто же не пострадал… И дом был застрахован.
«А если бы и пострадал, – мелькнуло в голове у Ломова, – она бы утешала себя тем, что сделала все, чтобы Селиванов больше не мог навредить ее сыну».
– Где тулуп и борода, в которых вы охотились за Куприяном Степановичем?
– Я их уничтожила.
– А от ружья почему не избавились?
– Слуги бы сразу же заметили, что его не хватает. Мне не нужны были лишние вопросы.
Ломов вздохнул.
– Вы понимаете, что мне придется вас арестовать?
– Понимаю. Но не трогайте моего сына… Он тут ни при чем.
Тут Лидочка, про которую присутствующие, по правде говоря, уже успели забыть, разразилась слезами. Федор бросился к ней, неловко пытаясь ее успокоить, и предложил отвезти ее домой.
– Нет… – пролепетала девушка, вытирая слезы, – я лучше останусь… Если я смогу… быть чем-то вам полезной…
Она посмотрела на Федора с такой надеждой, что даже старый циник Ломов смущенно кашлянул и отвел глаза.
«Почему мне кажется, что кого-то здесь не хватает… Ах да, Амалия Константиновна! Любой другой человек заинтересовался бы, что происходит, и пришел бы сюда… но не она…»
Он отправился на поиски Амалии, которая обнаружилась в той самой гостиной, где он увидел ее в день своего приезда. Вид у баронессы Корф был хмурый, она щурилась на огонь и постукивала тонким белым пальцем по подлокотнику кресла.
– Селиванова убила Анна Тимофеевна, – на всякий случай сказал Ломов.
Он увидел, как взметнулись черные ресницы, и из-под них сверкнули ставшие совершенно золотыми глаза.
– Я догадалась, – коротко ответила Амалия.
– А мне не сказали?
– Не успела вам сообщить, потому что вы почти сразу же приехали со своими людьми. – Она вздохнула. – Бритва, которую Колозин взял с собой… Он ведь собирался меня убить, верно?
Ломов кашлянул и сел в кресло возле баронессы.
– Полагаю, что так, – осторожно ответил он. – Вы поразили его воображение во время того злосчастного вечера, но упорно не обращали на него внимания. Так как ему сошло с рук убийство четырех человек, он решил совершить пятое. Он узнал, где вы живете и как именно можно добраться до дома, в котором вы находитесь. Но когда он уже забрался в сад, кто-то застрелил его.
– И кто же это был? – спросила Амалия.
– Колозин был зол в тот вечер, – сказал Ломов, – зол из-за вас. И в раздражении он проговорился Тихомировой, что это он убил Изотовых. Думаю, кто-то слышал его признание, и именно оно стало причиной убийства.
– То есть мы имеем дело с местью? – Амалия нахмурилась. – Но вы отлично знаете, Сергей Васильевич, что месть – блюдо, так сказать, сугубо личное. Никто не станет мстить за людей, которые ему не интересны. И вы уж простите меня, но Изотовы никому не были интересны… Никому, кроме своих родных.
– Я ничего не сказал о мести, госпожа баронесса, – довольно сухо заметил Сергей Васильевич. – Один раз я уже задал вам вопрос, не вы ли убили Колозина. Простите, но я вынужден задать его снова. С вашим умом и опытом вы вполне могли догадаться, что перед вами неуравновешенный тип, ставший опасным преступником. А коль так, вы вполне могли пожелать избавить от него общество.
– Ни о чем я не догадалась, – с нескрываемым раздражением промолвила Амалия. – Мне не нравилось задание, которое мне дали, мне не нравился этот вечер и люди, которых я на нем видела… за редкими исключениями, – поправилась она. – По-вашему, я должна была с ходу раскусить Колозина, который, кстати сказать, ухитрился обмануть и Снегирева, и присяжных, и репортеров, и не знаю кого еще…
– Вы сердитесь из-за Анны Тимофеевны? – напрямик спросил Ломов. – Вы ведь столько сделали для нее, а она убила человека и устроила поджог…
Амалия отвела глаза.
– Нет, я ни на кого не сержусь, – сказала она, – хотя бы потому, что это совершенно бесполезно. Мистер Бэрли отказался от намерения писать книгу о России, а раз главная цель достигнута, детали… как нам внушают в службе? – несущественны, да. Анна Тимофеевна совершила преступления, и она за них ответит. Вот и все, что я могу сказать.
Глава 33 Сон
Доктор Волин не подозревал о драме, разыгравшейся в усадьбе Меркуловых, – но ни одна драма не могла пройти мимо внимания фельдшера Худокормова и Февронии Никитичны, так что уже к обеду они объединенными усилиями поставили Георгия Арсеньевича и весь персонал больницы в известность о случившемся. Ольга Ивановна недоумевала, но допускала, что генеральша могла пойти на преступление, чтобы уберечь единственного сына, который у нее оставался; а доктор ощущал главным образом досаду, как бывает, когда видишь, что замарался хороший, в сущности, человек. Также его тревожило, что убийца оказался по соседству с Амалией. Георгий Арсеньевич думал, что ему следует поехать к ней и как-то поддержать ее, что она, должно быть, растеряна и напугана; но он не мог отлучиться с работы, потому что пациенты требовали все его внимание. Наконец, в пятом часу, когда последний больной ушел, Волин решил, что уж теперь-то он имеет право навестить баронессу Корф.
«Тем более что Поликарп Акимович упоминал, что ее дядя серьезно захворал… Впрочем, странно, что она не прислала за мной по этому случаю… Неужели она мне не доверяет? Или считает, что он снова притворяется и не о чем беспокоиться?»
В дверь постучали, и, когда Волин в некотором раздражении крикнул «Войдите!», она как-то робко приотворилась. На пороге стоял отставной штабс-капитан Печка.
– Что вам угодно? – спросил Волин, сразу же подумав о том, что у супруги капитана случился очередной эпилептический припадок, который потребует его вмешательства.
– Я так понимаю, вы тут главный, – проговорил Печка, кашляя в кулак и умоляюще глядя на доктора. – И вы могли бы распорядиться… То есть попросить, чтобы господин следователь по важнейшим делам приехал сюда… Потому что я решил сознаться.
– В чем? – необдуманно спросил Волин.
– Как – в чем? – Печка явно удивился. – Это же я убил господина Колозина.
После чего он сунул руку в карман и в доказательство своих слов извлек оттуда небольшой револьвер.
– Вы не бойтесь, – добавил штабс-капитан, заметив выражение лица доктора, – я вовсе не собираюсь вас пугать или что там еще…
Он шагнул вперед и положил оружие на стол доктора – прямо на стопку карточек больных. Волин перевел дыхание. Теперь он был вовсе не так уверен, что выражение «вся жизнь промелькнула перед глазами в одно мгновение» – всего лишь метафора.
– Но вы же в ту ночь не покидали больницу, – пробормотал он.
– Я всем так сказал. Но на самом деле я выходил.
Идя по коридору, Ольга Ивановна различила голоса, доносящиеся из-за приоткрытой двери кабинета доктора, и машинально прислушалась. То, что она услышала, заставило ее похолодеть от ужаса.
– Не то чтобы я хотел убить Колозина… То есть я хотел его убить, но не думал, что у меня получится, – печально произнес Печка. – Я не мог уснуть и решил покурить, но Василиса не любит запах табака. Чтобы ее не будить, я вышел в коридор, но там из окна видны кресты кладбища возле вашей больницы, и мне расхотелось курить. Спать мне тоже не хотелось, и я решил пройтись. Сторож внизу дремал, когда я прошел мимо него.
– Вы ушли и оставили жену одну? – быстро спросил доктор. Он стоял посреди кабинета, скрестив руки на груди, и хмуро взирал на своего собеседника.
– Почему одну? Вы были в больнице, сиделки, другие люди… Я за нее не боялся. Я подумал, погуляю немного и вернусь.
– В темноте без фонаря, – ввернул Волин.
– Я хорошо вижу ночью, – серьезно ответил Печка. – Да и луна светила, хотя временами уходила за тучи. В голове у меня крутились разные мысли, думал я, думал… И опомнился только тогда, когда уже далеко ушел от больницы. Я хотел вернуться, но понял, что заблудился. В темноте был смутно виден довольно большой дом, в котором не светилось ни одно окно. И тут я смотрю – оттуда идет человек с фонарем. Я хотел спросить у него дорогу, но тут свет фонаря осветил его лицо. Это был Колозин.
Доктор не знал, верить собеседнику или не верить. «В конце концов, это не мое дело… Но до чего же обидно, если он и впрямь убил Колозина и морочил всем нам голову!»
– Наверное, вы удивились, когда увидели его на дороге ночью? – спросил Волин.
– Это было слишком хорошо, – медленно проговорил штабс-капитан. – Только я и он, и никого больше. Я решил, что мне снится сон. Что ночь, дом, дорога, слегка припорошенная снегом, – все это только моя фантазия. Я начал щипать себя, чтобы проснуться. А он свернул и вскоре исчез за деревьями. Я решил, сон это или не сон, но я его нагоню. И пошел за ним… Мы вышли к какой-то ограде, он шагал вдоль нее, потом заметил дыру в том месте, где ограда обвалилась. Он залез в эту дыру, и тут я решил, что сон должен закончиться. Я вытащил револьвер и выстрелил ему в голову. Он выронил фонарь и упал… и тут я понял, что это вовсе не сон, а явь и что я действительно убил его.
– Откуда у вас оружие? – спросил Волин.
– Я офицер в отставке, – пожал плечами Печка. – Когда мы собирались ехать сюда, я взял с собой револьвер… Так, на всякий случай.
Но тут в дверях показались сторож и фельдшер, которых привела Ольга Ивановна. Она стояла позади них, бледная как полотно и, когда ее спутники подошли к Печке, быстрее молнии подскочила к револьверу и положила на него руку, чтобы штабс-капитан не мог им завладеть.
– Боже мой, Георгий Арсеньевич! Он ведь мог вас убить!
– При чем тут господин доктор, – проворчал штабс-капитан, немного удивленный ее горячностью. – Я только Колозина хотел убить. Больше мне никто не был нужен.
Послали за следователем по особо важным делам, а штабс-капитана посадили под надзор сторожа и Худокормова в смотровой. Доктор остался в кабинете и сел за свой стол, размышляя о чем-то. Ольга Ивановна, волнуясь, ходила по кабинету и делала вид, что прибирается.
– Вот вам и следователь из Петербурга, – сказала она, – Печка в глаза ему врал, что он ни при чем и не убивал Колозина, а этот господин ничего не заметил…
– Справедливости ради, – резко ответил Волин, – никто из нас ничего не заметил. И я не понимаю, как он мог пешком добраться от нас до… до имения Снегирева и дальше – от него до усадьбы Меркуловых. Это не меньше восьми верст, да еще ночью…
Ольга Ивановна взглянула на него с изумлением.
– Но… он ведь предъявил револьвер… И зачем ему говорить, что он убил Колозина, если он никого не убивал?
– Да не убийца он, – сердито бросил Волин. – Вы видели его лицо в то утро, когда он узнал, что Колозина убили? Он был поражен! Я вполне допускаю, что он взял из дома револьвер… Может быть, даже обещал жене, что убьет Колозина… но, по-моему, он даже не верил в его вину…
– Да, это и есть самое отвратительное во всей этой истории, – проговорила Ольга Ивановна с горячностью. – Что убит невиновный человек… Убит, может быть, из-за того, что какая-то не вполне нормальная женщина была убеждена в его виновности…
Но в следующее мгновение в дверь постучали, и вскоре в кабинет вошли Ломов и Порошин в шинелях, занесенных снегом.
– Метет, а? – заговорил Ломов после того, как обменялся приветствиями с доктором и Ольгой Ивановной и снял верхнюю одежду. – Еле добрались до вас… Гхм! Значит, сознался в убийстве… Где револьвер?
Доктор отдал оружие штабс-капитана, а Ольга Ивановна торопливо объяснила, что подозреваемый помещен под арест, его охраняют сторож и фельдшер, а впрочем, он не сопротивлялся, но все-таки порядком ее напугал.
– Я подумала, он может убить или ранить Георгия Арсеньевича, – сказала она, нервничая.
– Он вовсе мне не угрожал, – отозвался Волин. – По-моему, ему хотелось облегчить душу, только и всего.
– Скажите, – спросила Ольга Ивановна, – а что ему будет, если его признают виновным?
От Волина не укрылось, что следователи переглянулись со значением.
– Полагаю, что ничего, – сказал Порошин, улыбаясь в усы.
– Уверен, любой состав присяжных его оправдает, – вторил ему Ломов.
– Но… – Ольга Ивановна озадаченно нахмурилась, – ведь убийство…
– Сегодня в Петербурге обыскали квартиру матери Колозина, – сказал Ломов. – И служанка вспомнила, как по просьбе своей госпожи относила в заклад колечко, до странности похожее на то, которое было среди вещей убитой Изотовой. Когда сыщики передвинули шкафы и стали простукивать половицы, они нашли хорошо замаскированный тайник, а в нем – остальные вещи, которые Колозин забрал у жертв.
– Не может быть! – ахнула Ольга Ивановна. – Но ведь мать… Она же клялась, что ее сын невиновен…
– Ее клятвы ничего не стоили, – ответил Порошин. – Она прекрасно знала, что он убийца, но она тоже мать, как и Анна Тимофеевна… И она решила спасти сына. Все остальное для нее не имело никакого значения.
– Какой ужас, – подавленно проговорил Волин.
Ломов метнул на него острый взгляд и подумал, что доктор слабоват и что, пожалуй, его роман с Амалией Корф продлится недолго. «Впрочем, – добавил про себя Сергей Васильевич, – это не мое дело». И, громко кашлянув, он затребовал у Волина детальный отчет о том, что ему сказал Терентий Емельянович Печка.
Сам отставной штабс-капитан в это время сидел в смотровой в обществе своей жены, старого сторожа, который недоверчиво косился на «убивца», и Худокормова, который не находил себе места от любопытства. Василису охранникам пришлось пропустить к мужу, потому что она подняла такой крик, что ее было слышно в другом крыле больницы.
– Я тебя не оставлю, Терентий! – твердила она, вцепившись в мужа. – И пусть они что хотят говорят – я знаю, ты убил душегуба, и никто, слышишь, никто не смеет тебя осуждать!
Когда в смотровую вошел Ломов, она сделала попытку накинуться на него с криком:
– Не отдам, не отдам вам мужа! Губители! Сволочи!
Но особый агент легко схватил ее за кисть и отшвырнул от себя так, что Василиса шлепнулась на пол. Муж помог ей подняться, и она посмотрела на Ломова с совершенно непередаваемой ненавистью.
– Ба… батюшки, бьют! Честную женщину бьют…
– Вон пошла, – негромко промолвил Сергей Васильевич.
– Я буду жаловаться… – начала Василиса, но слова застряли у нее в горле, когда она увидела холодные глаза Ломова. «Господи, смотрит, точно как тот душегуб… Свят, свят, свят!» Пятясь, она вышла из смотровой и даже дверь за собой прикрыла тихо, не хлопая ею.
– Вы тоже можете идти, – сказал Ломов фельд-шеру и сторожу. Помявшись, те удалились, а Сергей Васильевич взял стул и поставил его напротив сидящего штабс-капитана.
– У матери Колозина нашли улики, – сказал Ломов, опускаясь на сиденье. – Теперь ее обвинят в том, что она сознательно ввела следствие в заблуждение… и еще в нарушении других законов Российской империи.
Печка озадаченно моргнул.
– Конечно, ты его не убивал, – продолжал Ломов, причем в тоне его не было и намека на вопрос.
– Это, положим, странно, милостивый государь… – пропыхтел отставной штабс-капитан. – Мы с вами на брудершафт все-таки не пили… Зачем же «тыкать»? Я офицер…
– Калибр у твоего револьвера не тот, – безжалостно промолвил Сергей Васильевич. – Все ты хорошо описал… и Колозина с фонарем, и ограду, и ночь… только вот калибр тебя подвел.
Штабс-капитан сгорбился, съежился и обхватил себя руками.
– Я понимаю, зачем ты сказал, что ты убил его, – продолжал Сергей Васильевич. – Чтобы жена сочла тебя героем… хоть так, хоть раз в жизни. И вообще, если бы у тебя хватило духу на убийство, ты бы вовсе не Колозина прикончил первым делом, а ее.
– Ну… – начал Печка в величайшем смущении, но не удержался и все же улыбнулся. – Странный вы человек, сударь… Конечно, мы с ней ссоримся… а как ее сестру с семьей зарезали, так я света белого невзвидел… Но убить? У меня же никого нет, кроме нее…
Ломов повернул голову к двери за доли секунды до того, как она раскрылась. На пороге стоял товарищ прокурора Ленгле.
– Вы просили, если вам придет телеграмма из Петербурга, сейчас же доставить ее, если вас не будет на месте… Гм… Конечно, это не входит в мои обязанности… но так как я все равно ехал сюда…
Не говоря ни слова, Ломов протянул руку, и Ленгле вложил в нее небольшой конверт. Разорвав его, Сергей Васильевич пробежал текст глазами и, скомкав листок, сунул его в карман.
– С вашего позволения, я хотел бы закончить допрос подозреваемого, – сказал он Ленгле.
Товарищ прокурора нахмурился, но не посмел возражать при постороннем лице и вышел.
– Так-то вот, – доверительно сообщил Ломов штабс-капитану. – Но рассказ у тебя гладкий, а что касается револьвера, то это ведь можно исправить. Если, конечно, ты все еще хочешь оставаться убийцей Колозина.
Штабс-капитан задумался.
– Я, конечно, не могу дать тебе гарантий, – добавил Сергей Васильевич, – но думаю, на суде тебя оправдают. В газетах будут печатать отчеты о процессе, и ты прославишься на всю Россию. И жена будет тебя уважать, конечно.
– Вы знаете, кто его убил? – быстро спросил Терентий Емельянович.
– Долго объяснять, – уклончиво ответил Ломов. – Но, в общем, да. Ты можешь настаивать на своей истории или отказаться от нее. Тогда я арестую настоящего убийцу, но беда в том, что у него нет такого убедительного мотива, как у тебя, и суд вполне может счесть, что его место в тюрьме. Так что решение за тобой, штабс-капитан. Или ты убил Колозина, тебя судят и, скорее всего, освободят, или ты никого не убивал, я делаю тебе строгое внушение за введение следствия в обман, и мы расстаемся. Только помни: ты не сможешь потом передумать или рассказать кому-то о нашем уговоре. Я тебя сразу же предупреждаю, что в этом случае все закончится для тебя очень скверно.
– Странный вы следователь, – вздохнул Печка. Несколько минут он размышлял, глядя на пол, и наконец поднял глаза на Ломова. – Решено. Колозина убил я.
– Вот и славно! – объявил Сергей Васильевич с широкой улыбкой. – Ну что ж, Терентий Емельянович, будем тогда оформлять ваше признание, как полагается.
Глава 34 Капкан
– Честно говоря, я не удивлена, что Анна Тимофеевна оказалась убийцей, – сказала Наденька. – Поразительная семья эти Меркуловы: муж ее стал пить после отставки и допился до могилы, один сын оказался вором, второй загремел на каторгу…
Лидочка, сидевшая неподалеку с толстым томом, обиженно поджала губы и шумно захлопнула книгу.
– Я прошу тебя так не говорить! – отчаянно выпалила она, краснея. Она не умела быть грубой, и это плохо у нее получалось.
– Отчего же? – протянула Наденька неприятным голосом, – уж не оттого ли, что тебе нравится Федор Меркулов?
– Сегодня, когда арестовали его мать, мы все с ним обговорили, – отважно объявила Лидочка. – Мы помолвлены и поженимся, как только это станет возможным.
Наденька застыла на месте.
– Нет, этого не может быть! – вырвалось у нее.
– Отчего же? Мне уже восемнадцать, и я могу выходить замуж. Я с детства знала, что мне никто не нужен, кроме него.
– Это просто нелепо! – закричала Наденька. – Лидочка, так нельзя! Ты начиталась романов… а жизнь – это не роман! Ты хоть представляешь себе, что такое жить с бывшим офицером, бывшим ссыльным… у которого ничего нет за душой! Его мать обвинили в убийстве… Газетчики вцепятся в вас и не оставят в покое! Ты опозоришь нас, ты отца опозоришь! Лидочка, опомнись…
– Я уже все решила, – сказала младшая сестра упрямо. – И я дала ему слово. Я не брошу его, что бы ни случилось.
– Так, замечательно, – сказала расстроенная Наденька. – Пошли фразы из очередного пошлого романа…
– Не смей так со мной разговаривать! – вспыхнула Лидочка.
– Это ты не смей мне дерзить! – Наденька повысила голос. – Девчонка!
– Что происходит? – В гостиную вошла мать, шелестя белым платьем.
– Она собирается выйти за Федора Меркулова! – объявила Наденька, оборачиваясь к матери. – Мама, скажи ей, что это невозможно! Скажи, что ты и папа никогда не благословите этот брак!
– Дорогая, – сказала Елена Владимировна, мгновенно оценив ситуацию и взяв Лидочку за обе руки, – я прекрасно тебя понимаю. Тебе жаль Федю. Нам всем тоже жаль его, поверь… Но ты еще молода. У тебя все впереди! Ты вполне можешь найти себе кого-нибудь получше… гораздо лучше… Может быть, даже похожего на папу…
– Ни за что! – Лидочка, вспыхнув, вырвала руки. – Я обожаю папу, ты знаешь, он замечательный, добрый, умный, с ним можно говорить о чем угодно… Но, мама, я всегда знала, что выйду за кого угодно, только не за ученого… Прости меня, если я тебя обидела, но… Мне нужен человек, который будет думать обо мне, а не о мировых проблемах!
– Очень хорошо, – пробормотала Наденька, кусая губы. – Папа все делал для нас, для тебя, а ты теперь его оскорбляешь!
– Дети, давайте не будем ссориться, – сказала Елена Владимировна, лихорадочно пытаясь выиграть время и посылая старшей дочери предостерегающий взгляд. – Я полагаю, мы вполне можем вернуться к этой теме позже, когда… м-м… мы все обсудим… и взвесим…
– Тут нечего взвешивать, – вспылила Наденька, – она просто глупая взбалмошная девчонка, которая не понимает, что творит! Пойми, ты же потом будешь больше всех раскаиваться, что не послушала нас! Его ведь тоже могут обвинить в убийстве, потому что Колозина убили в саду Меркуловых…
– Кто тебе это сказал? – удивилась мать.
– Слышала от кого-то из наших горничных, – ответила Наденька после легкой заминки.
– Вот как? От кого же? Я ведь просила их сообщать мне все, что станет известно о расследовании…
– Я не помню точно, кто мне сказал, – сердито промолвила Наденька. – И какое это имеет значение?
– Ты врешь, – внезапно проговорила Лидочка, волнуясь. – Никто из горничных ничего тебе не говорил. Ты знаешь, потому что… Потому что это ты убила его.
Елена Владимировна открыла рот.
– Лидочка!
– Мама, посмотри на нее! Она не знает, куда девать глаза… И она знает, где произошло убийство! Какое еще может быть объяснение? Наденька, зачем, зачем?..
– Так, – жалобно промолвила Елена Владимировна, поднимая руки к вискам, – я сейчас упаду в обморок. Лидочка! Что это за обвинения? Как ты можешь, в самом деле…
Но тут она увидела выражение лица старшей дочери и опешила.
– Наденька, ты ведь не… Но почему?!
– Чтобы спасти папу, – сказала Наденька и села, ссутулившись. – Я хотела просто его спасти.
– Убив Колозина?! – Елена Владимировна вытаращила глаза.
– Да, потому что это Колозин убил Изотовых. Папа зря вступился за него. – Наденька всхлипнула. – Я случайно услышала, как Колозин признался госпоже Тихомировой, что он убийца. Он сказал, что папа – глупец, который не разбирается в людях. И он сказал, что перед отъездом расскажет все папе, чтобы поглядеть на выражение его лица. Он был такой злобный… такой мерзкий! И я поняла, что он действительно скажет… и это убьет папу… Он так верил в справедливость, в то, что Колозин невиновен… папа бы умер от стыда и горя! Я не могла заснуть ночью… ворочалась и думала, что мне делать… Спальня Колозина была над моей, и я услышала, как он ходит… А потом я поняла, что он одевается и ищет фонарь. Тогда я тоже оделась, взяла револьвер…
– Наденька! Но у тебя нет никакого револьвера…
– Ничего ты, мама, обо мне не знаешь… Я купила револьвер в Петербурге. Я… я хотела убить любовницу Гены… – Геной звали ее мужа. – А может быть, не ее, а его. А может быть, не его, а себя… Но когда я приезжала сюда и видела, как папа рад мне… Я понимала, что не имею права так поступать… И все-таки револьвер мне пригодился. Не знаю, зачем Колозин пошел к Меркуловым… Я хотела убить его, когда он окажется подальше от нашего дома, чтобы никто не думал на нас… И вот, когда он залез в их сад, я решила: пора! Выстрелила в него сзади, он упал… Я увидела, что попала ему в голову, и бросилась бежать прочь… Когда я узнала, что тело нашли в саду Одинцовых, я не могла опомниться от удивления… Я ведь точно знала, он умер в другом месте…
– Браво, – произнес от дверей скрипучий мужской голос. – А теперь, Надежда Павловна, вы отдадите мне револьвер, из которого убили Дмитрия Ивановича.
Женщины оцепенели от ужаса. На пороге гостиной, засунув руки в карманы, с совершенно непередаваемой ухмылкой стоял Сергей Васильевич Ломов, и если бы мистер Бэрли видел его в это мгновение, он бы уже не сомневался, что сей достойный джентльмен действительно способен в одиночку справиться с целым племенем людоедов.
– Как вы вошли… – пролепетала Елена Владимировна, нервно поправляя волосы.
– Мне нужен револьвер, – повторил Ломов. – А затем, если вы все хотите по-прежнему жить прекрасной безмятежной жизнью и не сталкиваться с тем, что вас обвинят в убийстве – или, к примеру, в сокрытии важных сведений, чему закон тоже не особо рад, – так вот, все это мы можем обсудить.
– Мама, – медленно проговорила Наденька, – кажется, мы имеем дело со взяточником…
– Нет, – оскалился Ломов, – я всего лишь скромный государственный служащий. Никто не потребует от вас никаких денег, тем более что их у вас, кстати сказать, нет. Несите сюда револьвер, Надежда Павловна, а затем мы обсудим наше будущее сотрудничество.
– Я не понимаю, – встревожилась Елена Владимировна. – О каком сотрудничестве идет речь? Вы слышали слова, не предназначенные для ваших ушей…
– Я ничем не могу вам помочь, – сказала Наденька, обращаясь к Ломову. – Револьвера у меня больше нет.
– Тогда я арестую вас за убийство Дмитрия Колозина, – скучающе промолвил Ломов. – И заодно лично расскажу вашему папеньке, освобождению какого прекрасного человека он способствовал… Ну же, Надежда Павловна! Если вы сделаете так, как я скажу, мы договоримся, и никто из вашей семьи не пострадает.
Бросив на Ломова испепеляющий взгляд, Наденька вышла и почти сразу же вернулась, неся небольшой блестящий револьвер.
– Куда вы его дели, когда я осматривал дом? – полюбопытствовал Ломов, проверяя барабан.
– Я спрятала его в старой подушке, – мрачно ответила Наденька.
– А покупали в оружейной лавке в Петербурге, – усмехнулся Сергей Васильевич, пряча револьвер. – На будущее запомните: никогда не покупайте оружие вблизи своего дома. Как только наши люди стали искать, у кого в вашей семье имеется револьвер, они сразу же выяснили, что вы лгали, когда говорили мне, что у вас нет оружия.
Наденька вспыхнула, но ничего не сказала и только села в кресло, с вызовом закинув ногу на ногу.
– Итак, – сказал Ломов, – оружие я забираю. В убийстве признается другое лицо, а ваш револьвер пойдет как улика. Вас никто арестовывать не будет, но любезность за любезность: вы будете регулярно докладывать мне о том, что происходит в доме Павла Антоновича. Меня интересуют посетители, разговоры и… словом, все, что имеет хоть какое-то отношение к политике. Полагаю, вы сможете договориться между собой, кто именно из вас будет этим заниматься.
– Вы хотите заставить нас шпионить! – возмутилась Лидочка. Елена Владимировна легонько коснулась ее руки.
– Вероятно, вы еще не знаете… Моя дочь собирается выйти замуж… за Федора Алексеевича… и покинуть дом.
– Не имею возражений, – ответил Ломов, и этой фразы оказалось достаточно, чтобы негодование Лидочки куда-то испарилось. – Личность Павла Антоновича притягивает самых разных посетителей, и я хочу знать, о чем они с ним говорят. Донесения будете оформлять в виде писем, об адресе и имени адресата мы условимся позже. Взамен, как я уже говорил, никто не будет подозревать Надежду Павловну в убийстве, никто не расскажет ее отцу о том, что она сделала, и вообще вашу семью никто не побеспокоит.
– Скажите, – не утерпела Елена Владимировна, – кто вы на самом деле такой? Вы ведь не просто следователь…
– Я занимаюсь особо важными делами, – ответил Сергей Васильевич, – и это все, что вам нужно знать. Так кто из вас будет автором писем?
Наденька нахмурилась и отвела глаза. Лидочка молчала. Елена Владимировна обвела дочерей быстрым взглядом и повернулась к Ломову.
– Что ж, вся неприятная работа всегда достается мне… Но ради блага семьи я согласна.
– Вы неподражаемы, сударыня, – сказал Ломов, с любопытством глядя на нее. – Впрочем, я заметил это еще тогда, когда допрашивал вас по поводу того револьверчика, который вы опрометчиво держали в ящике стола.
Елена Владимировна потупилась.
– К сожалению, – продолжал Сергей Васильевич, – нам не удастся сохранить в тайне, что Колозин был убийцей и что Павел Антонович зря вступился за него. Разумеется, это будет серьезным ударом по самолюбию Павла Антоновича, но нет такой горькой пилюли, которую нельзя подсластить. Постарайтесь убедить мужа, что Колозин был исчадием ада, он провел не одного человека, и он всегда славился дьявольской хитростью…
– Можете не указывать мне, сударь, – промурлыкала Елена Владимировна с легкой улыбкой. – Уж я-то знаю, как найти подход к моему Павочке…
– Очень хорошо, – серьезно промолвил Ломов. – И помните, что то, что вы делаете, вы делаете в конечном счете для его же блага. – Он обвел притихших женщин внимательным взглядом. – Полагаю, дамы, мне не надо говорить вам, что наш разговор должен сохраниться в тайне. Вы ничего не приобретете, если станете болтать, а потеряете – очень многое.
– Мама, – промолвила Наденька после того, как дверь за особым агентом закрылась, – во что мы ввязались?
– Не мы ввязались, а ты нас втянула, – отрезала мать. – Слава богу, Сергей Васильевич человек с понятием, и мне кажется, на него можно положиться.
– Он уже Сергей Васильевич? – протянула дочь. – А я бы назвала его короче: паршивый шпион…
– Ты предлагаешь мне пойти к отцу и рассказать ему, что ты убила Колозина? – спросила Елена Владимировна. Наденька посмотрела на нее затравленными глазами и молча покачала головой.
Глава 35 Весной
Прошло почти полгода.
К земской больнице пристраивали новый корпус, и за работами наблюдала лично Ольга Ивановна. О ее истинном статусе наконец-то стало известно окружающим, и они с любопытством ждали, чем все закончится у медсестры с доктором и «дожмет» ли она его.
– Стоит ему пальцем поманить, – доверительно говорил Худокормов Февронии Никитичне, – и она бы тотчас прибежала. А он только «здравствуйте», «до свидания» и «подайте мне йоду», ну, разве так дела делаются?
– Может, у него кто другой на примете? – заметила Феврония Никитична.
– Кто же? – заинтересовался фельдшер.
– Ну, как та баронесса зимой уехала, так он все в окно смотрел и вздыхал. Правда, потом вздыхать перестал, но оно и понятно: столько работы у него, тут не до переживаний. А Брусницкий-то каков, а? Женился на вдове Селиванова, почти не практикует теперь и вовсю распоряжается ее капиталами…
– Да, Яков Сидорыч шельма! – с удовольствием подтвердил фельдшер. – Наш доктор его спрашивает: как же, мол, дочери Селиванова, не были ли они против брака своей матери… А Яков Сидорыч ему и говорит: «Не волнуйтесь, они будут считать меня лучшим отчимом на свете, потому что я не буду мешать им совершать любые ошибки, которые им захочется совершить».
– Это что-то слишком для меня мудрено, – заметила Феврония Никитична. – Ну да Яков Сидорыч всегда умел устроиться. Наш-то доктор не такой, он приличный человек…
Поликарп Акимович вздохнул.
– Так думаешь, он не женится на Ольге Ивановне?
– Деньги, конечно, дело хорошее, – степенно промолвила Феврония Никитична, – да только вот за свои деньги она пожелает иметь его целиком, понимаешь? А он все-таки другого склада человек… Ладно, заболталась я тут с тобой, иди уж, а то мне обед готовить надо.
– Вряд ли доктор приедет к обеду, – ответил фельдшер. – Его господин Порошин вызвал. На пруду мать с дочкой утонули, он заключение о смерти должен давать…
– А кто утонул-то?
– Да, Аксинья, у которой прадед сто два года прожил, – охотно поделился фельдшер. – Все из-за дочки, вечно она то по деревьям лазила, то по льду бегала… Тут она проказничала и провалилась под лед, мать побежала ее вытаскивать и провалилась тоже… Обе утонули.
– Не надо было Аксинье на лед ходить, – проворчала Феврония Никитична, – она последнее время плохо себя чувствовала, в больницу несколько раз приходила… Ты куда ватрушку взял? – возмутилась она, видя, что фельдшер под шумок стащил ватрушку и совсем уже навострился отправить ее в рот. – Положь на место! Это доктора ватрушка, а не твоя…
Георгий Арсеньевич вернулся ближе к вечеру, и Ольга Ивановна вышла из больницы ему навстречу.
– Я слышала, что случилось в деревне, – сказала молодая женщина серьезно. – Очень жаль, конечно… Но, наверное, это все же к лучшему… Ведь она была неизлечимо больна.
– Нет, – с неожиданной для себя резкостью ответил доктор, – к лучшему было бы только одно – если бы Аксинья не болела, если бы она и ее дочь были живы… или если бы их спасли…
Он безнадежно махнул рукой и ушел.
«Наверное, мне надо объясниться с ней прямо, что ничего у нас не выйдет… Есть в ней какая-то черствость… что-то неприятное… Почему я все время думаю, что Амалия никогда бы такого не сказала? Хотя, наверное, я все равно больше ее не увижу…»
Но им суждено было встретиться еще раз – в Москве, куда доктор Волин приехал на съезд земских врачей окрестных губерний. Георгий Арсеньевич не ожидал встретить Амалию на московской улице и порядком удивился. Ему показалось, что с ней шел какой-то господин, поразительно похожий на следователя Ломова, но к тому моменту, как Волин подошел к Амалии, рядом с ней уже никого не было, и она смотрела на доктора со своей пленительной, всепобеждающей улыбкой.
– Как ваш дядя? – спросил Волин после того, как они обменялись приветствиями. – Вы так неожиданно уехали из-за того, что ему стало гораздо хуже… что довольно странно, потому что я готов был поручиться, он совсем не болен…
– Кажется, он съел что-то не то, – уклончиво ответила Амалия. – Во всяком случае, Георгий Арсеньевич, сейчас о моем дяде можно не беспокоиться… Он совершенно здоров. А как поживают наши общие знакомые?
Доктор оживился и стал рассказывать: Лидочка вышла замуж за Федора Меркулова и, кажется, вполне счастлива, Николай Одинцов поступил на работу в земство и приносит немало пользы, а Нинель Баженова, после того как ее убедили дать деньги на издание прогрессивного журнала и самым беспардонным образом надули, совершенно разочаровалась в либерализме и переметнулась к консерваторам. Что касается мистера Бэрли, то он почему-то не написал книгу о России, которую от него ждали.
– Знаю, – ответила Амалия с иронией. – Вместо книги он написал цикл статей, который, впрочем, не имел особого успеха. Мистер Бэрли пытался рассуждать там об истории России и о характере русского человека, но почему-то все время сбивался на русских женщин: какие они непостоянные и как они не умеют выбирать правильного мужчину.
– Странно, – удивился Волин, – и чем его так задели русские женщины?
– Кто знает! – пожала плечами его собеседница и улыбнулась.
Тут, пожалуй, можно было бы написать слово «конец», но наш эпилог будет неполным без неподражаемого дядюшки Амалии, тем более что читателя наверняка заинтересует, сдержала ли баронесса Корф слово и подарила ли своему родичу два портсигара, которые были ему обещаны. И в самом деле, через некоторое время после того, как Амалия со своими домочадцами вернулась в Петербург, она пришла к дяде с двумя небольшими коробками, упакованными как подарочные.
– Это мне? – спросил Казимир с трепетом; потому что больше всего на свете он любил получать подарки.
– Все, как мы уговорились, – отозвалась племянница, отдавая ему коробки.
Казимир аккуратно развязал ленты, снял оберточную бумагу (характер не позволял ему срывать ленты в спешке и сдирать бумагу, даже если он больше всего на свете хотел добраться до содержимого) и вынул из первой коробки золотой портсигар, который лег в его руку так, словно был предназначен только для него, и ни для кого больше.
– Это, так сказать, вариант на выход, попроще, – пояснила Амалия, забавляясь. – То, что ты просил сначала, находится во второй коробке.
– Боже, – вскричал Казимир в экстазе, открыв вторую коробку, – да это и есть тот самый портсигар, который я видел в детстве!
Это был, прямо скажем, не портсигар, а какой-то музейный экспонат, созданный из золота кудесником-ювелиром и украшенный цветной эмалью и крупными бриллиантами, которые сверкали так, что глазам становилось больно. Казимирчик вертел его в руках и поглаживал, как любимую игрушку, а выражение его лица… впрочем, выражение его лица вы можете представить сами.
– Я не подозревала, что это тот самый портсигар, – сказала Амалия. – В любом случае я рада, что он тебе так нравится.
Однако не прошло и недели, как Амалия заметила, что дядя не носит портсигар дома и даже не держит его на виду – что было бы вполне естественно, если учесть, что речь идет о вещи, о которой ее нынешний владелец мечтал с детства.
– Дядя, в чем дело? – напрямик спросила Амалия, устав ломать голову над этим феноменом. – Где твой портсигар? Ты что, его потерял?
– Нет, – сокрушенно ответил Казимир, – я убрал его в стол.
– Но почему? Мне казалось, что тебе приятно будет видеть его… – Дядя молчал и только вздыхал, глядя куда-то мимо племянницы. – Что, бриллианты оказались недостаточно чистые? – догадалась Амалия. – Или у портсигара обнаружился какой-то дефект? Ты только скажи, все можно исправить…
– Не могу я его видеть, – проворчал Казимир. – Он притащил с собой слишком много воспоминаний, понимаешь? Как только я беру его в руки, я сразу же вспоминаю о том, какие мы с твоей матерью были нищие в то время… как нами помыкали родственники… как я недоедал и плохо одевался… Он заставляет меня думать о том, какой я был несчастный… и оттого я совершенно не радуюсь тому, что через столько лет он у меня оказался.
По правде говоря, Амалия была готова к чему угодно, только не к такому обороту дела; а ее дядя вышел из комнаты и через некоторое время вернулся с коробкой, в которой лежал ее подарок.
– Пусть лучше он будет у тебя, – сказал Казимир. – Можешь его продать… или… Словом, делай с ним что хочешь, – заключил он. – Я не хочу больше его видеть.
После чего он сел и взял газету, показывая тем самым, что дальнейшие дискуссии на эту тему бесполезны.
– Дядя, – проворчала Амалия, – вы заставляете меня думать о тщете всего сущего!
– Так я и знал, – вздохнул дядюшка, складывая газету поудобнее. – Отставной штабс-капитан Печка оправдан, и те же газетчики, которые писали, что Колозин едва не стал невинно осужденной жертвой, теперь наперебой возносят хвалы тому, кто его прикончил. В этом мире нет ничего постоянного, люди, мечты, настроения – все меняется, то, что должно было приносить радость, разочаровывает, а радует совершенно не то, к чему стремился. Ну что ж, так тому и быть!
Валерия Вербинина История одного замужества
Глава 1. Вечер в кругу друзей
После ужина, как водится, заговорили о русской интеллигенции.
– Интеллигенция – совесть нации, – заявила Клавдия Петровна и обвела окружающих воинственным взором. Она слыла передовой дамой, писала для журналов статьи, носила золотое пенсне и говорила громким голосом даже тогда, когда в этом не было никакой нужды.
– Насколько мне известно, толковый словарь с вами не согласен, – с тонкой улыбкой возразил ее сосед Чаев, журналист консервативного направления. – Его авторы уверяют, что интеллигенция – люди умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в областях науки, техники и культуры, а также слой людей, который в этих областях работает. Ни о какой совести, как видите, тут нет и помину.
Его замечание передовая дама восприняла с явным неудовольствием.
– Толковый словарь – это, разумеется, прекрасно, но если мы говорим об интеллигенции, так сказать, в самом широком смысле, о ее предназначении…
– То есть о том, что вам угодно подразумевать под этим словом? – поддел ее Чаев. – Конечно, все мы слышали, что интеллигент в России больше, чем просто интеллигент, писатель – больше, чем просто писатель, и так далее. Воля ваша, но это чрезвычайно по-нашему, по-русски: создавать некие сакральные слова и присваивать им значение, которого они вообще-то не имеют. Вот сыр, к примеру, почему-то никто не пытается выдать за клюкву, и наоборот. Вы со мной не согласны?
Клавдия Петровна насупилась.
– Нет, и я считаю, что интеллигенция в любом случае должна быть совестью нации, – сухо сказала она. – Иначе совершенно непонятно, для чего… зачем…
Но эффектное завершение мысли никак не шло на язык, и передовая дама, досадуя на себя, изобразила пухлыми руками какой-то замысловатый жест.
– Совершенно с вами согласен, госпожа Бирюкова! – жизнерадостно поддержал ее бородатый поэт Свистунов. Николай Сергеевич тоже слыл личностью весьма передовой и даже беспокойной, особенно после двух рюмок водки. Каждого, кто соглашался слушать, он уверял, что именно из-за его взглядов косные редактора отказываются печатать его стихи. Впрочем, уныние Николаю Сергеевичу было неведомо: чем чаще ему отказывали, тем больше он сочинял.
– Значит, мещанин или промышленник никак не может быть совестью нации? – с улыбкой спросил присутствовавший среди гостей промышленник Башилов, видный брюнет с холеной бородкой и выразительными глазами.
– Это даже как-то обидно, – вставил Анатолий Петрович Колбасин, сидевший напротив него. – К примеру, я по паспорту мещанин, хоть и работаю в театре режиссером.
– Ради бога, Анатоль, – вмешалась его жена, эффектная и все еще красивая, несмотря на годы, актриса Панова. – Никто и не сомневается, что ты настоящий интеллигент.
Произнося эти слова, она то ли с расчетом, то ли неумышленно покосилась на сидящего возле нее молодого актера Ободовского. Все знали, что он пользуется особым расположением Пановой, да что там расположением – он был ее любовником. В подобных ситуациях можно держаться по-разному и даже сохранять некую видимость пристойности, однако актриса, хоть и вроде бы не делала и не говорила ничего особенного, ухитрялась вести себя так, что даже слепой догадался бы о ее отношениях с томным красавцем-брюнетом. Заметив кокетливый взгляд жены, обращенный на соперника, ее муж потемнел лицом и отвел глаза.
– А что скажет наш достопочтенный хозяин? – спросил журналист.
Хозяин дома, беллетрист Ергольский, сочинявший развлекательные романы под псевдонимом «граф Делис», добродушно улыбнулся и развел руками.
– Полагаю, что по поводу интеллигенции будет сломано еще немало копий, – полушутя-полусерьезно заметил он. – Купечество, дворянство и чиновники существуют издавна, в то время как класс, именуемый интеллигенцией, появился сравнительно недавно.
– Не согласна, – пробасила Клавдия Петровна. – Послушать вас, так можно подумать, что у нас до последнего времени не водилось образованных людей…
– Такие люди есть во все времена, вопрос в другом – много ли их и каково их настоящее значение. Я, как вам известно, придерживаюсь мнения, что язык обладает способностью реагировать на все изменения в обществе; так вот, слово «интеллигенция» появилось именно тогда, когда стало ясно, что образовалась новая прослойка людей, которые не чиновники, не военные, не крестьяне и так далее. Они сами по себе.
– Гм, – молвил журналист, блестя глазами, – так граф Толстой, бывший артиллерийский офицер, не интеллигент?
При этих словах многие из тех, кто находился в гостиной, заулыбались.
– А вот тут мы подходим к очень серьезному вопросу, с какого именно времени человек может считаться интеллигентом, – без всякой улыбки ответил Ергольский. – Являются ли интеллигентами студенты, как, к примеру, присутствующие здесь молодые люди, или нет? – Он кивком головы указал на Павлушу, сына актрисы, и его приятеля Сержа, которые тоже сидели за столом. – Считать ли интеллигентом самого скучного, самого узколобого, самого неприятного учителя гимназии, который не видит дальше своего носа, хотя сам вроде бы занимается умственным трудом? А почтивший нас своим присутствием Андрей Григорьевич, – он повернулся в сторону Башилова, – автор нескольких важных изобретений для промышленности, но все же более известный как фабрикант, – считать ли его интеллигентом?
– Не продолжайте, голубчик, – рассмеялся промышленник, – я уже понял, что мое дело сторона!
– Да уж, куда вам до нас, – подтвердил Свистунов, дожевывая хлеб, который он украдкой взял с блюда.
– Николай Сергеевич, ну что вы… Моя мысль состоит совершенно в другом: я считаю, что интеллигентом можно считать всякого, кто этого захочет. Пусть он будет крестьянин-самоучка, капиталист, рабочий – да кто угодно. Интеллигенция – не замкнутая каста, точнее, не должна быть таковой… – Ергольский повернулся к Чаеву: – Георгий Антонович, вы хотели что-то возразить?
– Что вы, Матвей Ильич, как я могу вам возражать, да еще после такого замечательного ужина! – Журналист приподнялся на месте и галантно поклонился хозяйке дома, которая почти не принимала участия в разговоре и только переводила взгляд с одного гостя на другого. – Все, что вы говорите, в сущности, хорошо и правильно, только вот мой опыт говорит о том, что на самом деле подлинных, настоящих интеллигентов до ужаса мало. Все вроде образованные до чертиков, а кое-кто знает до пяти языков, в университетах учились, да-с! Ну и что с того? Почитайте-ка нашу публицистику, нашу критику, поприсутствуйте на дискуссиях так называемых интеллигентных людей – уверяю вас, вы сразу же заметите, что они смело дадут сто очков вперед любой базарной бабе. Клянусь вам, ни одна из этих особ в жизни не додумается до оскорблений, которые наши интеллигенты походя расточают друг другу, как только выясняется, что взгляды оппонента хоть в чем-то непохожи на их собственные. На словах, конечно, они призывают уважать чужое мнение, но на самом деле это означает, что все должны считаться с их мнением, а тот, кто осмелится им возражать, неуч, дилетант, злодей и вообще недостоин звания человека. До ужаса неинтеллигентны наши интеллигенты, вот что!
Его слова вызвали именно тот эффект, на который, по-видимому, и рассчитывал опытный журналист. Все, задетые за живое, заговорили разом.
– Простите меня, но отрицать интеллигенцию… – Это – Клавдия Петровна.
– А по поводу критики я с вами совершенно согласна! – пылко вскричала Панова, которая чисто по-женски выхватила из потока рассуждений только ту мысль, которая была ей наиболее близка. – Эти рецензенты… что, в самом деле, они понимают в нашем искусстве?
– Но без рецензентов тоже нельзя, – заметил ее муж.
– Некоторых рецензентов вообще нельзя подпускать к театру, – возразил Ободовский, чтобы поддержать любовницу.
– Самое большое зло – это редактора, – доверительно сообщил Свистунов, наливая в рюмку водки. – Ни черта не смыслят в поэзии, а ведь мои стихи ничуть не хуже тех, что печатаются! – В его голосе звенела искренняя обида.
– Помню, как-то я взял на мой ревельский[148] завод директором одного чрезвычайно образованного господина, – сказал Башилов. – Пушкина цитировал так, что заслушаешься. «Евгения Онегина» – вообще наизусть шпарил целыми главами.
– Это Марков, что ли? – нерешительно спросила Натали, хорошенькая кудрявая дочь промышленника.
– Он, он, – подтвердил ее отец, блестя глазами. – Не успел я оглянуться, как он украл десять тысяч рублей.
– Нам бы ваши проблемы! – с притворным сочувствием вздохнула Клавдия Петровна, вытирая лицо платком.
Она шевельнулась на стуле, и тот протестующе заскрипел. Передовая дама была весьма обширна и не без раздражения поглядывала на тоненькую, юную, очаровательную Натали, которая словно являла собой все то, чем Бирюкова никогда не была – и, увы, уже не будет.
– Кто будет еще чаю? – спросила хозяйка дома.
Оказалось, что все, и Ергольская, вызвав горничную Глашу, вполголоса отдала ей указания.
– Бабочка бьется о стекло, – заметила Натали, поглядывая в сторону окна.
Ее сосед Серж Карпов тотчас же поднялся, подошел к окну и пошире распахнул его, чтобы выпустить насекомое.
– Это мотылек, – сказал Башилов.
В саду стрекотали кузнечики, а в небе одна за другой зажигались первые звезды. Почему-то, хотя никто не осмелился высказать этого вслух, все почувствовали, что только что обсуждаемая ими волнующая тема потускнела, как-то скукожилась и перестала их волновать. Серж вернулся на место, и Натали поблагодарила его застенчивой улыбкой.
– Что вы сейчас сочиняете, Матвей Ильич? – спросила Клавдия Петровна у Ергольского.
Вопрос прозвучал скорее покровительственно – ведь Ергольский был представителем несерьезной литературы, а настоящий писатель должен говорить только о нуждах народа, при всяком удобном и неудобном случае порицать правительство и исповедовать исключительно передовые взгляды. Но Матвей Ильич считал, что его дело – создавать для людей волшебные миры, а что касается правительства и народа, то они сами как-нибудь разберутся, что им нужно.
– Криминальный роман, Клавдия Петровна, – ответил хозяин дома на вопрос своей собеседницы. – Или, как говорят за границей, детектив.
– Как интересно! – воскликнула Натали. – А кого там убивают?
– О, множество людей! Во-первых, даму…
– Во-первых? Матвей! – укоризненно промолвил журналист, качая головой. – Я так понимаю, что по ходу дела у тебя наберется штук десять трупов…
– И не стыдно вам убивать женщин? – капризно спросила актриса.
– Романы – чепуха, – объявил поэт, косясь на непочатый графин с наливкой. – Вот стихи сочинить не всякий может!
– Ну, сочинить – дело нехитрое, а вот напечатать их не так-то просто, – съязвил молодой актер, улыбаясь Пановой.
Свистунов побагровел.
– Не могу сказать, что я много читаю, – заметил Башилов. – Но среди криминальных романов попадаются весьма занимательные штучки. И хочешь оторваться, да не можешь.
– А убийцу в конце разоблачат? – спросила Натали у писателя.
– Разумеется, разумеется, – заверил ее Ергольский, – как же без разоблачения!
– Конечно, – фыркнул Свистунов, – кто же станет читать про нераскрытое убийство… хотя в жизни таких убийств хоть пруд пруди!
– Не говорите чепухи, – сердито сказал хозяин дома. – В нашем уезде таких не было уже несколько лет.
Поэт заморгал, сгорбился и сделал вид, что рассматривает скатерть.
– Как же вы придумываете свои убийства? – спросила актриса, кокетливо облокотившись о стол и со значением прищурившись.
По правде говоря, если и была на свете вещь, которую Матвей Ильич менее всего был склонен обсуждать, то ею являлась как раз творческая кухня, работа вдохновения – зовите как хотите. Ергольский и сам не очень хорошо понимал, как именно ему удается выдумывать по несколько романов в год. К примеру, замысел его недавней книги пришел к нему, когда он услышал скрип колодезного ворота, чем-то поразивший его воображение; но поди объясни читателям, с какой стати этот самый обыкновенный, в сущности, звук так его вдохновил! И напротив, самый громкий, самый сенсационный процесс, о котором взахлеб сообщали все газеты, процесс, по поводу которого хороший знакомый Чаев мог сообщить массу конфиденциальных подробностей, имел все шансы оставить Ергольского совершенно равнодушным. Поэтому на вопрос актрисы писатель ответил:
– Вот так и придумываю, Евгения Викторовна. Просто сажусь и представляю себе…
– Кого? – с любопытством спросила Натали.
– Ну, кого-нибудь, – неопределенно отозвался Матвей Ильич.
– О! О! – воскликнула заинтригованная Панова. – То есть вы можете придумать… ну, не знаю… убийство любого человека?
– Теоретически – да, – ответил Ергольский.
– Это игра воображения, – вмешался Чаев. – На самом деле, конечно, никто никого не убивает.
– Ну разумеется, разумеется, – прогудела Клавдия Петровна. – Думаю, Матвею Ильичу приходится постараться, чтобы все выглядело более-менее правдоподобно. Ведь на свете столько людей, которых никто не стал бы убивать.
– А вот тут вы заблуждаетесь, уверяю вас, – возразил журналист. – Правильно я говорю, Матвей?
– Да, убить можно любого, – твердо сказал писатель.
– Вы нас пугаете, – промолвил Колбасин со слабой улыбкой. – Так-таки – любого?
– Но ведь есть же совершенно безобидные люди, которым никто не захочет причинить зла, – заметила Клавдия Петровна.
– Почему же? Причина, чтобы убить человека, всегда найдется, – отозвался Ергольский.
– Я и не подозревала, что вы такой кровожадный. – Клавдия Петровна поджала губы. – Ну, раз так, то какая может быть причина, например, убивать меня?
– Ваше имение, – не моргнув глазом, объявил Ергольский.
– Имение? Матвей Ильич, воля ваша, но это мелко. Оно уже давно заложено и перезаложено…
– Ну да, ну да, – кивнул писатель, – но в один прекрасный день человек, который арендует у вас землю, обнаруживает там… ну, допустим, золото.
– Что за человек? – открыла рот передовая дама.
– Понятия не имею. Назовем его хотя бы Иванов. Так вот, Иванов понимает, что если вы узнаете о находке, ему мало что достанется. Одним словом, ему надо избавиться от вас, затем выкупить имение…
– Матвей Ильич!
– Клавдия Петровна, клянусь честью, это же вымысел! Поэтому не пытайтесь доказать мне, что вы не знаете никакого Иванова и что на вашей земле нет золота… И вот однажды, когда вы приезжаете из Москвы, Иванов ждет вас на станции, обещает подвезти… а потом, убедившись, что никто его не видит, душит вас веревкой. Я не знаю, как дальше будет развиваться повествование, – быстро добавил Ергольский, заметив, как сверкнули глаза передовой дамы, – но Иванов почти добьется своего, и тут его как раз разоблачит следователь. Конечно, следователь будет чрезвычайно умен и проницателен, потому что Иванов подстроит все так, что все улики будут указывать на ваших родственников… да вот хотя бы на Николая Сергеевича, – добавил писатель, указывая на поэта.
Свистунов, который действительно являлся дальним родственником Клавдии Петровны, вытаращил глаза и поперхнулся.
– Нет, не годится, – покачал головой промышленник, которого явно забавляло все происходящее. – Иванова заметят на станции и, как только начнется дознание, сразу же вспомнят, что это он встречал… гм… вашу героиню.
– Не вспомнят, – тотчас же нашелся Ергольский, – потому что Клавдия Петровна приедет ночным поездом, а начальник станции уедет на свадьбу к сестре, и на перроне никого не будет.
– Господи! – в изнеможении промолвила почтенная дама. – И чего вы только не напридумываете, чтобы сжить меня со свету…
Ответом ей был взрыв смеха.
– Клавдия Петровна, вы просто очаровательны! – объявил журналист. – Ну, а меня ты бы как убил, признавайся?
– Случайный выстрел на охоте, – отозвался Ергольский, мгновение поразмыслив. – Пуля, извлеченная из тела, не подходит ни под одно ружье тех, кто тогда находился в лесу…
– А дальше, дальше? – нетерпеливо спросила Натали.
– Дальше? Само собой, причина всему международный заговор против Российской империи. Георгий Антонович собирался разоблачить его в своей газете, за что и поплатился…
– Ну надо же! – восхитилась Панова. – Я настаиваю, чтобы вы убили и меня тоже. Только, пожалуйста, прошу не душить, потому что на сцене меня достаточно душили, – кокетливо добавила она.
Ее муж нахмурился и послал Ергольскому умоляющий взгляд.
– Тогда, пожалуй, я вижу вас в гостиной, обставленной благородной старинной мебелью, – вздохнул писатель. – В роскошном платье вы полулежите в кресле. – Актриса открыла рот. – Возле вашей правой руки, которая свешивается через подлокотник, на персидском ковре, которым покрыт пол, поблескивает револьвер с перламутровой рукояткой…
– О!
– Все сначала думают, что это самоубийство, но вскоре выясняется, что это не так, – вставил журналист. – Извини, я, кажется, раскрываю твои секреты… Прошу, продолжай!
– Само собой, начинают подозревать всех, кто находился в доме, – фантазировал Матвей Ильич. – Следователь, образцовый, но туповатый служака, в тупике, ему кажется, что все от него что-то скрывают… Тем временем происходит второе убийство. Это… ну, допустим, служанка. Она что-то знала или видела… – Ергольский выдержал паузу и обвел взглядом лица притихших слушателей. – В конце концов выясняется, что причиной всему – театральные интриги. Некая актриса, которая считает, что вы заняли ее место и разрушили ее жизнь… в общем, она захотела отомстить и подослала своего любовника. Или сына, – задумчиво добавил писатель, – пожалуй, сын будет лучше, потому что я имел в виду опустившуюся актрису, которая живет только мыслью о мести…
– Нет, – твердо сказала Панова, – он меня не убьет, а только ранит. Я перетяну его на свою сторону, он раскается… А в пятом акте я воскресну и снова появлюсь на сцене. Выйдет прекрасная мелодрама, – добавила она, оживившись. – Матвей Ильич, миленький, а вы не хотите написать пьесу на эту тему?
– Я… право… – пробормотал Ергольский, теряясь.
– Муж сейчас занят своим романом, – пришла ему на выручку жена. – Но он обязательно подумает над вашим предложением!
– А мне, наверное, вы уготовили какую-нибудь скучную смерть, – заметил Башилов, пытливо глядя на хозяина. – Не видать мне ни старинной мебели, ни револьвера с перламутровой рукояткой…
Но Ергольский нашелся и тут, на ходу сочинив промышленнику смерть от укуса ядовитой змеи, присутствие которой объяснялось исключительно происками конкурентов. Мужа актрисы, тишайшего Анатолия Петровича, писатель отравил ядом кураре на Невском проспекте, ибо злоумышленница-горничная прежде всех прознала о том, что режиссер выиграл в лотерею 10 000 рублей золотом, и рассчитывала под шумок присвоить билет себе. Младшего Колбасина, который весь вечер почти не открывал рта, Ергольский объявил случайным обладателем государственной тайны и безжалостно сбросил с воздушного шара, дабы окончательно запутать следы. Красавца Ободовского, по версии Матвея Ильича, из ревности заколола кинжалом некая фрейлина, приревновавшая его к другой. Сержа Карпова, который не сводил влюбленных глаз с белокурой Натали, писатель обличил как безжалостного злодея и члена преступной организации, который раскаялся под влиянием любви (тут Натали очаровательно покраснела) и был устранен своими коллегами. Саму Натали при случае не отказалась бы убить соперница из высшего общества, завидующая ее молодости и красоте…
Как Николай Сергеевич ни прятался за самоваром, который принесла Глаша, пришлось и поэту побывать жертвой в вымышленном детективе: повесив его, Ергольский объявил, что под подозрением у следователя оказались все редактора, которым Свистунов когда-либо посылал стихи. Когда стих дружный смех, Матвей Ильич объяснил, что на самом деле Николай Сергеевич был балканский принц и законный наследник престола, которому пришлось скрываться в России. Увы, даже попытка сойти за обыкновенного поэта не сумела его спасти!
– Господи, – вымолвил потрясенный Свистунов, – ну и фантазия у вас! Даже не скажешь, что за ужином вы ничего не пили…
– И откуда на моей земле золото? – добавила Клавдия Петровна с недоумением. – Да в нашей губернии его вообще не водится… Мне всегда казалось, что любой вымысел должен быть прежде всего правдоподобным. Разве нет?
– Вымысел должен быть увлекательным, Клавдия Петровна, потому что скучная литература – это не литература вообще, – с улыбкой отозвался Ергольский. – Кроме того, читателю нравится, когда за самым незначительным фактом скрывается какая-то тайна, пусть даже сама по себе она не слишком оригинальна.
И хотя было уже поздно, гости задержались, насколько позволяли приличия, а когда все-таки настало время расходиться, почти все покидали дом писателя с ощущением, что вечер чрезвычайно удался.
Глава 2. Ни дня без строчки
Матвею Ильичу Ергольскому недавно исполнилось 39 лет. Это был русоволосый господин среднего роста с небольшими усами, которые, пожалуй, составляли самую примечательную черту его вполне заурядной внешности. Глаза у него были серые, глубоко посаженные, руки – артистические, с изящными пальцами, как у пианиста или карманника высшей пробы. К одежде Матвей Ильич был вполне равнодушен, но благодаря какой-то прихоти судьбы самый обыкновенный костюм сидел на нем безупречно, а когда писатель собирался на какое-нибудь торжественное мероприятие с фотографированием (что случалось довольно редко), то можно было не сомневаться, что на групповом снимке он будет выглядеть лучше прочих. Сам он не любил ни многолюдных сборищ, ни торжественных речей, ни всех тех скучных, но необходимых обязанностей, какие налагает известность. Имя его не то чтобы гремело по всей России, но было вполне популярно, а кое-где даже и уважаемо. Когда-то Ергольский поступил на юридический факультет университета, но в глубине души он отлично понимал, что на самом деле его интересует только одна вещь в мире – литература. По его мнению, на земле существовали лишь два подлинных удовольствия: первое – прочитать хорошую книгу и второе – сочинить хорошую книгу. И Матвей Ильич был убежден, что когда придет его время, он сумеет создать глубокую, серьезную вещь, которая отразит современную ему эпоху и вберет в себя лучшие качества автора.
Сочинять он начал еще в гимназии, но именно во время учебы в университете стал писать более или менее систематически, заполняя толстые тетради замыслами, конспектами характеров и набросками диалогов вперемешку с мнениями о прочитанных книгах и хозяйственными расходами. Через университетских знакомых Ергольский стал вхож в некоторые редакции, которым требовались рассказы и повести и которые были готовы рискнуть, напечатав дебютное произведение молодого автора. Матвей Ильич решил, что его время пришло, и немедля сел за работу. Он был так увлечен своим произведением, что нередко забывал поужинать. Вещь, которую он сочинял, должна была, по его мнению, стать новой вехой в русской литературе. (По молодости Ергольский не возражал бы, если бы его книга произвела переворот и в мировой литературе, но так как он был от природы скромен, то решил пока ограничиться родной словесностью.)
В мае он закончил черновой вариант и уехал отдохнуть в имение матери. От знакомого студента, начинающего журналиста Георгия Чаева, Матвей Ильич уже знал, что любой текст должен отлежаться перед правкой, чтобы его недостатки было легче заметить. В августе Ергольский вернулся в Петербург – вернулся, по сути, к своему произведению, мысль о котором не покидала его и во время отдыха. Однажды вечером он развернул заветную тетрадь, взял перо и…
И не узнал своего текста. Первая фраза была ужасна, первый абзац – еще хуже. Огромные корявые фразы, разбухшие от придаточных, налезали друг на друга, погребая авторскую мысль под грудой слов. То тут, то там возникали длиннейшие и подробнейшие описания пейзажей, без которых совершенно спокойно можно было обойтись. Героиня то славилась своим серьезным характером, то заливисто хохотала в ситуациях, в которых бедный Ергольский не видел теперь ничего смешного. Главный герой был напыщен, ходулен и даже хуже того – глуп как пробка. Коротко говоря, авторское бессилие сквозило в каждой странице, каждой строке и даже знаке препинания, потому что по молодости Матвей Ильич понаставил множество лишних восклицательных знаков и многоточий там, где опытный писатель наверняка ограничился бы просто точкой.
Ергольский провел ужасную ночь. Ворочаясь с боку на бок, Матвей Ильич менее всего думал о том, как он, начитанный, культурный человек, вроде бы неплохо разбирающийся в литературе, мог породить этакое недоразумение. Речь, в сущности, шла о другом – о том, может ли он вообще сочинять. Вопрос этот имел для Ергольского такую важность, что он всерьез стал рассматривать возможность самоубийства, если вдруг окажется, что писателем ему не быть.
В то время он для заработка сочинял небольшие статьи для газеты, в которую его привел Георгий Чаев. Угодить редактору было нелегко, и порой Ергольскому приходилось задерживаться в редакции, чтобы переписать заметку так, чтобы ее утвердили. Однажды, когда Матвей Ильич, в глубине души проклиная все на свете, на краешке стола перекраивал статью, в которой следовало по-новому подать чрезвычайно старую и зажеванную мысль, в редакции появилось Очень Значительное Лицо. Лицо это было известным писателем и имело облик господина с щегольской тростью, в элегантном пальто, барашковой шапке и покрытых густейшей петербургской грязью калошах. Точности ради стоит отметить, что лицо было слегка под хмельком и явилось сюда с одной-единственной целью – выцарапать из редактора гонорар, который тот по интеллигентской привычке запамятовал выплатить.
Так как известный писатель имел репутацию скандалиста (не исключено, что как раз потому, что не стеснялся требовать то, что ему причиталось), редакционные работники благоразумно предпочли при его появлении испариться. Посетитель рухнул в кресло напротив Ергольского, который, забыв о своей статье, смотрел на него во все глаза. Несколько секунд подвигав губами, известный писатель наконец осведомился (судя по всему, у шкафа в углу), где тот подлец, который зажал его гонорар.
– В-вы Иван Степанович? – несмело спросил Ергольский.
Известный писатель перевел на него тяжелый взгляд и громко вздохнул.
– Мой отец – Степан, – объявил он во всеуслышание. – А меня при крещении нарекли Иваном. Эт-то понятно, милостивый государь?
– Простите, ради бога, – пролепетал Матвей Ильич, краснея, – я имел в виду… я хотел сказать… Для меня такая честь – увидеть вас… автора произведений, которые я люблю… – Он перечислил, что именно у собеседника ему нравится, а затем, спохватившись, назвал свое имя и объяснил, что тоже является писателем, хоть и начинающим.
– А! Коллега! – усмехнулся известный автор. – Ну что ж, поздравляю вас… хотя поздравлять, собственно говоря, не с чем: российская словесность – та еще штучка, да-с… Вы уже печатаетесь?
Матвей Ильич закручинился и объяснил, что он уже некоторым образом успел кое-что сочинить, но когда он стал перечитывать написанное, оно ему самым решительным образом не понравилось и вообще он теперь не знает, что ему делать дальше.
– Как что – работать, – хладнокровно ответил его собеседник. – Двигаться вперед, если вы, конечно, не передумали и не избрали более спокойную профессию, – и он выразительно покосился на перемаранный черновик статьи, лежащий на столе перед Ергольским.
– Я хочу быть писателем, – твердо ответил Матвей Ильич, чувствуя, как бешено бьется его сердце. Посетитель упер трость в пол, положил руки на набалдашник и уткнулся в них подбородком, глядя на молодого человека весьма иронически.
– Что ж, весьма похвально, – уронил известный автор. – Полагаю, вы собираетесь спросить моего совета, попросите прочесть ваше творение… и так далее. – Он выразительно скривился. – Советов я, милостивый государь, не даю, но кое-какими соображениями не откажусь поделиться.
Матвей Ильич схватился за чистый лист бумаги и поспешно обмакнул в чернильницу перо – так поспешно, что даже испачкал пальцы.
– Нет, записывать ничего не надо, – усмехнулся посетитель. – Ваше счастье, что бордо – отличное вино, потому что вообще-то я не люблю говорить о деле с начинающими. Прежде всего, запомните: никто и никогда не будет вам помогать. У известных авторов достаточно хлопот со своими рукописями, и они не станут заниматься работами новичков. Редактора, что вполне естественно, предпочитают тех, кто уже зарекомендовал себя, потому что ни у кого нет охоты объяснять начинающим их ошибки. Кроме того, это заведомо безнадежное дело, потому что всякий дебютант с пеной у рта защищает любую чушь, которую он написал… – Знаменитый писатель икнул, но даже прекрасное бордо не лишило его способности доводить до логического завершения любую начатую мысль, и Иван Степанович уверенно закончил фразу: – Ошибочно принимая ее за выражение своей творческой индивидуальности.
– Но как понять, где настоящая индивидуальность, а где… – робко начал Ергольский.
– Вот то-то и оно, – кивнул посетитель. – Дело в том, что любой талант имеет свою направленность, свои ограничения, если хотите. И первейшая ваша задача заключается в том, чтобы выявить, к чему именно у вас есть талант. Достигается это, увы, путем проб и ошибок и нередко – за счет читателя. Кроме того, когда я говорю «талант», я имею в виду не только умения, которые у вас присутствуют, но и в какой-то мере ваш вкус, ваши личные предпочтения. Никому еще не удавалось сочинить что-либо значительное в той области, которую автор терпеть не может, а пытаться переломить себя в угоду публике вообще бесполезно, это путь в никуда, потому что она все равно толком не знает, чего хочет. Даже если вы станете знаменитым и корреспонденты всех газет будут толпиться под вашей дверью, никогда не забывайте, что по большому счету публике на вас наплевать, и как только вы хоть чем-то ей разонравитесь, она с необычайной легкостью переключится на кого-нибудь другого. Но даже если вам повезет, милостивый государь, и вы сумеете найти себя в литературе – а это очень важно – найти свой стиль, свою неповторимую манеру, вам придется много работать над собой, чтобы потихоньку расширять свои границы. Вообще ключевое в сочинительстве слово – именно работа. Забудьте всю эту чушь о вдохновении, которое то приливает, то отливает. Вдохновение – выдумка старых писателей для публики, которая в то время не принимала их всерьез. Все корчили из себя любимцев муз, жрецов Аполлона и не знаю кого еще. Истина значительно проще и грубее: писатель должен жить скромно, как мышь, и работать, как лошадь. Заметьте, мы работаем не только тогда, когда пишем, но и тогда, когда отдыхаем; мы накапливаем впечатления, бессознательно отбираем нужные факты, присматриваемся к людям, даже если не собираемся вставлять их в книгу. Раз вы начинающий, то вам придется заниматься ровно тем же. Опишите комнату, в которой находитесь сейчас, на одной странице, а потом сделайте то же, но в одной фразе. Опишите девушку, которую вы встретили на улице, развернуто и кратко, опишите закат, который вы видели, все, что угодно. Возможно, что вам это в ближайшее время не пригодится, но, по крайней мере, вы чему-то научитесь, а в литературе не бывает ничего лишнего.
Сочтя, очевидно, что он и так сказал слишком много, известный писатель поднялся с места и поудобнее перехватил свою трость, с которой редко расставался и которую ухитрялся даже нигде не терять, несмотря на все кутежи и свою достаточно безалаберную жизнь.
– Иван Степанович! – в панике вскричал Ергольский. – Но если мне никто не помогает, если я один… как я пойму, получается у меня или нет, удачно описание или нет, сумел я передать облик девушки, как вы говорите… или…
– Глупо думать, что вы один, – отмахнулся знаменитый автор, – ведь все писатели прошлого и все современные писатели к вашим услугам, милостивый государь! Читайте их, анализируйте, с чего они начинают, как ведут героев по лабиринту сюжета, как заканчивают свои произведения, как строят описания, чего избегают и какие делают ошибки – да, на чужих ошибках тоже можно открыть для себя немало полезного! И ради бога, забудьте про спесь, про то, что вам кто-то чего-то должен, а то наши новички обыкновенно так себя ведут, словно одним своим присутствием делают честь нашей литературе.
И, забыв о неполученном гонораре, о разносе, который он собирался учинить прижимистому редактору, известный автор двинулся к выходу, величаво помахивая тростью. Грязь таяла на его калошах, оставляя на полу мокрые следы.
– А моя повесть… – пробормотал Матвей Ильич, понимая, что посетитель, который чуть-чуть приоткрыл перед ним дверь в волшебную страну – литературу, вот-вот исчезнет, – как вы полагаете, ее лучше… того… уничтожить? Раз уж она совсем не удалась…
Знаменитый писатель обернулся, смерил своего юного коллегу взглядом и укоризненно покачал головой.
– Уничтожить рукопись вы всегда успеете, – снисходительно объявил посетитель, – это дело нехитрое… Посмотрите, есть ли хоть что-то, что вам удалось, отметьте для себя самые слабые места и работайте, работайте…
Впоследствии Ергольский прочитал немало теоретических трудов о писательской работе, и даже – да-да, вы угадали – сочинил несколько статей на ту же тему, но никто не смог затмить в его мнении Ивана Степановича или хотя бы отчасти заменить его. Пусть именитый автор не во всем оказался прав, – например, выяснилось, что вдохновение на самом деле очень даже существует, – Матвей Ильич продолжал считать посетителя редакции своим литературным учителем и не переменил своего мнения даже тогда, когда звезда его знакомого закатилась.
…Вернувшись к себе в тот знаменательный вечер, Ергольский вооружился красным карандашом и внимательно перечитал свою рукопись. В некоторых местах он прямо-таки ежился от неловкости, а увидев неведомо как прокравшуюся в текст «длинную девушку» (которая вообще-то была всего лишь «девушкой с длинным лицом», но автор торопился и написал не то, что хотел), испытал неподдельное страдание. Были и кое-какие удачные моменты: обмен колкими репликами в третьей главе и пара второстепенных персонажей, которые получились выпуклыми и интересными, причем оба по сюжету были редкостными негодяями. Однако все это было настолько далеко от грез Матвея Ильича о его книге, которая обогатит литературу, что он расстроился еще больше, чем тогда, когда перечитывал свое творение в первый раз.
«А все-таки, – размышлял он позже, лежа в постели, – не может быть, чтобы все было зря и меня с детства тянуло к книгам лишь для того, чтобы я написал весь этот вздор о длинной девушке… – Его аж передернуло от неловкости при одном воспоминании о ней. – Он сказал, что надо найти себя, а для этого надо работать… Ну что ж, никто ведь не обещал мне, что все окажется легко».
На следующий день Матвей Ильич повесил над столом листок с изречением «Nulla dies sine linea»[149], чуть пониже после легкого колебания приписал: «Писатель должен жить скромно, как мышь, и работать, как лошадь», и принялся за дело. Подобно Шекспиру, Ергольский имел отныне право считать, что весь мир – материал, а все люди в мире – вероятные персонажи. Он наблюдал и записывал, записывал и наблюдал. Когда он теперь читал книги, он поступал так, как советовал известный автор, – отмечал, как движется сюжет, как показаны герои, какие детали автор подчеркивает, а какие опускает. Очень скоро он открыл, что идеальный рассказ – «Ожерелье» Мопассана и что по-настоящему в литературе важны лишь три вещи: новый сюжет, новый герой и новый жанр. Стиль, конечно, имеет свою ценность, но безупречная по языку книга производит удручающее впечатление, если все стилистические изыски призваны лишь замаскировать пустоту замысла.
В последующие месяцы Ергольский сочинил несколько рассказов, и некоторые из них были опубликованы, и даже принесли ему кое-какие деньги – но не принесли удовлетворения. В литературе в те дни господствовал непролазный реализм, а в реализме – мятущиеся души, чахоточные студенты, страдающие проститутки, которым непременно надо было сочувствовать, и герои в конце концов непременно умирали в какой-нибудь комнате размером с табакерку под аккомпанемент моросящего за окном дождя. Ергольский видел студентов, которые учились вместе с ним, и были они самые обыкновенные люди, какие, похоже, реализму противопоказаны. Мало кто из них страдал чахоткой и уж точно никто не произносил патетические многостраничные речи, полные туманных намеков на прогресс и грядущие перемены. Что касается проституток, то Матвей Ильич был брезглив и не имел никакого желания им сочувствовать, даже если по воле автора они произносили самые глубокомысленные сентенции и предавались раскаянию в каждой главе (продолжая, впрочем, преспокойно заниматься своим ремеслом). Воображение влекло его в совершенно другую сторону, в комнаты, где играли на рояле, вели приятные беседы обо всем и ни о чем, где сидели красивые дамы, обмахиваясь веерами, а за окнами пенилась белая сирень, точь-в-точь как в имении его матери. И в конце его истории все злодеи получили бы по заслугам, как и должно быть, и никто из положительных героев не умирал бы в комнате, похожей на табакерку.
Некоторое время Матвей Ильич с грехом пополам совмещал учебу с работой, но когда стало ясно, что долго такое положение не продержится, он без колебаний оставил университет и превратился в полуписателя, зависшего между журналистикой и газетной прозой. Он продолжал писать статьи, потому что их было проще пристроить, чем рассказы, которые к тому же самого его не удовлетворяли. Он пытался быть реалистом в господствующем тогда духе, но именитый автор оказался прав – невозможно писать хорошо на тему, которая не вызывает у автора ничего, кроме отторжения. Как-то Ергольский получил задание от редактора сочинить «что-нибудь этакое о магдалине, чтобы выжать слезу». (Редактор, не раз и не два получавший трепку от цензуры, по профессиональной привычке даже в жизни воздерживался от чересчур прямолинейных слов и предпочитал говорить «магдалина» вместо «проститутка»). Придя домой, Ергольский поужинал и сел за работу, но не тут-то было. Проститутка в его рассказе появлялась, но стоило ей возникнуть, как ее тотчас убивали. Как автор ни бился, судьба его героини была предрешена с первых же строк. Предчувствуя для себя неприятности, Ергольский тем не менее закончил рассказ и принес его редактору.
– Гм! – сказал тот, прочитав написанное. – Ну, это не совсем то, что нам надо… Совсем не то! Однако написано живо… читается легко… Вот что: раз уж мне все равно нечего ставить в номер, помещу-ка я ваш рассказ. Вы, батенька, конечно, безжалостно с ней обошлись, так что в другой раз я все же жду от вас что-нибудь этакое… жалостливое…
Но другого раза не случилось, потому что неожиданно выяснилось, что публике надоели жалостливые рассказы и она, напротив, хочет читать истории с напряжением, с преступлениями, коварными злодеями и находчивыми сыщиками. Поначалу Матвей Ильич воспринял работу такого рода как чистое ребячество, но когда после рассказов пришла очередь романа с продолжениями, за который ему посулили повышенный гонорар, и он увидел в своем воображении всю паутину замысла, который ему предстояло воплотить, он почувствовал необыкновенный душевный подъем. Это будет – как он определил для себя – двойная история, где непритязательный читатель увидит хитроумные сюжетные перипетии, а взыскательный – тонкий юмор, скрытые цитаты из классиков и словесные ребусы, которые под силу разгадать только человеку образованному.
– Как будете подписывать ваш роман? – спросил редактор, глядя на Матвея Ильича добрыми, полными надежды глазами.
Согласно принятой тогда газетной практике, у каждого автора было несколько псевдонимов, которыми он пользовался по своему усмотрению.
– Ну, пусть будет граф Делис, – брякнул Ергольский, не подумав.
Он и сам не знал, откуда взялось это имя. Одно время ему казалось, что оно пришло из какого-то рассказа Мопассана, но вскоре выяснилось, что такого персонажа у французского писателя нет. Словом, когда поклонники и интервьюеры позже расспрашивали Матвея Ильича о том, как он выбрал псевдоним, сделавший его известным, писателю приходилось принимать загадочный вид и уклончиво говорить, что это секрет…
В общем, писатель нашел себя, и оказалось, что лучше всего на свете у него получается писать о приключениях и тайнах. И пока его герои путешествовали, сражались и раскрывали заговоры, их автор вел размеренный образ жизни, сочиняя каждый день по новой главе – или же обдумывая новый замысел, если предыдущий подошел к концу. Георгий Чаев, дружбу с которым Ергольский сохранил, не мог усидеть на одном месте; он объездил всю Европу, побывал в Японии, Бирме и Индии, откуда привез другу пару мангустов, а его жене – экзотическую орхидею. В противоположность журналисту, Матвей Ильич с годами все меньше и меньше любил перемещаться. Вдобавок Петербург стал его утомлять, да и здешний климат писателю никогда не нравился. В конце концов он окончательно осел в имении матери, заплатил кое-какие семейные долги и отремонтировал старую усадьбу. Переезд его из столицы империи в провинцию почти совпал с женитьбой.
Если бы Матвея Ильича спросили, почему он женился на Тоне, именно на ней, Ергольский, скорее всего, затруднился бы ответить. Ему было уже за тридцать, ей – чуть меньше тридцати; она не могла похвастать особой красотой – красивы в ней были только большие голубые глаза и высокий чистый лоб. Но она получила хорошее образование, любила книги, и ее отец, как и отец писателя, был заядлый картежник, прокутивший семейное состояние. В конце концов ее отец застрелился, а его отец спился и умер. Матвей Ильич не мог простить ему того, что своим поведением он сократил дни матери, которая неожиданно скончалась вскоре после него. Возможно, из-за того, что старший Ергольский был человеком, обуреваемым страстями, его сын предпочитал испытывать страсти только в своих книгах. В жизни Матвей Ильич был уравновешен, превыше всего ставил здравый смысл и, возможно, кому-то из своих читателей, которые склонны путать автора с его персонажами, показался бы до отвращения скучным.
Хотя Ергольский не любил шумных сборищ, он с удовольствием принимал гостей и считался хлебосольным хозяином. По соседству с его небольшим имением располагались земли, которые купил промышленник Башилов, а с другой стороны – усадьба передовой дамы, к которой на лето частенько приезжал из Петербурга ее родственник-поэт. В некотором отдалении, по другую сторону озера стоял белый дом, который, как и его окрестности, принадлежал какой-то даме с немецкой фамилией. Кажется, дом достался ей от дальнего родственника, но саму даму в этих краях видели редко, а дом на лето сняли приезжие: знаменитая актриса, выступавшая под псевдонимом Панова, ее муж, режиссер Колбасин, их сын Павел и его приятель Сережа, которого все на французский манер величали Сержем. На правах друга семьи в доме поселился и актер Иннокентий Ободовский, хотя его истинное положение ни для кого не было секретом.
– Не понимаю я таких женщин, – пожаловалась Антонина Григорьевна, когда гости удалились. – Этот актер всего на несколько лет старше ее сына. И она говорит, что ей тридцать три, хотя ее сын учится в университете…
Удивленный ее тоном, муж вскинул на нее глаза.
– Ну, Тоня, таким женщинам, как она, всегда тридцать три… По крайней мере, они хотели бы уверить в этом всех окружающих.
Антонина Григорьевна промолчала, нервно перебирая бахрому белой шали, которой зябко укутала свои плечи.
– Она с тобой кокетничала, – неожиданно проговорила жена, и какие-то новые нотки прорезались в ее голосе.
– Со мной? Тоня!
– Кокетничала, не спорь… Ты-то, может, и не заметил, но вот Георгий Антонович все видел.
Журналист, который гостил в их доме, уже отправился спать, и потому апелляция к отсутствующему другу показалась писателю особенно нелепой.
– Ты у него спроси, – добавила жена с обидой.
– Зачем? Тоня, это нелепо, ей-богу. Мне нет до нее никакого дела…
– Она хочет, чтобы ты написал для нее пьесу. Она тебе намекала…
– Пьесу? Тоня, милая, я не пишу пьес, это всем прекрасно известно…
– Панова поссорилась со своим постоянным автором из-за этого актера. Он все время капризничал, что для него нет хороших ролей… – Ергольская промолчала, а затем решилась высказать догадку, которая пришла ей на ум: – Я думаю, она не просто так сюда приехала. Ей нужен ты, потому она и сняла на лето этот дом по соседству с нами… И каждый раз, когда она оказывается у нас в гостях, она заводит речь об одном и том же.
– Тоня, прости, но ты читала слишком много моих романов, – проворчал Ергольский, которого стал сердить мелодраматический оборот, который принимал разговор. – Я не сочиняю пьес и не собираюсь их сочинять. Евгения Викторовна – вполне состоявшаяся актриса, и любой драматический автор сочтет честью с ней работать. Лично я быть таким автором никак не могу, потому что у меня полно своих дел…
– Как скажешь, – безнадежно отозвалась его жена и погрузилась в молчание.
Подобно большинству своих собратьев, Ергольский вел дневник, и когда беллетрист перед сном сел записывать события минувшего дня, ему прежде всего вспомнился разговор с Антониной. Однако Матвей Ильич решительно тряхнул головой и аккуратно записал в книжечку другое:
«Весь день – прекрасная погода. Устроили soirée[150]. Гости: Жора Чаев, Клавдия Петровна, Николай Сергеевич, Башилов и его дочь, актриса Панова, режиссер Колбасин, актер Ободовский, сын актрисы и приятель последнего, итого десять человек. Говорили о русской интеллигенции, затем зашла речь об убийстве, – я продемонстрировал, как и за что можно убить любого присутствующего. Приятно провели вечер».
Дописав последнюю фразу, он поставил точку, убрал перо, закрыл книжечку и спрятал ее в ящик стола, после чего потушил свет и отправился спать.
Глава 3. Вечерний посетитель
Следующий день Клавдия Петровна запланировала посвятить написанию статьи, которую ей заказал журнал. Статья была очень важная и, само собой, передовая; говорилось в ней о необходимости введения начального образования в России для всех детей, вне зависимости от их социального статуса и пола. В своем воображении Клавдия Петровна уже видела эту статью, хлесткую и яркую, полную безупречных доводов и в пух и прах разбивающую все возможные возражения оппонентов. Дело было за малым – оставалось только сесть и написать.
Клавдия Петровна устроилась у окна, которое любила больше всего, потому что из него открывался прекрасный вид на сад и старые деревья. За деревьями начиналось озеро, на другом берегу которого виднелся белый дом, в котором поселилась Панова со своей беспокойной свитой.
Стояла жара, но с озера то и дело доносился освежающий ветерок, так что дышать было легко. В небе для виду прохлаждались несколько облаков, но выглядели они несерьезно, потому что было совершенно понятно, что никакого дождя сегодня не было и не будет.
Клавдия Петровна окинула взглядом сад, деревья, помнившие ее, когда она была еще маленькой девочкой с длинными косичками, озеро, на котором покачивались кувшинки, и черты ее смягчились и потеплели. У нее было круглое лицо с пухлыми губами, вздернутым носом и глазами слегка навыкате, которые за стеклами пенсне тоже казались круглыми. Длинные темные волосы она зачесывала в объемистый пучок и закалывала шпильками. Высокая, ширококостная, дородная, Клавдия Петровна умела производить впечатление, но вряд ли кто-то мог назвать это впечатление положительным. С детства Бирюкова знала про себя, что некрасива, и с детства же решила, что никогда не будет переживать по этому поводу. Но принять решение – одно дело, и воплотить его в жизнь – совсем другое. Бессонными ночами, которые в последнее время случались все чаще и чаще, Клавдия Петровна не могла отделаться от мысли, что она отдала бы все на свете за двадцать лет и осиную талию. На людях она держалась так, словно ее жизнь удалась и другой участи она бы для себя не пожелала; но когда она оставалась наедине с собой, на нее нередко накатывали приступы отчаяния. Ей мучительно не хватало семьи, хорошей семьи вроде той, которую она помнила с детства и которую уже не надеялась воссоздать в своей жизни – семьи, где есть муж, жена, дети, гувернантки и смешная лохматая собачонка, которая вертится у всех под ногами и которую все всё равно обожают. Без семьи, полной любви, не имели значения ни фамильная усадьба, мало-помалу приходящая в упадок, ни деревья за окном, ни озеро со всеми его волшебными кувшинками.
Придвинув к себе стопку бумаги, Клавдия Петровна решительно обмакнула перо в чернильницу и вывела заглавие, а за ним – первую фразу статьи. Она писала размашистым почерком, широко расставив на столешнице пухлые локти; писала, не обращая внимания на зудящее, настойчивое, неприятное ощущение, которое не покидало ее, – но на второй или третьей странице перо запнулось, сделало в воздухе замедленный пируэт и посадило на бумагу небольшую кляксу.
Все было неправильно: и заглавие, и первая фраза, и вторая, и вообще весь текст, который казался в ее воображении таким безупречным, а на бумаге – как она ясно понимала сейчас – оказался лишь набором трескучих фраз, слабо связанных друг с другом. Пот катился по ее лицу, затекая в глаза; Клавдия Петровна негнущейся рукой положила перо, сняла пенсне и машинально протерла его.
Слова всегда давались ей с невероятным трудом. Каждый раз Бирюкова говорила себе, что уж теперь-то она справится, она знает тему, как свои пять пальцев, и никто не сумеет объяснить суть проблемы лучше, чем она; но когда доходило до дела, она по несколько часов кряду мучилась над двумя-тремя абзацами, правя, зачеркивая и правя снова, после чего нередко теряла терпение, вскакивала с места, металась по комнате, потом возвращалась за стол, чтобы снова вычеркивать, исправлять, уточнять и опять зачеркивать… Ей всегда хотелось сказать больше, сказать лучше, не забыть ту или иную подробность, предугадать то или иное возражение; хотелось вместить в текст все, что ее волновало, но словно какой-то злой рок тяготел над ней, и на бумаге непременно получались или незатейливые штампы, или корявые, неуклюжие обороты, которые словно насмехались над ней, над ее стараниями. Слова не любили Клавдию Петровну, и разрыв между ними и мыслью, которую она пыталась выразить, всегда больно ранил ее.
Черновики ее статей, даже самых обычных, которые любой читатель счел бы проходными, в конце концов начинали напоминать непролазные лабиринты, и сама истерзанная Клавдия Петровна под конец хотела только одного – как-нибудь добраться до последней фразы, любой ценой, отстрадать и поставить финальную точку. Между тем, что она писала, и тем, что в ее воображении казалось таким ясным и логичным, словно протягивалась какая-то темная завеса; написанное почти всегда удручало ее и никогда не радовало так, как придуманное, но еще не воплощенное на бумаге. Она не могла понять, как такое может быть, и в глубине души отчаянно завидовала таким людям, как Ергольский. Подумать только, он садился за работу сразу же после завтрака и мог за один присест написать несколько десятков страниц, а после ужина нередко отправлялся править то, что написал вчера. И эта Антонина с ее кислым лицом наверняка не понимает, как ей повезло с мужем – мало того, что работящий, так еще все деньги отдает в семью, не пьет, не содержит любовниц, не…
Клавдия Петровна тряхнула головой. Нет, нет, нет, нельзя сейчас отвлекаться на Ергольского, надо думать о всеобщем образовании, о статье, которую ждет редактор. Она скомкала первые страницы, отложила их в сторону – вдруг кое-какие обороты окажутся впоследствии удачными, и их можно будет вставить в окончательный текст – и принялась сочинять статью заново.
Второй вариант оказался еще хуже, чем первый, и Клавдия Петровна, убив на него часа полтора, начала третий. На этой стадии работы она нередко ловила себя на мысли, что ненавидит все на свете, включая всеобщее начальное образование, защитницей которого ей полагалось выступать.
Пройдя через ад промежуточных вариантов (которых на этот раз набралось пять штук), Клавдия Петровна поняла, что текст стал потихоньку выстраиваться, освобождаясь от шелухи лишних слов, неудачных эпитетов и дурно выстроенных периодов. Где-то в лесу стреляли охотники, по озеру плыла лодка – Бирюковой не было до них дела: она работала с увлечением, и зачеркивания, которые ей время от времени приходилось делать, теперь уже не раздражали ее, потому что каждое приближало ее к заветной цели.
«Еще несколько страниц, и можно считать, что первоначальный вариант готов… А редактор наверняка скажет, как и в прошлый раз, что моя статья суховата, хоть и по сути верна. Знал бы он, каким трудом мне дается то, что он называет сухостью!»
Но как раз тогда, когда текст, устаканившись, плавно катился к завершению, в планы Клавдии Петровны самым бесцеремонным образом вторглась жизнь. За дверью зашаркали знакомые шаги, и в комнату протиснулась лохматая голова поэта Свистунова.
– Клавдия Петровна… Ты работаешь? Я тебе помешал?
Сидящая у окна дама потеряла нить мысли и подняла голову. Будь она иначе воспитана, она бы с раздражением подтвердила, что посетитель, который даже не соизволил постучаться, помешал, причем сильно. Но так как поэт был ее гостем – и к тому же родственником, – хозяйка дома не без труда вызвала на лицо любезную улыбку.
– Нет, Николай Сергеевич, я уже заканчиваю…
«Ну что ему стоило прийти через полчаса? Весь настрой сбил! О, боже мой, боже мой…»
– А я думаю, почему еще обед не подали, – простодушно молвил поэт, правой рукой машинально расчесывая свою редкую бороду.
– А который теперь час? – рассеянно спросила Клавдия Петровна, собирая листки. По ее распоряжению все часы из этой комнаты убрали, чтобы их назойливое тиканье не отвлекало хозяйку от работы.
– Уже пятый.
– Ах, боже мой!
– Ну, как говорят, счастливые часов не наблюдают…
– Да какое тут счастье, – вздохнула Клавдия Петровна, поднимаясь с места. – Пойдем, я распоряжусь насчет обеда… В столовой или на террасе?
Но в большой мрачноватой столовой оказалось в этот час слишком душно, и было принято решение перенести обед на террасу, откуда открывался вид на соседский лес, принадлежавший Ергольскому.
– А я сегодня Пушкина перечитывал, – сообщил Николай Сергеевич, когда с первым и вторым блюдами было покончено. – Переоценивают нашего Александра Сергеевича, ой как переоценивают. Некоторые стихи у него совсем никуда не годятся. Чего стоит хотя бы это:
Краса моей долины злачной, Отрада осени златой, Продолговатый и прозрачный, Как персты девы молодой[151].Свистунов сделал значительную паузу, которую употребил на то, чтобы шумно отхлебнуть квасу, и, сощурив свои карие глаза до того, что они стали напоминать крохотные щелочки, продолжал:
– Это он о винограде, не угодно ли? Во-первых, что за злачная долина такая, ведь понятно же, что хорошее место злачным не назовут. И во-вторых, где он мог видеть деву, чьи пальцы похожи на виноград? Вот вы, Клавдия Петровна, как человек, тонко чувствующий искусство, можете мне объяснить?
На перила террасы села серо-черно-белая хлопотливая птичка – трясогузка, деловито пробежала по ним, вертя хвостиком, и взмыла в воздух. Клавдия Петровна вздохнула. Она не слишком жаловала Пушкина – во-первых, из-за его беспорядочной личной жизни, которую не одобряла, а во-вторых, потому, что считала, что поэт такого масштаба должен был осознавать, что принадлежит не себе, а народу, и не имел права драться на дуэли. Но сейчас дело было вовсе не в Пушкине, а в том, что собеседник ее раздражал. И не только потому, что из-за какого-то глупого обеда помешал ей закончить статью, но и потому, что сидел, развалившись, в несвежей рубашке, и по волосам и бороде было видно, что он давно не стригся. И Клавдия Петровна с ностальгией вспомнила вчерашний вечер, когда все мужчины (кроме опять-таки поэта) были корректно одеты, не во фраках, конечно, но чувствовалось, что внешний вид для них не пустой звук.
– «Злачный» раньше означало «полный злаков, изобильный», – сказала она в ответ на слова Свистунова. – Посмотрите в словаре, по-моему, и в нашей губернии до сих пор кое-где используют это слово в прежнем смысле.
– Но персты, Клавдия Петровна, персты девы как виноград! Откуда он их взял? Ведь любому понятно, что образ совершенно никуда не годится!
– А чему вы удивляетесь? – пожала плечами хозяйка дома. – Это же Пушкин, разве он может обойтись без женщин?
Николай Сергеевич открыл было рот, чтобы сказать что-то, но передумал и взял с тарелки еще одно пирожное.
– Нет, еще не надо убирать со стола, – сказала Клавдия Петровна, поворачиваясь к горничной, которая только что показалась на террасе. – Можешь идти, мы позовем.
– Клавдия Петровна, – растерянно сказала девушка, – я не поэтому… Там… там к вам следователь пришел. Игнатов Иван Иванович, – выпалила она и умолкла.
Поэт застыл на месте, и его рука с недоеденной половинкой вкуснейшего шоколадного пирожного замерла в воздухе.
– Очень замечательно, – пролепетала Клавдия Петровна первое, что ей пришло на ум; и, конечно же, вышло нелепо. – Значит, следователь? Он сказал, зачем хочет меня видеть?
– Вас и Николая Сергеевича, – сказала горничная, часто-часто мигая. – Он сказал, что все вам объяснит.
Свистунов очнулся, машинально положил недоеденное пирожное на тарелку, сгорбился и заерзал на стуле, повернувшись боком к столу. Он явно трусил, и это окончательно вывело Клавдию Петровну из себя.
– Игнатов, или как там его, – скомандовала она, поправляя пенсне, – зови его сюда! Нам нечего скрывать от властей, – добавила передовая дама язвительно, возвышая голос.
Горничная удалилась, оставив после себя ослепительную пустоту со знаком вопроса, которая целиком поглотила мысли мужчины и женщины, оставшихся на террасе. Николай Сергеевич думал: «Вот ведь штука! Следователи просто так в гости не являются… быть беде, как пить дать! Или мы вчера чего-то за ужином наболтали не того? Ох, как нехорошо… Или дорогая кузина Клавдия по глупости вляпалась во что-то антиправительственное? Она же домашняя курица, ей бы с детьми нянчиться да носки вязать, а вместо этого…»
Клавдия Петровна тем временем размышляла: «О чем бы меня ни спрашивали, я сразу же дам понять, что отвечать не буду… Если что, потребую адвоката! Если у меня нет мужа, это не значит, что меня можно притеснять… Но следователь… Он же станет обыскивать дом… Отберет мои бумаги…»
– Добрый вечер, – прогудел незнакомый приятный баритон, и Клавдия Петровна подняла глаза.
Будем откровенны: она была бы не прочь увидеть старого служаку с пронизывающим взором, должностного сухаря и личность вообще неприятную, которую можно с легкостью возненавидеть всей душой. Но, к удивлению хозяйки дома (и к немалому облегчению ее родича), посетитель оказался молодым еще человеком, темноволосым и сероглазым, который, вероятно, лишь недавно окончил университет. Если бы вы встретили Игнатова где-нибудь в вагоне поезда или в гостиной у знакомых, вам бы никогда в голову не пришло, что перед вами следователь. Никакого пронизывающего взора тут не было и в помине, напротив – даже очень внимательный наблюдатель увидел бы только чистенького, обыкновенного и ничуть не устрашающего молодого человека. Весь он был какой-то мягкий на вид, какой-то неопределенный, но – открою один секрет – опрометчиво было бы делать из этого вывод, что перед вами человек-тряпка. У Ивана Ивановича была очень приятная улыбка, располагающая к себе, но мало кто на свете догадывался, что улыбка эта – всего лишь часть облика, призванная усыпить бдительность собеседников. Сейчас Игнатов улыбался именно такой улыбкой, и весь его вид словно говорил: «Простите, я нахожусь тут не по своей воле, я не задержу вас надолго, и вообще, знаете, можете совершенно не принимать меня всерьез, только не показывайте этого открыто, хорошо?» В руке вновь прибывший держал небольшой черный портфель.
– Игнатов Иван Иванович, – представился гость, – а вы, как я понимаю, Клавдия Петровна Бирюкова, владелица имения? – Поклонившись ей, он повернулся к поэту: – Ну а вы, конечно, Николай Сергеевич Свистунов. Очень, очень хорошо, что я вас застал… Надеюсь, вы сумеете пролить свет на некоторые обстоятельства дела, – добавил он и очень, очень внимательно посмотрел сначала на Клавдию Петровну, а затем на притихшего поэта.
– Простите, – начала хозяйка дома, – но о каком именно деле идет речь?
Улыбка гостя слегка померкла.
– А вы разве не знаете? Нет? Я думал, в наших краях новости распространяются быстро… Ну что ж, тем лучше, – неизвестно к чему бодро заключил следователь. – Вы не предубеждены, и свежий взгляд – это всегда важно… да-с… Мне придется задать вам несколько вопросов, и я хотел бы услышать как можно более точные ответы.
Именно этих слов и ждала Клавдия Петровна, чтобы перейти в атаку.
– Милостивый государь, – пропыхтела она, – но для начала… простите, мы хотели бы все-таки понять, о чем идет речь… Вы врываетесь в дом к честным людям… мы, как видите, мирно ужинали, не предполагая ничего такого…
На перила террасы сел воробей, покосился на следователя маленьким круглым глазом, чирикнул и исчез. Очевидно, воробей тоже не питал особой любви к представителям закона.
– Я надеюсь, Клавдия Петровна, вы не предполагаете, что я по своей воле осмелюсь тревожить почтенных и уважаемых людей, – спокойно ответил следователь, голосом подчеркнув слова «почтенных» и «уважаемых». – Поверьте, сударыня, что только интересы дела привели меня сюда, причем дела… скажем прямо, не слишком приятного… – он слегка поморщился. – Если вы не возражаете, я хотел бы сесть. Так нам будет удобнее… гм… беседовать, тем более что мне придется записывать ваши ответы…
Вот, начинается, мелькнуло в голове у поэта. Дернул же его черт сочинить в Петербурге матерные частушки про сами знаете кого, да еще во весь голос распевать их в малознакомой компании. И частушки-то вышли дрянные, – хотя, с другой стороны, будь они совсем никуда не годны, разве стали бы его искать в глухом углу Российской империи? Ясное дело, донесли на него куда следует, небось еще в двух экземплярах, подлецы, и теперь пострадает он за свободомыслие, раздавит его самодержавие своей каменной пятой. На роду ему было написано стать мучеником и борцом за свободу, – и, предвкушая ожидающие его лишения (фотографы наверняка будут снимать процесс, защитник произнесет яркую речь, но кого же взять защитником? и откуда у него вообще деньги на защитника?), Николай Сергеевич гордо расправил плечи. С чувством, похожим на нетерпение (интересно, сошлют ли его? и если сошлют, то куда?), он ждал продолжения, но его не последовало. Посетитель отодвинул плетеное кресло, стоявшее на террасе на случай визита гостей, устроился на нем и теперь возился с застежкой портфеля. Клавдия Петровна буравила Игнатова взором, полным тысячи невысказанных подозрений, но следователь, казалось, совершенно ничего не замечал. Он достал из портфеля папку и вынул из нее чистый лист, после чего извлек из портфеля чернильницу и ручку.
– Прежде всего, – начал следователь, – я хотел бы спросить вас о вчерашнем вечере. Вы оба были в гостях у Матвея Ильича Ергольского, верно?
– Не вижу смысла этого отрицать, – сухо сказала Клавдия Петровна. Гость, едва заметно улыбнувшись, сделал на листке короткую заметку.
– Кто еще находился в доме?
Поэт прочистил горло. (Знаем, знаем мы все ваши подлые уловки, но коли уж вам так хочется пробираться к цели окольными путями, то извольте!) – За столом были Матвей Ильич и его жена Антонина Григорьевна, замечательная женщина… Затем актриса Панова, ее муж Анатолий Петрович Колбасин, их сын, приятель сына, затем, гм, знакомый актрисы…
– Актер Ободовский, – проворчала Клавдия Петровна.
– Да, он… Еще были промышленник Башилов с дочерью – они живут неподалеку, журналист Чаев и мы двое. Все…
– Больше никого? Может быть, вы заметили кого-нибудь еще, в саду или в доме, кто мог бы слышать вашу беседу?
– Все зависит от того, считаете ли вы прислугу людьми, – воинственно бросила Клавдия Петровна. – Ты забыл о слугах, Николай Сергеевич…
– Скажите, а слуги могли слышать разговоры, которые вели гости?
Клавдия Петровна насторожилась. Ей не нравилось, что она никак не могла сообразить, к чему клонит посетитель, и она была склонна предполагать самое худшее.
– Гм… Полагаю, вполне могли… почему бы и нет?
– Зачем им это? – возразил поэт. – Вряд ли их заинтересовало бы, что мы думаем об интел… А-а!
Не утерпев, Клавдия Петровна пнула его под столом ногой, но не рассчитала силу и лягнула поэта слишком сильно. Следователь, впрочем, сделал вид, что ничего не заметил.
– Да, мне сказали, что разговор шел об интеллигенции, – проговорил Игнатов, – а потом? Что было потом?
– Да всякие глупости, – проворчал поэт. Морщась, он пытался незаметно растереть ушибленную родственницей ногу. – Зашла речь об убийстве, о том, кого и как можно убить, и Матвей Ильич напридумывал всяких ужасов, чтобы нас поразить.
– Мне нужны подробности, – тихо сказал следователь.
– Нашего разговора? – вскинулась Клавдия Петровна. – Это был частный обмен мнениями о том, что такое интеллигенция, и…
– Я не об этом. Что именно господин Ергольский говорил вчера об убийствах?
Тут, по правде говоря, его собеседники озадаченно переглянулись, а поэт ощутил нечто странное. Он внезапно понял – хотя никаких доказательств тому представить не мог, – что молодой следователь явился к ним в дом вовсе не по его душу. Стало быть, не будет ни суда, ни пламенной речи защитника, словом, ничего. И Николай Сергеевич – человек, в общем-то, простой – чувствовал себя сейчас как пианино, на котором пытаются играть разом и вразброд несколько персон, только вместо этих людей были чувства, которые он испытывал: облегчение от того, что ему ничего не будет, смутный стыд из-за этого облегчения, сожаление о всероссийской (чем черт не шутит) славе, которая в очередной раз прошла мимо него, и не в последнюю очередь – живейшее любопытство.
В самом деле, если вся каша заварилась не из-за него, то из-за кого же?
– Вам должно быть известно, что Матвей Ильич – писатель, – воинственно бросила Клавдия Петровна. – Вчера он шутки ради расписал, как и за что любого из присутствующих можно убить. Про меня, например, выдумал совершенно фантастическую историю, будто на моей земле есть золото, и из-за него мне угрожает опасность. О Николае Сергеевиче сказал, что тот только притворяется поэтом, а на самом деле он наследник какого-то престола, и за ним охотятся убийцы. Меня, кстати, по его версии, должны были удушить. Госпожа Панова просила, чтобы ее не удушили, а придумали что-нибудь поинтереснее, так ее он застрелил в гостиной… то есть описал, как она лежит в гостиной мертвая…
– Очень любопытно, – бесстрастно уронил следователь. – И по какой же причине ее должны были лишить жизни?
Причину Клавдия Петровна запамятовала, но поэт вспомнил: театральные интриги! Будто бы у Пановой была соперница, которая поклялась сжить ее со свету…
– Скажите, – спросил Игнатов, – а Матвей Ильич упоминал, где именно должно было произойти убийство?
– В роскошно обставленной гостиной, – фыркнула Клавдия Петровна. – С персидским ковром на полу… Она лежит в кресле… А застрелить ее должны были из револьвера с перламутровой рукояткой.
– Вот оно, значит, как, – уронил следователь. – То есть вы подтверждаете, что тоже слышали эту историю?
И тут Клавдия Петровна не выдержала.
– Может быть, милостивый государь, – с неудовольствием промолвила она, – вы все же объясните нам, что случилось? Ведь не может же быть такого, чтобы вы, взрослый человек на государственной службе, пришли сюда только для того, чтобы выспрашивать у нас всякие глупости…
– Боюсь, сударыня, это вовсе не глупости, – вздохнул следователь, потирая висок. – Вчера, возможно, они еще могли казаться таковыми, но сегодня, после того, что случилось, – уже нет.
– Так что все-таки случилось? – спросил поэт, горя любопытством.
– Убийство. Сегодня днем кто-то пробрался в дом, где находилась госпожа Панова, и застрелил ее. Точь-в-точь так, как вчера вам описывал господин Ергольский. И вы должны согласиться, что это никак не может быть простым совпадением.
Глава 4. Руки в карманах
– Ой, – сказал поэт. И вслед за тем взял непочатое шоколадное пирожное и, поглядев на него с недоумением, съел его целиком.
– Вы шутите? – пролепетала Клавдия Петровна, глядя на гостя. – Вы… вы не шутите?
– Зачем же мне шутить? – степенно отозвался Игнатов. – Убийство – вещь серьезная, и ничего смешного тут нет.
– У меня в голове не укладывается, – потерянно молвила передовая дама. – Николай!
– А?
– Этого ведь не может быть? Я хочу сказать, гостиная… персидский ковер… Револьвер с перламутровой рукояткой!
– К сожалению, сударыня, – вмешался Игнатов, – все детали были соблюдены очень точно, вплоть до револьвера.
– Но откуда он взялся?
– Возможно, он находился в доме. Впрочем, мы занимаемся этим вопросом.
– А… – Клавдия Петровна собралась с духом. – А она не могла покончить с собой?
– Евгения Викторовна? – изумился следователь. – И зачем же ей было это делать?
– Не знаю, – мрачно промолвила Бирюкова. – Чтобы… ну… чтобы насолить кому-нибудь, к примеру.
Но она уже и сама поняла, что ее версия никуда не годится, и рассердилась на себя.
– Скажите, – очень серьезно спросил Игнатов, – вы действительно считаете, что госпожа Панова была способна на самоубийство?
– Я не знаю, – отозвалась Клавдия Петровна, морщась. – Не думаю. Но я не настолько хорошо знала ее, чтобы… И вообще…
«Да нет, все это вздор, – смутно помыслил поэт. – Прихлопнули ее, как пить дать прихлопнули. Или муж, которому осточертели ее шуры-муры, или любовник, который хотел от нее избавиться, или сын, который даже не хотел смотреть на нее за ужином… все время отворачивался… А в конце концов все постараются свалить на Ергольского. Ведь это он придумал, как ее будут убивать… Ну и поделом ему, – не слишком логично заключил Николай Сергеевич. – Живет себе припеваючи, как сыр в масле катается, в Петербурге его тексты ждут редактора, и мало того, что печатают, ему за его чепуху еще и деньги платят… нет, чтобы обратить внимание на настоящего поэта, такого, как я…»
– Поскольку госпожа Панова была убита именно так, как говорил господин Ергольский, сам собой напрашивается вывод: убийцей является один из тех, кто слышал его рассказ, – говорил тем временем следователь. – Или же человек, которому кто-то из присутствующих пересказал подробности – такое тоже возможно. Скажите, вы говорили с кем-нибудь о том, что было вчера за ужином? Обсуждали, так сказать, версии убийства… или нет?
Однако оба его собеседника могли с чистой совестью ответить отрицательно. Вчера вечером они вернулись домой. Нет, ни с кем из посторонних они ничего не обсуждали.
– Допустим, что так и было. Теперь я прошу вас хорошенько подумать, прежде чем ответить. Кто именно из слуг присутствовал при разговоре и мог слышать рассуждения господина Ергольского об убийстве?
– Да это было уже после ужина, – поморщился поэт. – Почти все со стола уже убрали, оставили только тарелку с хлебом и пару графинчиков, с водкой и наливкой.
– Не припомню, чтобы во время нашей беседы об интеллигенции и убийствах кто-то из слуг был в комнате, – поддержала его Клавдия Петровна.
– Хорошо. А как быть с садом? Мог ли кто-то, стоя в саду, слышать господина Ергольского? Может быть, вы кого-нибудь там видели?
Клавдия Петровна покачала головой.
– Боюсь, что нет… Я вообще сидела спиной к окну.
– Я тоже, – сказал поэт.
– И ни разу не смотрели в окно? Хотя бы машинально? – допытывался Игнатов.
Николай Сергеевич вздохнул.
– Может быть, я пару раз оглянулся, от нечего делать… Но должен сразу же вам сказать, что никого в саду я не видел.
– Что ж, это упрощает дело, – заметил Игнатов. – Тогда вопрос звучит совсем просто: кто?
– Простите? – изумился поэт.
– Кто, по-вашему, мог ее убить? Каковы ваши предположения? Вы более или менее близко знаете всех, кто был вчера на вечере. Если верить вам, прислуга и посторонние исключаются. Так кто из тех, кто был тогда в гостиной, мог совершить преступление?
– Полагаю, ваша работа заключается именно в том, чтобы это установить, – не удержалась Клавдия Петровна. – Я имею в виду все эти штуки, о которых пишут в романах… Алиби, свидетелей и прочее.
– Прекрасно, тогда займемся вашим алиби, – с легкостью согласился следователь. – Так где вы были сегодня, начиная с полудня?
– Я писала статью, – сухо сказала Клавдия Петровна. – В кабинете. Села работать после завтрака и так увлеклась, что не заметила, как наступил вечер.
– Кто-нибудь может это подтвердить? – невинно поинтересовался Иван Иванович, и уже по интонации его вопроса стало ясно, что молодой человек далеко не так прост, как кажется.
– Что? – изумилась хозяйка дома. – Конечно, нет! Но я же говорю вам, что находилась здесь!
– Боюсь, я не могу полагаться только на ваши слова, – кротко промолвил следователь, и глаза его блеснули. – А вы, Николай Сергеевич, где находились?
По словам поэта, он был у себя в комнате, где читал Пушкина.
– С полудня и до вечера? – вкрадчиво поинтересовался посетитель.
– Пушкина можно читать часами! – парировал поэт, покраснев. – Впрочем, сейчас я припоминаю, что в разгар жары вздремнул на пару часов…
– Значит, у вас тоже нет алиби, – пожал плечами Игнатов.
– Если судить по-вашему, то нет, – проворчал Свистунов, – но мотив? Какой у меня или Клавдии Петровны мог быть мотив для убийства? Воля ваша, но это просто нелепо!
– Возможно, я разочарую вас, – мягко заметил следователь, – но люди веками ухитряются убивать друг друга даже без особых мотивов, к примеру, только из-за того, что жертвы живут в другом месте или говорят на другом языке… – Он внимательно посмотрел на своих собеседников. – Могу я взглянуть на комнаты, в которых вы, по вашим словам, находились?
В спальне поэта Иван Иванович мельком взглянул на растрепанный том Пушкина, бросил взгляд на окно и попросил провести его в кабинет Клавдии Петровны. Вид, открывавшийся оттуда, заинтересовал следователя куда больше.
– Так вы уверяете, что с утра сидели здесь…
– Да, именно так.
– Вам случалось выглядывать в окно? Может быть, вы видели кого-нибудь, кто подходил к дому за озером? Или заметили что-нибудь необычное?
– Видите ли, – с достоинством промолвила Клавдия Петровна, поправляя пенсне, – я работала, поэтому у меня не было времени следить, кто куда идет…
– Да, я понимаю.
– Да. Конечно, иногда я прерывалась и… ну… машинально смотрела в окно… Помню, на озере была лодка, но я не присматривалась, кто там сидит.
– Когда это было?
– Не помню. Было жарко… После полудня, наверное, – точнее я сказать не могу.
– Вы не смотрели на часы?
– В этой комнате их нет.
– Больше вы ничего не заметили?
Клавдия Петровна заколебалась.
– Были какие-то звуки, похожие на выстрелы. Я решила, что это охотники…
– Вы услышали звуки до того, как увидели лодку, или после?
– Кажется, до.
– Сколько именно выстрелов вы запомнили?
Хозяйка дома задумалась.
– Три. Нет, четыре. Один, потом еще два. И потом еще один, где-то вдалеке.
– Вы могли бы поручиться, что звук шел из леса? Или, может быть, с другой стороны?
– Я не прислушивалась, – проворчала Клавдия Петровна. – Для меня это был… ну… обыкновенный шум…
– А вы слышали что-нибудь? – повернулся следователь к Свистунову.
– Боюсь, что нет, – отозвался поэт. – Мои окна выходят на другую сторону. И потом, я же сказал вам, что спал несколько часов…
– Хорошо. Тогда, с вашего позволения, подведем итоги. Разумеется, вы оба никого не убивали. Вы, Николай Сергеевич, ничего не видели, не слышали и понятия не имеете о том, кто мог убить Евгению Викторовну Колбасину, сценический псевдоним Панова. Вы, Клавдия Петровна, видели какую-то лодку на озере, а до того слышали четыре выстрела, один из которых, возможно, доносился из дома напротив…
Тут Николай Сергеевич не выдержал.
– По-моему, их усадьба все-таки далековато от нас, чтобы Клавдия Петровна могла услышать выстрел, произведенный в гостиной, – проворчал он.
– Окно, выходящее на озеро, было открыто. И над водой звуки разносятся очень хорошо.
Тут передовая дама и ее родственник переглянулись и почему-то немного побледнели. Вплоть до нынешнего момента вся история казалась абсурдной, какой-то театральной и к тому же – будем откровенны – немного фальшивой; но открытое окно и выстрел, далеко разнесшийся над водой, на которой мирно покачивались кувшинки, почему-то прибавили происшедшему реальности. Убийство действительно случилось, и с ним приходилось считаться. Но кто же решился воплотить в жизнь фантазию плодовитого беллетриста? Кто?
– Если вы знаете что-то еще, – проговорил следователь, переводя взгляд с поэта на присмиревшую Клавдию Петровну, – или даже не знаете, но вам кажется, что подозреваете, вам лучше сказать мне все как есть. Вы должны понимать, что в делах такого рода под подозрением могут оказаться невинные люди, и чтобы этого не произошло, я должен быть в курсе всего, что вам известно.
Он замолчал. Молчали и его собеседники.
– Это он ее убил, – решилась Клавдия Петровна. – Ее любовник.
– Иннокентий Ободовский?
– А, так вы уже все знаете? Ну, тем лучше. Только если вы спросите, какие у меня доказательства, я вам сразу же скажу: никаких. Просто он держал руки в карманах, вот и все.
– О чем это вы? – изумился следователь.
– Да вчера, когда мы все уезжали от Ергольского, Клавдия Петровна обратила внимание, – вмешался поэт. – Панова думала, что ее никто не видит, улучила момент и буквально повисла на шее у актера. Она его обнимала, всем телом к нему прильнула, а он руки в карманах держал, понимаете? Не нужна она была ему, не любил он ее совсем.
– Я бы не удивилась, если бы он решил от нее избавиться таким образом, – прогудела Клавдия Петровна. – Понимаете, то, что описал Матвей Ильич… если оно действительно именно так произошло, это же театрально до ужаса. Перламутровые рукоятки, персидские ковры, роскошные гостиные… Какая-то мизансцена, честное слово! Конечно, тут поработал человек театра…
– Ну так Анатолий Петрович Колбасин – известный режиссер, – мягко напомнил следователь. – Почему же вы думаете, что это был не он, а именно Ободовский? В конце концов, актеру достаточно было уйти от Евгении Викторовны, чтобы от нее избавиться, в то время как у Анатолия Петровича мотив более весомый…
– А ведь совсем недавно вы говорили, что человеку и не надо особого мотива, чтобы прикончить своего ближнего, – не удержался от колкости поэт. – Да и какой мотив у Колбасина, в самом деле? Что жена ему изменяла? Вы уж простите меня, но я сильно сомневаюсь, что этот Ободовский был у нее первым любовником… а раз так, Анатолий Петрович давно должен был привыкнуть к своему, гм, положению…
– Значит, все-таки любовник? – настойчиво спросил Игнатов.
– А больше просто некому, – с достоинством отозвалась Клавдия Петровна. – Конечно, когда Матвей Ильич развивал свои теории насчет убийств, его слушали десять человек, не считая жертвы. Кого еще можно подозревать? Сам Матвей Ильич и его жена, безусловно, вне подозрений, это абсолютно приличные люди. Их друг господин Чаев – тоже. Башилов и его дочь встретили Панову только в доме Ергольского, как выяснилось за ужином, прежде они ее не знали. Я и мой брат никого не убивали, потому что находились здесь, верите вы в это или нет. Сын Пановой явно не был в восторге от ее поведения, но взять револьвер и убить родную мать – нет, это просто немыслимо. Его приятель Серж все время переглядывался с Натали Башиловой, и, конечно, мать его друга интересовала его меньше всего на свете… Так что, с какой стороны ни посмотри, у вас только двое подозреваемых: муж и любовник. – Клавдия Петровна перевела дыхание. – Я не верю, что это был Анатолий Петрович – хотя бы по тем причинам, которые вам только что изложил Николай Сергеевич. Наконец, он просто не такой человек, чтобы хладнокровно застрелить свою жену и… и обставить все, как театральную мизансцену… Нет, как вам угодно, но для такого нужен совсем другой характер. Нужен, знаете ли, такой молодой цинизм… и меня вовсе не удивит, если этот Ободовский постарается все свалить на Матвея Ильича…
– Почему? Разве у господина Ергольского была хоть малейшая причина желать зла госпоже Пановой?
– Нет, конечно, причин никаких не было, но вы же понимаете… Все эти истории с убийствами вчера придумал именно он, и когда людям станет известно… Мало ли что они будут говорить…
– Вы хотели бы что-то добавить? – учтиво осведомился следователь, заметив тень иронической усмешки, которая несколько раз проскользнула по губам поэта в то время, как его родственница говорила.
Свистунов насупился.
– Добавить? Ну, если вам так угодно… Только на вашем месте я бы не исключал и сынка.
– Николай Сергеевич! – возмутилась передовая дама.
– Сами знаете, какова нынешняя молодежь, – объявил поэт, глумливо ухмыляясь. – Никаких идеалов, полное отрицание всего и вся. Так что лично я бы не удивился, если бы узнал, что Павлуша Колбасин нашел где-то в доме револьвер и того, пустил его в дело, вдохновленный рассказом этого бумагомараки…
– Глупости ты говоришь, ей-богу, – решительно промолвила Клавдия Петровна. – И Павлуша, и Серж – совершенно приличные молодые люди. – Тут она увидела совершенно неотразимый довод и не замедлила броситься в атаку: – Ты сам, по-моему, начитался романов Ергольского, если так легко можешь предположить, что Павлуша убил свою мать…
– Я? Да чтобы я читал его книги? – фыркнул поэт. – Еще чего не хватало!
– А кто у меня выпрашивал журнал с продолжением его повести? – напомнила злопамятная Клавдия Петровна. – Кто говорил, что это-де чепуха ужасная, но сам он ни за что не уснет, пока не узнает, чем все закончилось?
Николай Сергеевич мученически закатил глаза и стал многословно все отрицать, затем нечувствительно скатился к оправданиям, а затем сознался, что читал Ергольского только раз, – не считая нескольких предыдущих, – и остальных, которые не в счет, потому что его романы забываются сразу же после прочтения, – а так Матвей Ильич все равно не писатель. Иван Иванович терпеливо слушал, не вмешиваясь в разговор. «Однако любопытные на этот раз попались свидетели… Дама мыслит весьма хаотически, но руки в карманах заметила именно она. Ее родственник, похоже, человек более реалистичного склада, но, как всякий эгоист, не видит ничего, что не относилось бы к нему лично. Да, трудное, трудное будет дело…»
Наконец спорщики угомонились и, вспомнив о присутствии следователя, повернулись к нему.
– Если вы не возражаете, я бы хотел вернуться на террасу, – сказал Игнатов. – Или можем перейти в гостиную. Я заполню протокол, вкратце пересказав в нем суть нашего разговора, а вы его подпишете.
– А вы разве уже не записали все, что вам надо? – удивился поэт. – Вы же все время что-то писали, я видел…
– Нет, это заметки для себя, а сейчас мы заполним бумаги по всей форме. Так полагается.
Клавдия Петровна смутно подумала, что заполнение бумаг займет много времени, но возражать не посмела. Все трое вернулись на террасу, где следователь присел к столу и, задав несколько уточняющих вопросов о возрасте, сословии и вероисповедании собеседников, своим мелким, стремительным, но тем не менее весьма разборчивым почерком заполнил две страницы – по одной на каждого свидетеля.
– Прошу вас внимательно все прочитать и подписать, если вы согласны с написанным, – промолвил Иван Иванович, на глазах вновь превращаясь в обыкновенного молодого человека, который тут только по долгу службы и который и в мыслях не имел никого беспокоить.
Признаться, если бы передовая дама нашла в тексте орфографическую ошибку или хотя бы запятую, которая стояла не на своем месте, она бы не преминула указать посетителю на его оплошность; но все буквы и знаки препинания стояли там, где надо, и Клавдия Петровна поневоле заключила, что следователь Игнатов знает свое дело и знает его хорошо. Что касается Николая Сергеевича, то он пробежал глазами строки и подписался, не вступая ни в какие пререкания.
Только возвращая следователю подписанные показания, хозяйка дома спохватилась, что не спросила у него самого главного.
– Скажите, – проговорила она, волнуясь, – вы уже арестовали Ободовского?
– Это будет затруднительно, – спокойно отозвался Игнатов, пряча листки в папку и убирая ее в портфель. – Видите ли, против Иннокентия Гавриловича пока нет никаких улик.
И, оставив своих собеседников осмыслять это сногсшибательное заявление, он вежливо поклонился на прощание и удалился.
Кучер ждал его у крыльца. Старая белая лошадь, запряженная в двуколку, помахивала хвостом, отгоняя мух.
– К Матвею Ильичу Ергольскому, – распорядился Игнатов, заняв свое место в двуколке. Кучер хлестнул лошадь, застучали колеса, и обветшалый помещичий дом, окруженный вековыми деревьями, стал медленно уплывать прочь.
Глава 5. Хлопоты и неприятности
Сейчас, пожалуй, самое время вывести на сцену новое лицо, которое до поры до времени держалось в тени. Лицом этим является не кто иной, как управляющий усадьбой «Кувшинки», Франц Густавович Юнге.
По рождению Франц Густавович был австриец, но в России его так часто называли немцем, что он однажды перестал спорить, справедливо сочтя, что время, потраченное на уточнение его национальности, можно с куда большей пользой потратить на что-нибудь другое. Для него Вена была лучшим городом на свете, венские пирожные – самыми вкусными пирожными в мире, и, само собой, никто не мог сравниться с австрийскими композиторами. Как так могло случиться, что судьба занесла его в Россию, где он жил уже второй десяток лет, он сам затруднился бы объяснить. Причем все та же судьба, которая словно нарочно выбирала для нашего героя самые прихотливые пути, заставила его сначала побыть музыкантом какого-то мелкого оркестра, потом учителем музыки, потом учителем немецкого, бухгалтером, снова учителем, на сей раз латыни, и в конце концов – управляющим. К чести Франца Густавовича стоит отметить, что со всеми своими профессиональными обязанностями он справлялся безупречно и что, если бы судьбе угодно было назначить его поваром, министром или главнокомандующим, он бы и тут не ударил в грязь лицом.
Впрочем, в данный момент он был всего лишь управляющим одного из имений богатой дамы, которую звали баронессой Корф. Устав воевать с предыдущим управляющим, который жил по принципу «не украдешь – не проживешь», она уволила его и наняла Франца Густавовича, который навел порядок, по первому требованию хозяйки представлял ей образцовые счета и вообще поставил дело настолько хорошо, что уже на второй год ему прибавили зарплату. Франц Густавович, который был уже мужчиной на пятом десятке с женой и тремя детьми, приободрился и понял, что еще несколько лет службы в «Кувшинках», и он сможет вернуться в Вену, где будет жить не то чтобы припеваючи, но вполне себе безбедно. Увы, но, судя по всему, его планы шли вразрез с намерениями его затейливой судьбы, и она задумала подставить ему ножку.
Началось все, как водится, с мелочей – хозяйка известила управляющего, что проведет лето в другом месте и «Кувшинки» ей не понадобятся. Франц Густавович, который со своей семьей занимал просторный флигель, подумал о том, что дом будет пустовать, то есть стоять без пользы и не приносить никого дохода, и закручинился. Логичнее всего было бы его сдать на лето, и управляющий решил немедленно этим озаботиться.
Ах, Франц Густавович, Франц Густавович! Не стоило вам искать постояльцев, не надо было превращать «Кувшинки» в наемную дачу, не… Но что толку теперь говорить об этом?
Одним словом, после недолгих переговоров и выплаты задатка в усадьбу въехала семья Колбасиных со своими друзьями, и тут один за другим пошли сюрпризы. Для начала глава семьи, хоть и честный мещанин по паспорту, оказался на самом деле театральным режиссером, но само по себе это ничего не значило. Гораздо хуже то, что его жена была актрисой, и мало того, что она притащила с собой любовника – вместе с ней в старый барский дом словно влилась удушливая театральная атмосфера, полная склок и интриг. Евгения Панова капризничала, тиранила прислугу, поссорилась с кухаркой и в конце концов добилась того, что почти все слуги либо отказались иметь с ней дело, либо попросили расчета.
Все это «безобразие» (по словам Франца Густавовича) продолжалось чуть меньше месяца, и он уже не мог дождаться августа, когда неприятные постояльцы должны были убраться восвояси. Однако как бы он ни относился к Пановой, управляющий был все же ошеломлен, когда однажды днем, зайдя в гостиную, обнаружил в кресле ее труп. Возле правой руки актрисы на ковре поблескивал маленький серебристый револьвер с отделанной перламутром рукояткой. Против сердца по светлой ткани платья расплылось небольшое красное пятно.
Как помнит читатель, Франц Густавович в одной из своих прошлых жизней был музыкантом. В этом своем качестве он немало общался с актерами и знал, что от них можно ожидать всякого. Поэтому для того, чтобы исключить неуместный розыгрыш, он первым делом взял левую руку актрисы и попытался прощупать пульс. Но, хотя рука была еще теплая, каким-то непостижимым чутьем управляющий понял, что это уже не тепло жизни.
Он окинул взглядом комнату, машинально отметил, что окно, выходящее на красивейшее озеро, на поверхности которого безмятежно покачивались розовые кувшинки, распахнуто настежь, и быстрым шагом вышел. Его жена была на кухне, отдавала указания новой кухарке, которая готовила старательно, но не всегда умело, и поэтому за ней нужен был глаз да глаз.
– Эльза, – сказал управляющий по-немецки, – мне нужны ключи от обеих дверей гостиной на первом этаже.
Все ключи хранились у его жены, и она, хоть и несколько удивилась, тем не менее отдала ему то, что он просил.
– Ты хочешь попробовать замки? – спросила она. – Я проверяла все ключи, когда мы только приехали сюда, и смазывала замки, но вряд ли это тебе поможет. Они очень старые, и потом, те двери давно никто не запирал.
– Эльза, – вздохнул Франц Густавович, – ты просто чудо! Скажи, сколько сейчас времени?
– Два часа… нет, уже четверть третьего. А что?
– Пока ничего, – уклончиво ответил управляющий.
Он вернулся в гостиную, и, убедившись, что за время его отсутствия ничего не изменилось, закрыл окно и не без труда запер обе двери. После чего послал одного из сыновей за доктором, а сам поехал на ближайший телеграф – отправить телеграмму хозяйке.
Когда он вернулся, раздраженный старый доктор Колокольцев уже ждал его в доме.
– Вы должны понимать, что мое время дорого, – напустился старик на управляющего, – а вы присылаете ко мне мальчика, не говорите толком, в чем дело, но требуете, чтобы я приехал как можно скорее…
– Просто я оказался в затруднении, – промолвил Франц Густавович кротко. – Прошу вас следовать за мной.
После чего он отпер одну из дверей и провел доктора в гостиную.
– О! – только и вымолвил Колокольцев, увидев тело. – Неужели самоубийство?
– Я не знаю, – отозвался управляющий, вытирая лоб платком. – Когда я ее нашел, пульса уже не было. Я пригласил вас, потому что вы лечили мою жену. Я не знаю, что мне делать. Я позвал вас, чтобы посоветоваться.
Поняв, что «немецкий сухарь» вовсе не имел в мыслях его задеть, а просто растерялся (да и всякий на его месте тоже бы растерялся), самолюбивый доктор смягчился.
– Вы прежде видели у госпожи Пановой этот револьвер?
– Нет.
– У нее были какие-то причины для того, чтобы покончить с собой?
– Если бы что-то такое было, моя жена бы обязательно мне сказала.
– То есть нет?
– Выходит, нет.
Колокольцев задумался, потирая подбородок.
– На вашем месте я бы известил полицию, – решился он. – Конечно, на первый взгляд это похоже на самоубийство, но… Вполне может быть и убийство, – добавил он, передернув плечами.
Роковое слово – не убийство, а полиция – было произнесено. Франц Густавович вздохнул. Как многие старомодные люди, он придерживался той точки зрения, что честному человеку не следует иметь дела с полицией в каком бы то ни было качестве. И еще его коробило, что убили госпожу Панову или она просто покончила с собой, но произошло это именно в доме, оставленном на его попечение, доме, за который он отвечал.
Смирившись, он вызвал жену, ввел ее в курс дела и попросил поставить власти в известность.
– А родным Евгении Викторовны вы ничего не хотите сказать? – полюбопытствовал доктор.
– Полагаю, что с ними будет говорить следователь, – дипломатично отозвался управляющий. – Возможно, он захочет посмотреть на их реакцию, когда они услышат о случившемся.
«А ты, однако, вовсе не глуп, хоть и немецкий сухарь», – одобрительно помыслил доктор. Однако удержать происшествие в тайне не удалось: слуга, которого послали за полицией, немедля проговорился хорошенькой Дуняше, горничной убитой. Та тотчас же бросилась к Колбасину, а тот поспешил к управляющему – требовать объяснений, что происходит. Через несколько минут дом гудел, как растревоженный улей. Хлопали двери, по комнатам бестолково метались люди; все задавали друг другу тревожные вопросы и строили самые невероятные предположения. Франц Густавович занял пост часового у прикрытой, но не запертой двери в гостиную и стойко игнорировал все попытки его разговорить. Он согласился пропустить внутрь только мужа убитой. Доктор, который присел к столу и писал в тот момент бумагу для следствия, бросил на лицо Колбасина острый взгляд, в котором было не только профессиональное любопытство.
– Что же это такое? – пролепетал режиссер, дрожа всем телом. – Женя… Женечка! Что же это такое…
Анатолий Петрович Колбасин был невысокий, пухлый блондин с одутловатым чисто выбритым лицом. На мизинце левой руки он носил кольцо с бриллиантом, которое не снимал почти никогда. Сейчас он был одет в светлый костюм – тот же самый, в котором вчера ездил с женой и остальными в гости к Ергольскому. В молодости Колбасин был актером и считался превосходным исполнителем комических ролей. Может быть, поэтому он казался так нелеп, когда испытывал, судя по всему, неподдельную скорбь. Он дотронулся до руки жены, и слезы покатились по его щекам…
– Я убью его! – хрипло проговорил режиссер и кинулся ко второй двери, выходящей из гостиной, – двери, которая стараниями управляющего оказалась наглухо запертой. Пришлось вмешаться доктору Колокольцеву, и этот грузный немолодой человек оказался достаточно силен, чтобы оттащить режиссера от выхода и заставить его сесть.
– Послушайте меня, милостивый государь, – сказал врач, грозно возвышаясь над маленьким режиссером, – вы ничего не будете сейчас предпринимать… На это есть судебный следователь, полиция, прокурор. Они во всем разберутся… – Колбасин тупо смотрел на него, словно ни одно слово собеседника не доходило до его сознания. – У вас остался сын, – внушительно прибавил Колокольцев, – подумайте лучше о нем… Хорошо ли будет, если он останется совсем один?
Режиссер схватился за голову и поник всем телом.
– Вы правы… правы… – бессвязно бормотал он. – Но она… Скажите, она не мучилась?
Врач посуровел лицом и покачал головой.
– Нет. Не мучилась…
– Боже мой! Боже мой… И зачем мы только приехали сюда… Я ведь отговаривал ее… Но она вбила себе в голову, что только Ергольский…
Колокольцев был не прочь услышать продолжение, но тут на пороге показался судебный следователь Игнатов. Он и доктор знали друг друга в лицо, но было бы преувеличением называть их друзьями или хотя бы хорошими знакомыми. По правде говоря, Колокольцев Игнатова недолюбливал. По его мнению, молодой следователь был еще «молокосос» и свое недурное жалованье – 200 рублей в месяц – получал за то, что ровным счетом ничего не делал, потому что серьезных преступлений в округе замечено не было. К тому же Иван Иванович отличался завидным здоровьем, то есть не имел причин прибегать к услугам доктора, выслушивать его советы и считаться с его предписаниями. Поэтому, когда Игнатов вошел, Колокольцев приветствовал его довольно сдержанно.
«Наверняка начнет меня уговаривать, чтобы я дал заключение о самоубийстве… Ну уж нет, шалишь! Я своей репутацией из-за твоего спокойствия рисковать не намерен…»
– Печально, печально, весьма печально, – обманчиво рассеянным тоном промолвил Иван Иванович, обходя кругом кресло, в котором находилась жертва. – Это муж? – Он взглядом указал на совершенно раздавленного Колбасина, поникшего на диване.
Доктор кивнул.
– Ваше заключение, Дмитрий Александрович?
– Смерть наступила от огнестрельного ранения, пуля прошла через сердце. Я бы не стал исключать убийство, – добавил Колокольцев, косясь на собеседника.
– Почему?
– Если бы речь шла о самоубийстве, она бы приставила револьвер к груди, так?
– Допустим, и что?
– После выстрела оружие должно упасть на колени, как и рука, которая его сжимала. А тут правая рука свешивается через подлокотник, а револьвер лежит на ковре.
– Но она могла и не приставлять револьвер к груди, а держать его на некотором расстоянии, – задумчиво проговорил Игнатов. – Хотя… – Он оглянулся на напряженную фигуру мужа, на его мученические глаза, и предпочел оборвать фразу.
– Скажите, вы ничего не трогали, когда нашли тело? – обратился следователь к управляющему, который застыл у входа.
– Я закрыл окно, которое было открыто, – ответил Франц Густавович. – И запер обе двери. Больше я ничего не трогал.
– Здесь несколько окон, какое именно из них было открыто?
– Окно посередине, которое больше остальных.
– Когда именно вы обнаружили госпожу Панову?
– Около четверти третьего.
– Она была мертва?
– Да, я совершенно в этом убежден. – Управляющий поколебался, но все же добавил: – Тело было еще теплым, но я не могу поручиться, что она умерла незадолго до моего прихода. В конце концов, сегодня днем было очень жарко…
– Да, – кивнул следователь. – Скажите, а когда последний раз вы видели ее живой?
– За завтраком. Нет, после завтрака, – поправил себя управляющий. – Она разговаривала в коридоре с… – он покосился на Колбасина, но все же закончил фразу: – С господином Ободовским.
– Это актер, – с ненавистью бросил Колбасин. – Он приехал с нами.
Следователь не нуждался в дополнительных разъяснениях – всем в округе и так прекрасно было известно, кто именно снял на лето «Кувшинки» и какие отношения связывают этих людей. Однако следующая фраза режиссера поставила его в тупик.
– И ведь ее убили точно так, как он предсказал. Именно так…
– Что именно вы имеете в виду, Анатолий Петрович?
– Да у Ергольского вчера… Он говорил об убийствах… фантазировал… И рассказал, как убьют мою жену.
Колокольцев оторопел, но Иван Иванович оказался человеком обстоятельным и вскоре слово за слово выведал у режиссера подробности того, что произошло вчера вечером в гостях у Матвея Ильича. Колбасин был настолько расстроен, что не стал опускать ни следователя – «туповатого служаку», ни толков о самоубийстве, которые должны возникнуть сразу же после убийства.
– А она не могла покончить с собой… Понимаете, просто не могла! Получается, что эта змея, которую я взял в свой театр… дал ему роли… ничтожество, полная бездарность, – он убил ее!
– Зачем? – серьезно спросил следователь.
– Что – зачем? – вытаращился на него Колбасин.
– Зачем Иннокентию Ободовскому убивать вашу жену, да еще именно так, как придумал Матвей Ильич? Какой в этом смысл?
– Затем, что… затем… – бормотал Колбасин, нервно сжимая и разжимая пальцы. – Ах, ничего-то вы не понимаете!
Иван Иванович еще раз посмотрел на фигуру в кресле, нахмурился и наклонился, чтобы подобрать револьвер.
– Красивая вещица, – заметил доктор. – Дамская штучка.
– Я заметил, – сдержанно ответил Игнатов. Он повернулся к Колбасину: – Вам знаком этот револьвер? Подумайте хорошенько, прежде чем ответить.
– Мне нечего думать. Я вижу его впервые в жизни.
– У вашей жены было оружие? Любое, не обязательно револьвер?
– Нет. Никогда! И если вы меня спросите, была ли у нее причина, чтобы покончить с собой, я отвечу: никакой!
– У нее были враги?
– В театральном мире – да. Но они все сейчас далеко. Кто в Петербурге, а кто в Москве…
– В последнее время вы не замечали ничего странного в поведении своей жены? Ей никто не угрожал? Может быть, она жаловалась на кого-нибудь?
– Нет. Нет! Нет!
– Когда вы в последний раз сегодня видели ее живой?
– Когда? Погодите-ка… После завтрака. Она всегда встает поздно… то есть вставала…
– Завтрак сегодня был в одиннадцать часов, – пришел ему на помощь управляющий.
– Вот, вот… Словом, мы позавтракали… потом она поднялась к себе… Я зашел к ней. Наверное, это было около половины двенадцатого… Она разбирала вещи в ящике своего туалетного столика. Кажется, я ей помешал…
Его виноватый тон не ускользнул от следователя, но сейчас он решил не заострять на этом внимания.
– Что было потом? – спросил он.
– Потом? Ну… Мы поговорили, и я ушел.
– Можно ли узнать суть вашей беседы? Хотя бы в самых общих чертах.
Колбасин вспыхнул.
– Мы не ссорились, и я не угрожал убить ее, если вы это имеете в виду… За завтраком она упоминала, что хотела бы покататься по озеру на лодке. Я спросил, когда именно она хотела бы туда отправиться, сейчас или позже.
– А ваша жена?
– Она сказала, что передумала и вообще у нее болит голова. Я сказал, что могу принести лекарство, но она ответила, что ей ничего не нужно, и попросила ее оставить. И я… Я ушел.
– Куда вы отправились после разговора с женой?
– Хотел погулять, но было уже слишком жарко. Я походил по саду, вернулся в дом, взял книгу и стал читать. Но на жаре читается плохо, и я сам не заметил, как заснул…
– Когда вы были в саду, вы не заметили поблизости посторонних людей?
– Нет. Единственный, кого я видел, был Серж, который вышел из дома. Я спросил, куда он идет, а он ответил, что обещал Натали какие-то ноты. По-моему, это был просто предлог, чтобы с ней увидеться, потому что никаких нот в руках у него не было.
– Мне придется взять показания у всех, кто был в доме, – сказал следователь, оборачиваясь к Францу Густавовичу. – Но прежде всего я хотел бы побеседовать с вами… с глазу на глаз.
– Мне уйти? – подал голос Колокольцев.
– Нет-нет, оставайтесь, вы мне еще понадобитесь…
– Мы можем поговорить у меня во флигеле, – вмешался управляющий. – Там нас никто не побеспокоит.
Глава 6. Таинственный силуэт
Флигель, в котором проживал со своей семьей Франц Густавович, некоторым образом озадачил Игнатова. Снаружи это было довольно-таки неказистое строение, но внутри все дышало уютом и идеальной чистотой. В маленькой гостиной на стене висела фотография прекрасной черноволосой дамы с алмазными звездами в сложной прическе из кос.
– Это ее величество австрийская императрица, – почтительно молвил Франц Густавович, кашлянув.
– Я узнал, – кивнул Иван Иванович.
Комнаты, в которых жил управляющий со своими домочадцами, показались ему настоящим осколком Австрии, перенесенным в Россию. Но, собственно говоря, почему бы и нет?
– Скажите, – начал следователь, – вам раньше попадался на глаза револьвер, из которого, судя по всему, была выпущена пуля, убившая госпожу Панову?
И он внимательно посмотрел на сухощавого, светловолосого, сероглазого человека, стоящего напротив.
– Боюсь, что нет, – спокойно ответил управляющий. – Может быть, вы все-таки предпочтете сесть?
– Это оружие могло находиться в доме? – настойчиво спросил следователь. – Может быть, это револьвер баронессы Корф?
– У меня трое детей, – на первый взгляд не слишком логично отозвался управляющий. – И они часто заходят в дом. Там наверху есть несколько сабель и охотничьи ружья, но сабли висят высоко на стенах, а ружья всегда разряжены. Больше, насколько мне известно, в доме нет никакого оружия.
– Насколько вам известно… – задумчиво повторил Иван Иванович. – Скажите, а что именно вы думаете о происшедшем?
– Я думаю, что мне придется искать себе новое место, – рассудительно ответил его собеседник. – Вряд ли госпоже баронессе придется по вкусу, что я впустил в дом людей, которые учинили тут убийство.
– Вот как? То есть вы считаете, что госпожу Панову убил кто-то из тех, кто приехал с ней?
Управляющий пожал плечами.
– Если вам угодно знать мое мнение…
– Мне очень хотелось бы знать именно ваше мнение, так как вы лицо непредвзятое и имели возможность наблюдать этих людей в течение достаточно долгого времени. Итак?
– Госпожу Панову вообще не должны были убивать, – объявил Франц Густавович. – Никогда.
И, ошеломив следователя этим поразительным заявлением, он сел, очевидно, сочтя, что с него достаточно стоять на ногах.
– Поясните, – тихо попросил Игнатов.
– Это будет непросто, – вздохнул управляющий, – но я попробую. Есть такая категория женщин, чье предназначение – портить окружающим жизнь. Это не обязательно актрисы и не обязательно красавицы, просто у них такой характер. Что бы ни происходило, они всегда найдут повод для недовольства, для жалоб, для упреков, которые изливаются обычно на самых близких людей. От мелких придирок они обязательно переходят к крупным, а в качестве кульминации непременно устраивают скандал, в который стремятся вовлечь как можно больше людей. Причем внешне у них, как правило, все хорошо, и вроде бы им нет никакой нужды вести себя подобным образом, но тем не менее… – Франц Густавович пожал плечами. – Полагаю, что таким образом они утверждают свою власть над людьми. Кроме того, перед теми, кто их плохо знает, они очень любят выставлять себя страдалицами, которых никто не понимает и которых все тиранят. Вы понимаете, о чем я, не так ли?
– Понимаю. Но если следовать вашей логике и госпожа Панова действительно портила всем жизнь, у нее должна была быть масса недоброжелателей. И кто-то из них мог пожелать избавиться от нее раз и навсегда.
– Вы еще очень молоды, – спокойно заметил Франц Густавович, поправляя цветы в фарфоровой вазе, которая стояла на столе. – Вы не понимаете, что такое поведение предполагает хорошо развитую интуицию. Если неправильно рассчитать свои силы, можно ведь нарваться на неприятности, потому что далеко не каждый человек ведется на подобные манипуляции. И я вас уверяю, что госпожа Панова умела выбирать свои жертвы и делала это превосходно. Как только она встречала волю, которая была сильнее, чем ее воля, она искусно отступала. Взять хотя бы молодого человека, приятеля ее сына.
– Сережу Карпова?
– Да. Он был очень вежлив с ней, очень любезен, и при всей своей любезности он очень спокойно ее игнорировал. Он не поддавался на ее уловки, и когда на прошлой неделе Натали Башилова устроила пикник, Серж и Павел отправились на него без госпожи Пановой.
– И она потом не попыталась отыграться на них за это?
– Попыталась, но не на них, а на муже, который всегда безропотно все сносил. Разумеется, в тот момент о пикнике речи не шло, но свое дурное настроение она выместила с лихвой.
– Скажите, Франц Густавович, а Ободовский тоже все сносил, как вы выразились, безропотно?
– Я бы не сказал, – отозвался управляющий, подумав. – Он умел обращать любые ее капризы в шутку и делал вид, что ничего не замечает, если она была в дурном настроении. Кроме того, по-моему, ему придавала уверенности мысль, что рано или поздно он бы все равно ее бросил.
– Вот как?
– Да, когда женщине 45, а мужчина на 20 лет младше, все почти всегда заканчивается именно так.
– То есть Ободовскому, по-вашему, не было нужды ее убивать. Хорошо, но ведь совсем недавно вы употребили слово «убийство», говоря о Евгении Викторовне. Не самоубийство, не несчастный случай, а именно убийство. Почему? Вы все же кого-то подозреваете?
– О своих подозрениях я вам уже сказал, – парировал Франц Густавович. – Нет, такие женщины, как госпожа Панова, без хлопот доживают самое меньшее до 70 лет, а потом спокойно умирают в своей постели. С ней не должно было случиться то, что случилось, поэтому я делаю вывод, что где-то она допустила ошибку.
– Которая стоила ей жизни?
– Как видите.
– У вас нет никаких предположений, какого именно рода может быть эта ошибка?
– Ни малейших. Если бы я знал что-то определенное, я бы вам давно сказал. Но все, что у меня есть, только мои наблюдения и общие соображения, которыми я уже с вами поделился.
– И я вам чрезвычайно за это благодарен, – серьезно заметил Иван Иванович.
Задав еще несколько уточняющих вопросов, он попросил управляющего назвать всех людей, которые сегодня находились в усадьбе, добавив, что в ближайшее время собирается побеседовать с каждым.
Помимо жертвы, перечень включал ее мужа и сына, а также их знакомых – Сержа Карпова и актера Ободовского. Далее шли управляющий, его жена и их дети, а затем прислуга.
– Дуняша, фамилии не знаю. Госпожа Панова привезла ее с собой, – уточнил Франц Густавович. – Ее муж привез лакея Петра, который у них в театре также и парикмахер, насколько я понял. Мы в усадьбе держали трех девушек горничных, но госпоже Пановой не понравилось, что они будто бы строят глазки господину Ободовскому, и она потребовала их уволить. Старая кухарка тоже ушла из-за ее придирок, пришлось нанять Марью Ржанову из деревни. Мой слуга Никодим помогает в доме, когда я прошу его об этом. Еще есть кучер, но он два дня как запил, и вряд ли вам будет от него много толку. Сегодня в «Кувшинках» я его не видел… А наш садовник уехал на свадьбу сына и обещал вернуться только к вечеру.
– Скажите, – как бы между прочим поинтересовался Иван Иванович, – а прежняя кухарка и горничные, которые вынуждены были уйти из-за Пановой, могли затаить на нее зло?
– О, умоляю вас, – усмехнулся управляющий. – Конечно, они были не в восторге, но они прекрасно знали, что я возьму их обратно, как только она со своими спутниками уедет отсюда.
Игнатов внимательно посмотрел на своего собеседника, но тот оставался совершенно невозмутим. «Девушек, конечно, придется тоже допросить, и прежнюю кухарку тоже…» Однако начать следователь решил вовсе не с них. Вернувшись в дом и обсудив с доктором Колокольцевым, когда именно состоится вскрытие, он перебрался в столовую, обставленную мебелью светлых тонов, и попросил вызвать главного подозреваемого – Иннокентия Гавриловича Ободовского.
Красавец актер относился к тем людям, которые с первого взгляда внушают симпатию женщинам – и с первого же взгляда внушают мужчинам живейшую неприязнь. Для начала он заявил, что его с Евгенией Викторовной связывала исключительно дружба, что покойная была замечательной женщиной и он понятия не имеет, кто мог покуситься на ее жизнь.
– Когда вы видели ее сегодня в последний раз? – спросил следователь.
Ободовский вскинул брови, сделался задумчив и наконец сказал, что точное время он запамятовал, но это было после завтрака.
– А подробнее? – спросил безжалостный Иван Иванович. – Насколько мне известно, вы беседовали в коридоре. О чем шел разговор?
Он допустил ошибку, и актер тотчас же дал ему это понять.
– Я-то думал, вы спрашиваете о том, когда я видел Эжени… Евгению Викторовну в самый последний раз. А когда мы говорили в коридоре о том, что завтрак сегодня лучше, чем вчера, это был не последний.
– Понятно. Так когда именно случился последний раз?
– Я решил поудить рыбу, – объяснил актер. – Взял удочку и вышел из дома. Тут Евгения Викторовна меня окликнула из окна.
– Из какого именно окна?
– Из окна своей спальни. На втором этаже.
– Понятно. Продолжайте, прошу вас.
– А что тут еще можно сказать? Это был самый обыкновенный разговор. Она спросила, куда я иду. Я ответил, что хочу половить рыбу. Она рассмеялась и заметила что-то по-французски. Я не понял, что она сказала… Я помахал ей рукой и ушел. Вот, собственно, и все, – заключил актер.
– Где именно вы ловили рыбу?
– Как где? На озере, само собой, – отозвался Иннокентий Гаврилович снисходительно.
– Что-нибудь поймали?
– Хм, если вам скажут, что новичкам везет, не верьте… Я убил несколько часов, но так ничего и не поймал. Потом вернулся домой – и Дуняша меня огорошила…
– То есть, когда погибла Евгения Викторовна, вы находились на озере?
– Ну да.
Честнейший взгляд, обезоруживающая улыбка. Что там говорил Анатолий Петрович? Что в театр свой он взял бездарность и ничтожество? Нет, не бездарен, вовсе не бездарен был господин Ободовский. Врал, не моргнув глазом, и выглядел при этом так убедительно, что если бы не игнатовская интуиция, упорно нашептывающая, что его пытаются обвести вокруг пальца, поверил бы ему молодой следователь, очень даже может быть, что поверил…
– Скажите, Иннокентий Гаврилович, когда вы находились на озере, вас кто-нибудь видел?
– Может быть, и видел, – последовал совершенно естественный ответ. – Но я как-то не обращал внимания, знаете… Очень уж мне хотелось что-нибудь поймать.
Предъявив актеру револьвер, Игнатов осведомился, попадалось ли это оружие когда-либо прежде Ободовскому на глаза. И хотя ответ был отрицательным, следователь только еще больше укрепился в своем мнении, что свидетель ему лжет.
– Как вы думаете, кто мог желать зла Евгении Викторовне? – спросил Игнатов.
Он был готов к тому, что Ободовский тотчас же примется во всем обвинять ее мужа, но актер как-то замялся и наконец выдавил из себя, что все происшедшее кажется ему настоящим кошмаром и он не удивится, если это окажется каким-то нелепым несчастным случаем.
– Скажите, – спросил следователь, – вы были вчера в гостях у господина Ергольского?
Этого Ободовский отрицать не стал.
– А вам не кажется странным, что смерть госпожи Пановой в точности воспроизводит обстоятельства, которые вчера за ужином озвучил господин Ергольский?
Иннокентий Гарилович аж переменился в лице.
– По правде говоря… я не обращал внимания… Неужели вы думаете, что это может иметь какое-то значение? – вырвалось у него.
Он явно нервничал, и Игнатов поглядел на него с нескрываемым презрением.
– Убедительно прошу вас никуда не уезжать из «Кувшинок» до окончания следствия, – сказал Иван Иванович, не отвечая на заданный вопрос.
Отпустив актера, следователь пожелал побеседовать с сыном жертвы. Павел Колбасин был бледен и пребывал в явной растерянности. Это был невысокий, крепко сбитый молодой человек с круглым лицом и невыразительными чертами. Он не унаследовал ни красоты матери, ни ее артистичности, и Иван Иванович, бросив на него быстрый взгляд, подумал, что сын, должно быть, нередко разочаровывал Евгению Панову.
Впрочем, первые слова Павла следователя не разочаровали, а скорее наоборот.
– Мой отец никого не убивал, – решительно заявил Павел.
– Разве его кто-то обвиняет?
Младший Колбасин насупился и не ответил.
– Чтобы покончить с формальностями: где вы сами были сегодня после завтрака?
– Я ушел, – каким-то странным тоном ответил молодой человек. – В лес.
– Вот как?
– Да. Мне просто хотелось побыть одному, понимаете? Впрочем, вы вряд ли поймете.
– И вы бродили по лесу несколько часов?
– Да, а что, это запрещено?
– Вас кто-нибудь видел в лесу?
– Не думаю. Может быть, кто-нибудь из охотников заметил, хотя вряд ли.
– Охотники?
– Да, я слышал несколько выстрелов.
– Сколько?
– Не помню. Стреляли два или три раза, довольно близко. Хотя, может быть, мне просто показалось.
– Так или иначе, никто не может подтвердить, что вы ушли в лес?
– Когда я уходил, я столкнулся в саду с этим… с актером, – с отвращением промолвил Павел. – Может быть, он заметил, как я шел к лесу.
– То есть вы видели господина Ободовского? Прекрасно. Можете сказать мне, что он делал и как вообще себя вел?
– Ничего он не делал. Он разговаривал с моей матерью, которая высунулась из окна. Что-то сказал о рыбалке, о том, как хорошо сидеть на берегу с удочкой, а она ответила: «J’aime m’ennuyer autrement».
– То есть «Я предпочитаю скучать иначе»?
– Вот, вот! Вы поняли, а он не понял. Она нарочно сказала это по-французски, потому что знала, что он не имеет таланта к иностранным языкам. Я думаю, ей не нравилось, что он собирался уйти один, и поэтому она заговорила по-французски. – В лице Павла что-то дрогнуло. – И подумать только, что это был последний раз, когда я видел ее живой! – вырвалось у него. – Боже мой…
– Скажите, Иннокентий Гаврилович часто ходил на рыбалку?
– Он-то? Да я сегодня в первый раз увидел его с удочкой.
Надо же, как интересно. С одной стороны, история Ободовского в чем-то подтверждалась, с другой… Впрочем, не будем делать поспешных выводов, одернул себя следователь. Ободовский же сам в разговоре признался, что он начинающий рыболов.
Когда Иван Иванович показал револьвер и задал дежурный вопрос, не видел ли его свидетель прежде, Павел сделался так мертвенно-бледен, что следователь на мгновение испугался, что юноша упадет в обморок. Однако тот пересилил себя и ответил, что оружие видит впервые.
– Теперь поговорим о вечере у Матвея Ильича Ергольского, – сказал Игнатов.
– Я так и думал, что вы зададите этот вопрос, – пробормотал Павел. – По правде говоря, все это настолько странно, что я просто не знаю, что думать.
– Я полагаю, что, принимая во внимание все обстоятельства, мы вправе думать, что некто услышал историю господина Ергольского и решил воплотить ее в жизнь. Возникает вопрос: кто это может быть?
Прежде чем ответить, Павел долго молчал.
– Я ненавижу Ободовского, он мерзавец, – наконец хрипло признался он. – Но я же знаю, что он трус. Когда по роли ему приходится стрелять из бутафорского оружия, у него по лицу пот катится градом. Чтобы он мог взять револьвер и застрелить мою мать… нет, это невозможно.
– Когда господин Ергольский говорил об убийствах, его слышали несколько человек, – негромко напомнил Игнатов. – Если это не Ободовский, то кто? Сам Матвей Ильич? Ваш приятель Сергей? Кто?
– Вы все упрощаете, – уже сердито проговорил Павел. Румянец мало-помалу возвращался на его открытое, простое лицо. – В конце концов, рассказ Ергольского слышал еще один человек.
– Что за человек?
Павел мотнул головой.
– Я видел только силуэт в сумерках. Боюсь, я не могу описать его, потому что в тот момент не обратил на него внимания, но кто-то точно стоял за окном. Оно было открыто, и тот человек в саду мог слышать каждое слово.
– Павел Анатольевич, – после недолгого молчания промолвил следователь, – наш разговор пока неофициальный, но я все же должен вас предупредить о том, что за дачу ложных показаний полагается суровое наказание.
Молодой человек покраснел.
– Я ничего не выдумываю! За окном действительно кто-то был… Натали сказала, что о стекло бьется бабочка, Серж поднялся с места, распахнул окно пошире и выпустил ее. Он вернулся на место, и потом, когда Ергольский говорил, я заметил, что в саду кто-то есть…
Игнатов едва заметно поморщился. Начинается, с неудовольствием помыслил он. Сначала Ободовский, затем Павел, все о чем-то умалчивают, все лгут, и все что-то скрывают. Зачем сын убитой выдумал несуществующий силуэт в саду, понятно. Судя по его первым словам, сказанным следователю, юноша до смерти боится, что в убийстве обвинят его отца. Посторонний, которому можно приписать преступление, устроил бы всех: и Ободовского, и Павла, и, возможно, даже безутешного вдовца Колбасина… Да, устроил бы – но только в том случае, если Анатолий Петрович убийца.
– Если вы вспомните что-нибудь еще, – спокойно сказал следователь, – я всегда к вашим услугам. А теперь, если вас не затруднит позвать вашего друга, я хотел бы побеседовать с ним.
Глава 7. Убийство в открытой комнате
– Карпов Сергей Иванович, 24 года, мещанин, вероисповедания православного, – скороговоркой выпалил молодой человек, войдя в столовую, где временно расположился следователь. – Не скажу, что мне нравится быть героем этого романа, потому что все до обидного походит на романы господина Ергольского, но постараюсь помочь вам, чем смогу.
Тон его казался серьезным, но в серых глазах таилась усмешка, и Иван Иванович поглядел на вновь вошедшего очень внимательно. Перед ним стоял высокий молодой человек, светловолосый, с румянцем во всю щеку. Не красавец, но такие женщинам нравятся, и обычно больше, чем записные красавцы. Взрослея, они как бы выцветают и становятся совсем неинтересными; тогда женщины разлюбляют их и переключаются на гусарских поручиков и прочих провинциальных ловеласов.
– Присаживайтесь, Сергей Иванович, – сказал Игнатов. – Прежде всего установим, где вы были сегодня после завтрака и что делали. Герои романов господина Ергольского обычно подбираются к этому пункту очень долго и с массой церемоний, но я предлагаю сэкономить время. – И он сердечнейшим образом улыбнулся.
– Как я понимаю, я под подозрением? – поинтересовался Серж, плюхаясь на обитый синим шелком диван.
Иван Иванович пожал плечами.
– Как и все слушатели вчерашних фантазий господина Ергольского, – уронил он. – Итак, где вы были сегодня после завтрака и до двух часов с четвертью?
Тут молодой человек перестал улыбаться.
– Боюсь, вы не поймете меня, – совершенно серьезно ответил он. – Но я сбежал.
Так как Игнатов молчал, Сержу волей-неволей пришлось продолжить:
– Я сбежал, потому что атмосфера в доме царила невыносимая. Нет, вы только ничего такого не подумайте. Никто не бегал с оружием, не кричал «Я тебя убью» и тому подобное. Но иногда я жалел, что уехал из Петербурга. Дома, по крайней мере…
Тут он запнулся и закусил губу.
– Дома вам тоже приходится нелегко? – спросил молодой следователь. По правде говоря, это было скорее утверждение, чем вопрос.
– Я очень люблю мою мать, – волнуясь, проговорил Серж. Тон его, однако, был до странности мрачен и резко контрастировал со словом «люблю». – И она замечательная женщина. Нет, она не такая, как Евгения Викторовна, она не заводит… поклонников… не красит волосы и не пытается убедить окружающих, что ей чуть больше тридцати, хотя тут же сидит ее сын-студент и не знает, куда деть глаза. Но…
– Простите, а чем занимается ваша мать? – тихо спросил Игнатов.
– То тем, то этим. Немного переводит, пишет рецензии на спектакли, читает стихи в благотворительных концертах. – Серж заерзал на месте. – Я надеюсь, это останется между нами, да? Вам ведь вовсе ни к чему включать в протокол…
– Я пока ничего не записываю, – успокоил его Иван Иванович. – А в протоколе будет отражено только то, что непосредственно имеет отношение к делу.
Серж с облегчением выдохнул.
– Тогда я думаю, мы можем вернуться к моему… как его… алиби, да? Так вот: после завтрака я удрал из дома и пешком отправился к Башиловым.
– Кто-нибудь видел, как вы уходили?
– Нет. А, нет, видел! В саду я налетел на Анатолия Петровича и сказал ему первое, что мне пришло в голову, – что хочу отнести Натали ноты. Глупо получилось, потому что она не любит играть на пианино… и никаких нот у меня в тот момент не было…
– Каким он вам показался?
– Анатолий Петрович? Ну, он не вращал глазами и не шептал трагическим голосом, что собирается кого-то убить. – Серж увидел, как вспыхнули глаза следователя, и поспешил добавить: – Поймите, мне совершенно нечего сказать! Он был абсолютно такой же, как всегда…
– Итак, вы пошли к Башиловым. Кто-нибудь из них был дома?
– Да. Натали. Я так обрадовался, что… Словом, я ужасно обрадовался. И пригласил ее покататься на лодке, поглядеть на кувшинки вблизи.
– А дальше?
– Она согласилась, и мы отправились на озеро. Катались, разговаривали, а потом я вернулся… И застал тут переполох.
– Скажите, – спросил следователь, – вы не видели на берегу рыбаков?
Серж удивился.
– Нет, я никого не заметил.
– Может быть, вы все же видели Иннокентия Гавриловича? Он уверяет, что удил рыбу.
– На озере?
– Да, и примерно в то же время, что и вы.
– Нет, – решительно сказал Серж, качая головой, – его там не было.
– Уверены?
– Я бы не говорил, если бы не был уверен. Ведь озеро на самом деле маленькое, Андрей Григорьевич уверяет, что это вообще не озеро, а большой пруд. Мы с Натали катались по нему вдоль и поперек, и вдоль берега, и посередине – никакого Ободовского там не было.
И почему следователь ни капли не удивился, услышав эти слова?
– Скажите, а какое впечатление у вас сложилось о господине Ободовском?
– Э, нет, – усмехнулся Серж. – Тогда уж прямо спросите, считаю ли я его убийцей. Помнится, в романах Матвея Ильича…
– Меня интересует именно ваше впечатление.
Серж вздохнул.
– Оно будет неоригинальным. Евгения Викторовна была слабой женщиной, а Ободовский этим пользовался.
– Слабой? – поднял брови Игнатов.
– Да, а что именно вас удивляет? Актриса с ее данными сначала «кокетт», потом «гранд-кокетт»[152], но время идет, и от «гранд-кокетт» ей уже рукой подать до ролей маменек. – Серж промолчал. – Евгения Викторовна не хотела играть маменек. Категорически. Она хотела всегда оставаться молодой и красивой. Если бы мы находились в сказке, а она бы была королевой, она бы повелела уничтожить все зеркала, чтобы они не напоминали о ее возрасте. Ну, а этот актер, он говорил ей комплименты. Он делал вид, что… что ее желания выглядеть молодой достаточно, чтобы в самом деле оставаться молодой. И, конечно, он поступал так не потому, что искренне ее любил. Ему это было выгодно, понимаете?
– Понимаю, – кивнул Иван Иванович и потянулся за вещественным доказательством, чтобы предъявить его свидетелю. – Выстрел был произведен из этого револьвера. Скажите, вам он когда-либо попадался на глаза?
Серж покачал головой.
– Нет.
– Вам известно, было ли у Евгении Викторовны оружие?
– Если и было, я ничего об этом не знаю.
– В последнее время она жаловалась на кого-нибудь?
– Нет.
– С кем-нибудь ссорилась? Кто-нибудь ей угрожал?
– Не угрожал, а ссорилась – не более, чем обычно.
– То есть ссоры все же имели место?
– Привычные ссоры, скажем так.
– Привычные?
– Ну… Она полжизни провела на сцене. Понимаете, там, где в каждом акте выяснение отношений или какое-нибудь открытие незаконного сына, не знаю… всякие такие драматические моменты… А в жизни ей было скучно, понимаете? Ведь ничего такого не было… Вот она и создавала конфликты из ничего, просто потому, что ей было скучно. Но Анатолий Иванович и Поль отлично понимали, что это все как бы игра.
– Вот как?
– Да. Правда, иногда она все же перегибала палку. Она все время упрекала Поля, что он сутулится, и обещала, что у него вырастет горб. Это было глупо, потому что он сутулится, только когда что-то пишет, и то не сильно. Потом, ей казалось, что он не имеет успеха у девушек, и она говорила, что он слишком застенчивый и так нельзя. Мол, посмотри на Сержа, как он с Натали… то есть… – Он запнулся. – Наверное, я вам лишнее говорю…
– Вовсе нет. Скажите, а как Анатолий Иванович относился к тому, что его жена даже не стремится скрыть свою связь с Ободовским?
– Сказать вам правду? – Серж вздохнул. – Так вот, если бы мы были на краю света… в каком-нибудь медвежьем углу, и Анатолий Иванович был уверен, что правосудие до него не дотянется… в общем, я не позавидовал бы Ободовскому. Но так как за убийство полагается каторга, Анатолию Ивановичу приходилось терпеть.
Однако любопытная выходит картина, помыслил следователь. По крайней мере, в изложении этого жизнерадостного молодого человека со светлыми глазами…
– Еще один вопрос. Когда вы были вчера в гостях у Ергольского, вы не обратили внимания, мог ли слышать его истории об убийствах кто-то еще? Прислуга, или какие-нибудь посторонние в саду…
– Я не помню ни прислуги, ни посторонних в саду, – отозвался Серж твердо. – Я подходил к окну, чтобы выпустить бабочку, и выглядывал в сад. Точно помню, что никого там не было.
Значит, младший Колбасин не успел предупредить друга насчет своей выдумки и попросить, чтобы Серж ее поддержал. Ну что ж… Павел скажет, что таинственный силуэт возник уже после того, как Серж вернулся на место, и будет настаивать на своем. И как тогда вывести его на чистую воду? Ведь самое неприятное в делах об убийстве – такая вот простая, но логически неуязвимая ложь, когда любому ясно, что свидетель врет или покрывает кого-то, но доказать это попросту невозможно…
Стоп, с какой стати он, Иван Иванович Игнатов, считающий себя неглупым человеком – и, кстати, являющийся таковым – будет раньше времени сдаваться? Раз Павел придумал эту ерунду о постороннем в саду, значит, он знает, кто убийца. Стал бы он так рисковать из-за Ободовского? Само собой, нет. Серж, судя по всему, отпадает, потому что был с Натали (хотя это еще надо проверить). Получается, сыну известно, что убийство совершил отец.
Но зачем? Зачем Анатолию Ивановичу Колбасину убивать свою жену? И где он сумел так быстро достать нужный реквизит – пардон, орудие убийства, дамский револьвер? И зачем обставлять убийство ровно так, как нафантазировал вчера неугомонный писатель? Какой в этом толк?
Чтобы в случае, если дело обернется скверно, попытаться обвинить во всем Матвея Ильича? Но у Ергольского нет не то что мотива, а даже тени мотива…
Окончательно запутавшись, Игнатов все-таки отпустил Сержа и попросил Франца Густавовича, во-первых, принести холодного питья, а во-вторых, доставить к нему горничную убитой.
Дуняша Фролова оказалась маленькой, веснушчатой, смышленой на вид тараторкой двадцати с небольшим лет. Она тотчас засыпала следователя вопросами: правда ли, что хозяйку убили? Какой ужас! И кто же мог это сотворить?
– А вы сами как думаете, Дуняша? – спросил Игнатов.
Но, если верить ее словам, горничная сама терялась в догадках. Конечно, мужья убивают своих жен – иногда; конечно, любовники убивают своих любовниц, но опять-таки нечасто. На выражение данной мысли Дуняша потратила несколько минут, несколько сотен слов и с десяток самых убедительных примеров, после чего, отдышавшись, воззрилась на Игнатова с выжидательной улыбкой.
– А Павел Анатольевич? – осведомился следователь, отчаявшийся укротить этот словесный поток.
Павел Анатольевич? Да что вы! Никогда. И она снова затараторила, перечисляя какие-то домашние случаи, показывавшие, как младший Колбасин любит мать и о ней заботится.
Последний раз Дуняша, как и все, видела хозяйку после завтрака, когда та пеняла ей на то, что какая-то оборка на платье неправильно выглажена и топорщится. Что сама Дуняша делала после этого? Горничная порозовела и стала говорить, что у нее и в мыслях не было ничего плохого. Из дальнейшей беседы выяснилось, что она была в деревне, болтала с деревенскими. Иван Иванович не сомневался, что они перемыли косточки всем, включая кухарку, про которую Дуняша сказала, что та «задирает нос».
Нет, Дуняша не видела возле дома никого подозрительного, и посторонних она тоже не замечала.
В одном важном пункте Дуняша тоже была категорична: никаких револьвертов у хозяйки отродясь не водилось, и оружия она у себя не держала. Вот пудры всякие, помады, притирания… их, конечно, никак нельзя отнести к оружию, разве что в переносном смысле…
– Скажи-ка мне вот что: может быть, твоей хозяйке кто-нибудь угрожал? Ты ничего такого не замечала? Никаких подозрительных писем она не получала?
Дуняша пылко объявила, что не имеет привычки читать чужие письма, и вообще, в последнее время хозяйка жаловалась разве на то, что ей стали писать реже, чем раньше. А что касается угроз…
– Так уж она сама всем угрожала, так угрожала! Сыну говорила, что он не найдет ни приличной невесты, ни хорошего места, мужу – что она уйдет от него и его театру настанет конец…
– А как Анатолий Петрович к этому относился?
– Как относился? А что он мог сделать? Он же любил ее, хоть она и заноза сущая была. Вот, прости Господи, заноза так заноза!
И она снова затараторила, перескакивая с предмета на предмет, и так замучила следователя, что после ее ухода он почувствовал ощутимую головную боль.
Петр Линьков, лакей Анатолия Колбасина, оказался важным с виду верзилой неопределенного возраста. Он мало походил на парикмахера и еще меньше – на слугу. Впрочем, он не стал отрицать, что в театр его привела только любовь к искусству.
– Но талант, сударь, подвел, – печально молвил Линьков, свесив голову. – Пробовал я выступать и там, и сям, но все говорили в один голос: нет у тебя, брат, таланта! Так что я прибился к Анатолию Петровичу и служу у него. Изредка только по старой памяти выхожу на сцену, когда нужны статисты, да в ролях лакеев, знаете, когда всех реплик только «Кушать подано» и никто из господ актеров утруждать себя не хочет…
Игнатов попытался вернуть разговор к тому, что интересовало следствие. Ответы собеседника были категоричны: ни у хозяина, ни у хозяйки оружия не было. Револьвер самому Петру незнаком, и он понятия не имеет, кто мог убить Евгению Викторовну. Последний раз он видел хозяйку живой, когда все завтракали, а после завтрака хозяин послал его на почту, отправить несколько писем. Да, на почте его видели, и если Ивану Ивановичу будет угодно навести справки…
«Почему у меня такое ощущение, что он темнит? – мелькнуло в голове у следователя вскоре после того, как Петр удалился. – Вроде бы он казался вполне откровенным в своих ответах, но было, было еще что-то… что-то, о чем он не стал говорить, возможно, потому что это может повредить кому-то… Хозяин его послал на почту в день убийства… Подозрительно, однако! С другой стороны, почему бы Колбасину не послать своего слугу с поручением…»
Иван Иванович допросил кухарку, решительную полную бабу, которая показала, что знать ничего не знает, ведать не ведает и вообще она все время была на кухне с женой Франца Густавовича. За кухаркой последовал черед жены управляющего и их слуги Никодима, но слуга, как оказалось, любезничал с горничной из усадьбы Ергольского и пропустил все волнующие события, а Эльза Карловна лишь подтвердила слова кухарки и описала, как муж, придя на кухню, попросил у нее ключи. Это была сдержанная, домовитая и явно неглупая женщина, так что Иван Иванович, не удержавшись, без обиняков спросил, что она думает о происшедшем.
– Очень жаль, что в имении баронессы Корф произошел такой скандал, – сказала Эльза Карловна. – Госпожа баронесса его не заслужила.
– Ваш муж уверяет, – сказал Игнатов, – что револьвер, из которого была убита Евгения Викторовна, не из этого дома.
– И он совершенно прав, – отозвалась его собеседница.
– Откуда же он мог взяться?
Эльза Карловна пожала плечами.
– Полагаю, что его принес тот, кто хотел убить госпожу Панову, – объявила она.
– У вас нет никаких соображений, кто это мог сделать?
– Если бы я что-то знала, то я бы вам сказала, господин следователь. Кроме того, между «мог сделать» и «сделал» существует большая разница. Я могу идти?
– Да, но если вы что-то вспомните…
– Разумеется, я вам сообщу.
Оставшись один, Игнатов вздохнул. Итак, прекрасный летний день, госпожа Панова выходит из своей спальни, потому что ей, возможно, наскучило быть одной, и спускается в гостиную. Франц Густавович, по его словам, объезжал луга баронессы Корф, его жена на кухне руководила кухаркой, Колбасин читал, а потом заснул у себя в комнате, Павел прятался в лесу, Ободовский якобы находился у озера. Серж и Натали катались в лодке. Лакей Петр был отправлен с поручением на почту, Дуняша и Никодим отлучились. Все готово для представления, мелькнуло в голове у следователя. И перед его внутренним взором вновь возникла гостиная, обставленная прекрасной французской мебелью, с большими окнами – среднее из них распахнуто настежь – и двумя дверями, которые тоже распахнуты, словно нарочно…
Убийство в открытой комнате, вот что это такое. Кто угодно – в сущности – мог войти в одну из дверей. Либо, как вариант, забраться в окно…
Вспомнив кое-что, Иван Иванович вышел в сад, чтобы осмотреть землю под окном, но ему не повезло: как раз там стояла Дуняша, которая горячо рассказывала горстке деревенских сегодняшние события, и, конечно, все следы, если они вообще имелись, уже были затоптаны. Осерчав, Игнатов вызвал седоусого полицейского, призванного следить за неприкосновенностью места преступления, и сделал ему строгий выговор. Полицейский слушал чрезвычайно внимательно, но даже по выражению его глаз ощущалось, что Игнатов для него – щенок и сопляк, хоть и лицо должностное, а само убийство – гадость неимоверная, хотя бы потому, что оторвало полицейского от поедания вкуснейшей домашней ухи.
– Мне надо допросить еще несколько свидетелей, – объявил Игнатов под конец. – Но сегодня я еще вернусь.
Досадуя на себя, что его не принимают всерьез, Иван Иванович забрался в свою двуколку и велел везти себя к Клавдии Петровне. Его очень беспокоило, что убийство случилось именно так, как описал Ергольский, и перед тем, как беседовать с писателем, он желал заручиться показаниями постороннего лица.
Поговорив с Бирюковой и поэтом, о чем читателю уже известно, следователь отправился к Матвею Ильичу. Последуем же и мы за ним.
Глава 8. Романист и журналист
Матвей Ильич Ергольский любил вечера. Он любил облака в вышине, отсвечивающие розовым, солнце, клонящееся за горизонт; любил вечернюю прохладу, пение птиц в зарослях сирени у крыльца, зарождающиеся сумерки, в которых все лица кажутся прекрасными и таинственными, а голоса становятся мягче и нежнее. Как всякий сочинитель, он отдавал себе отчет в том, что любит в чем-то порождение своей фантазии, что бывают вечера и горькие, и унылые, и несчастливые, но их он отодвигал на задворки памяти, изгонял, чтобы они не мешали ему наслаждаться его мечтой. Сейчас он расположился в саду, под разлапистыми кленами, в удобном плетеном кресле, со всех сторон обложенном мягкими подушками; и это кресло Матвей Ильич не поменял бы на первый трон земли. По другую сторону круглого стола, накрытого кипенно-белой скатертью, в точно таком же плетеном кресле сидел Георгий Антонович Чаев и курил трубку. Отсюда, из-под кленов, было видно, как солнце уходит в закат над озером, чтобы окончательно затеряться где-то в зарослях за домом отсутствующей баронессы Корф. Чуть поодаль от мужчин, в кресле поменьше с шитьем в руках устроилась Антонина Григорьевна. Она почти не принимала участия в разговоре, поглощенная своим вышиванием, и Чаева невольно восхищало, как быстро и ловко снует иголка в ее длинных тонких пальцах. Это не то чтобы сбивало его с толку, но мешало сосредоточиться на том, что он считал главным – а главное состояло в том, чтобы заманить Ергольского в новый журнал, у которого были самые серьезные перспективы и намерения. Отчасти из-за этого Чаев и приехал к Матвею Ильичу, чтобы добиться его согласия, потому что хорошо знал своего друга и понимал, что простого приглашения письмом тут будет недостаточно.
– Здравомыслящие люди, – рокотал мягкий баритон журналиста, – имеют право – нет, даже более того: должны объединиться перед лицом грозящего обществу раскола. Ты меня знаешь, я менее всего склонен к паникерству, но то, что происходит сейчас, весь этот разброд и метания, ожесточение против властей, которое, по сути, ни на чем не основано, и горячие головы уже призывают к революции… Матвей!
– Угум? – рассеянно отозвался романист. Глядя на облака, он размышлял, как поточнее описать их форму, если по ходу действия романа, который он сочинял, ему представится такая возможность.
– Я считаю, что мы не имеем права оставаться в стороне, – сказал журналист, немного рассердившись на то, что его длинная речь, которой он рассчитывал убедить собеседника, судя по всему, пропала втуне. – И я совершенно точно знаю, что тебе есть что сказать. Публика держит тебя за развлекательного романиста, но ведь ты мыслишь гораздо глубже, и твои книги вмещают далеко не все из того, на что ты способен. Если бы ты согласился написать для нас несколько статей…
Антонина Григорьевна метнула на мужа быстрый взгляд. Со стороны это осталось совершенно незамеченным, потому что иголка в ее пальцах ни на миг не замедлила движения.
– Статей, стате-ей, – протянул Ергольский не то задумчиво, не то с легкой иронией. – Грустно, Жора.
– Что грустно?
– Да то, о чем ты говоришь. – Писатель зашевелился в кресле, не потому, что ему до этого было неудобно, а потому, что слова друга затронули тему, о которой он не слишком любил распространяться. – Отечество в опасности, и только Матвей Ильич Ергольский может его спасти. Так, что ли?
– Не утрируй, Матвей. Ты отлично знаешь, что у тебя есть авторитет, хоть и предпочитаешь делать вид, что его не замечаешь. И я тебе скажу еще вот что: сейчас не тот момент, когда можно оставаться в стороне и убеждать всех, что быть над схваткой – самое благородное занятие.
– Знаю, – усмехнулся писатель. – Потому что тот, кто всеми силами показывает, что он над схваткой, рано или поздно получает по шее от обеих сторон.
– И это в том числе. Кстати, если тебя волнует вопрос оплаты – я отлично помню, как ты переживал, когда в молодые годы редактора регулярно забывали тебе заплатить, – я лично готов гарантировать, что за свои статьи ты получишь не меньше, чем за книги.
– Спасибо за щедрость, Жора, – отозвался Ергольский, и на этот раз в его голосе сквозила нескрываемая ирония. – Но, боюсь, я не могу ничего тебе предложить. Написать десяток статей или больше…
– Чем больше, тем лучше.
– Я понимаю, но марать бумагу ради того, чтобы подать на сто ладов одну и ту же простую мысль – что если в доме завелись тараканы, нельзя сжигать дом, чтобы бороться с тараканами, потому что прежде всего в огне пожара сгорят твои близкие… Ведь в конечном счете это и есть твои революции и то, к чему призывают твои горячие головы.
– Они вовсе не мои, ты же знаешь.
– Я выразился неточно, но, думаю, ты понял, что я имею в виду. Я согласен, что у Российский империи имеются свои недостатки, и я так же, как и ты, считаю, что пытаться уничтожить империю ради того, чтобы искоренить эти недостатки, глупо и недальновидно. Живи мы в другой стране, я бы написал на эту тему короткую статью и занимался бы дальше своим делом, но в нашей стране так не получится, и знаешь почему? Я уже говорил, что особенности народа отражаются в его языке; так вот, в русском языке есть слово «грызня», которое очень трудно перевести и которое характеризует все сферы нашей жизни. Это квинтэссенция, если угодно, нашего общества. Куда бы ты ни пришел, важнее всего понять: кто против кого и кто с кем грызется. Что в правительстве, что в литературе, что в науке, что…
– Матвей! Но ведь сейчас-то речь идет вовсе не об этом…
– Именно об этом, Жора, потому что ты предлагаешь мне – с самой благородной целью – включиться в эту грызню, стать одним из тех, кто неустанно поливает грязью своего противника только из-за того, что тот придерживается других политических взглядов, например. И наоборот: мне придется хвалить и одобрять людей, которые разделяют мое мнение, но которым я при встрече не подал бы руки. Ты только что упоминал деньги, однако в моем возрасте начинаешь ценить кое-что и помимо денег, например душевный покой. И я…
– Матвей, я говорил об оплате твоего труда, а не говорил, что собираюсь тебя купить. Ну ей же богу…
– Жора, прости, но у тебя типично журналистская привычка придавать словам собеседника не тот смысл, который они имеют, а тот, который ты хочешь в них видеть. Раньше, наверное, я бы согласился на твое предложение и даже колебаться бы не стал. В конце концов, что может быть приятнее, чем получать деньги за свои убеждения, которые обычно не приносят ни гроша? А теперь я сижу тут и думаю, похоже ли вон то облако над нами на жирафа или нет, и меня очень мало волнует, есть у меня авторитет, нет его и сколько олухов могут убедить мои призывы к умеренности. Ты мне сейчас начнешь доказывать, – добавил Ергольский, заметив, как блестят в сумерках глаза журналиста, – что я кого-то там боюсь, что меня пугает полемика, в которую я неминуемо ввяжусь, но все это чепуха. Как бы ни обзывали писателя, у него всегда найдется больше оскорблений для противоположной стороны, или уж тогда он просто плохой писатель… В конце концов, наша современная русская литература берет свое начало не от Пушкина – хотя он создал эталонные образцы поэзии и прозы, – а на век раньше, аккурат от грызни Сумарокова с Тредиаковским. Один другого клеймил нетопырем и в ответ получал, что он свинья, а в конечном счете ничего из того, что они написали, сейчас читать невозможно, кроме этой перебранки. Уж ее-то, в отличие от их произведений, никак не назовешь ни устарелой, ни высокопарной…
Чаев вздохнул. Он не любил, когда его друг пускался в литературные рассуждения – хотя бы потому, что сам в литературе был не слишком силен и даже не прочел ни одного романа Гончарова.
– Одним словом, – поддел он собеседника, – по-твоему, куда лучше сидеть в глуши бирюком и ничего не делать…
– Почему же бирюком, скажи на милость? Кроме того, я много работаю…
– Ну да, работаешь, но все равно – застрял тут, в Петербурге тебя не видно, вытащить тебя куда-нибудь отсюда – морока…
– Зачем меня вытаскивать? Мне и тут хорошо, уверяю тебя.
– Я же говорю – бирюк! С твоими доходами вполне мог бы Антонину Григорьевну за границу свозить, показать ей мир, да сам бы развеялся…
Писатель развеселился. Прежде они с Чаевым уже достаточно спорили на эту тему, и Матвей Ильич решил, что настала пора расставить все точки над «ё».
– Да я ведь ездил за границу, Жора, и даже не раз…
– Ну да, дважды, когда сочинял свой первый роман и после того, как его закончил, – съязвил журналист.
– Верно, и этого оказалось вполне достаточно. Пойми, Жора: я русский человек, и хорошо мне может быть только дома. Видел я и Версаль, и какие-то водопады швейцарские, и еще что-то и скажу тебе откровенно – красиво до чертиков, но все не то. Потому что на самом деле не Версаль мне нужен, а вот это, понимаешь – наша родная природа, где всюду простор, лес, луг какой-нибудь, где не их розы растут, а наши простые колокольчики или вот эти… голубые ромашки… – Он указал на кустистое растение в нескольких шагах от его кресла.
Антонина Григорьевна подняла голову.
– Это цикорий, Матвей, – сказала она вполголоса.
– Вот, вот! Цикорий, или как его там, неважно… Ты, Жора, говоришь – заграница. Но недоговариваешь главного, а главное-то как раз в том, что нас там нигде не любят, нигде не ждут и никому мы там даром не нужны. Разве что с деньгами – тратьте ваши деньги и убирайтесь прочь, вот такой у них подход. Мы-то, наивные, привыкли думать, что мы со времен Петра европейцы, часть общей истории, Наполеона отколошматили так, что он после этого уже не оправился, а они даже нашу победу над ним признают сквозь зубы, как будто одни англичане с ним справились. А Крымская война, Матвей? Ведь это же было совсем недавно! Ты помнишь, как они злорадствовали, когда пал Севастополь? Потому что им только и нужно было – поставить нас на то место, которое, как они считают, мы заслужили. А в их понятии мы заслужили только то, чтобы быть державой второго, а еще лучше третьего сорта и никогда не сравняться, например, с какой-нибудь Британской империей…
– Матвей, твои рассуждения довольно наивны, хотя в кое-чем ты, безусловно, прав. Но я не думаю, что кто-то сейчас рискнет оспаривать наше место в Европе…
– Жора, я тебя умоляю! Разве ты не понимаешь, что для европейцев Европа – понятие вовсе не географическое? Европа в общем и целом – это такой тесный доходный дом, где живут только очень старые, очень почтенные, очень заслуженные жильцы. Иных они не признают и равными себе не считают. К примеру, Сербия и Румынское королевство всегда географически находились в Европе, но для истинных европейцев, хоть тресни, они не Европа, и все тут. Что уж тут говорить о нас, ведь мы вообще застряли в Азии большей частью своей территории…
На дорожке неподалеку от собеседников показался юркий зверек, похожий на ласку, повертелся туда-сюда, покосился на коробку с шитьем возле Антонины Григорьевны и, шумно фыркнув, умчался по направлению к дому. Это был Шоколад, один из двух мангустов, которых Чаев привез в подарок Ергольскому. Одно время Шоколада и его подругу Марию-Антуанетту пытались держать в клетке, но беспокойные мангусты так шумели и так бузили, что Ергольский скрепя сердце согласился днем выпускать их на прогулку. Так как проследить за ними не было никакой возможности, он боялся, что кто-то может их обидеть, но вскоре Шоколад убил гадюку, которая пыталась ужалить работника, и снискал себе в округе громкую славу. Его и грациозную Марию-Антуанетту крестьяне прозвали «змееловами» и относились к ним с большим почтением, так что Ергольский больше не переживал, когда мангусты покидали дом и отправлялись обследовать прилегающую территорию. Писатель с детства любил живность, причем не только кошек и собак; когда он был маленьким, у него долгое время жил ручной заяц, потом еж, которого Матвей подобрал раненым и выходил, а потом принесенный одним из крестьян зверек, похожий на бесформенный комочек, который быстро вырос и оказался самой настоящей рысью. Рысь Машка была для Матвея Ергольского самым лучшим другом, самым любимым существом на свете, и когда ее по ошибке застрелили охотники, приехавшие в соседнее имение, он рыдал так, что мать в испуге вызвала доктора Колокольцева. Доктор, тогда еще молодой, конфузливый и совсем не такой ворчливый, как сейчас, осмотрел пациента и, отведя его мать в сторону, шепотом посоветовал ей больше никаких зверей в дом не брать.
– Ваш ребенок слишком чувствителен, другой такой потери он может не пережить…
Ергольский никогда не охотился; уступая друзьям – хотя бы тому же Чаеву, – он мог для виду пойти на охоту, но сам всегда почему-то мазал и никогда не попадал в цель. И сейчас, насмешливо щуря глаза, он слушал рассуждения журналиста о сегодняшней охоте, в которые тот пустился, чтобы сменить тему.
– Ей-богу, если б мы жили в первобытном обществе и кормились бы только тем, что ловили сами, ты бы и недели не протянул, – объявил Чаев.
– Слава богу, что мы не в первобытном обществе, – отозвался писатель. – И потом, с чего ты взял, что я бы помер с голоду? Я бы пригласил тебя…
Он хотел сказать, что Чаев сумел бы наловить дичи за двоих, но журналист понял его иначе.
– Э, э, скажите пожалуйста! И ты бы слопал своего лучшего друга? Вот езди после этакого в гости!
Расхохотавшись, Ергольский объяснил, что имел в виду совсем другое, но Чаев настаивал на своей версии.
– Что ж, по крайней мере, часть меня перепала бы Антонине Григорьевне…
– Да ну вас! – сердито отозвалась та, складывая вышивание.
– Что, неужели Матвей Ильич все съел бы и не поделился? – дразнил ее журналист. – Ну хоть печень бы отдал… или сердце…
– Жестокий ты человек, Жора, – вздохнул Ергольский. – Как будто не знаешь, что тот, кто захочет тебя съесть, подавится…
– Да-с, – с показным смирением подтвердил Чаев, выколачивая трубку, – многие пытались, пытались и…
– И только зубы обломали.
– Ну не без того, не без того, милостивый государь!
Антонина Григорьевна удалилась – вероятно, отдать какие-то распоряжения прислуге, и мужчины остались под кленами одни. Второй мангуст вынырнул из травы, повертелся возле Ергольского, который рассеянно погладил его по голове, и убежал в дом.
– Как у тебя с этой… Ириной Петровной, кажется? – нерешительно спросил Ергольский, чтобы чем-то занять затянувшуюся после ухода жены паузу. – Которая еще писала статьи о моде…
– Никак, – хмыкнул Чаев. – Она вышла замуж за отставного генерала и, кажется, счастлива…
У импозантного журналиста было много увлечений и, в общем, то, что Матвей Ильич в своих романах именовал «бурной личной жизнью». Ергольский же бурь не одобрял и вообще по характеру был однолюбом. Обычно он избегал касаться личных тем, но сейчас все же не удержался и негромко заметил:
– Жениться бы тебе, Жора…
– Я женюсь в пятьдесят лет, – отозвался его собеседник. – А до той поры я хочу пожить для себя.
– Глупости все это – устанавливать для себя какие-то сроки да еще им следовать, – проворчал Ергольский. – И потом, кому ты будешь нужен в пятьдесят лет?
Без сомнения, на языке у Чаева уже вертелся хлесткий ответ, но он так и не прозвучал, потому что в саду вновь возникла расстроенная Антонина Григорьевна, за которой шагал следователь Игнатов.
– Матвей, тут к тебе… – проговорила она, волнуясь. – В «Кувшинках» произошло убийство, представляешь?
Признаться, едва услышав слова жены, Ергольский тут же почему-то подумал: «Ободовский?» – так, словно только лощеного актера могли там убить; но когда Иван Иванович ввел присутствующих в курс дела, писатель так растерялся, что даже забыл предложить следователю сесть (это сделала Антонина Григорьевна). Что же касается журналиста, то он распрямился и весь обратился в слух, явно движимый профессиональным интересом.
– Вот, не угодно ли: приезжаешь в мирный край, думаешь отдохнуть, и тут – такая оказия… Как ни крути, Панова ведь известной актрисой была, придется мне писать о ней, раз я оказался поблизости… обстоятельства, так сказать… и о расследовании, как же без этого…
Однако Игнатов пропустил мимо ушей этот намек на то, что не худо бы ему держать себя скромнее, не то Чаев так его пропечатает в своей газете, что Ивану Ивановичу мало не покажется. Для начала следователь решил прояснить один весьма интересующий его вопрос:
– Скажите, Матвей Ильич, почему вы придумали Евгении Викторовне именно такую смерть, какую описали вчера?
– Почему – что? – нервно переспросил Ергольский.
– Почему вы описали именно эти обстоятельства? Я имею в виду, гостиная… револьвер с перламутровой рукояткой… труп в кресле – ведь откуда-то это должно было взяться?
Сейчас начнется, невесело помыслил Чаев. Он отлично знал, что его друг терпеть не может рассуждать о том, откуда берутся его сюжеты.
– Она попросила, чтобы ее не душили, – мрачно промолвил писатель. По правде говоря, он ощущал себя сейчас крайне скверно – как будто самый мерзкий персонаж из его книг, которого он считал лишь творением своей фантазии, вылез из печатного листа, глумливо ухмыльнулся и сунул кукиш прямо ему под нос. – Понимаете, ведь этот разговор возник случайно… Все воспринимали его как шутку!
– Все, кроме одного человека, – мягко поправил Игнатов. – Боюсь, он-то как раз воспринял ваши слова очень серьезно… Однако я не услышал ответа на мой вопрос.
– Простите?
– Если Евгению Викторовну не должны были задушить, почему вы не придумали… не знаю… что ее зарезали кинжалом? Кинжалом с рукояткой, инкрустированной рубинами, например. Или что она утонула в озере?
– Не знаю. Не знаю! – с раздражением повторил писатель. – Понимаете, это был экспромт… Может быть, я подумал что-то вроде того, что такая театральная обстановка придется ей по душе. То есть я не думал, так сказать, осознанно… И я совсем не хотел ее обидеть, потому что некоторые люди обижаются, если сказать, что кто-то хочет их смерти, пусть даже в виде шутки. Например, Клавдия Петровна на меня обиделась, я знаю…
– Когда Евгения Викторовна стала спрашивать, почему ее убили, ее муж еще так странно на тебя посмотрел… – подала голос Антонина Григорьевна.
– Что? – Ергольский резко повернулся в сторону жены. – Ах да… Я чуть было не сделал глупость, не сказал, что все случилось… случится из-за ревности… Пришлось прибегнуть к театральным интригам, чтобы объяснить убийство, хотя этот мотив, прямо скажем, не так уж и интересен…
Глава 9. Некто
– То есть изначально вы хотели предложить версию, в которой госпожу Панову убивает кто? Муж или любовник? – допытывался следователь.
– Нет, все совсем не так прямолинейно. – Ергольский поморщился. – Подозревать должны были их обоих, потому что только у них есть мотив. В конечном итоге выяснится, что было третье лицо, которое питало тайную страсть к госпоже Пановой.
– И кого вы собирались назначить на роль этого лица?
– Никого. Я не успел дойти до этого места… мне пришлось предложить совсем другую версию. И Евгения Викторовна загорелась этой идеей…
– Вот как?
– Да, она спросила, не хочу ли я написать пьесу на этот сюжет… Но я не пишу пьес.
Игнатов кивнул, словно такое положение вещей его вполне устраивало, и задал следующий вопрос – о том, кто мог слышать рассуждения Матвея Ильича по поводу убийства.
– Все, кто находился в гостиной.
– И больше никого?
– Не думаю, чтобы… Кто еще мог там быть? Слуги? Но у наших слуг нет привычки подслушивать под дверями…
– Может быть, кто-нибудь был в саду?
– Понятия не имею. Я смотрел только на своих слушателей. Понимаете, только по лицам людей можно понять, интересует их история, которую ты рассказываешь, или нет…
Журналист вздохнул.
– Очень жаль, что ваша прислуга не имеет привычки подслушивать и что в саду не было посторонних, – многозначительно уронил он. – Потому что это означает, что все мы находимся под подозрением.
– Георгий Антонович, вы шутите? – вырвалось у Антонины Григорьевны.
– Боюсь, что господин Чаев верно изложил суть проблемы, – заметил следователь. – Потому что воплотить фантазию Матвея Ильича в жизнь мог только тот, кто ее слышал.
– В этом месте твоих романов все обычно разражаются возмущенными восклицаниями, – вставил журналист, обращаясь к другу. – А заодно, как правило, выясняется, что ни у одного из подозреваемых нет алиби. Когда, кстати, произошло убийство?
– Судя по всему, между полуднем и двумя часами с четвертью. Вскрытие еще не делали.
Услышав слово «вскрытие», Антонина Григорьевна содрогнулась.
– С утра мы с Матвеем Ильичом отправились на охоту, – объявил Чаев, насмешливо косясь на следователя. – Вернулись, когда стало совсем припекать, после двенадцати.
– В половине первого, – вставила Антонина Григорьевна. – Я смотрела на часы.
– Чем вы занимались потом? – спросил Игнатов.
– Потом? Потом… погодите-ка… Мы перекусили на скорую руку, а потом я был у себя, читал газеты.
– Один?
– К вашему сведению, милостивый государь, я еще не разучился читать, – парировал журналист. – Да, я был один.
– А вы, Матвей Ильич?
– Я правил роман.
– Тоже один? Никто при этом не присутствовал?
– Разумеется, нет! Что за вопрос!
– Матвей Ильич не может работать, когда в комнате находится кто-то еще, – пришла ему на выручку жена.
– Боюсь, Антонина Григорьевна, вам тоже придется отчитаться, где вы были и что замышляли, – повернулся к ней Чаев. – Лучше всего, конечно, если вы все время находились у кого-то на виду.
– Но этого не было! – вырвалось у Антонины Григорьевны. – Я хочу сказать, я, конечно, отдавала указания слугам, ходила по дому, потом разбирала цветы, но… но ведь были моменты, когда я оставалась одна… В конце концов, это был самый обычный день!
– Боюсь, что нет, – отозвался журналист. – Для этих каналий, моих коллег, день, о котором вы говорите, станет днем, когда закатилось солнце русской сцены. Муза трагедии – как бишь ее, забыл – оделась в траур, завсегдатаи театров скорбят и прочая бойкая чепуха, за написание которой платят по пятаку за строчку.
– Разве Панова играла в трагедиях? – вяло спросил писатель. – Я, помнится, видел ее только один раз – в водевиле.
– Собственно говоря, она сносно смотрелась только в водевилях и комедиях, – хмыкнул его собеседник. – Но у нее не было чувства меры, и ее постоянно заносило в серьезную драматургию, в трагедии. Хотя и Шекспир, и наш Островский прекрасно бы без нее обошлись…
И тут кроткая обычно Антонина Григорьевна не выдержала.
– Как вы можете, Георгий Антонович, как вы можете? – почти закричала она на опешившего журналиста. – Евгения Викторовна ведь не только актриса была – она человек, женщина, мать, в конце концов! И ее убили! А вы сидите тут, зубоскалите, как будто произошло что-то невероятно смешное…
Чаев смутился.
– Антонина Григорьевна, голубушка, ну ей-богу… Ну простите великодушно, если я где-то хватил через край… Просто все это так странно… мы вчера так мирно сидели… И вот… У меня просто в голове не укладывается! – с жаром добавил он, словно только эти слова и могли все объяснить.
Иван Иванович вмешался и попросил еще раз хорошенько подумать, прежде чем ответить. Верно ли, что никто из посторонних не мог слышать фантазии Матвея Ильича по поводу убийств? Не обсуждали ли присутствующие с кем-либо еще то, что услышали вчера? Есть ли в доме огнестрельное оружие, кроме охотничьих ружей, и не мог ли Ергольский описать в своей истории реальный револьвер, который раньше где-то попадался ему на глаза?
– Нет, нет и еще раз нет! – Писатель сердито мотнул головой. – По правде говоря, револьвер с перламутровой рукояткой – один из расхожих штампов, вроде того кинжала с рубинами, о котором вы давеча рассуждали…
– Как давно вы знакомы с госпожой Пановой?
– С тех пор, как она приехала в имение баронессы Корф, – отозвался Ергольский. – Две или три недели, точнее не помню. И предваряя ваш вопрос о том, имелись ли у кого-либо из нас причины ее убивать, я вынужден ответить отрицательно.
– Я бы предпочел все же, чтобы вы говорили за себя, – не удержался следователь.
– Ах, да полно вам! – Матвей Ильич махнул рукой. – Это только в романах убийцей всегда оказывается самое неожиданное лицо. А в жизни ищите ближе, ищите мотив, и не ошибетесь!
– Иными словами, вам известно, кто может быть убийцей?
– Как я могу это знать? – вскинулся Ергольский. – В конце концов, я работал у себя, когда все это произошло!
– Разумеется, поэтому я и сказал – может быть, а не является. Итак? Вы ведь хорошо знали всех ваших гостей. Так кто из них, Матвей Ильич, кажется вам наиболее вероятным кандидатом?
– Черт знает что, – буркнул писатель, пожимая плечами. – Кто, гм… н-да. Тоня!
– Да?
– Как по-твоему, кто это может быть? Потому что я в затруднении, честно говоря.
– Или муж, или любовник, – подсказал Чаев. – Больше просто некому. Потому что, прости меня, но твоя версия про соперницу и театральные интриги…
– Хорошо, но зачем Ободовскому убивать Евгению Викторовну? Она открыто ему протежировала, благодаря ей он стал играть первые роли. И – ты уж прости меня – но не производит он впечатления человека, который способен срубить сук, на котором сидит.
– Ну, если не Ободовский, значит, Колбасин, – легко согласился журналист, косясь на молчаливую Антонину Григорьевну. – Муж убил жену – сколько я когда-то описывал таких случаев для газетной хроники…
– Тоже глупо, – возразил Ергольский, подумав. – Он же первый подозреваемый, по всем статьям. Зачем так рисковать? Хотел бы он от нее избавиться, так ведь он с ней живет. Подсыпал бы ей в суп мышьяка, и дело с концом. И никто бы его даже не заподозрил.
– Боже мой, Матвей, – печально промолвила Антонина Григорьевна, – и ты туда же! Не стал бы Анатолий Петрович никому ничего подсыпать – из-за Павлуши… Как можно лишать своего сына матери? Ты просто не понимаешь, что говоришь!
– Похоже, следствие в тупике, – хмыкнул журналист, косясь на невозмутимое лицо Игнатова, который чем-то его неуловимо раздражал. – Итак, дамы и господа, делайте ваши ставки! В качестве подозреваемых имеются: знаменитый писатель…
– Жора!
– Не перебивай, иначе я никогда не кончу. Итак, у нас есть знаменитый писатель, известный журналист, супруга писателя, муж жертвы, любовник жертвы, сын жертвы, приятель сына, затем поэт-неудачник, его незамужняя кузина – дама всех и всяческих достоинств и под конец – сосед-промышленник и его прелестная дочь. – Чаев перевел дыхание. – Итого одиннадцать персон. Лично я никого не убивал и знаю это совершенно точно, поэтому я отпадаю сразу же. Матвей, конечно, способен убить кого угодно, но только в своем романе. Антонина Григорьевна…
– Я тоже никого не убивала, – твердо промолвила женщина. – Смело можете обо мне забыть.
– Что вы, Антонина Григорьевна, забыть вас – никогда! Тем не менее, разумеется, вы никого не убивали. Идем дальше. Свистунов и Клавдия Петровна – мимо: никакого мотива, к тому же такие решительные дамы, как она, могут только сотрясать воздух, а в жизни не обидят и мухи. О Башилове я знаю много чего интересного, и он, конечно, мерзавец, но не такой, чтобы убить женщину. Вот разорить конкурента и пустить его с семьей по миру – это он может. Его дочь – нет мотива, кроме того, она по уши влюблена в своего молодого человека и вряд ли вообще замечала Панову, будь та хоть сто раз звезда сцены. Серж Карпов – нет мотива, кроме того, он тоже влюблен…
– Скажите, что вам известно о его семье? – быстро спросил следователь, пока течение беседы не увело их далеко от интересующего Игнатова вопроса. – Кажется, его мать пишет рецензии, если я правильно понял…
– Псевдоним «Филомела», – кивнул Чаев. – Муж ее не то благоразумно умер, чтобы не стеснять артистические склонности своей жены, не то сбежал. – Он устроился в кресле поудобнее, в глазах его блестели хорошо знакомые Ергольскому колючие огоньки. – Что же касается мадам Карповой, то ее портрет я могу набросать вам в две минуты. Есть такая категория людей, которые жить не могут без искусства. То есть искусство-то без них прекрасно бы обошлось, но вот они без него – никак. У них просто такая жизненная потребность – во что бы то ни стало тереться возле него. Таланта у них при этом нет никакого, и они обычно занимаются мелкой поденщиной: стряпают статьи о художниках, которых никто не знает, о поэтах, которых никто не хочет читать, и раз в полгода обязательно совершают открытие. К примеру, Иванов удачно попиликал на скрипочке – давай произведем его в гении, или Петров выпустил пару сонетов – чем черт не шутит, может, он тоже гений? Люди, о которых я говорю, постоянно пылают священным жаром, бегают с выставки на выставку, читают все, что только можно, и непременно где-нибудь на улице хватают вас за рукав, чтобы поведать об очередном гении, которого они – как им кажется – открыли. При этом наши открыватели всегда живут в скверной, дрянной обстановке, прислуга их презирает, кухарка – обсчитывает, и их артистический пыл всем в тягость и всех раздражает, потому что на самом-то деле они толком ни в чем не разбираются и в голове у них – чудовищная каша из чужих цитат и чужих мнений, которые им кажутся до ужаса оригинальными. Поначалу с непривычки эти люди могут показаться искренними и увлеченными, но стоит познакомиться с ними поближе, и вы пожалеете, что родились на свет. В своей бескорыстной любви к искусству они не щадят никого. Например, Сережу в детстве мать таскала к каким-то композиторам, потому что решила, что он будет музыкантом, и непременно великим. Потом ей вдруг открылось, что его призвание – литература, и она замучила всех его детскими опусами, которыми непременно надо было восхищаться. Потом ей стало не до того, потому что она увлеклась идеями графа Толстого – непротивление злу, опрощение и всякое такое – и, кажется, сшила себе сарафан и кокошник, чтобы ходить в них по Петербургу, но знакомые ее переубедили. Пару лет назад она переключилась на театр… Вы знаете Щукина, драматурга?
– Слышал о таком, – кивнул следователь.
– Щукин – графоман и плагиатор, – на всякий случай пояснил журналист, – причем неясно, чего в нем больше: первого или второго. Всем отлично известно, что все свои успешные пьесы он без зазрения совести таскал у французов[153]. Ну-с, наша Филомела и тут отличилась: тиснула статейку о том, что какая-то его комедия до странного напоминает один французский водевильчик, даже реплики те же самые. Скандал вышел ужасный – вы же понимаете, плагиатом могут заниматься только мелкие и неизвестные авторы, а тут – Щукин! Как ни крути, величина, хоть и лилипутского порядка, но все литераторы с ним обедали, для них он свой, как же дать в обиду собрата?
– И чем все закончилось? – с любопытством спросила Антонина Григорьевна.
– Да ничем, – пожал плечами Чаев. – Публика пошумела и решила, что это проблемы французского автора, если его пьеса похожа на пьесу Щукина, и вообще, может, это француз занимался плагиатом, а не наш писатель. В принципе, госпоже Карповой скандал тоже пошел на пользу, потому что ее заметили и повысили плату за ее статьи. Она до сих пор вся увлечена театром и не сегодня завтра грозится открыть нового великого драматурга. Только если вы меня спросите, не попросила ли она Сержа в качестве семейного одолжения прикончить Панову за бездарное исполнение роли Федры, я вам сразу же скажу, что все это вздор. Я неплохо знаю эту семью и уверяю вас, что хотя мать там крайне экзальтированна, ее сын – чрезвычайно здравомыслящий молодой человек. И поскольку он тоже отпадает, в качестве подозреваемых у нас остаются только трое: муж и сын Колбасины и Ободовский. – Журналист недовольно покрутил головой и замолчал.
– Продолжайте, пожалуйста, – тихо попросил Иван Иванович.
– Да глупости это все, – отмахнулся Чаев. – Не те это персоны, чтобы пойти на хладнокровное убийство. Думается мне, господин Игнатов, что вы что-то упустили. Был еще кто-то, кто слышал наш невинный вчерашний разговор или узнал о нем. И этот кто-то и есть настоящий убийца.
По правде говоря, Игнатову не понравилось, что его собеседники, такие неглупые и вроде бы вполне откровенные люди, тоже пытаются приплести к делу постороннее лицо. Тем не менее он сказал:
– Все, с кем я разговаривал до вас, уверяют, что ни с кем не обсуждали вчерашнюю беседу. Прислуга, по вашим словам, не могла вас слышать, в саду тоже никого не было. Так как же мне быть?
– Вы забыли о Евгении Викторовне, – вмешался писатель. Следователь повернулся к нему, не понимая, куда клонит Матвей Ильич.
– Вы опросили тех, кто остался в живых, – пояснил Ергольский, волнуясь. – Но вы не можете знать наверняка, что госпожа Панова ни с кем не делилась… скажем так, планами убийства. И когда этот человек понял, какие возможности перед ним открываются, он решил рискнуть – и…
– А ведь верно! – вырвалось у Чаева. – Она могла проговориться кому-то… она была болтлива, как все актрисы, и ничего не умела держать при себе…
– Да, но кто это мог быть? – быстро спросил Игнатов. – В конце концов, мы говорим об усадьбе, где все люди находятся на виду…
– Полагаю, это уже ваше дело установить, с кем она общалась, – пожал плечами журналист. – Уверен только в одном: с кем бы она ни откровенничала, этот человек должен был здорово ее ненавидеть, если решился на такое!
Глава 10. Короткая остановка в раю
Андрею Григорьевичу Башилову несколько месяцев назад исполнилось 50 лет. О его деловой хватке среди конкурентов ходили легенды, и бытовало мнение, что он ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. Он был неглуп, а временами даже чертовски умен, получил неплохое образование и умел при случае произвести выгодное впечатление. Выглядел он как петербургский франт, которым, в сущности, и являлся. Он принадлежал к числу тех счастливчиков, которые могут заговорить с незнакомой дамой на улице или в театре и за пару фраз добиться того, что на него будут смотреть благосклонно и даже весьма благосклонно. Стоит добавить, что Андрей Григорьевич был щедр и не скупился, жертвуя на благотворительность. Однако, несмотря на все эти положительные качества, друзья Башилова, враги Башилова, его женщины, родственники и знакомые в откровенном разговоре с посторонними всегда аттестовали его одинаково: мерзавец.
О, само собой, он не принадлежал к числу тех мерзавцев, которые по ночам высматривают одиноких прохожих, чтобы убить их и ограбить. Злодейство в шекспировском духе было вообще ему чуждо, потому что Андрей Григорьевич был человек современный и понимал, что нет никакой нужды убивать человека, чтобы уничтожить его. Цивилизация создала массу других, куда более тонких способов устранения неугодных – без крови, без внешних проявлений жестокости, которые так коробят чувствительные души. И с теми, кто по какой-либо причине сделался ему неугодным, Андрей Григорьевич расправлялся по-современному, то есть деловито, хладнокровно и почти незаметно.
В делах он не признавал соперников и был готов на все, чтобы избавиться от конкурента. В ход шли клевета, подкуп, заказные статьи в прессе и, само собой, высокие связи. И, хотя наверху были отлично осведомлены, что собой представляет Башилов, ему все же нередко шли навстречу, потому что некоторые из его предприятий имели военное значение.
Как нередко случается с такими людьми, он потерпел неудачу там, где вовсе этого не ожидал. Его жена, некогда одна из первых петербургских красавиц, взбунтовалась и завела любовника – преподавателя своей дочери. Узнав об этом, Андрей Григорьевич поначалу не поверил своим ушам. Конечно, сам он вовсе себя не стеснял и содержал любовницу, причем не одну, но одно дело, когда из семьи налево ходит мужчина, и совсем другое, когда этим занимается женщина. Окажись любовником Нины Алексеевны какой-нибудь министр или другой полезный человек, Башилов бы, возможно, еще мог смириться со своим положением, но учитель французского! Это было просто смехотворно, нелепо, глупо и вообще придавало всей истории совершенно непристойный вид.
Хотя Башилов, как уже упоминалось, был вовсе не глуп, он опрометчиво решил, что ему быстро удастся образумить жену и вернуть ситуацию в исходное положение. К Нине, в сущности, он не имел никаких претензий. Она служила прекрасным украшением дома, с ней ему было не стыдно показаться на любом приеме, и к тому же она обожала их дочь Наташу и являлась образцовой матерью. По отношению к жене Андрей Григорьевич был любезен, предупредителен и щедр. Он не жалел денег на подарки и дарил Нине украшения, за которые вы, я и весь остальной свет отдали бы душу без особых раздумий. В общем и целом он считал, что жене не за что его корить, ну а что он содержит актрису-француженку из Михайловского театра[154], то это вообще не имеет смысла обсуждать, потому что так делают все, потому что это ничего не значит и потому что уходить из семьи он все равно не собирается. Ему казалось – да что там казалось, он попросту был уверен, что все эти доводы должны Нину убедить. Пусть она выставит за дверь своего учителя, и Андрей Григорьевич благородно согласен закрыть глаза на ее поведение и кроме того, подарить ей бриллиантовый гарнитур, который не всякая принцесса может себе позволить. И Башилов совершенно искренне был удивлен, когда жена дала ему понять, что между бриллиантами и любовью она выбирает любовь.
Как и многие недобрые люди, Андрей Григорьевич любил повторять:
– Видит бог, господа, я человек совсем не злой!
Вот и тут он задумчиво уронил, глядя на жену:
– Ей-богу, Нина, я человек совсем не злой… Но ты просто не оставляешь мне другого выбора.
С его точки зрения, жена посмела выступить против него, то есть превратилась в соперника, которого надо поставить на место. И Башилов взялся за дело.
О нет, он не стал вызывать незадачливого учителя на дуэль, не пытался пронзить его на улице кинжалом, инкрустированным рубинами, или переехать колесами своего экипажа. Все было совершенно иначе: вдруг ни с того ни с сего выяснилось, что бумаги господина учителя, прежде безупречные, оформлены как-то не так, и вдобавок ко всему он сделался подозреваемым в какой-то незначительной краже. Кроме того, поползли мутные слухи, что учитель – личность темная, за которой не худо бы глаз да глаз, и вообще от греха подальше следовало бы выслать его на родину.
Само собой, в конце концов так и получилось: учителю пришлось уехать. Увидев заплаканное лицо жены, Башилов торжествовал. Нет, он не пытался ее унизить, не говорил о своей победе, не ронял многозначительных намеков; но все, что он ощущал в эти мгновения, было настолько явно написано на его лице, что Нина поглядела на него и, содрогнувшись, отвернулась. Если до того момента она еще колебалась, то сейчас она решилась окончательно.
Мягких людей принято недооценивать, потому что многие забывают, что мягкость – это внешние проявления натуры, которые удобны лишь до поры до времени, а когда они начинают мешать их обладателю уж слишком сильно, он вполне способен их отбросить и показать такой характер, что мало никому не покажется. Через некоторое время Башилов отправился инспектировать один из своих заводов, перекупленных у конкурента, а когда вернулся, узнал, что жена забрала Наташу и укатила к любовнику за границу.
О том, что случилось дальше, в Петербурге ходили самые противоречивые слухи, но ясно одно: Андрей Григорьевич понял, что жена окончательно стала ему врагом, и решил, что так этого не оставит. А так как речь вдобавок шла о Наташе, которую он очень любил, он взялся за дело с удвоенной энергией.
Последующие несколько лет, судя по всему, были полны бесконечных склок, тяжб, скандалов и тяжелейших выяснений отношений. Башилов пустил в ход все свое влияние, все рычаги, на которые был способен надавить. Уверяли, что дело дошло до того, что он будто бы заплатил много денег некой темной личности с заданием прикончить соперника; что он пытался лишить жену средств к существованию и довести ее до нищеты, чтобы она одумалась. Ходили слухи и о том, что Башилов собирался нанять людей, чтобы выкрасть Наташу, и еще много всяких сплетен одна сочнее другой. Кончилось все тем, что Андрей Григорьевич все-таки дал жене развод, на который ранее упорно не соглашался, но взамен забрал Наташу и привез ее в Россию. В разговорах с друзьями он сообщил, что больше никогда и ни за что не женится, что, впрочем, не помешало ему почти сразу же после возвращения завести очередную любовницу – какую-то певицу. Но следует отдать Башилову должное: он остался таким же внимательным и заботливым отцом, каким был до развода, и следил за тем, чтобы Наташа ни в чем не нуждалась. Когда домашний врач обратил внимание на то, что девушка выглядит бледной и анемичной и посоветовал несколько месяцев в году проводить в деревне, Андрей Григорьевич сразу же забросил все дела и стал искать подходящую усадьбу. Ему очень понравились «Кувшинки», но баронесса Корф наотрез отказалась их продавать, и Башилову пришлось удовольствоваться соседней усадьбой, которая нравилась ему меньше, но где тем не менее можно было прекрасно провести летние дни.
Услышав о планах отца, Наташа (после заграницы ее часто называли Натали, на французский манер) поначалу не проявила энтузиазма.
– Будем жить вдвоем, по-простому, – живописал Андрей Григорьевич, ласково глядя на нее. (Слуги, само собой, в расчет не принимались.) – Рядом лес, озеро, если захочешь, я лошадку тебе куплю, можешь кататься верхом…
Натали потупилась. В прошлом она была свидетельницей слишком многих тяжелых сцен в семье и инстинктивно мало доверяла отцу, хоть и чувствовала, что он готов ради нее расшибиться в лепешку. Сельский отдых ее не привлекал, но в городе она не знала, чем заняться, а за границу отец бы ее не пустил, потому что там жила мать со своим вторым мужем и тремя их общими детьми. Подруг у Натали не было, если говорить о той задушевной дружбе, которая случается только между очень молодыми людьми. Она была болезненно застенчива, замкнута и с трудом шла на контакт с теми, кого мало знала; кроме того, Натали унаследовала от отца его наблюдательность и отлично понимала, что те, кто набивается ей в подруги, чаще всего завидуют ей и одновременно презирают ее родителей.
– Наверное, твои управляющие будут к нам приезжать каждый день, как здесь, – пробормотала она. – И никакого отдыха не получился.
Башилов засмеялся и тряхнул головой.
– Клянусь, нас никто не потревожит! Ну что? Ты согласна?
Проще было согласиться, чем настаивать на своем, тем более что сама она толком не знала, чего хочет. И Натали согласилась.
Ей не пришлось жалеть о своем выборе, потому что, когда они приехали, поэтическая красота природы захватила девушку, а кроме того, оказалось, что по соседству живет знаменитый писатель Ергольский. Натали робела перед знаменитостями, но Матвей Ильич ей понравился. Он держался очень приветливо, с достоинством, но без надменности и при первой же встрече согласился надписать ей книжку, которую она, краснея, протянула ему.
– Так-с, ну и что тут у нас? Роман «Счастье»… превосходно…
Своим размашистым, беглым, но хорошо читаемым почерком он написал: «Счастье – это короткая остановка в раю», подписался и вернул книгу Натали. И эти простые слова, в которых вроде бы не было ничего особенного, произвели на нее такое впечатление, что она потом все время мысленно к ним возвращалась.
Счастье! Была ли она когда-нибудь счастлива, в самом деле? И будет ли? Перебирая всю свою жизнь, Натали вовсе не была уверена ни в первом, ни во втором…
Но тут в другое имение по соседству – то самое, которое отец пытался приобрести, но так и не сумел, – въехала актриса Панова со своей свитой. И стоило Натали увидеть Сережу Карпова, посмотреть в его глаза, дотронуться до его руки, как она убедилась, что счастье определенно существует – и кусочек его существует даже для нее, только для нее.
Андрей Григорьевич с изумлением наблюдал за преображением своей дочери. Куда-то подевались и ее болезненная застенчивость, и упорное нежелание общаться с посторонними. Она больше не краснела, стоило ей вступить в разговор; ее глаза блестели совсем по-другому, и она стала интересоваться модами и платьями, хотя раньше упорно одевалась в черные и серые тона, которые ей не шли совершенно. Для Башилова, конечно, не стала секретом причина всего происходящего, и он был достаточно умен, чтобы воспринять ее всерьез. Дочь влюбилась – так и должно быть; надолго или нет – покажет время; ее избранник, конечно, из небогатой семьи, но вроде бы приличный юноша и на шалопая не похож. Если бы он осмелился обидеть Натали или причинить ей горе, то Андрей Григорьевич растерзал бы его – цивилизованно, как уже говорилось, но от того не менее успешно. Однако сегодня, увидев, как Натали и Серж после прогулки на лодке медленно идут по тропинке к дому – идут, как всякие влюбленные, так, словно мир существует только для них, а может быть, не существует вовсе, – Башилов ни с того ни с сего поймал себя на мысли: «А ведь ее мать тоже придется пригласить на свадьбу…»
И он неожиданно расстроился – но не из-за воспоминания о жене и не из-за безобразных ссор, которые у них были; и уж, само собой, не из-за случайной мысли о свадьбе дочери, которую обожал. Он вдруг понял, что его время уходит; сегодня он отец невесты, через несколько лет будет возиться с внуками (он в жизни не представлял, как другие мужчины могут тратить на это свое время, а теперь думал об этом с нежностью и умилением). Серж учится на инженера путей сообщения, это хорошо, но не бог весть что, и Башилов, разумеется, поможет ему с карьерой, научит всему, что знает, и передаст свои дела, когда настанет срок. Да, когда настанет срок…
Он поспешил уйти, чтобы не мешать юным влюбленным; он чувствовал себя так, словно стоит у них на пути, и в то же время за ними было будущее, а он – ну что он? – обыкновенный делец, только жестче, чем многие другие. Отчего-то ему было грустно, хотя грусть он испытывать не привык – люди его склада в основном живут другими эмоциями и на другом их уровне.
В кабинете он занялся пришедшими к нему письмами и телеграммами. Завтра должен был приехать управляющий заводом в Ревеле, и Башилов усмехнулся, вспомнив, что собирался его уволить. Ну что ж, если Наташа так счастлива со своим студентом, можно будет пока не увольнять, в конце концов…
Андрей Григорьевич написал несколько писем, одно, очень длинное и учтивое, но холодное – своей матери, которую не любил и которая никогда не одобряла ни его занятий, ни его женщин, ни даже его богатства, которое позволяло ему спокойно пренебрегать ею. Это письмо пришлось переписывать несколько раз, потому что на самом деле Башилов хотел писать не о погоде и не о соседях, а о том, что он постарел и все же счастлив, раз Наташа счастлива. Андрей Григорьевич не был суеверен, но все же он постарался не оставить в тексте ни намека на то, что его дочь кого-то встретила и что, судя по всему, это серьезно. Он так и видел, как мать скептически поджимает губы, читая строки о своей внучке, и от одной мысли об этом его глаза потемнели.
Дописав письма и заклеив конверты, он позвонил в колокольчик. Вошел лакей, которого Башилов привез из Петербурга, и хотя голова Андрея Григорьевича была занята совсем другим, он сразу же заметил, что слуга встревожен.
– Письма отправить, и как можно скорее. Что? – спросил Башилов, видя, что лакей медлит и не уходит.
– Говорят, актрису Панову убили, – решился лакей. – Следователь уже там.
Башилов откинулся на спинку стула.
– Кто убил? Где там?
– Прямо в доме, Андрей Григорьевич… В «Кувшинках». Говорят, застрелили ее. Из револьвера. И самое странное, до сих пор не могут понять, кто это сделал.
Глава 11. Лицо в окне
Когда следователь Игнатов добрался до усадьбы Башилова, уже начало темнеть, и в высокой траве тревожно поскрипывали кузнечики.
Хозяин принял незваного гостя сразу же, но, увидев замкнутое лицо промышленника, Иван Иванович мысленно приготовился к тому, что придется нелегко.
Он назвался и хотел было объяснить цель своего визита, но Башилов оборвал его.
– Слышал, слышал уже новость… Госпожа Панова – или ее правильнее называть все-таки Колбасина, по мужу? – была убита в точности так, как вчера описывал господин Ергольский. – Андрей Григорьевич усмехнулся и покачал головой. – Право, я не понимаю, зачем вы пришли сюда, потому что я, конечно, не имею никакого отношения к этому печальному происшествию…
– Вот как? То есть у вас имеется алиби с полудня до двух часов с четвертью?
Башилов поморщился.
– Ну, если вам так угодно знать, где я был, то я не покидал усадьбу. Хотя вру: один раз я спустился к озеру, – поправил он себя.
– Зачем?
– Что – зачем?
– Зачем вы были у озера?
– Какие у вас странные вопросы, – сердито бросил Башилов. – Зачем, зачем… Затем, что моя дочь ушла кататься на лодке, и я хотел убедиться, что… кхм… Словом, что с ней все в порядке.
– То есть вы видели вашу дочь?
– Да.
– Она была одна?
Отчего-то рассердившись еще сильнее, Башилов тем не менее указал, что дочь была с Сержем.
– Я готов оказать вам какое угодно содействие, – добавил он быстро, – но я прошу вас не впутывать Наташу в это дело.
Иван Иванович очень внимательно посмотрел на своего собеседника. Интересно, отчего уважаемый промышленник так волнуется?
– К сожалению, – промолвил следователь, – ваша дочь является свидетелем… Поэтому мне необходимо с ней поговорить.
– Свидетелем чего? – вспылил Андрей Григорьевич. – Вчерашнего дурацкого разговора? О нем вам наверняка уже все известно…
– Она должна подтвердить, что Сергей Карпов находился с ней тогда, когда произошло убийство.
– Ну так я вам это подтверждаю, я видел их обоих!
– Вы и в лодке с ними были, и по озеру катались? – Иван Иванович покачал головой. – Нет, Андрей Григорьевич, так не пойдет…
Промышленник побагровел.
– Пошел вон! – неожиданно выпалил он злобным шепотом.
– Что? – изумился следователь.
– Я сказал, пошел вон! Мальчишка! Я не позволю тебе допрашивать мою семью! Я… я людей позову, чтобы они выкинули тебя отсюда! Наглец!
– Папа, что происходит?
Запоздало обернувшись, Башилов увидел дочь, стоящую в дверях. Наташа была бледна и дрожала всем телом, переводя взгляд с него на незнакомого молодого человека, стоящего в гостиной.
– Господин Игнатов уже уходит, – буркнул Башилов.
Но при появлении дочери он словно сдулся, как проколотый шар, и вся его воинственность куда-то делась. «Интересно, – подумал заинтригованный Иван Иванович, – почему он не хочет, чтобы я говорил с его дочерью? Ведь не собираюсь же я съесть ее, в конце концов…»
– Вы из-за Евгении Викторовны, да? – умоляюще спросила Наташа, обращаясь только к следователю.
Башилов сдался и, напоследок бросив на Игнатова свирепый взгляд, отошел к столу и налил себе из графина водки.
– Так вам уже известно? – спросил Иван Иванович.
– Мне горничная сказала.
– И вы знаете, как ее нашли?
– Да. – Наташа содрогнулась. – Все было точно так, как описал Матвей Ильич.
– Из чего можно сделать вывод, что убийцей был тот, кто слышал его рассказ. Поэтому я обязан, – Иван Иванович ненавязчиво подчеркнул голосом слово «обязан», – опросить всех, кто тогда находился в гостиной.
– Могли бы не утруждать себя, – злобно фыркнул Башилов. Но тут водка попала ему не в то горло, и он громко закашлялся.
– В сущности, у меня всего несколько вопросов, – продолжал следователь, твердо решив не обращать внимания на выходки хозяина дома. – Прежде всего, мог ли вчера вечером кто-то еще слышать господина Ергольского? Я имею в виду кто-то, кроме гостей?
– Мог, – серьезно ответила Натали.
– Что вы имеете в виду?
– Там была женщина. В саду.
Башилов наконец-то перестал кашлять и прислушался.
– Женщина? – переспросил Игнатов.
– Да. Я сидела напротив окна, поэтому мне хорошо было видно. В саду была женщина.
– Кто именно?
Натали пожала плечами.
– Я никогда прежде ее не видела.
– Может быть, это кто-то из прислуги?
– Нет, – тотчас же ответила девушка. – Она по-другому была одета.
– Как?
– В городское платье. Я думаю, она следит за модой, потому что сейчас в моде воланы тут и тут, – Натали, порозовев, быстро показала на себе, где именно. – Но само платье не новое, хотя, может быть, мне так показалось…
– Может быть, вы и цвет его запомнили?
– Да. Платье было синее.
Странно, что она не сказала «в мелкий цветочек» или что-нибудь в этом роде, мелькнуло в голове у следователя. Он всегда подозревал, что лгущую женщину выдает обилие ненужных деталей. А вообще ему было немного неприятно, что эта милая застенчивая девушка тоже решила принять участие в маленьком заговоре и поддержать спасительную версию о постороннем, который мог слышать убийственный – во всех смыслах – экспромт Ергольского.
– Скажите, у дамы, которую вы видели, был зонтик? – коварно осведомился Иван Иванович.
Он был почти убежден, что Натали подхватит его версию и не преминет описать также и зонтик. Но девушка решительно покачала головой.
– Нет. У нее в руках была только сумочка.
– Как она выглядела?
– Я не успела разглядеть… Мне показалось, это была обыкновенная дамская сумочка. Я ее заметила, когда она… та женщина… махнула рукой. Сумочка висела у нее на запястье.
– Махнула рукой? – озадаченно переспросил следователь.
– Понимаете, сначала она, ну, та дама стояла возле кустов сирени, а потом я заметила, что она подошла поближе, поднялась на цыпочки и заглядывает в наше окно. Как будто она кого-то искала… И она сделала такой быстрый жест, махнула рукой кому-то, кто находился в комнате.
– Вы заметили, кто это был?
– Я… Нет. Мне, честно говоря, интереснее было слушать разговор…
– Я вас понимаю. Скажите, Наталья Андреевна, как долго эта дама находилась в саду?
– Не знаю. Я не видела, как она уходила. Я бы вообще о ней не вспомнила, если бы не то, что произошло сегодня…
В комнате наступило молчание, было только слышно, как тяжело дышит Башилов.
– Скажите, Андрей Григорьевич, – обратился к нему следователь, – а вы видели кого-нибудь в саду?
– Если там кто и был, я не обратил внимания, – отозвался хозяин дома.
Немудрено, подумала Наташа. Ведь отец почти все время смотрел или на Панову, или на Ергольского, когда тот брал слово.
– Наталья Андреевна, – серьезно промолвил следователь, – мне понадобится описание внешности той женщины, которую вы видели в саду. Если вы в чем-то не уверены или…
Он собирался дать ей понять, что для ее же блага ей лучше не пытаться ввести следствие в заблуждение, но Натали не дала ему закончить.
– Ей меньше тридцати, – решительно сказала она. – Брюнетка. На ней была такая, знаете, заметная шляпка…
– Шляпку вы не упоминали, – не удержался следователь.
– Правда? Просто я забыла. – Натали неожиданно улыбнулась и враз стала еще краше, чем была. – Шляпа с перьями, очень яркая. Я и разглядела эту даму потому, что обратила внимание, как перья колышутся в сумерках…
И тут, надо признаться, Иван Иванович засомневался. Может быть, Натали действительно кого-то видела? Он считал, что одна из главнейших обязанностей следователя – чувствовать фальшь там, где она есть, но в рассказе о том, как девушка увидела в саду перья шляпки и только поэтому обратила внимание на женщину под шляпкой, не было ровным счетом ничего фальшивого…
– У нее есть какие-нибудь особые приметы?
– Да. Перья розовые и, кажется, черные. Может быть, коричневые, но мне кажется, все-таки черные. Пришиты сбоку, а у основания что-то вроде броши, понимаете?
– Я имел в виду ту даму, – сдержанно уточнил следователь.
– Ах! Ну да, конечно… – Натали задумалась. – Нет, у нее не было ни шрамов, ни родинок. Но она была накрашена, – с надеждой прибавила девушка, косясь на следователя.
– Какая-нибудь поклонница Матвея Ильича, не иначе, – не удержался Башилов.
– Я тоже так подумала, потому и не обратила внимания на ее появление, – серьезно сказала Наташа. – Но теперь я думаю, что она пришла туда не из-за господина Ергольского.
– Почему? – быстро спросил Игнатов.
– Понимаете, когда она махала рукой, это было для кого-то, кто ее видел, а Матвей Ильич в тот момент отвернулся от окна.
…Слушая ее, Иван Иванович разрывался между желанием поверить – и нежеланием оказаться одураченным. Женщина в синем платье. Женщина в яркой шляпке. Женщина с сумочкой.
С сумочкой, в которой, может быть, уместится дамский револьвер с перламутровой рукояткой? А почему бы и нет, собственно говоря…
Ясно одно: если эта дама вчера была в саду Ергольского, значит, ее надо найти. Не могла же она появиться из ниоткуда…
– Может быть, потому и отвернулся, что не хотел ее видеть, – желчно предположил Башилов.
– Скажите, Наталья Андреевна, – вмешался следователь, – вы бы могли опознать эту даму, если бы увидели ее снова?
– Да. Думаю, да.
Почему она заколебалась, прежде чем ответить? Потому, что пыталась реально оценить свои возможности, или потому, что ей все же стало страшновато водить его, Игнатова, официальное лицо, за нос?
– Хорошо, – сдался следователь. – Теперь поговорим о том, где вы были сегодня днем.
Услышав эти слова, Башилов засопел еще неприязненнее. Он полагал, что теперь нахальный мальчишка не преминет выведать у Натали все подробности их с Сержем разговоров, но следователь оказался весьма тактичен и удовольствовался только общими показаниями.
Да, Натали была дома, когда появился Серж. И так как стояла прекрасная погода, они отправились на озеро и катались там на лодке.
Нет, Иннокентия Ободовского на берегу она не заметила. Натали запомнила только детей, кажется, это сыновья управляющего «Кувшинками». Сначала они удили рыбу, а потом кто-то из детей прыгнул в воду, наверное, баловства ради. Вскоре после этого Натали засобиралась домой, потому что стало слишком жарко, и Серж проводил ее до самых дверей.
– Я пригласила его войти, – добавила она, умоляюще глядя на следователя. – Он хотел согласиться, но потом сказал, что… что беспокоится за Поля и хотел бы его найти.
– В каком смысле беспокоится? – быстро спросил Игнатов.
– Он боялся, как бы Поль чего-нибудь с собой не сделал. Поль очень переживал из-за… – Натали запнулась. – Ему казалось, что вся эта ситуация… присутствие Ободовского… что это унижает отца, и его, и всех…
И тут Иван Иванович решил рискнуть.
– Мне казалось, – негромко заметил он, – что у Евгении Викторовны и раньше случались увлечения…
– Да, – кивнула Натали, – это так. Но раньше она умела… умела сдерживать себя, а сейчас…
Башилов поморщился. Будь они наедине, он бы без обиняков высказал этому молокососу все, что думал по этому поводу. Что на женщин иногда находит, что время утекает стремительно, как песок сквозь пальцы, что никому не удавалось быть молодым во второй раз и что Панова, вне всяких сомнений, хотела напоследок просто пожить для себя. Но здесь находилась Наташа, и он предпочел сдержаться.
– Скажите, Наталья Андреевна, вам приходилось встречать Панову до того, как вы приехали сюда?
– Да. Я несколько раз видела ее на сцене.
– Нет, я имею в виду – в обычной жизни.
– Нет, мы не были знакомы, если вы это имеете в виду.
– А вы, Андрей Григорьевич? – повернулся следователь к хозяину.
– Кажется, я тоже видел ее в театре, но лично знаком не был, пока мы не приехали сюда.
Иван Иванович задал дежурный вопрос по поводу оружия, имеющегося в доме. Башилов ответил, что, кроме ружей для охоты, он ничего не держит.
– И тем не менее мне придется показать вам револьвер, из которого произвели выстрел. Может быть, он раньше где-то попадался вам на глаза?
Наташа слегка побледнела, но, поглядев на оружие, твердо ответила «нет».
– Нет, – повторил ее отец.
Следователь убрал улику в свой портфель и внимательно посмотрел на своих собеседников.
– Насколько я понял, вам стало известно об убийстве еще до моего прихода, – сказал Игнатов. – Вероятно, у вас есть свои предположения по поводу того, кто это сделал, не так ли?
– А что тут думать? – пожал плечами Башилов. – Если Матвей Ильич раньше во всем был прав, значит, остальное тоже правда. Всему виной театральные интриги! Так что ищите актрису, господин следователь, и не прогадаете!
Глава 12. Визит дамы
– Я знаю, что это был ты!
С этими словами, которые казались бы уместнее на сцене, в какой-нибудь душераздирающей драме, Анатолий Петрович кинулся на Ободовского. Опрокинув по пути к ненавистному сопернику вазу с полевыми цветами, блюдо и стул, Колбасин таки сумел добраться до горла актера и сделал попытку придушить его, но не тут-то было. Судя по всему, господин Ободовский полагал – и не без оснований, – что горло ему еще пригодится, потому что стал отчаянно защищаться. Он наискось мазнул режиссера кулаком по физиономии, а затем ухитрился приложить его коленкой в место, не называемое ни в одном приличном тексте. Враз растеряв свой пыл, бедный Колбасин согнулся вдвое и позеленел. Павел и Серж оттащили Ободовского.
– Никого я не убивал! – крикнул актер, неизвестно к кому обращаясь. – Это все ты придумал! И теперь пытаешься свалить вину на меня!
Эта безобразная сцена произошла за завтраком на следующий день. Стоя в дверях, Франц Густавович тосковал. Он не любил скандалов.
– Никто не мог убить ее, кроме тебя! – крикнул в ответ Колбасин. – Так что готовься играть Гамлета на каторге! Для таких же убийц, как ты!
Ободовский одернул воротник, поправил волосы и выдержал паузу. Инстинктивно управляющий почувствовал, что сейчас последует нечто ужасное.
– У меня нет привычки убивать каждую престарелую особу, которой вздумается за мной бегать, – сквозь зубы промолвил актер.
Тут уже Павел нацелился вцепиться ему в горло, но Серж оказался проворнее и оттащил друга прежде, чем тот успел нанести будущему исполнителю роли Гамлета непоправимый урон.
– Надеюсь, я вам не помешала, господа?
С этими словами в комнату вступила дама, которую никто из присутствующих – за исключением управляющего – тут раньше не видел. Она была молода, белокура, хороша собой, и в золотистых глазах ее плясали задорные искры. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знал Амалию Корф, мог с уверенностью утверждать, что искры эти не сулили никому из находящихся в просторной столовой людей ничего хорошего.
– Госпожа баронесса! – вскричал Франц Густавович.
И, бог весть почему, у него сразу же отлегло от сердца, как будто неожиданный приезд хозяйки означал конец всем проблемам.
На госпоже баронессе был дорожный костюм восхитительного оттенка серого жемчуга, а в руке она держала сумочку. Спохватившись, управляющий представил хозяйку имения драчунам, а затем назвал ей имена присутствующих.
– Кажется, до моего прихода вы пытались выяснить, кто убийца? – непринужденным светским тоном осведомилась Амалия. – Ну что ж, продолжайте, прошу вас, не стесняйтесь…
– Мне кажется, – несмело заметил Павел, косясь на остальных, – что это все же прерогатива следователя.
– И мне так кажется, – легко согласилась Амалия. – Я беседовала сегодня с товарищем прокурора[155] господином Желтковым, который любезно согласился уделить мне несколько минут. Кажется, в следствии выявились новые подробности… Но в любом случае, пока оно не будет закончено, вам по-прежнему запрещено уезжать отсюда. Франц Густавович!
– Да, госпожа баронесса?
– Полагаю, что когда вы в следующий раз будете составлять договор аренды, туда надо будет добавить пункт по поводу смертоубийств. Никаких убийств в «Кувшинках» под страхом… штрафа в сто тысяч рублей, к примеру, – задумчиво добавила Амалия.
Ободовский вытаращил глаза. (Для того времени это были просто немыслимые деньги.)
– Как по-вашему, Франц Густавович, такой суммы будет достаточно?
– О! – только и мог вымолвить пораженный управляющий. – Я полагаю… если вам так угодно, сударыня…
– Хотя, с другой стороны, убийство мог совершить и кто-то посторонний, – заметила хозяйка, пожимая плечами. – Так или иначе, крайне печально, что оно должно было случиться именно в моем доме. Я бы предпочла, чтобы это произошло где-нибудь в другом месте.
– Нам искренне жаль, сударыня, что мы вас разочаровали, – спокойно заметил Серж. – Но человек не выбирает, где именно его настигнет смерть.
«Сам придумал или услышал в какой-то пьесе?» – смутно помыслил Ободовский.
– Тем не менее я буду вам чрезвычайно признательна, господа, если вы постараетесь избежать второго убийства, а для начала воздержитесь от взаимных обвинений, – сказала Амалия, сверкнув глазами. – Давайте все-таки дождемся результатов следствия… Франц Густавович!
– Госпожа баронесса?
– Я хотела бы взглянуть на место преступления. Скажите, моя гостиная сильно пострадала?
– О, ничуть, сударыня!
И, перебрасываясь репликами, хозяйка дома и управляющий ушли.
– Поразительная особа, – пробормотал Ободовский как бы себе под нос, но достаточно громко, чтобы его услышали все. – Убили человека, а ее волнует, не пострадала ли ее гостиная…
Все думали примерно так же, как и он, но так как по разным причинам актер был не по душе остальным присутствующим, они дружно сделали вид, что ничего не слышали, и, храня враждебное молчание, вернулись на свои места за столом. Павел поднял и поставил опрокинутый стул, а Колбасин вызвал Дуняшу, чтобы она вытерла разлившуюся воду из вазы.
Пока четверо человек в столовой пытались делать вид, что их интересует только завтрак, Амалия возле дверей гостиной разговаривала с полицейским, которого Иван Иванович оставил охранять место преступления. Тело уже увезли в Д., ближайший к «Кувшинкам» уездный город. По правде говоря, место преступления следователь уже успел как следует изучить, а полицейского он оставил, полагая, что его присутствие в доме удержит Анатолия Петровича от попытки свести счеты со своим соперником. Как видим, план Игнатова успеха не имел, потому что полицейский воспринял задание буквально и не интересовался больше ничем, что происходило в доме. Даже хозяйку усадьбы он согласился пропустить в комнату после долгих уговоров.
– Мне велели стеречь, ну, я и стерегу. А то потом скажут: кто виноват? И на меня-то и укажут. А я что ж? Наше дело маленькое…
Его усердие было таково, что он зашел в гостиную следом за Амалией и управляющим и, надсадно дыша, стал в дверях.
– Это окно было открыто? – спросила Амалия, оборачиваясь к Францу Густавовичу и безошибочно указывая именно на то из трех окон, которое он нашел распахнутым в день преступления.
– Да, госпожа баронесса, – ответил управляющий, почтительно кашлянув. – Также все двери были незаперты, как обычно…
Амалия стояла, осматриваясь. Выражения ее лица Франц Густавович не понимал.
– Я полагаю, – заметил он вполголоса, – что вы захотите нанять нового управляющего…
– С какой стати?
Тут, признаться, Франц Густавович изумился. С его точки зрения, он не оправдал надежд, проштрафился и вообще внутренне был готов к резкому выговору со стороны хозяйки, после которого ему наверняка указали бы на дверь. Но Амалия вела себя так, словно все происходящее не было следствием его, Юнге, чудовищной ошибки и вообще – он совершенно ни в чем не был виноват.
– Меня вполне устраивает, как вы справляетесь со своими обязанностями, – добавила Амалия, поворачиваясь к своему собеседнику. – То, что произошло, – конечно, трагедия, но я не вижу причин, которые…
Она недоговорила фразу, оглядывая старинную мебель, ковер на полу, кресло, которое со вчерашнего дня оставалось на прежнем месте.
– Ужасная история, – сказал Франц Густавович, чтобы хоть что-то сказать.
По правде говоря, он был ужасно рад, что его оставляют в должности, но, как человек воспитанный, предпочитал свои эмоции держать при себе.
– На диване не хватает одной подушки, кажется? – спросила Амалия, кивая на небольшой диванчик в нескольких шагах от них.
– Нет, – твердо ответил управляющий, – все подушки на месте.
– А в соседних комнатах?
Франц Густавович поклонился и вышел, чтобы проверить. Полицейский, стоявший в дверях, шумно вздохнул.
– Вы были тут всю ночь? – спросила Амалия, поворачиваясь к нему.
– Где ж мне еще быть, – уныло пробубнил тот. – Иван Иванович велел глаз не спускать, ну, я и не спускал. Хотя хуже нет находиться там, где нашли покойника.
– Вы о призраках? – равнодушно спросила Амалия.
– Конечно. О ком же еще! Но она сюда не пришла. Она у себя ночью ходила.
– Простите? – насторожилась Амалия.
Полицейский со значением показал пальцем на комнату над ними.
– Там спальня ейная. Ночью она там бродила, хотите верьте, хотите нет.
– С чего вы взяли?
– С того, что слышал шаги. И половицы поскрипывали. В самую полночь, понимаете? Это она и была.
– Вы не выходили посмотреть?
– Я? Да Господь с вами! От таких встреч ничего хорошего не будет.
И он посторонился, пропуская вернувшегося управляющего.
– Одной подушки нет на месте, – доложил Франц Густавович.
– Где?
– В комнате за этой дверью. – Управляющий показал на вторую дверь, которая оставалась запертой со вчерашнего дня. – Странно, кому она могла понадобиться? Ведь подушка была совсем маленькая…
– Идемте, вы мне покажете, – распорядилась Амалия. – Лучше отоприте дверь, если ключ у вас. Я хочу понять, откуда убийца пришел.
– А меня же потом и обвинят, – печально сказал полицейский, видя, как управляющий не без труда отмыкает ключом запертую дверь.
– Мы закроем ее с той стороны, – успокоила его Амалия. – И все станет, как было.
…Это была маленькая комната, даже не имевшая в доме особого названия. Два шкафа с книгами, глобус, диван, столик, пара кресел. Обычно на диване лежали две небольшие подушки, но теперь одна исчезла.
– Ума не приложу, куда она могла деться, – со смущением признался Франц Густавович. – Я же видел ее здесь вчера утром…
– Полагаю, на этот вопрос сможет ответить только убийца, – вздохнула Амалия. – В суматохе никто не заметил пропажи, а потом у него было достаточно времени, чтобы избавиться от улики. Но сейчас, по правде говоря, меня больше всего беспокоят шаги. – Она недовольно покачала головой. – Знаете что, Франц Густавович, пошлите, пожалуй, за следователем. Мне с ним надо будет кое-что обсудить.
Глава 13. Баронесса из Особой службы
Тут, пожалуй, самое время сделать небольшое отступление и вернуться на несколько часов назад. Рано утром, когда следователь Игнатов только поднялся с постели в своем маленьком уютном домике, во входную дверь энергично постучали, и вскоре слуга доложил, что следователя хочет видеть товарищ прокурора Николай Афанасьевич Желтков, причем он явился не один.
– С ним незнакомая дама, которая тоже настаивает на том, чтобы вы немедленно ее приняли, – добавил слуга.
Иван Иванович изумился. Товарища прокурора он знал хорошо и знал, что пунктуальный Николай Афанасьевич отводил работе ровно столько, сколько требовалось – не больше и не меньше. Не в его привычках было засиживаться допоздна, и уж точно не в его привычках было являться к следователю в восьмом часу утра, да еще в сопровождении дамы.
Усилием воли отогнав совершенно излишние в данном случае подозрения (все знали, что Желтков был давно и счастливо женат и никогда не пытался искать добавочного счастья на стороне), Иван Иванович наскоро привел себя в порядок и вышел в гостиную. С первого же взгляда он заметил, что Николай Афанасьевич не то чтобы озадачен, но явно находится не в своей тарелке, чего никак нельзя было сказать о незнакомке, которая стояла возле комода и разглядывала фотографические карточки родителей, братьев и сестер Игнатова, заключенные в массивные рамки.
– Иван Иванович Игнатов, наш судебный следователь, – представил хозяина дома товарищ прокурора. – А это госпожа баронесса Корф, э… Амалия Константиновна.
Игнатов помнил, что «Кувшинки» принадлежали семье барона Корфа, который после развода уступил имение своей бывшей жене с тем, чтобы в дальнейшем оно отошло к их сыну. Имя Амалия говорило о польских корнях, и следователь смутился. Почему-то все польские дамы казались ему загадочными и прекрасными, будь они даже носатыми, белобрысыми, крикливыми и склочными (как оно нередко и случалось).
Но тут незнакомка повернулась и пронзила Игнатова взглядом, как золотой шпагой. Это вовсе не фигура речи – Иван Иванович ощутил себя неким подобием жука, поддетым на острие булавки; его изучали и явно пытались понять, в какую часть обширной коллекции насекомых – пардон, человеческих существ – его можно определить. Ощущение, прямо скажем, было вовсе не из приятных, и самолюбивый Игнатов даже немного обиделся. В следующее мгновение стоящая напротив него дама едва заметно улыбнулась и притушила свой смертоносный взор.
«Какие, однако, глупости приходят мне в голову!» – подумал пораженный следователь. Теперь он видел только приятную даму – не исключено, что приятную во всех отношениях, как говорил классик. Она подала Игнатову руку и любезным тоном произнесла несколько дежурных слов. Спохватившись, он пригласил гостей сесть и спросил, угодно ли им разделить с ним завтрак.
– Нет, – сказал Желтков, – благодарю вас, я не голоден. Прошу извинить нас за вторжение, Иван Иванович, но дело не терпит отлагательств. Поскольку именно вы ведете следствие…
Иван Иванович задумчиво кивнул. Итак, Франц Густавович послал хозяйке телеграмму, она встревожилась и приехала лично, чтобы понять, что же на самом деле случилось в усадьбе. Сейчас товарищ прокурора, которого она подняла с постели ни свет ни заря, будет просить следователя рассказать баронессе все, что ему известно, – хотя по закону он вообще-то не имеет права ни с кем делиться имеющейся у него информацией, кроме узкого круга официальных лиц.
– Поскольку именно вы ведете следствие, – продолжал Николай Афанасьевич, – полагаю, будет удобнее, если вы посвятите баронессу Корф во все детали. Госпожа баронесса состоит в Особой службе, – добавил Желтков, – и я уже получил официальное распоряжение о том, что мы обязаны сотрудничать, по возможности негласно, чтобы найти убийцу.
Тут, надо признаться, Иван Иванович малость оторопел.
– Но позвольте, Николай Афанасьевич… Ведь Особая служба, насколько я понимаю, относится скорее к разведке, а между тем…
Дама метнула на Игнатова быстрый взгляд, но как бы этот взгляд ни был мимолетен, Иван Иванович без труда прочел в нем иронию – и обиделся вторично.
– Собственно говоря, разведывательная деятельность составляет лишь малую часть того, чем занимается Особая служба, – сказала баронесса Корф. У нее был мягкий, мелодичный голос, но именно сейчас, бог весть отчего, он следователю совершенно не нравился. – Сейчас же я оказалась здесь главным образом из-за господина Башилова.
– Андрея Григорьевича? Но при чем…
– Господин Башилов является владельцем нескольких предприятий, которые имеют военное значение, – напомнила дама. – Поэтому нам необходимо установить, не является ли данная история провокацией, направленной против него – и, возможно, также против интересов Российской империи.
Услышав слово «провокация», Николай Афанасьевич заерзал на месте, и Игнатов неожиданно понял, что флегматичный товарищ прокурора, который на службе обычно не позволял себе никаких эмоций, явно нервничает.
– Сударыня, хотя я только начал расследовать преступление, я полагаю, что мы все же имеем дело с обычным убийством, – сказал Иван Иванович.
Слово «обычный» так не понравилось Желткову, что его аж передернуло; и, как оказалось, вовсе не зря.
– Насколько я понимаю, обстоятельства дела никак обычными не назовешь, – усмехнулась баронесса Корф. – Все началось с того, что известный беллетрист Матвей Ильич Ергольский предложил – не всерьез, разумеется – описать, кого и как могут убить. На следующий день актриса Панова была найдена мертвой, причем обстоятельства ее смерти полностью воспроизводили фантазию Матвея Ильича. Кстати, у Башилова есть алиби на время ее убийства?
– Нет. Но ему не было никакого резона убивать ее – они едва знали друг друга.
– Это вам Андрей Григорьевич так сказал? – мягко осведомилась Амалия.
– Да. Полагаю, вам по этому поводу известно больше, чем мне?
– В некотором роде. Дело в том, что у господина Башилова когда-то была связь с Пановой. Недолго, кажется, еще до того, как она вышла замуж за Колбасина. Так что Андрей Григорьевич вам солгал.
– Это не значит, что у него был мотив для ее убийства, – не удержался товарищ прокурора.
– Разумеется, но если некто решил использовать имеющиеся обстоятельства для того, чтобы опорочить Башилова, ложь Андрея Григорьевича обязательно вскроется. И когда о ней станет известно публике, люди станут задавать самые неожиданные вопросы. Почему он солгал? Что именно он скрывал? Ведь у людей, которые начитались детективных романов, укоренилось представление – убийцей обязательно окажется тот, кто лжет. Честный человек, которому нечего скрывать, не станет лгать, и так далее… Хотя, когда идет следствие, почти все свидетели либо замыкаются, либо опускают детали, которые кажутся им несущественными, но делают это вовсе не из злого умысла, а потому, что не видят ничего хорошего в том, чтобы посвящать посторонних в подробности своей личной жизни.
– Так или иначе, чем быстрее мы распутаем эту историю, тем лучше будет для всех нас, – подытожил товарищ прокурора.
И хотя он сказал «мы распутаем», Иван Иванович на самом деле услышал «вы распутаете», применительно к нему одному, потому что золотоглазая дама из Особой службы, конечно, в счет не шла. У него заныло под ложечкой. Он и раньше понял, что дело будет непростое, но то, что оно окажется настолько непростым, даже не приходило ему в голову.
– У вас уже есть какие-нибудь зацепки? – спросила Амалия у Игнатова. – Револьвер, к примеру – вы выяснили, откуда он взялся?
Иван Иванович покачал головой.
– Нет. Все свидетели утверждают, что раньше никогда его не видели. Кстати, я хотел спросить, может быть, вы его опознаете…
Он вышел в спальню и вернулся с главной уликой, которую протянул Амалии.
– Я подумал, что оружие могло храниться в доме, – пояснил Игнатов.
– Нет, – твердо сказала баронесса Корф, разглядывая револьвер. – Кстати, что там господин Ергольский нафантазировал по поводу орудия убийства? Револьвер с перламутровой рукояткой, насколько я помню?
– Именно так, – подтвердил Игнатов.
– Это не перламутр, – вздохнула Амалия. Она откинула барабан, проверяя, сколько осталось пуль. – Это дешевая имитация, и само оружие, кстати сказать, тоже дешевое. Стреляет такой револьвер из рук вон плохо, и от него много шума. – Она вернула барабан на место и протянула оружие следователю. – Я бы предположила подарок даме, причем автор подарка явно пытался пустить пыль в глаза. Второй вариант – его купили для защиты или, к примеру, чтобы произвести на кого-то впечатление, отпугнуть. В любом случае, оружие полностью заряжено, отметьте этот момент.
– Но среди подозреваемых только три женщины… – начал Желтков и угас.
– Да, – усмехнулась Амалия, – и кое-кого я довольно хорошо знаю. Клавдия Петровна не из тех людей, которые станут носить с собой оружие, а Антонина Григорьевна – очаровательная домовитая женщина, которую проще представить себе с иголкой в руках или с чайником. Остается только Натали Башилова, и вот это уже довольно скверно.
– Уверяю вас, у Натальи Андреевны не было никакого повода убивать Панову, – чуть резче, чем ему хотелось бы, промолвил Игнатов.
– Боюсь, вы плохо осведомлены о прошлом этой милой барышни, – отозвалась Амалия спокойно. – Потому что она однажды уже стреляла в человека из револьвера и чуть не убила его.
Желтков открыл рот.
– Да, да, – кивнула Амалия, – все это случилось, между прочим, во Франции и, как говорят, по вине ее отца. Видите ли, он нанял одного головореза с заданием устранить любовника своей жены.
– И что случилось? – сдавленно спросил товарищ прокурора.
– Ну, в сущности, господин Башилов едва не добился своего. Его наемник подкараулил момент, когда мсье Жерво был в доме один, и напал на него. Тот, однако, стал отбиваться и выбил у убийцы револьвер. В разгар драки домой неожиданно вернулась Наташа, ей тогда было лет тринадцать, кажется. Жерво крикнул ей, чтобы она побежала и позвала на помощь, но она подобрала револьвер и сумела выстрелить в убийцу.
– И что было дальше? – напрягся Игнатов.
– Ну, как полагается: следствие и суд. Жерво взял вину на себя и объявил, что стрелял он. Так как его самого пытались убить, ему ничего не грозило. Полиция сделала вид, что поверила Жерво. Его противник просил о снисхождении, он якобы решил просто ограбить богатый дом и не ждал, что там кто-то окажется. Его посадили в тюрьму, а Жерво отпустили. Через некоторое время Башиловы пришли к соглашению, что дочь будет жить с отцом, а он даст бывшей жене развод, обеспечит ее и обязуется никогда больше не вмешиваться в ее дела. Если бы она не отдала дочь, не исключено, что Андрей Григорьевич повторил бы попытку избавиться от месье Жерво… а может быть, не только от него, но и от своей бывшей жены. Он человек, способный на многое, а кое-кто уверяет, что и на все.
– Все это чрезвычайно грустно, – сухо сказал Игнатов, – но даже если Натали пыталась спасти жизнь человеку, которого любила ее мать, я не вижу тут связи с тем, что произошло вчера. Во-первых, сам револьвер, как вы сказали, дешевый, то есть Натали никогда бы себе такой не купила. И во-вторых, у нее не было мотива для того, чтобы убивать Панову.
– Если речь идет о провокации, – отозвалась Амалия, – мы должны быть вдвойне осторожны. Вы, кажется, не понимаете, что до некоторой степени не так уж важно, принадлежит револьвер Натали или нет, стреляла она из него в Панову или нет. Важно, что все это может быть преподнесено публике как некая версия, которая будто бы все объясняет. Неуравновешенная девушка убила бывшую любовницу своего отца – или что-то в этом роде. Как человек Башилов вряд ли внушает особую симпатию, но свою дочь он обожает и, случись что, будет защищать ее до последнего – ну и, само собой, чем отчаяннее он будет ее защищать, тем больше все вокруг будут верить, что убийца – она. Все это может кончиться очень плохо, самоубийством или какой-нибудь трагедией, и наша задача – не допустить, чтобы авторы провокации – если такая вообще имеет место быть – добились своего.
– Я все же не думаю, что мы имеем дело с провокацией, – рискнул заметить следователь. – Пока вскрытие не произведено, мы даже не можем быть совершенно уверены, что это именно убийство… хотя предшествующие события и фантазии Матвея Ильича вроде бы допускают только одно толкование.
– Да, но заметьте, как удачно все получилось: фантазии Матвея Ильича были воплощены в жизнь на следующий же день, и, как нарочно, тут же, под боком находится известный журналист, который наверняка пожелает освещать ход расследования. Совпадение ли это? Но даже если и совпадение, ничто не мешает нам принять дополнительные меры предосторожности, господа!
– Госпожа баронесса, я понимаю, что вы принимаете участие в расследовании для того, чтобы проследить, что интересы господина Башилова не пострадали, – вмешался Желтков. – Но как же быть, если вдруг Иван Иванович выяснит, что произошло худшее и… и Андрей Григорьевич на самом деле причастен к смерти этой несчастной женщины?
Амалия пожала плечами.
– Господин Башилов может быть арестован только в одном случае: если он убийца и если у нас окажутся непреложные доказательства его вины. Тогда, разумеется, я отхожу в сторону и предоставляю действовать закону. А теперь, Иван Иванович, если вы не возражаете, я хотела бы услышать как можно более подробный рассказ о свидетелях и обстоятельствах дела. Николай Афанасьевич пересказал мне то, что вы вчера успели ему сообщить, но я предпочитаю услышать все еще раз, так сказать, из первых рук.
Что ж, следователь Игнатов не мог отказать баронессе, и он заговорил о том, как вчера оказался на месте преступления, с кем успел побеседовать и какие именно детали внушали ему подозрение.
– Несомненно, что убийца слышал рассказ Матвея Ильича либо узнал об этом рассказе у одного из непосредственных слушателей. Но, конечно, именно слушатели попадают под подозрение прежде всего, и, судя по всему, ни у кого из них нет безупречного алиби. Матвей Ильич был у себя, писал роман. Мотивов для убийства – никаких. То, что именно он начал разговоры об убийствах, конечно, выглядит подозрительно, но, в конце концов, он писатель, и все его истории были только для развлечения. Антонина Григорьевна хлопотала по дому. Мотивов – тоже никаких. Господин Чаев уверяет, что не покидал усадьбу и читал газеты. Никаких мотивов. Господин Свистунов говорит, что он читал стихи, потом задремал. Его родственница работала над статьей. У обоих – ни тени мотива. Затем…
– На Николая Сергеевича в петербургской полиции имеется досье, – усмехнулась Амалия.
– Неужели он кого-то убил? – заинтересовался Желтков. В глубине души товарищ прокурора всегда подозревал, что сочинение стихов – дело нездоровое и нормальный человек заниматься этим не станет.
– Нет, ничего такого не было, – отозвалась баронесса Корф. – Скажем так, что господин Свистунов забрел однажды, э, в область народного творчества… и забрел куда дальше, чем позволяют хороший вкус и элементарные приличия.
Игнатов кашлянул, чтобы скрыть улыбку.
– Так или иначе, он вроде бы ни при чем. Идем далее. Господин Башилов спускался к озеру, затем вернулся к себе, писал письма. Его дочь каталась на лодке с Сережей Карповым, потом вернулась в дом. Кстати, что вы думаете о ее словах по поводу дамы в саду, которая махала кому-то рукой?
– Думаю, что эти слова могут оказаться правдой, – спокойно отозвалась Амалия. – Николай Афанасьевич, я надеюсь, вы распорядитесь проверить все уездные гостиницы, всех приезжих…
– Разумеется, госпожа баронесса. Можете на меня рассчитывать.
– Если не считать того, что Башилов умолчал о том, что знал Панову прежде, – продолжал следователь, – нет ничего, что указывало бы на возможный мотив. Таким образом, у нас остаются четыре человека, которые живут в «Кувшинках». Муж, любовник, сын и приятель сына. – Он повернулся к Амалии: – Если у полиции есть что-то на кого-то из них…
– Есть, – кивнула баронесса. – На Сережу Карпова – мелочи, потому что он одно время подался в толстовцы под влиянием своей матери, но это быстро прошло. Ни в чем предосудительном он не замечен, разве что в пылких речах о непротивлении злу насилием и о том, что мы плохо знаем свой собственный народ. А что касается Ободовского…
Николай Афанасьевич слегка напрягся, ожидая продолжение; и оно не обмануло его ожиданий.
– Иннокентия Гавриловича подозревали в том, что он убил человека, – объявила Амалия.
– Вы шутите! – вырвалось у пораженного Игнатова.
– Нет. На гастролях в Самаре на спектакль пришли пьяные офицеры и стали срывать его, потому что им не понравились какие-то фразы, написанные автором. Актеры попросили публику вести себя прилично, но в конце концов им пришлось удалиться со сцены. Разгоряченные офицеры проследовали за ними, и завязалась драка. По словам свидетелей, дрались чем попало – стульями, бутылками, реквизитом. Полиция, к сожалению, замешкалась, и когда господа полицейские наконец соизволили объявиться, на полу лежал один труп.
– Офицера, я полагаю? – осведомился Желтков.
– Да. Кто-то проломил ему голову, и подозрения пали на Ободовского, потому что он махал стулом резвее прочих и потому, что видели, как убитый офицер грозил ему револьвером. Но в драках такого рода очень трудно разобраться, кто виноват больше прочих, и кроме того, будем справедливы – драку затеяли вовсе не актеры. Тем не менее для Ободовского все могло закончиться скверно, потому что убийство есть убийство, но наверху было решено замять дело, потому что убитый офицер был замешан во множестве скандалов и порядком всем надоел.
– Колбасины ничего не говорили об этом случае, – заметил следователь. – Да и сам Ободовский о нем не упоминал.
– Вряд ли Иннокентий Гаврилович любит о нем распространяться. После той драки у него случился нервный срыв, он стал панически бояться оружия, а в театре, где по роли приходится изображать всякое, это нельзя назвать достоинством.
– Лично мне кажется подозрительным, что он ничего не сказал нам об убитом офицере, – негромко заметил Желтков. – Кроме того, Ободовский уверял, что ходил ловить рыбу, но мы знаем благодаря показаниям других свидетелей, что на озере его не было.
– Странно еще, что Павел ушел, по его словам, в лес и пропадал там несколько часов, – добавил Игнатов. – Серж, расставшись с Натали, отправился его искать, но мне ничего об этом не сказал. Почему? Может быть, потому, что нигде не мог его найти и боялся, что я начну подозревать его друга?
– Самое странное во всей этой истории – вовсе не поведение Павла и не ложь Ободовского, – заметила Амалия.
– А что же, сударыня?
– Выстрел. Такие револьверы, как тот, что вы нашли, производят много шума, но никто из тех, кто был в доме, не слышал звука выстрела. Клавдия Петровна слышала выстрелы, работая над статьей, но я полагаю, что это были охотники. Иначе получается странно: она слышала то, чего не услышали в самом доме…
Игнатов нахмурился. Он досадовал на себя за то, что не обратил вчера внимание на этот факт, не понял, насколько он важен.
Действительно, выстрел был, но почему же его никто не слышал? Почему никто о нем даже не упоминал?
– Вероятно, в романе Матвея Ильича выяснилось бы, что стреляли из бесшумного ружья, – с улыбкой заметил Желтков.
– Через открытое окно, – подхватил Игнатов, – а револьвер подкинули позже. Но мы ведь не в романе, в конце концов!
Амалия бросила взгляд на часы и поднялась с места.
– В любом случае, это вопрос номер один, который необходимо разрешить. Вопрос номер два – существовала ли дама в синем, и вопрос номер три – откуда взялся револьвер. – Она помолчала. – Думаю, вам не надо повторять, господа, что вы знаете меня только как владелицу имения, которая приехала сюда, потому что очень обеспокоена всем случившимся. Никто больше не должен подозревать о том, в каком качестве я нахожусь здесь.
– Вы можете на нас положиться, госпожа баронесса, – с поклоном заверил ее Желтков.
Показалось ли Игнатову или товарищ прокурора и в самом деле чувствовал некое облегчение, видя, что их беседа подходит к концу?
– Могу ли я спросить, сударыня, что конкретно вы сейчас намерены предпринять? – спросил Иван Иванович.
– Я отправлюсь в «Кувшинки», – спокойно ответила Амалия, – и попытаюсь наладить контакт со свидетелями. Что может быть естественнее, чем встревоженная хозяйка дома, в котором случилось нечто из ряда вон выходящее? По крайней мере, никому не покажется подозрительным, что я задаю самые разные вопросы и пытаюсь понять, что произошло в усадьбе на самом деле. Не исключено, что в разговоре со мной свидетели скажут нечто такое, что забыли или не сочли нужным говорить вам. Кроме того, Иван Иванович, не в укор вам будь сказано, вы опросили не всех, кто находился поблизости.
– Уверяю вас, вы ошибаетесь, – возразил следователь. – Я никого не забыл, а если вы о прислуге, которую уволили стараниями госпожи Пановой…
– Нет, вовсе не о ней. Вы говорили с Францем Густавовичем и его женой, но даже не стали искать их детей. А ведь они тоже находились неподалеку, когда все произошло.
– Что такого они могли видеть? – пожал плечами Желтков.
– О-о, дети видят все, – отозвалась Амалия. – Но по-своему, понимаете? И, конечно, к ним нужен особый подход. Свои секреты они согласятся сообщить далеко не всякому!
Глава 14. Керосиновая лампа
Впрочем, когда Амалия приехала в усадьбу, ей пришлось отступить от своего плана. Ссора, при которой баронессе Корф довелось присутствовать, сказала ей о характере участников этой драмы больше, чем все рассуждения Ивана Ивановича и Желткова. Кроме того, она определила, что выстрел никто не услышал, потому что он был произведен сквозь подушку, которую убийца позже выбросил. Это уже наводило на нехорошие мысли о преднамеренности и о расчетливом, жестоком уме.
Но почему жертвой стала Панова? Почему именно она? В конце концов, увлекшийся Ергольский придумал массу вариантов убийства, по одному на каждого гостя. С точки зрения логики, у Башилова, к примеру, было куда больше врагов, и гораздо большее число людей было заинтересовано в его смерти. Но погибла именно Панова, не то чтобы плохая, но – будем откровенны – не самая выдающаяся актриса. Кому она могла помешать?
Мужу? В конце концов, самые кроткие, самые любящие люди способны в один прекрасный момент взбунтоваться и действовать под влиянием минуты. Но даже если так, откуда он взял револьвер?
Любовнику? Но как бы тщательно Ободовский ни пытался скрыть свое прошлое от товарищей-актеров, не настолько он был глуп, чтобы не понимать, что полиция рано или поздно докопается до той драки, завершившейся убийством. Кто убил один раз, может убить и другой, и так далее…
И потом, зачем Ободовскому вообще убивать свою любовницу, даже если он не любил ее и держал руки в карманах, когда она висла у него на шее?
Так что, может быть, убийцей был сын? Амалия поморщилась. Сама мысль о преступлении такого рода была ей крайне антипатична, но, как человек рассудительный, она понимала, что обязана рассмотреть все варианты.
«Допустим, что речь все же идет о хорошо просчитанной и разыгранной как по нотам провокации. Но что делать с шагами в комнате жертвы? При чем тут они? Или этому есть самое простое, самое обыденное объяснение?»
И Амалия, дав распоряжения Францу Густавовичу по поводу комнаты, в которой она будет жить в «Кувшинках», вернулась в столовую.
У сидящих за столом были мрачные лица. Люди были напряжены и избегали смотреть друг на друга. Анатолий Петрович нервно катал по скатерти хлебные шарики, и от Амалии не укрылось, что когда она показалась в дверях, режиссер вздрогнул.
«Интересно, почему? Подсознательно ожидает, что войдет та, другая?»
– Кстати, господа, у меня совсем вылетело из головы, – непринужденно промолвила она. – Конечно, Николай Афанасьевич очень просил ничего вам не говорить, но если я ничего не скажу, я тут подумала, что будет только хуже, то есть не обязательно будет, но все же может быть… – Скороговоркой выпалив эту белиберду, она улыбнулась сияющей улыбкой. – Был еще один человек, который слышал Матвея Ильича.
И баронесса Корф, по-прежнему широко улыбаясь, впилась взором в лица сидящих за столом.
Она сразу же увидела, что трое были ошеломлены – приятно, прямо скажем, ошеломлены – и что из этих троих Павел испытал наибольшее облегчение. Но реакция четвертого оказалась именно такой, какую она ожидала. Этот человек насторожился, поняла Амалия; насторожился, потому что наверняка знал, кто тогда стоял за окном и кто махал ему рукой…
– Простите, но вы уверены? – пробормотал Анатолий Петрович. – Вы… вы точно знаете, что все было именно так? Потому что я уже не знаю, что и думать…
– О, ну я же сказала, что надо подождать! – объявила Амалия, уверенно разыгрывая роль недалекой светской дамы, которая ужасно обеспокоена, но все же уверена в том, что все завершится хорошо и злодеи непременно получат по заслугам. – Разве вы не понимаете, господа, что если бы у следствия было что-то определенное, подозреваемый уже был бы арестован? Вам ничего не говорят, и поэтому вы думаете, что господин Игнатов ничего не делает, но это не так. Конечно, на самом деле он ищет того человека…
– И кто же это? – не выдержал Павел.
– Хозяйка револьвера, я полагаю, – небрежно отозвалась Амалия.
Теперь – по реакции одного из четверых – она точно знала, что находится на верном пути. Был ли он сообщником или просто оказался втянут в эту скверную историю по недоразумению? Так или иначе, когда Игнатов закончит свою работу, человек, которому махали рукой, должен будет объяснить, почему он так долго молчал… и, конечно, его недавнее молчание сыграет против него…
– Вы хотите сказать, – недоверчиво спросил Серж, – что это была женщина?
– Боже, – притворно застеснялась сотрудница особой службы, – ну что я могу сказать! Да и господин Желтков был, прямо скажем, не слишком… словоохотлив… Конечно, старый принцип сработал: «ищите женщину», а как же иначе? Потому что револьвер ведь женский, и стреляла из него, конечно, женщина… У вашей жены ведь наверняка было много завистниц! – великодушно прибавила она.
– Завистницы, конечно, были, – бормотал Анатолий Петрович, – но чтобы взять и убить… нет, я просто не могу себе такого представить. Паша!
– Да?
– Или я что-то упустил, или совсем поглупел от старости… Скажи, сын, как ты думаешь, а? Кто мог…
Он, вероятно, хотел сказать «убить», но слово словно стало ему поперек горла, и он не мог выговорить его вслух.
– Я хорошо знаю всех в нашем театре, – промолвил Павел после паузы. – И… прости меня… но мне тоже кажется странным… то есть никто не приходит в голову… Конечно, были ссоры… из-за ролей… актрисы уходили в другие театры… но приехать сюда нарочно, чтобы убить…
Приехать нарочно. Стоп. Нарочно… нарочно… какое точное слово! Не так он глуп, этот Паша Колбасин…
Кто-то приехал сюда нарочно, чтобы убить Панову.
Зачем?
Вернее, почему?
Кому она могла настолько помешать? И могла ли вообще помешать настолько, чтобы…
Неужели все-таки провокация? Ай, как скверно, как неприятно все оборачивается…
Амалия еще несколько минут слушала, как четверо мужчин выдвигают предположения, чтобы тут же отбросить каждое из них. Было совершенно ясно, что они растеряны и не имеют понятия, в какую сторону следует направить поиски. Поглядев на часы, баронесса вспомнила, что следователь должен явиться с минуты на минуту.
«Интересно, успею ли я до его появления поговорить с детьми?»
Извинившись перед гостями, она ушла и вскоре была возле флигеля.
У Амалии была профессионально натренированная память, и ей не потребовалось усилий, чтобы вспомнить, что трех сыновей управляющего зовут Август, Франц и Георг. Дома их не оказалось – их мать сообщила, что мальчишки, как всегда, удрали к озеру.
Покинув флигель, Амалия по тропинке спустилась к озеру, где сразу же увидела на берегу, под ивами три белых головы. Август пытался удить рыбу, в то время как его братья со смехом наблюдали за прыгающим в траве мангустом, который хотел поймать кузнечика.
Завидев Амалию, все трое поднялись и звонко поздоровались с ней. Мангуст фыркнул и убежал к своему сородичу, который ждал его на опушке.
– Что ловим, кита? – весело спросила Амалия у Августа. Она помнила, что из трех братьев он был самый рассудительный, а Франц – самый порывистый.
– В озере киты не водятся, госпожа баронесса, – ответил Август.
– А жаль! – вздохнула Амалия. – Представляешь, вытаскиваешь удочку, а там кит… Правда ведь, интереснее, чем какой-нибудь налим?
Братья заулыбались.
– А мы не ждали, что вы в этом году приедете, – застенчиво сказал Георг, самый робкий из троих. – Папа сказал, что вас не будет до Рождества.
– Ну, как видишь, пришлось приехать, – отозвалась Амалия. – Все это ужасно неприятно, конечно, полиция в доме, соседи сплетничают – брр! И тот молодой следователь, я, конечно, ничего не хочу сказать, но разве он может понять, что тут случилось?
Так как ее слова были, по сути, повторением того, о чем между собой совсем недавно говорили родители, дети энергично закивали.
– По-моему, он совсем ничего не знает, – продолжала коварная баронесса. – Вчера всех допросил, кого только можно, а толку никакого. Актер, например, говорит, что он на берегу рыбу удил…
– Не было его на берегу, – заявил Август. – Он врет.
– Где же он был?
– Он с удочками в лес пошел, – объявил Франц. – Мы еще смеялись: может, он лису или зайца хочет так поймать?
– Зачем же он пошел в лес? – вырвалось у Амалии.
– Не знаю, – ответил Август. – Заблудиться тут сложно, а река совсем в другой стороне.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что дети видели, как Серж и Натали катались на лодке, как они расстались, и Серж потом подошел к детям и спросил, не знают ли они, где сейчас Павел.
– И что вы сказали?
– Я видел, как он шел утром по тропинке к лесу, – отозвался Георг. – Но не видел, чтобы он вернулся.
– И Серж пошел за ним?
– Да.
Что ж, по всему выходит, что молодой человек не солгал.
– Кто-нибудь из вас видел, когда Серж вернулся?
– Я видел, – подал голос Франц. – Он пришел позже всех. Дуняша ему сказала, что произошло ужасное, он весь позеленел и спросил: «Павел?» Когда она ему сказала, что тот уже в доме и с ним все в порядке, а несчастье с матерью…
– А сам Павел когда вернулся?
– Я не видел, – сказал Франц. – А ты?
– Я тоже не видел.
– И я, – объявил Георг, чтобы не отставать от братьев.
– Когда Павел ушел утром в лес, у него что-нибудь было с собой?
– Ружье, – тотчас же ответил Георг. – И мне это показалось странным.
– Почему?
– Потому что на охоту ходят в другой одежде, а он зачем-то надел свой лучший костюм.
«Как интересно, – мелькнуло в голове у Амалии. – Застенчивые люди почему-то нередко подмечают больше деталей, чем обыкновенные. Взять хотя бы даму в синем, которую заметила именно Натали…»
– Вчера днем вы не видели возле усадьбы каких-нибудь странных людей? – спросила Амалия. – Допустим, кого-то, кого вы раньше тут не встречали?
Она была почти уверена, что ответ окажется отрицательным, и в самом деле, мальчики почти синхронно замотали головами.
– Как вы думаете, кто ее убил? – спросил Август.
– Не знаю, – вздохнула Амалия. – Но кто-то заходил сегодня ночью в ее спальню. Может быть, это пустяк, а может быть, важно. Как вы думаете?
– Ночью – это когда? – спросил Франц.
– Около полуночи.
– А, значит, мне не показалось, – протянул мальчик.
– Ты это о чем?
Франц покраснел.
– Я хотел дочитать книгу… Вы не скажете папе?
– Нет, конечно. И поэтому ты не спал?
– Да. А потом я выглянул в окно и увидел…
– Как в спальне зажгли свет?
– Нет. Свет не зажигали, но занавески осветились изнутри. Наверное, кто-то принес с собой лампу.
– Или свечу, – подсказала Амалия.
– Нет, – мотнул головой Франц. – Для свечи свет был, ну, слишком большой. Это точно лампа была.
– Вот как? А ты не знаешь, сколько времени она там горела?
– Не знаю. Я на часы не смотрел.
– А что ты читал?
– «Графа Монте-Кристо», – ответил мальчик, краснея. – Вы не скажете маме?
– Ни за что, – пообещала Амалия.
– Я читал, читал, потом случайно взглянул в окно и увидел светлое пятно на занавесках, но это ведь могла быть их горничная, да? Так что я не стал ломать себе голову. Прочитал еще несколько глав, а свет так и не погас. Но когда я дочитал том до конца, света уже в комнате не было.
– Вот как, – протянула заинтересованная Амалия. – Несколько глав – это сколько?
– Три или четыре.
Так-с. Но даже если считать, что нетерпеливый читатель глотает строки быстрее, получается, свет в комнате горел… минут десять как минимум, а то и больше. Нет, пожалуй, все-таки больше.
Конечно, появлению постороннего в спальне убитой могло быть и свое объяснение. Безутешный муж пришел поплакать в комнату любимой жены. Может такое быть? Конечно, может…
Только вот почему безутешный муж, если это был он, вел себя так странно? Почему дождался полуночи и, судя по всему, прокрался в спальню, как вор?
Если бы Колбасин, Павел или Дуняша захотели прийти в комнату Евгении Викторовны, им для этого вовсе не надо было ждать сумерек и прятаться. А вот Ободовский, к примеру, мог осторожничать. Или не Ободовский, а кто-то еще.
– Раз горничных уволили, – сказала Амалия Августу, – значит, за лампами в доме следит твоя мама?
Мальчик кивнул так энергично, что у него аж затряслись белокурые вихры на макушке. И тут Георг решился.
– Вы ведь не уволите папу? – умоляюще спросил он.
– Нет, – успокоила его Амалия. – Конечно, не уволю.
«Пятнадцать минут или больше свет горел в комнате… ночь… Кто бы ни пришел в спальню Пановой, он явно что-то там искал. Деньги? Не исключено…»
Она увидела, как по дороге пылит двуколка следователя, и, сердечно попрощавшись с детьми, зашагала навстречу Ивану Ивановичу.
– Вы просили меня приехать, сударыня, и я в полном вашем распоряжении…
Амалия не стала тратить время даром.
– Дама в синем действительно существовала, и, кажется, я знаю, кого она искала, – выпалила она.
И вслед за этим сообщила следователю ход своих умозаключений.
– Так что ищите даму среди знакомых этого господина. Натали уверяет, что незнакомка была накрашена. Возможно, она актриса.
В то время женщины красились чрезвычайно умеренно, и культ косметики еще не достиг таких масштабов, какие он принял в XX веке.
– Гм… – с некоторым смущением промолвил Игнатов. – Скажите, госпожа баронесса, а что вы думаете о… так сказать, о версии Ергольского? Я имею в виду, что в его сюжете все случилось из-за театральных интриг…
Амалия пожала плечами.
– Раз Матвей Ильич сказал, что всему виной интриги, значит, в конечном счете это окажется не так.
– Почему? – с любопытством спросил Иван Иванович.
– Я читала его книги. Когда он пишет героев с себя… хотя, собственно, это не видимый он, а как бы некое внутреннее «я» автора, в основном идеализированное и воображаемое… так вот, пока он наделяет героев своими чертами, своими мечтами и мыслями, у него получается неплохо. Как только он пытается описать персонажей, которые ему не слишком близки, у него получаются психологически неубедительные характеры. Видно, что господин Ергольский плохо знает людей… или же не стремится узнать их ближе, – задумчиво прибавила Амалия.
Тут, признаться, у Ивана Ивановича мелькнула неуместная мысль, что баронесса Корф как раз знает людей очень хорошо, раз ее тактика с самого начала стала приносить плоды. Но следователь был достаточно умен и свое соображение оставил при себе.
– Я узнала еще кое-что, – добавила Амалия, – и если нам повезет, мне понадобится ваше присутствие для официального обыска.
– Обыска?
– Да. Дело в том, что ночью кто-то забрался в комнату Пановой. Он приложил немало усилий, чтобы остаться незамеченным, но его шаги слышал полицейский внизу, а пятно света на шторах заметил один из детей.
И она рассказала следователю все, что ей удалось узнать.
– Это очень странно, – признался Иван Иванович, подумав. – Боюсь, я совершил ошибку, не выставив еще одного полицейского у дверей ее спальни.
– Ну, если Эльза Карловна не переменила своих привычек, у нас еще есть время, чтобы все исправить, – отозвалась Амалия. – Идем!
Двое сообщников – если можно назвать сообщниками людей, которые сообща расследуют преступление, а не совершают его, – отыскали жену управляющего, которая на кухне давала указания кухарке и прервалась, заметив хозяйку.
– Скажите, Эльза Карловна, – начала Амалия, – вы лично следите за лампами в доме?
Этого жена управляющего отрицать не стала и добавила, что каждый день дважды все проверяет.
– То есть вы заправляете их керосином и следите, чтобы все было в порядке, как и должно быть. Хорошо, мой вопрос такой: сегодня ночью некто прогуливался в доме с зажженной лампой. Она горела четверть часа, возможно, даже полчаса. Можно ли определить по уровню керосина, чья именно это была лампа?
– Ах вот оно что, – протянула заинтригованная Эльза. – Не зря мне показалось, что утром керосина осталось меньше, чем должно быть… Я знаю, госпожа баронесса, кто вам нужен, – добавила она, распрямляясь.
…Анатолий Петрович взлетел по лестнице и хотел было войти в спальню жены, но стоявшая в дверях Амалия решительным жестом остановила его.
– Не сейчас, сударь. Не сейчас!
– Сережа сказал, что следователь задержал моего лакея и производит обыск, а Дуняшу вызвали сюда… В чем дело, в конце концов?
– Господин Игнатов просто делает свое дело, – колюче отозвалась Амалия. – Вы ведь хотите, чтобы убийство вашей жены было раскрыто, не так ли? – И она обратилась к стоявшей у комода Дуняше, которую вызвали сразу же после того, как Петр Линьков был задержан: – Продолжайте проверять вещи, Дуняша. Вы лучше всех знаете, что где лежало у вашей хозяйки. Из этой комнаты что-то пропало, и я хочу знать, что именно…
– Вы обвиняете Петра в краже? – возмутился Колбасин. – Послушайте, я знаю его много лет, актер он не бог весть какой, но в театре он давно, и мы прекрасно знаем, что он и копейки ни у кого не украл…
Амалия повернулась к собеседнику, и выражение ее лица было таким, что Анатолий Петрович, хоть и привык на сцене видеть всякое, тем не менее как-то нечувствительно сделал шаг назад.
– Сегодня ночью, – отчеканила Амалия, – ваш слуга Петр Линьков пробрался в спальню Евгении Викторовны и пробыл тут некоторое время. Его видели, так что отпираться бесполезно. Нам известно, что он что-то искал, и мы хотим понять, что именно это было…
Тем временем Дуняша с расстроенным видом задвинула последний ящик комода.
– Желтый конверт, – сказала она.
– Что? – живо обернулась к ней Амалия.
– У Евгении Викторовны был с собой желтый конверт, – волнуясь, проговорила горничная. – Она хранила там что-то важное и говорила, что он должен ей помочь…
– Какой желтый конверт? – изумился Колбасин. – Дуняша, о чем это ты?
– У нее был конверт, – упрямо повторила девушка. – Очень важный. Она хранила его в книжке с пьесами, вот здесь, в нижнем ящике. Сейчас книга на месте, а конверта нет.
Анатолий Петрович в изумлении развел руками.
– Что это за конверт? – требовательно спросила Амалия. – Может быть, там хранились деньги?
– Нет, – замотал головой режиссер, – нет! Деньги хранились частично у меня, частично у нее в шкатулке. Вон она, на прикроватном столике, Евгения… она никогда ее не прятала…
У него задрожали губы, когда он произносил имя жены. Амалия внимательно посмотрела на него и отвернулась. А ведь любил этот нелепый маленький человечек свою жену, ой как любил… По-настоящему. И на что она променяла его любовь? Точнее, на кого?
Как глупо, боже мой, как глупо…
– Идите, Дуняша, и позовите Эльзу Карловну, пусть она запрет дверь, – распорядилась Амалия. – У меня нет ключа.
И она направилась в комнату лакея Линькова, который неожиданно оказался на первом плане драмы, разворачивающейся в «Кувшинках».
Глава 15. Желтый конверт
Следует отдать Линькову должное: с видом полного смирения он сидел на старом стуле, пока Иван Иванович обыскивал его немногочисленное имущество, умещавшееся в одном обшарпанном чемоданчике. Возле Линькова стоял тот самый полицейский, который и сказал Амалии о шагах в комнате наверху. Поняв свою ошибку, он взирал на Петра с подозрением и неудовольствием, словно хотел сказать: «Знаем мы, знаем, что ты за шельма! Вот ужо погоди, господин следователь до тебя доберется…» Но пока все, что нашел добросовестный Иван Иванович, имело отношение исключительно к персоне самого Линькова и никак не могло послужить доказательством его ночного похода в опустевшую спальню на другом конце коридора.
– Желтый конверт, – объявила Амалия, стремительным шагом входя в комнату. – Куда ты его дел?
Да, Петр Линьков держался хорошо – до этого вопроса, но тут что-то в его лице дрогнуло, и Иван Иванович окончательно убедился, что баронесса Корф была права.
– Какой конверт… – начал слуга, ища взглядом бледного Колбасина, остановившегося в дверях.
Но тут Игнатова постигло озарение.
– А ну-ка, любезный, встань! Что-то ты как сел на стул, так от него и не отходишь…
Линьков поднялся, и, сокрушенно глянув с высоты своего немалого роста на Амалию, на Колбасина, на гадюку-следователя и седоусого полицейского, понуро отошел в сторону. Иван Иванович завладел старым стулом и вцепился в него, как утопающий – в соломинку. Собственно говоря, это была не соломинка, а, пожалуй, целое бревно – да что там, спасательная шлюпка; и окончательно это стало ясно, когда из-под поредевшей обивки, кое-где полностью отошедшей, был наконец извлечен тот самый желтый конверт из плотной бумаги.
Едва завидев конверт, Амалия тотчас же обернулась к Колбасину, но он, казалось, по-прежнему пребывал в полнейшем недоумении.
«Или он меня разыгрывает – актер! – или он действительно не знал, что это за конверт такой… В любом случае, верить ему нельзя…»
Успокоив себя этим соображением, Амалия подошла ближе. Конверт не был заклеен, а внутри находились не деньги, не драгоценности, а только одна старая фотография, на углу которой было пропечатано имя фотографа: «А. Воловский» и стоял адрес петербургского ателье. Судя по мундирам, здесь были изображены два студента, и одного из них Игнатов тотчас же узнал, хотя с тех пор тот отпустил усы, и в его волосах пробилась первая седина.
– Узнаете? – многозначительно спросил Иван Иванович, передавая снимок Амалии.
Тут он увидел ее выражение – и поразился. Нет, все-таки скажем правду: он даже не поразился, а испытал чувство, среднее между оторопью и испугом. В лице Амалии появилось что-то такое, что ему безотчетно крайне не понравилось. Губы с четко прорисованными уголками сжались, глаза метали молнии. Она буквально выхватила карточку у следователя, посмотрела на оборот (где не было ничего, кроме той же информации о фотографе и ателье, но по-французски) и сунула фотографию обратно в конверт.
– Прелестно, – проскрежетала она, – очень мило…
Теперь ошеломленный Игнатов и голоса ее не узнавал.
– Иван Иванович, мне понадобится полчаса для беседы наедине с… с ним. – Она коротко кивнула на застывшего в углу Линькова. – Дело оказалось довольно серьезным, и я надеюсь, что вы не будете на меня в обиде…
Следователь заверил ее, что, разумеется, она вольна действовать по своему усмотрению.
– А вы пока заполните бумаги и допросите остальных, что именно им известно об этой фотографии. Сам конверт пока побудет у меня.
По правде говоря, Иван Иванович изнывал от любопытства, но, видя, что баронесса не настроена давать объяснения, предпочел удалиться, уводя с собой полицейского и Колбасина. Дверь за ними затворилась.
– Можете сесть, – бросила Амалия лакею, а по совместительству – парикмахеру, актеру на мелкие роли и, как оказалось, вору.
Глядя исподлобья на странную даму, Петр Линьков бочком приземлился на стул и, не зная, куда деть руки, сложил их на коленях.
– Ну что ж, – непринужденно промолвила Амалия, став у стола (садиться ей не хотелось), – теперь поговорим. Предупреждаю: никаких уверток, иначе вам придется очень несладко. Вопрос первый: это вы убили Евгению Колбасину, более известную под псевдонимом Панова?
– Нет. Нет, что вы! – ужаснулся Петр. – Я никогда…
– Одного «нет» вполне достаточно, – оборвала Амалия. – Тем не менее вчера ночью именно вы взяли лампу и пришли в ее спальню, чтобы забрать желтый конверт. Откуда вы о нем узнали?
Петр несколько раз моргнул.
– Дуняша проболталась. Она у нас языкастая, слово за слово, ну и…
– Что именно Дуняша сказала вам о конверте?
– Хозяйка говорила, что на этой фотографии можно сделать хорошие деньги, но она этого не хочет. Дуняше показалось чудным, что фотография может быть такой важной, ну, она и рассказала мне…
– Дуняша сказала вам, кто именно изображен на фотографии?
– Я так понял, что Матвей Ильич Ергольский и какой-то преступник. Ему бы не понравилось, если бы эта фотография всплыла. Я хочу сказать, не преступнику, а…
– Спасибо, можете не уточнять. То есть ваша хозяйка могла бы этим фото шантажировать Матвея Ильича, но не хотела этого. Зачем же она взяла фото с собой?
– Ну так она специально приехала сюда, чтобы уломать Ергольского, – пожал мощными плечами Петр. – Потому она и настояла, чтобы мы остановились в «Кувшинках». Она хотела, чтобы он написал для нее пьесу.
– Матвей Ильич пьес не пишет.
– Это он так всем говорит, но на самом деле пишет. Для домашнего театра, для жены своей, чтобы ей не скучно было. А писатель он популярный, его книги расходятся очень хорошо. Его пьеса тоже бы имела громадный успех, если поставить ее в Петербурге.
– Поправьте меня, если я не права. Иными словами, ваша хозяйка хотела потребовать, чтобы Ергольский написал для нее пьесу, иначе стала бы грозить предать фото гласности?
– Да.
– Откуда у нее вообще взялась эта фотография?
– Я не знаю.
– Почему вы решили забрать фото после гибели хозяйки? Только не вздумайте мне врать.
– Видите ли, – пробормотал Петр, – я человек маленький. Конечно, к Анатолию Петровичу я очень привязан… и на сцену выхожу с удовольствием… но на «кушать подано» да на завивку волос актрисам не проживешь, верно? Вот я и подумал: если это фото такое стоящее, почему бы мне его не забрать…
– То есть вы хотели показать фото Ергольскому и попросить у него денег?
– Ну… да. Он же богатый человек, с него не убудет…
Амалия поглядела на Петра и с жалостью покачала головой. Как в его возрасте, с его жизненным опытом можно быть таким наивным?
– А может быть, это Ергольский просил вас выкрасть фото за деньги? Нет?
– Ничего он меня не просил, – обидчиво пропыхтел слуга. – Я решил: зачем добру пропадать? Я же не деньги украсть хотел… Анатолий Петрович и Павел Анатольевич даже и не знали, что это за фото такое, для них оно ничего не значило… А тот, второй, значит, и впрямь важный преступник? То-то мне кажется, что я его где-то видел…
– Известно ли вам, успела ли ваша хозяйка сказать или хотя бы намекнуть Ергольскому о том, что у нее есть это фото? Подумайте хорошенько, прежде чем ответить.
– Понимаете ли, сударыня… Я все-таки больше при Анатолии Петровиче был, а с хозяйкой в основном Дуняша имела дело… И она ничего мне не говорила… ну, о чем вы только что сказали… Я так понял, Евгения Викторовна хотела Матвея Ильича добром уломать, и только если бы он отказался наотрез, она бы показала ему фото…
Амалия не отвечала. Она вспомнила слова своего управляющего, которые ей передал следователь, – о том, что Панову вообще не должны были убивать, не тот это характер… «С ней не должно было случиться то, что случилось, поэтому я делаю вывод, что где-то она допустила ошибку», – сказал Франц Густавович. Уж не был ли затеянный ею шантаж той самой ошибкой? Ведь это фото может разрушить всю жизнь Ергольского, и легко.
Стоп, но если к убийству Пановой каким-то образом приложил руку Ергольский, почему он не забрал фото? И Амалия словно воочию увидела, как писатель делает вид, что работает в своем кабинете, тайком выбирается через окно, срезает дорогу по тропинке, которую не видно из дома, и приходит в «Кувшинки» незамеченным. Он заходит с черного хода, дети, которые находится у озера, его не видят. В гостиной он застает госпожу Панову… Почему застает? Да потому, что его вчерашнее описание сцены убийства засело у нее в голове. Она обратила внимание на то, что гостиная в «Кувшинках» как две капли воды похожа на ту, в которой ее должны убить… и даже ковер на полу действительно персидский. И Панова стоит в гостиной, созерцает ее, как театральную декорацию. Она хотела, чтобы Ергольский написал пьесу на сюжет, который он придумал экспромтом, а когда гости разъезжались, успела ему намекнуть, что у нее есть кое-что, что заставит его быть более сговорчивым… Итак, Ергольский пришел. Может быть, он подхватывает тему, говорит – как бы шутя – о том, что это готовая декорация, предлагает Пановой сесть в кресло, чтобы испробовать позу…
Нет, с сожалением констатировала Амалия, не годится. У него был револьвер, и он, увидев в гостиной Панову, уже взял с диванчика в соседней комнате маленькую подушечку, чтобы заглушить звук выстрела. Панова обязана была заинтересоваться, с какой стати он держит в руках подушку, а если Ергольский был взвинчен – а он наверняка был, – вряд ли она стала бы покорно садиться в кресло. Игнатов сказал, что у нее было спокойное выражение лица, она не сопротивлялась и явно не ожидала, что убийца выстрелит в нее…
Допустим, Ергольский сказал, что у него есть идея насчет ключевой сцены, попросил ее сесть в кресло, сам вышел…
– Я буду за актера, Евгения Викторовна! Я сейчас…
Он никого не встретил на пути сюда, в доме никого не заметно – надо рискнуть, иначе вся его жизнь будет уничтожена… Обливаясь потом, он достает из кармана револьвер, берет с дивана подушечку, которая заглушит звук выстрела, крадучись возвращается в гостиную – и стреляет в актрису.
После убийства он должен был подняться наверх и забрать фото, но у него, вероятно, уже не было времени, или он просто испугался… Могло такое быть? Конечно, могло… В ужасе, что он совершил убийство, в еще большем ужасе, что оно ему удалось, он спешит обратно… Револьвер сунул в карман, а подушка… выскочил из дома, затем по пути обратно выбросил ее в лесу – кто хватится какой-то подушки, когда в доме произошло убийство… И вот он снова у себя в кабинете, снова пишет… но после убийства вряд ли слова приходили ему на ум…
«Надо будет проверить, сколько страниц он успел написать в тот день», – подумала Амалия.
Револьвер он принес с собой, но где Ергольский его взял? Откуда оружие вообще появилось в этой истории? Если догадка Амалии правильна и револьвер принадлежал таинственной даме в синем, которая связана вовсе не с Ергольским, а с другим человеком, каким образом оружие могло оказаться у писателя?
И Ергольский ли вообще убил Панову? Правда, мотив у него был более чем весомый… Это не какие-то семейные дрязги, не любовные разочарования. Фото, которое неизвестно как попало в руки легкомысленной Пановой, стало картой, на которую оказалась поставлена вся его налаженная, спокойная, сытая жизнь…
Петр вздохнул. Так как он был все-таки человеком театра, то думал, что дама, которая стояла у стола, была бы чертовски хороша в ролях героинь, которые в каждом акте приказывают отрубить кому-нибудь голову. Почему-то выражение ее красивого лица с правильными чертами вызывало у него только такую ассоциацию. И если бы она сейчас заговорила стихами, как в старинной пьесе, это бы его тоже ничуть не удивило.
Но когда она подала голос, то всего лишь дала ему понять, что в его интересах держать язык за зубами и никому не говорить о том, что ему удалось узнать.
– Позже вы дадите показания господину Игнатову… Если вам удастся вспомнить еще что-то существенное, все расскажете ему.
– А меня арестуют? – забеспокоился Петр. – Потому что – вы только не сердитесь, сударыня, – ваш управляющий меня заменить не сможет, да и Дуняша тоже…
– Там видно будет, – уклончиво ответила Амалия.
И она отправилась на поиски Ивана Ивановича, с которым ей надо было кое-что обсудить.
Глава 16. Дикая орхидея
– Конечно, во всем виноват Ергольский, – философствовал Николай Сергеевич, уплетая эклер. – Будь я следователем…
«Этого еще не хватало!» – помыслила Клавдия Петровна. Обычно она не была настроена к своему родственнику столь критично, но почему-то именно сейчас ее так и подмывало возражать ему, что бы он ни говорил.
– Будь я следователем, – продолжал меж тем увлеченный поэт, – я бы его первого призвал к ответу. Я бы признал его соучастником свершившегося преступления хотя бы за то, что людей убивают именно так, как он придумал.
И, торжествуя, он откинулся на спинку кресла. В бороде его застряли крошки от пирожного.
– Это не преступление, – сухо сказала Клавдия Петровна.
– Убийство – не преступление? – притворно изумился Николай Сергеевич. – С каких это пор, интересно?
– Откуда Матвею Ильичу было знать, что человека убьют именно так, как он придумал? – рассердилась передовая дама. – И вообще, хватит толковать об убийстве. У меня от него аж голова разболелась!
Свистунов привстал с места и всмотрелся в окно.
– Что там?
– Да следователь во весь опор куда-то мчится, – доложил поэт. – И, по-моему, не один, но отсюда не видать, кто с ним.
– Где? – тотчас же забыв про якобы мучающую ее головную боль, повернулась Клавдия Петровна.
– Да вон, только что было видно на дороге, за деревьями, – отозвался Николай Сергеевич. – И едет он, между прочим, к Ергольскому!
Хотел того поэт или нет, но последняя фраза прозвучала весьма зловеще.
– Не может быть! – вырвалось у Клавдии Петровны.
– Я же говорил, что это Ергольский! – победно заключил Свистунов и взял с блюда еще одно пирожное.
Тут, впрочем, собеседников отвлекли, потому что горничная доложила, что хозяйку спрашивает господин арендатор.
Клавдия Петровна не любила и не умела вести дела. Если она покупала, то задорого, если продавала, то за бесценок. Хоть она и выросла в деревне, она понятия не имела о том, как надо вести хозяйство. Ее бы вполне устраивало, если бы булки сами собой росли на деревьях, потому что в жизни, конечно, этого не было. Несмотря на все невзгоды, у Бирюковой до сих пор оставалось во владении некоторое количество пахотной земли, на которой можно было вырастить пшеницу, не считая лугов и куска изрезанной оврагами местности, из которой тоже можно было бы что-то выжать, если бы приложить руки. Но у Клавдии Петровны не было ни охоты, ни желания с этим возиться.
Лес, который ей принадлежал, в конце концов почти весь выкупило семейство Корфов, деньги, за него полученные, прикарманил жулик-управляющий, а сменивший его другой управляющий оказался еще хуже, и с ним тоже пришлось расстаться. Очевидно, Клавдия Петровна принадлежала к тем людям, которые, несмотря на свои громкие заявления и кипучую общественную деятельность, оказываются совершенно беззащитны перед ворами всех мастей, и воры, само собой, этим пользуются.
Устав воевать с ворами и подсчитывать, сколько денег ей может принести десятина земли, если засеять ее пшеницей, и сколько надо платить работникам, она в конце концов сдалась. Землю после долгих переговоров арендовал черноволосый господин с печальными влажными глазами, вроде бы грек, и фамилия у него была не то Коксаки, не то Кусаки. Он платил за аренду какие-то деньги, конечно, не всю оговоренную сумму, но Клавдия Петровна была не из тех людей, которые способны закатывать скандалы из-за таких пустяков, как презренный металл, и всегда соглашалась подождать, если посевы побил град, потоптали коровы, поразила неведомая хворь или же все эти напасти случились разом (как, по словам печального господина, это нередко и случалось).
Вы спросите, а как же Николай Сергеевич, почему он не мог помочь своей родственнице с хозяйством? Увы, в делах практических поэт понимал еще меньше, чем Клавдия Петровна. Его уделом было служенье музам, хоть и в форме написания посредственных стихов, и никакой иной деятельности для себя он не признавал.
Но оставим пока Николая Сергеевича и его родственницу и последуем за следователем, который в сопровождении баронессы Корф – как вы, конечно, уже догадались – ехал в имение Матвея Ильича Ергольского, чтобы задать ему несколько дополнительных вопросов.
Антонина Григорьевна вышла к гостям, очень любезно поздоровалась с баронессой, которую хорошо помнила, и сказала, что муж работает и прерывать его нельзя, но он освободится примерно через четверть часа, так как в это время обыкновенно пьет чай.
– Хорошо, – сказал Иван Иванович, оглянувшись на свою спутницу. – Мы подождем.
Антонина Григорьевна удалилась, а Амалия, прежде чем сесть, задержала взгляд на широком блюде, стоявшем на подоконнике. Внутри этого блюда находился кусок трухлявого дерева, на котором примостилось, цепко обхватив его зеленоватыми корешками, невиданное экзотическое растение с большими темно-розовыми цветками.
– Это орхидея, – счел нужным объяснить Игнатов. – Георгий Антонович привез ее откуда-то из тропиков в подарок Антонине Григорьевне.
– Я помню, что он привез хозяину мангустов, – рассеянно отозвалась Амалия, – но вот про орхидею я совсем забыла. Кажется, хозяева говорили, что она очень тяжело восприняла переезд и погибала. По-моему, в тот раз я даже ее не видела… а теперь, получается, она ожила и даже цветет. Очень, очень любопытно!
– Что именно? – спросил заинтригованный следователь.
– Что господин Чаев счел нужным тащить эту корягу за тридевять земель, чтобы сделать приятное жене своего знакомого, – отозвалась Амалия.
– Но если мужу он привез мангустов… – начал Иван Иванович.
– Нет, – отмахнулась Амалия, – животные – это все-таки совсем другое: посадил их в клетку, корми, убирай за ними и вези, куда хочешь. Зверей привезти гораздо проще, а вот такое растение… Интересно, какие отношения у Чаева с женой Ергольского?
– А вы незнакомы с Чаевым? – спросил Игнатов.
– Видела его как-то раз в Петербурге, но здесь я с ним не сталкивалась.
– Полагаете, это может иметь отношение к предмету нашего расследования? – рискнул спросить Иван Иванович после легкой паузы.
– Все, что угодно, может иметь отношение к предмету нашего расследования, – в тон ему ответила Амалия. – А может и не иметь…
Иван Иванович собирался спросить, кем именно был второй человек на фотографической карточке, которая так взволновала баронессу Корф, но тут в дверях показался хозяин дома. И хотя следователь всегда остерегался делать поспешные выводы, завидев Ергольского, Игнатов все же непроизвольно подумал: «Он или не он?»
Приветствовав баронессу Корф, Матвей Ильич более сухо поздоровался со следователем и спросил, чем обязан чести видеть их у себя.
– Мы бы хотели, – сказала Амалия, – услышать ваши объяснения по поводу вот этого.
И, достав конверт, она развернула фото лицевой стороной к писателю, не давая, однако, карточку ему в руки.
…Когда Ергольскому случалось впоследствии вспоминать эти минуты, он всегда поражался, почему его не сразил удар и почему он не умер тут же, на месте. Вероятно, все произошло насколько неожиданно, что он даже не успел как следует удивиться. Однако ноги у него подкосились, и он рухнул в кресло, как подрубленный.
– Откуда это у вас? – прошептал он.
Тут Иван Иванович счел уместным вставить свое слово:
– Анатолий Петрович вспомнил, что фотограф был поклонником покойной Евгении Викторовны и за отсутствием прямых наследников завещал ей все свое имущество. Вероятно, она нашла это фото, разбирая старые карточки.
– И узнала вас, – подхватила Амалия. – Но что гораздо более существенно, она узнала человека, который стоит рядом с вами, а это – один из цареубийц.
«Боже мой!» – подумал сраженный следователь. Так вот почему лицо неизвестного показалось ему смутно знакомым, ведь с того рокового дня 1881 года прошло уже немало лет…
– Итак, милостивый государь, мы ждем объяснений, – сказала Амалия.
Но если Ергольского можно было застать врасплох, то ненадолго, и на лице его, когда он посмотрел на свою собеседницу, читался легкий вызов.
– Объяснений чего?
– Прежде всего, этой фотографии.
– Она не имеет никакого отношения… – начал Матвей Ильич. Он провел рукой по лицу. – Ну хорошо. Когда я учился в университете, я познакомился с этим… с тем, кто изображен на фотографии. Но если вы сделаете из этого вывод, что я знал о готовящемся покушении, что я принимал в нем участие или имел к нему хоть какое-то отношение, вы будете не правы. Мы… мы были просто хорошими знакомыми. Пили пиво, обсуждали спектакли, говорили о женщинах… И когда стали известны имена тех, кто принимал участие в… в преступлении, я просто не поверил своим ушам. Да, не поверил…
– Поправьте меня, если я не права, – вмешалась Амалия. – Хотя вы довольно близко знали этого… этого господина, вас не привлекали, и следствие вас не беспокоило. Верно?
– Не совсем. Полиция тогда трясла всех его знакомых, и кто-то упомянул и меня. Я дал показания, что видел его пару раз, но близко знаком не был, и на этом все закончилось.
– Иными словами, вы солгали, – уронил Игнатов.
– Хотел бы я видеть, как бы вы поступили на моем месте, – отозвался Матвей Ильич безнадежно. – Легко философствовать, когда лично тебе ничего не угрожает, говорить о том, что правда всегда лучше лжи, и прочий вздор. Если бы открылось, что мы были приятелями, у следствия возникли бы подозрения, за мной учинили бы тайный надзор… или случилось бы что-нибудь еще хуже, вроде обвинения в том, чего я не делал. А я в жизни не преступил ни одного закона. У меня даже намерения такого не было, понимаете? Я даже в Татьянин день, когда все студенты гуляют, а хозяева ресторанов от греха подальше убирают из залов все самое ценное, – так вот, я даже в Татьянин день не позволял себе распускаться…
– Скажите, вы были на суде? – спросила Амалия. – Когда вашего друга судили вместе с остальными?
Ергольский покачал головой:
– Нет. Понимаете, это было для меня потрясением. Как если бы вы знали человека, а потом оказалось, что он не человек вовсе, а… Даже не знаю, как описать то, что я чувствовал тогда, – беспомощно признался он. – И если вы хотите знать, испугался ли я, то я могу сразу же признаться, что да, испугался. Но не потому, что был в чем-то виновен, а потому, что был невиновен и… и вся эта история могла скверно отразиться на моей жизни и перечеркнуть все то, о чем я мечтал.
– А о чем вы мечтали? – безжалостно спросила баронесса Корф.
– Я хотел стать писателем, – твердо ответил Ергольский. – Я мечтал, знаете, о том, что напишу книгу, которая перевернет литературу. Но потом мне дали хороший совет, и я понял, что если у меня и есть талант, то он направлен совсем в другую сторону. Потом я изредка мечтал, что, может быть, когда-нибудь… позже… Но я всегда был занят той книгой, которую сочинял, и у меня больше не оставалось ни на что времени… Кроме того, первые годы сочинительства – самые мучительные, потому что ничего не знаешь, ничего не умеешь и бредешь, как слепой по лабиринту. – Он поморщился. – Конечно, у большинства моих товарищей были другие интересы – Жора гонялся за юбками, кто-то соревновался с другими студентами, кто больше выпьет, а мне все это казалось… ну да, казалось мышиной возней. Я не мог понять, почему, когда жизнь дается только раз, другого не будет, почему тогда большинство людей словно нарочно стремятся провести ее как можно более бестолково. Я и до сих пор этого не понимаю, по правде говоря…
– Скажите, Евгения Викторовна вас шантажировала? – спросил Иван Иванович.
– Шантажировала? – изумился Ергольский. – Зачем?
– Может быть, она намекала, что у нее есть способ сделать вас более сговорчивым и заставить вас написать пьесу, которая ей была нужна? – вмешалась Амалия.
– Пьесу? Но я не пишу пьес…
– А для своих домашних?
– Ах, вот вы о чем! Но это же совсем другое дело… Я просто отвожу душу… пародирую современных писателей и драматургов… Это и не пьесы вовсе, а так, сценки, которые могут сыграть два человека, я и Тоня. Понимаете, даже самое лучшее произведение искусства несовершенно, в нем просвечивают пружины, и если обнажить их еще сильнее, то получается очень мощный комический эффект… Взять хотя бы «Грозу» господина Островского: злобная мамаша, слабый сынок, забитая невестка, любовник, который не стоит ломаного гроша… Штамп на штампе! И вот у меня, например, выходит мамаша и говорит, что она злобная и всех тиранит, потому что так надо автору… ну, это я, к примеру… А сынок спрашивает, не умерли ли зрители от скуки, глядя на то, какой он ничтожный. Может быть, вам это покажется примитивным, но…
– Хорошо, – сдался Игнатов, – давайте все же вернемся к нашей главной теме. Итак, вы утверждаете, что госпожа Панова ни словом, ни намеком не давала вам понять, что у нее имеется на вас нечто компрометирующее… Ведь она приехала сюда именно для того, чтобы договориться с вами о пьесе, а фото приберегала, так сказать, как последний довод…
– Вы шутите! – Ергольский распрямился. – Значит, Тоня была права, когда говорила, что ей кажется, будто Панова объявилась тут неспроста… Боже мой!
– Матвей Ильич, – вмешалась Амалия, – все же, прошу вас, ответьте честно. Возникало ли у вас когда-либо впечатление, хоть на миг, что Панова угрожала вам – да или нет?
– Нет, она мне не угрожала! – сердито сказал Ергольский. – Может быть, позавчера, когда гости разъезжались, уронила странную фразу, что я все равно напишу для нее пьесу, хочется мне этого или нет… Но это было сказано как бы в шутку… совсем не всерьез…
– Полагаю, что вы все же отдаете себе отчет в том, что наличие этого фото заставляет нас предположить самое худшее, – сказал Игнатов. – У вас был мотив, Матвей Ильич. Именно вы придумали, как произойдет убийство… И вдобавок у вас нет алиби.
– Вы собираетесь меня арестовать? – мрачно спросил писатель. – Но я не убивал ее! И понятия не имею, кто это сделал… Потом, если вы правы и она собиралась меня шантажировать, может быть, она занималась этим не в первый раз? Что, если был кто-то еще, на кого она пыталась… пыталась повлиять, и этот человек счел, что дешевле и проще будет избавиться от нее навсегда?
– У вас есть конкретные предположения? – медовым голосом осведомилась Амалия.
– Предположения? – Ергольский пожал плечами. – Да взять хотя бы Башилова. Он уверял – и Панова подтвердила, – что видит ее в первый раз, но они оба солгали.
– Что заставляет вас так думать? – с любопытством спросил Игнатов.
– Так не смотрят на незнакомого человека, как он на нее смотрел, – отрезал писатель. – У них в прошлом что-то было, не знаю, возможно ли это проверить, но было! А так как Башилов – гнусный тип, хоть и миллионщик, Панова многое о нем могла знать…
– Однако вы принимаете этого гнусного типа у себя в доме, – поддела его Амалия.
– Только ради его дочери. Не надо быть знатоком человеческих душ, чтобы не видеть, что это глубоко несчастная девушка. Ее родители вместо того, чтобы цивилизованно расстаться, устроили из нее нечто вроде каната, который каждый перетягивал в свою сторону. Они ей душу разорвали, понимаете? Сейчас, когда рядом этот молодой человек, уже не так заметно, как она страдала, потому что – понимаете, только близкие люди способны причинять настоящие страдания, – добавил он, волнуясь. – Те, которые далеко, не посмеют нас задевать, а даже если посмеют, то получат отпор, да и без всякого отпора можно вычеркнуть их из своей жизни, не обращать на них внимания. А от близких никуда не денешься, даже если очень захотеть…
Он говорил, взмахивая рукой в такт словам, лицо его исказилось, и Амалия видела, что он думает не только и не столько о Натали, сколько о своем отце-картежнике, из-за которого остальным Ергольским в свое время пришлось порядочно натерпеться, и о каких-то тяжелых личных переживаниях, связанных с другими людьми, женщинами, быть может…
– Скажите, Матвей Ильич, вы работаете каждый день и каждый день пишете определенное число страниц? – спросила Амалия.
– Каждый день – только когда непосредственно сочиняю книгу, – поправил ее Ергольский, немного удивившись вопросу. – К некоторым романам приходится отдельно собирать материал, иногда ездить на место событий, читать исторические труды…
– Но сейчас вы пишете, не так ли?
– Да.
– Сколько страниц в день?
– По-разному. Обычно – двадцать или около того. Две главы.
– Мы бы хотели взглянуть на то, что вы написали вчера, – вмешался Игнатов, который понял, куда клонит Амалия.
Ергольский поднялся и вышел, а когда вернулся, держал в руках стопку листков.
– Здесь много сокращений… Я сокращаю некоторые слова, когда пишу, – пояснил он. – Некоторые ходовые глаголы, имена-отчества персонажей…
– И как же наборщики все это разбирают? – не удержался Иван Иванович.
– Антонина Григорьевна все переписывает набело без сокращений, когда приходит срок сдавать текст в печать, – последовал ответ. – Да она уже давно привыкла и знает, как я пишу…
Текст, представленный Ергольским, заключался на 22 страницах. Кое-где строки были отчаянно перемараны, прилагательные и наречия – заменены, и, в общем, Игнатов пришел к мысли, что жене писателя приходится нелегко, когда она потом переписывает произведения Ергольского набело.
– И это все было написано за вчерашний день? – спросила Амалия.
– Да, сударыня. Так что, как видите, у меня не было времени отвлекаться на убийство.
Иван Иванович нахмурился. Ему не нравилось, что в голосе Матвея Ильича вновь звенел легкий вызов – как будто он был виновен, но точно знал, что им с баронессой Корф до него ни за что не добраться. Ну и, конечно, мотив избавиться от Пановой у Ергольского был хоть куда…
– Я буду вам весьма признателен, если вы не будете покидать уезд на время следствия, – сухо сказал Игнатов.
– Я и не собирался никуда уезжать, – парировал Ергольский. – Но если вы полагаете, что это я убил ее, то вы зря тратите свое время. – Он поколебался. – Могу ли я спросить, что вы намерены делать с фотографией?
– Она будет приобщена к делу, – ответила Амалия. – Будут ли ее подробно разбирать на суде, другой вопрос, и если вы действительно невиновны, вам нечего бояться.
Матвей Ильич насмешливо сощурился.
– Всякий раз, когда в моем романе герой говорит: «Вам нечего бояться», – с его собеседником обязательно приключается какая-нибудь гадость, – уронил он. – С другой стороны, можно считать, что самое худшее со мной уже произошло, так что я просто не вижу, что еще может случиться. До свидания, господин Игнатов, и вы, госпожа баронесса. Не стану притворяться, что мне было очень приятно с вами беседовать, но ведь наши чувства были взаимными, не так ли?
И он удалился, оставив, как и все писатели, последнее слово за собой.
Глава 17. Маски сброшены
– В сущности, у нас нет никаких доказательств того, что Ергольский сказал нам правду насчет своего текста, – заметил Игнатов, когда они с баронессой Корф возвращались обратно в «Кувшинки». – Он мог представить нам главы, которые написал позавчера или даже сегодня, чтобы обеспечить себе видимость алиби, потому что установить точное время написания каждой главы невозможно.
– Совершенно с вами согласна, – отозвалась его собеседница.
– И Панову он вполне мог убить. О том, что и как она ему сказала, мы знаем только с его слов. Если она все же угрожала ему…
– Револьвер, – нетерпеливо напомнила Амалия. – Откуда он взял револьвер? И зачем так откровенно, при всех, описал, как ее будут убивать? Нет, я вполне допускаю, что Евгения Викторовна была не слишком умна – из ее действий вроде бы напрашивается такой вывод, – но если бы она решилась на шантаж, она должна была все же насторожиться, когда Матвей Ильич расписывал при всех свои фантазии. Однако вы же сами сказали, что ее лицо и поза, когда вы ее нашли, были совершенно спокойны, она явно не опасалась своего убийцы…
– А если мы с вами не правы? – быстро спросил Иван Иванович. – Оружие-то женское, но разве в окружении Матвея Ильича нет женщины, которая рискнула бы всем, узнав, что ему грозит опасность?
– Вы об Антонине Григорьевне?
– Да. В конце концов, что нам о ней известно? Милая хозяйственная женщина, очень сдержанная, всегда молчаливая… Кстати, вы знаете, что она жила у своих теток, которые попрекали ее каждой копейкой, и что когда Ергольский женился на ней, она была бесприданницей?
– Местные сплетни не обошли меня стороной, – с иронией ответила Амалия. – Да, история женитьбы Матвея Ильича мне хорошо известна.
– Она всем ему обязана и души в нем не чает, – продолжал следователь. – Что, если мы ищем не там? Что, если это она убила Панову, когда поняла, какая опасность угрожает мужу?
– Я думаю, что, если мы установим, откуда взялся револьвер, многое станет ясным, – отозвалась Амалия. – Пока, как вы сами видите, со всеми нашими версиями что-то не так, хоть одна деталь да не вписывается в общую картину… Но вы, безусловно, правы в том, что некоторые женщины ради своего мужчины готовы пойти на многое, поэтому Антонину Григорьевну ни в коем случае не следует выпускать из виду.
Пока наши сыщики делились своими соображениями, в усадьбе Ергольского та, кого они решили не выпускать из виду, рассеянно подняла крышку инструмента, провела пальцами вдоль клавиш, не нажимая на них, и о чем-то задумалась. Неожиданно выражение ее лица изменилось, она вздрогнула и обернулась. Позади нее, заложив большие пальцы рук в жилетные карманы, стоял Чаев.
– Георгий Антонович! – вырвалось у Ергольской. – Как вы меня напугали!
– Простите, ради бога, – сказал журналист с преувеличенным смирением, пытливо глядя ей в лицо. – Каюсь, каюсь… Похоже, наш следователь решил всерьез за Матвея-то приняться, а? В самом деле: посади такую известную фигуру, и карьера обеспечена…
– Не надо так говорить, – с неудовольствием промолвила Антонина Григорьевна, опуская крышку рояля.
– Значит, вы тоже слышали, о чем они говорили, – удовлетворенно констатировал Чаев, подходя ближе. – Не стану скрывать, я ожидал чего-то подобного. То-то мне показалось странным, с какой поспешностью он бросил тогда университет…
– А вы, значит, рады, да? – сердито спросила его собеседница.
– Да, рад, – серьезно ответил журналист. – Потому что вы наконец увидели его истинное лицо, Антонина. И это лицо труса, не исключено, что и убийцы…
– Матвей никого не убивал!
– Ой ли? Глупая актриса приехала в глушь, чтобы выжать из известного писателя пьесу, которая имела бы анафемский успех. В качестве главного довода она запаслась компрометирующей фотографией, но переоценила свои силы. Черт возьми, если бы мне изложили такую историю, я бы даже колебаться не стал! Конечно, он у них теперь первый подозреваемый…
– Вы так говорите, потому что вы его ненавидите, Георгий Антонович! – крикнула Ергольская, выведенная из себя. – И всегда ненавидели!
– Да, ненавидел, – подтвердил Чаев, подходя еще ближе. – Но не потому, что он лилипут от литературы, раздувающий щеки и строящий из себя писателя, и не потому, что у него все хорошо и деньги за его никчемные романчики текут к нему рекой, а совсем по иной причине. Зачем, зачем он встрял между нами, Антонина? Ведь этого не должно было случиться, понимаешь, не должно!
– Перестаньте, Георгий Антонович, – пробормотала Антонина Григорьевна, косясь на дверь. – Нет никакого смысла говорить об этом сейчас.
– Нет, только об этом можно и нужно говорить, – возразил Чаев. Его глаза лихорадочно блестели, губы кривились в нервной усмешке, которая совсем ему не шла. – И это ведь я, я познакомил вас тогда! Мне даже в голову не могло прийти…
Антонина Григорьевна распрямилась. Куда девалась серая, молчаливая и многим наверняка казавшаяся незначительной безвестная спутница известного писателя? Теперь у нее была осанка королевы, а глаза метали молнии.
– Почему? – высокомерно осведомилась она. – Потому что вы предназначали меня только для себя? Я все равно не стала бы вашей, Георгий Антонович…
– Стала бы, если не этот глупец с его предложением руки и сердца!
– Вы, очевидно, считаете, что если вы сто раз повторите женщине одно и то же, на сто первый раз она сдастся и ответит «да», просто потому, что ей наскучит говорить «нет», – язвительно парировала Антонина Григорьевна, и какие-то совсем незнакомые нотки зазвенели в ее голосе. – Но если я говорю «нет», это значит нет. И покончим на этом!
– Почему? – умоляюще спросил Чаев, взяв ее за руку. Антонина Григорьевна попыталась освободиться, но журналист сжал ее руку еще сильнее. – Нет, я просто хочу понять: почему? Что такого есть у него, чего нет у меня?
– Боюсь, вам этого не суждено понять, – презрительно бросила Ергольская. – Порядочность.
– Хороша порядочность! Тип, который дружил с террористами…
– Зря я пустила вас в наш дом, – устало проговорила Антонина Григорьевна. Ее плечи поникли. – Надо было давно мне открыть ему глаза, чтобы он понял, чего вы стоите.
– Ты бы этого не сделала, – сказал Чаев, волнуясь. – Ведь не сделала бы, признайся? Ты, как все женщины, которые сделали неправильный выбор, но ни за что в нем не признаются, особенно если это касается мужчины. Тебе было тяжело в семье, и Ергольский предложил тебе выход, не потому, что любил тебя, а просто потому, что ему нужна была секретарша, служанка и любовница в одном лице. – Антонина Григорьевна все-таки выдернула руку и с размаху дала Чаеву пощечину, но он даже не шелохнулся и не переменился в лице. – Тоня, ну открой же наконец глаза! Он эгоист, для которого ничто на свете не существует, кроме его никчемных книжек! Когда случилась история с Пановой, он, конечно, был в ужасе, но уверяю тебя, он уже сейчас вовсю обдумывает, как бы поэффектнее развернуть этот сюжет в следующем романе… А на людей ему наплевать! Они для него только материал, который он волен использовать как ему заблагорассудится, он коллекционирует человеческие судьбы, как какой-нибудь ученый – своих бабочек… Ты никогда не думала, почему у него нет друзей, кроме меня? И то – я общаюсь с ним совсем не ради него, ты же знаешь…
– Я знаю, что вы уже который год не даете нам покоя, – с горечью отозвалась Антонина Григорьевна. – Странно, столько кораблей идет ко дну, но вы никогда не оказались ни на одном из них…
– Ты мне желаешь смерти? – потрясенно спросил Чаев. – Мне? Я готов был на все ради тебя…
– Да? Так давайте рассмотрим, на что именно вы были готовы. Сделать меня своей любовницей, вернее, одной из любовниц, а затем бросить. Не так ли? Ведь я права, да? С абортами, незаконными детьми, болезнями и нищетой, конечно, пришлось бы справляться мне одной. – У Антонины Григорьевны задрожали губы. – Вы, мужчины, никак не понимаете, не хотите понять, что для нас и для вас случайная связь означает совсем не одно и то же. В глазах света вы всегда молодцы, даже если довели любовницу до отчаяния и бросили ее в нужде, а что остается женщине? Вспоминать о своем недолгом счастье и сожалеть, что оно не прошло мимо нее; терпеть насмешки, ушаты грязи и… и все прочее. По-вашему, вы делали мне великую честь, когда намекали, что я должна стать вашей любовницей, потому что свое имя вы мне дать не хотели – почему? Ведь вы же не были женаты, Георгий Антонович, вы были свободны, как ветер, если не больше. Если вы так любили меня, по вашим словам, чего вы ждали? – Чаев молчал. – Думали, что для нее и так сойдет, верно? А вот Матвей Ильич, о котором вы все время говорите, что он эгоист, не стал унижать меня, он сразу же предложил мне стать его женой. «Со мной вам, конечно, будет скучновато, – сказал он мне тогда, – ремесло писателя не из веселых». Но я рада скучать с ним, я рада быть ему полезной во всем, что бы он ни попросил…
Она говорила, но одна неотвязная мысль мучила ее все это время – мысль о том, что Чаев подлец, что он теперь знает о фотографии и может в любой момент тиснуть статейку, которая погубит Ергольского, а даже если не погубит, то уж наверняка испортит ему жизнь. И внезапно ее озарило: она поняла, как именно может спасти мужа.
– Если с ним что-то случится, я покончу с собой, – просто сказала она.
Георгий Антонович поглядел на нее потерянно и, враз обмякнув, каким-то механическим движением опустился на стул. И, увидев выражение его лица, Антонина Григорьевна поняла, что она выиграла.
«Правильно муж написал в какой-то из своих книг: у того из двоих, кто не любит, всегда есть преимущество над тем, кто любит… Только бы Матвей не узнал обо всем этом! Он такой доверчивый, и он всерьез думает, что Чаев ему друг…»
– Если бы ты хоть немного любила меня, ты бы ушла от него, – глухо произнес Георгий Антонович.
Он поглядел на нее и увидел, что все королевское, что только что проглядывало в ее осанке, в ее поведении, стушевалось, куда-то ушло. Теперь Антонина Григорьевна казалась такой же, как и прежде, и только ноздри ее трепетали, говоря о недавних переживаниях.
«Господи, ну что за обуза, в самом деле! Просто мучение какое-то. Ответь я тогда на его домогательства, он бы и думать обо мне забыл… Но нет, видите ли, он до сих пор страдает, что я его отвергла…»
– Ты думаешь, отчего я так много путешествую? Чтобы забыть тебя, Тоня, но не получается никак. Все время возвращаюсь, и… А ты все-таки подумай над моим предложением. А?
Но она не успела ответить – что, в общем-то, не нужны ей ни он, ни его предложения, ни все, что он мог бы или хотел ей дать, – потому что появилась горничная и сказала, что приехала Клавдия Петровна Бирюкова, которая желает срочно видеть Матвея Ильича.
– Он ушел к себе, работать, – отозвалась Антонина Григорьевна. – Проводи ее сюда, я ее приму, узнаю, в чем дело.
С первого же взгляда она поняла, что передовая дама чем-то расстроена. «Проблемы в земстве? Очередные интриги губернского начальства?» И Антонина Григорьевна приготовилась выслушать очередную порцию разоблачений, до которых была так охоча Бирюкова.
– Я бы хотела поговорить с Матвеем Ильичом, – пролепетала Клавдия Петровна. – Я… я совершенно не знаю, что делать!
Значит, все-таки губернские интриги. Антонина Григорьевна подавила вздох, предчувствуя очередной бесконечный рассказ о том, как кто-то где-то кому-то дал взятку, и опять по этому поводу ничего не происходит, общественность не волнуется, а если волнуется, то недостаточно, и необходимо предать огласке, добиться смещения… и т. д. и т. п.
Но тут она увидела, что Клавдия Петровна плачет, и бросилась ее утешать.
– Клавдия Петровна, милая, что с вами? Ну право же…
…После разговора со следователем и сопровождавшей его баронессой Корф слова не шли Ергольскому на ум. Матвей Ильич скомкал очередной лист с неудачным наброском, чертыхнулся, поднялся из-за стола и направился в гостиную, где застал рыдающую гостью, которая причитала так громко, что под ней трясся стул.
– И этот арендатор… Коксаки или Кусаки, вечно я путаюсь… предложил выкупить землю… Вместе с имением… А я почему-то вспомнила рассказ Матвея Ильича и в шутку говорю: «Вы, сударь, меня не проведете, я прекрасно знаю, что вы в земле этой нашли…»
И она зарыдала басом, глухо подвывая и раскачиваясь всем телом из стороны в сторону.
– Он аж в лице переменился… Как, говорит, так вы уже знаете? Ну и выложил мне все в расстройстве… С-серебро! Не золото, но… серебро… Ы-ы-ы!
Ергольский выпучил глаза.
– Тоня, что тут творится? Какое серебро? Чем Клавдия Петровна так расстроена?
– Вы… выдумщик! – простонала передовая дама, поворачиваясь к нему. – Видите, как ваши фантазии сбываются? Сначала – Панова… Мне вы сказали, что на моей земле золото найдут… Только там не золото, понимаете? Там – серебро! Этот жулик хотел, ничего мне не говоря, мою землю перекупить…
– Господи, Клавдия Петровна, – пролепетал писатель, – ну так на вашем месте я бы радовался… Серебро… так вы разбогатеете, честное слово!
– Вот и Николай Сергеевич так сказал! – простонала Бирюкова. Ее лицо было залито слезами. – Он уже планы составляет, сколько своих поэтических сборников выпустит… на лучшей бумаге… с иллюстрациями и золотым обрезом… Обрез ему подавай золотой, видите ли! Матвей Ильич, голубчик, ну почему вы не придумали что-нибудь получше про меня, а? Что сюда приехал хороший человек, например, что мы познакомились… и я вышла за него замуж! – добавила она с надеждой, понимая, что отступать уже некуда.
Чаев кашлянул. В глубине души он презирал Ергольского, но при всем при том не мог не оценить тонкий комизм происходящего.
– Ну так хороший человек в истории тоже имеется, – с насмешкой заметил журналист. – Просто раньше вы не обращали на него внимания.
– А? – Клавдия Петровна встрепенулась. – Кто же?
– Безутешный вдовец Колбасин, – отозвался Чаев. – А что? Человек он солидный, положительный, наверняка мечта многих женщин…
Язвительность последних слов в полной мере могли оценить разве что сам автор и Антонина Григорьевна, потому что Чаев, конечно, намекал на ее мужа. Ергольский нахмурился: интонация человека, которого он считал своим другом, ему инстинктивно не понравилась.
– Ну какой Колбасин, вы меня прямо смущаете, Георгий Антонович, – залепетала Клавдия Петровна. – Он же… он режиссер, а что я понимаю в театре? И он маленький! – обидчиво прибавила она. – Мне бы кого побольше… поимпозантнее…
– О, Клавдия Петровна, да на вас не угодишь! – покачал головой Георгий Антонович. – Конечно, я понимаю, богатая невеста…
– Жора, я тебя умоляю, – поморщился писатель. – Ну что ты, ей-богу…
– Чем говорить глупости, лучше придумал бы Клавдии Петровне счастливый конец, белую фату и свадебный марш, – ехидно заметил журналист. – Что-то твои выдумки подозрительно часто стали сбываться, так почему бы не обрадовать хорошего человека?
– Господи, – в изнеможении промолвил Ергольский, – когда вы наконец поймете, что вымысел – это вымысел, а жизнь… Жизнь – это черт знает что! И одно с другим может быть никак не связано…
Но тут он увидел умоляющие глаза Клавдии Петровны и сдался.
– Хорошо. Обещаю вам, что в этом году вы обязательно выйдете замуж за… гм… того, кто вам придется по сердцу… А Николай Сергеевич уедет в Петербург и больше не будет вам докучать. Вот!
– С чего это ты решил услать его туда? – заинтересовался Чаев.
– Можно подумать, тебе непонятно, – фыркнул Ергольский. – Золотой обрез ему, видите ли, подавай!.. Для его-то стихов, где поэзия и не ночевала! Вечно в жизни так – лучшие произведения печатаются черт знает как, на самой скверной бумаге, зато уж бездарность найдет способ, как тиснуть себя в сафьяновом переплете да с обрезом золотым…
Глава 18. Подушка
– И все-таки я не знаю, кто это мог быть, – сказал Павел. – А ведь я тоже видел, что в саду кто-то прятался. И этот человек, который слышал Матвея Ильича, решил использовать его рассказ, чтобы отвести от себя подозрения…
Серж поморщился. По правде говоря, разговоры об убийстве уже начали действовать ему на нервы. Он был молод, влюблен и с куда большим удовольствием побеседовал бы о чем-нибудь другом – о том, какие у Натали изумительные колечки волос на шее, какая у нее чудесная улыбка, когда она радуется по-настоящему, и вообще какая она вся замечательная.
– Как там твой отец и Ободовский? Еще не прикончили друг друга?
– Какое там… То, что сказала эта баронесса, все изменило. Когда я уходил, папа и Иннокентий Гаврилович беседовали вполне мирно, представляешь?
Этот разговор молодых людей имел место в саду усадьбы. Серж присел на гамак, протянутый между двумя деревьями, а Павел устроился на низеньком стуле, стоявшем неподалеку. Листва близстоящих деревьев отбрасывала на лица подвижную тень.
– Я сейчас говорил с Натали, – сказал Серж. – Она уверяет, что в саду была женщина.
Павел аж привстал с места.
– Она уверена? Она действительно ее видела?
– Да, и описала следователю. Думаю, ее скоро найдут.
– Дай-то бог! – искренне промолвил Павел. – Ты просто представить не можешь, какие мысли лезли мне в голову, когда…
Он запнулся и оборвал себя на полуслове.
– Лучше я скажу, какие мысли были у меня, когда я узнал, что ты ушел в лес один, с ружьем и в своем лучшем костюме, – сердито проговорил Серж. – Хотя буквально накануне вечером говорил мне, что охота – не для тебя.
Павел покраснел.
– В конце концов, я мог и передумать…
– Передумать? А ты знаешь, что я чувствовал, когда тогда тебя искал? Я каждую минуту думал, что найду твой труп. Нет, ну ей-богу, ты совсем с ума сошел?
– Послушай, – рассердился Павел, – что ты себе позволяешь?
– А ты? Я ведь не следователь, не официальное лицо, я твой друг, ты сам тысячу раз говорил, что это так. Разве нет? А если бы ты… если бы ты сделал то, что собирался, и убил себя – как, по-твоему, я бы себя чувствовал? Ведь я бы первый себя винил, что не заметил, не обратил внимания, не удержал тебя. А твой отец? О нем ты хоть подумал, ведь у него никого нет, кроме тебя? Как ты мог, черт побери, – уже не сдерживаясь, закричал Серж, – как ты мог? Я думал, я в этом проклятом лесу с ума сойду! Я ругал себя последними словами, что не остался с тобой после завтрака, а поспешил к Наташе… Как этот чертов Ергольский где-то написал: «Бывают минуты, когда думаешь, что выбираешь галстук для вечера, а на самом деле ты выбираешь смерть для кого-то из твоих близких». Мне это тогда показалось глупой фразой, а когда я бегал по лесу и искал тебя, я наконец-то понял, что он имел в виду…
И тут Павел не выдержал и расплакался. Он долго крепился, но сил его не хватило, и слезы теперь катились градом по его щекам.
– Послушай, – пробормотал пораженный Серж, – Паша! Да что это такое… Ну вот чем хочешь тебе поклянусь, что никогда я не хотел сказать тебе что-то обидное… – Сердясь на себя, он стал хлопать по карманам, ища платок, но тот был коварен, как все носовые платки, и куда-то запропастился именно тогда, когда больше всего был нужен. – Дуняша! Дуняша!
– Не надо ее звать, – всхлипнул Павел, вытирая слезы. – Ни к чему… Я не хочу, чтобы она меня таким видела. – Он попытался выдавить из себя улыбку, но она получилась вымученной и жалкой. – Понимаешь, вчера утром я почувствовал, что мне все невмоготу.
– За завтраком, что ли? – с недоумением посмотрел на него Серж. – Да что такого там случилось?
– Нет, не за завтраком, а позже. Когда услышал, как мать разговаривает с отцом. – Павел замялся. – Теперь-то я понимаю, что она… ну… не совсем искренней была, а чуть-чуть играла роль… ну, ты понимаешь. Начало разговора я не слышал, слышал только, как отец повысил голос и стал говорить, что она ведет себя неприлично с Ободовским, что он ее муж, что он не желает быть посмешищем… И мать стала ему говорить, что он отравил ее юность, что она играла в скверном театре, тратила силы впустую на его бездарные постановки и вообще он испортил ей жизнь… это он-то, понимаешь, который всегда был готов в лепешку расшибиться по первому ее знаку, и авторов умасливал, и всегда старался, чтобы все было так, как она хотела… Но больше всего меня уязвило не это, а то, что в разговоре она упомянула и меня. Сказала что-то вроде: «И ваш никчемный сын, который ни на что не способен…» Ваш сын, понимаешь, как будто я не был и ее сыном тоже! Меня это убило, понимаешь, просто убило! Ну, думаю, раз я такой никчемный, то к чему дальше жить? Застрелюсь. В общем, надел я новый костюм, чтобы не выглядеть совсем уж скверно, когда меня найдут, взял ружье и пошел в лес… – Он замолчал.
– И что? – мрачно спросил Серж.
– А в лесу так, знаешь, сумеречно, тихо, то есть не тихо, а звуки доносятся только свои, лесные. Кукушка вдали кукует, дятел стучит по дереву, птицы перекликаются… лучи золотыми столбами до земли стоят… И ты понимаешь, что ты, какой ты есть, со всеми своими переживаниями – дрянь ничтожная, и лесу на тебя совершенно наплевать, и поделом. – Павел замялся. – Я уже совсем было решился, приставил дуло ко рту, но курок оказался далеко, я стал его нашаривать рукой… а тут белка с дерева – прыг-скок! Покрутилась неподалеку, поглядела на меня, дурака, и поскакала дальше по своим беличьим делам… И как-то мне расхотелось умирать. Может, я просто струсил, не знаю…
Серж вздохнул. В чем-то он понимал своего друга, но все же то, что он считал слабостью Павла, выводило его из себя. Покончить с собой из-за семейных дрязг, в расцвете лет, сдаться без борьбы, не пытаться даже отдалиться от обстоятельств, которые заставляют тебя страдать, – да что это такое, в самом деле?
– А если бы белка не бежала мимо? Ты что, выстрелил бы?
– Не знаю, – вяло ответил Павел. – Может быть.
– Ты хоть слышал, как я тебя искал? Я кричал, чуть не надорвался…
– Нет, я тебя не слышал. Я пошел куда глаза глядят, дошел до самого болота, сделал большой крюк и вернулся, только когда понял, что проголодался. Думал, мать будет меня попрекать, что вот, охотился, а ничего подстрелить не мог. Но оказалось, что она уже больше никогда ничего не скажет…
Серж посмотрел на него и отвернулся.
– Что? – вяло спросил Павел. – Хочешь мне сказать, какой я идиот?
– Да нет, я совсем о другом думаю, – рассеянно отозвался его друг. – Мы с Наташей хотим пожениться.
– Правда? – обрадовался Павел. – Господи, какое счастье, что хоть у кого-то все хорошо… Я очень рад за вас!
– Нет, нет, погоди… Ты же понимаешь, ее отец – сам Башилов… и говорить мне придется с ним, а мы пока только с Наташей обсуждали… Правда, она уверена, что он не станет чинить препятствий. Ну вот, если она права… ты будешь моим шафером?
– Сережка! Да конечно же…
Павел был так рад, что кинулся обнимать друга.
– Я так и знал, так и знал, что к этому идет! Помню, когда вы только впервые встретились и поглядели друг на друга, я почувствовал, как между вами пробежала искорка…
– Да ладно тебе, что ты выдумываешь…
– Ты у моего отца спроси! Он тоже это заметил…
Неожиданно Серж перестал улыбаться, глядя куда-то поверх плеча Павла. Колбасин отпустил его и обернулся. В нескольких шагах от них стоял следователь Игнатов, и Павел сразу же заметил, что Иван Иванович чем-то встревожен.
– Простите, что вам угодно? – довольно сухо спросил Павел.
– Я ищу горничную вашей матери, но ее нигде нет, – сказал следователь. – Вы не знаете, Дуняша куда-нибудь уходила? Я спрашивал у остальных, но никто не знает, куда она могла деться.
Серж нахмурился.
– Вы знаете, лично я как-то не обращал внимания…
– По-моему, она никуда не отпрашивалась, – пришел ему на помощь Павел.
– Я звал ее несколько минут назад, но она не появилась. Хотя обычно приходила довольно быстро…
Иван Иванович вздохнул.
– Ну что ж… Будем искать.
– Да что с ней могло случиться? – вырвалось у Павла. Он был раздосадован тем, что в их жизнь вновь врывалось нечто загадочное и, возможно, неприятное, и как раз тогда, когда все вроде бы началось налаживаться и Серж договорился с Наташей о самом важном событии в их жизни…
– Мы не знаем, что с ней случилось, – сердито ответил Иван Иванович, – но факт остается фактом: ее нигде нет, и никто понятия не имеет, куда она запропастилась.
И он поспешил к баронессе Корф – обсудить, что им делать дальше в связи с исчезновением Дуняши.
– Пока я не вижу повода для паники, – сказала Амалия. – По вашим же словам, Дуняша была болтушкой, и, может быть, она просто отправилась посплетничать с кем-то в деревню.
Иван Иванович покачал головой.
– Я уже послал в деревню людей, – удрученно промолвил он. – Они вернулись и говорят, что там ее сегодня не видели.
Амалия нахмурилась.
– В таком случае, я полагаю, мы должны как следует осмотреть ее комнату.
– Думаете, она могла сбежать? – быстро спросил следователь. – Но почему?
– Прихватила драгоценности убитой хозяйки и была такова, – безжалостно отозвалась Амалия. – Это только один из вариантов. Заодно надо будет расспросить Колбасина, все ли вещи и деньги его жены на месте.
Однако осмотр спальни Пановой и показания режиссера позволили сразу же отмести версию о краже и последующем бегстве. Кроме того, когда Амалия и следователь, отпустив встревоженного Колбасина, перешли в каморку горничной, они увидели, что все вещи Дуняши лежали на своих местах, никто не пытался впопыхах собирать их для непредвиденного отъезда. На всякий случай следователь открыл стоявший в комнате небольшой шкаф – и отпрянул назад с удивленным восклицанием.
– Амалия Константиновна! Взгляните сюда…
И он извлек из шкафа небольшую подушку, из которой почему-то как раз посередине вылезло несколько перьев. Это была та самая подушка, которая пропала из комнаты рядом с местом преступления.
– Простреленная подушка, – сдавленно проговорила Амалия, вертя ее в руках. – Вот, значит, где она была…
– Так что, неужели Дуняша убила хозяйку? – спросил пораженный следователь. – Но зачем?
– Боюсь, что все гораздо хуже, – отрезала Амалия. – Она нашла подушку и поняла, кто убийца. Возможно, она видела, как выбрасывали подушку, и тогда же обо всем догадалась…
Игнатов закусил губу.
– Она могла потребовать у убийцы денег, – проговорил он, волнуясь. – Но тот, кто уже убивал однажды, вряд ли станет колебаться во второй раз…
– Нам надо ее найти, – решительно сказала Амалия. – Жива она сейчас или уже мертва, мы должны ее найти!
Иван Иванович кивнул и бросился собирать своих людей.
…Уже во второй раз за последнее время над усадьбой нависла нехорошая тень. Приехал товарищ прокурора, какие-то полицейские чины из Д., привезли даже собаку, которая будто бы могла взять любой след. Но собака бестолково металась по саду, а исчезновение Дуняши обрастало все новыми и новыми слухами, один нелепее другого.
Около шести вечера в усадьбе показалась взволнованная Антонина Григорьевна. Она передала Игнатову голубую ленту, немного испачканную землей, и сказала, что ее принес один из мангустов.
– Они очень любопытные, я уже привыкла, что из своих походов они постоянно притаскивают в дом что-нибудь… Но одна из наших горничных сказала, что Дуняша любила носить в волосах такую же ленту, вот и я решила, так сказать… поставить вас в известность…
– Жуткое неприличие, – печально говорил тем временем во флигеле Франц Густавович своей жене. – Сначала убили госпожу, потом пропала горничная… и все из-за меня! Госпожа баронесса давно должна была меня уволить…
– Не глупи, Франц, – отозвалась его практичная жена. – Она отлично понимает, что ты тут ни при чем…
Самолюбивый Франц Густавович приготовился обидеться, – так, самую малость, чтобы иметь повод немножко поворчать, – но тут он заметил, что из троих детей в комнате находились только двое.
– Где Август? – сердито спросил он. – Я не желаю, чтобы он разгуливал один, когда в доме творится такое…
– Вот он бежит, – сказала Эльза Карловна, выглядывая в окно.
Однако запыхавшийся Август бежал вовсе не домой, а в усадьбу, к баронессе Корф.
– Госпожа баронесса! Я знаю, где та девушка… Я ее нашел!
Выслушав его, следователь, полицейские и все, кто находились в доме, бросились к озеру.
В дальнем его конце, скрытом деревьями, узкая тропинка спускалась к воде, над которой покачивались камыши. Обычно они были плотно сомкнуты, но теперь многие из них были помяты и поломаны.
Там и была найдена Дуняша Фролова – она покачивалась на воде, раскинув руки, лицом вниз, и русые волосы колыхались вокруг ее головы.
Глава 19. Слухи и предположения
Вы не замечали, что в разных домах, у разных людей часы говорят на разных языках?
Например, у Клавдии Петровны они тикают отрывисто, резко: тин! тон! тан! Берут пример с хозяйки. А может быть, не только с нее?
– Нет, – говорит поэт, пальцами машинально расчесывая бороду, – будь я следователем, я бы крепко взялся за Матвея Ильича. И хозяйку он предсказал, что укокошат, и горничную, кстати, тоже…
Клавдия Петровна подавленно молчит. Часы тикают, уже не скрывая своего злорадства.
– Я совсем забыла про горничную, – наконец признается хозяйка дома. – То есть что, по Ергольскому, ее должны были… следом за хозяйкой…
– Я тоже как-то запамятовал этот момент, – легко соглашается Николай Сергеевич. – Но ведь кто-то же не забыл…
Тут передовая дама взрывается.
– Вы как хотите, а по мне, это дело рук сумасшедшего! Да, сумасшедшего!
– Хуже всего, что полиция никогда его не раскроет, – вздыхает поэт, и в глазах его сгущаются тайна, коварство, мрак. Впрочем, не исключено, что это только игра теней.
– Гм… Вы так полагаете? – несмело спрашивает передовая дама.
– Конечно! Это только в книжках, Клавдия Петровна, сыщик сунулся туда, сунулся сюда – и р-раз, с умным видом: «Сударь! А убили-то вы!» И при всех предъявляет непреложные доказательства… А в жизни… если сыщик ничего не стоит, то и преступника он нипочем не найдет… Гиблое дело! – с умным видом заключил поэт.
Клавдия Петровна нахмурилась.
– По правде говоря, Иван Иванович не производил на меня такого впечатления… То есть, мне кажется, он вполне на своем месте…
– Вот такими-то делами, Клавдия Петровна, и проверяется, на своем месте человек или нет. А то Панову убили, так он первым делом наше с вами алиби проверять стал… Мы-то тут при чем? Ну, слушали, как Ергольский нес свою ахинею, но это ведь не преступление…
Клавдия Петровна молчала. Душу ее терзали смутные сомнения. С одной стороны, она не верила ни полиции, ни следствию, с другой – ей почему-то совсем не хотелось, чтобы убийца Пановой и ее горничной ушел от правосудия. И самое скверное, что не то чтобы было уж очень жаль обеих жертв, но если можно безнаказанно убить их, почему нельзя убить и ее, Бирюкову – хотя бы из-за недавно обнаруженного на ее земле серебра? Эта мысль, по правде говоря, передовой даме совершенно не нравилась.
Нет уж, пусть полиция и следователи делают свое дело, пусть ловят преступников, а то честным людям житья никакого не будет…
Примерно в это же время Матвей Ильич Ергольский лежал у себя дома на диване с компрессом на голове и страдал. Словно из сочувствия к его переживаниям, часы тикали тихо, почти бесшумно, как в больнице: ткх-ткх-ткх!
Все было ужасно: и роман не сочинялся так, как надо, и уже двух людей убили в точности так, как он придумал развлечения ради, и одолевала мигрень, и вообще все было плохо, кроме Антонины, которая сидела рядом и гладила его руку своей чудесной теплой рукой.
Чаев сидел неподалеку, в резном кресле, закинув руку за спинку, и будь Матвей Ильич повнимательнее, он бы заметил в глазах бывшего друга недоброжелательные огонечки, а заметив их, насторожился бы. Но, увы, Ергольский в некоторых отношениях был чудовищно, недопустимо доверчив, – хотя, с другой стороны, будь он недоверчив, это был бы уже не тот Матвей Ильич, книги которого знали и любили тысячи читателей, а кто-то другой, более проницательный, но куда менее приятный.
– Это просто какой-то кошмар, – пожаловался писатель. – Опять приходил следователь, и хотя впрямую он меня не обвиняет, я вижу, что ему очень хотелось бы меня засадить. Где я, видите ли, был, когда убивали горничную Фролову? Да тут же, у себя, пытался дописать главу, боже мой…
– Не оправдывайся, – хмыкнул Чаев. – Мы все отлично понимаем, что ты мог выбраться в окно, выманил горничную к камышам, посулив ей денег, после чего ударил ее камнем по голове и столкнул в воду. Само собой, никто тебя не видел, и ты так же незаметно вернулся в дом, после чего с чувством выполненного долга снова принялся за роман.
– Очень смешно, – проворчал Ергольский, снимая компресс, который успел порядком ему надоесть. – Между прочим, со слов Игнатова получается, что убийцу в самом деле никто не заметил. Само озеро просматривается очень хорошо, кроме той его части, где было совершено убийство. И ведь Дуняша, судя по всему, действительно пошла туда добровольно.
– Все это ужасно, – проговорила Антонина Григорьевна. – И еще ужаснее то, что тело обнаружил мальчик.
– Он не просто обнаружил, он его искал, – отозвался Чаев. – Когда он узнал, что девушка исчезла и ее не могут найти, он стал думать, куда она могла деться. По дороге постоянно проходят и проезжают деревенские, но никто ее там не видел. Значит, Дуняша оставалась где-то поблизости и в то же время в таком месте, где ее не могли обнаружить. Мальчик решил, что ее столкнули в воду, и оказался прав. Сообразительный ребенок, думаю, я еще поговорю с ним завтра. Читатели обожают такие подробности, когда полицию оставляют в дураках обычные люди.
– Повезло тебе, – вздохнул Ергольский. – Только приехал, и раз – тема для статьи, и не одной. Можно даже подумать, что это ты постарался.
– Прости, ты это о чем? – учтиво осведомился Георгий Антонович, приподняв свои ломаные донжуанские брови.
– Если б я тебя не знал, то мог бы предположить, что ты прикончил Панову и ее горничную из любви к сенсациям, – поддел его Матвей Ильич. – Понимаешь, в романе человек, у которого нет ни малейшего мотива, всегда вызывает подозрения. А у тебя нет никакого мотива, значит, ты подозрителен.
– Ты меня разоблачил! – вскричал Георгий Антонович, театрально воздевая руки. – И раз уж в этом месте повествования мне полагается покаяться, я во всем сразу же признаюсь. Да, уважаемые дамы и господа, это я убил Панову, потому что мне было не о чем писать, а кризис политических отношений в Европе, новое правительство во Франции и прочее – разумеется, мелочи, не стоящие внимания. И горничную тоже убил я, потому что она видела, как я застрелил ее хозяйку. А теперь, уважаемые дамы и господа, я попрошу вас сжалиться над подсудимым и заменить бессрочную каторгу на порцию вкуснейшего мороженого, изготовленного лилейными ручками нашей хозяйки.
Смеясь, Ергольский разразился аплодисментами. Чаев поднялся с места и, прижав руку к груди, театрально поклонился своим слушателям.
– Может, нам и в самом деле лучше заняться мороженым? – предложил Матвей Ильич жене. – Мне, пожалуй, тоже порцию, и побольше!
– Сейчас распоряжусь, – сказала Антонина Григорьевна, поднимаясь с места.
…За ужином в «Кувшинках» царило молчание, которое можно было бы назвать зловещим, если бы оно не было просто настороженным. Здесь часы тикали подозрительно, таинственно, приглушенно: тонк-тинк-тонк. Все, кто сидел за столом, думали только о бедной девушке, которую нашли среди камышей. Наконец Павел бросил бомбу.
– Если бы Иван Иванович хорошо знал свое дело, этого бы не случилось, – объявил он, упрямо выпятив челюсть.
– О чем это вы? – довольно сухо осведомилась Амалия. Баронесса Корф еще тяжелее, чем молодой следователь, переживала их поражение.
– Если бы он арестовал того человека в саду, – сердито проговорил Павел, – Дуняша осталась бы жить. Но Иван Иванович медлил, и вот…
– Давайте не будем кидаться обвинениями, – попросил Ободовский. – Прежде всего, если горничная поняла, кто убийца, ей следовало сразу же сказать об этом Игнатову. Правильно я говорю?
– Ну допустим, – нехотя признал Колбасин. – Но к чему вы все же ведете?
– А вот к чему: ее молчание – тоже преступление, а если она действительно захотела шантажировать убийцу, то преступление вдвойне.
– То есть, если я правильно понял, вы оправдываете того, кто лишил ее жизни? – колюче осведомился Серж.
– Вовсе нет, но если все было именно так, как я говорю, получается, что своими действиями она в некоторой степени спровоцировала преступника. Вы не согласны?
– Все это очень странно, – задумчиво уронила Амалия. – Я вот что имею в виду: у Дуняши была репутация девушки, у которой язык без костей. Как так могло получиться, что она поняла, кто убийца, и никому не проболталась? Ни единому человеку?
Теперь все глаза были устремлены на нее.
– Вы уверены, что она никому ничего не сказала? – недоверчиво спросил Серж.
– Иван Иванович опросил всех, с кем она общалась, и ответы вполне категоричны. Дуняша все время возвращалась к убийству, но ни словом, ни намеком не дала понять, что знает, кто его совершил. И вот это уже необычно.
– Театральное амплуа, – пробормотал Колбасин.
– Папа, ты это о чем? – удивился Павел.
– О том, что на сцене мы нередко видим определенное упрощение, – отозвался режиссер. – Скупец у нас всегда скупой, щеголь думает только об одежде и больше ни о чем ином, а на самом деле все ведь не так. У скупца может случиться порыв щедрости, щеголь может хорошо разбираться в искусстве или литературе, а самый болтливый человек предпочтет хранить при себе то, что имеет для него первостепенное значение. Теперь, когда я вспоминаю бедную Дуняшу, – продолжал он, – мне почему-то кажется, что она была девушкой очень себе на уме, а болтливость и все прочие черты характера шли уже следом за этим. Вы понимаете, Амалия Константиновна, что я имею в виду?
– То есть, по-вашему, она могла умолчать о главном, чтобы позже использовать его с выгодой для себя?
– С выгодой? А почему бы и нет? Я говорил вам, что Дуняша была подкидышем и у нее в целом мире не было ни единой близкой души? Ей не на кого было рассчитывать, кроме как на саму себя. И я вполне могу себе представить, что она могла решиться на… на то, в чем Игнатов ее подозревает.
Павел поморщился.
– Как все это ужасно, – проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь. – Знаете, я только сейчас понял, что Дуняша жила в нашем доме несколько лет, а я обращал на нее не больше внимания, чем на… чем на мебель. Может быть, я очерствел после смерти мамы, но когда я узнал, что Дуняшу убили, я совсем ничего не почувствовал… ничего! – прибавил он с ожесточением. – И хотя я понимаю, что это неправильно, но поделать ничего не могу… Мне только хочется, чтобы поймали того, кто убил мою мать. Но я вовсе не уверен, что Игнатов справится с этой задачей…
На следующее утро Амалия заперлась в своем кабинете, чтобы прочитать запечатанное письмо, которое ей доставили с почты. Сразу же скажу, что письмо предназначалось вовсе не ей, а было адресовано в редакцию газеты, с которой сотрудничал Чаев. К немалому облегчению Амалии, текст статьи был вполне корректным и, хотя содержал некоторые выпады в адрес следствия, нигде не утверждал, что за убийством могут стоять Башилов или его нервная дочь.
Заново запечатав письмо, Амалия отдала его ожидавшему в коридоре жандарму и распорядилась как можно скорее отправить по назначению. Накануне баронесса Корф и Игнатов согласовали план дальнейших действий. Прежде всего, следовало бросить все силы на поиски таинственной дамы в синем. Затем установить принадлежность револьвера (впрочем, Амалии почему-то казалось, что все само собой разъяснится, как только незнакомка будет найдена). Кроме того, Игнатову предстояло присутствовать на двух вскрытиях, так как было непонятно, умерла ли Дуняша от удара по голове или от того, что захлебнулась, когда ее бросили в воду.
– Госпожа баронесса, Андрей Григорьевич Башилов просит его принять. Уверяет, что не отнимет у вас много времени.
– Ну что ж, – сказала Амалия Эльзе Карловне, – просите его сюда.
И Башилов явился, помахивая тростью, причем вид у него был до того уверенный в себе, что Амалия покосилась на промышленника с невольным подозрением.
– Присаживайтесь, Андрей Григорьевич. Чем могу служить?
– Я сторонник делового подхода, – объявил Башилов, садясь в кресло, – и не люблю тратить лишних слов. Как вы помните, весной я предлагал выкупить у вас «Кувшинки»…
– Имение не продается, – сказала Амалия.
– Да-да, мне известно, что вы планируете передать его вашему старшему сыну, когда он вырастет. Но, посудите сами, нужно ли ему место с такой дурной славой? Где уже убили двух человек…
Амалия насторожилась. Она вспомнила кое-какие методы Башилова, с помощью которых он задешево скупал предприятия своих конкурентов, и воспоминание это оказалось, по правде говоря, настолько неприятным, что баронесса Корф решила пойти ва-банк.
– Насколько я понимаю, цена, которую вы мне намерены предложить сейчас, будет ниже той, которая была озвучена весной? – любезно осведомилась Амалия. – Как раз из-за этих двух убийств?
– Увы, сударыня, вы совершенно правы. – Башилов оскалил в улыбке свои белые ровные зубы. – Сами понимаете, недвижимость с дурной славой…
– Скажите, а уж не вы ли позаботились обеспечить ей эту славу? – как бы между прочим поинтересовалась баронесса, не переставая зорко наблюдать за своим собеседником.
– Простите? – изумился Башилов.
– Устроить пожар на заводе конкурента, чтобы вынудить его продать дело за бесценок, – это же вполне в вашем духе. Почему бы тогда не убить двух смешных человечишек, чтобы заставить меня продать «Кувшинки»? А? Или вы опять, как весной, будете пытаться убедить меня, что мое имение ничего не значит, что здешнее озеро – не озеро, а так, большой пруд… и что вы, конечно, никого не убивали? – вкрадчиво закончила она.
Башилов перестал улыбаться. Глаза его сделались холодными, как лед.
– Я не понимаю, о каком пожаре вы изволите вести речь… И сам я действительно никого не убивал.
– Вот именно, – шепнула Амалия. – «Сам» здесь – ключевое слово. Обычно для таких дел вы нанимаете других, не так ли?
– Что за вздор! – вырвалось у промышленника. – С какой стати мне убивать двух женщин, которых я не знал…
– Ой ли? Относительно Дуняши вы, пожалуй, правы. Но вот что касается Евгении Викторовны, то вы знали ее настолько близко, насколько мужчина может знать женщину.
И, выпустив эту отравленную стрелу, Амалия с интересом стала ждать ответа.
– Это было слишком давно… – попытался защищаться Андрей Григорьевич. – И мы оба уже обо всем забыли! У нее была своя жизнь, у меня – своя…
– А может быть, Евгения Викторовна решила как-нибудь неосторожно напомнить вам о себе? Намекнула, что у нее есть какие-нибудь компрометирующие бумаги, к примеру…
– Бумаги? – вытаращил глаза Башилов. – Да что за вздор вы тут мелете? Когда-то она мне нравилась, не спорю, но это было только мимолетное увлечение… Даже если она сохранила какие-то мои записки, она могла делать с ними что угодно, сам я в разводе и не боюсь огласки…
– Это хорошо, что не боитесь, – весьма двусмысленно уронила Амалия, не переставая зорко наблюдать за своим собеседником. – Хотя некоторые люди вашего склада склонны путать чистую совесть и отсутствие доказательств.
Андрей Григорьевич поднялся с места, стиснув челюсти. Глаза его горели недобрым огнем.
– Только посмейте обвинить меня хоть в чем-то…
– Только посмейте оказаться причастным к этому делу, – в тон ему бросила Амалия. – Клянусь, я вас раздавлю.
Был ли Башилов в состоянии дать достойный ответ? Даже не сомневайтесь! Но почему-то он посмотрел на красивую белокурую даму, стоявшую напротив, и ему стало не по себе. Интуиция подсказывала ему, что он столкнулся с более могущественным противником, причем столкнулся там, где совершенно не ожидал этого; и ее слова, как он внезапно осознал, были вовсе не простой угрозой. Она могла уничтожить его – так же просто, как сам он до того уничтожал других. И от этого ощущения его охватило неудержимое желание скрыться, причем как можно скорее, пока его собеседница не передумала.
Еле слышно пробормотав какое-то подобие извинений, он поспешил прочь, а идя через сад к своей коляске, не удержался и облегчил душу градом ругательств.
– Вот же!..
Он был так расстроен, что даже не обратил внимание на следователя, который мчался в «Кувшинки» как раз в то время, как сам Башилов стремился поскорее их покинуть.
– Амалия Константиновна, – объявил запыхавшийся Иван Иванович, влетая в кабинет, – все в порядке! Мы ее нашли!
Глава 20. Дама в синем
В казенной комнате с серыми стенами, решетками на окнах и неистребимым запахом тоски сидит дама в синем платье, темноволосая, полненькая, не то чтобы красавица, но совсем, совсем не уродина.
Шляпа на ней другая, не та, которую описала Натали, а из светлой соломки, украшенная васильками и маками. И когда дама плачет – а плачет она постоянно, – цветы кивают головками, словно тоже были бы не прочь заплакать, да понимают, что делу этим не поможешь.
На столе возле дамы небольшая сумочка-ридикюльчик, расшитая бисером, и одного взгляда на этот кокетливый ридикюльчик достаточно, чтобы определить его хозяйку как особу, которой мода вовсе не безразлична.
В руке дама держит скомканный кружевной платочек и то подносит его к глазам, то приглушенно рыдает в него. В общем, мизансцена выставлена хорошо, с той только разницей, что перед нами не театр, а самая что ни на есть настоящая жизнь.
– Где ее задержали? – отрывисто бросает стоящая в коридоре Амалия Игнатову.
Между нашими героями и дамой в синем – только дверь с зарешеченным окошком. Задержанная рыдает, а стоящий возле нее навытяжку полицейский изо всех сил делает вид, что он тут только по службе, а если кому-то и хочется плакать, что ж – это его личное дело.
– В Д., в номерах «Париж». Зовут ее Бузякина Екатерина Александровна, сценический псевдоним Эльвира Широкова. Муж – Николай Бузякин – известный столичный антрепренер.
– Отношения с Ободовским?
– Они играли вместе, но это все, что нам известно.
– Вот как? Что же в таком случае она делала в Д., откуда рукой подать до «Кувшинок» и усадьбы Ергольского?
– Мы уже выяснили. Она приехала несколько дней назад и наняла извозчика до Ергольского как раз в тот вечер, когда у него состоялся известный нам разговор. В последующие дни она еще раз ездила в «Кувшинки». – Иван Иванович сделал значительную паузу. – И вы оказались правы, госпожа баронесса. Горничная номеров видела у Бузякиной револьвер с перламутровой рукояткой в день приезда, но потом он больше не попадался ей на глаза.
– Екатерина Александровна уже дала какие-то объяснения?
– Она плачет и твердит, что ее оболгали и она ни в чем не виновата. Стоит задать ей следующий вопрос, как она заявляет, что хочет умереть. – Иван Иванович поморщился. – Очень, очень трудный свидетель, Амалия Константиновна. Может быть, стоит послать за Натали Башиловой, чтобы та ее опознала?
Амалия покачала головой.
– Пока не надо. Возвращайтесь в «Кувшинки», арестуйте Иннокентия Ободовского и немедленно приступайте к его допросу.
– Значит, это все же они?..
– У нас есть два убийства, которые нам надо раскрыть, – вернула его на землю Амалия. – Теперь мы можем быть уверены, что ни о какой провокации, направленной против Башилова и интересов страны, речи не идет. Кстати, что насчет результатов вскрытия?
– Дуняша умерла от того, что захлебнулась. Вскрытие Пановой не дало ничего, кроме того, что уже было нам известно. Совершенно определенно можно утверждать, что она была убита пулей, выпущенной из револьвера, обнаруженного на месте преступления, но ведь это и так было понятно…
– Ваша гипотеза, Иван Иванович?
– А какие могут быть гипотезы, госпожа баронесса? По-моему, все оказалось очень просто. Ревнивая любовница убила соперницу, а когда выяснилось, что ее видели, не исключено, что пришлось подключиться Иннокентию Гавриловичу. Впрочем, возможно, что действовал как раз Иннокентий Гаврилович, а дама служила, так сказать, вдохновительницей.
Амалия поморщилась.
– Вас что-то не устраивает, Амалия Константиновна?
– Да. Я не понимаю, зачем надо было убивать Евгению Панову и горничную именно так, как рассказал Ергольский.
– Потому что своим рассказом Ергольский совершенно очевидным образом себя подставил. Грех было не упустить такую возможность.
– Как-то они чересчур быстро решились на два убийства, – проворчала Амалия.
– Полагаю, они верили, что одного убийства будет достаточно, но горничная что-то увидела и поняла, кто убийца. Пришлось тогда вторично воплотить фантазию Ергольского в жизнь.
– А почему они думали, что следствие не пойдет до конца и не рассмотрит версию, которую сам же Матвей Ильич предложил, – о театральных интригах? Ведь как только вы стали искать среди круга знакомых Ободовского, личность госпожи Бузякиной сразу же всплыла, и вычислить, где она находится, не составляло никакого труда.
Иван Иванович пожал плечами.
– Мой опыт, сударыня, говорит мне, что преступники обычно не умнее прочих людей.
– То есть попросту глупы? – улыбнулась Амалия.
– Можно сказать и так. Насколько я успел узнать Ободовского, я все же сомневаюсь, что он участвовал в первом убийстве или даже знал о нем. Вероятно, действовала одна Екатерина Александровна под влиянием минуты.
– И Евгения Викторовна так просто ее к себе подпустила?
– Ну, если наша догадка верна и Екатерина Александровна с Ободовским – любовники, они ухитрились обставить все так, что никто из окружающих не знал об их отношениях. Иначе мне бы уже давно доложили все подробности их романа – театральная среда, сами знаете…
Амалия недовольно тряхнула головой. Все верно, Панова могла не опасаться Бузякиной, но откуда Екатерина Александровна знала, куда идти? Почему она вообще зашла в дом, если раньше ограничилась только тем, что подавала знаки через окно? И вообще…
– Я поговорю с ней, – распорядилась Амалия, – а вы займитесь господином Ободовским.
И она решительным движением взялась за ручку двери.
Иван Иванович тоже заглянул в камеру – чтобы сообщить полицейскому, что тот может пока выйти и побыть в коридоре.
– Я прекрасно понимаю, что это против правил, – громко сказала Амалия Игнатову, – но мне просто необходимо разобраться в этой печальной истории, иначе я просто не буду знать покоя. Два убийства в моем доме, два убийства!
Иван Иванович пробормотал что-то в ответ и удалился. Амалия поглядела на актрису, которая тотчас же опустила руку с зажатым с ней платком и с недоверием рассматривала странную даму, которая стояла возле дверей.
– Вы Екатерина Александровна? – спросила Амалия. Она подошла ближе и села напротив дамы в синем. – Я баронесса Корф, хозяйка поместья, в котором произошли… но вы, конечно, уже все знаете. Иннокентий Гаврилович заклинал меня выслушать вас и привести адвоката, если понадобится. По правде говоря, – добавила Амалия, подпуская в голос сомнение, – я не уверена, что правильно поступила, когда пришла сюда и ничего не сказала следователю о том, кто меня прислал, но господин Ободовский так просил… Он уверял, что вы совершенно ни в чем не виновны и произошло чудовищное недоразумение!
– Недоразумение! – с жаром вскричала дама, хватая свободной рукой Амалию за руку с такой силой, что моя героиня даже поморщилась. – Конечно, недоразумение! У меня и в мыслях не было убивать Евгению…
– Тогда расскажите мне все как есть, – попросила Амалия, – а я передам вашу историю адвокату, чтобы он вытащил вас отсюда как можно скорее.
На лице дамы мелькнуло сомнение. Она отпустила руку собеседницы и задумалась, комкая платочек.
– Я не уверена, что адвокату пригодятся некоторые… подробности моей жизни, – заговорила Екатерина Александровна, подняв глаза. – Людям будет очень легко осудить меня…
– Если я правильно поняла Иннокентия Гавриловича, – сказала Амалия, одним махом отсекая все окольные пути, – вы с ним любили друг друга.
– Да, – печально кивнула дама, – это так. Но любовь похожа на розу, в жизни ее окружают одни шипы…
«О Господи, – с тоской подумала Амалия, – что за жуткие мелодрамы числятся в репертуаре их театра?»
– Вы не могли быть вместе? – спросила вслух баронесса Корф.
– Открыто – нет. Понимаете, я замужем…
– И конечно, ваш муж – чудовище. – Амалия смело решила идти по линии мелодрамы до конца.
– Нет, что вы! – вскинулась актриса. – Николай Никифорович – прекрасный человек, добрый, чуткий, любящий, заботливый… Поэтому я и не могла уйти от него.
Ну да, а еще потому, что бывший муж в мгновение ока может превратиться в настоящего врага и, если он антрепренер с весом, устроить так, что Екатерина Александровна и Ободовский останутся без работы. Любовь еще никого не смогла прокормить – кроме той ее разновидности, что практикуется в горизонтальном положении и не имеет к чувствам никакого отношения.
– Иными словами, – подытожила Амалия, – вы и Иннокентий Гаврилович встречались, когда была такая возможность, но тщательно скрывали ваши отношения. Кстати, как вам это удалось?
– Простите?
– Я имею в виду, принято считать, что в актерской среде все тайное быстро становится явным. Так как же вам удалось сохранить в тайне ваш роман?
– А! – Екатерина Александровна порозовела. – Понимаете, в нашей работе нет ничего важнее первой реплики – и последней. Так говорит мой муж. То, что идет между этими репликами, быстро забывается. Так вот, когда все началось, мы с Кешей договорились, что будем делать вид, что терпеть не можем друг друга. Заодно мы всем, кто хотел слушать, жаловались друг на друга, рассказывали, какой он ужасный партнер, какая я невыносимая и так далее. Понимаете, плохому всегда верят с легкостью, и если потом кто-то и начинал что-то подозревать, он думал, что это только ему кажется…
– Это было чрезвычайно умно, – искренне сказала Амалия. – Браво. А что случилось потом?
– Потом? Потом Кеша познакомился с Женечкой Пановой, и она перетянула его в свой театр. Понимаете, мы перестарались, изображая нелюбовь, – с горечью призналась Екатерина Александровна. – Я уже не могла упросить мужа оставить Кешу, потому что иначе это выглядело бы подозрительно, а Панова к тому же предложила ему хорошие деньги…
– Но вы продолжали любить друг друга, несмотря ни на что. Так?
– Да. Если бы не это, мы бы давно расстались.
– Скажите, а что Иннокентий Гаврилович думал о Пановой? – Амалия заметила удивленный взгляд собеседницы и быстро пояснила: – Я полагаю, адвокат обязательно попросит меня прояснить этот момент.
– Что он о ней думал? – вздохнула Екатерина Александровна, поводя плечиком. Она наконец-то вспомнила о шляпке, вытащила шляпную булавку, сняла шляпу и положила ее на стол. Головки искусственных маков и васильков печально поникли. – Кеша был к ней равнодушен. Но он ее жалел, и в то же время в какой-то мере она была ему неприятна. Я, по правде говоря, не задавала себе особых вопросов – о ней, – потому что достаточно было видеть каждый раз, как он был рад, когда я к нему вырывалась. Будь я свободна, ничего этого никогда бы не произошло…
– В общем и целом можно сказать, что он ее не ненавидел и не собирался избавиться от нее. Так?
– Да.
– Насколько мне известно, Панова решила провести лето здесь, потому что вбила себе в голову, что сумеет уговорить Матвея Ильича Ергольского написать для нее пьесу. Верно?
– Совершенно верно. Кеша пытался увильнуть от поездки, но у него ничего не вышло. Хотя ему вовсе не улыбалось сидеть тут и видеть, как на него косится Колбасин и этот… Петя… сын Пановой.
– Его зовут Павел. В общем, Иннокентий Гаврилович в письмах жаловался вам на то, как ему скверно, и вы решили приехать. Я права?
– Н-нет, – после легкой заминки призналась Екатерина Александровна. – Мы договорились, что увидимся в Петербурге, когда начнется новый сезон. И все же я приехала, потому что… потому что… Словом, возникли особые обстоятельства.
– Вы ждете ребенка? – догадалась Амалия.
На этот раз Екатерина Александровна расплакалась по-настоящему.
– Да. Да! И я растерялась… Мне хотелось увидеть Кешу, понимаете? Он писал мне письма, но я ему не отвечала, потому что он не хотел, чтобы кто-нибудь увидел мои послания и догадался… Словом, я приехала в Д. и оттуда отправилась в «Кувшинки». Но опоздала – я видела, как вся компания уехала к Ергольскому. Я тоже отправилась туда и ждала, ждала… А они все ужинали. Я не выдержала, вылезла из экипажа, зашла в сад и увидела Кешу за окном. Я помахала ему рукой и поняла, что он меня увидел. Но ему, наверное, не дали уйти, потому что он сумел подойти ко мне, только когда все уже разъезжались, и шепнул, что завтра в полдень будет ждать меня в лесу возле «Кувшинок». Я согласилась – я на все была согласна, – и мне сразу же пришлось спрятаться за дерево, потому что показалась Евгения, стала его обнимать и виснуть на нем, и по его лицу я видела, что он очень хотел ее стряхнуть и еле сдерживался…
Что ж, теперь понятно, почему Ободовский тогда держал руки в карманах. Наверняка в этот момент у него внутри все кипело.
– Скажите, вы слышали, о чем после ужина говорил Ергольский?
– Я не прислушивалась…
– И повторяющееся слово «убийство» совсем не привлекло ваше внимание?
– Нет. Я хотела только встретиться с Кешей, все остальное не имело для меня значения.
Лжет или нет? Впрочем, даже если она ничего не слышала, Ободовский вполне мог потом ей все пересказать…
– На следующий день, по словам Иннокентия Гавриловича, он для отвода глаз прихватил с собой удочки и отправился в лес, на свидание с вами. Это правда?
Само собой, Иннокентий Гаврилович ничего такого не говорил, да ему и не нужно было, потому что Амалия уже обо всем догадалась.
– Да, – подтвердила Екатерина Александровна.
– Сколько времени вы пробыли вместе?
– Я не считала. – Актриса покраснела. – Может быть, час, может быть, полтора…
– Или два?
– Нет. Часы на церкви били два, когда я уже возвращалась обратно в Д.
– На извозчике?
– Ему наскучило меня ждать, и он уехал. Пришлось весь путь проделать пешком.
Н-да-с. По всему выходило, что ни у Ободовского, ни у его пассии алиби не было.
– Он упоминал, что у вас имеется оружие, – сказала безжалостная Амалия. – Неужели тот самый револьвер, который нашли на месте преступления?
На этот раз Екатерина Александровна молчала несколько минут.
– Он не прав, – едва слышно пробормотала она.
– В чем именно?
– Даже если это мое оружие, я никого не убивала.
– Давайте по порядку, – начала Амалия. – Вы признаете, что у вас был дамский револьвер с рукояткой, отделанной – она хотела сказать «фальшивым», но почему-то удержалась, – перламутром?
Нерешительный кивок, взгляд исподлобья.
– Где он сейчас?
– Я не знаю. Я его потеряла.
«Вот, начинается, – помыслила Амалия. – Так и должно быть, в сущности – ведь до этого момента все шло уж слишком хорошо…»
– Откуда у вас вообще появился револьвер?
– Кеша подарил.
– Зачем?
– Для самозащиты. Однажды, когда мы были на гастролях, на улице на меня кинулась бешеная собака. Вокруг были люди, но никто не спешил на помощь. Уж и не знаю, как я забралась тогда на забор в своем платье, но если бы я не успела на пару секунд, она бы меня укусила. Потом меня всю трясло от ужаса, и Кеша… Кеша подарил мне револьвер, чтобы я больше никого не боялась.
– А мне говорили, что сам он боится оружия.
– В общем, да. Однажды произошел неприятный случай, когда в публике оказались пьяные офицеры, затеяли драку, потом один из них достал пистолет и чуть не выстрелил в меня.
– В вас?
– Да.
– Кажется, Иннокентия Гавриловича потом обвиняли в его убийстве, – задумчиво заметила Амалия.
– Так получилось, что Кеша проломил ему голову. Но Кеша не виноват, это все тот офицер…
– Скажите, Екатерина Александровна, когда вы приехали в Д., вы тоже взяли с собой револьвер?
– Да. Вдруг тут тоже… собаки…
– И когда вы поехали к Ергольскому, оружие было при вас?
– Да. Но потом я обнаружила, что потеряла его. Или тогда, в саду, в сумерках, когда доставала зеркальце из сумочки, или потом… Я не знаю.
– Иннокентий Гаврилович узнал ваше оружие, когда следователь показывал ему револьвер?
– Да. Он улучил момент, примчался в Д. и потребовал, чтобы я спустилась вниз. – Екатерина Александровна залилась слезами. – Он решил, что это я! Что это я убила ее… Но я же знала, что потеряла револьвер еще накануне! Я всю сумочку перетряхнула – его в ней не было…
– Когда именно вы обнаружили пропажу револьвера, кстати?
– После нашего свидания в лесу.
– Скажите, а кто-нибудь мог его украсть?
– Вы о Кеше? – ужаснулась Екатерина Александровна. – Зачем ему?
– Он не упоминал, что собирается избавиться от Пановой раз и навсегда, к примеру?
– Нет. Нет! Он не такой…
– И все же вам приходили в голову определенные подозрения, верно? Когда я сказала: «Кто-нибудь мог украсть», – вы тотчас же назвали Ободовского, а не горничную, например, или кого-нибудь еще…
– Я не знала, что и думать, – призналась Екатерина Александровна, вытирая слезы. – Я была в полном ужасе. Понимаете, когда на сцене играешь в пьесе, это одно, а когда все происходит в жизни, впечатление просто чудовищное…
– Скажите, Екатерина Александровна, почему вы не уехали сразу же, узнав об убийстве?
– Вот он тоже меня просил немедленно уезжать, – усмехнулась актриса. – Но я перенервничала, мне стало плохо. Я очень боялась выкидыша… не хотела, чтобы он случился… и потом, я сказала мужу, что еду в гости к сестре в другую губернию. Он бы сильно удивился, если бы я так скоро вернулась…
– Где вы были вчера днем, когда произошло убийство горничной Фроловой?
– Здесь. В гостинице.
– Кто-нибудь может это подтвердить?
– Прислуга, наверное… У себя в номере я была одна.
Не дело, а просто подарок для прокурора, подумала раздосадованная Амалия. Вот вам владелица оружия, которое она якобы потеряла, она же – одна из трех сторон любовного треугольника, старого, как мир. Ни у нее, ни у ее любовника нет внятного алиби ни на одно из убийств, а что касается мотивов… Любовный треугольник, дамы и господа! Какой еще мотив вам нужен, в конце концов?
– Екатерина Александровна, о чем вы говорили с Иннокентием Гавриловичем, когда встретились с ним в лесу?
– О чем? По-моему, это и так понятно… Я рассказала ему о ребенке, он был ошеломлен – ну, как все мужчины, вы знаете, – но вроде бы был рад…
Слишком много лишних слов, слишком много. «Как все мужчины», «вроде бы»…
– Тем не менее он не собирался бросать Панову, благодаря которой получал первые роли в театре, которым руководил ее муж. Так?
– Я не просила его никого бросать, – умоляюще проговорила Екатерина Александровна, и лицо ее приобрело какое-то новое, потерянное выражение. – Я хотела поделиться с ним своей радостью, вот и все… Если бы в жизни все было просто, как в мечтах, я бы оставила Николая, и мы бы с Кешей жили вместе, ни о чем не думая… Но я понимала, что это невозможно… И поверьте, он тоже хорошо все понимал…
– Но в дальнейшем он все же собирался как-то разрешить вашу с ним ситуацию? Как?
– Не знаю, – призналась Екатерина Александровна, нервно комкая платок. – Он хотел заработать много денег у Пановой и уйти, если получится – открыть свой театр. Но для этого надо знать хороших драматургов, надо уметь вести дела, надо приглашать лучших актеров… Многие прогорают, даже если им удается выполнить все три условия… Поверьте, приручить публику очень, очень тяжело… Мы с ним часто говорили, как бы замечательно было наконец освободиться от всех… я – от Николая, он – от Евгении… И чтобы не нуждаться, не скитаться в поисках заработка по провинции… вагоны второго класса, купцы пристают с любезностями, да такими, что не знаешь, куда деваться… – Она вздохнула. – Будь у нас деньги, многое было бы куда проще. В консистории дела по разводам тянутся годами, а если знать, кому дать взятку, то все может решиться куда быстрее…
Так-то оно так, подумала практичная Амалия, но с другой стороны, процесс по делу Пановой наверняка прогремит на всю Россию, и когда все детали откроются – а не открыться они просто не могут, – по логике вещей, мужу актрисы самому придется просить развода, так что Ободовский и его любовница наконец смогут соединить свои судьбы. Конечно, можно поспорить о цене – двое убитых, публичный скандал и навеки погубленная репутация; можно развивать теории, что не надо было вообще замужней женщине заводить роман на стороне, что судьба-де всегда наказывает за грехи и прочее, – рассуждать о вулкане всегда легко, когда ты находишься вдали от его разрушительной силы…
Амалия знала людей и уже сейчас предвидела, какое впечатление на публику произведут обвиняемые. Вот неверная жена, но, в конце концов, всего лишь слабая женщина, к тому же в положении; вот ее вольный или невольный сообщник, актер, красавец и вообще душка. И даже если Игнатову удастся добыть неоспоримые доказательства того, что это Ободовский хладнокровно убил любовницу и утопил горничную, которая поняла, кто застрелил ее хозяйку, на публику это не произведет никакого впечатления. Обвиняемые – перед глазами; жертвы – далеко, в стране теней, откуда уже не донесется их глас. Ну и, как водится в России, жертву всегда чуть-чуть недолюбливают: она виновата уже тем, что проиграла изначально. В любом случае дело будет громкое, шумное, обсуждаемое, и общественное мнение окажется не слишком настроено против обвиняемых. Не исключено, что ловкий защитник даже поможет им избежать каторги. В конце концов, револьвер принадлежал Бузякиной, но никем не доказано, что она из него стреляла; Ободовский мог стрелять в Панову, позаимствовав револьвер у любовницы, но и это опять же из области предположений. «Нет, господа присяжные, я взываю к вашей совести, – пылко скажет защитник. – Вы не имеете права осудить на основании столь шатких доказательств…» и т. д. Ну и на закуску еще одна трескучая фраза, которая наверняка будет произнесена: «Они провинились только в том, что любили друг друга». Ах, щучья холера!
Личное счастье лучше всего строится из обломков чужих судеб, вспомнила Амалия. Интересно, кто это написал – или сказал? Уж, конечно, не Матвей Ильич, а кто-то куда более жесткий и циничный…
Внезапно баронесса Корф поймала себя на мысли, что ей все надоело, и поднялась с места.
– Вы уже уходите? – печально спросила Екатерина Александровна. – Конечно, я понимаю, вы не можете задерживаться… Но, может быть, вы знаете, когда меня выпустят? Я просто должна быть дома через несколько дней…
– Боюсь, только господин Игнатов имеет право решать, задерживать ли вас и на какое именно время, – ответила Амалия.
И только когда она ушла, Екатерина Александровна спохватилась, что забыла попросить ее передать Ободовскому самое важное, что она хотела ему сказать.
«Неважно, наверное, мне разрешат написать ему записку… Я напишу: «Что бы ты ни сделал, я все равно тебя люблю». Вот… Больше ничего и не стоит говорить».
И, успокоив себя этим соображением, она улыбнулась.
Глава 21. Лотос забвения
– Разумеется, никакого револьвера она не теряла, – сказал Игнатов. – Это все детские сказочки, которыми нас пытаются сбить с толку.
– Вы уже говорили с Ободовским? – спросила Амалия. – Он признался?
– Нет. Стоит на своем: никого он не убивал и вообще виноват только в том, что имел несчастье полюбить замужнюю женщину. Как я понял, он имеет в виду Екатерину Александровну, – покойная Евгения Викторовна не в счет. Но никуда он у меня не денется, потому что я нашел мотив.
– Иван Иванович! С этого и надо было начать!
– Да я, собственно говоря, был слишком занят, но все же распорядился кое-что проверить. Так вот, представьте себе, Панова была настолько увлечена Ободовским, что написала завещание…
– В его пользу?
– Не совсем. Согласно завещанию, все ее имущество делится на три равные части. Одна должна отойти мужу, одна – сыну, одна – Иннокентию Гавриловичу.
– И сколько может составлять эта часть? Хотя бы приблизительно?
– Судя по тем справкам, которые я навел, на безбедную жизнь хватит и на открытие театра – тоже. Так что любовь любовью, но действовать эту парочку заставила вовсе не она, а вполне земной и корыстный интерес…
Амалия вздохнула. По правде говоря, она была немного раздосадована, как был бы раздосадован человек, который читает захватывающий роман, предвкушая самые неожиданные повороты, и тут вдруг выясняется, что убийца – садовник, и вся интрига сразу же теряет смысл.
– Я все же не понимаю, зачем было так буквально использовать вымысел Матвея Ильича, – проворчала она.
– Просто Иннокентий Гаврилович – личность самонадеянная, как большинство актеров, и он был уверен, что о его романе с Екатериной Александровной никто не узнает, стало быть, не докопается ни до револьвера, ни…
– Иван Иванович, – с неудовольствием промолвила Амалия, – самонадеянность самонадеянностью, но использовать в качестве орудия убийства собственный подарок – подарок! – своей подруге, – это надо быть не просто самонадеянным, а гораздо хуже. И потом, раз уж мы ведем речь о двух убийствах, почему эта парочка не сговорилась предоставить друг другу алиби? Почему она говорит, что они расстались еще до двух часов – ведь это все равно что признать, что он мог убить…
– Или она, – подхватил Иван Иванович. – Признаюсь, раньше я был не прав, думая исключительно на нее – по крайней мере, в том, что касается убийства Пановой. Иннокентий Гаврилович мог убить Панову потому, что она ему просто надоела, и потому, что узнал о ребенке и захотел окончательно… гм… сбросить бремя. Если бы не завещание, не исключено, что он бы не решился, но поскольку все сошлось…
– Хорошо, – сдалась Амалия, – я надеюсь, вы все же установите, кто именно из них убил Панову и кто расправился с горничной. Здесь уже я вам не помощница, а так как дело будет, несомненно, громкое, я предпочитаю, чтобы о моем участии в нем никто не знал…
Иван Иванович рассыпался в комплиментах и сказал, что без Амалии он бы никогда и ни за что не догадался, не нашел, не сумел… – но баронесса Корф поняла, что ее собеседник все же испытывает облегчение оттого, что она больше не будет мешаться в его работу. Впрочем, так как она хорошо знала людей, ее бы удивило, если бы все обстояло иначе.
– Да, – говорил в тот же вечер Чаев слушавшим его Ергольским, – с этими убийствами вечно так. Сначала все кажется до жути запутанным, а потом выясняется, что дело-то проще пареной репы. Не зря мне этот Ободовский никогда не нравился…
– Преступник никому не нравится, как только выясняется, что он преступник, – вставил Матвей Ильич, улыбаясь.
– Как вы думаете, процесс будет в Д. или его перенесут по месту жительства жертв, в Петербург? – спросила Антонина Григорьевна.
– А вы бы хотели видеть все своими глазами? – спросил журналист, многозначительно играя бровями.
– Как раз напротив, – с достоинством отозвалась Антонина Григорьевна, – мне было бы больше по душе, если бы все разворачивалось в Петербурге, подальше от нас, и Клавдия Петровна не прибегала бы к нам каждый час делиться тем, как прокурор возмутительно унижает преступников и как скверно работает их адвокат.
– О-о, она способна! – засмеялся Матвей Ильич. – Но ты забываешь, душа моя, что в любом случае меня вызовут в качестве свидетеля. Ужасно неприятно, что я тогда просто хотел развлечь гостей, а все обернулось так скверно…
– Матвей, прости, но тебе не в чем себя винить, – твердо проговорила его жена. – Если Ободовский и его любовница хотели убить Евгению Викторовну, они бы все равно ее убили, с твоим рассказом или без него…
– А все-таки я предпочел бы никаким боком не быть причастным к тому, что случилось, – задумчиво заметил Ергольский. – Понимаешь, это все равно как бросить семя зла и увидеть, как оно проросло. Пусть даже я ничего такого не имел в виду, все равно…
«Чистюлька», – презрительно подумал Чаев. Разве Матвей не понимает, что от появления на сенсационном процессе его слава только увеличится? В конце концов, следователь уже вроде как пообещал, что фотографию, найденную у Пановой, предъявлять не будет, чтобы не дать адвокату подсудимых возможность выгородить их…
Грядущий процесс обсуждали не только у Ергольских, но и в усадьбе Башилова. Вокруг горящей лампы кружил, привлеченный светом, бледный мотылек, но Серж видел только печальные глаза Натали, устремленные куда-то вдаль. Окна были широко распахнуты и звали в ночь, обещая тайну, тишину и ручейки звезд. Сам Башилов тоже был в комнате – сидел в углу, делая вид, что читает газету. На самом деле он размышлял, правильно ли поступает, соглашаясь на брак дочери, когда она еще так молода. С другой стороны, все, у кого он наводил справки о Серже, не могли сказать о нем ничего дурного, да и Натали, похоже, была всерьез им увлечена…
– И подумать только, что если бы не я, ничего этого не случилось, – проговорила девушка со вздохом.
– Наталья Андреевна, о чем вы?
– Ведь это я увидела Бузякину в саду и описала ее следователю… Без меня он бы никогда ее не нашел.
Наташа зябко передернула плечами, хотя в комнате было совсем не холодно.
– Но Павел тоже запомнил, что в саду кто-то был, – сказал Серж, влюбленно глядя на нее. – Послушайте, мне кажется, этот Игнатов – человек честолюбивый… Он бы все равно стал искать – и нашел. А без ваших показаний, может быть, ему бы пришлось обвинить совсем не того человека, – не совсем логично прибавил он. – Лично я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы помочь правосудию… конечно, когда ты сам ни в чем не замешан…
– Да, наверное, вы правы, – рассеянно согласилась Натали, наматывая на палец бахрому скатерти. – Просто так странно… живешь, вокруг люди как люди… и тебе кажется, что ты хорошо их знаешь, а потом вдруг выясняется, что кто-то из них убил…
Тут Башилов почувствовал, что ему пора вмешаться.
– Дети, ну ей-богу, перестаньте забивать себе голову всякими глупостями, – проворчал он. – В конце концов, Панова эта была скверная актриса, и как только процесс завершится, о ней забудут быстрее, чем отцветет лотос на озере… В конце концов, у нас полно своих забот, и ни к чему отвлекаться на чужие. – Натали поглядела на отца с упреком, и он поспешил переменить тему: – Я, собственно, вот к чему вел: Ворт или Дусе?
– Папа, ты о чем?
– Свадебное платье у кого будем заказывать, а? Я нашим петербургским портнихам не слишком доверяю. Если уж моя дочь выходит замуж, у нее должно быть все самое лучшее…
– Папа! Значит, ты согласен?
– Дорогая моя, как я могу не согласиться, когда речь идет о твоем счастье? Я же не такой сухарь, как думают некоторые, – тут он некстати вспомнил баронессу Корф, ее безжалостные глаза и поморщился. – Я же понимаю, что счастье есть… только ищут его обычно не там, где надо…
И Натали заулыбалась, на ее щеках проступили ямочки… Серж глядел на нее и чувствовал, как от умиления тает сердце у него в груди. Ради этой девушки, ради ее улыбки он бы отдал все, что у него было, – и даже больше…
Тем временем в «Кувшинках» Анатолий Петрович Колбасин допил последнюю бутылку вина из тех, которые сумел выклянчить у Эльзы Карловны, не одобрявшей попоек гостей, и, оглашая воздух жалобами, рухнул на диван в одной из комнат. Сын безуспешно пытался его успокоить.
– Папа, ну не надо… Папа, не стоит… Папа, баронесса Корф может тебя услышать… и другие люди…
– Уйди! – взвыл режиссер, корчась на диване. – Всю жизнь… понимаешь… всю жизнь на нее положил, никого, кроме нее, у меня не было… Что она, не понимала этого? Понимала… И все равно променяла меня… на шалопая этого… подлеца… убийцу!
– Папа!
– Господи, ну почему он меня не убил вместе с ней? – стонал Колбасин, комкая на груди криво застегнутую рубашку. – Денег ему, видите ли, захотелось… А Дуняшу за что? Сволочи! Такая девушка была… хорошая… работящая… Боже мой, ну зачем она промолчала? Сказала бы сразу же, что это его рук дело… или его бабы… и все, понимаешь, все! Не отвертелись бы они…
– Папа, Иван Иванович – человек серьезный… Они и так у него не отвертятся…
– Вечно ей все было не так, – горько признался Колбасин, не слушая сына. – Она блистать хотела, понимаешь… во всем первой быть… А первой не получалось. Вечно соперницы какие-нибудь вперед пролезали… Потому как первое место всегда одно! Нельзя сидеть вдвоем на троне… Разве ж я ее не понимал? Понимал, и очень хорошо… Роли ей подбирал самые выигрышные… И что получается? Как она умерла, так о ней больше газет написали, чем о любой из наших постановок… Всю жизнь, понимаешь, всю жизнь стремилась к славе – и славу эту ей дала только смерть… Бульварный роман! Любовник с другой своей любовницей прихлопнули… Все кухарки в восторге: вот как оно, оказывается, в жизни бывает-то! И все чешут языки, обсуждают, перемывают косточки… не могу, нет, не могу…
– Папа, – промолвил Павел, стараясь говорить как можно тверже, хотя губы у него дрожали, – нам надо собрать все силы… Надо жить дальше… Она бы не хотела видеть нас такими…
– Да ей все равно, какие мы были, – отмахнулся Колбасин. – Никогда она нами довольна не была, ни мной, ни тобой… Зря я тогда не решился, понимаешь? Когда ее убитой нашли… с револьвером этим возле кресла… так сразу же надо было пойти в другую комнату, взять ружье и Ободовского этого пристрелить… Чтобы он жизнью со своей… – режиссер грязно выругался, – не наслаждался… А то он, хитрец, говорит, что ни при чем, а баба его – что оружие потеряла, и поди докажи, что они оба врут и сговорились покрывать друг друга…
– Папа… Ну Иван Иванович же тоже хлеб свой задаром не ест… Признается у него Ободовский, никуда не денется… Или эта его… любовница признается…
– Им слава будет на всю страну, – горько промолвил режиссер. – Ты понимаешь хоть это? На всю Российскую империю… В каждом закутке их имена склонять будут! Потому что в такое сволочное время мы живем: если ты честный человек и работаешь честно, то ничего тебе не видать… А вот если ты воняешь, как… – он снова выругался, – всем в нос, тебя всякий заметит. Покритикует, конечно, но заметит… Вот так и создается слава! Да если я был уверен, что их хотя бы в каторгу сошлют, что получат они по заслугам… а то ведь может быть и так, что их оправдают… как это называется… за недостатком улик, во! – Он перестал мять рубашку и с недоумением поглядел на свою руку. – Ох, что-то пить хочется… Сходи еще к этой вобле сушеной, Эльзе как ее там, попроси вина. Душа болит, а толку-то? Никакого толку от этой боли нет, и Евгению мою мне уже не вернуть…
По правде говоря, Павел Колбасин зря беспокоился, что баронесса Корф может их услышать. Амалия не любила пьяных и, едва она поняла, что ей придется весь вечер терпеть общество нетрезвого и полного отчаяния Колбасина, под каким-то предлогом уехала к соседке, Клавдии Бирюковой.
– Ах, Амалия Константиновна, как я вас понимаю, – говорила передовая дама, освобождая для гостьи кресло, заваленное книжками на нескольких языках и какими-то бумагами. – Колбасина, конечно, жалко, нет слов, но какие бы испытания ни послала нам жизнь, распускаться нельзя… нельзя распускаться, – прибавила Клавдия Петровна строго.
Тут, признаться, Амалия подумала, что ее собеседница принадлежит к тем людям, которым хочется возражать всегда, даже если они говорят нечто совершенно очевидное, вроде того, что дважды два равно четыре. «И ведь я знаю еще множество людей с прогрессивными вроде бы взглядами, которых объединяет с Бирюковой именно эта черта, – мелькнуло в голове у Амалии. – Очень, очень любопытно…»
– Вы можете переночевать у нас, если хотите, – великодушно добавила Клавдия Петровна.
– Нет, я, пожалуй, вернусь обратно через пару часов. Думаю, Анатолий Петрович к тому времени успеет угомониться…
Шаркающей походкой в комнату вошел поэт, заметил Амалию, приосанился, учтиво поклонился и, обернувшись к хозяйке дома, нерешительно осведомился, когда будут подавать на стол.
– А то ужина еще не было…
– И в самом деле, – спохватилась Клавдия Петровна. – Амалия Константиновна, прошу разделить нашу скромную трапезу…
Амалия не видела причин отказываться, и вскоре трое собеседников оказались за одним столом, на котором были нескромно выставлены всяческие яства. Разговор, само собой, шел о недавних происшествиях.
– Я просто поражена тем, как быстро раскрыли это дело, – пыхтела Клавдия Петровна, попутно один за другим уничтожая вкуснейшие вареники с вишней. – Товарищ прокурора, конечно, работает давно и имеет опыт, но Иван Иванович меня удивил. Ведь он совсем еще молодой человек…
Амалия слушала и любезно улыбалась.
– Господи, ну чего там было раскрывать? – проворчал Свистунов, незаметно придвигая блюдо с варениками поближе к себе. – История стара, как мир. Всем здравомыслящим людям с самого начала было понятно, что это дело рук Ободовского…
– Ну, думали еще и на мужа, – справедливости ради напомнила Клавдия Петровна. – И Матвей Ильич Ергольский тоже казался очень, очень подозрителен…
Она сделала паузу, чтобы запить очередную порцию вареников чаем, и шумно отхлебнула из чашки.
– Матвей Ильич и мухи не обидит, – великодушно вступился за почти коллегу поэт. – А муж в Пановой души не чаял. В отличие от Иннокентия Гавриловича, который руки в карманах держал, когда она его обнимала…
– Вот! Хотя внешне казалось, что у них вроде бы все хорошо…
– Думаю, именно ваши слова о руках в карманах навели следователя на подозрения, – любезно сказал Николай Сергеевич. – Потому что, строго между нами, Иван Иванович все-таки немножко тугодум…
И он украдкой поволок к себе на тарелку новую порцию вареников. Потому что, как вы уже догадались, больше всего на свете Николай Сергеевич любил не рассуждать о сенсациях и даже не сочинять стихи, а вкусно и от души поесть.
– Не дай бог, еще свидетелем меня вызовут, – сказала Клавдия Петровна с покушением на кокетство в низком голосе и тряхнула головой. – Как по-вашему, Амалия Константиновна, ведь они могут?
– Определенно, ведь вам придется рассказывать хотя бы о том, что говорил за ужином Матвей Ильич.
– Ах! Неужели в газетах обо мне напишут? – затрепетала передовая дама.
– Они и фотографию могут поместить, – хладнокровно заметила Амалия. – Сами понимаете, такой громкий процесс…
– Тогда придется одеться получше, – решительно промолвила Клавдия Петровна, с недоумением глядя на почти пустое блюдо, на котором буквально только что высилась гора источающих жар вкуснейших вареников. – И заказать новую шляпку. Или даже две?
– Чем больше, чем лучше, – сказала Амалия с улыбкой. – Ведь неизвестно, сколько раз вас будут вызывать.
– Да-с, – вздохнул поэт, – а почему такой шум? Потому, что жертвой стала известная актриса. Вот убили бы одну горничную Дуняшу, так никому и дела бы не было. Нашли бы того, кто это совершил, осудили бы и без дальнейших проволочек – на каторгу… без отчетов и без фотографий в прессе!
– Николай Сергеевич!
– Клавдия Петровна, ну вы же понимаете, что я прав! Прихлопнут простого человека – какой тут тебе сенсационный процесс? А вот актриса – это совсем другое дело…
– Между прочим, тебе ведь тоже придется выступать свидетелем, – вернула его с небес на землю родственница.
– Мне? Да почему же?
– Ты тоже был среди гостей на ужине у Матвея Ильича. И как хочешь, но ты обязан поприличнее одеться…
– У меня есть костюм почти новый, – подумав, решительно объявил поэт. – Интересно, а мне стихи свои прочесть не дадут?
– Стихи? Во время опроса свидетелей?
– Ну а что такого? Ведь меня наверняка спросят, чем я занимаюсь. Я отвечаю: поэт. Где вы печатались? То-то и оно, что почти нигде… Вот и придется стихи читать, чтобы мне поверили, – с надеждой прибавил Николай Сергеевич. – А что? Представители прессы в зале, это же какая реклама…
– Нет, Николай Сергеевич, я думаю, читать на процессе стихи ни к чему, – решительно заявила Клавдия Петровна. – А то ты, не дай бог, прочитаешь чего-нибудь такое, за что тебе же потом и попадет…
– Ну Клавдия Петровна, голубушка, как же можно! Я с разбором прочитаю. У меня, например, про березки есть…
– Не надо мне про твои березки говорить, я и так помню. Они у тебя склоняются печально и, как брошенные девушки, стоят.
– Ну и что такого? Это же поэтический образ…
– Ну да, поэтому и липы у тебя в другом стихотворении стоят печально и как брошенные девушки. – Клавдия Петровна была немножко сердита, что ей досталось меньше вареников, чем обычно, и не задумываясь нанесла удар в самое чувствительное место.
– Клавдия Петровна!!! Ты хочешь сказать, что я повторяюсь?
– Может, и не повторяешься, но пишешь об одном и том же…
– Амалия Константиновна! Вот вы, как человек, тонко чувствующий поэзию… Объясните мне, почему Пушкину всю жизнь можно было писать про женские ножки, а мне про березки нельзя? Я не понимаю… Это… как ее бишь… дискриминация, вот!
– Николай Сергеевич, право же…
– Не слушайте его, Амалия Константиновна, у него еще есть стихотворение про ивы, так они тоже склонились печально и стоят, как брошенные девушки…
– Клавдия Петровна! Голубушка, честное слово, я не узнаю вас!
…В саду смеркалось. По траве пробежал ветерок, раскачивая цветы. Хлопотливая птичка – трясогузка – села на окно, послушала, о чем говорят в освещенной комнате большие и важные люди, разочарованно фыркнула и улетела прочь.
Глава 22. Шкатулка без секрета
Амалия не любила рано вставать. По работе ей нередко приходилось проводить бессонные ночи и вскакивать ни свет ни заря, поэтому в обычной жизни она предпочитала наверстывать упущенное. Тем не менее, когда на следующее утро Амалия проснулась в своей спальне в «Кувшинках», она, даже не глядя на часы, определила, что сейчас еще слишком рано.
На этом, в сущности, можно было остановиться, повернуться на другой бок, подоткнуть подушку поудобнее и попытаться уснуть снова, но Амалия сразу же поняла, что ей этого вовсе не хочется.
Вчера у Бирюковой среди разговоров о поэзии и прозе жизни было сказано нечто такое, что содержало ключ. Были произнесены какие-то слова, которые на миг словно осветили перед ней тропинку во тьме и позволяли надеяться, что все кусочки головоломки – а Амалия считала, что преступление всегда немножко головоломка, – наконец сложатся в правильном порядке.
Репортеры в зале, реклама… Нет, не то.
Если бы речь шла не о Пановой…
Тоже не то, хоть и теплее.
Вот убили бы одну горничную Дуняшу, так никому и дела бы не было, – кажется, так сказал поэт. Почему?
Если бы жертвой стала только горничная, то проверили бы ее связи, круг знакомств, недругов, конфликты, прошлое и нашли бы убийцу. Таким же порядком, каким действуют при расследовании любого убийства. Кому оно выгодно, кому жертва могла помешать и так далее…
Одним словом, если бы речь шла только о Дуняше…
И тут Амалия поняла окончательно, что именно ее так беспокоило, – и это было так неожиданно и в то же время настолько хорошо объясняло все неувязки, что она вскочила с постели и стала одеваться.
До сих пор следствие почти исключительно было занято Пановой, потому что она была убита первой, а гибель Дуняши представлялась лишь следствием. Но, в сущности, что мы знаем о Дуняше?
Подкидыш? Допустим… Конечно, в каком-нибудь романе Ергольского она вдруг оказалась бы наследницей громадного состояния, но сейчас о романах нельзя думать, никак нельзя…
Амалия вспомнила, что убитой было 25 лет, что она была довольно хорошенькая, болтушка и, как выразился Анатолий Петрович, себе на уме. Если она поняла, кто убийца…
Нет, отмахнулась Амалия, опять не то. Она опять попадает в ту же ловушку, что и Иван Иванович; а самая главная ловушка этого дела заключается в том, что Ергольский, как ни крути, талантливый писатель, и пока она не выйдет окончательно за пределы навязанной им схемы, дело ей не раскрыть…
Да, именно схема была причиной того, что события развивались именно так, а не иначе, но главным в этой схеме было вовсе не убийство знаменитой актрисы, о нет…
«А если я не права?» – мелькнуло в голове у Амалии. Отбросим схему, и что остается? Только убийство безобидной горничной. Кому она могла помешать?
Если бы она была наследницей…
Э, нет, этак мы никогда не доберемся до правды! Ну, Матвей Ильич, ну и напридумывал…
И, выйдя из комнаты, Амалия решительно направилась туда, где находилась каморка Дуняши.
Иван Иванович изъял простреленную подушку как вещественное доказательство, но прочие вещи бедной девушки оставались на своих местах. Амалия перерыла полки шкафа, ощупала одежду, приподняла одеяло на постели и потрогала матрас, чтобы убедиться, что в кровати ничего нет.
«Ах, щучья холера! Если хотя бы примерно знать, что именно я должна найти…»
Она заглянула под кровать, увидела обшарпанный чемоданчик и, не мешкая, вытащила его из укрытия.
Пара чулок, какие-то газеты, порванный веер…
«Ну, понятно. Евгения Викторовна отдала за ненадобностью…»
На самом дне чемоданчика обнаружилась небольшая шкатулка.
Амалия заглянула внутрь, но там оказались только несколько красивых разномастных пуговиц («тоже, наверное, хозяйка отдавала лишнее»), дешевенькие бусы, несколько таких же колечек, метрика, сложенное вчетверо рекомендательное письмо от какой-то вдовы, у которой даже почерк вызывал неприязнь, и какая-то засохшая веточка. Больше – ничего.
Амалия села на стул и внимательно прочитала метрику, из которой действительно следовало, что Авдотья Фролова – дочь неизвестных родителей, после чего взялась за письмо. Сухо и желчно оно перечисляло недостатки Дуняши: забывает вытереть пыль, вертихвостка, забыла покормить кота, разбила вазу. В последней фразе милостиво допускалось, что, несмотря на это, Авдотья Фролова все же неплохая горничная – иногда.
«Если Евгения Викторовна все же взяла Дуняшу на службу с такой рекомендацией… Получается, не таким уж плохим человеком Панова была. Письмо написано с таким расчетом, чтобы человеку, который его предъявит, точно дали от ворот поворот…»
Но ни метрика, ни письмо никак не проливали свет на то, из-за чего погибла Дуняша, и Амалия поневоле стала сомневаться, на правильном ли пути она находится.
«В конце концов, из-за чего я так волнуюсь? А потому, что не верю во всю эту историю… Ободовский использует револьвер любовницы, чтобы избавиться от другой любовницы, – нет, это чересчур… Ни он, ни Бузякина даже не озаботились придумать себе алиби… Как-то все слишком… просто и топорно… Или нет?»
Амалия еще раз обыскала комнату, заглянула во все закутки, прощупала швы и дно чемодана, чтобы убедиться, что там нет потайных отделений. Можете поверить на слово, очаровательная баронесса Корф умела делать обыск, если нужно, и от ее острого внимания не ускользала ни одна деталь. Но тут – тут перед ней была простая комната, самая обычная кровать, и девушка, которая жила здесь, похоже, тоже не имела никаких секретов.
«Рассказать все Игнатову? Он, конечно, выслушает, но не поверит… Он убежден, что Ободовский и его сообщница у него в руках, и другие версии ему совершенно неинтересны. Если бы только у меня было хоть что-то, кроме моего чутья и подозрений, таких смутных, что я даже их сформулировать толком не могу…»
Она снова взяла в руки шкатулку, прочитала фамилию в рекомендательном письме, усмехнулась, покачала головой. Снова перебрала бусы, колечки, пуговицы, веточку…
Веточка, внезапно поняла она. Все остальное не имело значения, кроме веточки; и даже метрика, даже дышащее злобой письмо находились тут для отвода глаз.
Веточка, вот в чем дело.
«Я же знаю, что это такое, – подумала Амалия. – Знаю! Но тогда… тогда где же все остальное, черт побери?»
Она снова перерыла чемодан, заглянула во все ящики, но убедилась, что ничего нового в этой комнате ей обнаружить не удастся.
«В сущности, неважно… Рекомендательное письмо было тут, как и метрика, и, значит, тот, другой документ, тоже. Просто кто-то очень умный и хитрый забрал его и уничтожил… Да, просто уничтожил… И кольцо…»
Все вмиг стало понятно; все, все, до самого конца. Без доказательств на руках, основываясь только на веточке и своей интуиции, которая редко ее подводила, баронесса Корф поняла, кто, как и ради чего затеял все это. Потому что на кону стояла не жизнь Дуняши – вовсе нет; и даже не жизнь несчастной Пановой, которая была использована как обыкновенный реквизит. На кону стояло нечто большее, гораздо, гораздо большее…
«Все-таки стоит лишний раз навести справки у Колокольцева, ведь это он делал вскрытие… Хотя я уже не сомневаюсь, что я совершенно права».
…Дмитрий Александрович привык, что его иногда поднимают с постели, отрывают от дел и даже не дают толком позавтракать, как было в этом случае, когда в его доме появилась баронесса Корф и потребовала немедленно ее принять.
– Доктор, – выпалила баронесса, даже не соизволив присесть, – умоляю вас, ответьте мне только на один вопрос!
И, услышав его, Колокольцев так изумился, что даже уронил вилку.
– Право же, сударыня, я не понимаю, для чего вам… Ну хорошо. Да, я готов подтвердить, что Авдотья Фролова не была девушкой. Но…
– В два часа в «Кувшинках», – загадочно молвила Амалия, сверкнув глазами. – Приходите, доктор, вы не пожалеете. В конце концов, правосудие ведь должно восторжествовать, даже если мир рухнет, не так ли?
Глава 23. Разоблачение по всем законам жанра
– Госпожа баронесса, – в некотором изумлении промолвил Иван Иванович, – должен сказать, что я все же не понимаю…
– Расследование еще не закончено, господин Игнатов, – стальным голосом ответила Амалия, – и предписание, в соответствии с которым мы должны работать вместе, еще в силе. Поэтому сделайте так, как я прошу, и соблаговолите доставить к двум часам в «Кувшинки» обоих подозреваемых. Можете прихватить с собой любое количество полицейских и жандармов, мне все равно.
Сердясь, Иван Иванович сделал последнюю попытку усовестить баронессу.
– Но сегодня утром Ободовский уже признался в обоих убийствах! У меня есть на руках надлежащим образом заверенный документ…
– Иннокентий Гаврилович решил сыграть благородного героя, – сквозь зубы ответила Амалия, и ее глаза сверкнули. – А благородный герой ни за что не оставит в беде женщину, которую любит. Так или иначе, его признание все равно неправда.
– Амалия Константиновна!
– Милостивый государь, мне представляется, что мы тратим на бесплодные споры время, которое можно было бы употребить с куда большей пользой. – Амалия топнула ногой. – Щучья холера, да сделайте вы так, как я говорю, и я даю вам слово, что вы не прогадаете!
Следователь Игнатов хотел было возразить, что одного слова баронессы (которая, как он только что понял, ему окончательно разонравилась) ему недостаточно, но тут он поглядел на лицо Амалии – и сдался. Хотя Иван Иванович не слишком хорошо разбирался в женщинах, он все же чувствовал, когда именно лучше им уступать, иначе последствия могут оказаться непредсказуемыми.
«И что это взбрело ей в голову? Не понимаю, решительно не понимаю… Или она питает к этому Ободовскому какие-то чувства? Гм… Вот оказия, однако! Поначалу все было так хорошо, и вдруг…»
Итак, к двум часам в усадьбе баронессы Корф собралось множество людей. Был тут нервничающий Ергольский, его жена, как всегда казавшаяся самим спокойствием, и журналист Чаев. Явились изнывающая от любопытства Клавдия Петровна, которой Амалия лично пообещала нечто необычное, и Николай Сергеевич, который был слегка сердит, потому что ему не дали закончить новое стихотворение. Приехал Андрей Григорьевич Башилов с дочерью, который вовсе не хотел являться и сдался только тогда, когда Амалия пригрозила доставить его под конвоем. Наконец, из своих комнат спустились Анатолий Петрович, его сын и Серж. В углу комнаты, чувствуя себя совершенно не в своей тарелке, устроился доктор Колокольцев, а возле него – товарищ прокурора Желтков, который сильно недоумевал по поводу сборища, затеянного своенравной баронессой Корф, но поостерегся задавать лишние вопросы. Последним явился хмурый следователь Игнатов, за которым конвоиры ввели Ободовского и Екатерину Александровну; и, завидев актера, Клавдия Петровна привстала на месте и тихо ахнула. Куда девался непринужденный, уверенный в себе красавец, которого она так хорошо помнила по ужину у писателя? Сейчас под глазами Иннокентия Гавриловича лежали черные тени, черты бледного лица заострились, как у покойника, а на щеках проступила небритая щетина. Екатерина Александровна казалась совершенно растерянной и часто моргала. И, хотя на обоих преступниках не было ни наручников, ни цепей, их появление произвело на остальных крайне гнетущее впечатление.
– Итак, дамы и господа, – Амалия, лучезарно улыбаясь, вышла в центр комнаты, – я полагаю, что раз это дело началось, как какой-нибудь роман, было бы только справедливо поставить в нем точку, как это сделали бы в романе. – Ее тонкая рука описала в воздухе изящный жест. – Ну, вы понимаете, в одной комнате собирают всех подозреваемых, и проницательный сыщик предъявляет доказательства и изобличает преступника. Не так ли, Матвей Ильич?
Услышав свое имя, Ергольский вздрогнул и нехотя кивнул.
– Если дошедшие до меня слухи верны, – мрачно бросил Колбасин, – истинный преступник окончательно изобличен.
И он выразительно покосился на Ободовского.
– В деле открылись новые обстоятельства? – быстро спросил Павел.
Клавдия Петровна напряженно подалась вперед.
– Совершенно верно, – сказала Амалия, – и эти обстоятельства окончательно прояснили ситуацию. Но так как я вижу, что Георгий Антонович уже хмурится, недоумевая, почему именно я взяла слово, а не господин Игнатов, мне придется сначала кое-что объяснить. Во-первых, я состою в Особой службе.
По рядам слушателей пробежал гул интереса.
– Во-вторых, меня прислали сюда с просьбой разобраться, не является ли случившееся – а именно убийство Евгении Викторовны Колбасиной, сценический псевдоним Панова, – ловкой провокацией, направленной против присутствующего здесь господина Башилова, а также против интересов Российской империи.
– Однако! – вырвалось у Чаева.
– Вы все больше и больше изумляете меня, сударыня, – процедил сквозь зубы Башилов. – И к какому выводу вы пришли?
– Изучив все обстоятельства, – продолжала Амалия, – я вынуждена ответить положительно. Да, происшедшее некоторым образом имеет отношение к господину Башилову, но… вовсе не в том смысле, в каком предполагало мое начальство.
Андрей Григорьевич откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди.
– Если вам угодно намекать, что я имею к убийствам хоть какое-то отношение… – начал он.
– Мы до этого еще дойдем, милостивый государь, – безмятежно отозвалась Амалия. – А пока я, как обычно делается в романах, обращаюсь к настоящему убийце Евгении Пановой и Авдотьи Фроловой. Я знаю, что этот человек находится в этой комнате. – Слушатели стали с изумлением переглядываться. Желтков сидел как на иголках, Игнатов был сосредоточен и хмуро покусывал изнутри нижнюю губу. – Я прошу преступника признаться в содеянном, потому что… Матвей Ильич, какие доводы обычно выдвигают ваши герои?
– В романе я бы написал о чудовищном грузе на совести, – отозвался беллетрист, – и необходимости облегчить душу. Но так как мы все же не в романе…
– Ну да, и, как я вижу, преступник все равно не горит желанием сознаться. – Амалия насмешливо улыбнулась. – Хорошо. Тогда, с вашего позволения, дамы и господа, я кратко напомню канву событий с самого начала.
– Мне показалось или она смотрела на вас, когда говорила о преступнике, который не хочет сознаваться? – с подозрением шепнула поэту Клавдия Петровна.
– Я-то тут при чем? – сделал тот большие глаза.
– Итак, – продолжала Амалия, – однажды вечером Матвею Ильичу Ергольскому пришла в голову фантазия описать ряд убийств на примере присутствующих на ужине. Стоит особо отметить: это был экспромт, никто специально не наводил разговор на эту тему, все получилось само собой. При разговоре, детали которого с тех пор обсуждались уже сотню раз, присутствовали: сам Матвей Ильич, его супруга, друг дома господин Чаев, актриса Панова, ее муж, режиссер Колбасин, их сын Павел, друг сына Сергей Иванович Карпов, а также Клавдия Петровна Бирюкова, Николай Сергеевич Свистунов, Андрей Григорьевич Башилов и его дочь, а кроме вышеперечисленных лиц – актер Иннокентий Гаврилович Ободовский. Также разговор могла слышать Екатерина Александровна Бузякина, которая в этот момент оказалась в саду и стояла за открытым окном.
– Но я уже говорила… – пролепетала актриса. – Я не прислушивалась к разговору…
Ободовский незаметно взял ее руку и крепко сжал ее, словно показывая, что он здесь и ей ничего не следует опасаться. Губы у Екатерины Александровны задрожали.
– Боюсь, что в данном случае не имеет никакого значения, слышали вы рассуждения Матвея Ильича об убийствах или нет, – серьезно ответила Амалия. – Важно лишь то, что среди его слушателей был человек, который уже некоторое время думал об убийстве. Но так как человек этот был умен, он понимал, что идти на преступление надо так, чтобы тебя не могли заподозрить. И одна из импровизаций Матвея Ильича подсказала ему, как именно он может совершить убийство и не попасться.
– Простите, я не понимаю, – начал Чаев. – Все, что вы тут рассказываете, сударыня, нам уже давно известно. Меж тем вы обещали какие-то новые факты…
– Терпение, милостивый государь, терпение, – вкрадчиво шепнула Амалия. – Кстати, если вы полагаете, что сейчас я говорила об убийстве Пановой, вы заблуждаетесь.
– То есть? – вскинул брови журналист.
– Объясните, пожалуйста, сударыня, – пробормотал Колбасин, – потому что я не понимаю…
– Объяснить? Ну что ж. – Амалия вздохнула. – Человек, о котором я говорю, хотел убить вовсе не вашу жену. Нет, его целью было избавиться от Дуняши.
– Что? – болезненно вскрикнул Желтков.
– Что? – пролепетал растерянный Иван Иванович.
– Это очень простой фокус, господа, – печально промолвила Амалия. – Думаю, вы не раз видели, как фокусник ловко отвлекает внимание зрителей перед тем, как проделать свой трюк. Наш преступник – тоже фокусник, и до поры до времени ему удавалось дурачить всех, да, всех нас без исключения. Мне больно это говорить, Анатолий Петрович, но ваша жена была убита только для отвлечения внимания от главной жертвы. Преступник прекрасно понимал, что все начнут задавать себе вопросы и искать убийцу, связанного с Евгенией Викторовной, только с ней. На этом фоне второе убийство, да еще устроенное в точности по рассказу Матвея Ильича – якобы Дуняша что-то видела, – было воспринято как логическое продолжение первого, но на самом деле это не так. Именно Дуняша больше всего мешала преступнику, и именно из-за нее он и затеял свою смертельную игру.
– Я не понимаю… – бормотал Павел. – Вы говорите, что Дуняша… да нет, это вздор! Кому она могла помешать? Как вы можете предположить, что мою мать убили… убили просто так…
– Вы невнимательно меня слушали, Павел Анатольевич, – покачала головой Амалия. – Ее роль в этой кровавой постановке была ключевая: не дать заподозрить преступника, отвлечь от него внимание. Если бы не убийство вашей матери, если бы преступник решился устранить Дуняшу напрямую, следствие интересовалась бы только личностью горничной, господин Игнатов навел бы справки и рано или поздно понял бы, кому было выгодно избавиться от бедной девушки.
– Вы не говорите нам главного: кто? – потребовала Клавдия Петровна. – Кто это был?
– Очень ловкий и умный человек, – отозвалась Амалия. – Однако я все же подозреваю, что он не решился бы действовать, если бы ему не помог случай. Да, да, я имею в виду тот самый револьвер с перламутровой рукояткой, который Иннокентий Гаврилович подарил Екатерине Александровне, а она его потеряла. – Амалия повернулась к актрисе: – Кстати, вы не могли бы указать точнее, когда именно это произошло: в саду у господина Ергольского или на следующий день, в лесу?
– Мне кажется… – пролепетала Екатерина Александровна. – Кажется, это все-таки было уже в лесу, потому что утром я вроде бы его видела, а когда вернулась из леса, обнаружила, что револьвера на месте нет…
Игнатов открыл было рот, чтобы напомнить, что глупо верить преступникам, которые убили человека, а потом уверяют, что потеряли оружие незадолго до убийства, но наткнулся на повелительный взгляд товарища прокурора и решил смолчать.
– Все-таки я не понимаю, каким образом можно потерять такую крупную вещь, как револьвер, – не удержался Чаев.
– Я пудреницу искала, – пробормотала Екатерина Александровна, – а она куда-то задевалась… Я перетряхивала сумочку, и, наверное, как раз в этот момент…
– Итак, револьвер был потерян и остался лежать в лесу, – вмешалась Амалия. – Там убийца его и нашел. Если до этого момента он колебался, то теперь искушение оказалось слишком сильным. Сначала Матвей Ильич со своей удачной историей, теперь еще эта находка… Положительно, стоило рискнуть. Он поспешил в дом, зайдя, как я думаю, с черного хода, чтобы его видело меньше народу. Позже Евгения Викторовна была найдена в гостиной, в кресле, но лично я не уверена, что в момент убийства она находилась именно там, – она, к примеру, могла читать книгу в соседней комнате, где стоят книжные шкафы и глобус. Должно быть, убийца сказал несколько слов, потом взял подушку и выстрелил сквозь нее. Далее он перетащил тело в гостиную, чтобы не отступать от версии Матвея Ильича, усадил Панову в кресло, положил на ковер возле кресла револьвер, а подушку припрятал. Она еще должна была сыграть свою роль, чтобы убийство Дуняши показалось правдоподобным. На следующий день он выманил Дуняшу из дому, убил ее и подбросил подушку к ней в комнату, откуда, кстати сказать, позаботился изъять кое-какие вещи.
– Какие именно? – не утерпел Николай Сергеевич. До поры до времени он старательно изображал равнодушие к происходящему, но поворот, который принимало дело, помимо воли захватил его.
– Свидетельство о браке, – сказала Амалия. – И, как я думаю, обручальное кольцо. Возможно, там были еще какие-то личные вещи – письма или записки, которые ни в коем случае не должны были попасть к господину Игнатову.
– Амалия Константиновна, – решительно произнесла Клавдия Петровна, – может быть, я не слишком хорошо соображаю, но все же кое-какие детективные романы я читала… Так вы утверждаете, что Дуняшу убили, потому что она была замужем?
– Да.
– Но зачем? Вот чего я никак не могу взять в толк…
– Давайте попробуем еще раз, – предложила Амалия, сверкнув глазами. – Преступник нашел револьвер в лесу. Кто еще был в лесу в тот день, кроме господина Ободовского и госпожи Бузякиной?
Иван Иванович прочистил горло. Ему показалось, что он начал понимать.
– Павел Анатольевич, – отрапортовал он. – И Сергей Иванович, который позже отправился его искать.
– О боже, – пролепетала Натали. – Боже мой!
– Вспомните, ведь Дуняша была очень милой девушкой, – сказала Амалия. – Мог ли Павел Анатольевич жениться на ней – разумеется, тайком – и просить ее держать все в секрете? А в сущности, почему бы и нет? Не зря же он так старательно пытался нас убедить, что убитая горничная для него ничего не значила…
– Я не… – начал Павел.
– Но даже если бы вы были ее мужем, зачем вам убивать ее? В конце концов, существует процедура развода, – от наблюдательного Игнатова не укрылось, что при этих словах Амалия слегка поморщилась, – и вообще, к чему вам утруждать себя? Будь она вашей женой, что именно вы получали от ее смерти? Ответ – ничего.
Теперь она смотрела прямо на Сержа, который съежился на стуле позади Николая Свистунова.
– Другое дело, если бы вы были помолвлены с очаровательной девушкой, наследницей колоссального состояния, – с девушкой, у которой одно слово «развод» вызывает самые неприятные ассоциации. Да дело ведь не только в них, Сергей Иванович, – ведь если бы господин Башилов узнал о том, что вы были женаты на горничной, а затем бросили ее ради богатой невесты, в голову ему закрались бы неизбежные сомнения. Он стал бы задавать себе довольно неприятные вопросы, а ответа на них потребовал бы у вас. И так как Андрея Григорьевича никак не назовешь глупым человеком, я уверена, он сделал бы в отношении вас самые неутешительные выводы, да что там – он бы попросту закрыл перед вами двери своего дома и сделал все, чтобы вы никогда больше не смогли увидеть его дочь. А это значит, что вы снова оказались бы на обочине жизни, с одной матерью, которая пишет восторженные статьи о всяких пустяках, и с женой-горничной, которая, наверное, любила вас, но не могла дать вам ничего из того, о чем вы мечтали…
– Это все ваши выдумки, – хрипло промолвил Серж. – Вы почему-то решили выгородить убийц, которые уже сознались… повесить все на меня… Я не убивал их! Я никого не убивал…
– Полно вам, Сережа, – вздохнула Амалия. – Вас видели, когда вы выходили из комнаты горничной. Полагаю, именно тогда вы подбросили простреленную подушку и забрали вещи, которые выдавали вашу связь. Но даже не это самое главное, а то, что я получила с курьером ответ на свой запрос – копию записи о вашем венчании с Авдотьей Фроловой.
И она легким движением извлекла откуда-то солидного вида конверт, запечатанный несколькими печатями. На конверте стояло: «Баронессе Амалии Корф. Строго секретно. Вручить только в собственные руки».
– Беда в том, Сергей Иванович, что до поры до времени вам слишком везло, – сказала Амалия, возясь с печатями. – Вы услышали рассказ Матвея Ильича и поняли, как его можно использовать. Вы нашли револьвер, который потеряла Екатерина Александровна. Вы убили двух несчастных женщин, и вас никто не заметил, никто даже не заподозрил! Вам настолько везло, что господин Ободовский даже решил взять на себя вину в двух убийствах, потому что знал, что он не убивал, – значит, решил он, это сделала Екатерина Александровна, но даже если так, ее надо спасти. А она знала, что никого не убивала, и думала, что убийца – он…
– Хватит! – выкрикнул Серж. Теперь его лицо было багровым, в голосе прорезались угрожающие нотки. – Вы поймали меня – радуйтесь, но не смейте требовать у меня сочувствия… Каждый день Павел жаловался мне, как ему тошно видеть мать с ее любовником и как он хотел бы, чтобы это закончилось… Что ты смотришь на меня? – напустился он на своего друга. – Радуйся! Я исполнил твое желание! Ты-то даже руки на себя наложить не смог… растяпа! Права она была, когда называла тебя так…
В публике произошло движение.
– Сережа, это правда? – очень тихо спросил Колбасин. – Так это правда – все, что нам тут рассказывали? Это ты…
– Я совершил ошибку. – Злобно кривя губы, Сергей смотрел на угол ковра, мимо шелкового шлейфа платья баронессы Корф. – Мать все твердила, что народ… что надо быть ближе к народу, что граф Толстой сказал… и, мол, слуги – такие же люди, как мы… Господи! И я попался, как последний дурак. А потом Авдотья мне заявила, что беременна. И я по глупости на ней женился… А после свадьбы она мне и говорит, что ошиблась. Я насилу уговорил ее не рассказывать ничего моей матери… Обещал, что как только стану на ноги, мы будем открыто жить вместе… Да ей даже это не особенно было нужно, главное – она была рада, что окрутила меня, как они говорят. Сама болтлива и глупа, как пробка, с ней было невозможно говорить ни о чем серьезном… Жена! Хороша жена – малограмотная горничная! А когда я познакомился с Наташей, Авдотья все смеялась и дразнила меня: мог, близок локоть, а не укусишь… ты ведь уже женат! Я хотел ночью как-нибудь подушкой ее удавить и думал, может, сойдет за сердечный приступ… Но всем было известно, что у нее отличное здоровье, так что я не решился. И тут… Матвей Ильич со своими фантазиями… И я понял, как мне избавиться от моей горничной раз и навсегда. Этот болван, – он кивнул на Игнатова, – все бы слопал и не поморщился, но вы! Ну почему именно вы оказались из Особой службы? Зачем вам надо было докопаться до венчания, до моей паршивой жизни, даже до того, о чем я мечтал… до всего…
– В том, что вы говорите, возможно, есть доля правды, – холодно сказала Амалия. – Но теперь, по-моему, это вы ищете моего сочувствия… Потому что я помню, что Дуняша была подкидышем. Это еще хуже, чем круглый сирота, это человек, у которого во всем свете нет ни единой близкой души… У нее никого не было, кроме вас. Она доверяла вам, а вы ее убили… подло, жестоко, цинично…
Желтков уже был на ногах и делал выразительные знаки конвоирам, которые до того стерегли Ободовского и Бузякину. Но тут затрещал опрокидываемый стул, и Анатолий Петрович, проревев нечто нечленораздельное, кинулся на убийцу своей жены. Истошно заверещала Клавдия Петровна, проворно отскочил в сторону поэт, оказавшийся как раз на пути разъяренного режиссера. А журналист, качая головой, мысленно подбирал запоминающиеся обороты, которые могли как можно полнее описать то, что происходило на его глазах.
Наконец Колбасина сумели объединенными усилиями оттащить от жертвы, а Сержа увели. Он шел, прямо держа голову, и Желтков, поглядев на него, подумал, что на суде это будет крепкий орешек.
«А ведь благодаря этой странной даме и ее методам мы сумели избежать крупного скандала… Неприятно все-таки сажать невиновного, как ни крути. – Тут его мысли приняли иное направление: – Хотя, скорее всего, никакого скандала все равно бы не случилось, раз Ободовский решил взять на себя вину. Просто однажды, уже после свадьбы, господин Башилов ни с того ни с сего отправился бы на небеса, а следом за ним – и дочь… От такого прыткого молодого человека, как Сережа Карпов, можно ожидать чего угодно…»
Очевидно, Башилов тоже подумал о чем-то подобном, потому что, когда он подошел поблагодарить Амалию, слова его звучали вполне искренне. Впрочем, ему даже не дали выговориться, потому что экспрессивная Екатерина Александровна бросилась к Амалии, стала сжимать ее руку и твердить, что она спасла им с Кешей жизнь…
– Подумать только, – добавил Ободовский, – что если бы вы не догадались найти документ о венчании этого прохвоста, нам с Катенькой пришлось бы совсем туго…
– И не говорите, – неопределенным тоном протянула Амалия и, достав из конверта лист, показала ему.
Лист был пуст.
Глава 24. Последние штрихи
– Все дело в том, что я неправильно интерпретировал происходящее, – признался Амалии удрученный Иван Иванович. – Я счел – что было вполне естественно – что убийство Пановой было причиной, а убийство Дуняши – только следствием. На самом деле все обстояло ровно наоборот: убийство Дуняши было причиной того, почему погибла Панова… – Он восхищенно покачал головой. – Но я до сих пор не понимаю, как вам удалось до этого додуматься! Конечно, у вас были показания свидетеля, которых не было у меня, – о том, как Сержа видели выходящим из комнаты Дуняши…
– Не было никакого свидетеля, – призналась Амалия. – И я не смогла за такое короткое время найти запись о венчании, так что, Иван Иванович, тут уж придется вам потрудиться…
Следователь нахмурился.
– Но я не понимаю… Если у вас не было ни документа, ни свидетеля… Как же вы поняли, что именно стало причиной смерти Дуняши?
– Веточка в шкатулке, – серьезно ответила Амалия. – Веточка среди документов, а также дорогих сердцу и просто приятных вещей. Понимаете, Иван Иванович, это был флердоранж… Который невесты прикалывают к фате.
Если Иван Иванович не сказал: «Ах я осел!» – то только потому, что был хорошо воспитан. Однако он все же тихо застонал.
– А ведь я тоже обратил внимание на веточку и немного удивился – зачем ее там держать? Но не стал докапываться до причин…
– Вот, вот! Думаю, там был документ или документы, а также, вероятно, обручальное кольцо – это он все забрал, но на веточку не обратил внимания… Чтобы проверить мою догадку, я обратилась к доктору, а потом попросила его прийти. Если бы у присутствующих возникли вопросы, его свидетельство бы развеяло все сомнения.
– Да, – вздохнул Иван Иванович. – Кстати, вы заметили, что из вашей усадьбы он уходил вместе с Клавдией Петровной?
– Может быть, она чем-то больна? – рассеянно предположила Амалия.
Игнатов улыбнулся. Ах, Особая служба, Особая служба! Все-то вы видите… и ничего не замечаете!
– Меня бы сильно удивило, если бы это было так, – дипломатично промолвил он. – В конце концов, Колокольцев – вдовец, человек ворчливый, но положительный…
– Знаете, Иван Иванович, меня Наташа беспокоит, – невпопад отозвалась Амалия. – То, как она сидела тогда, прямая и бледная… и какое у нее было выражение лица, когда она догадалась – раньше всех догадалась – к чему я веду… – Баронесса Корф недовольно покачала головой. – Вот что, Иван Иванович, сделайте мне маленькое одолжение: съездите к Башилову и попросите его присмотреть за дочерью. Можете даже не говорить, что это моя просьба, просто мне бы очень не хотелось, чтобы с бедной девушкой что-то произошло.
Однако Игнатов смог выполнить просьбу баронессы только через несколько часов, когда заполнил все бумаги и вместе с товарищем прокурора обсудил, какие действия предпринять в дальнейшем. Когда Иван Иванович наконец приехал к Башилову, то был озадачен суматохой, которая царила в доме. По саду бегали слуги, а сам Андрей Григорьевич метался среди них с таким выражением лица, какое молодой следователь никак не ожидал у него встретить.
– Иван Иванович! – кинулся к нему промышленник. – Вы никого на дороге не видели? Наташа… Наташа пропала! – в отчаянии выкрикнул он. – Господи боже мой, ну что это такое? Лучше бы я своими руками убил подлеца, прежде чем он вошел в наш дом…
Иван Иванович постарался, как мог, успокоить его, и пообещал помочь в поисках. Он и в самом деле добросовестно осмотрел несколько мест, но девушки нигде не было.
«Если бы на моем месте была баронесса Корф, – мелькнуло у него в голове, – как бы поступила она? Где бы прежде всего стала искать?»
И, внезапно сообразив кое-что, он двинулся к озеру, а точнее, к тому месту, где было найдено тело Дуняши.
Наташи на берегу не было, но, подбегая, он все же увидел ее и узнал – по тому, как белело в полумраке ее шелковое платье. Девушка стояла, глядя перед собой невидящим взором, и воды озера доходили ей уже до пояса.
– Наталья Андреевна! – отчаянно выкрикнул Игнатов, неловко махая руками.
– Не подходите ближе – я утоплюсь! – крикнула она.
– Наталья Андреевна…
– Я вам говорю – я утоплюсь! Не смейте ко мне подходить…
– Натали, послушайте меня… Он того не стоит, вы понимаете? Не стоит!
– Я так хотела верить в счастье, – бормотала Натали, не слушая его. – Короткая остановка в раю, да? Только, чтобы оказаться в раю, сначала надо умереть…
И, не выдержав, она заплакала и закрыла лицо руками.
– Ну, ей-богу, не стоит, не надо, – говорил Иван Иванович первое, что приходило ему в голову. – Подумайте об отце, который вас так любит…
– Он мерзавец!
– А ваша мама? Каково ей будет узнать, что с вами что-то случилось? Наталья Андреевна, голубушка, не надо…
– У моей мамы теперь другая семья, – ответила Натали, всхлипывая. – У нее дети… от другого мужчины… Я ей не нужна! Я никогда никому не была нужна… Меня отец забрал, только чтобы ей досадить…
– Нет, нет, нет! Поверьте, я кое-что знаю об Андрее Григорьевиче, он действительно… не очень… не самый… – сбивчиво говорил Игнатов, – но он вас любит… Если бы вы видели, с каким лицом он вас искал сейчас… вы бы даже не сомневались!
– Зачем мне жить? – отозвалась Натали. Ее всю трясло. – Вы говорите: ради отца, ради матери… как будто я должна всегда делать им приятное… Но вам же все равно, разве вам есть дело до того, что я чувствую теперь? Ведь он утопил ее, понимаете? На том самом месте, где я стою сейчас… Из-за меня погибли два человека! Это все случилось из-за меня… только из-за меня… А я так надеялась, что Сережа… что он другой… Но он оказался хуже всех! Он оказался такой же, как мой отец… готовый идти по трупам, если понадобится…
– Наталья Андреевна, – серьезно сказал Игнатов, – поверьте, не все такие, как ваш отец… Просто потому, что все не могут быть мерзавцами… Вот.
Наташа всхлипнула и вытерла слезы.
– Конечно, не могут, – неожиданно согласилась она. – Вот баронесса Корф… она пошла до конца, хотя какое ей было дело до этого актера и его любовницы… И все вокруг твердили, что это они виноваты, что все сходится… А потом, когда их отпустили, те же самые люди стали уверять, что никогда не сомневались в их невиновности…
– Просто им было очень неловко, – помедлив, признался Иван Иванович. – Не оттого, что они оговаривали невинных людей, а оттого, что убийца их чуть не провел. И я знаю преступников, Наталья Андреевна. Если бы ему все сошло с рук, он бы на этом не остановился, и кто знает, кем была бы его следующая жертва…
После этих слов наступило молчание. Наконец Натали вздохнула.
– Я больше никогда никому не смогу доверять, – призналась она.
И, когда Игнатов услышал эти слова, у него немного отлегло от сердца. Раз она говорила о будущем, значит, смерть уже не так манила ее.
– Вы не скажете папе? – внезапно спросила девушка.
– Я скажу ему, что вы оступились, упали в воду, испачкали платье и боялись вернуться домой в таком виде, – успокоил ее следователь. – Или еще что-нибудь, если вам не нравится моя версия.
Когда она выходила из воды, он подал ей руку и помог взобраться на берег, после чего они бок о бок зашагали к усадьбе Башилова.
На этом, в сущности, и можно было бы закончить нашу историю. Правда, долго еще в уезде судачили о богатстве, которое внезапно свалилось на Клавдию Петровну, о том, что к ней подозрительно часто стал ездить доктор Колокольцев, и о том, что баронесса Корф оказалась не просто баронессой, а сотрудницей секретной службы, которая в два счета вывела на чистую воду изворотливого преступника. Анатолий Петрович Колбасин вместе с сыном вернулся в столицу и, говорят, продолжает ставить пьесы. Екатерина Александровна развелась со своим мужем и вместе с Ободовским имеет бешеный успех в театре, причем пьесу по мотивам их истории сочинил не кто иной, как драматург Щукин. Знатоки, впрочем, уверяют, что кое-какие монологи в пьесе подозрительно напоминают места из мелодрамы известного французского автора, но Щукин упорно настаивает на том, что это просто совпадение, потому что сюжеты обеих пьес совершенно не похожи. Поэт Свистунов выпустил два сборника на роскошной бумаге с золотым обрезом и блаженствует, раздаривая экземпляры из тиража своим друзьям, потому что обычные читатели почему-то его стойко игнорируют. Георгий Антонович Чаев написал цикл статей о деле Пановой и стал знаменит еще больше, чем прежде; правда, его огорчило, что бдительная цензура отовсюду вымарала упоминание о баронессе Корф и ее настоящем статусе, как будто дело раскрыли только Игнатов и Желтков. Вскоре Чаев уехал в свое очередное путешествие, по слухам, в Аргентину. Ергольскому он пообещал писать так часто, как только сможет, а Антонине Григорьевне – привезти в подарок еще одну орхидею, а если получится, то целый ящик.
– И что человеку неймется, что его мотает по всему свету? – философствовал как-то вечером Матвей Ильич, глядя на мангустов, которые возились на ковре возле его ног. – Впору подумать, что он безнадежно влюблен и пытается таким образом излечиться от своей страсти…
Антонина Григорьевна промолчала, а когда она заговорила, то спросила лишь, не хочет ли муж еще чаю.
– Хочу, конечно, – благодушно откликнулся писатель. – Я свой новый роман решил посвятить баронессе Корф. Все-таки она сумела уговорить власти не давать хода той фотографии и не упоминать ее на процессе, за что я ей очень благодарен.
– Может, ты собираешься вставить ее в свой роман? – ласково поддразнила его жена.
– Это мысль, – промолвил Матвей Ильич. Несколько минут он молчал, обдумывая предложение жены. – Но, знаешь ли, нет, – с сожалением сказал он наконец. – Мне нравятся женщины мягкие, спокойные, домовитые. Баронесса Корф, конечно, замечательный человек, но она совершенно не мой тип. И вообще я на время, наверное, завяжу с детективами, а вместо них напишу роман о любви.
– Жили-были писатель и его скучная жена?
– Почему скучная? Не говори глупостей. И вообще, может быть, давно уже пора написать о нас роман.
– Да. Они жили долго и счастливо, вопреки всему…
Она поняла, что едва не проговорилась, и поспешно умолкла; но Матвей Ильич, как всегда, ничего не заметил.
– И у них было трое детей, – фантазировал он. – А?
– Можно и четверо, – улыбнулась Антонина Григорьевна. – Смотри, Шоколад опять утащил мою шпильку.
– И мангустов вставим в роман, – продолжал Матвей Ильич с увлечением. – И орхидею…
– Никогда не любила орхидеи, – внезапно призналась его жена. – И вообще я больше всего люблю сирень, ландыши и цикорий.
– Ты самая лучшая жена на свете! – засмеялся Матвей Ильич и переплел свои пальцы с ее пальцами.
Валерия Вербинина Миллион в воздухе
Глава 1 Экспресс «Золотая стрела»
По перрону Лионского вокзала бежала дама. Золотое пенсне подскакивало на носу в такт, цветы на шляпке колыхались, словно в бурю, рука в перчатке сжимала старомодную сумочку вроде тех, какие носили лет 30 назад, году этак в 1867-м.
Впереди, уверенно рассекая толпу пассажиров и встречающих, летел носильщик. Это был высоченный, ко всему привычный малый, который передвигался такими широкими шагами, что каждый из них был равен трем, а то и четырем шагам дамы в пенсне. Впрочем, вовсе не это обстоятельство достойно внимания, а то, что, имея, как и все люди, всего две руки, носильщик, тем не менее, ухитрялся тащить разом целых шесть чемоданов.
Считайте сами: один желтый, один коричневый, один с обитыми железом уголками, еще один новый, но уже с царапиной на крышке, один коричневый маленький с монограммой «М.У.» возле ручки и еще один, который, судя по его виду, успел застать еще времена Наполеона Великого и – опять-таки судя по виду – наездился в эти времена так, как не всякому чемодану удается.
Обладательница шести чемоданов, а также всего их содержимого едва поспевала за дамой в пенсне, которая, несмотря на почтенный возраст и не располагающую к стремительности одежду, почти догнала верзилу носильщика. Тот бросил взгляд через плечо и задорно прокричал:
– Поторапливайтесь, сударыни! Поезд вот-вот отойдет!
Дама в пенсне охнула и схватила за руку спутницу.
– Мэй, ты слышала? Поезд!
– Да, тетя Сьюзан, – серьезно ответила Мэй.
До отхода поезда оставалось минут десять, но Сьюзан Беннет, как истая англичанка, не доверяла французам вообще и французским железным дорогам в частности. По ее мнению, машинисту могло взбрести в голову что угодно, и он в состоянии отправиться раньше исключительно для того, чтобы насолить Британской империи в лице милой Мэй и провожающей ее почтенной миссис Беннет. А значит, стоило поспешить, чтобы лишить машиниста этого сомнительного удовольствия.
Миссис Беннет покрепче прихватила племянницу под руку и прибавила шагу, но тут носильщик сжалился и объявил:
– Кажется, уже пришли!
Они двинулись вдоль состава. Тут были вагоны попроще, с сидячими местами и без купе, купейные вагоны, спальные, серый багажный и вагон-ресторан. Третий класс, второй, первый…
– Дамы и господа, экспресс «Золотая стрела» отходит через пять минут! Повторяем: «Золотая стрела» Париж – Вентимилья с остановками в Дижоне, Лионе, Валансе, Авиньоне, Арле, Марселе и далее в Тулоне, Ницце, Монако и Ментоне отходит через пять минут!
– Что он говорит? – нервно переспросила миссис Беннет.
– У нас есть еще пять минут, – успокоила ее Мэй.
Хотя госпожа Беннет была женой юрисконсульта английского посольства и уже около двадцати лет благополучно проживала на шоссе д’Антэн, она так и не сумела толком выучить французский. Возможно, больше всего ей мешало то обстоятельство, что стоило ей заговорить по-французски с кем-либо из аборигенов, как в ответ неизменно следовало учтивое:
– Pardonnez-moi, madame, je ne parle pas Anglais[156].
– Но я же говорю по-французски! – возмущалась вечерами уважамая леди в присутствии мужа, добродушного мистера Беннета. – Чего еще они от меня хотят?
Стивен Беннет вздыхал. В самом деле, как объяснить супруге, которую вы бесконечно уважаете, что французы произносят слова иначе, чем она, и интонация у них совсем другая, не говоря уже о такой мелочи, как грамматика? Поэтому миссис Беннет продолжала пребывать в пагубном заблуждении, что она говорит по-французски, только вот почему-то никто из французов упорно не желает ее понимать.
– Нет-нет, – встрепенулась Мэй, увидев, что носильщик собирается нести весь ее багаж в соответствующий вагон, – этот чемодан я беру с собой!
– Который, мадемуазель? – почтительно осведомился верзила.
Мэй наморщила лоб. В самом деле, у нее успело вылететь из головы, какой именно чемодан пригодится в пути. Кажется, она уложила одежду в поцарапанный. Или в чемоданчик с монограммой?
– Поезд отправляется через пять минут!
Красавец локомотив зашипел и выпустил пар. Он был выкрашен в светлую краску, все металлические детали покрыты медью и сияли, как солнце, а на боку красовалась золотая стрела, заключенная в круг. К Мэй и ее тетушке приблизился молодой кондуктор, на форме которого также имелась стрела, вышитая желтой нитью.
– Сударыни?.. – вопросительно протянул он.
Мэй наконец распорядилась оставить два чемодана из шести – и поцарапанный, и с монограммой, – а остальные сдать в багаж, после чего стала рыться в сумочке, ища билет. Тетя Сьюзан величаво поправила пенсне.
– Дорогая, я надеюсь, ты захватила с собой все необходимое? И надела лучшее белье?
– Тетя! – возмутилась Мэй, едва не выронив сумочку от неожиданности.
– В этой жизни надо быть готовым ко всему! – наставительно объявила тетя Сьюзан. – Что, если ночью поезд сойдет с рельсов и случится катастрофа? А на тебе будет старое белье, и все это увидят! Это же ужасно!
– Я не собираюсь попадать в катастрофы, – сердито сказала Мэй, доставая заветный прямоугольник с надписью «Première classe»[157] и инициалами PLM, которые шли через весь билет. PLM означало Paris Lyon Méditerranée, компания «Париж – Лион – Средиземноморье», которой помимо всего прочего принадлежал и экспресс «Золотая стрела».
– В конце концов, – добавила Мэй, вручая билет кондуктору, – не для этого же я сюда приехала!
– Ваше купе в середине вагона, сударыня, – сообщил кондуктор, возвращая ей простреленный компостером прямоугольник.
Миссис Беннет вздохнула. Близился миг, который она не могла позволить себе пропустить.
– Береги себя, дорогая! – патетически воскликнула она и заключила племянницу в объятья.
Собственно говоря, миссис Беннет вовсе не собиралась останавливаться на этом. Ей хотелось прочитать юной Мэй еще кое-какие наставления, в которых та, несомненно, нуждалась, но тут вернулся носильщик, отдал дамам багажную квитанцию и застыл у вагона с видом человека, жаждущего платы за свои труды, причем немедленно. Миссис Беннет неодобрительно покосилась на него, так как он портил всю торжественность момента. Однако все же достала из кошелька монетку и вручила носильщику. Рассмотрев полученное, тот распрямился и поглядел на старую англичанку сверху вниз.
– Шесть чемоданов, сударыня, – промолвил он сокрушенно, качая головой.
Миссис Беннет поджала губы, непреклонная, как адмирал Нельсон на палубе своего корабля. С ее точки зрения, она и так переплатила, потому что вовсе не собиралась брать носильщика, и если бы Джеймс, слуга мистера Беннета, не заболел, таковой надобности вообще не возникло бы. Верзила вздохнул, буравя ее взором, полным укоризны. Миссис Беннет ограничилась тем, что снова поправила пенсне и отвернулась. Мэй вспыхнула, вытащила первую попавшуюся монету (которая оказалась пятифранковой) и сунула ее в руку носильщику, который расцвел и даже изобразил нечто вроде поклона.
– Счастливого пути, мадемуазель!
Мэй поднялась в вагон. Носильщик подал оставшиеся два чемодана. Миссис Беннет вытащила платочек и прижала его к глазам. Цветы на шляпке затрепетали, предчувствуя новую бурю.
– Мэй! Дорогая, не забудь написать нам, когда приедешь! Иначе я буду волноваться! Я дала тебе адрес мистера Фрезера?
Мэй, которая шла по вагону мимо окон, выходящих на перрон, остановилась и кивнула прелестной кудрявой головкой.
– Это сын моей подруги Люси, ты должна его помнить! – продолжала кричать миссис Беннет на весь перрон. – Он бывал у нас в доме, когда Стивен приезжал в Лондон и мы приглашали твою семью в гости! Уверена, если понадобится, он не откажется тебе помочь! И не забудь передать бабушке Клариссе привет от нас! Конечно, она вряд ли нас вспомнит, мы видели ее последний раз лет двадцать назад, но – как знать?
– Да, да, я прекрасно помню мистера Орехра! – крикнула Мэй. – Не волнуйтесь, тетушка!
– En voiture[158], дамы и господа! Поезд отправляется!
Локомотив издал хриплый свист. Провожающие прощались с пассажирами «Золотой стрелы». Миссис Беннет совсем расчувствовалась и несколько раз махнула платком. Стоя у окна, Мэй улыбнулась и помахала в ответ рукой. «Золотая стрела» набрала скорость и полетела по рельсам, направляясь из Парижа на юг.
Когда Лионский вокзал скрылся из виду, Мэй решила, что пора занять свое место в купе. Отыскав нужный ей номер – 7-й, – она решительно толкнула дверь.
Глава 2 Дама в сиреневом
От природы Мэй была застенчива. Признаемся сразу же: юную англичанку вполне устроило бы, окажись она одна в купе. Мало того, что она находилась в незнакомой стране, где все казалось непривычным или, во всяком случае, не таким, как дома; что, если теперь ей еще придется находиться в замкнутом пространстве с незнакомым человеком, с которым надо как-то поддерживать беседу, чтобы не прослыть невежей, и интересоваться его делами, когда от своих собственных голова просто кругом? Да и вообще, когда едешь одна, все гораздо проще. Можно поставить чемоданы на чужое место, разложить вещи, как хочешь, и не бояться, что нескромный взгляд заметит что-нибудь – да хотя бы что у расчески треснула ручка, но это старая расческа, любимая и в некотором роде уважаемая, которую не заменят сто новых. И вообще…
Но что вообще, Мэй додумать не успела, потому что встретила ясный и открытый взгляд дамы, которая уже сидела в купе. Стало ясно, что совершить путешествие в одиночку не удастся.
– О! – пролепетала Мэй. И, как и все застенчивые люди, совершенно невпопад спросила: – Pardon, madame, est-ce que c’est un compartiment numéro sept?[159]
Вопрос был излишним, потому что семерка на двери красовалась под изображением золотой стрелы. Дама поглядела на Мэй. В глазах незнакомки мелькнули загадочные искорки.
– Вы можете говорить по-английски, – любезно сообщила она на чистом английском без малейшего акцента. – Мисс…
В тоне проскользнул намек на вопрос, и Мэй поторопилась ответить.
– Меня зовут Мэй, – сказала она. – Мэй Уинтерберри.
– Очень приятно, – отозвалась дама, не называя, однако, своего имени. – Куда вы направляетесь, мисс Мэй?
– В Ниццу, – ответила Мэй, глядя на собеседницу во все глаза.
– Поправляете здоровье?
– Не совсем, то есть… – Мэй порозовела. – Меня пригласили в гости, миледи, – наконец выдавила она из себя.
– А, – уронила дама и стала наблюдать, как Мэй возится со своими чемоданами. Те, похоже, в точности как некий французский писатель[160], не имели ничего против путешествий, но терпеть не могли перемещаться, потому что, хотя в купе было достаточно места, Мэй никак не могла пристроить чемоданы так, чтобы они не пытались накрениться, упасть и отдавить ей ноги. Дама в сиреневом почувствовала, что пора вмешаться.
– Нет, большой чемодан поставьте рядом с моим, иначе будете все время о него спотыкаться. Да, мисс, прямо сюда.
– Спасибо, миледи, – пролепетала Мэй. – Просто я… ну… не люблю класть багаж наверх. – Тетя Сьюзан тысячу раз повторила: если в пути что-нибудь произойдет, самый тяжелый чемодан непременно упадет Мэй на голову, после чего жизнь для нее станет крайне проблематичной. Поэтому наверх Мэй положила свою шляпку, села на бархатный диван и стала прилежно смотреть в окно. Воспитание учит англичан, что неприлично таращиться на незнакомых людей, будто деревенщина какая.
Как и следовало ожидать, за окном не обнаружилось ничего интересного, и через некоторое время Мэй отважилась перевести взгляд на свою попутчицу. Это была дама, как решила Мэй, лет двадцати пяти или около того; и не простая, а Дама с большой буквы, настолько все в ней дышало сдержанным достоинством, утонченностью и изяществом. На незнакомке сиреневое платье и сиреневые ботинки; в углу висело сиреневое пальто, на откидном столике лежали длинные перчатки того же оттенка и шляпка с небрежно развязанными лентами, – вовсе не похожая на корзину для цветов, как у простодушной тетушки Сьюзан, а такая же изящная, как и сама хозяйка, шляпка-аристократка, настоящая comme il faut[161]. И Мэй, которая кое-что смыслила в моде, сразу же догадалась, чего стоило подобрать вместе платье, пальто, перчатки и шляпку такого редкого цвета, как сиреневый, и какие усилия на это потрачены. Духи у незнакомки тоже были comme il faut, не резкие, не тяжелые, не искусственные; они окутывали ее восхитительным облаком и придавали еще больше шарма. Нет слов, незнакомая попутчица нравилась Мэй все больше и больше, и не только потому, что одета изысканно и умеет выбирать ароматы. У дамы в сиреневом были прекрасные белокурые волосы, точь-в-точь такие, о которых с детства мечтала Мэй, которая терпеть не могла свои темно-каштановые кудри. И вообще попутчица очень хороша собой, но нет в ней того неприятного сознания собственной красоты, которое нередко бросает тень надменности на самые красивые лица и портит их. Напротив, и тон у нее дружелюбный, и улыбка, располагающая к себе. Она улыбнулась Мэй, и девушка поймала себя на том, что улыбается в ответ. Хотя английское воспитание и приучает людей к сдержанности, однако тут оно, похоже, бессильно.
– Кажется, мы с вами будем ехать до Ниццы вместе, – приветливо сказала дама. – Вы когда-нибудь бывали там раньше?
Мэй замялась. Почему-то в это мгновение она остро ощущала свою ограниченность. Ну как, скажите на милость, признаться столь милой, любезной собеседнице, что ты почти всю свою жизнь провела в захолустном городке Литл-Хилл и даже в Лондон, до которого не так уж и далеко, наведывалась только по большим праздникам? Что уж тут говорить о загранице, которая до сих пор встречалась Мэй только на страницах романов.
– Я впервые во Франции, сударыня, – наконец сказала Мэй.
– И никогда прежде не уезжали из Англии, верно? – спросила дама.
Мэй смиренно подтвердила, что так и есть. Хотя в тоне незнакомки не было и намека на снисходительность, почему-то Мэй казалось, что дама в сиреневом уж точно не сидела на месте и наверняка объездила всю Европу, а может быть, и не только ее.
– Вам нравится путешествовать? – продолжала дама.
– Еще не знаю, – честно призналась Мэй.
Дама улыбнулась.
– Это очень просто, – объяснила она. – Если вы считаете дни и не можете дождаться того момента, когда вернетесь домой, значит, путешествия не для вас.
Мэй задумалась. Конечно, дома ее ждал пони мистер Пиквик, ручной еж Джек, который бегал за ней, как собачка, любимая кукла и двое младших братьев, но, положа руку на сердце, она не могла сказать, что в это мгновение ее непреодолимо тянуло к ним. Совсем иначе было в начале путешествия, когда она уезжала из Лондона по направлению к Дувру. Тогда – о, тогда она тосковала безумно и по ночам орошала подушку горючими слезами. Но стоило Мэй переправиться через пролив, и новые впечатления захлестнули ее с головой. Так забавно было открыть, что французы и впрямь говорят по-французски, как ее гувернантка мадемуазель Клерфон. А парижские магазины! Какие там шляпки, духи, веера, прелестные мелочи, которые заставляют сердце любой женщины биться чаще!
– Мне нравится во Франции, – сказала Мэй. Однако английское благоразумие и тут попыталось взять верх. – Но, мне кажется, – несмело продолжала она, – на свете не существует ничего лучше родины.
– На свете не может быть места лучше того, где вам хорошо, – заметила дама. – А родина это или нет, совершенно несущественно. Границы устанавливает политика, а счастье – понятие личное. Вы не согласны?
Она с любопытством ждала ответа.
Мэй смешалась. Английский дух упрямства требовал отстаивать свою точку зрения до последнего, но девушка отлично сознавала, что доводы 18-летней провинциалки из Литл-Хилл вряд ли произведут впечатление на даму, которая немного старше и производит впечатление человека, знающего жизнь куда лучше, чем Мэй.
– Но, – несмело протянула Мэй, – мне очень хорошо на родине. И если бы не… – Она осеклась.
– Не хотите снять пальто? – мягко спросила дама в сиреневом. – Здесь вовсе не холодно.
Спохватившись, Мэй стала разоблачаться. Когда она снова села на место, в глаза бросилась царапина на чемодане, купленном совсем недавно, и Мэй покраснела, словно бедная царапина могла чем-то уронить ее во мнении загадочной попутчицы.
«Но кто же она такая? – думала Мэй. – Конечно, не англичанка, у нее совсем другие манеры; может быть, она была замужем за англичанином? – Тут ей в голову пришла еще одна догадка. – Она держится так непринужденно, что я совсем не чувствую неловкости, хотя обычно в обществе незнакомых людей мне хочется только молчать; может быть, это часть ее профессии? Что, если она знаменитая актриса или певица, а я ее не узнала?»
Мэй затрепетала. Теперь ей казалось, что она определенно видела где-то портрет попутчицы, а может быть, даже встречала в журналах ее фотографию; и Мэй мучилась неловкостью оттого, что не может узнать столь, без сомнения, выдающуюся особу. «Как бы выяснить, кто она такая? – думала Мэй. – Люди обычно обижаются, если спросить напрямик!»
– Завтра утром мы будем уже в Ницце, – сказала дама своим неизменным благожелательным тоном. – Этот город очарователен в любое время года, и даже в сентябре там есть на что посмотреть. – Она ободряюще улыбнулась Мэй. – Думаю, вам не придется скучать в обществе вашего жениха.
Мэй, которая только что открыла свой чемоданчик с монограммой, застыла на месте.
– Я не помолвлена, миледи, – призналась она, порозовев от волнения. Прядь кудрявых волос выбилась из прически, и Мэй поспешно завела ее за ухо левой рукой. Правой она по-прежнему придерживала крышку чемоданчика.
– А, значит, я не так вас поняла, – улыбнулась дама. – Я подумала, что вы едете в Ниццу к нему. Но ведь у вас есть жених?
Непокорная прядь волос снова выбилась из прически и теперь норовила угодить прямо в глаз. Мэй сделала движение правой рукой, чтобы раз и навсегда указать гадкой пряди на место, но упустила из виду, что держит на коленях чемоданчик, который своим капризным характером вполне мог поспорить с каким-нибудь наследным принцем. Крышка откинулась, перевесила и увлекла злополучный чемоданчик за собой, заставив его перекувырнуться. Содержимое беспорядочным потоком хлынуло на пол, и сквозь стук колес до Мэй донесся печальный звон стекла. Это разбился флакончик духов, которые она везла в подарок.
– О боже! – вырвалось у Мэй.
Красная как мак, она стала собирать с пола вещи. Больше всего ей хотелось провалиться под землю, но в следующее мгновение захотелось отправиться куда-нибудь еще глубже, потому что дама в сиреневом наклонилась, помогая ей собирать заколки, изрядно потрепанные книжки, небольшую тетрадь в сафьяновом переплете и даже ту самую расческу с треснутой ручкой.
– Вы слишком добры, миледи… – пролепетала Мэй. – Право же, не стоит, я сама.
– Ну что за глупости, – сказала дама. – Жаль только, что духи разбились.
Она осторожно, чтобы не порезаться, подняла с пола самый крупный осколок флакона и посмотрела на этикетку.
– «Убиган»[162], конечно. Не переживайте, вы купите в Ницце точно такие же.
– Да, но… но… – Мэй искала слова, чтобы выразить обуревавшие ее чувства, и не находила.
– Это был подарок? – догадалась дама.
Мэй кивнула.
– Моей бабушке, – сказала она. Ей ужасно хотелось заплакать, но фамильная гордость Уинтерберри пересилила. Мэй сидела, распрямившись как струна, и только ресницы предательски дрожали.
– Ваша бабушка живет в Ницце? – рассеянно спросила дама. – Нет, я не думаю, что брать осколки голыми руками – хорошая идея. Подождите, я вызову кондуктора, пусть он тут все соберет.
Кондуктор явился, выслушал рассказ феи в сиреневом о гибели флакона – все понимающий, чудесный кондуктор, – и через какие-то несколько минут в купе было чисто. Только настойчивый запах цветов, витавший в воздухе, напоминал о недавнем крушении хрупкой склянки.
– Не хотелось бы разочаровывать вашу бабушку, – заметила дама в сиреневом, залезая в сумочку, которая лежала рядом на диване. – Возьмите, мисс Мэй.
Это были другие духи, в другой коробке, и флакон запечатан золотой нитью. Ни одна бабушка на свете не отказалась бы от такого подарка, но Мэй пребывала в смятении.
– Нет, я не могу! – воскликнула она. – Я такая неловкая, а вы…
– Почему не можете? – спросила дама.
– Я вас совсем не знаю, – теряя голову, пролепетала Мэй.
– А разве я не представилась? – вскинула тонкие брови незнакомка. – Я Амалия, баронесса Корф. Так что теперь вы меня знаете, не правда ли?
И она мягким, каким-то кошачьим движением вложила в руку Мэй коробку с духами.
Фея на глазах превращалась в ангела с крыльями. И тут Мэй поняла, где именно ей раньше встречалась эта великодушная дама. Мэй действительно не раз видела свою попутчицу на фотографиях в журналах. Кажется, та была русской, но регулярно приезжала в Англию. Мэй даже вспомнила, что баронесса Корф была благотворительницей и несколько месяцев назад открывала благотворительный базар вместе с герцогом Олдкаслом, известным английским аристократом.
– О! – пролепетала Мэй, глядя на Амалию во все глаза. – Простите, миледи, я вас не узнала! Я же читала о том вечере, где вы и герцог…
Амалия повернула голову, и в ее карих глазах мелькнули загадочные золотые искры.
– Да, мы с его светлостью давние друзья, – спокойно подтвердила она.
Тон госпожи баронессы, по правде говоря, был дьявольски двусмысленным[163], но бесхитростная Мэй не уловила ничего такого. Напротив, она искренне порадовалась за герцога Олдкасла, что у него такие чудесные друзья.
– Но я не могу принять этот дар, госпожа баронесса! – встрепенулась Мэй. – Вы очень, очень добры, но я…
– Вы хотите огорчить свою бабушку, приехав к ней с пустыми руками? – спокойно осведомилась Амалия.
Мэй замялась. По правде говоря, меньше всего на свете она хотела огорчать бабушку. Но щепетильность не позволяла просто взять и принять столь дорогой подарок, как духи, от столь любезной леди, как Амалия. Потому что это значило бы злоупотребить чужой добротой.
– Давайте сделаем так, – предложила Амалия, которая по лицу Мэй легко прочитала ее мысли. – Вы подарите бабушке эти духи, чтобы порадовать старую даму, а потом, если вам так не хочется оставаться в долгу, купите мне взамен другие. Договорились?
И она мягко, но решительно пресекла бессвязный поток благодарности. Если дать застенчивому человеку волю, он будет говорить до утра.
– Должна сказать, – добавила баронесса Корф, – у разлившихся духов довольно сильный запах. Если мы не проветрим купе, неизвестно, удастся ли ночью уснуть. Вы давно обедали? Если нет, можем приоткрыть окно и на некоторое время переместиться в вагон-ресторан.
Мэй находилась в таком состоянии, что готова была следовать за Амалией хоть на край света. Вскоре обе собеседницы уже сидели за столиком и изучали меню, в то время как поезд неуклонно двигался по направлению к Дижону.
– Рыба – это, конечно, замечательно, но есть ее в поезде не слишком удобно, – заметила Амалия. – Кстати, как зовут вашу бабушку? Может быть, я ее знаю?
От острого взора, казавшегося обманчиво рассеянным, не укрылось, что Мэй как-то занервничала, причем уже не в первый раз. Любопытно бы узнать, почему, мелькнуло в голове у Амалии. По природе баронесса Корф была так устроена, что не слишком жаловала секреты, какими бы ничтожными они ни казались.
А Мэй в это мгновение думала, что когда правда о ее бабушке выплывет наружу, чудесная, щедрая, добрая леди Амалия не то что не подаст своей попутчице руки, но даже и взгляда не пожелает бросить в ее сторону. Нежное сердечко Мэй трепетало. Если бы эта наивная, застенчивая девушка умела лгать, она бы, конечно, солгала; но Мэй была слишком прямодушна и, кроме того, отлично сознавала, что ложь – только временное спасение, которое неизменно влечет за собой крах.
– Вряд ли вы ее знаете, – проговорила наконец Мэй, волнуясь. – Я хочу сказать… то есть я думаю, она совсем не вашего круга. – Ее нижняя губа обиженно дрогнула. – Дело в том, что моя бабушка – Кларисса Фортескью.
Глава 3 Бабушка, маршал и двадцать наследников
Чтобы объяснить причины, по которым Мэй не жаждала распространяться о своей бабушке, нам придется прерваться и подробнее рассказать историю мисс Фортескью, долгое время бывшей притчей во языцех в Лондоне, Суррее и Девоншире, а кроме того, в некоторых отдаленных колониях Британской империи. В общем и целом можно сказать, что имя этой поразительной особы было известно всему белому свету.
Кларисса Фортескью происходила из уважаемой семьи. Ее родители были безупречны, как и родители родителей. Правда, один из ее дедушек злоупотреблял бренди, а другой имел привычку время от времени швыряться в жену всем, что попадалось под руку, но в семье Фортескью эти мелочи сходили за невинные чудачества, тем более что домашние никогда не жаловались, а стало быть, никто из посторонних ни о чем не знал.
Мисс Кларисса была идеальной юной леди, столь же благовоспитанной, сколь очаровательной. При наличии приличного приданого такие качества не пропадают втуне, и вскоре Клариссе сделал предложение мистер Джозеф Уинтерберри. Он жил по соседству с семьей Фортескью. Сам он также происходил из хорошей семьи, известной в этих краях уже несколько веков. У Джозефа было десять братьев и сестер, восемь дядюшек, двенадцать теток и примерно человек семьдесят кузенов и кузин, которые попеременно гостили в доме его хлебосольных родителей. Помимо столь внушительной родни, Джозеф обладал приятной внешностью и покладистым характером, а кроме того, со временем должен был унаследовать кое-какую земельную собственность. Все в округе решили, что он и мисс Кларисса станут на редкость удачной парой. Уже потом, когда выяснилось, насколько они ошиблись в своих ожиданиях, жена викария заявила, что она предчувствовала подобное развитие событий, но ей никто не поверил.
Итак, Кларисса Фортескью вышла замуж за мистера Уинтерберри и превратилась в образцовую жену. Она вела хозяйство, следила за счетами и за шесть лет брака родила четверых сыновей. Мистер Уинтерберри не мог нарадоваться на свою супругу и полагал, что их счастье продлится до конца дней.
Очевидно, у Клариссы были другие соображения на этот счет, потому что однажды, вернувшись с охоты, Джозеф обнаружил на подушечке для булавок следующее послание:
«Дорогой сэр,
Не могу сказать, кто надоел мне больше – вы, ваши родственники или ваши дети. От души надеюсь, что никогда больше не увижу ни вас, ни их.
Кларисса Фортескью».
Прочитав письмо, мистер Уинтерберри на всякий случай повторил чтение еще три раза, но текст ничуть от этого не изменился. Напротив, содержание предстало перед ним во всей своей возмутительности.
Первые слова мистера Джозефа были:
– Я надеюсь, это шутка? Хотя и крайне дурного тона!
Затем:
– Не знал, что моя Клари пьет так же, как ее дедушка!
Затем:
– Я подстрелил лису, а Клари занимается какими-то глупостями? На что это похоже, я вас спрашиваю?
После чего он наконец догадался призвать дворецкого и спросить у него объяснений. Дворецкий всплеснул руками, на всякий случай ужаснулся и вызвал горничную миссис Уинтерберри, которой по должности полагалось знать о своей хозяйке все.
Горничная напомнила хозяину о разных событиях, от которых тот прежде досадливо отмахивался, – о том, как во время третьих родов надо было послать экипаж за доктором, а экипаж забрал один из дядюшек, гостивших в доме, и Кларисса в результате чуть не умерла, о том, как племянница Джозефа однажды опрокинула краски на новое платье хозяйки, которым та очень дорожила, о том, как Кларисса просила нанять еще одну няньку, но мистер Уинтерберри предпочел купить новую гончую. Джозеф негодовал.
– Вы хотите сказать, милочка, что жена бросила меня из-за собаки? – патетически восклицал он. – Так, что ли?
– Ну, если она сбежала с мистером Эндрю, то ей лучше знать, из-за чего, – парировала горничная и прикусила язык.
Джозеф медленно выпрямился.
– Вот он что! Стало быть, это все из-за Эндрю!
Голубоглазый обаятельный Эндрю был приятелем одного из его кузенов, который и ввел его в дом. Мистер Уинтерберри, сам того не подозревая, пригрел на груди змею.
– Это ему даром не пройдет! – вскричал Джозеф и послал дворецкого проверить, много ли денег захватила с собой беглянка.
Выяснив, что она взяла с собой все до последнего пенни, а также платья, украшения и прочие мелочи, Джозеф преисполнился еще большего негодования и запретил упоминать при себе имя «этой женщины».
– Пусть, умирая, она приползет к моему порогу – я все равно ее не прощу!
Затем он выпил большой стакан кларета, велел заложить экипаж и отправился к родителям – советоваться, что предпринять в этом экстраординарном случае.
Узнав о происшедшем, мать заплакала и призналась ему, что Кларисса ей никогда не нравилась. У нее было предчувствие, что эта особа разобьет жизнь ее сына. Впрочем, оставался открытым вопрос, почему она никому не говорила о своем предчувствии вплоть до того момента, когда было уже слишком поздно.
Отец, впрочем, оказался куда реалистичнее и о предчувствиях не толковал.
– Надо вернуть ее домой, – сказал он.
– Что? – ужаснулся Джозеф. – После того, как она осквернила семейный очаг? Никогда!
– Не будь ослом, – отрезал отец. – Если муж бросает жену, он молодец, хоть и негодяй, но если жена бросает мужа, все сочтут последним олухом его. Я уж молчу о том, что начнут говорить о ваших детях. Нет! Надо во что бы то ни стало вернуть эту чертовку обратно, если понадобится, то силой. Куда она делась?
Но Джозеф заартачился и повторил, что если даже Кларисса и приползет к его порогу, то он… и т. д. Он сотрясал воздух, расхаживал по комнате и сверкал глазами. Подвески на хрустальной люстре ходили ходуном, и с них хлопьями осыпалась пыль.
Пока Джозеф бесцельно растрачивал таким образом драгоценное время, преступная парочка не тратила его даром. Так как Эндрю служил во Франции в представительстве крупной английской фирмы, он сразу же предложил Клариссе перебраться на континент, и молодая женщина, поколебавшись, согласилась. Впрочем, она была готова следовать за Эндрю куда угодно, лишь бы оказаться подальше от опостылевшего мужа.
Пока беглецов искали в Дувре, они уже благополучно прибыли в Кале и таким образом оказались вне зоны досягаемости британской юстиции. Однако тесть Уинтерберри оказался не лыком шит и сразу же довел до руководства фирмы, в которой служил Эндрю, в какой чудовищный скандал оказался втянут их работник.
Руководство вздохнуло, пожало плечами, вызвало к себе ловеласа и довело до его сведения, что карьера и интрижки порой вещи несовместимые, особенно если речь идет о такой почтенной фирме, как та, в которой он работает. Эндрю поставили ультиматум: либо он расстается с Клариссой, либо со службой.
О Эндрю, Эндрю! Каков был его выбор? Как мог он поступить, когда речь шла о женщине, которая ради него пожертвовала своим добрым именем, своей честью, своим будущим, наконец? Она оставила свой дом, своих родных, своих детей! Неужели это ничего не значило?
Очевидно, ничего. Потому что бессердечный Эндрю выбрал службу. А Кларисса осталась совершенно одна в незнакомом городе, в чужой стране, без гроша за душой, потому что все ее сбережения они с любовником уже спустили. Да и, в конце концов, где тратить деньги с размахом, как не в Париже?
Итак, Эндрю бесследно растворился в дымке парижских улиц. Клариссе было больше не на кого рассчитывать. В далеком Девоншире мистер Уинтерберри-старший, узнав о развитии событий, удовлетворенно потер руки.
– А теперь, – сказал он сыну, – самое время поехать за твоей супругой и привезти ее обратно.
Однако строптивый Джозеф крепко держался шаблона о блудной жене, которая должна сама явиться и униженно просить прощения, после чего он, может быть, и соблаговолит принять ее обратно. Мать и все родственницы женского пола тотчас встали на его сторону и заявили, что не к лицу Джозефу самому просить жену вернуться.
– Главное, не будь с ней слишком мягок, когда она вернется, – наставляла Джозефа мать. – А ведь вернется, куда ей деваться?
При мысли, что вскоре он окажется полным хозяином положения, Джозеф приходил в возбуждение, грозил окну кулаком и кричал:
– Наконец-то я увижу, как она приползет обратно! Дрянь, дрянь!
Но он ее не увидел, потому что Кларисса сделала то, чего от нее мало кто ждал. Она осталась в Париже.
Она не пыталась вернуться в Англию, не докучала мужу слезливыми письмами с мольбами о прощении, не требовала от него денег – она вообще предпочла забыть о нем, словно его никогда в ее жизни и не было. Взамен она выбрала нелегкое существование женщины, которая зависит только от милостей мужчин. Выше уже говорилось, что миссис Уинтерберри (в девичестве Фортескью) была очаровательна. Париж превратил это очарование в опасное оружие, которым Кларисса без промедления воспользовалась. Выражаясь простым языком, она пошла по рукам.
Когда Джозеф узнал, что его жена в Париже прекрасно проводит время сначала в обществе бедного писателя, затем в обществе богатого старого художника-академика, а затем в обществе сына банкира, он побагровел и заявил:
– Так! Теперь ноги ее в моем доме не будет! Кончено! Больше она для меня не существует!
И отправил жене во Францию злобное письмо, в котором уведомлял ее, что она для него умерла.
Не ограничиваясь одним письмом, он довел до всеобщего сведения, что его жена скончалась. Детям тоже было сказано, что их мамы больше нет. При этом слуги и, конечно, родственники прекрасно знали правду, но все предпочитали подыгрывать Джозефу в его упорном стремлении объявить свою жену умершей. Если паче чаяния кто-то из многочисленного семейства Уинтерберри вдруг оказывался в Париже и сталкивался там с Клариссой, то благоразумно не видел ее, как не замечают бесплотный дух.
Тем не менее из Парижа до семейства Уинтерберри время от времени доходили слухи о том, как недостойная жена достойного человека проводит свое время. Поначалу Кларисса предпочитала общество богемы, но быстро поняла, что бедные писатели и художники без заказов кормятся только мечтами о бессмертии. Они забавляли Клариссу, но ее мечты были куда более материальны. Кроме того, однажды она простудилась так, что чуть не умерла от воспаления легких, а когда выздоровела, то решила, что жизнь и все, что та может дать, гораздо лучше любого бессмертия, которое вообще может никогда не наступить.
Поэтому она переключилась на художественные верхи – преуспевающих живописцев, которые выставлялись в Салоне, имели орден Почетного легиона и не знали отбоя от заказчиков, а также беллетристов с именем и почтенных академиков, которые были без ума от пикантной язвительной англичанки.
Однако через несколько лет Кларисса пресытилась разговорами о литературе и искусстве, которые неизменно сводились к тому, кто получает больший гонорар. Так или иначе, с этого времени ее видели исключительно в обществе предпринимателей, банкиров и офицеров. В эпоху Второй империи[164] состояния сколачивались быстро, страна развивалась фантастическими темпами, и у Клариссы никогда не было недостатка в покровителях. Что касается военных, то они хоть и не могли похвастаться внушающими трепет богатствами, но, в конце концов, были молоды и обладали отличными фигурами.
А время меж тем шло, и, как всегда, незаметно подкралась смена эпох, когда то, что казалось незыблемым, рухнуло в один миг. Что-то не заладилось, глава режима утратил прежнюю хватку, грянула война, затем Коммуна, и империи пришел конец. Новые власти разделались с коммунарами, которые успели всем надоесть (уничтожая дворцы и памятники, господа бунтовщики нанесли Парижу больший урон, чем впоследствии обе мировые войны, вместе взятые). Затем власти посовещались и большинством в один голос пришли к мысли о том, что Франции нужна республика. На этом и решено было временно остановиться.
А Кларисса…
Клариссе, казалось, уготовано личное крушение – обыкновенное для женщин, которые когда-то были молоды и красивы, но теперь уже не так молоды и, увы, далеко не так красивы. Ей было уже под сорок – возраст, когда мужчина еще может считать себя молодцом, но женщина (по мнению большинства) может считать лишь морщины. Впрочем, у Клариссы оставались кое-какие деньги – не так много, как она рассчитывала, потому что ее образ жизни требовал определенных расходов, а они не всегда подчинялись контролю. Так или иначе, она подвела итоги, пришла к выводу, что при некоторой экономии сможет прожить безбедно столько же, сколько прожила, и решила остепениться. Не впадая в ханжество, но и не щеголяя былыми подвигами, она поселилась в скромной квартирке с видом на Лувр и Сену и покорилась течению времени. Порой ее навещали старые друзья, что в данном случае равнозначно выражению «старые любовники». Они давали ей советы, как выгоднее вложить оставшиеся деньги, вспоминали легкомысленные времена империи, вздыхали и порой задерживались дольше, чем требовали приличия. Так прошло несколько лет, и наступил 1895 год.
В далеком Девоншире Джозеф Уинтерберри, располневший и обрюзгший, с красным лицом, все еще тешил себя надеждой, что когда-нибудь опозорившая его жена вынуждена будет вернуться, дабы не умереть в нищете. На этот случай у него было заготовлено несколько речей, одна выразительнее другой. Но ни одна ему не понадобилась. Однажды утром он раскрыл газету и прочитал, что во Франции скончался маршал Поммерен, принадлежавший к довольно знатной семье и оставивший недурное состояние. Половину маршал завещал Франции на создание морского музея имени Поммерена, так как всю жизнь мечтал о море, хоть и сражался исключительно в сухопутных войсках. Вторую половину покойник в память о добрых старых временах оставил своей хорошей знакомой, англичанке мадемуазель Клариссе Фортескью. В газете сообщалось, что, получив наследство, мисс Фортескью сделается богаче на миллион полновесных, восхитительных золотых франков разом.
Узнав, что негодяйка-жена, осрамившая его имя, на старости лет заделалась миллионершей вместо того, чтобы приползти к его порогу и далее по программе, мистер Уинтерберри вытаращил глаза, несколько минут пытался выговорить хоть что-то, но побагровел еще больше, а затем упал лицом в тарелку. С ним приключился удар, и через несколько часов он умер.
Сыновья Клариссы и мистера Уинтерберри – Джозеф-младший, Генри, Уильям и Роберт – были к тому времени раскиданы судьбой по всей Англии и ее заморским территориям. Джозеф пытался с переменным успехом торговать на Барбадосе, Генри с женой и детьми занимался земледелием в Суррее, Уильям занимал небольшой пост в Индии, а Роберт с семьей мирно жил в Литл-Хилле. Тем не менее удаленность не помешала братьям собраться и обсудить создавшуюся ситуацию.
Конечно, они прекрасно знали, что, вопреки тому, что им твердил отец, их мать живехонька и вполне сносно существовала в Париже. За истекшие годы ни Кларисса, ни сыновья не предпринимали попыток повидаться. Они не обменивались письмами, мать не знала о рождении детей, которых к нынешнему времени насчитывалось: пятеро – у Джозефа-младшего, двое – у Генри, шестеро – у Уильяма и еще трое – у младшего Роберта. Даже в разговорах между собой братья избегали упоминать имя Клариссы, само существование которой было укором их честной фамилии. В глубине души, вероятно, они бы и в самом деле предпочли, чтобы она умерла, но судьба распорядилась совершенно иначе, и к такому повороту событий они оказались не готовы.
– Да, маршал… – вздохнул Генри, барабаня пальцами по столу.
– Миллион! – со значением вставил Джозеф-младший.
– Интересно, сколько это будет в фунтах? – робко спросил Роберт.
– Какая разница, – отмахнулся практичный Уильям, – уж, во всяком случае, не твои десять фунтов годового дохода!
Хотя годовой доход Роберта был больше, но тот ничего не ответил. Семья и в самом деле не могла похвастаться достатком.
– Главное, чтобы родственники не вмешались, – напирал Генри.
– Что за родственники? – прищурился Джозеф.
– Родственники маршала, – мрачно ответил за брата Уильям. – Думаешь, они захотят уступать такие деньжищи?
Впрочем, главную мысль, которая одновременно сверлила все четыре головы, никто так и не высказал вслух. Мысль эта была: «Мать уже не молода, если ей суждено умереть, кому достанется маршальский миллион?»
– Я думаю, надо ей написать, – сказал наконец Уильям. – Выразить соболезнования, этот Поммерен все-таки был ее другом. Ну и… вообще.
Братья переглянулись. Из развратной вавилонско– парижской блудницы, которую следовало избегать, аки чумы, Кларисса как-то незаметно превратилась в обладательницу пещеры Али-Бабы, которую следовало всячески холить и лелеять.
В самом деле, мало ли кому взбалмошная старушка завещает свой миллион! Такие деньги в хозяйстве далеко не лишние, одинаково пригодятся как на Барбадосе, так и в Индии, и в Суррее, и даже в забытом Богом и картографами крошечном городишке Литл-Хилл.
– Я, право, не знаю, удобно ли… – пробормотал Роберт. – Я хочу сказать, мы столько лет не желали ее знать… и даже когда ты, Уильям, оказался во Франции…
– У меня не было времени, – тотчас отреагировал Уильям. – Я был очень занят, иначе я бы, конечно, ее навестил!
– Лично я, – добавил Джозеф, – всегда думал, что у матери были причины, чтобы оставить нашего отца. И в глубине души всегда – на ее стороне!
Братья, отлично помнившие, какой чопорный ханжа был их старший брат и как он выражался о матери раньше, предпочли не развивать эту тему.
– Мы должны восстановить отношения, – объявил Генри. – В конце концов, всегда можно объяснить, что при жизни отца для нас было невозможно… гм… поддерживать общение. Она должна войти в наше положение.
И тут скромный, застенчивый Роберт удивил всех.
– Я не думаю, что мы ее обманем, – сказал он.
– О чем это ты? – удивился Джозеф.
– Я думаю, она не так глупа, – твердо ответил Роберт. – Она сразу поймет, что мы беспокоимся вовсе не о ней, а о деньгах.
– С чего ты взял, что она не глупа? – холодно спросил Генри. – Насколько я помню, когда она сбежала с этим… как его… забыл имя, но когда она сбежала, ты еще в колыбели лежал.
Мистер Роберт Уинтерберри смешался, но тотчас же нашелся.
– Будь она глупа, ей не оставили бы миллион, – сказал он.
Братья переглянулись. Нет слов, младший брат сумел отыскать самый лучший довод.
– И тем не менее она наша мать, – напомнил практичный Уильям. – Родная кровь и всякое такое. Тем более мы так долго не переписывались, она ничего о нас не знала. Да еще примите во внимание ее годы – я уверен, она будет тронута, если мы напомним о себе. Напишем ей о смерти отца, посочувствуем по поводу кончины маршала, расскажем о своих детях…
– Разумно, – одобрил Генри. – Очень разумно. Думаю, дети тронут ее больше всего.
– Может быть, но главное, – мягко сказал Джозеф, – чтобы она не успела потратить весь миллион на себя.
Он мило улыбнулся присутствующим и налил себе стакан воды.
Глава 4 Любящие родственники
Деньги обладают властью. Как сказал один умный человек, деньги – это мера всех вещей, а наше существование – хочешь или не хочешь – зависит от тех же вещей. Можно, конечно, воспитывать в себе величие духа, живя в грязной бочке, но куда комфортнее заниматься тем же самым в уютном домике с видом на море и азалиями в саду.
В 1895 году Клариссе исполнилось 63 года. Нынешнее состояние вполне ее устраивало, и от жизни она по большому счету ничего уже не ждала. Из постоянных друзей к тому моменту оставались старый адвокат Бланшар, замешанный во всех скандалах Второй империи, и старый маршал Поммерен, замешанный во всех ее войнах. Адвокат, которого не так давно засудили собственные дети и едва не довели до разорения, приходил к Клариссе вспоминать императора Наполеона III и звезд его эпохи. Какие тогда были финансисты, женщины, лошади, моды! На глаза старого Бланшара набегали непритворные слезы умиления. Раньше все было гораздо лучше, не говоря уже о том, что император никогда не позволил бы изуродовать милую его сердцу столицу этой железной дылдой, отвратительной башней инженера Эйфеля. Кларисса вторила ему, и вместе они оплакивали молодость.
С маршалом, которого она помнила еще лейтенантом, все было гораздо проще: несмотря на эполеты и славное боевое прошлое, Поммерен был скромен и немногословен. Он не жаловался ни на болезнь почек, от которой страдал, ни на жену, от которой страдал еще больше. В гостях у Клариссы он ограничивался тем, что читал газеты или играл в карты по маленькой. Вечером, поцеловав хозяйке руку, уходил, чтобы так же скромно и ненавязчиво возникнуть в дверях на следующий день.
Кларисса привыкла к его визитам и, когда однажды маршал не пришел, не на шутку забеспокоилась. Бланшар, которого она послала узнать, в чем дело, вернулся с мрачным видом.
– Доктора говорят, дело плохо, – сказал он, и Кларисса заплакала.
Вскоре маршал Поммерен отправился туда же, где пребывают оба французских императора, а еще через некоторое время Бланшар с выпученными глазами, задыхаясь, взлетел по лестнице на четвертый этаж и едва не оборвал звонок.
– Завещание! Миллион! – простонал бедный адвокат и рухнул в обморок.
Так Кларисса узнала, что старый любовник, который всегда больше делал, чем говорил, не забыл позаботиться о ней перед встречей с двумя императорами.
Она долго сидела перед трельяжем, машинально растирая виски. Будущее, от которого, напомним, она ничего не ждала, вдруг окрасилось в радужные тона. Перед мысленным взором всплывали то аквамариновая синева Средиземного моря, то лавандовые поля на юге Франции, близ Ниццы, то алое кружево, которым отделано платье от знаменитейшего модельера Жака Дусе, – восхитительное, навевающее грезы платье, которое она не могла позволить себе еще вчера.
Бланшар пришел в себя. Он тихо стенал и растирал грудь рукой, лежа на софе. Кларисса подсела к нему и без околичностей объявила:
– Мне нужно, чтобы кто-нибудь защищал мои интересы.
У маршала была жена и еще дети, а стало быть, имелись веские основания, чтобы заставить суд признать завещание недействительным.
– Ради вас я готов на все! – пылко объявил Бланшар и поцеловал Клариссе руку.
Таким образом англичанка, которая давно думала по-французски и даже сны видела только на этом языке, назначила Бланшара главнокомандующим армии, состоявшей из них двоих. И адвокат взялся за дело.
Он стряхнул пыль с кое-каких старых связей, завел новые, не моргнув глазом выслушал несколько сомнительных комплиментов по поводу того, что все его дела остались в прошлом, до 1870 года. Также выслушал множество советов, преподнес кучу мелких подарков горничным и лакеям заинтересованных лиц, освежил в памяти некоторые законы и даже добился приема к одному министру, который мог помочь.
Потом Бланшар честно признавал, что все его труды могли бы пойти прахом, если бы Поммерен не оказался столь же предусмотрительным, сколь и немногословным. Дело в том, что французское правительство, которое получало миллион при условии учреждения морского музея имени маршала, вовсе не было заинтересовано в пересмотре завещания, и благодаря этому Бланшар сумел выиграть дело.
Примерно в то же время Кларисса внезапно обнаружила, что сыновья, которые раньше не удосуживались даже послать ей открытку к Рождеству, вдруг вспомнили о ее существовании и наперебой стали заваливать ее многостраничными письмами с заверениями в любви и уважении. Стоило ей выиграть дело, как писем стало еще больше. Теперь ей писали не только сыновья, но и их жены, которых Кларисса в глаза не видела, а также дети, о существовании которых не подозревала.
Больше всего посланий было от старшего Джозефа, которого Кларисса запомнила вечно хнычущим, ябедничающим мальчиком. В посланиях он рассыпался мелким бесом, перечислял достоинства своих детей, общим числом пять штук, и ненавязчиво предостерегал мать против братьев. По его словам, Генри пил, как рыба, Уильям вел непозволительный образ жизни и держал по любовнице в каждой индийской деревне, а тихий Роберт колотил жену и детей. Впрочем, если судить по письмам Генри, пил не он, а все тот же Роберт, Уильям будто бы присвоил казенные деньги, а Джозеф ночи напролет веселился на Барбадосе так, что местные жители вызывали полицию. В письмах Уильяма, само собой, имела место совершенно иная версия. Что же до Роберта, то его послания были самыми краткими, и о братьях он почти ничего не сообщал.
Долгое время ни братья, ни их домочадцы не получали никакого ответа. Наконец от имени секретаря Клариссы (в роли которого выступил все тот же незаменимый Бланшар) пришло короткое письмо, уведомляющее братьев Уинтерберри, что их мать за почти 40 лет жизни в Париже разучилась говорить по-английски и покорнейше просит, если что, писать ей по-французски, а так остается совершенно к их услугам и с почтением заверяет их в своем уважении.
Братья Уинтерберри не были сильны во французском. Еще каких-то несколько месяцев назад они вообще полагали, что на свете есть только одна достойная нация – британская, и к соседям, живущим по ту сторону Ла-Манша, испытывали нечто вроде снисходительного презрения. Еще бы, французы такие легкомысленные, а их дамы такие ветреные. Но теперь золотой миллион маршала Поммерена стучал в сердца братьев почище пепла Клааса и побуждал к действию. Золото не имеет национальности – только владельца. Джозеф стал изучать французский. Генри стал изучать французский. Уильям стал вспоминать французский, который он когда-то вроде бы знал, но в Индии успел основательно забыть. Что же до Роберта, то кроткий Роберт сдался.
– Старую собаку не научить новым трюкам, – сказал он, но на всякий случай послал матери фотографию, где были сняты он с женой и их дети: Мэй и двое младших. Мэй была славненькая и даже на фотографической карточке могла растопить любое сердце.
Итак, тремя братьями были сочинены новые письма по-французски, которые отправились во Францию, но вскоре вернулись с пометкой, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Произведя кое-какие разыскания через друзей в посольстве, Уильям обнаружил, что мать продала квартиру в Париже и перебралась в Ниццу, приказав отправлять всю почту из Англии по обратному адресу. Тут даже самые оптимистичные члены семьи Уинтерберри поняли, что Кларисса не желает их знать – точно так же, как прежде сами они не желали знать ее.
Мистер Джозеф-младший рвал и метал. Мистер Генри высказал несколько необдуманных слов по поводу отца, который так восстановил против них мать. Практичный мистер Уильям сказал:
– Но ведь миллион она не потратила! Значит, надежда еще есть.
О том, что сказал мистер Роберт, история умалчивает, зато прекрасно известно, о чем он несколько позже говорил со своей женой Мэри.
– Жили мы небогато, но разве нам было плохо? И тут этот миллион… И мать! Я ее даже не помню! Почему я должен изображать, что она мне небезразлична? Ведь она бросила меня, как… как какого-нибудь котенка! Да о чем я говорю – даже кошка так не бросает котят!
– Дорогой, – примирительно сказала Мэри, – ты прав, но мы должны думать о Мэй. Ей уже не десять лет, и ей совсем не помешает хорошее приданое.
– Когда я женился на тебе, то не смотрел на приданое, – возразил Роберт. – Только на тебя.
Мэри улыбнулась и погладила его по рукаву.
– Не все мужчины такие, как ты, дорогой, – сказала она.
Братья ломали голову, как уломать капризную старуху, забывшую и честь, и родной язык, но приобретшую миллион. Джозеф нашел, как ему казалось, верное средство. Дела не позволяли ему надолго отлучаться с Барбадоса, и поэтому он снабдил деньгами старшего сына Джорджа, дабы тот явился под светлые очи бабки и попытался растопить ее сердце.
– Я думаю, – говорил Джозеф сыну, – кто-то настраивает ее против нас. Сам понимаешь, сколько вокруг нее должно отираться прихвостней! Большие деньги, Джордж, большие деньги! Но если ты ей понравишься, как знать? Может быть, она в завещании отпишет все нам, а мои братцы останутся с носом!
Сын отбыл в Ниццу – выполнять родительский наказ по привлечению симпатий бабки на свою сторону.
– Этот всегда был пронырой! – мрачно сказал Уильям, узнав окольными путями о действиях старшего.
По правде говоря, сам он пытался получить доступ к матери уже давно, еще когда оказался в Париже. Это произошло сразу после того, как Кларисса выиграла процесс. Уильям полагал, что подоспел как раз вовремя, чтобы раньше всех поздравить ее, но старая горничная, отворившая дверь, на ломаном английском сообщила, что мадам уехала, и когда вернется – неизвестно.
– Скажите ей, что Уильям, ее сын, заходил справляться о ее здоровье, – сказал Уильям.
Горничная кивнула и затворила дверь.
– Кто это был? – крикнул Бланшар из гостиной.
– Мои сыновья всерьез решили меня осадить, – ответила «горничная», входя в комнату. – Пора уезжать из Парижа. Я вовсе не намерена каждый день принимать визиты родственников, которые только и мечтают о моей смерти, чтобы получить наследство!
Адвокат расхохотался.
– Видела бы ты моих детей! – объявил он. – Как они сразу же сделались почтительны, едва мы выиграли процесс! Прежде они в грош меня не ставили, а теперь боятся даже слово молвить: вдруг мне тоже перепадет что-нибудь от твоих денег!
– Мои сыновья ничего от меня не получат, – отрезала Кларисса. – Слишком поздно начали юлить и подлизываться. – Судя по всему, общение с военными, известными своим энергичным языком, не прошло для старой дамы зря. – А если они будут мне докучать, я найду способ от них избавиться.
Бланшар улыбнулся. За последние несколько месяцев, пока он вел дела Клариссы, он помолодел лет на десять, посвежел и похорошел. Он больше не чувствовал себя выброшенным на обочину жизни, напротив – теперь жизнь сама готова была плясать под его дудку, что доказывали десятки визитных карточек с громкими именами, карточек, которые оставляли посетители в его передней. Что же до его подруги, о ней и говорить нечего. Деньги явно были ей к лицу. Она обновила гардероб, прическу, цвет волос и настроение. Жизнь вовсе не кончена – напротив, она продолжалась и обещала еще так много, что грех было этим не воспользоваться. Однако в намерения Клариссы вовсе не входило делить радости жизни с незнакомыми и, скажем прямо, чужими ей людьми лишь потому, что формально они остаются ее родственниками.
Возможно, новоиспеченная миллионерша недооценила упорство родных. Стоило юному мистеру Джорджу Уинтерберри заявиться в Ниццу, как он сразу же напросился в гости к бабушке. По словам Джорджа, Ницца просто оказалась ему по пути, но каким образом можно завернуть в Ниццу с Барбадоса в Девоншир, география умалчивает.
Джордж довел до сведения бабушки, которую он про себя назвал занятной старухой, что его отец является основным наследником покойного Джозефа Уинтерберри и сейчас собирается ликвидировать дела на Барбадосе, чтобы вернуться в родные пенаты. Кроме того, в колониях не такой уж здоровый климат, и вообще, отец собирается затевать новое дело. Не поможет ли Кларисса деньгами?
– Ах, – вздохнула бабушка, любуясь на сверкающий бриллиант на среднем пальце, – какие деньги? Мне едва хватает!
Бланшар, присутствовавший при разговоре, важно кивнул и поправил галстучную булавку с огромным изумрудом. Он чувствовал себя так, словно вернулись благословенные времена империи, когда господствовали яркие цвета, крупные камни, позолота везде, где только можно, и неизвестно откуда взявшиеся состояния.
– А вообще, конечно, надо подумать, – добавила Кларисса.
Джордж приободрился и решил, что самая важная часть по приручению занятной старухи закончена успешно. В мечтах он уже видел себя наследником маршальского миллиона. Но не тут-то было.
Через две недели Джозеф получил известие о том, что его сын напился, в пух проигрался в казино Монте-Карло и неприлично себя вел, вследствие чего – и при полном одобрении бабушки – французская полиция выставила его из страны, запретив возвращаться.
При этом известии у Джозефа сделалось лицо точь-в-точь как у его отца перед ударом, но на этот раз обошлось без трагедий. Джордж, вернувшийся домой без гроша в кармане, жался к стене и испуганно блеял, что он не собирался ни пить, ни играть, но Бланшар заявил, что неприлично быть вблизи от Монако и даже не зайти в казино, а бабушка дала денег на расходы. Джордж поиграл один раз, другой, зашел в одно местечко, в другое… а потом помнил лишь, что с кем-то подрался, но с кем и из-за чего – осталось тайной для него самого. В любом случае, прощалась бабушка с ним крайне холодно и дала ему понять, что больше не ждет к себе ни его, ни его близких.
– Эх, дорого бы я дал, чтобы увидеть физиономию Джорджа в этот момент! – вскричал Уильям, узнав о крушении планов старшего брата, и немедленно послал в Ниццу своего сына Стивена, милого, воспитанного юношу, – доказать Клариссе, что отнюдь не все Уинтерберри кутят, играют и пьют.
Однако через некоторое время Стивен так же с позором вернулся домой. Нет, он выполнил все заветы отца и обходил за милю казино, а также все веселые заведения. Но однажды утром лакей бабушки обнаружил в его кармане золотые ложки, которые неизвестно как исчезли накануне во время ужина. Кларисса подозревала слуг и дала им это понять, а на самом деле кражу совершил ее собственный внук.
– Идиот! – кричал Уильям, потрясая кулаками над лицом растерянного сына. – Ты хоть понимаешь, что ты натворил?
– Я не брал их! – стонал Стивен. – Клянусь, не брал! Понятия не имею, как они ко мне попали!
– Что ты на него набросился? – сказала заплаканная жена Уильяма. – Разве ты не знаешь, что он просто не мог этого сделать?
Уильям задумался.
– Конечно, это адвокат подстроил, – мрачно проговорил он наконец. – Подложил ложки тебе в карман, а потом слуга якобы случайно их обнаружил! И все для того, чтобы опорочить нас во мнении этой… этой мегеры!
Клекоча от ярости, как индийская кобра, он направился к себе и написал матери длинное французское письмо, полное извинений и заверений в том, что такое больше никогда не повторится. Кларисса бросила письмо в камин нераспечатанным.
– Как же это хлопотно – избавляться от собственных наследников, – пожаловалась она. – Но мне до смерти надоела эта постная физиономия в моем доме. Я была уверена, что еще немного, и дорогой внук Стивен накормит меня мышьяком.
– А теперь кого ждем? – весело спросил адвокат.
– Не знаю. Я была бы рада никого из них не видеть, но ради денег на что только не пойдешь!
Узнав о провале двух старших братьев, Генри решил пойти ва-банк и отправил в Ниццу обоих своих детей, близнецов Тома и Джудит. Рекомендации его были просты: никакого казино, никаких увеселений и зорко следить за карманами, как бы в них чего не подбросили.
– Вас двое, – сказал Генри, – вам будет легче. И ни в коем случае не показывайте вида, что вы думаете о бабушкиных деньгах!
И близнецы пустились в путь. Первое же письмо, полученное от них, весьма озадачило мистера Генри. Среди прочего там сообщалось, что бабушка Кларисса отлично говорит по-английски и вовсе не забыла этот язык.
– Так для чего она морочила нам голову и заставляла нас писать по-французски? – нахмурился Генри. – Не понимаю!
Второе письмо, впрочем, его успокоило. Том умасливал бабку, как мог. Джудит играла на фортепьяно и пела песни, английские и французские. Том нарисовал бабкин портрет, безбожно ей польстив. Кларисса хмыкнула и высказалась в том духе, что ее рисовали художники и почище и что англичане вообще мало что смыслят в искусстве, а затем все же заявила, что молодость надо поощрять.
– Юбер, – сказала она Бланшару, – принесите из моей комнаты ту зеленую вазу… Я хочу подарить ее дорогому внуку!
Том распрямил плечи. В мечтах он уже видел себя обладателем маршальского миллиона, и Джудит ревниво поглядывала на него.
Погостив месяц у милой бабушки, близнецы засобирались домой. Все шло отлично, их не завлекали в казино, им не подбрасывали золотые ложки. А потом разразилась катастрофа.
Катастрофа эта приняла вид маленького тщедушного человечка с печально обвисшими усами, который явился с непонятной бумажкой, дававшей ему право обыскать багаж близнецов. Том протестовал, но его протесты никто не услышал. Он пытался спросить, в чем вообще дело, но так как по-французски говорил немногим лучше тетушки Сьюзан, человечек его не понял.
Кроме того, он был очень занят, роясь в чемодане Тома. Внезапно человечек издал торжествующий крик:
– Ага! Вот и она!
И он извлек на свет божий ту самую вазу, которую бабушка Кларисса столь великодушно подарила своему внуку.
– Сэр, – возмутился Том, – это подарок! Un cadeau![165]
Человечек вздохнул и поглядел на него с жалостью.
– Месье, это старинная китайская нефритовая ваза, – сказал он, – и она стоит столько же, сколько хороший дом в Ницце. Ваша бабушка заявила, что у нее украли вазу и что сделать это могли только вы. Мне очень жаль, но вы арестованы.
– Но это подарок! – простонала Джудит.
– У вас есть свидетели? – поднял брови человечек. – И потом, если это подарок, к чему вашей собственной бабушке заявлять на вас?
Однако бабушка Кларисса оказалась на редкость непоследовательна. По ее словам, она была счастлива тем, что ей вернули ее любимую вазу, которую, как она думала, она утратила навсегда. Что касается похитителей, то, поскольку они ее родственники, она согласна не заводить против них дело – с условием, что они больше никогда не потревожат ее покой.
Зареванных близнецов посадили на поезд, и через несколько дней они были дома. Выслушав эпопею с вазой, Генри всплеснул руками.
– Какой кошмар! В целом свете не было такой жестокосердной матери!
И в полном расстройстве он написал письмо Роберту, заклиная его держаться от зловредной Клариссы подальше.
Роберт был бы рад последовать совету, но дела младшего Уинтерберри шли вовсе не блестяще. Желая увеличить свой доход, он вляпался в спекуляцию сомнительными акциями и потерял деньги. Сознавая свою вину, Роберт ходил мрачнее тучи, и все это время его неотвязно терзала мысль, что в нескольких сотнях миль от него припеваючи живет его родная мать, которая может дать любую сумму и спасти семью от нищеты. Но, судя по приему, который она оказала его племянникам, рассчитывать Роберту было не на что.
Он потерял аппетит и ночами лежал без сна, глядя в потолок. Жена стала тревожиться. Не выдержав, он рассказал ей все.
– Моя сестра Сьюзан замужем за парижским юрисконсультом нашего посольства, – сказала Мэри. – Мы можем попытаться занять денег у них.
– А чем мы будем отдавать долги? – мрачно спросил Роберт.
Мэри задумалась.
– Мэй совершенно не подходит для того, чтобы просить денег у твоей матери, – сказала она.
– Совершенно, – уныло подтвердил Роберт. Двое сыновей были еще детьми, и на них тоже рассчитывать не приходилось.
– Она слишком бесхитростная, – добавила жена.
– И добрая, – проворчал Роберт, вспомнив, как дочь нянчилась с найденным в саду ежом, который сломал лапку. Лапка вскоре срослась, а еж стал постоянным спутником Мэй и ходил за ней всюду, куда бы она ни шла.
– Поэтому у нее может что-то получиться, – рассудительно сказала Мэри.
Роберт подпрыгнул на месте.
– Чтобы я послал ее к… к моей матери? Ни за что!
– Это наш последний шанс, – печально сказала Мэри. – Я напишу Сьюзан письмо, она встретит Мэй в Париже. Там же Мэй подберет бабушке подарок, что-нибудь на память, потому что в Литл-Хилл ничего подходящего не найти.
– Ее обвинят в краже, – сердито сказал Роберт. – Или навяжут дорогую вазу, а потом скажут, что она сама ее взяла. Или еще что-нибудь случится.
– Мы ей обо всем расскажем, – успокоила его Мэри. – И предупредим. Она у нас хоть и не слишком практичная, но умная.
По виду своей жены Роберт понял, что она уже все решила.
– Ты хоть понимаешь, что все это окажется напрасно? – спросил он. – Моя мать вычеркнула нас из своей жизни, и все ее поведение показывает, что она не намерена менять свое отношение.
Прежде чем ответить, Мэри аккуратно разгладила ладонью складку на юбке.
– Я думаю, Мэй будет полезно съездить в Ниццу, – сказала она. – Слишком много времени она проводит в Литл-Хилл со своим ежом, пони и книжками. – Мэри промолчала. – В нашем городке все к ней слишком добры, и я думаю, что сейчас самое время понять, что на свете бывают не только друзья и что люди вовсе не так хороши, как она думает.
– Если только ради этого… – нерешительно начал Роберт.
– Конечно, мы будем рады, если ей удастся что-то сделать, – заметила Мэри. – Но если твоя мать откажет, обратимся к моей сестре. А Мэй ничего не грозит. Худшее, что с ней может случиться, – ее обвинят в краже, но она ведь будет предупреждена, верно?
В то мгновение Мэри, конечно, не могла предвидеть, как будут развиваться события в Ницце. Иначе она, без сомнения, настояла бы на том, чтобы Мэй сидела дома, играла с ежом и читала книжки. Но жена Роберта Уинтерберри, хоть и была наделена превосходным здравым смыслом, вовсе не обладала даром предвидения.
Итак, Мэй выслушала наставления родителей, упаковала чемоданы и выехала в Париж, где на несколько дней задержалась в семье Беннетов. Дальше Мэй собиралась ехать вторым классом, но тетя Сьюзан возмутилась и настояла на том, чтобы купить билет на «Золотую стрелу» в первый класс.
– Мы дадим телеграмму твоей бабушке, чтобы слуги встретили тебя на вокзале, – добавила тетя Сьюзан.
Если бы это зависело только от Мэй, то она предпочла бы вообще не встречаться со своей эксцентричной бабушкой, от которой не ждала ничего хорошего. Может быть, именно поэтому она так медленно собирала вещи, что в конце концов едва не опоздала на поезд.
Но все осталось позади, и теперь она сидела в бодро стучащем по рельсам вагоне-ресторане, напротив баронессы Корф с ее загадочными золотистыми глазами, и молодой официант почтительно подошел к ним, чтобы принять заказ.
Глава 5 Семейная ссора
– И еще шабли, – сказала Амалия, заканчивая перечисление блюд. – Так как, вы сказали, зовут вашу бабушку? – обратилась она к девушке.
Краснея, Мэй завела прядь волос за ухо и повторила имя Клариссы.
– Нет, – с сожалением проговорила Амалия, – боюсь, я ее не знаю. А вы что будете брать?
Совершенно успокоившись, Мэй объяснила официанту, что именно она будет есть. Рассеянно слушая ее, Амалия про себя отметила неплохой – для англичанки – французский. «Значит, к Клариссе приехала еще одна наследница… Ну что ж!» И Амалия, подавив невольную улыбку, отвернулась к окну.
Благосклонный читатель, конечно, уже догадался, что баронесса Корф сказала неправду или, во всяком случае, не всю правду о своем знакомстве с Клариссой Фортескью. Об эксцентричной даме, которая купила, не торгуясь, самую дорогую виллу в окрестностях города, знали все, кто хоть раз в Ницце бывал, а ведь Амалия приезжала туда довольно часто. Слуги, бывшие в курсе всех местных сплетен, с удовольствием пересказывали ей колоритные подробности изгнания Джорджа, Стивена и близнецов. Несколько англичан, постоянно проживавших на Ривьере, даже держали пари на то, сколько удастся продержаться очередному претенденту на наследство.
«А впрочем, – добавила про себя Амалия, – меня это ничуть не касается». Она машинально поправила уголок салфетки возле блюда и стала смотреть по сторонам.
В вагоне-ресторане в это время было немного народу. В углу, недалеко от стола Амалии и Мэй, сидела рыжая дама в темно-красном платье с большим вырезом на спине и молодой фатоватый брюнет с щегольскими усиками. Дама, понизив голос и вертя в руках вилку, оживленно говорила что-то молодому человеку, а он улыбался в ответ. В другом ряду плотный господин, по виду крупный коммивояжер, в ожидании своего заказа изучал газету. Посередине вагона у окна сидела целая семья: муж, добродушный улыбчивый коротышка, его полная жена с тремя подбородками, миловидная гувернантка и двое детей, мальчик и девочка. Амалии было достаточно бросить взгляд на физиономию мужа, чтобы составить себе представление о его жизни: деловая хватка, солидное состояние и при том приятный, открытый характер, который привлекает к нему людей, а женщин, вероятно, в особенности. «Причем жена, – мелькнуло у Амалии в голове, – наверняка обо всем знает и смотрит на его шалости сквозь пальцы». И тут она заметила огненный взгляд гувернантки, направленный на хозяина. Взгляд этот длился, наверное, лишь долю секунды, но говорил о многом. «Поразительно, какие страсти вызывают порой самые заурядные люди, – подумала Амалия. – На что бы эта молодая женщина ни рассчитывала, она явно обманулась в своих ожиданиях… и теперь будет отыгрываться на детях. Да, печально, очень печально». Ей сделалось неуютно, и она отвернулась. В глаза ей сразу же бросилось, что Мэй чем-то огорчена.
– У них нет чая, – пояснила девушка.
– Я попросила бутылку шабли, – сказала Амалия, – думаю, хватит на нас двоих.
Мэй замялась. Она хотела сказать, что дома никогда не пила вина, но что-то в выражении глаз Амалии подсказало, что спорить бессмысленно.
«Наверняка она хотела мне сказать, что вино не для нее, – подумала Амалия, от которой ничто не могло укрыться. – И как ее родителям хватило духу отпустить в дорогу такого ребенка?»
Поезд прогрохотал по какому-то мосту, коммивояжер неторопливо перевернул страницу газеты, гувернантка прошипела мальчику: «Я же просила вас, Рене, не трогать без нужды солонку», и тут в вагон-ресторан ворвался вихрь. Вихрь этот имел облик молодой темноволосой женщины в синем платье, с решительными глазами и четко очерченным ртом. Сейчас этот рот был сжат, а глаза недобро прищурены и смотрели в сторону Амалии и Мэй.
Дама в синем платье, как-то по-особому стуча каблуками, прошла между столами, и на мгновение испуганной Мэй показалось, что она действительно собирается остановиться возле них с баронессой. Однако незнакомка сделала еще несколько шагов и нависла над столом, за которым сидел господин с усиками и его спутница в открытом красном платье.
«Да, увял…» – смутно подумала Амалия, увидев, как вытянулась физиономия господина с усиками. Дама в красном платье обернулась, и взорам присутствующих открылось накрашенное личико кокотки – простое, довольно симпатичное и, увы, уже со следами бурного прошлого. Она с недоумением взглянула на даму в синем, но тотчас в лице кокотки произошла перемена. Очевидно, она прекрасно знала, кто стоял возле их стола.
– Теодор, – крикнула дама в синем, – вы негодяй!
Ее глаза метали молнии, руки судорожно сжимали сумочку.
– Дорогая… – пролепетал господин.
– Не смейте меня так называть! – Дама в синем топнула ногой. – Вот, значит, какие дела вынудили вас ехать в Ниццу! Вы мерзавец!
– Прошу вас, Матильда… Вы слишком взволнованы. – Господин по имени Теодор говорил, а взгляд его растерянно метался по вагону-ресторану, подсчитывая свидетелей позора. – Это… это случайная встреча… Она ничего не значит, уверяю вас!
Коммивояжер вынырнул из-за газеты, хмыкнул и закрылся ею полностью. Гувернантка ядовито улыбалась, на лицах мужа и жены было написано любопытство, а дети застыли на месте, ничего не понимая, но чувствуя, что происходит нечто невиданное. Еще бы, они стали свидетелями настоящей сцены!
– Ничего не значит? – возмутилась дама, повышая голос. – Вы едете с этой особой в одном купе! – И она предприняла попытку испепелить рыжую разлучницу взглядом, но та даже ухом не повела. Судя по всему, у разлучницы и самой огня было в избытке.
– Матильда! Умоляю вас… Я все вам объясню!
– Дорогой Теодор, – с безграничным презрением промолвила дама, – с меня довольно! И разговаривать вы будете не со мной, а с моим отцом! Надеюсь, вам удастся объяснить ему, для каких таких деловых переговоров вы оплатили лучшую гостиницу в Ницце… с видом на море!
– Матильда, прекратите немедленно!
Женщина может загнать мужчину в угол, но ненадолго. Только что Теодор был мертвенно бледен и лепетал жалкие слова, но вот его глаза угрожающе сверкнули, и он преобразился.
– Если вам угодно позорить себя этим балаганом, я не намерен в нем участвовать! – Он швырнул на стол салфетку и встал.
– Я позорю вас? – возмутилась Матильда. – А вы, Теодор? Что вы делаете со мной? Чем я заслужила такое отношение, чем?
В ее голосе зазвенела мука. Амалия нахмурилась. Семейная сцена все больше претила ей.
– Матильда, на нас смотрят, – вполголоса проговорил Теодор.
– И пусть! Мне все равно! Отчего же вы не беспокоились раньше, когда они смотрели на вас с этой тварью?
Похоже, рыжая решила обидеться всерьез.
– Как вы любезны, госпожа графиня, – сказала она, усмехаясь. – Только как тогда называть человека, который разоряет другого, чтобы заставить его жениться?
– Что вы несете! – возмутилась Матильда. Но пылу у нее заметно поубавилось.
– Можно подумать, вы не знаете, – отчеканила рыжая, глядя ей прямо в глаза. – Если бы не делишки вашего отца, никогда бы Теодор не стал вашим мужем! И нечего тут говорить о любви, сударыня. Сядь, Теодор! Нам еще должны принести десерт. А эта пусть кричит, сколько ей влезет, коли охота себя на посмешище выставлять.
Теодор посмотрел на любовницу – и медленно опустился на место. На скулах Матильды выступили красные пятна.
– Теодор! Я этого так не оставлю! Ты пожалеешь!
– Можно подумать, я не жалею, – с самого дня свадьбы!
Судя по всему, Теодор дошел до той опасной точки, когда готов был выложить все, что накопилось на душе; это ошеломило его жену сильнее, чем оскорбление.
– Не смей так говорить! – возмутилась молодая женщина. – Не смей, слышишь? Или я все расскажу моему отцу!
– Довольно, Матильда, – оборвал ее муж со скучающей гримасой. – Хочешь, я пошлю ему со следующей станции телеграмму? «Отдыхаю в Ницце с подругой, желаю и вам того же. Зять». А то твой отец скоро доработается до удара – ни одного дня свободного.
– Ах, вот о чем ты мечтаешь! – крикнула Матильда. – Чтобы он умер! Скажи, а может быть, ты хочешь, чтобы я тоже умерла? Ты ведь этого хочешь, да?
И тут Мэй услышала слова, от которых у нее перехватило дыхание.
– Да, – спокойно ответил Теодор, глядя в лицо жене и улыбаясь нехорошей улыбкой, от которой его рот искривился. – Меня вполне устроило бы, если бы ты упала под этот поезд. – Он перегнулся через стол и прошипел: – Довольна?
Матильда отшатнулась, сдавленно всхлипнула, стиснула сумочку, словно в ней заключалось ее спасение, и бросилась прочь. Она бежала, как слепая, наклонив голову, и по пути налетела на край стола, за которым сидели Амалия и Мэй.
– Осторожнее, сударыня, – сухо сказала баронесса, подхватив стоявшую на столе вазочку, едва не упавшую от толчка.
Ничего не ответив, Матильда выбежала из вагона. Дверь захлопнулась с резким стуком.
Глава 6 Крик в ночи
Если англичанину случится стать свидетелем скандала, он непременно попытается превратиться в столб, шкаф, или стул, или во что-нибудь столь же деревянное и неодушевленное. Сердца разобьются, глаза ослепнут от слез, судьбы людей уже никогда не будут прежними, и тут англичанин оживет, повернется к вам и учтиво скажет что-нибудь вроде: «Сегодня прекрасная погода, не правда ли?»
Мэй изо всех сил пыталась не подавать виду, что слышала и видела происходящее. С ее точки зрения, этого требовали приличия, но душа ее разрывалась между любопытством, негодованием и сочувствием. По правде говоря, она вообще впервые в жизни видела семейную суету, потому что ее родители жили душа в душу, а их соседи и знакомые были – или казались – до отвращения добропорядочными. И юная Мэй чувствовала себя сейчас, как Ливингстон, впервые ступивший в дебри, кишащие неведомыми чудовищами. Тут до нее донеслись слова Амалии.
– Скандал – это как карточная игра, – задумчиво заметила баронесса. – Вы играете в карты, мисс Мэй?
Слегка оторопев от сравнения, Мэй призналась, что иногда играет с братьями, но в шутку. Амалия кивнула.
– Можно сказать, что в отношениях скандал – нечто вроде главной ставки, и разыгрывать ее надо, во-первых, хладнокровно, а во-вторых, умело, когда у вас на руках все козыри. Если же у вас ничего нет, кроме шестерок и сомнительной мелочи, то лучше воздержаться. Иначе результат будет именно таким, какой мы наблюдали.
– Вы шутите? – недоверчиво спросила Мэй, оглядываясь на соседний столик.
Теодор и его рыжая спутница как ни в чем не бывало разговаривали вполголоса, смеялись и поедали десерт. Коммивояжер, которому принесли заказ, время от времени поглядывал на них, чему-то улыбаясь про себя. Дети восхищенно глазели на спину рыжей дамы, белевшую в вырезе откровенного платья. Появились еще несколько пассажиров, рассевшиеся за свободными столиками.
– Ничуть, – ответила Амалия. – Что мы видели? Дама застала мужа в поезде с любовницей. Это не козырной туз, но при умелом розыгрыше мог бы стать таковым. Надо же было потерять над собой контроль и разыграть все так скверно, чтобы потерпеть полное поражение и услышать от супруга, что он спит и видит, как бы скорее овдоветь.
– По-моему, он просто негодяй, – пылко сказала Мэй. Амалия улыбнулась.
– Дорогая мисс Уинтерберри, – сказала она, – я нечасто даю советы, но на сей раз все-таки рискну. Не требуйте от людей больше того, что они согласны дать, особенно если эти люди абсолютно вам неизвестны. С сотворения мира мужья обманывают жен, а жены – мужей, и это еще не самое худшее из того, что может произойти на свете. Смерть близких, болезни детей, природные катаклизмы – все это куда более трагично и куда более страшно, чем тот факт, был ли верен Джон Мэри и наоборот. Есть только одно средство привязать человека к себе: его собственная добрая воля. Если этого нет, не спасут никакие клятвы у алтаря.
Мэй покраснела и залпом проглотила свой шабли. По природе она была максималисткой, и все, что не белое, для нее было черным.
– Все равно, – упрямо проговорила девушка, – я считаю, что предавать близких нехорошо. А это… – ее голос дрогнул, – просто предательство.
– Когда вы повзрослеете, то поймете: зачастую не бывает более далеких людей, чем близкие, – мягко сказала Амалия.
Мэй вспомнила о своей бабушке и умолкла.
– Я понимаю, что это не мое дело, – вновь заговорила она через несколько минут, ковыряя вилкой в тарелке. – Просто мне очень ее жаль.
– Кого? – спросила Амалия.
– Ну… Даму в синем. – Мэй порозовела.
– Почему? – безжалостно спросила Амалия. – Потому что она не старая и на ней красивое платье от Жанны Пакэн?[166]А если бы ей было пятьдесят и она была бы плохо одета?
Мэй надулась.
– Я не могу рассуждать о том, чего нет. То, что он сказал ей, просто ужасно!
– Думаете, он и впрямь способен толкнуть супругу под поезд? – улыбнулась Амалия. – Нет, мисс Мэй. У людей, которые много говорят, разговорами все исчерпывается. Просто он был рассержен и сказал то, о чем уже жалеет. Потому что это и в самом деле чересчур.
Мэй задумалась.
– И что же теперь будет? – несмело спросила она. – Я имею в виду, что с ними… дальше? Как им теперь с этим жить?
Амалия пожала плечами.
– Понятия не имею. Вряд ли дело дойдет до развода, потому что это слишком хлопотно и опять-таки слишком публично. Значит, помирятся и примутся кое-как, по удачному выражению одного беллетристо, «влачить совместное существование».
Мэй тряхнула волосами и машинально отпила еще шабли. Вино оказалось чудо как хорошо и охлаждено как раз в меру.
– Я бы такое не простила, – решительно заявила она.
– Не думаю, что у вас когда-нибудь возникнет нужда в таком выборе, – безмятежно отозвалась баронесса. – Уверена, вы вообще не станете связывать свою судьбу с человеком, от которого можно услышать что-то подобное.
– Почему вы так думаете? – быстро спросила Мэй. – Вы ведь совсем не знаете меня, миледи.
Уже задав вопрос, она с опозданием сообразила, что он вышел не то чтобы дерзким, но с намеком на вызов, и поспешно отставила бокал. «Наверное, это все французское вино… И что это на меня нашло? Мы обсуждаем людей в их же присутствии, о, видела бы меня тетя Сьюзан! Мэй Уинтерберри, ты ведешь себя неприлично. Сейчас же надо перевести разговор на другую тему, например, какая погода сейчас в Ницце…»
– На мой взгляд, вы очень благоразумны, – заметила Амалия, отвечая на вопрос Мэй. – Скажете, я ошибаюсь?
И что прикажете отвечать? Сказать «нет, миледи, я вовсе не благоразумна»? А сказать «да» – так получится, что она хвалит себя саму, что тоже не слишком хорошо.
Мэй поймала себя на мысли, что чувствует себя, как улитка, которую вытащили из уютного домика. Ее тянуло обратно – и в то же время хотелось, чтобы Амалия сказала еще что-нибудь этакое, а значит, с возвращением следовало повременить. «И почему у меня такое ощущение, словно я знаю ее уже много-много лет? – размышляла Мэй. – В конце концов, мы только случайные попутчицы, завтра поезд прибудет в Ниццу, мы расстанемся, и я больше ее не увижу…»
И она искренне огорчилась. Ей ужасно нравилась Амалия, и, по совести говоря, она была бы не прочь иметь именно такую старшую сестру – умную, великодушную и щедрую.
Когда они возвращались из вагона-ресторана в свое купе, то столкнулись в коридоре с дамой в синем, которая отзывалась на имя Матильда. Глаза у нее покраснели, судя по всему, она плакала. Матильда взглянула на Амалию и ее спутницу и отвернулась, очевидно, вспомнив, что они присутствовали при ее унижении.
В купе номер семь было прохладно. Войдя, Амалия первым делом закрыла окно.
– Скоро станет гораздо теплее, и можно будет лечь спать, – сказала Амалия, улыбаясь. – Завтра утром окажемся в Ницце.
– А мы не пропустим станцию? – встревожилась Мэй.
– Нет, кондуктор нас разбудит.
Остаток дня как-то скомкался в памяти Мэй, – может быть, сказалось то, что она впервые в жизни пила вино, а может быть, просто устала. Колеса стучат по рельсам – стук становится резче и назойливей, значит, они проезжают мост – гулкий стук означает, что едут по туннелю – а вот ее ежик Джек бежит, семеня лапками, и в следующее мгновение он уже не Джек, а официант в вагоне-ресторане, но с ушками, как у ежа, и в лапке у него бутылка шабли, но, присмотревшись, Мэй видит, что это вовсе не вино, а флакон духов.
– Самое лучшее вино! – жизнерадостно заверяет ее Джек, вновь превращаясь в ежа, и неожиданно вагон-ресторан скрывается из глаз так быстро, как это бывает только во сне.
– А-а-а!
Мэй открыла глаза.
…крушен…
…белье!
…состав сошел с рельсов…
За окном стояла густая, как чернила, тьма. Никто не кричал, не звал на помощь, словом, никаких признаков железнодорожной катастрофы. Мэй с облегчением перевела дух.
– В чем дело? – спросила баронесса Корф по-русски, не открывая глаз.
– Что? – робко переспросила Мэй. – Простите, миледи… Мне показалось, что кто-то кричал. Я вас разбудила?
Амалия не стала уточнять, что у нее чуткий сон и ее тоже разбудил крик в коридоре. Сказала лишь:
– Может быть, кому-то нужна помощь? Схожу посмотрю.
Она поднялась и приоткрыла дверь.
В неярком свете ламп она разглядела в конце вагона знакомую фигуру в синем платье.
– Что-нибудь случилось, сударыня? – очень вежливо спросила Амалия. – Нам послышался какой-то крик.
Матильда обернулась. На лице молодой женщины было написано волнение, но она попыталась улыбнуться.
– Простите, сударыня, – проговорила она, – наверное, это все нервы. Я не люблю поездов, а в этот раз мне приснилось что-то совершенно нелепое. Наверное, это из-за… – Она умолкла.
– Простите мое любопытство, – сказала Амалия. – И… – Она поколебалась, но все же проговорила: – Спокойной ночи. Завтра будет новый день, и все как-нибудь образуется.
Матильда грустно усмехнулась.
– Да, – сказала она, – я только на это и надеюсь. Спокойной ночи, сударыня. – Она кивнула Амалии и скрылась в своем купе.
Когда Амалия закрыла дверь, она увидела, что Мэй, приподнявшись на локте, вопросительно смотрит на нее.
– Это была она? – спросила Мэй драматическим шепотом. – Что с ней?
– Говорит, приснился кошмар, – проворчала Амалия, забираясь в постель. – Спите, Мэй. До Ниццы еще далеко.
Мэй хотела задать еще тысячу вопросов о Матильде, за судьбу которой очень переживала, но по лицу Амалии поняла, что та не расположена говорить. Девушка вздохнула, натянула одеяло повыше и закрыла глаза. «Золотая стрела» торжественно рассекала ночь.
Глава 7 Барышня и монстр
Белый локомотив с золотой стрелой на боку вплыл под своды главного вокзала Ниццы, зашипел, как сказочный дракон, заскрежетал всеми поршнями и замер вдоль перрона.
Мэй поглядела в окно – и не увидела ничего, кроме переплетения рельсов и рабочего железной дороги, который шел по путям, держа под мышкой бутылку с молоком. На элегантный экспресс он не обратил ровным счетом никакого внимания и, конечно, даже не подозревал о существовании Мэй.
«Ах, что-то ждет меня впереди?» – в смятении подумала бедная девушка.
Она заметила, что баронесса Корф отчего-то хмурится, и подумала, что Амалии, наверное, тоже не очень хотелось в Ниццу. Странным образом это обстоятельство приободрило Мэй.
– Прощайте, – сказала Амалия. – Желаю вам всего наилучшего.
Мэй так растерялась, что могла лишь пролепетать:
– До свидания… надеюсь, мы еще увидимся…
Однако Амалия не стала ее слушать и заторопилась к выходу. Внезапно Мэй охватило такое чувство одиночества, словно она была не в «Золотой стреле», переполненной людьми, и не в центре одного из самых известных европейских городов, а на далекой-далекой планете, где не было никого, кроме нее одной.
Она медленно вышла следом за баронессой, машинально нащупывая в сумочке багажную квитанцию, и почти сразу же увидела живую и невредимую даму в синем, которая говорила носильщикам, чтобы они выгрузили из купе ее чемодан. Матильда бросила на девушку холодный взгляд и отвернулась.
– Осторожнее с чемоданом, – сказала она носильщикам.
«Тетушка Сьюзан сказала, что даст телеграмму, чтобы меня встретили… А что, если не встретят? Что тогда делать?»
Мэй стала вертеть головой по сторонам, пытаясь определить, кто из стоящих на перроне может ее встречать. Народу было немного – в сентябре из Ниццы больше уезжают, чем прибывают. Какой-то офицер, который неловко держит согнутую руку, очевидно, после ранения, дама с маленькой смешной собачкой, носильщики…
– Мадемуазель Винтерберрè!
Именно так, с ударением на последнем слоге.
Мэй оторопела, а нахал подошел уже совсем близко и повторил:
– Мадемуазель Винтерберри!
Это был чумазый оборванец с улыбкой до ушей, одетый, как рабочий, темноволосый, кудрявый, в кепке – в кепке! – надвинутой на правый глаз. Глаза, впрочем, небесно-голубые. На носу красовалось пятно сажи, неизвестно откуда взявшееся.
– Это я, – пролепетала Мэй.
Нахал перестал озираться, ища среди пассажиров неизвестную ему мадемуазель Винтерберри, и без всякого стеснения уставился на нее.
– Вы приехали к мадемуазель Клариссе? Она вас ждет.
Сообщение, что ее ожидает голодный леопард или тигр, не могло сильнее обескуражить Мэй.
– Кто вы такой? – окончательно растерявшись, спросила она.
– Я Кристиан, – объявил оборванец так, словно это что-то объясняло. – Где ваши вещи?
Он стоял напротив Мэй, заложив руки за спину. Нехотя Мэй созналась, что два чемодана в купе, а остальные четыре…
– Давайте сюда вашу квитанцию, – сказал Кристиан, протягивая руку. – Эй, Робер! – Он свистом подозвал носильщика и вручил ему квитанцию. – Сгоняй-ка за багажом мадемуазель, да поскорее! Какое купе? – спросил он у Мэй.
– Седьмое, оно…
Но оборванец уже удалился.
Мэй почувствовала, что события окончательно вышли из-под контроля. Воображение рисовало ей картины того, как она, обокраденная сообщниками собственной бабки (наверняка негодяями, каких свет не видел), останется на перроне без драгоценных чемоданов, включая тот, с которым прадедушка по материнской линии гонялся за Наполеоном по всей Европе, от Португалии до Бельгии. Отдавая Мэй этот видавший виды исторический раритет, мать глубокомысленно заметила:
– Если он тогда не развалился, то теперь-то уж точно послужит. – И, погладив чемодан рукой, со вздохом прибавила: – Береги его, Мэй!
Теперь она близка к тому, чтобы утратить и драгоценный чемодан дедушки, и чемоданчик с монограммой, и чемодан, купленный специально к ее поездке, который она ухитрилась поцарапать в первый же день путешествия, и…
– Ну, вот, – объявил негодяй номер один, материализуясь возле нее с ее чемоданами из купе. – Робер!
Предполагаемый негодяй номер два уже принес вещи из багажного вагона. Этот носильщик был не так ловок, как его парижский коллега, и едва управлялся. Впрочем, что тут говорить, – провинция есть провинция.
– Идемте, мадемуазель, – сказал Кристиан. – Экипаж нас ждет!
– А… мы поедем в карете? – неуверенно спросила Мэй.
– Можно сказать и так, – усмехнулся Кристиан.
События вновь подхватили Мэй и повлекли за собой. Почти не сопротивляясь, она шла за Кристианом и Робером, которые тащили ее вещи. На узкой улочке около вокзала перед ней стояло это.
Оно имело четыре деревянных колеса, оси между которыми были выкрашены в красный цвет, два ряда вызывающе желтых кожаных сидений и красную колонку спереди, из которой торчало маленькое колесико неизвестного назначения. Под колонкой выше колес виднелась длинная черная металлическая коробка, и было также совершенно непонятно, для чего она здесь нужна. Никаких лошадей к желто-красно-черному монстру не прилагалось.
– Вы сейчас сядете сзади, – распорядился Кристиан, – а чемоданы я поставлю спереди, рядом со мной.
– Что это? – дрожащим голосом спросила Мэй.
– Это автомобиль, – объяснил проклятый оборванец, ухмыляясь во весь рот. – Некоторые предпочитают называть его локомобилем, потому что двигатель у него паровой, но, по-моему, автомобиль тоже хорошо. Вы не согласны?
Мэй поглядела на оборванца, перевела взгляд на застывшего в молчании Робера, который, судя по плутоватой усмешке, тихо наслаждался происходящим, и поняла, что пришел ее последний час. Мэй отлично помнила, какие разговоры ходили в Литл-Хилле после того, как жена местного богатея вздумала как-то раз прокатиться на автомобиле своего кузена из Лондона. Тогда автомобиль скатился в канаву, жена богатея отделалась сломанной рукой, а викарий прочел имевшую шумный успех проповедь о тщете так называемого прогресса, к которому стремятся некоторые незрелые души.
– Куда вы, мадемуазель? – удивился Кристиан, видя, как Мэй медленно, но верно отступает спиной по направлению к вокзалу.
– Я… я только что вспомнила, – солгала Мэй. – Я кое-что забыла! Да, забыла! Я сейчас вернусь!
И она, уже не скрываясь, почти бегом бросилась прочь. Когда она скрылась из виду, два негодяя переглянулись и разразились смехом.
– По-моему, она сегодня впервые в жизни увидела автомобиль, – сказал Робер. – Чемоданы-то ставить?
– А если она не вернется? – Кристиан перестал смеяться. – Конечно, это нехорошо, но… какое у нее стало лицо!
И они снова принялись самым беззастенчивым образом хохотать над бедной Мэй.
Оказавшись на достаточном расстоянии от пугающего желто-красно-черного монстра, Мэй перешла на шаг и перевела дух. Надо немедленно что-то предпринять, только вот что?
Сказать самым учтивым тоном: «Благодарю вас, сэр, но я поеду отдельно» – и взять кэб? Но ни одного кэба, как на грех, нигде не видно. Кроме того, Мэй некстати вспомнила, что во Франции их вообще нет, только обычные экипажи.
Обратиться в полицию? Но разве в поездке на автомобиле есть элемент криминала? И на что, собственно, пожаловаться?
Или лучше всего вообще махнуть рукой на Ниццу, на бабушку, на парового монстра, купить обратный билет и бежать без оглядки, не останавливаясь, вплоть до самого Литл-Хилла?
Обдумав все как следует, Мэй поняла, что эта мысль нравится ей куда больше остальных. Но в следующее мгновение она разглядела впереди сиреневое пальто – и сообразила, кто может ее спасти.
– Миледи! Ама… Амалия! Госпожа баронесса!
И она бросилась со всех ног к своей попутчице, которая стояла возле нарядного экипажа с откидным верхом, – настоящего экипажа, запряженного настоящими лошадьми, с настоящим кучером, и внешность у кучера была такая, словно он полвека прослужил в лучших домах, и самым лучшим из них был дом баронессы Корф.
Амалия обернулась. Увидев лицо Мэй, она подумала, уж не произошло ли в жизни девушки нечто страшное. К примеру, бабушке Клариссе настолько надоели визиты непрошеных наследников, что она завещала все состояние на исследование полярных морей, а сама бросилась под «Золотую стрелу» аккурат в день приезда внучки в Ниццу.
– Госпожа баронесса, – пролепетала Мэй, умоляюще глядя на нее, – можно я поеду с вами?
– Разве вас не встретили на вокзале? – подняла брови Амалия.
– Встретили, но… – Мэй замялась. – Это ужасно! Я не могу на этом ехать!
– На чем?
– На этом… без лошадей… – Мэй попыталась вспомнить мудреное слово и наконец выпалила: – На автомобиле!
Амалия вздохнула.
– Ваша бабушка прислала за вами автомобиль? – спросила она совершенно будничным тоном, словно в этом факте не было ничего особенного.
– Да.
– И почему же вы не можете на нем ехать?
Нижняя губа Мэй обиженно дрогнула.
– Я боюсь, – едва не плача, призналась она. – Я вообще никогда не ездила на автомобилях! Я даже их не видела…
Она была готова разрыдаться. Амалия внимательно посмотрела на нее и вздохнула.
– Эмильен!
– Да, госпожа баронесса? – почтительно спросил кучер.
– Подожди меня, я сейчас вернусь. Хорошо?
И она взяла Мэй под руку и увлекла ее за собой.
Мэй воспрянула духом. Ну конечно, сейчас госпожа баронесса поставит на место нахала, наведет порядок, велит отправить чемоданы к бабушке на монстре, а сама отвезет туда Мэй в своем чудесном экипаже. Почему-то Мэй и мысли не допускала, что кто-то может ослушаться ее спутницу.
И в самом деле, едва завидев Амалию, нахал в кепке прервался на полуслове и почтительно вытянулся, поедая ту глазами. Его приятель-носильщик тоже умолк и стушевался.
– Кажется, это «Менье», – сказала Амалия, глядя на желто-красно-черного монстра без всякого трепета, за что Мэй зауважала ее еще больше. – Хорошая машина.
Кристиан смиренно подтвердил, что так оно и есть.
– Раньше я водил «Дион-Бутон», – сказал он. – Он получше, чем «Панар-Левассор», да в «Панаре» и места поменьше. Хотя все модели по-своему хороши. Взять хотя бы «Бенц»[167]…
– Я вижу, вы разбираетесь в автомобилях, – заметила Амалия. – Это вы будете нас везти?
И этого Кристиан не стал отрицать.
– Нас? – пролепетала Мэй.
– Я доставлю вас до виллы вашей бабушки, – объявила Амалия, – а дальше поеду с Эмильеном. Месье!
Она протянула носильщику монетку.
– Будьте так любезны, на соседней улице меня ждет мой кучер, Эмильен. Скажите ему, чтобы он просто ехал за нами.
– А может быть… – пискнула Мэй.
– Никакого «может быть», – твердо ответила Амалия. – Поедем вместе.
Что-то было в ее тоне такое, что Мэй поняла: спорить бесполезно. Кристиан протянул Амалии руку, чтобы помочь ей подняться в автомобиль, затем усадил трепещущую Мэй. Дамы оказались на заднем сиденье, шофер и чемоданы Мэй – на переднем. Подъехал Эмильен, осмотрел желто-красно-черного монстра и выразительно покачал головой, словно недоумевая, как такая штука вообще может ездить. Мэй тоже этого не понимала. В глубине души она больше всего хотела, чтобы гадкий монстр сломался и они пересели в карету. Однако этого не произошло.
Глава 8 Пропавшая перчатка
Бах, пых, чпых!
Гррррры!
Мэй подпрыгнула на сиденье и на всякий случай покрепче уцепилась за баронессу Корф.
Вернувшийся Робер навалился плечом и подтолкнул монстра сзади. Шофер взялся за колесико – то, которое спереди, – и стал давить ногой какие-то педали, которые Мэй разглядела только сейчас. И тут автомобиль поехал.
Он ехал сам, без лошадей, извергая облака дыма. Одна из лошадей Эмильена чихнула и недовольно мотнула головой.
По улице бежали мальчишки. Завидев машину, они стали махать руками и кричать «ура», а затем припустились вдогонку. Самому смелому этого показалось мало, и он перескочил через дорогу перед самым носом пыхтящего монстра.
Шофер улыбнулся и нажал на какую-то дудку, которая извергла рев разъяренного слона. От неожиданности Мэй едва не свалилась с сиденья и еще крепче ухватилась за Амалию.
– Это вроде как предупредительный сигнал, – пояснил шофер, оборачиваясь к дамам.
– Следите лучше за дорогой, юноша, – посоветовала Амалия.
Не без труда ей удалось освободить руку от цепких пальчиков Мэй, но тут автопутешественникам повстречался старый кюре, который, задумавшись, переходил через дорогу. Шофер продудел два раза так, что у Мэй заложило уши, и она снова вцепилась в Амалию.
– Он немного глуховат, – виновато объяснил Кристиан.
Кюре поднял голову, без особого интереса поглядел на автомобиль и помахал шоферу рукой, после чего возобновил свой путь и скрылся в дверях церкви.
«Какой странный город! – думала Мэй, трясясь на сиденье рядом с Амалией. – И какие странные люди здесь живут! Если бы наш викарий в Литл-Хилле увидел бы такой автомобиль, он бы, наверное, умер от страха».
– В поездке на автомобиле нет ничего особенного, уверяю вас, – заметила Амалия. – Вот летать – это совсем другое дело, но и к полетам можно привыкнуть.
Мэй тихо ойкнула от ужаса и вновь ухватилась обеими руками за рукав баронессы.
– А вы когда-нибудь летали, сударыня? – прокричал шофер сквозь шум двигателя.
– На воздушном шаре и на дирижабле, – ответила Амалия.
– И каково это? – дрожащим голосом спросила Мэй.
– Отрываться от земли и парить над ней? – Амалия блеснула глазами. – Восхитительно!
– Между прочим, – сообщил Кристиан, широко улыбаясь, – я умею управлять воздушным шаром.
Мэй позеленела.
– Это прекрасно, – серьезно ответила Амалия и заговорщицки улыбнулась девушке. – Если когда-нибудь мы захотим прокатиться, то будем иметь вас в виду. Только не думаю, мисс Мэй, что у вашей бабушки есть свой шар.
«И слава богу!» – мелькнуло в голове у Мэй.
Вокруг мелькали пальмы, цветы, плодовые деревья. Потом путешественники свернули и поехали вдоль моря. Оно было синее-синее и совсем не походило на Ла-Манш, который даже в хорошую погоду имеет стальной оттенок.
В другое время Мэй искренне восхитилась бы красотой окружающей природы, но сейчас она еще пребывала во власти опасений и чувствовала себя не совсем уверенно. Мотор «Менье» кряхтел, ворчал, фыркал и, казалось, безостановочно бурчал на своем моторном языке неизвестные людям ругательства. Поэтому Мэй предпочитала держаться поближе к Амалии. Ей почему-то казалось, что рядом с баронессой не может произойти ничего плохого.
– Долго еще? – спросила Амалия у шофера.
– Несколько минут, сударыня, – отозвался тот, и в это мгновение автомобиль остановился. Мотор зашелся в надсадном кашле и умолк. Эмильен, ехавший за ними, придержал лошадей.
– Так я и знал, – сказал он, качая головой. – Эти штуки всегда ломаются в самое неподходящее время.
Шофер сердито выпрямился.
– Кто бы говорил! Как будто лошади не могут, к примеру, взбеситься или понести.
– Зато, по крайней мере, – парировал Эмильен, задетый за живое, – они не станут поперек дороги, точно ослы, ни туда, ни сюда.
– А еще ваши лошади могут умереть, – поддел его шофер. – И что тогда вы будете делать?
– Пока я управляю экипажем госпожи баронессы, – торжественно объявил Эмильен, – это невозможно!
– Но когда-нибудь они все равно умрут, – настаивал шофер. – Техника ломается, лошади умирают, и ничего особенного в этом нет. – Говоря, он нет-нет да поглядывал на Амалию, словно ожидая, что она выскажет свое мнение, но та молчала.
Мэй оглянулась. С одной стороны были горы, с другой – море, а сверху расположилось солнце, и светило оно вовсе не по-английски скупо и даже не по-парижски ласково, а щедро и расточительно, как и полагается примерному солнцу на Лазурном берегу. Мэй почувствовала, что ей стало жарко, и заметила, что Амалия тоже расстегивает пальто. Из кармана его выпала сиреневая перчатка, и Мэй поспешно подобрала ее, – так поспешно, что стукнулась лбом о какую-то противную железяку. Девушка сдавленно охнула.
– Вы не ушиблись? – обеспокоилась Амалия.
– Нет, – героически ответила Мэй, хотя на глаза даже слезы навернулись.
– Ну конечно, ушиблись, – возразила Амалия. – Не стоило так поступать. Все равно вторая перчатка куда-то делась.
– Я все время теряю перчатки, – призналась Мэй.
– А я никогда ничего не теряю, – ответила баронесса с металлический ноткой в голосе. – Ума не приложу, куда она могла запропаститься.
– Наверное, найдется, – несмело предположила Мэй. – Если вы не оставили ее в купе.
Амалия покачала головой.
– Нет. Я смотрела, там ничего не было.
«Так вот почему она хмурилась тогда!» – подумала Мэй.
– Может быть, – продолжала она, – перчатка вылетела в окно, когда мы открыли его и ушли? Ужасно обидно, конечно, но… такое ведь могло случиться.
– Пожалуй, это самое правдоподобное объяснение, – вздохнула Амалия. – Но у нее не было никакого права так поступать. – Тон молодой женщины был серьезным, однако глаза улыбались, и Мэй поняла, что ее знакомая вовсе не принимает пропажу близко к сердцу.
Шофер тем временем возился с черным ящиком спереди машины, затем для чего-то забрался под машину, а когда вылез оттуда, то его вид наводил на мысли о трубочисте, которому пришла в голову шальная мысль искупаться в чернилах. Достав из кармана большущий платок, он протер лицо и руки.
– Теперь все, – доложил он, широко улыбаясь, – можно ехать.
«Никогда больше не буду ездить на автомобилях!» – содрогнулась Мэй.
Бах, пых, чпых!
Гррррры!
Так они и добрались до утопающей в цветах и зелени виллы «Маршал», на которой жила Кларисса Фортескью, в замужестве Уинтерберри, бывшая недостойная жена, а ныне весьма достойная миллионерша.
* * *
– Нет, – горячо воскликнула Мэй, – вы не можете меня покинуть!
– Почему же? – забавляясь, спросила Амалия. – Я доставила вас до места в целости и сохранности. Теперь вы знаете, что ездить на автомобилях вовсе не так страшно, и мне пора удалиться.
Но Мэй настаивала. Она не может отпустить миледи, которая была так к ней добра. Ей ужасно неловко прощаться с госпожой баронессой у ворот. Может быть, та все-таки зайдет в дом? Мэй будет счастлива представить ее своей бабушке!
В то время как у ворот виллы «Маршал» развивалась эта волнующая дискуссия, на террасе виллы «Эгмонт», расположенной напротив через дорогу, два флегматичных рыжих джентльмена типично британского вида обсуждали прибывших к соседям гостей. Оба джентльмена имели славное военное прошлое, только один – мистер Роджер Барнаби – служил в сухопутных войсках и был полковником в отставке, а другой – мистер Филип Картрайт – дослужился на флоте до чина капитана.
– Кажется, к мадам Клариссе снова гости, – доложил Барнаби.
– Подайте-ка мне мой морской бинокль, – лаконично распорядился мистер Картрайт.
Последующие несколько минут прошли в полном молчании. За это время ворота виллы растворились, пропустив автомобиль и карету, и затворились вновь.
– Лично мне и без бинокля все видно, – заявил полковник Барнаби. – Они решили пустить в ход тяжелую артиллерию.
– Вы о юной даме? – осведомился капитан Картрайт. – Та, что в сиреневом, баронесса Корф, и она не наследница. Если хотите знать мое мнение, то не думаю, что эта попытка абордажа будет иметь успех.
– Мне кажется, в конце концов они принудят старую даму к капитуляции, – продолжал полковник.
– Ничего подобного, она уплывет от них на всех парусах, – возразил капитан.
– Хотите пари? – загорелся полковник.
Картрайт вздохнул.
– Дорогой Роджер, вы уже проспорили мне стоимость хорошей яхты.
– Значит, проспорю вторую, – не остался в долгу полковник.
– Хорошо, – сдался капитан. – Ставлю 30 фунтов на то, что вновь прибывшая наследница вскоре получит пробоину ниже ватерлинии и затонет, как и ее предшественники.
– Идет, – торжественно согласился полковник, и два джентльмена скрепили пари рукопожатием. – Лично я ставлю на то, что под перекрестным огнем бабушке все-таки придется отступить.
– Что ж, поживем – увидим, – флегматично подытожил капитан Картрайт.
Пока на террасе «Эгмонта» шел этот ни с чем не сообразный разговор, желто-красно-черный монстр успел довезти двух женщин до входа и, заскрежетав, остановился. Кристиан выскочил наружу и помог сойти, подав руку сначала Амалии, а затем и Мэй.
Большой дом, выкрашенный розовой краской, словно долго колебался между тем, быть ему просто виллой или все-таки дворцом, и в конце концов решил, что дворцом почетнее. После этого он, а скорее всего, строивший его архитектор стал размышлять, какой именно дворец он собирается возвести, и так ни до чего и не додумался. В результате здесь были белые коринфские колонны, средневековые зубчатые башенки и – на всякий случай – готические водостоки, изображавшие драконов. После чего создатели наверняка сочли, что для шедевра сделано достаточно.
Клумбы утопали в розах, там и сям виднелись декоративные вазы, амуры, психеи и увитые плющом беседки, а по лужайке бродил, сложив хвост, сердитый маленький павлин, время от времени что-то бормотавший себе под нос на павлиньем языке.
Из дома вышел лакей и, поклонившись, пригласил гостей следовать за собой.
Тут Мэй поймала себя на мысли, что ей очень хочется спрятаться за спину Амалии, а может быть, даже застрять в тарахтящем монстре на дороге между горами и морем и побыть там подольше. Но делать было нечего, и она вошла.
Они миновали несколько комнат и наконец оказались в гостиной, где стояла надменная старинная мебель, обитая красным бархатом, а на стене красовался портрет маршала Поммерена. В жизни маленький и тщедушный, маршал на портрете глядел орлом и, казалось, хотел сказать: «Ага! Что, явились за моим миллионом?»
За дверью, ведущей во внутренние покои, послышались шаги и голоса, и в гостиную величаво вплыла дама с осиной талией, в золотисто-зеленом платье, отделанном вышивкой и тюлем. Волосы у дамы были каштановые, с рыжеватым отливом, без единого седого волоска. На вид ей можно было дать лет пятьдесят, а если очень захотеть, то и сорок пять. Она была очень умело и обдуманно накрашена, но все равно становилось ясно, что это уже далеко не молодость, а лишь попытка ее имитировать, хотя и весьма удачная.
Вокруг дамы, как плющ вокруг дерева, увивался любезный седой человечек с огромным изумрудом в галстуке, с иголочки одетый и благоухающий «Fou-gère Royale»[168]. Он был улыбчив, благодушен и, судя по всему, постоянно находился в том расположении духа, которое обыкновенным людям заменяет нирвану, – то есть имел все, что хотел, и не желал большего.
– В конце концов, – капризно закончила дама фразу, начатую за порогом гостиной, – я купила виллу с павлинами, так куда они все подевались?
Взгляд темных глаз дамы скользнул по лицу Амалии, которая держалась чуть позади Мэй, и перебежал на пунцовую от смущения девушку. «Она красит волосы! – в смятении думала Мэй. – Она красит волосы… боже, что о ней сказали бы наш викарий и соседка миссис Мэннинг! А какое на ней платье, ах, какое платье! Неужели я тоже могла бы носить такие наряды, если бы… если бы у меня было больше денег?»
– Бабушка…
Дама кисло улыбнулась и растворила объятья. Чувствуя неловкость, Мэй подошла обнять ее, но та ловко отстранилась, чтобы не испортить макияж.
– Дорогая! Как я рада видеть тебя в этих скромных стенах! Маргарет, верно?
– Мэй. – Теперь Мэй уже сожалела, что уговорила Амалию войти в дом. Судя по всему, Кларисса не собиралась давать спуску никому из своих возможных наследников.
– Ах, я так и подумала, – кивнула дама. – То ли маргаритка, то ли майская роза[169]. Какая прелесть!
Мэй и так не жаловала свое имя – как раз из-за намеков на майскую розу, которую она будто бы напоминала некоторым настойчивым и пустоголовым кавалерам, – а сейчас попросту его возненавидела.
– Я, как ты, наверное, уже догадалась, твоя бабушка Кларисса, – объявила дама. – А это Юбер Бланшар, мой адвокат и давний, давний друг.
Седой человечек галантно поклонился.
– Как я вижу, ты приехала не одна? – спросила Кларисса, испытующе глядя на свою внучку.
– Да. То есть нет! – вырвалось у Мэй. – Я хочу сказать…
– Ваша внучка пригласила меня прокатиться на автомобиле, – вмешалась Амалия. – Я баронесса Корф, моя вилла в нескольких километрах отсюда. Мы с Мэй ехали на «Золотой стреле» в одном купе и так познакомились. Я тоже подумываю купить автомобиль, «Дион-Бутон», к примеру, но меня отпугивают хлопоты. Придется держать шофера, и потом, эти машины часто ломаются…
– Ах, я ничего не понимаю в автомобилях! – воскликнула Кларисса. – Для этого есть мой друг, граф де Ламбер. Уверена, вам будет о чем с ним поговорить. Лично я купила «Менье», чтобы позлить двух спесивых дураков напротив. Они и сами собирались его приобрести, и надо было видеть их лица… – Кларисса словно сообразила, что сболтнула лишнего, сделала большие глаза и прикрыла ладошкой рот. Вот рука выдавала ее истинный возраст – шестьдесят пять, и никак не меньше.
– Боюсь, мне придется отложить разговор с графом де Ламбером до другого раза, – с легкой улыбкой ответила Амалия. – Думаю, мне пора домой. Не хотелось бы мешать семейному воссоединению.
Но тут растворилась дверь, и легким, стремительным шагом вошел молодой человек, одетый весьма корректно. Его лицо показалось Мэй смутно знакомым.
– А вот и он! – вскричала Кларисса. – Знакомьтесь: граф Кристиан де Ламбер.
«Да это же наш шофер!» – ужаснулась Мэй, вглядевшись в него.
Стоило шоферу Кристиану сменить кепку и рабочую униформу на приличную одежду, сразу же стало ясно, что до истинного пролетария ему так же далеко, как до Эйфелевой башни. Он блеснул голубыми глазами, поцеловал ручку Мэй, которая от смущения не знала, куда деться, и подошел к Амалии, которая с любопытством смотрела на него.
– Поразительно, – сказала она, усмехаясь. – Вы тот самый смельчак, который занял третье место на автомобильных гонках Париж – Руан?
– Именно так, госпожа баронесса, – весело ответил граф на чистейшем русском языке. – Простите, что сразу же не представился, я ведь сразу же вас узнал. Подумать только, я когда-то был на вашей свадьбе!
Амалия помнила, что мать у графа урожденная Толстая и что даже его отец, будучи французом, числится русским подданным и бывает при российском дворе; но она не любила, когда ее пытались застать врасплох, и потому немедленно отомстила графу самым очаровательным образом.
– И сколько вам тогда было лет – шесть или семь? – поинтересовалась она невиннейшим тоном.
И с удовольствием увидела, что молодой человек порозовел, как… ну, допустим, вареная креветка.
– Предлагаю устроить обед для наших гостей, – объявила Кларисса.
– На террасе? – подал голос адвокат.
– Да, на террасе, и заодно отметим приезд моей дорогой внучки. – Говоря, она одной рукой обвила Мэй за талию, словно они уже стали закадычными подружками. – Госпожа баронесса и господин граф, само собой, тоже приглашены.
– Я не могу, – сказала Амалия.
– Ах! – вскричала Кларисса. – Сударыня, вы меня просто убиваете своим отказом! Но, может быть, все-таки передумаете?
– Кроме того, – добавил Бланшар, – вы без помех сможете обсудить с господином графом все существующие на свете автомобили, потому что никто не знает о них больше, чем он. Уверен, вам вряд ли представится другой такой случай.
Амалия поняла, что попала в ловушку. Но Мэй глядела на нее так жалобно, с такой немой мольбой, что сердце баронессы не выдержало.
– Хорошо, – сказала она. – Если вы настаиваете, я останусь, но ненадолго.
– Ну конечно, ненадолго, сударыня! – вскричал Бланшар и, потирая руки, поспешил на кухню – распоряжаться насчет обеда.
Глава 9 Тайна поцарапанного чемодана
– Как это мило, – сказала Кларисса, когда все приглашенные собрались на террасе и Мэй, краснея, поднесла бабушке в подарок флакон духов. – Просто прелестно! Впрочем, я все равно больше люблю «Белую розу», – добавила она, очаровательно улыбаясь, так что Мэй почувствовала себя глупее некуда. – Жером! Унесите это в мою комнату, пожалуйста.
Неугомонная бабушка снова обратилась к Мэй:
– Так как поживает твой отец? Подумать только, я так давно его не видела! Почти что с рождения, – кокетливо уточнила она. – Ох уж эти семейные дела!
Мэй и так была не слишком разговорчивой, а присутствие трех посторонних людей (даже если не включать в их число саму Клариссу) совершенно отбило у нее охоту откровенничать. Она все же выдавила из себя, что отец поживает прекрасно, равно как и мать, и братья Мэй.
– Эдвин и Альберт, – Кларисса задумчиво прищурилась. – Какие, однако, затейливые имена у моих внуков! В мои времена предпочитали простоту.
– Это особенно видно по вашему имени, мадам, – вкрадчиво заметила Амалия.
Что-то такое прозвучало в ее тоне, совершенно спокойном, что Мэй даже чуточку испугалась. Но тут, как никогда кстати, вмешался Бланшар и велел слугам подавать на стол.
То ли благодаря превосходной еде, то ли по какой другой причине, но разговор вскоре вернулся в нормальное русло. Кристиан рассказал о готовящихся гонках, а Бланшар вспомнил некий пикантный случай из времен империи, в котором оказался замешан герцог де Морни, сводный брат императора.
– Вы читали Альфонса Доде[170], сударыня? – обратился он к Амалии. – Это чудовищно неблагодарный человек, просто невероятно! Он был, знаете ли, всего лишь бедным поэтом. И однажды императрица Евгения прочитала его стихи и пожелала узнать об авторе, а когда ей сказали, что он беден, попросила подыскать ему какое-нибудь место. Так он стал секретарем герцога де Морни, то есть одним из секретарей. Впоследствии господин Доде совершенно пасквильным образом вывел герцога, своего благодетеля, в своих романах. Случай, о котором я говорю, тоже описан в одной из книг, но на самом деле все было совершенно иначе. Если хотите знать…
И Бланшар с упоением поведал свою версию одного из увлечений герцога, в котором были замешаны некая м-ль О., а также виконтесса Д.
«Боже мой, – думала Кларисса, – как же он их любит, эти старые времена, которые никогда не вернутся, и всех этих негодяев, которые давно уже стали землей! А ведь я еще помню, как он ругал их, когда они были еще живы, и кричал, что правительство во Франции никуда не годится, и эта империя во много раз хуже той[171]. Неужели и я произвожу впечатление старухи, которая только и знает, что болтать о прошлом?»
И она мягко, но решительно прервала Бланшара, который мог вспоминать о делах минувших дней часами.
– У меня такое впечатление, как будто я снова в Англии, – сказала она внучке, поглядывая на ее простое серое платье, отделанное лишь тоненькой полоской безыскусной вышивки. – Английская одежда – это нечто, созданное людьми без фантазии для людей, лишенных чувства стиля. Я уж не говорю о шляпках, их вообще умеют носить только во Франции. А ведь хорошая шляпка в нашем мире куда важнее честной репутации. Репутацию еще могут простить, но скверную шляпку – никогда! – Она покосилась на Амалию, но тут уж найти повод для придирок было гораздо труднее. – Ваше платье великолепно, госпожа баронесса. Это Редферн?
– Лаферьер, – учтиво ответила Амалия. – А ваше, кажется, от Руффа?[172]
Кларисса засмеялась.
– Похоже, мы обе с вами неравнодушны к моде, – заявила она. – Лично я счастлива, что дожила до этого времени, когда мода стала настолько хороша. Я ведь помню еще кринолины, госпожа баронесса. Эти огромные юбки, неповоротливые, как киты…
– А я грущу по кринолинам, – вздохнул адвокат. – Императрица Евгения…
– Я не спорю, на картинах они смотрелись прекрасно, – перебила его Кларисса. – Но носить их было то еще приключение.
– А после кринолинов были турнюры с валиками сзади, – напомнил Кристиан, улыбаясь. – Они вам тоже не нравились?
– Мещанский стиль, – фыркнула Кларисса. – Что хорошего может быть в силуэте, в котором подчеркнута лишь одна часть тела, не бог весть какая? Я всегда считала, что Ворту[173] не хватало чувства меры. Я и ему самому это говорила, но он не слушал. Впрочем, он прекрасно умел обыгрывать возможности любого материала, в этом ему не откажешь. И все равно я считаю, что современная мода – лучшая, какая вообще может быть. Пакэн, Дусе, Раудниц, Лаферьер и остальные – просто удовольствие для глаз. Если в былые времена можно было годами ходить к одному кутюрье, то теперь даже не знаешь, с кого начать, настолько все хорошо. – Она перегнулась через стол к Мэй. – Пользуйтесь этим, дорогая! Время идет слишком быстро. Кто знает, что будут носить лет через десять или двадцать? Меньше всего люди ценят хорошее, когда его у них в избытке. Лично я надеюсь, что не доживу до того времени, когда в моду снова войдут какие-нибудь кошмарные кринолины.
Мэй слушала ее, бледно улыбаясь, а сама думала, что у нее денег в кошельке лишь на обратную дорогу да еще немного, что дали ей добрые Беннеты в Париже. Куда с такими финансами мечтать о Пакэне и Лаферьере?
– Между прочим, почти все дома моды имеют свои отделения в Ницце или Монако, – продолжала Кларисса. – Вам бы стоило как-нибудь туда заглянуть. Думаю, вам бы пошел нежный шелк. И цветочный рисунок, конечно. Еще какие-нибудь бабочки со стразами, правда, они сейчас разжалованы и не в моде. Да, да, дорогая, не спорьте: вы просто рождены для романтического стиля. Так и вижу, как вы в бальном платье и цветами в волосах поражаете на званом вечере в самое сердце какого-нибудь маркиза, и он делает вам предложение после первого же котильона.
Чем дальше, тем больше любезная с виду бабушка становилась похожа на серого волка. Мэй, смутившись, запротестовала. Ее вполне устраивают ее платья, и она совсем не собирается выходить замуж.
– О, – патетически воскликнула Кларисса, – неужели в Литл-Хилле живет кто-то, кто похитил сердце моей внучки? Молю небо, чтобы он только не был похож на моего бывшего мужа. Юбер! Я тебе о нем рассказывала?
– Тысячу раз, дорогая, – благодушно отозвался адвокат, накладывая себе на тарелку вторую порцию мороженого.
– Однажды я заболела воспалением легких, – сказала Кларисса, блестя глазами. – Моя жизнь висела на волоске, но я выжила, и знаете почему? Потому что у меня не было никакого желания оставлять этого мерзавца, моего мужа, вдовцом. Хватит и того, что он объявил меня мертвой везде, где только можно. Да!
Мэй положила вилку. Застенчивая девушка многое могла стерпеть, но были, были вещи, которые она спускать не собиралась.
– Между прочим, дедушка умер, – сказала она звенящим от негодования голосом. – И… и какой бы он ни был, но он был ваш муж. – Она поискала, что бы еще такого добавить, и в порыве вдохновения выпалила: – А если он был такой плохой, может быть, тогда не стоило вообще за него выходить?
На террасе повисла неловкая пауза.
– Но тогда бы вас тоже на свете не было, дорогая Маргарет, – промурлыкала Кларисса.
– Мэй, – упрямо проговорила Мэй. – Меня зовут Мэй, дорогая бабушка… Кэтрин.
Ее щеки пылали, она сама себя не узнавала, но факт оставался фактом: она дала Клариссе первый бой и, похоже, выиграла. Может быть, сказалось присутствие Амалии, которая, как отлично видела Мэй, не собиралась идти на поводу у хозяйки, а может, в робкой девушке проснулся прадедушка-вояка по материнской линии, который не боялся никого и ничего, а умер в бедности и забвении. Несколько мгновений бабушка и внучка молча смотрели друг на друга, и Амалия отметила, что Кларисса первая опустила глаза.
«Плохо, – подумал Кристиан, который отлично знал непредсказуемую хозяйку дома. – Она ей этого точно не простит».
– Какой у вас, однако, характер, дорогая, – промурлыкала Кларисса, улыбаясь каким-то своим тайным мыслям. – А меня-то уверяли, что вы тихоня, каких поискать. Так как его зовут? – внезапно спросила она.
– Кого?
– Вашего молодого человека. Раз уж вам так не понравилось мое предложение насчет жениха…
– Его зовут Джек, – внезапно сдалась Мэй. – И он еж.
И тут Кристиан с немалым, надо сказать, удовольствием убедился, что Клариссу еще можно ошеломить – хотя это казалось делом практически невозможным. Амалия поглядела на Мэй и улыбнулась, но девушка прочитала в этой улыбке одобрение – и осмелела.
– Я что-то не понимаю, – сказала Кларисса после легкой паузы. – Вы изволите говорить о… о еже? С колючками, да? – Она даже растопырила сверкающие бриллиантами пальцы, показывая, какие именно колючки имеет в виду.
– Да, – подтвердила Мэй, волнуясь. – А еще у меня есть пони. Он мистер Пиквик, как герой у мистера Диккенса. Он очень славный. А если я выйду замуж, я не смогу о них заботиться. Потому что у меня будут… ну… совсем другие дела.
Откинувшись на спинку кресла, Кларисса посмотрела на внучку, как на неизвестное науке удивительное растение, и с легкой иронией покачала головой.
– Боже мой, – уронила она, – моя внучка любит ежа и пони, Кристиан влюблен в автомобили, а Юбер – во времена империи. Господа, вы меня поражаете! Вы даже не представляете, как мне интересно рядом с вами. Кстати, еж знает, что его зовут Джек? – неожиданно осведомилась она.
– Конечно, знает, – ответила успокоившаяся Мэй. – Когда я его зову, он всегда прибегает.
– А мои павлины все разлетелись, зови не зови, – пожаловалась Кларисса. – А еще говорят, что они летают плохо.
– Не беда, – успокоил ее Бланшар. – Купим еще, но в этот раз наденем им на лапки кольца, чтобы все знали, чьи они.
– Я всегда мечтала, чтобы у меня был свой сад с розами и по нему гуляли павлины, – пояснила Кларисса. – Роз у меня теперь столько, что, когда они цветут все сразу, у бедного Юбера начинает болеть голова. А павлины вечно куда-то пропадают.
Обед подошел к концу. Амалия попрощалась с хозяйкой, искренне пожелала Мэй удачи и удалилась. Вслед за ней, откланявшись, ушел и Кристиан де Ламбер. На террасе остались только Кларисса, Бланшар и Мэй.
– Я бы хотела подняться в свою комнату, если вы не возражаете, – сказала Мэй.
– Тебе незачем спрашивать разрешения, дорогая! – вскричала Кларисса. – Считай, что здесь все твое.
– Вы слишком добры, – пробормотала Мэй и поспешила прочь.
Когда она ушла, Кларисса повернулась к адвокату.
– Ну? Что скажешь?
Бланшар вздохнул.
– Очаровательная девушка, твоя внучка, – заявил он. – Правда, немного похожа на…
– На кого?
– На Селестину Ожье, помнишь, ту девицу, которая отравила любовника и лучшую подругу, с которой он ей изменял. Та тоже была такая милая, отзывчивая и постоянно краснела. Помню еще, как она поведала мне, все так же мило краснея, как искала для своих жертв быстродействующий яд, «чтобы они не слишком мучились, а то это как-то не по-людски».
– Да, моей внучке пальца в рот не клади, – сказала Кларисса с расстановкой и задумалась. – Если бы не ее слова о дружбе с ежом и пони, я бы сказала, что она мастер по части использования людей. Есть, знаешь ли, такая неприятная порода женщин – все из себя воздушные да робкие и всех незаметно подталкивают действовать в своих интересах, а когда их поймаешь, делают большие глаза и клянутся, что остальные исключительно по собственному почину готовы ради них расшибиться в лепешку. Заметил, кого Мэй ко мне привела? Не кого-нибудь, а саму баронессу Корф, которая не к каждому герцогу ходит в гости.
– Уверяю тебя, разборчивость этой дамы сильно преувеличена, – отозвался адвокат. – Несколько лет назад она жила здесь с обыкновенным офицером, больным чахоткой, по имени Шарль де Вермон[174]. Потом офицер, как водится, умер, но он был богат и почти все оставил ей, включая виллу. Если я правильно помню, там же, в саду, его и похоронили. Сюда она приезжает каждый год, чтобы ухаживать за могилой.
– Это что, сентиментальность? – прищурилась Кларисса. – Если так, то не нравится мне это. Что бы там ни говорили, в жизни сентиментальность – одна из масок жестокости. Все сентиментальные люди в глубине души отъявленные мерзавцы.
– Нет, не думаю, что это сентиментальность, – ответил Бланшар. – Все, кто мне рассказывал об этой даме, говорили, что человек она очень порядочный. Ты будешь смеяться, но они употребили именно это слово. Правильный, порядочный, справедливый… приблизительно так.
Кларисса поморщилась.
– И все равно она мне не нравится, – решительно сказала она. – Совершенно!
Пока взрослые, умудренные опытом люди внизу на террасе перемывали косточки баронессе Корф, Мэй удалилась в отведенную ей комнату и, закрыв дверь, с превеликим облегчением стала разбирать свои чемоданы. Вот шляпка, вот косыночка, а вот очень практичные туфли для выхода в город, и ничего, что они немножко облупились – под длинной юбкой все равно никто ничего не увидит.
Она разобрала желтый чемодан и принялась за чемодан с царапиной, и тут ее ждало совершенно умопомрачительное открытие, от которого у нее перехватило дыхание.
В чемодане лежала чужая вещь. И мало того, что она была чужой – этой вещи вообще нечего было делать в жизни Мэй.
Девушка испуганно оглянулась на дверь, потом на окно, отложила находку, подошла к двери и заперла ее на ключ, после чего вернулась обратно и стала смотреть на то, что неведомо как попало в ее чемодан.
По правде говоря, Мэй очень хотелось упасть в обморок, но она отлично понимала, что это не решит ее проблему, а наоборот, усугубит ее. Поэтому она решила до поры до времени спрятать находку, а потом… Потом она, пожалуй, найдет какой-нибудь выход.
Она поступила в точности так, как собиралась, и когда спустя некоторое время бабушка позвала ее осматривать сад, на лице Мэй почти не оставалось следов недавнего волнения. Но, разговаривая со старой дамой, она нет-нет да возвращалась мыслью к тому, что лежало в ее чемодане. За ужином девушка почти ничего не ела, а когда легла спать, то долго ворочалась в постели, прежде чем смогла заснуть.
* * *
Набросок письма, найденный в сафьяновой книжечке Мэй Уинтерберри
Дорогая Флора!
Я приехала в Ниццу и уже познакомилась с бабушкой, графом (который был шофером) и миледи Корф, которая летала на шаре и дирижабле. Она лучше их всех, и поэтому я не знаю, уместно ли будет обременять ее своими хлопотами, но мне тут совершенно не с кем посоветоваться, а дело между тем очень деликатное и чуточку странное. Больше я пока ничего тебе не могу сказать.
Я хотела поговорить с Уолтером Фрезером, с которым мы когда-то играли в доме тети Сьюзан. Ты должна его хорошо помнить, потому что однажды он выронил тебя из окна. Он сын подруги тети Сьюзан, а еще он священник. Он живет в городе, и я послала ему записку со слугой. Он прислал мне ответ, что встретится со мной завтра в 11 часов в «Café Anglais»[175].
Я написала письма тете и родителям, чтобы они не волновались, но не хотела их огорчать и написала только то, что могло их успокоить. То, что меня тревожит, я могу поверить только тебе, и в данный момент это вовсе не бабушка, а нечто совсем иное.
Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо, и я сошью тебе новое платье, как у нее. Твоя Мэй.
Глава 10 Искатели приключений
Мистер Уолтер Фрезер, исполняющий обязанности священника англиканской церкви в Ницце, был по природе пунктуальнейшим молодым человеком. Легко поэтому понять его смущение, когда, явившись за полчаса до назначенного времени в «Café Anglais», он увидел, что Мэй уже там и ждет его.
– Здравствуй, Мэй, – сказал Уолтер, подходя к ней. – Очень рад тебя видеть в Ницце! Прости, что заставил тебя ждать.
Он был невысокого роста, темноволосый, с орлиным носом, ямочкой на подбородке и приятным лицом, которое очень красила мягкая улыбка. Мэй помнила эту улыбку с детства и, вновь увидев ее, сразу же приободрилась.
– Ну что ты, Уолтер, – поспешно проговорила она. – Это я сама пришла раньше. Просто… – она порозовела, – просто я больше не смогла там оставаться.
– Из-за бабушки? – Уолтер вскинул на нее глаза.
Мэй тряхнула волосами.
– Она ужасная, ужасная, ужасная! Вчера, когда мы гуляли по саду, и сегодня она говорила… рассказывала такое! О том, как она была счастлива, когда убежала из дому, о том, как ей надоели родственники дедушки, которые вечно у них гостили. Как он из экономии нанимал самую дешевую прислугу, которую приходилось всему обучать, а когда обучишь, она, конечно же, уходит к тем, кто больше платит, и приходится опять начинать по новой. Да что там, – Мэй сделалась пунцовой, – она говорила о… о художниках! И писателях! Которые с ней жили! Как будто мне это интересно! – Мэй вся кипела от возмущения. – Я не знала, куда деться. А сегодня еще при разговоре присутствовал граф де Ламбер… Мне было так неловко! Уолтер, ты в Ницце не первый день, может быть, ты скажешь, зачем такой человек, джентльмен и… и всякое такое, ходит в ее дом?
Уолтер усмехнулся.
– Граф де Ламбер недавно разбил свой автомобиль, на котором выступал на гонках, – сказал он. – Он думал, что отец поможет ему восстановить машину, но тот скуп и не любит расходов. Он отказал Кристиану, тот пожаловался Бланшару, твоя бабушка обо всем узнала и обещала помочь. Впрочем, здесь графа Кристиана считают не совсем comme il faut, потому что он легко заводит дружбу со всякими рабочими и вообще людьми простого звания. Он как-то сказал, что выше любого дворянина ставит человека, который способен разобраться, что не так с мотором. Поэтому местная noblesse[176] его не слишком жалует.
– Значит, все из-за этого, как его, автомобиля, – протянула Мэй. – То-то я сегодня удивилась. Бабушка все переживает по поводу павлинов и сказала ему, что оплатит любой ремонт, если он найдет, куда делись ее павлины. Она даже думает, что на них тайком охотится полковник, живущей напротив. Он служил в Индии, а кто-то ей сказал, что в Индии павлинов едят.
– Как можно есть такую красоту? – рассеянно спросил Уолтер. – Скажи, ты будешь что-нибудь? Что тебе заказать?
Мэй покачала головой.
– У меня нет аппетита. Я со вчерашнего дня все думаю, думаю… – Она осеклась, и Уолтер не стал торопить ее, терпеливо дожидаясь, когда она сама все расскажет.
– Я все время говорю только о себе, – наконец сказала Мэй. – А как ты, Уолтер? Как твои дела?
Молодой человек вздохнул. Больше всего на свете он мечтал из исполняющего обязанности священника стать постоянным священником в Ницце; но назначение на этот пост, которого домогались многие кандидаты, во многом зависело от леди Брэкенуолл, дамы чрезвычайно влиятельной, чрезвычайно родовитой и спесивой. Не только характер леди Брэкенуолл являлся препятствием на пути Уолтерова счастья. Хуже всего было то обстоятельство, что у леди имелись четыре дочери, и все – незамужние. Если я добавлю, что все четверо мисс были страшные, тощие, плоские и с лошадиными зубами, то становится ясно, какой дилеммой терзался милейший мистер Фрезер. Или стать зятем леди Брэкенуолл и остаться в этом городе – или отказаться от выгодного брака и распрощаться с Ниццей навсегда. Третий вариант – жениться на одной из тоще-плоских мисс, получить заветное место и накормить жену мышьяком – Уолтер, как честный человек, не рассматривал.
– Я бы очень хотел задержаться в Ницце, – сказал он Мэй. – Но обстоятельства… – И он вздохнул так, что на столе шевельнулась скатерть.
– Я уверена, что все будет хорошо, – горячо сказала Мэй.
– Ты очень добра, Мэй, – сказал Уолтер с улыбкой. – Скажи, зачем ты позвала меня сюда? Тебе нужна помощь? – Он понизил голос. – Может быть, ты немедленно хочешь вернуться домой? Одно только слово, и я все сделаю.
– Нет, – сказала Мэй, – это не из-за моего отъезда, хотя я думаю, что вряд ли тут задержусь. – Она поколебалась. – Тетя Сьюзан мне сказала, чтобы я, если что, смело обращалась к тебе. И вот… – Мэй сжала руки, – мне нужна помощь. Скажи, Уолтер, ты можешь сходить со мной в казино?
Если бы в это мгновение в милейшего Уолтера Фрезера средь бела дня ударила молния, он и то не был бы сильнее изумлен.
– Мэй, – осторожно спросил он, – я правильно тебя понял? Ты собираешься, э… туда, где играют и делают ставки?
– Да, – подтвердила Мэй, – но мне говорили, что девушке одной ходить туда неприлично. Так что я подумала о тебе.
Уолтер Фрезер был священником. Стало быть, он имел понятие о том, что такое грех; и, стало быть, знал, чего можно ждать от людей. Но все равно в голове у него никак не укладывалось, что Мэй по своей воле выразила желание пойти в казино. Кто угодно, только не она!
– Хорошо, – сказал он наконец, – я пойду с тобой. Но, Мэй, зачем это тебе?
Мэй озадаченно моргнула.
– Просто я хочу выиграть деньги, – по-детски бесхитростно объяснила она.
– Тебе нужны деньги? Мэй, я…
– За завтраком шла речь о казино, и мистер Бланшар сказал, что новичкам везет. Вот я и хочу проверить, повезет мне или нет.
У Уолтера голова пошла кругом.
– Только меня смущает одна вещь, – добавила Мэй. – Это правда, что, если я проиграю, казино мне ничего не вернет?
– Казино никогда никому ничего не возвращает, – сказал Уолтер, приходя в себя. – Хотя… хотя, по правде говоря, был один случай. Но это, конечно, исключение.
Мэй загорелась любопытством.
Уолтер вздохнул и стал рассказывать, как офицер одного корабля (к чести нашей родины стоит отметить, что корабль был российский), – так вот, офицер этот отправился в казино и так увлекся, что проиграл все до последней полушки, включая корабельную казну. Тут офицер, как водится, одумался и вспомнил, что ставить на кон казну не имел никакого права, что это бесчестье и вечный позор. Поэтому отправился к руководству казино и попросил войти в положение. Со свойственным ему бессердечием руководство отказалось, присовокупив, что ежели каждый игрок будет просить возвращать проигранное, то эдак они скоро разорятся.
После такого ответа офицеру только и оставалось, что застрелиться и кровью смыть содеянное, но он нашел куда более остроумный выход. Он вернулся на корабль, приказал выйти в море и направил пушки на казино, после чего предъявил руководству ультиматум: или он разнесет заведение в щепки, или ему вернут то, что он проиграл. Что касается международного скандала, то его не будет, потому что мало ли что может произойти в море во время учений. Ну, выстрелили разок не туда, и потом, здесь явно не та армия, чтобы объявлять России войну.
…Это был первый и последний раз, когда игроку вернули проигранное. Однако с тех пор и до нынешнего дня российским морским офицерам в казино путь закрыт. Так, на всякий случай.
– Какая жалость, что у меня нет пушек, – сказала Мэй, выслушав поучительный рассказ своего друга. – Будем все-таки надеяться, что мистер Бланшар сказал правду. Кстати, как нам добраться до Монако?
– Проще всего доехать на поезде, – ответил Уолтер.
– Тогда едем на вокзал? – предложила Мэй, лучезарно улыбаясь.
Вот так англиканский священник и его подруга детства вскоре оказались в казино, где в этот час шла довольно бойкая игра. На столах сверкало золото, вертелось колесо рулетки, кто-то радостно смеялся, кто-то в отчаянии заламывал руки.
Мир рулетки издавна притягивал писателей, и, будь Мэй одним из них, она бы не преминула заменить немало любопытного. Но девушка пришла сюда только с одной сугубо практической целью – выиграть. Поэтому она стала присматриваться, как выигрывают остальные.
Можно было поставить на число, но чисел слишком много, и Мэй справедливо рассудила, что шансы заветного шарика попасть именно на ее число ничтожно малы.
Можно было свести риск к минимуму и ставить только на красное или черное, но в этом случае выигрыш оставлял желать лучшего.
– А что это он делает? – спросила Мэй у своего спутника, указывая на молодого человека, который только что сделал ставку.
– Он ставит на зеро, – пояснил Уолтер.
Тут только Мэй разглядела, что на вертящемся колесе, кроме чисел, присутствовала и обескураживающая цифра «ноль».
– А что это значит? – спросила она.
Уолтер объяснил, что если поставить на зеро и оно выпадет, то выигрыш будет самый большой. Если ставок на зеро в этот момент не будет, все отходит казино. Но зеро выпадает редко.
Тем не менее неизвестный молодой человек поставил на зеро шесть раз подряд, пока не проиграл все, что у него было. После чего, криво улыбаясь, ушел.
По правде говоря, Мэй подмывало уйти следом за ним. В отличие от большинства людей здесь, в казино, она не чувствовала ни азарта, ни желания испытать удачу, ни вдохновения переиграть судьбу. Ее не покидало ощущение, что она стоит перед какой-то большой и равнодушной машиной – не враждебной, а именно что до ужаса равнодушной. Шарик прыгает, колесо вертится, «faites vos jeux»[177], «les jeux sont faits»[178], старый игрок, проигравший все, закусывает губы, дама в мехах радуется… «И какие неприятные у всех лица! – подумала пораженная Мэй. – Какие искаженные, неестественные…»
И тут ее словно мягко ударила в грудь волна – и понесла, понесла; она уже не видела ни алчных лиц, лиц несчастных, ни делано равнодушных; ее озарило. Это было именно озарение.
«Я должна поставить на зеро… Сейчас».
Дрожа, она приблизилась к столу и сделала ставку – так стремительно, что Уолтер даже не успел ее удержать. Она поставила все, что у нее было, – кроме десяти франков и какой-то мелочи. Теперь, если бы она проиграла, ей было бы не на что вернуться на родину.
– Зеро, – сказала она и сама удивилась своему хриплому, словно чужому голосу.
Крупье равнодушно взглянул на нее, и машина вновь завертелась.
– Faites vos jeux… Les jeux sont faits.
Колесо закрутилось, шарик заметался. «Поскорее бы это кончилось», – только и успела подумать Мэй. Она посмотрела на Уолтера, и ей показалось, что она уловила на его лице сочувствие. А Уолтер терзался, что внял просьбе своей подруги детства и привел ее в этот вертеп, где, конечно…
Дама в мехах сдавленно охнула и вцепилась в локоть своего спутника, кто-то уважительно посмотрел на Мэй. Колесо остановилось.
– Дамы и господа, зеро!
Позже, когда Мэй пыталась вспомнить, что именно она ощутила тогда, когда первый и последний раз в жизни играла в казино – и выиграла! – она не могла припомнить ничего, кроме ощущения – выражаясь языком штампа – горы, упавшей с плеч.
Да, горы, ничуть не меньше.
Все вокруг сразу как-то засуетились, расцвели улыбками, и вышколенный служитель сразу же сгреб выигрыш Мэй в кучу и пододвинул к ней, а другой служитель тотчас же возник возле, сияя любезной улыбкой.
– Мадемуазель еще будет делать ставки? Сегодня у мадемуазель счастливый день! Вы обязательно должны попробовать, вам непременно повезет!
Потому что нельзя ведь позволить удалиться человеку, который в первый раз – это же очевидно – явился в казино и сразу сорвал такой куш. Пусть еще задержится, поиграет, проиграет как можно больше…
– Я больше не буду играть, – решительно сказала Мэй. – Мне тут не нравится.
Улыбка сразу же померкла.
– Мне кажется… – несмело вставил Уолтер, – тут положено оставлять крупье на чай.
На чай так на чай: она взяла, не глядя, самую большую монету и подала ее крупье, а потом стала засовывать выигрыш в сумочку.
Уходя, она еще слышала, как дама в мехах прошипела своему спутнику:
– Я тебе говорила, надо было ставить на зеро!
Глава 11 Павлиний вопрос
– А теперь куда? – спросил Уолтер, когда они вышли из казино.
– Теперь, – объявила Мэй, – я должна купить духи.
В это мгновение Уолтер понял, что, как и все знакомые мужчины, он ничего не понимает в женской логике. Однако парфюмерный магазин выглядел куда более невинно, чем казино, и мистер Фрезер покорился судьбе.
Надо сказать, что с точки зрения Мэй все выглядело совершенно логично. Миледи Корф отдала ей духи взамен тех, которые сама Мэй по неловкости разбила. Поскольку Мэй пообещала ей, в свою очередь, другие, слово следовало сдержать. Беда лишь в том, что у Мэй, как говорилось выше, денег было в обрез. Где на Лазурном Берегу можно взять деньги? Конечно же, в казино. Одной туда идти не совсем прилично, и поэтому она захватила с собой Уолтера.
Как видим, у Мэй все было продумано до мелочей, а в сотне шагов от казино она увидела большую лавку с надписью «Parfumerie parisienne»[179].
Оказавшись внутри, Мэй с наслаждением вдохнула пропитанный ароматами воздух. На зеркальных полках дремали десятки коробок с запечатанными флаконами, тут же стояли флаконы попроще – с одеколоном, ниже было разложено мыло, зубной порошок, пудра и прочие необходимые спутники и слуги красоты. В центре лавки располагался стол с изогнутыми ножками, на котором лежали парфюмированные веера и стояли открытые флаконы духов – для пробы.
– Que désire mademoiselle?[180]
Почуяв покупательницу, к Мэй тотчас же подошел приказчик, холеный брюнет средних лет.
– Я ищу духи, – по-французски сказала Мэй.
Приказчик покосился на простенькое платье Мэй и на ее спутника, также одетого достаточно скромно, на всякий случай сообщил, что у них имеются новинки «Риго», «Пино», «Любэна», «Герлена» и прочих и он возьмет на себя смелость рекомендовать мадемуазель…
Он уже собирался назвать недорогие духи, которые покупали в основном гувернантки, но тут Мэй прервала его:
– Мне нужны очень хорошие духи, месье. И лучше дорогие.
Приказчик по долгу службы привык ничему не удивляться. Здесь, на Лазурном Берегу, он насмотрелся на вчерашних бонн, которые выходили за богачей, и разорившихся аристократов, которые устраивались приживалками. Поэтому он, не тратя лишних слов, подвел Мэй к столу и стал один за другим подавать ей флаконы самых изысканных, самых дорогих духов, сопровождая каждый кратким комментарием.
– Прошу, мадемуазель… «Фиалковый бриз» – если вы любите фиалки. Певицам не рекомендуется, запах фиалок плохо влияет на связки. «Рококо по-парижски», прелестнейшая вещь. «Дамский каприз», отменный аромат для званого вечера. Вы желаете духи для себя или в подарок?
– В подарок, – сказала Мэй и, подумав, добавила: – Подруге.
– Это замечательно, – серьезно сказал приказчик. – Вот, не угодно ли: «Прекрасная эпоха», само очарование. Весьма популярны эти духи, о них везде пишут: «Сад моего священника». «Прекрасная незнакомка» вам, наверное, не подойдет, духи с таким названием предпочитают дарить мужчины.
– А «Бал у принцессы», это что? – заинтересовалась Мэй.
– Прекрасные духи для молодой девушки, – ответил приказчик, – впрочем, это далеко не новинка. Есть еще «Уголок фей», также очаровательный дневной аромат для барышни. – Он оглядел полки. – Был у нас последний «Герлен», духи под названием «Гавот», но, боюсь, мы все уже продали. Вам что-нибудь понравилось?
– Слишком много ароматов, – сказала Мэй извиняющимся тоном. – Я уже мало что чувствую. Помню, что-то пахло розой, но мне понравились другие духи.
– Возьмите наши веера, – посоветовал приказчик. – Так гораздо удобнее выбирать аромат.
Мэй обмахнулась веером, на котором было написано: «Рококо по-парижски», затем взялась за «Прекрасную эпоху», не оставила вниманием «Бал у принцессы», а под конец взяла веер, на котором значилось «Сад моего священника». На самом деле все ей нравилось безумно, и она переживала, не зная, на чем остановиться.
– Вы можете взять наши веера с собой и вернуться, когда определитесь, – сказал приказчик, видя, что она колеблется.
– Они очень милы, – искренне сказала Мэй и решилась: – Думаю, я возьму два флакона… пока.
И так предупредительный, приказчик на глазах превратился в короля галантности. Он заверил Мэй, что она сделала наилучший выбор, принял деньги, выдал сдачу и принялся упаковывать покупки.
– Только, пожалуйста, положите «Рококо» отдельно, а «Прекрасную эпоху» заверните как подарок, – сказала Мэй. «Рококо» она решила оставить себе как память о своем выигрыше.
Зазвенел колокольчик, и в лавку вошли двое.
– Думаю, можно купить мыло здесь, – сказала дама.
Услышав знакомый голос, Мэй повернулась и увидела молодую женщину из «Золотой стрелы», ту самую, которая устроила сцену в вагоне-ресторане. Но это было еще не все. Любопытнее всего оказалось то, что даму преспокойно сопровождал ее муж, тот самый, которого она так неистово обличала в измене. Пусть лицо его нельзя было назвать слишком счастливым, со стороны эти двое выглядели как вполне пристойная пара.
Дама с легким вызовом посмотрела на Мэй, подошла к витринам и стала рассматривать мыло. Приказчик положил Мэй в подарок дюжину вееров, надушенных ароматами, которых она пока не купила, и заверил ее, что они всегда, всегда будут ждать ее в своем магазине.
– Благодарю вас, сударь, – сказала Мэй на своем очаровательном французском. – До свидания.
Она забрала свои покупки и удалилась в сопровождении Уолтера, а приказчик занялся новыми покупателями.
– Как это странно, – сказала Мэй своему спутнику, когда они вышли на улицу. – Люди такие непостоянные!
– Что ты имеешь в виду? – удивился Уолтер.
Не утерпев, Мэй рассказала ему о том, свидетельницей какой сцены оказалась в вагоне, и упомянула, что муж, который прямым текстом желал жене умереть, – это тот самый господин, под руку с которым она столь непринужденно вошла в «Парижскую парфюмерию».
– Это граф Теодор де Мирамон, – сказал Уолтер, – а дама – его жена. Ее отец известный делец, а дед был всего лишь ростовщиком. Этот брак здесь считают мезальянсом, по крайней мере, леди Брэкенуолл так и сказала. Я слышал, Матильда с детства была влюблена в графа, а когда подросла, стала делать все, чтобы его добиться. У его семьи в ту пору дела шли неважно, и возможно, что тут и в самом деле поработал отец Матильды. В конце концов граф женился на ней, однако этот брак не принес им счастья. Граф не хранит верность жене, а она… ты сама видела, как она к этому относится.
– Да, но как графиня могла простить ему такие ужасные слова? – сердито спросила Мэй. – Ты же видел ее лицо – она улыбалась! Как хочешь, а этого я понять не могу.
– Да, но подумай сама – что ей делать? – возразил Уолтер. – Разводиться? Это же немыслимо!
Мэй задумалась.
– Между прочим, баронесса Корф сразу сказала, что так все и кончится, – проговорила она. – Я имею в виду, что граф вернется к жене. Интересно, откуда она могла это знать? – Она вздохнула. – Ладно, идем на вокзал.
– Мы возвращаемся в Ниццу? – спросил ее спутник.
– Да, – сказала Мэй, – а когда вернемся, сразу же поедем к баронессе. Я должна отдать ей духи.
На вокзале в ожидании поезда Мэй купила все последние газеты и в вагоне внимательно прочитала их. Когда она отложила газеты, Уолтер заметил на ее лице беспокойство.
– Странно, – сказала Мэй, ни к кому конкретно не обращаясь. – Очень странно.
Приехав в Ниццу, они взяли наемный экипаж и отправились на виллу «Шарль», где жила баронесса Корф. Экипаж оказался старым облезлым фиакром, который, похоже, эмигрировал на Лазурный Берег прямиком из Парижа восьмидесятых годов прошлого, то бишь восемнадцатого века. Лошадь тоже была не первой молодости, но тем не менее в экипаже Мэй чувствовала себя куда увереннее, чем в фырчащем монстре с паровым мотором.
– Только бы она никуда не уехала! – прошептала Мэй.
Однако баронесса Корф оказалась дома и тотчас приняла гостей.
Краснея, Мэй вручила ей свой подарок. Амалия взглянула на духи и улыбнулась. Когда она уезжала из Парижа, один из ее поклонников поднес ей на прощание аромат, и так как она ничуть не дорожила этим поклонником, то с легкостью передарила флакон Мэй, не принимая всерьез обещание девушки поднести другие взамен. Однако Мэй сдержала свое слово и подарила ей «Прекрасную эпоху». «Интересно, – подумала Амалия, которая ничуть не обольщалась относительно людей, – какое у нее дело ко мне теперь?»
– Какое забавное название, – сказала она, не подозревая, что однажды ярлык «Прекрасной эпохи» прочно приклеится к их времени, а сама эпоха продлится вплоть до начала десятых годов двадцатого века, – до Первой мировой войны, которая перевернет Европу. – Не буду спрашивать, как поживает ваша бабушка, – продолжала Амалия. – Я только надеюсь, что вы не слишком от нее натерпелись.
– Должна сознаться, миледи, что я пришла к вам поговорить о ней, – проговорила Мэй, волнуясь.
– Тогда вам лучше сначала сесть, – заметила Амалия. – И вам тоже, мистер Фрезер. А теперь, мисс Мэй, давайте откровенно. Я могу дать вам какой-нибудь совет, но боюсь, что с таким человеком, как ваша бабушка, все советы окажутся бессмысленны. Вы понимаете меня?
Мэй закусила губу.
– Дело в том, – наконец решилась она, – что я попала в ужасное положение.
Амалия вздохнула и расправила концы темно-зеленого шелкового банта, который украшал ее платье.
– Последний раз, – сообщила она, – я слышала такие слова от девушки, которой на балу сделали предложение сразу трое кавалеров.
– И что вы ей посоветовали? – спросил Уолтер, улыбаясь.
– Выйти за всех трех – по очереди, конечно. Шучу. На самом деле было трудно ей что-то подсказать, потому что она была влюблена в четвертого.
– Я думаю, – дипломатично сказал священник, – ей просто надо было дождаться другого бала.
– Вы все понимаете, мистер Фрезер, – с улыбкой сказала Амалия. – Конечно, дело именно в этом.
Однако Мэй, слушая эту историю, даже не улыбнулась.
– Так что у вас стряслось? – спросила баронесса.
– Сначала я даже не знала, что подумать, – выпалила девушка. – И вспомнила про поезд. Но я прочитала газеты, в поезде ничего не произошло. Значит, это шутка. Но для шутки это слишком жестоко, по-моему.
Амалия и Уолтер переглянулись.
– Боюсь, я совершенно не понимаю, о чем идет речь, – проговорила Амалия своим обычным благожелательным тоном. – Может быть, вы расскажете все с самого начала, по порядку?
– Я даже не знаю, с чего начать, – сказала Мэй, волнуясь. – Я нашла это в чемодане. Я не знала, что мне делать, и до сих пор не знаю. Мне совсем не с кем посоветоваться. И вообще все это настолько странно!
– Что именно вы нашли? – терпеливо спросила Амалия.
Мэй испуганно взглянула на нее, залезла в сумочку и достала с самого дна небольшой сверток, упакованный в несколько слоев бумаги.
– Вот, – сказала она, отодвигая сверток от себя, словно он был гремучей змеей и мог ее укусить. – Вот что я нашла в своем чемодане. Что он там делал, я не знаю. И что все это значит, тоже.
Амалия посмотрела на ее лицо, на сверток, лежащий на столе, и развернула бумагу. Внутри обнаружился острый нож, покрытый темными пятнами, и испачканный носовой платок без меток.
– Это похоже на кровь, – сказала Амалия голосом, который неожиданно стал тяжелым.
Мэй кивнула.
– Я тоже так подумала, – призналась она. – Может быть, мне стоит обратиться в полицию? Только я… я боюсь.
Амалия поставила локти на стол и соединила кончики пальцев.
– Давайте подведем кое-какие итоги. Вы выехали вчера из Парижа, как и я. Смею думать, когда вы упаковывали свои чемоданы, ничего подобного в них не было. Когда вы приехали в Ниццу, стали разбирать вещи и нашли это.
– Я подумала, может быть, в поезде кого-нибудь убили, а нож подбросили мне, – прошептала Мэй. – Но я видела утром даму в синем, а потом встретила ее в Монако. Тогда я решила, что дело, может быть, вовсе не в ней, и купила газеты. Если бы в «Золотой стреле» произошло преступление, об этом бы везде писали, но нигде ни о чем таком не сообщается. И тут я вспомнила о золотых ложках.
– Каких еще ложках? – спросила Амалия.
– Это ложки, которые по распоряжению ее бабушки подбросили в вещи одного из наследников, – раздался веселый голос от дверей.
Мэй тихо вскрикнула. Уолтер вскочил на ноги. На пороге стоял Кристиан де Ламбер. Улыбаясь, он переводил взгляд с одного лица на другое.
– Вы уже вернулись? – сердито спросила Амалия. – Неужели нашли павлинов?
Кристиан кивнул и прошел в комнату.
– Представьте себе, – объявил он, глядя на Амалию блестящими, восторженными глазами. – Они все перебрались к вам.
…Когда Кларисса потребовала от Кристиана найти ее драгоценных павлинов, граф не на шутку озадачился. Однако он был человеком действия и прежде всего отправился в модный магазин Альфонсины, где продавались шляпки.
Там граф разговорился с одной из продавщиц о том, откуда они берут павлиньи перья, и узнал, что никто из слуг полковника Картрайта перья не поставляет. По мысли Кристиана, это означало, что полковник не имеет отношения к исчезновению птиц – ибо, если бы он повадился лакомиться павлиньим рагу, неизбежно оставались бы дорогие перья, а раз так, слуги не устояли бы перед соблазном продать их. Для очистки совести граф проверил еще несколько шляпных магазинов и убедился, что никто из слуг полковника ничего туда не предлагал.
Поэтому Кристиан стал искать, куда могли бы перебраться птицы, так сказать, естественным путем. Он стал следить за последним оставшимся, маленьким и довольно невзрачным, который еще оставался у старой дамы, и вскоре сделал несколько поразительных открытий.
Главное заключалось в том, что павлин – птица двуличная, и хоть и кажется неповоротливым, на самом деле, когда ему надо, может бежать быстрее лошади. Кроме того, павлин с его огромным хвостом и крикливым голосом умеет прятаться так, что черта с два его сыщешь.
Итак, Кристиан проследовал за птицей сквозь дикие заросли. Он едва не свалился в канаву, напоролся на какой-то необыкновенно колючий кактус и в конце концов вынужден был констатировать, что последний павлин, который мог прояснить тайну исчезновения своих сородичей, бесследно скрылся, оставив его с носом.
Тогда Кристиан пошел наугад и через несколько минут оказался в огромном, красивом саду с видом на море. Под деревом виднелась могильная насыпь и стоял простой белый крест, а в нескольких шагах от него установлена деревянная скамья.
Кристиану стало малость не по себе, но тут его заметил один из слуг и осведомился, что угодно его милости в саду баронессы Корф. Кристиан приободрился, предстал перед ясные очи Амалии и попросил разрешения осмотреть ее земли.
– Мне кажется, – объяснил он, – павлины мадам Клариссы должны быть где-то неподалеку.
Амалия вздохнула и сказала, что, если ему угодно искать пропажу, она ничего не имеет против, но сомневается, чтобы пернатые были в состоянии преодолеть несколько километров, разделяющих ее виллу с той, где живет мадам Фортескью.
– Ну, как сказать, как сказать, – протянул Кристиан. – По-моему, это невероятно хитрые существа!
Он поклонился баронессе, вышел из дома и углубился в лес.
Миновав его, он оказался возле небольшого озера, на поверхности которого плавали кувшинки. Посреди озера виднелось нечто вроде островка, на котором высились романтические руины, возведенные здесь по приказу одного из прежних владельцев.
Там и сям по берегам озера и на островке расхаживали павлины, сбежавшие от Клариссы Фортескью. Судя по их виду, удрали они по одной-единственной причине, которая одинаково работает как для людей, так и для всех прочих живых существ: просто здесь им гораздо лучше, чем там.
Кристиан полюбовался на них, но тут некстати вспомнил о том, зачем пришел сюда, и закручинился. Ремонт дорогого его сердцу автомобиля зависел от того, сумеет ли он решить павлиний вопрос, а тот был решен только наполовину. Кристиан предчувствовал нелегкий разговор с Амалией и на обратном пути размышлял, как бы уговорить ее вернуть павлинов, не настраивая против себя. По вчерашнему обеду он составил мнение, что если Амалия и пожелает когда-нибудь пойти Клариссе навстречу, то это произойдет примерно при таких же условиях, при которых руководство монакского казино однажды пошло навстречу проигравшемуся русскому офицеру. А ведь Кристиан находился в куда менее выгодном положении. По крайней мере, у него не было ни корабля, ни пушек.
Граф вернулся к белой вилле, на которой жила Амалия, и поднялся по ступеням. Он собирался уже войти в гостиную, когда услышал чрезвычайно любопытный разговор – и замер на месте.
Нам бы очень хотелось сказать, что Кристиан не собирался подслушивать чужие тайны и все вышло случайно, но это будет неправдой. Как человек воспитанный, он мог бы отойти от двери либо обнаружить свое присутствие сразу же. Однако граф выслушал все до конца и только тогда счел нужным вмешаться.
Глава 12 Незваные гости
– Да, – сказал Кристиан, – все павлины сбежали на ваши земли и поселились возле озера, где еще стоят такие романтические руины. – Он выразительно подчеркнул голосом слово «романтические».
Амалия вздохнула.
– Кажется, эти руины называются «Приют отшельника», – заметила она. – Вы правы, они действительно находятся на моей земле.
– А что касается ножа, – продолжал граф, – то я уверен, что это еще одна из милых шуточек старой дамы. Вчера мисс Мэй показала характер, ну, а мадам Кларисса решила объяснить ей, кто в доме хозяин.
Он с непринужденным видом поглядел на Уолтера, который весь кипел.
– Должен вам заметить, мсье… – начал англичанин.
Он собирался высказать нахальному французу все, что думал о его бесцеремонном вторжении, но вмешалась Амалия, которая не терпела ссор в своем доме и сразу же их пресекала.
– Сначала я. Не буду скрывать, – обратилась она к Мэй, – репутация вашей бабушки всем прекрасно известна, равно как и то, что она не жалует претендентов на наследство. Только…
– Что? – быстро спросила девушка.
– В подбрасывании вам окровавленного ножа нет никакого смысла, – твердо ответила Амалия. – Кроме того, меня настораживает обстоятельство, что именно в то время, когда в ваш чемодан могли положить это, – она кивнула на сверток, – у меня пропала перчатка.
– Вы потеряли перчатку? – удивился граф.
– Я никогда ничего не теряю, – сухо ответила Амалия. – Окно в купе было открыто, но перчатка все-таки не листок бумаги, чтобы ее унес порыв ветра. Думаю, ее кто-то взял.
– Но зачем? – спросил молодой священник.
– А зачем подбрасывать в чемодан нож и окровавленный платок?
– Чтобы испугать, – ответил Кристиан.
– Допустим. Но чтобы пугать таким образом, нужно иметь совершенно иной склад ума, чем у мадам Клариссы.
Уолтер задумался.
– А вдруг она рассчитывала, что Мэй… что мисс Уинтерберри испугается настолько, что сразу же уедет?
– Думаю, мадам Кларисса хорошо знает людей, – уронила Амалия в пространство. – И ей должно быть известно, что, когда на кону миллион, человека не испугать даже пушкой.
– И все-таки, – упрямо продолжал Уолтер, – если даже мы допустим, что произошло какое-то преступление, о котором мы не знаем…
– И о котором не знают даже газеты, а это гораздо хуже, – вставил Кристиан с улыбкой.
– Тем не менее, какой смысл подбрасывать постороннему человеку орудие убийства, когда его всегда можно выбросить?
– Наконец-то мы произнесли слово «убийство», – усмехнулась Амалия. – Подумайте, мистер Фрезер: там, где убийство, там неминуемо и следствие. А следствие всегда ищет преступника, и ищет его по уликам и показаниям свидетелей. Только главная улика – вот она. – Амалия кивнула на нож. – Зачем искать кого-то еще?
– Но в поезде не совершили никакого убийства, – напомнил Кристиан. – Иначе газеты давно бы об этом раструбили. Почему вам так нравится отрицать очевидное, госпожа баронесса?
– Потому что у меня пропала перчатка, – с улыбкой ответила Амалия. – И потому, что у меня нет привычки терять вещи.
– Простите меня, сударыня, но я не вижу связи, – сказал Уолтер.
– Лично я думаю, что все было гораздо проще, – поддержал его Кристиан. – На вилле к обеду зарезали курицу, и Кларисса решила разыграть свою внучку. Отсюда и окровавленный нож, и платок.
– Вы высказали очень разумную мысль, господин граф, – сказала Амалия. – Надо прежде всего проверить, что за кровь на платке – человеческая или чья-то еще. Я предлагаю следующее. Поскольку в этом деле замешаны интересы мисс Мэй, мы пока будем обо всем молчать. Мистер Фрезер?
– Я согласен, – быстро ответил священник.
– Господин граф?
– Можете на меня положиться, я нем.
– Вот и прекрасно. Нож и платок я оставляю у себя. Мой знакомый сделает необходимые анализы и скажет, с чем мы имеем дело. А пока будем ждать новых странностей.
– Я не понимаю вас, госпожа баронесса, – проговорил Кристиан после паузы.
– По-моему, все предельно просто. Странности – это то, что нарушает привычное течение вещей. Пока у нас есть только три. Номер один: нож и платок в чемодане Мэй. Номер два: моя перчатка. И номер три: труп.
– Но никакого трупа нет! – вырвалось у священника.
Амалия усмехнулась.
– Вот это и есть самая большая странность, – сказала она, блестя глазами. – Потому что труп должен быть. Иначе не было бы ножа. – Она рассмеялась. – Боже, мы ведем глубокомысленные беседы, совсем как в детективных романах! Ну ничего, будем верить, что вскоре все прояснится. А пока – не желаете ли вы отобедать у меня? Обещаю, за столом не будет никаких разговоров о преступлениях!
* * *
Около одиннадцати утра мисс Мэй встретилась с мистером Уолтером Фрезером, а затем они поехали в Монако.
Пока на вилле «Шарль» четверо друзей совещались по поводу странной находки, хозяйка виллы «Маршал» приняла у себя невзрачного плешивого человечка, наделенного, однако, чрезвычайно цепким и все примечающим взором. По поручению Клариссы и Бланшара человечек, носивший красивое имя Раймон Босежур, должен был выяснить, для чего милая Мэй, едва приехав, сразу же покидает любящую – ну хорошо, пусть вредную – бабушку и что она вообще замышляет.
– В Монако? – поразилась старая дама. – Что она там забыла?
Раймон кашлянул, чтобы скрыть улыбку.
– Она играла в казино, – доложил он.
– Моя внучка Мэй? – Кларисса оторопела.
– И выиграла, – без зазрения совести донес Раймон. – Большие деньги.
– А потом? – спросил Бланшар, присутствовавший при разговоре.
– Потом она завернула в магазин духов, а после отправилась в гости к баронессе Корф, где вместе с Фрезером пробыла довольно долгое время. Когда они уходили, я услышал, как баронесса предлагала им экипаж, чтобы довезти до вашей виллы, но мадемуазель Мэй сказала, что они пойдут пешком. Так что они скоро будут здесь, ну, а я поспешил к вам, чтобы обогнать их.
– Что с тобой, дорогая? – встревожился Бланшар, по мнению которого пауза после слов Раймона слишком затянулась.
– В этом тихом омуте прячутся какие-то любопытные черти, – объявила Кларисса. – Неужели ее не предупреждали, что я терпеть не могу тех, кто ходит в казино?
– Зато теперь можно не ломать голову, как нам от нее отделаться, – заметил бессердечный адвокат.
– Такое впечатление, что она совсем мною не интересуется, – с возмущением продолжала старая дама, поправляя бриллиантовое кольцо. – Где игра на рояле, где распевание песенок, которые будто бы должны мне понравиться, хотя я никогда ничего не понимала в музыке? Где пылкие речи о том, что она всегда мечтала иметь такую щедрую бабушку, как я? Где фотографии родственников, женихов и любимых собачек, которые должны меня разжалобить? Где разговоры о родной крови, наконец? Вместо всего этого рассказ о еже, пять фраз вчера в саду и еще три – за едой, причем самой длинной была просьба передать соль.
– Дорогая, – сказал Бланшар, целуя Клариссе руку, – я уверен, стоит тебе только выразить желание, и она примется петь с утра до ночи. Но если она будет так же фальшивить, как предыдущая, нам же с тобой будет хуже.
Кларисса вздохнула, объявила Раймону, что вызовет, если его услуги снова ей понадобятся, велела адвокату оплатить проделанный труд и отпустила.
– Какого ты вообще о ней мнения? – спросила старая дама, когда они с Бланшаром остались наедине.
– О твоей внучке? – Бланшар почувствовал, что они ступили на скользкую почву, и оттого переспросил, чтобы выгадать чуть больше времени для ответа.
– Мы говорим о Мэй и только о ней, – стальным голосом сказала Кларисса, которая знала наизусть его уловки. – Ну? Ты по-прежнему утверждаешь, что она похожа на какую-то там отравительницу?
– Прости, дорогая, это все мой опыт общения с людьми, который заставляет предполагать худшее, – ответил адвокат, усмехаясь. – Что ты хочешь узнать? По-моему, она чрезвычайно провинциальная и чрезвычайно застенчивая особа, которая чувствует себя не в своей тарелке с тех пор, как переступила этот порог.
– Эта застенчивая особа уже мне надерзила, – напомнила Кларисса. – И теперь, вместо того чтобы обхаживать меня и петь песенки, сбежала к этой русской баронессе, которую знает так же мало, как меня. Как хочешь, Юбер, но здесь что-то нечисто!
– Может быть, она узнала о твоем завещании? – предположил адвокат.
– Откуда?
– Не знаю, но это не та информация, которую можно хранить в секрете вечно. Допустим, твоя внучка разузнала о завещании, поняла, что ловить ей нечего, и решила…
Его прервал слуга, объявивший, что мадемуазель Мэй только что вернулась на виллу. А так как Кларисса обладала ничуть не менее цепким взором, чем ее шпион, она сразу же заметила, что внучка выглядит гораздо непринужденнее, чем вчера или хотя бы сегодня утром. И в самом деле, открывшись Амалии, Мэй почувствовала себя так, словно с души упал камень.
– Где вы были, милочка? Уж не искали ли жениха? – полюбопытствовала Кларисса невинным тоном. Яду в нем было столько, что даже индийская кобра умерла бы на месте от зависти.
– Я думала, у нас вчера уже был разговор на эту тему, – проговорила Мэй, розовея. Только сейчас ей пришло в голову, какие слухи могут пойти о ней с Уолтером из-за того, что их целый день видели вместе.
– Ежи и пони – это, конечно, хорошо, – заметила Кларисса. – Но ведь детство когда-нибудь должно кончиться, не так ли?
– Наверное, вы правы, – бесхитростно согласилась Мэй. – А вчера на обед резали курицу?
…В детективных романах, которые она читала, этот прием – ошеломить противника с наскоку – срабатывал безотказно. Сработал он и сейчас, но зато так, что лучше бы и не срабатывал. Бланшар, который раскуривал папиросу, от неожиданности уронил спичку на роскошный шелковый ковер и прожег дырку. Что касается старой дамы, то у нее был такой озадаченный вид, словно она впервые в жизни услышала о существовании кур. Она была так ошеломлена, что сказала чистую правду.
– На обед у нас не было никакой курицы, и на ужин тоже. А что? У тебя дома есть какая-нибудь любимая курица и ты поэтому не любишь их есть?
– Нет, – сказала Мэй. – Просто мне показалось, что курица была. Или еще что-то такое… мясное.
– Телятина, но ее нам доставляют от лучшего в Ницце мясника, – пояснил Бланшар, когда кончил яростно затаптывать горящую спичку. – А у вас в Лителилле, – так он на французский манер переиначил Литл-Хилл, – что, едят только своих животных?
– Нет, – отозвалась Мэй, лучезарно улыбаясь, – это я просто так спросила.
Тут только Кларисса обратила внимание на то, что из ковра идет дым.
– Юбер! – рявкнула она.
– Знаю, это я прожег, – несчастным голосом ответил адвокат.
– Да? – неопределенным тоном протянула Кларисса. – Ну и хорошо, он все равно мне надоел. Уберем и купим новый.
Она с треском раскрыла веер и стала обмахиваться, но тут вернувшийся слуга доложил, что пришел господин Депре с коллегой и покорнейше просит его принять.
– Что еще за Депре? – капризно спросила Кларисса. – Не знаю такого.
Слуга вздохнул, наклонился к ее уху и пробормотал несколько слов, после чего лицо старой дамы слегка изменилось.
– Полицейский! Ну что ж, проси!
И господин Депре с коллегой были милостиво допущены в малую гостиную, где в углу стояла статуя работы Кановы, а на стене висел портрет воздушной кисти Натье.
«Что все это значит?» – холодея, подумала Мэй.
С ее точки зрения, Депре выглядел как типичный сыщик из романов: худой, жилистый, с печатью усердия на лице. Зато коллега, который, очевидно, за незначительностью чина так и не представился, являлся его полной противоположностью. У него была добродушная физиономия любителя хорошо поесть и в меру выпить. Сам он был крупный и мощный, если не сказать толстый. Такие люди обычно бывают неповоротливы и медлительны, но этот двигался как-то легко и бесшумно, как бабочка.
– Вы пришли по поводу моих павлинов? – мгновенно атаковала Кларисса служителей закона. – Между прочим, я уже две недели назад обратила ваше внимание на то, что мои птицы куда-то исчезают. И с тех пор никакого толку!
– Нет, сударыня, мы здесь вовсе не из-за павлинов, – почтительно сказал Депре. – Откровенно говоря, мы пришли вовсе не к вам, а к мадемуазель Мэй Уинтерберри. – Как и граф де Ламбер, он упорно ставил ударение на последний слог.
– Это я, – пролепетала Мэй. – Что случилось?
– Ничего страшного, мадемуазель, – тотчас же успокоил ее безымянный толстяк, сопровождавший Депре. – Вы ведь изволили ехать вчера на «Золотой стреле», не так ли? Так вот, с одним из пассажиров в поезде случилась небольшая неприятность, и мы опрашиваем всех, кто находился поблизости.
«Ничего себе небольшая неприятность! – ужаснулась про себя Мэй. – Его зарезали! Баронесса Корф оказалась права!»
– Что еще за неприятность? – вмешался Бланшар, который тотчас же учуял обычную полицейскую манеру напускать туману и насторожился.
– У пассажира 1-го класса украли багаж, – пояснил Депре.
Мэй оторопела. Она ждала чего угодно, только не этого.
– Очень ценный багаж, по правде говоря, – подхватил толстяк. – Поэтому мы очень хотели бы узнать, не видели ли вы кого-нибудь подозрительного, не слышали ли чего-нибудь странного… ну, сами понимаете.
Разумеется, самым странным и подозрительным был окровавленный нож, который каким-то образом оказался в чемодане Мэй, но о нем ни в коем случае нельзя было упоминать. Поэтому Мэй стала рассказывать, как ехала в одном купе с баронессой, как разбила духи (тут девушка покраснела) и как они перебрались в вагон-ресторан. Тут Мэй покраснела еще больше.
– Ничего страшного, мы уже слышали о семейной ссоре, – успокоил ее Депре. – Что было потом?
Мэй поведала полицейским, как ночью ее разбудил крик, но оказалось, что графине де Мирамон просто приснился неприятный сон. Больше она не помнит ничего особенного. Никто из попутчиков не показался ей каким-то подозрительным, и в вагоне она тоже не видела никого из посторонних.
– Боюсь, я ничем не могу вам помочь, – сказала она извиняющимся тоном.
– А эта баронесса, с которой вы ехали… – нерешительно начал Депре. Он вытащил из кармана список и стал просматривать его. – К сожалению, не помню ее имя.
– Баронесса Корф, – с готовностью подсказала Мэй. – Ее зовут Амалия Корф.
– Как вы думаете, может быть, она могла что-то видеть или слышать? Или она все время находилась с вами и видела то же, что и вы? Она покидала купе без вас?
– По правде говоря, не припомню, – подумав, ответила Мэй. – Нет, мы все время были вместе. Боюсь, она расскажет вам не больше моего.
Толстяк кивнул, словно не ожидал ничего иного.
– Вы не помните, ночью она не выходила? – спросил он. – Может быть, она все же могла что-то заметить?
– Нет, – сказала Мэй твердо, – не выходила.
– Откуда вы знаете? Ведь вы, наверное, в это время спали?
– Если бы она выходила, я бы услышала, как хлопает дверь, – объяснила Мэй. – Кроме того, наши чемоданы стояли на полу, и ей пришлось бы зажигать свет. Уверена, что нет. Только раз высунулась в коридор, когда мы услышали крик.
– Да, – сказал Депре, – вы уже об этом говорили.
– Вы все-таки скажете нам, что именно пропало? – проворчала Кларисса, обмахиваясь веером. – Это были бриллианты? Очень ценные?
– Я бы с удовольствием поведал вам все, сударыня, – ответил Депре с поклоном. – Но тот пассажир заклинал нас хранить дело в тайне, иначе неизбежен скандал.
– Ага! – победно объявила Кларисса. – Значит, не бриллианты, а, например, фотография, где принц Уэльский развлекается с танцовщицами. Хотя нет, – с сожалением добавила неподражаемая дама, – он предпочитает актрис.
– И актрисы тоже могут навредить репутации, поверьте, – сказал толстяк с улыбкой. – Но мы очень рассчитываем на вашу скромность.
Он как-то очень ловко поклонился дамам и удалился вместе со своим коллегой.
– И чем только заняты эти полицейские? – проворчала Кларисса. – Ищут все, что угодно, кроме того, что действительно стоит искать. – Она сложила веер и взволнованно привстала с кушетки. – А, вот и ты, Кристиан! Ну что, нашел ты моих павлинов или нет?
Но граф де Ламбер не был расположен говорить о павлинах.
– Кто это у вас только что был? – спросил он.
– Какой-то олух Депре из полиции и его коллега, – ответил Бланшар. – В «Золотой стреле» украли ценный багаж, и они опрашивают свидетелей.
– Ах, вот оно что, – протянул Кристиан. Но вид у него, однако, был озадаченный.
– Павлины! – властно напомнила Кларисса.
– Я напал на след, сударыня, – поспешно заверил ее граф. – Но мне надо еще кое-что проверить.
– Смотри, – проворчала Кларисса, – а то останешься к следующим гонкам с грудой железа вместо твоего локомобиля, или как его! Найди мне моих птичек, а уж я свое слово сдержу!
Однако, судя по всему, помимо птиц у Кристиана хватало забот, потому что он пробыл на вилле всего несколько минут и ушел, сославшись на срочные дела. На следующее утро Мэй получила от него записку:
«Жду вас рядом с виллой ровно в 10. Необходимо обсудить сами знаете что. Кристиан.
P.S. Все остальные тоже будут».
Верная себе, Мэй вышла из ворот уже без четверти 10, но уже через несколько минут из-за поворота показался экипаж баронессы Корф, в котором сидел граф. Кристиан помог Мэй подняться в коляску.
– Да, дело серьезное, – сказал он, блестя глазами. – А я грешным делом не поверил баронессе, когда она сказала, что речь идет об убийстве. Но теперь нет никаких сомнений.
– Но ведь этот Депре… ведь он сказал… – Мэй запнулась. – Они ищут пропавший багаж, разве нет? Или вы прочитали в газетах о… об убийстве? Но тогда как они могли даже не обмолвиться о нем?
– Дело не в газетах и не в багаже, – отмахнулся Кристиан. – Дело в том толстяке, который был у вас дома. Бланшар совсем, наверное, мышей не ловит, если не узнал его. Уж адвокат-то должен был.
Мэй ахнула и закрыла рот ладошкой.
– Так это вовсе не полицейский? – пролепетала она.
– То-то и оно, что полицейский, – веско ответил граф. – Это комиссар Папийон.
Глава 13 Четвертый мушкетер
Амалия дочитала утреннюю газету, сложила и бросила на стол.
– Все то же самое, – сказала баронесса своим друзьям, которые сидели вокруг стола и смотрели на нее преданными глазами. – Ни единого слова о том, что в «Золотой стреле» позавчера произошло убийство. А оно должно было произойти!
– Но почему комиссар Папийон не может заниматься исчезновением багажа? – робко спросила Мэй. – Зачем ему лгать?
– Он не лжет, – поправил ее Кристиан. – Он умалчивает.
– Комиссар Папийон – лучший полицейский города Парижа, – сказала Амалия. – Заметьте, что мы с вами вовсе не в Париже. Это во-первых. А во-вторых, Папийон занимается только особо важными делами, и большая часть его расследований – убийства. – Амалия прищурилась. – Кстати, о чем он хотел у вас узнать?
– А разве… – начал Уолтер.
– Нет, ни Депре, ни Папийон ко мне не приходили, – опередив вопрос, ответила Амалия. – Так о чем вы с ним говорили?
– Он спрашивал, не заметила ли я кого-то подозрительного, – подумав, ответила Мэй. – Еще спрашивал, может быть, вы отлучались и могли что-то видеть. Но я сказала, что мы с вами все время были вместе. Наверное, поэтому он и не стал к вам заходить.
– Нет, – внезапно сказала Амалия, – его интересовало не то, кого вы видели. Его интересовало, есть ли у меня алиби. Поэтому он и спрашивал у вас, отлучалась ли я.
– Хотите сказать, что комиссар подозревает вас? – недоверчиво спросил Уолтер. – Но почему?
– Перчатка, мистер Фрезер, перчатка, – нетерпеливо напомнила Амалия. – Сиреневая перчатка с меткой перчаточника, сделанная на заказ. Представьте себе, что вы полицейский и у чьего-то трупа нашли эту перчатку. Установить, что перчатка моя, легче легкого. Это идеальная улика.
– Так, – сказал Кристиан. – Кажется, я понимаю. Убийца забрался в ваше купе, пока вы были в вагоне-ресторане, украл вашу перчатку и подбросил нож мисс Мэй. Но почему именно ей?
– Наши чемоданы стояли рядом, – пояснила Амалия. – Так получилось. На одном ее чемоданчике были инициалы хозяйки, но она его опрокинула, потом собрала вещи и положила его на свой диван. Другой чемодан остался рядом с моими вещами. Он новый и из тех моделей, которые легко открыть. Так что нет ничего удивительного в том, что нож оказался именно там.
– Хотите сказать, что нож тоже собирались подбросить вам? – спросил священник. – Но зачем?
Амалия вздохнула.
– На этот вопрос было бы проще ответить, если бы я знала, кто убит. А речь определенно об убийстве, потому что кровь на ноже – человеческая. Мой знакомый, который делал анализы, совершенно в этом уверен.
– А что, если случилось одновременно и убийство и похищение ценного багажа? – предположила Мэй. – Комиссар говорит о пропаже, но не говорит о том, при каких обстоятельствах она произошла.
Баронесса Корф поморщилась.
– Допустим, но такая таинственность все-таки настораживает, согласитесь.
– Так или иначе, – заявил Кристиан, – нам надо узнать, кем был убитый и действительно ли у него что-то пропало.
– Стало быть, вы собираетесь вместе со мной расследовать это дело? – спросила Амалия.
– Конечно! – воскликнула Мэй.
– Разумеется, мы не отступим, – объявил священник. – У этого негодяя, кем бы он ни был, не было никакого права подбрасывать нож и так пугать Мэй… я хотел сказать, мисс Уинтерберри.
– Лично я заинтригован, – поддержал его Кристиан. – Все это очень странно. По крайней мере, будет хоть какое-то развлечение до начала следующих гонок. Так что я с вами.
– Должна сразу же предупредить вас: легко не будет, – проговорила Амалия после паузы. – Власти что-то замалчивают, но уже по тому, что Папийона срочно вызвали из Парижа, ясно, что случилось нечто экстраординарное.
– Я не боюсь Папийона, – сказала Мэй, волнуясь. – И я думаю, что вам вполне по силам оставить его… как это говорится… с носом, да. Вот! А мы вам поможем. Нас трое, так что мы будем, как три мушкетера.
– Как это мило! – восхитился Уолтер.
– Тогда я д’Артаньян, – сказал Кристиан, блестя глазами. – Да, да, и не спорьте! Между прочим, этот господин был моим предком.
– Значит, мне придется стать Арамисом, – объявил Уолтер. – В конце концов, он тоже священник, как и я. Хотя должен сказать, что я не всегда одобряю его методы.
– Господа, господа, – улыбнулась Амалия, – все это прекрасно, но кем будет Мэй?
– Констанцией Бонасье, я думаю, – предположил граф. – Или Атосом.
– Ну уж нет, – заупрямилась Мэй. – Констанция мне никогда не нравилась, а Атос вообще плохой человек, потому что убил жену, да еще дважды. Я буду Портосом!
– Но ты совсем не похожа на Портоса! – удивился священник.
– Ничего ты не понимаешь, – возразила Мэй, тряхнув кудрями. – Портос – он добрый. И вообще он всегда был самым порядочным. Да!
– Тогда госпоже баронессе остаются на выбор Атос или Констанция, – сказал Кристиан. – Хотя я бы сказал, что наша хозяйка больше смахивает на миледи. Есть в ней что-то такое…
Амалия сердито посмотрела на молодого человека.
– Нет уж, – ответила она с вызовом. – Лучше кардиналом Ришелье!
– Три мушкетера под предводительством кардинала – это что-то новое, – заметил граф. – Переписываем Дюма?
– Дюма – величайший писатель, которого никто никогда не сможет переписать, – отмахнулась Амалия. – Нет уж, напишем совершенно другую историю. Вы готовы к бою, господа мушкетеры?
– Да! – хором ответили ее сообщники, спугнув воробья, который сидел снаружи на карнизе под окном.
– Тогда будем действовать. Во-первых, мне нужно снова попасть на «Золотую стрелу». В тот же самый состав и в тот же вагон. Поскольку существует несколько составов «Золотая стрела», это не так просто. Господин граф!
– Да, ваше преосвященство?
– Надеюсь, ваша милость сумеет точно разузнать, когда именно нужная нам «Золотая стрела» будет проезжать через Ниццу. Вы, насколько я помню, легко заводите дружбу с самыми разными людьми. Поговорите с начальником станции, с кондукторами, с кассирами, словом, со всеми, кто может хоть что-то прояснить. Полагаю, мне не надо напоминать, что, если кто-нибудь начнет рассказывать про труп, найденный где-то в купе, стоит узнать все возможное. Есть еще один вопрос, который мне очень хотелось бы прояснить. Это список пассажиров. Но раз в деле появился Папийон, я полагаю, что список теперь недосягаем. Тем не менее попытайтесь его достать, вдруг получится.
– Ваше преосвященство может на меня полностью положиться, – объявил молодой человек.
– Теперь полиция. Нам надо знать то, что знают они, и в особенности – какова подоплека этого странного дела. Если я права насчет потерянной перчатки – а я думаю, что все-таки права, – любезный господин префект ни слова мне не скажет. Придется узнавать информацию окольными путями. Что скажете, мистер Фрезер?
– Кажется, леди Брэкенуолл в хороших отношениях с префектом, – ответил священник. – Я попытаюсь настроить ее на нужный лад, чтобы она его расспросила.
– Только действуйте тоньше, дорогой викарий, – посоветовал граф. – Не надо пугать людей раньше времени. Допустим, до вас дошли слухи, до них вам нет никакого дела, но все-таки… И леди заинтригована, и шлет за префектом, чтобы просить у него разъяснений.
– Сэр, – сухо сказал Уолтер, – я бы просил вас не учить меня, как действовать. В конце концов, Арамис был самым умным из мушкетеров!
Однако оказалось, что Кристиан не зря говорил, что числит среди предков д’Артаньяна. По крайней мере, как и гасконец, граф в карман за словом не лез.
– Не уверен насчет ума, – уронил он в пространство, – но вот по части женского пола ему определенно везло. Пока д’Артаньян обхаживал служанку королевы, господин Арамис успел коротко познакомиться с самыми очаровательными герцогинями.
– Если д’Артаньян и Арамис будут ссориться, – медоточивым голосом вмешалась Амалия, – то кардинал Ришелье велит отрубить им головы. И ни до герцогинь, ни до служанок дело попросту не дойдет.
И она мило улыбнулась.
– А как же Портос? – всполошилась Мэй. – Что делать Портосу?
– А Портосу придется нелегко, – сказала Амалия. – Потому что ему надо найти графа и графиню де Мирамон и разговорить их. И не только их, но и безымянную рыжую даму, которая ехала с графом, но, судя по всему, получила отставку. Узнать надо следующие вещи: был ли у них Папийон и о чем он разговаривал, помнят ли они что-нибудь странное, любопытное или просто интересное, и, наконец, кого из пассажиров они знают и кто какое купе занимал. Начать беседу можно с того, что вы ехали в одном поезде, а в Ницце к вам явился некий Депре с расспросами и историей о пропавшем багаже. Вы ужасно смущены, вы не понимаете, что происходит, и так далее. Особенно меня интересует история с ночным криком. Графиня сказала, будто ей привиделся кошмар, но что, если дело вовсе не в этом? Может быть, она что-то услышала сквозь сон и это ее испугало?
При мысли, что придется разговаривать с незнакомыми людьми, застенчивая Мэй почувствовала трепет. Но она уже зашла слишком далеко и к тому же не собиралась разочаровывать Амалию.
– А вы? – спросил Кристиан у хозяйки виллы. – Что будете делать вы?
– Думать, – коротко ответила Амалия. – Кроме того, пошлю кое-какие телеграммы. Возможно, это окажется полезным.
Почувствовав, что деловая часть закончилась, граф хотел вернуться к разговору о павлиньем исходе, но тут Амалия поднялась с места.
– Кстати, я тут вспомнила кое-что, – сказала она, обращаясь к Мэй. – Мне на днях прислали платье от сестер Калло, но, по-моему, Мадлен что-то напутала с размером[181]. Может быть, оно подойдет вам? Я его не надевала, а вот вам, думаю, придется как раз. – И, видя, что девушка покраснела, она добавила: – Считайте, что это маленький задаток Портосу за его содействие. Хорошо?
Глава 14 Мушкетеры в действии
– Определенно, – сказал капитан Картрайт, – сегодня прекрасный день.
– Вы совершенно правы, – ответил полковник Барнаби.
С утра над Ниццей собирались тучи. Море потемнело, солнце спряталось, и здания, такие нарядные при солнечном свете, казались насупленными и хмурыми. Посторонний, услышав разговор двух друзей, мог бы счесть, что они издеваются. Однако оба джентльмена были искренне счастливы, что погода стоит вполне английская, а стало быть, они могут с полным правом чувствовать себя как дома. Неожиданно капитан Картрайт распрямился в кресле.
– Что с вами, Филип? – спросил полковник.
– Мне кажется, я знаю эту леди, – ответил капитан. – Определенно я где-то ее видел. Вот только где?
Разговор этот происходил в большом зале «Гранд-отеля», куда джентльмены регулярно наведывались по двум причинам: выпить лучший в городе кофе, который подавали здесь, и почитать свежие английские газеты, которые сюда привозили раньше всего. Кроме того, в отеле всегда проживало немало англичан, и тут всегда можно было перекинуться парой фраз с каким-нибудь знакомым.
– Действительно, – сказал полковник Барнаби, из-за газеты разглядывая вновь прибывшую красавицу, которая привлекла внимание капитана, – действительно, эта леди нам уже встречалась.
– Где же? – нетерпеливо спросил капитан.
Ибо, хоть убей, он не мог вспомнить, где раньше видел юную грациозную особу в отделанном кружевом платье восхитительного персикового оттенка. Темнокудрую головку красавицы украшала шляпка в точности того же оттенка, а в руке она держала кокетливую сумочку-мешочек, украшенную тем же кружевом, что и платье. Полковник Барнаби вздохнул.
– Разве вы ее не узнаете, Филип? – спросил он. – Это же новая наследница мадам Клариссы.
Мистер Картрайт разинул рот и вытаращил глаза.
– Не может быть! – ахнул он.
И перед его внутренним взором предстала мисс Уинтерберри, которую он совсем недавно видел в Монако со священником; они выходили из казино, и в тот момент капитан готов был поклясться, что новая наследница, конечно, леди всевозможных достоинств, но без изюминки, серая и скромная, как мышка. Неожиданное преображение мышки в очаровательную молодую женщину весьма озадачило капитана, и он ломал голову, что могло быть тому причиной.
– Я не очень-то разбираюсь в дамских штучках, – добил его Барнаби, – но, по-моему, платье, которое на ней, должно стоить не меньше полутора тысяч франков… а то и двух.
И он торжествующе поглядел на своего раздосадованного друга, который сразу же сообразил, куда дует ветер.
– Думаете, мадам Кларисса сменила курс и решила признать ее наследницей? – спросил капитан.
– Конечно, а иначе откуда у нее такие деньги? – отозвался бессердечный полковник. – Полагаю, что упорная осада старушки сделала свое дело, и та выкинула белый флаг.
– Гм, – сказал капитан, вновь обретая хладнокровие, – но ведь это еще неизвестно! В конце концов, юная леди могла привезти платье с собой.
– Готовьте лучше 30 фунтов, Филип, – добродушно посоветовал Барнаби и закрылся газетой.
Тем временем Мэй, чувствуя себя совершенно непривычно оттого, что все взоры были направлены только на нее, прошла к столу в углу зала. Джентльмены наслаждались, модницы пытались найти в Мэй хоть какой-нибудь изъян, раз уж его нельзя было найти в ее наряде, и тихо бесились, ибо придраться оказалось решительно не к чему. Лакей отодвинул кресло, и Мэй села. Тотчас же возле нее материализовался метрдотель.
– Что угодно мадемуазель?
Мэй попросила принести ей чаю, потому что она послала записку госпоже графине, которая живет в отеле, и та должна спуститься с минуты на минуту.
– Будет исполнено, – сказал метрдотель и с поклоном испарился. А Мэй, оставшись одна, украдкой покосилась на свою сумочку и даже погладила ее, как живое существо. Почему-то больше всего в туалете, который ей предложила Амалия, Мэй понравилась именно сумочка. Это была любовь с первого взгляда: Мэй посмотрела на сумочку, сумочка – на Мэй, и обе поняли, что созданы друг для друга.
Однако все время любоваться сумочкой невозможно, и Мэй, немного осмелев, стала глядеть по сторонам. Вот мальчик болтает ножками, сидя на стуле рядом с бонной; два степенных джентльмена читают английские газеты; увядшая дама в бриллиантах – и мехах, несмотря на теплую погоду, – о чем-то разговаривает с красивым молодым человеком, который слушает ее со скучающей гримасой, глядя в сторону. Будь Мэй понаблюдательнее, она бы наверняка заметила обручальные кольца на руках у обоих и сделала бы соответствующие выводы. Но она лишь скользнула взглядом по разновозрастной паре и тепло улыбнулась мальчику, который чем-то напоминал ее младшего брата. Тот поглядел на нее исподлобья, как смотрят только маленькие дети и неприрученные зверьки, и уткнулся носом в тарелку. Остальная публика не представляла ничего интересного: дама в огромной шляпе о чем-то оживленно беседует с дамой просто в шляпе, в другом углу компания из четырех дам о чем-то шушукается, поглядывая на Мэй, недовольный господин с бакенбардами по старинной моде выговаривает официанту… Она скользнула взором по лепному потолку и тут только увидела большое зеркало в простенке между окнами. В зеркале этом отражалась особа немыслимого совершенства, сидевшая за столиком в некотором отдалении от остальных посетителей. Каждая складочка ее платья могла заткнуть за пояс дюжину произведений искусства, а кружевные манжеты шелковых рукавов были поэтичней любого сонета. Мэй в восторге и благоговении смотрела на нее – но вот она шевельнулась на стуле и увидела, что отражение шевельнулось тоже. «Это же я! – в смятении подумала Мэй. – Это я!» Она отвела глаза, но, не удержавшись от соблазна, посмотрела снова. Сомнений не оставалось – это она, и Мэй тихо растворилась в нирване абсолютного, ничем не замутненного блаженства.
– Мадемуазель?
Суховатый женский голос вернул ее к действительности. Мэй подняла глаза и увидела графиню де Мирамон; только на сей раз та была в простом дневном закрытом платье, а не в том роскошном туалете, в котором Мэй видела ее в поезде.
Мэй поспешно поздоровалась с графиней и сказала, что пришла сюда, потому что ей не с кем посоветоваться, а она так смущена, так ужасно смущена! В ее глазах все еще трепетала радость – от того, что она юна, что есть на свете такие мастерицы, как сестры Калло и Мадлен Жербер, что платье восхитительно и жить так ослепительно хорошо!
Матильда сухо улыбнулась, однако села за стол. Метрдотель лично принес Мэй ее драгоценный чай и спросил, что угодно госпоже графине.
– Кофе, пожалуй, – после небольшого колебания ответила та. – И пирожные. Да, и принесите две чашки кофе, потому что мой муж сейчас тоже подойдет.
«Значит, с той рыжей дамой в самом деле все кончено? – подумала заинтригованная Мэй. – Они помирились?»
А графиня смотрела на нее и думала:
«Когда это платье только шили у сестер, я была в магазине и просто так спросила цену. Они сказали, что оно стоит 1800 франков! Значит, она все-таки смогла подобрать ключик к сердцу старухи?»
– Так о чем вы хотели со мной поговорить? – спросила графиня.
И Мэй, вспомнив свою роль, повторила все, что ей советовала баронесса Корф, – о приходе полиции, о том, что в поезде что-то украли, и о том, как ей неловко и вообще не с кем поговорить о случившемся, и она очень надеется, что графиня ее поймет.
– Да, с этим экспрессом произошло что-то странное, – заметила Матильда. – Никогда не бывало такого, чтобы в поезде пропадало что-то важное. Инспектор Депре к нам тоже заходил, говорил с мужем и со мной, но мы ничем не могли ему помочь.
«Так-так, – сказал кто-то в голове Мэй. – Значит, комиссар Папийон у них не был! Интересно, почему? Или он действительно хотел лишь установить, было ли алиби у кардинала… у миледи Корф?»
Метрдотель принес кофе и пирожные, пожелал дамам приятного аппетита и удалился.
– А ночью, когда вы так неожиданно проснулись, вы ничего не слышали? – спросила Мэй.
Матильда холодно улыбнулась.
– Какое это имеет значение? Мне просто приснился неприятный сон. – Она поморщилась. – А почему это вас так интересует, мадемуазель Мэй?
Тут Мэй вспомнила, что Амалия – впрочем, по другому поводу – говорила про умение вести игру, и решила выложить свой козырь.
– Видите ли, – сказала она, – вчера ко мне заходил не один полицейский, а двое.
– Да, бывает, что они ходят вдвоем, – равнодушно отозвалась графиня. – И что? Не знаю, как в вашей стране, но во Франции ничего особенного в этом нет.
– Дело не в этом, – настаивала Мэй, – а в том, что второй полицейский не представился. Но граф де Ламбер узнал его. Это комиссар Папийон из Парижа.
Показалось или графиня слегка напряглась? Во всяком случае, она не донесла до губ чашку с кофе и поставила ее обратно на стол. Рука при этом дрогнула, и несколько капель пролилось из чашки на блюдце.
– Комиссар Папийон? Но… но он ведь занимается убийствами, не так ли?
– Понятия не имею, – отважно объявила Мэй, которая не любила лгать. – Но мне все это кажется очень странным.
– Действительно, – согласилась графиня. – А, Теодор, ты уже здесь! Послушай, что мне только что рассказала мадемуазель Мэй!
И она пересказала своему мужу, который только что спустился, ошеломляющую новость.
Под глазами у Теодора были синяки, и выглядел он утомленным. Судя по всему, расставание с любовницей далось ему нелегко. Тем не менее он поцеловал Мэй ручку, оценивающим взглядом задержался на ее наряде и сел рядом с женой.
– Не понимаю, Матильда, почему это вас так волнует, – сказал он, щедро насыпая себе сахар. – Что касается багажа, то могу вас заверить, у нас ничего не пропадало, – он улыбнулся жене. – А у вас, мадемуазель?
– Тоже ничего, – призналась Мэй, не уточняя, что у нее, пожалуй, багажа даже прибавилось. – Я ехала в купе номер семь, и там все в порядке, а вы в каком?
– Я в девятом, – сказала Матильда с неопределенным выражением, и Мэй вспомнила, что она с мужем должна была ехать в разных купе. – Была одна и могу вас заверить, что у меня ничего не пропадало.
– А я ехал в третьем вагоне, – сообщил Теодор спокойно. – Нет, с моим багажом все было в порядке.
– А вы узнали кого-нибудь из пассажиров? – спросила Мэй. – Может быть, кто-нибудь из них жаловался на пропажу?
Супруги переглянулись.
– Нет, никого из знакомых я точно не видел, – объявил Теодор.
– И я тоже, – поддержала его жена.
«Логично, – подумала Мэй. – Разве она отважилась бы устроить такое, если бы поблизости находились знакомые?»
– Тогда непонятно, что ищет комиссар Папийон и почему для этого недостаточно местной полиции, – объявила Мэй.
– Действительно, – благодушно согласился Теодор, – но не думаю, что это должно нас волновать. Ведь с нашими вещами ничего не случилось.
Теперь, когда Мэй видела графа вблизи, она не могла не отметить, какое у него самодовольное лицо. Такое выражение нередко встречается у ограниченных людей, которым не интересно ничего, кроме их самих и их дел. Вот графиня совсем из другой породы. Сообщение Мэй ее явно заинтриговало, и она задумалась.
– Все это совершенно непонятно, – сказала она наконец. – А о чем комиссар с вами говорил? Он спрашивал что-то конкретное?
Мэй не стала сообщать, что интересовало комиссара, есть ли алиби у миледи Корф, которая (Мэй была в этом совершенно убеждена) не способна обидеть и мухи. Поэтому Мэй просто объяснила, что комиссар хотел знать, не заметила ли она чего-то странного или подозрительного.
– Я сказала, что, кроме вашего ночного крика, ничего такого не припомню, – объяснила Мэй.
– А когда именно Папийон к вам приходил? – поинтересовался граф.
Оказалось, это было до того, как Депре уже без своего коллеги навестил чету Мирамон. Граф и графиня снова обменялись взглядами.
– Знаете, – несмело проговорила Матильда, – когда я думаю о том сне… – Она вздохнула. – Точнее, сейчас, когда я стала о нем думать… мне показалось, что там было еще что-то, кроме сна. Что-то, что испугало меня.
– Что могло тебя испугать? – пожал плечами Теодор. – Все это глупости.
– Не знаю, – беспомощно проговорила графиня. – Я ни в чем не уверена. Но чем больше я думаю…
Однако тут их прервали самым невежливым образом, и сделал это седой господин в сером костюме, с тростью в руке, который широкими шагами приблизился к их столу. Мясистое лицо было красно от бешенства, а глаза метали искры, которые запросто могли бы сжечь весь «Гранд-отель».
– Вы! – прошипел он, сжигая взглядом Теодора, который как-то съежился в своем кресле и вмиг утратил все самодовольство. – Вы! Я уничтожу вас!
– Папа! – тихо вскрикнула Матильда. – Как ты тут оказался?
– А чего ты ждала? – возмутился господин. – Он сбежал из Парижа с любовницей, а ты поехала за ним! Думаешь, я не знаю, что произошло в «Золотой стреле»? Думаешь, твой отец уже совсем никуда не годится? Зачем ты, моя дочь, объяснялась с этим ничтожеством, вместо того чтобы предоставить это мне?
– Папа! Я прошу вас… Здесь люди! Мадемуазель… мадемуазель Мэй Уинтерберри, – Матильда не говорила, а лепетала, в глазах метался ужас. – Это мой отец, Антуан Стен. Простите его, он немного взволнован…
Месье Стен, судя по всему, хотел взорваться, как мина, и похоронить всех под обломками, но покосился на Мэй, которая не знала, куда деваться от смущения, и оттого стала еще очаровательнее, – и решил сменить гнев на что-нибудь более комильфотное.
– Простите, мадемуазель, это все наши семейные дела, – довольно любезно пояснил он Мэй. Но едва он повернулся к зятю, как его тон, возможно, даже против его воли, сразу же переменился. – А на вас я найду управу, милостивый государь!
И он злобно стукнул тростью по столу так, что подскочили чашки. У Стена были широкие мясистые уши и громадные руки, а глаза – маленькие и глубоко посаженные. В них бурлила ненависть, и Мэй решила, что сейчас самое время удалиться, дабы не присутствовать при еще одной сцене, – ибо, судя по всему, скандалы были наследственной страстью членов этого семейства.
– Прошу прощения, но я должна идти, – объявила она и, подхватив сумочку, ушла настолько быстрым шагом, насколько позволяли приличия.
Выйдя из «Гранд-отеля», Мэй с облегчением перевела дух, но ее ждало новое испытание. Посреди улицы ее настиг рев раненого слона. Мэй ойкнула и попятилась, но тут же поняла, что это сигналит граф де Ламбер, который сидел в уже знакомом ей монстре.
– Мадемуазель! Вас подвезти?
– Я… – начала Мэй, озираясь в поисках путей отступления, но пока она озиралась, оказалось, что она уже сидит в автомобиле, а граф захлопывает дверцу.
– Должен сказать, – объявил он, – мне есть что поведать нашему кардиналу, а как у вас?
И тут Мэй кое-что вспомнила.
– Я поговорила с четой де Мирамон, но мне было велено найти еще одну женщину, – объявила она и стала дергать дверцу, пытаясь выйти. – Выпустите меня!
– Одна вы не пойдете ее искать, – возразил граф, который, несмотря на свою любовь к технике, оставался настоящим рыцарем. – Идемте!
Он распахнул дверцу и подал руку Мэй. Так вдвоем они и прошествовали обратно в «Гранд-отель».
– Что вам угодно? – осведомился вышколенный портье.
– Привет, Жюль, – дружелюбно ответил Кристиан. – Я ищу рыжую даму, которая приехала с графом де Мирамон. Как твоя жена, уже родила?
– Еще нет, – вздохнул портье. – Так вас интересует Жоржетта Бриоль?
– Ах, вот как ее зовут! – протянул граф. – Так где она?
– Забрала вещи и уехала, – ответил портье, косясь на Мэй, которую про себя окрестил «персиком». – Что-нибудь еще?
– Нет, Жюль, так не годится, – заворчал граф, состроив потешную гримасу недовольного ребенка. – Почему уехала, куда уехала? Когда, наконец?
Портье вздохнул и сдался.
– Позавчера днем, как только получила отставку от графа де Мирамон, – доложил он. – А вместе с отставкой и деньги. Большие, между прочим, десять тысяч франков.
– За что? – изумилась Мэй.
– За то, чтобы оставила его и больше к нему не приближалась, – усмехнулся портье. – Жена надавила на мужа, стала грозить, ну, он и сдался. Деньги, кстати, тоже дала жена. – Он заметил на лице Мэй странное выражение и понизил голос: – Не думайте, что я подслушивал у дверей или что-то такое. Просто, по-моему, графиня даже особо и не таилась. Но не отступила, пока не настояла на своем.
– А что муж? – быстро спросил Кристиан.
– А что ему оставалось сделать? Смирился, – философски пожал плечами портье.
– И куда эта Бриоль уехала? – подала голос Мэй.
– На вокзал. Кучер Жильбер отвез ее прямо туда.
– Может, ты еще знаешь, на какой поезд она села? – буркнул Кристиан.
– На обратный в Париж, который отходит в 15.40, – не моргнув глазом ответил Жюль. – Жильбер помог ей с чемоданами и слышал, как она покупала билет в первый класс. А зачем она тебе?
Кристиан вздохнул.
– Понимаешь, – сказал он, – в поезде, где ехала она, Мирамоны и прочие, произошло нечто странное, и я никак не могу понять, что.
– Ты про полицию? – сразу же догадался портье. – Да, инспектор тоже хотел с ней поговорить и был недоволен, что опоздал.
– Здесь был один инспектор? – быстро спросила Мэй.
– Да, инспектор Депре, а что?
– Ты его знаешь?
– Моя жена знает родственников его жены, – ответил портье. – Очень приличные люди, и полицейский он хороший.
– Это хорошо, – довольно двусмысленным тоном отозвался Кристиан.
Убедившись, что ничего больше из Жюля вытянуть не удастся, сыщики покинули отель.
– Вам очень идет это платье, – сказал Кристиан. – Я осел, потому что должен был сказать вам сразу же.
Мэй покраснела от удовольствия. Коварный граф своим замечанием добился того, что она села в монстра без возражений, и они отправились на виллу «Шарль».
– Я свою миссию выполнил, – сказал Кристиан Мэй, когда они покинули город и поехали вдоль моря. – Та «Золотая стрела», которая нам нужна, вновь проходит через Ниццу завтра утром, направляясь в Вентимилью. Полагаю, баронесса захочет ее осмотреть. Ни о каком убийстве служащие вокзала ничего не слышали. Ни один из ехавших в поезде не жаловался на то, что у него что-то украли, однако список пассажиров, как и предполагала баронесса Корф, изъят Папийоном под предлогом все той же кражи. А как ваши дела?
– Я узнала кое-что, – ответила Мэй, – но думаю, что все же мало. Графиня говорит, будто ее что-то напугало, когда она проснулась с криком. Но ни в чем не уверена.
– Это хорошо, что она так откровенна, – серьезно сказал Кристиан. – Между нами, свидетели, которые бодро рапортуют, что ровно в 4 часа 39 минут видели на мосту субъекта в рваной перчатке и сером пальто, на котором не хватало четырех пуговиц, всегда вызывали у меня подозрение. Интересно, удастся ли викарию узнать больше нашего? Все-таки леди Брэкенуолл – его будущая теща, и вряд ли она будет скрывать от него то, что ей известно.
– Теща? – изумилась Мэй. – С чего вы взяли?
– Да об этом все говорят, – пожал плечами граф. – Если он хочет получить постоянное назначение в местную церковь, то ему неизбежно придется жениться. На одной из дочек леди, потому что иначе не быть ему в Ницце священником. А что?
Ответа не последовало. И Кристиан так и не понял, почему Мэй внезапно замолчала и больше не говорила ни слова вплоть до того момента, когда они прибыли на виллу баронессы Корф.
Глава 15 Страдания Арамиса
Мистер Уолтер Фрезер, как уже упоминалось, был священником, но ему понадобился весь запас христианского смирения, когда он оказался в уныло-чопорном доме, в котором проживала леди Брэкенуолл. Сначала священника атаковала мисс Линда, старшая дочь:
– О! Вы все-таки вспомнили о нас, мистер Фрезер! Скажите, вам не одиноко в Ницце? Должно быть, это ужасно, жить одному, без единого близкого существа!
Затем за дело взялась ее младшая сестра Дороти.
– Мистер Фрезер! – Многозначительное хихиканье. – Я так рада вашему приходу! – Попытка томно пожать плечиком, которое было настолько мощным, что могло остановить слетевший с рельсов паровоз. – Как вам должно быть не по себе в чужой стране! Французы такие грубияны! – В переводе с языка мисс Дороти на человеческий это означало, что они в упор ее не видели, несмотря на ее происхождение и старания маменьки пристроить дочь. – Заходите к нам почаще, я всегда буду рада вас видеть!
Мисс Элизабет взялась за дело еще более прямолинейно: она объявила, что поймала жука, и потребовала от священника немедленно сказать ей, насколько жук опасен, и вообще, кусается он или нет. Попытки Уолтера объяснить ей, что он ничего не смыслит в насекомых, были бы обречены на провал, не приди на помощь четвертая мисс Брэкенуолл. Эта леди, откликавшаяся на изысканное имя Миранда, была настолько уродливой, что три ее страхолюдные сестры могли казаться по сравнению с ней красавицами.
– Мистер Фрезер! Как это любезно с вашей стороны, что вы вспомнили о нас! А мы все время о вас говорим! Кстати, это правда, что вас видели в казино? Я, конечно, уверена, что это неправда и что это мистер Фергюсон распускает о вас слухи. Вы же знаете, он просто мечтает занять место священника!
В глубине души Уолтер был уже близок к тому, чтобы проклясть тот миг, когда он согласился помочь баронессе Корф и вызнать у леди Брэкенуолл, что именно ей известно о происшествии в «Золотой стреле». Но тут, к счастью, растворилась дверь и лакей доложил, что хозяйка дома готова принять мистера Фрезера.
Уолтер бежал без оглядки от четырех кандидаток на роль своей супруги, но вскоре понял, что попал из огня в полымя. После приветствий и разговоров о погоде леди Брэкенуолл принялась с ним советоваться по поводу графа А., барона Б. и господина В., которые будто бы проявляли недюжинный интерес к ее девочкам. Наивный Уолтер вздохнул с невольным облегчением, но вскоре услышал, что леди не намерена выделять дочерям ни пенни сверх того крайне скромного приданого, которое досталось им от их покойного отца, известного мота. К слову, именно эта причина, а вовсе не некрасивость четырех мисс являлась до сих пор препятствием к их замужеству. Сама леди Брэкенуолл была более чем обеспечена, но как только речь заходила о пополнении приданого, она сразу же вынимала кружевной платок и принималась горестно плакаться на жизнь и чудовищные расходы, на которые она будто бы вынуждена идти, круглый год живя в Ницце. Леди Брэкенуолл считала, что у нее не в порядке легкие. Страдалица уже пережила двух братьев и мужа, отличавшихся завидным здоровьем. Каждый день она сетовала на боли и отсутствие аппетита, и год от году ее фигура становилась все внушительнее и монументальнее.
– Ко мне недавно заходил мистер Фергюсон, – как бы между прочим уронила леди Брэкенуолл. Фергюсон был священник 28 лет, всегда улыбающийся и такой чистенький и опрятный, словно его только что принесли из стирки. Уолтер знал, что он тоже имеет виды на место в Ницце. Его сердце сжалось. Неужели Фергюсон все-таки решился жениться на одной из дочерей хозяйки, чтобы обеспечить себе безбедное будущее? Тем не менее Уолтер нашел в себе силы ответить:
– У меня есть новости поинтереснее, – и вслед за тем рассказал, что с экспрессом «Золотая стрела» связано какое-то темное дело, которое расследует знаменитый комиссар Папийон. Леди Брэкенуолл всплеснула руками, изумилась и объявила, что священник пришел как раз вовремя.
– Господин де Ланнуа, префект и дядя графа А., должен сегодня заглянуть ко мне. Вот мы его и расспросим!
Вскоре господин де Ланнуа явился, но, как оказалось, для того, чтобы витиевато извиниться за своего племянника. Тот вчера слишком долго разговаривал на званом вечере с мисс Элизабет. Возможно, она не так истолковала некоторые его слова, в чем он искренне раскаивается. Впрочем, доктора уже предписали графу скорейшее возвращение в Париж.
По правде говоря, долгий разговор укладывался всего в две фразы о звездах и поэтичности вечера, а произнес их граф, в темноте перепутав мисс Элизабет с другой дамой. Поняв, что обознался, он в ужасе бежал, однако Элизабет истолковала его поведение исключительно в выгодном для себя свете.
Леди Брэкенуолл поджала губы, но тут вспомнила о словах Уолтера и спросила, правда ли, что комиссар Папийон расследует какое-то преступление, связанное с «Золотой стрелой». Однако, едва услышав имя комиссара, префект тотчас же принял непроницаемый вид и заявил, что комиссар действует на общих основаниях, и вообще дело, которым он занимается, – это такой пустяк, которым не стоит забивать себе голову.
– Но вы можете хотя бы сказать нам, что именно пропало? – спросила леди Брэкенуолл, сгорая от любопытства.
Де Ланнуа ответил, что не интересуется такими глупостями, повторил, что дело не стоит выеденного яйца, и поспешил откланяться. Ничего не добившись и ничего толком не разузнав, священник удалился, напутствуемый хором девичьих голосов:
– Мистер Фрезер! Вы ведь будете заходить к нам почаще, не правда ли? Сделайте одолжение! Мы всегда будем рады вас видеть!
Когда он наконец добрался до виллы «Шарль», у него адски болела голова.
Двое остальных мушкетеров уже были там. Мэй пересказала ответы графини, а Кристиан рассказал, что список пассажиров забрала полиция, а экспресс пройдет завтра через Ниццу в 8 утра.
– Мне нужно два билета в тот же вагон, – сказала Амалия.
– Два? – удивился граф.
– Да, для нас с вами. Прокатимся до Вентимильи и вернемся обратно.
– Вы рассчитываете что-то найти в вагоне? – спросила Мэй.
– Да, следы преступления. Особенно меня интересует купе номер 10, соседнее с тем, в котором находилась графиня.
– Думаете, она могла что-то слышать, но решить, что это сон? – предположил Кристиан.
– Убить человека не так-то легко, – ответила Амалия. – Думаю, если ей не померещилось и до нее долетел, допустим, шум борьбы, это было где-то рядом и уж точно не в нашем конце вагона. Таким образом, купе шесть и семь отпадают. Купе номер восемь тоже по соседству с графиней, но оно еще и рядом с нами, а уж я-то услышала бы, если бы рядом что-нибудь было неладно. Там ехали молодожены, которые отправились дальше. В девятом купе находилась сама графиня, а кто был в десятом, я не видела. И это купе меня очень интересует.
– Если вы ищете место преступления, то ведь убийство могло произойти и на той площадке вагона, которая ближе к купе графини, – заметил граф. – А тело просто сбросили с поезда.
– Нет, – внезапно сказала Мэй.
– Что – нет? – удивился Уолтер, потирая висок.
– Я думаю, – решительно сказала Мэй, – что графиня ничего не слышала и что она просто стала, ну, знаете, немножко выдумывать. Когда узнаешь, что поблизости произошло что-то важное, а тебя при этом не было, начинаешь думать, а вдруг ты что-то забыла, и тогда кажется совсем не то, что происходило. – Мэй подалась вперед. – Вот объясните мне, как она могла что-то слышать ночью, если нож подбросили задолго до того, тогда, когда мы с миледи были в вагоне-ресторане? Когда мне подложили нож, получается, что убийство уже произошло, а проникнуть к нам могли только тогда, когда мы отсутствовали. То есть убийство совершилось еще раньше! А графиня действительно видела сон, только и всего.
– Мэй, – воскликнул священник, – ты просто чудо! – Он был в таком восхищении, что у него даже перестала болеть голова.
– Что? – спросил Кристиан, видя, что Амалия загадочно улыбается.
Та выдвинула один из ящиков стола, достала листок и протянула графу. Поскольку текст был написан по-русски, граф прочел вслух, на ходу переводя на французский:
«1. В экспрессе «Золотая стрела» происходит убийство.
2. По каким-то причинам убийца решает свалить его на меня. Для этого он подбрасывает мне (точнее, думая, что мне) орудие убийства и похищает мою перчатку.
3. Последнее указывает, что труп находится в поезде. Если бы его выбросили наружу, не было бы нужды похищать перчатку как улику.
4. Убийца возвращается на место убийства, чтобы оставить там мою перчатку.
5. Ночью графине снится, по ее словам, дурной сон.
6. В Ницце все кондуктора и служащие вокзала совершенно спокойны. Значит, никто еще ничего не знает. Вопрос: каким образом можно не обнаружить труп в поезде на протяжении примерно 12 часов, учитывая, что у кондукторов есть запасные ключи от всех купе?»
– А меня интересует, – внезапно сказал священник, – почему это дело так замалчивают. С их прессой, которая способна разузнать что угодно, это вдвойне удивительно. Я видел сегодня лицо префекта – он до смерти боялся проговориться!
– Боюсь, замешаны очень высокие интересы, – уронила Амалия. – Поэтому мы видим Папийона, и поэтому никто не упоминает об убийстве. А личность убитого может оказаться очень, очень любопытной.
– Мне уже приходило в голову нечто подобное, – признался Кристиан. – Я просмотрел газеты на предмет сообщения о скоропостижной смерти какого-нибудь высокопоставленного лица, которое якобы умерло в Париже.
– Я уже изучила газеты, – огорошила его Амалия. – Но ничего такого в них нет. Беда в том, что лицо, о котором я говорю, может с виду казаться… скажем так, крайне незаметным. Это может быть, к примеру, обладатель сведений, которые для кого-то являются чрезвычайно важными. И это же может объяснять разговоры о пропавшем багаже необыкновенной ценности. Все думают, конечно, о бриллиантах, но в наше время есть множество вещей куда более дорогих, чем они.
Мэй вздохнула.
– Это дело, – призналась она, – кажется мне необыкновенно запутанным. А почему вы хотите осмотреть именно десятое купе? Ведь по всем подсчетам получается, что графиня ничего не могла слышать!
– Потому что когда я поразмыслила, то поняла, что дневное время, да еще в фактически замкнутом пространстве поезда, плохо подходит для преступления, – пояснила Амалия. – Другое дело ночь, когда все спят. Ночное убийство объясняло бы и то, почему утром в Ницце труп еще не был обнаружен. Но тогда остается проблема ножа. Перчатка пропала именно тогда, когда мы ходили в вагон-ресторан, это совершенно точно. Значит, преступление уже тогда было запланировано. А что, если мы ошиблись, решив, что тогда же подложили и орудие убийства? Мэй ведь увидела его только на следующий день. Что, если перчатка была украдена до убийства, а нож положили уже после, чтобы, так сказать, довершить картину?
Мэй широко распахнула глаза.
– Когда я вышла в Ницце… – прошептала она, – я оставила багаж в купе. Всего на несколько минут!
– Вот именно, – сказала Амалия. – Я тоже взяла с собой только свою сумку. Мой слуга забирал вещи, он никого не заметил. А кто забирал ваши чемоданы из купе?
– Я, – отозвался Кристиан. – Но в вагоне находились только обычные пассажиры.
– Как я уже упоминала, наши чемоданы стояли рядом, поэтому убийца ошибся. К тому же он очень спешил. Я бы сказала, что логически эта версия предпочтительнее и потому, что убийца не мог знать, открою ли я свой – как он думал – чемодан в пути или нет. Я ведь могла и обнаружить ненароком его презент. Другое дело – когда покидаешь поезд. А если бы я по приезде отдала горничной чемодан и та увидела бы окровавленный нож? Все, моя песенка была бы спета.
– Но почему убийца выбрал именно вас? – спросил Уолтер.
– Вероятно, есть какая-то причина, по которой меня легко смогли бы связать с жертвой, – дипломатично ответила Амалия, и граф тотчас же вспомнил доходившие до него смутные слухи о том, что очаровательная баронесса в свое время занималась какими-то темными делами и чуть ли не шпионила для Особой службы Российской империи. – Беда, однако, в том, что сама я не видела в поезде ни единого знакомого лица. Проще говоря, ни одного человека, которого я могла бы пожелать прикончить. – Она шевельнулась в кресле. – Ну что, господа мушкетеры? Обговорим для верности еще раз нашу версию, как все случилось?
– Разумеется! – воскликнула Мэй.
– Итак, я сажусь в поезд. В этом же поезде оказываются еще двое: будущий убийца и будущая жертва. Убийца видит меня, узнает и решает, что я идеально подхожу на роль bouc émissaire[182]. Далее происходит вот что: Мэй разбивает флакон духов, и мы покидаем купе. Убийца проникает внутрь и крадет перчатку, чтобы подбросить на место будущего преступления.
– Он проник через окно! – воскликнула Мэй. – Ведь оно было открыто!
– Нет, – огорошила ее Амалия, – залезать в окно движущегося поезда слишком сложно. Полагаю, убийца попросту открыл дверь отмычкой, когда кондуктор отлучился. Затем я возвращаюсь из вагона-ресторана, сразу же замечаю пропажу, и это меня озадачивает. Ночью совершается убийство. Возможно, что-то из происходящего слышит сквозь сон графиня де Мирамон, но пока это только догадки, и чтобы исключить эту версию, мне надо осмотреть десятое купе. Я вполне допускаю, что графиня ничего не слышала и была просто взвинчена, что вполне объяснимо. Далее: труп находится где-то, где его могут обнаружить не сразу, потому что по приезде в Ниццу никто еще ничего не знает и нет никакого переполоха. Возможно, это одиночный пассажир в купе, где, кроме него, никого нет. Труп на диване, рядом моя перчатка – пожалуйста, не утруждайтесь, господа полицейские, убила именно она, то есть я. – Амалия перевела дух. – Итак, поезд в Ницце. Мы с Мэй выходим, и тогда убийца решает утопить меня окончательно и подбрасывает нож в мой, как он думает, чемодан. На одной из следующих станций, а может быть, уже в Ницце он преспокойно сходит с поезда. По его мысли, кондуктор обнаруживает труп, зовет полицию, полиция находит перчатку, устанавливает, что она моя, а тут горничная разбирает мой чемодан и находит орудие убийства. Finita la comedia[183]. Но он ошибся чемоданом, и поэтому мы сейчас играем в кардинала и мушкетеров, чтобы понять, что же все-таки случилось. Я нигде не ошиблась?
– По-моему, – сказал священник, – все выглядит вполне логично.
– Это-то и плохо, – с досадой ответила Амалия. – Потому что вопреки тому, что пишут в детективах, люди очень нелогичные существа, и преступники в том числе. Поэтому на всякий случай оставим в запасе вариант, при котором перчатку украли и нож подбросили в один прием. Но тогда надо думать опять-таки о таком месте, где труп долго не обнаружат, и о том, что для этого жертву полдня никто не должен был тревожить, ни кондукторы, ни попутчики.
– Что ж, допустим, кто-то купил сразу два места в одно купе, – сказал граф, – так часто делают, если хотят ехать в одиночестве. Этот человек сразу же лег спать, сказав кондуктору, чтобы его ни в коем случае не беспокоили. А ехал он… ну, предположим, до Вентимильи. В Вентимилье кондуктор постучал, потом открыл дверь своим ключом и увидел, что пассажир мертв.
– Я совершенно запуталась, – пожаловалась Мэй. – Так когда его убили – днем или ночью?
– Этого мы, к сожалению, точно не знаем, – улыбнулась Амалия. – Мы даже не уверены, что это именно он, а не она, к примеру. По большому счету мы ведь так и не сдвинулись с места. Мы по-прежнему отталкиваемся от трех странностей – перчатки, ножа и трупа, которого нет, хотя по всем признакам должен быть. Но мы уже видим, что из Парижа срочно прислали Папийона. На кону какие-то серьезные интересы. И мне очень хочется узнать подоплеку этого дела. Потому что я никому не спускаю, – прибавила она изменившимся тоном, – когда меня пытаются водить за нос.
Глава 16 Приправа и мысли сорокалетней давности
Месье Раймон Босежур всегда считал, что его работа – одна из самых трудных на свете. Он убедился в этом еще раз, когда докладывал Клариссе результаты очередной слежки за ее внучкой.
– Утром она отправилась на почту и послала деньги родителям в Англию. Затем…
– Много послала? – проворчала Кларисса.
Месье Босежур немного подумал.
– Больше половины того, что выиграла в казино, – сказал он.
– А на остаток отправилась играть снова? – сварливо спросила Кларисса.
– Нет, – ответил сыщик. – Она отправилась в «Гранд-отель» и встретилась там с графом и графиней де Мирамон, а затем в сопровождении графа де Ламбера поехала на виллу баронессы Корф. Через некоторое время туда прибыл и мистер Фрезер.
– Опять! – буркнула Кларисса. – И о чем они разговаривали?
Босежур развел руками.
– Если бы они вели беседу в саду, я бы услышал, о чем шла речь, но в доме…
– А подкупать слуг вас не учили? – поинтересовалась Кларисса, чье настроение, похоже, менялось от плохого к худшему.
– Слуги баронессы Корф получают очень хорошие деньги, – дипломатично ответил Раймон. – Они все привыкли держать язык за зубами, потому что лишаться хорошего места никому не хочется.
– Не понимаю, за что я плачу деньги вам, – раздраженно объявила Кларисса. – Вы хоть узнали, зачем ей понадобились де Мирамоны?
– Она разговаривала с ними о приходе полицейских и происшествии в поезде, – объяснил сыщик.
– С посторонними людьми? – изумилась старушка. – А почему бы ей не поговорить об этом со мной, к примеру, если эта дурацкая пропажа так ее взволновала?
При желании месье Босежур мог бы объяснить Клариссе, отчего внучка не желала делиться с ней своими переживаниями, но такого желания у месье Босежура не возникло, и потому он просто промолчал.
– Если вам больше нечего сказать, можете идти! – объявила Кларисса.
Едва сыщик удалился, она обратилась к двери, которая вела во внутренние покои.
– Ну и что ты обо всем этом думаешь? – спросила у нее старая дама. – Я же отлично знаю, что ты подслушиваешь!
– Ничего я не подслушиваю, – ответила дверь голосом Бланшара. Она приотворилась, и оказалось, что адвокат действительно стоит на пороге. – Я просто шел мимо.
– Юбер!
– Я не хотел тебя беспокоить!
– Юбер Бланшар, вы негодяй, – капризно объявила Кларисса, падая на софу, – а моя внучка, судя по всему, снобка. Родная бабушка для нее недостаточно хороша, видите ли, зато шушукаться с графами, баронессами и графинями – самое оно.
– Клар…
– Да, снобка! А поскольку снобизм – приправа для отсутствия мозгов, как всегда шутил… кто это был, Юбер? Мой друг писатель Лемэр или мой друг академик Галле? – Бланшар открыл рот, чтобы сказать, что он впервые слышит эту фразу, но Кларисса его опередила: – Неважно, в общем, они оба были правы. И почему она не пошла в казино снова? Она должна была проиграть все, вплоть до ленты на шляпке, и потом целую неделю жаловаться на то, что удача не бывает вечной. Юбер!
– Да, любимая? – откликнулся адвокат, с обожанием глядя на нее.
– Не смотри на меня такими глазами, мне начинают в голову лезть мысли сорокалетней давности, – осадила его Кларисса. – Я совершенно разбита, совершенно! Я так хотела, чтобы меня оставили в покое, и теперь, когда мое желание исполнилось, я просто в ярости! Но самое главное, что этот мерзавец Кристиан, судя по всему, с ней заодно. А ведь я принимала его в своем доме!
Пока на вилле «Маршал» Бланшар пытался убедить хозяйку, что все не так плохо, как кажется, на соседней вилле мерзавец Кристиан, дождавшись, пока Уолтер и Мэй уйдут, пытался отстоять интересы Клариссы. Он вновь завел речь о возвращении беглых павлинов их законной владелице, и на сей раз Амалия, казалось, выслушала его более благосклонно.
– Ну хорошо, – сказала она, – пойдем посмотрим, о ком речь. Потому что у себя в саду я ни одного не видела.
Так они вдвоем совершили прогулку до романтических развалин, о существовании которых, по правде говоря, Амалия успела подзабыть. Впрочем, теперь живописные руины можно было смело окрестить Павлиньим островом, – столько там было этих замечательных птиц.
– Да, – сказала Амалия, улыбаясь.
Ветер, налетающий с моря, играл шелком ее платья и развевал зеленую ленту, которой оно было украшено вместо пояса, и Амалия придержала ее рукой. Большой павлин, заметив молодую женщину, сначала отбежал на несколько шагов, но затем осмелел, распустил хвост и принял горделивую позу. Амалия двинулась дальше, но павлин забежал на дорожку перед ней и стал кружиться, показывая свой роскошный хвост со всех сторон.
– И это все павлины мадам Клариссы? – спросила Амалия.
– У нее было двадцать семь птиц, – объяснил Кристиан. – Когда я был здесь, то насчитал больше двадцати. Видите вон того унылого? Он сбежал последним.
– И правильно сделал, – неожиданно сказала Амалия. После чего огорошила графа де Ламбера сообщением, что павлинов не отдаст.
Кристиан стал взывать к ее здравому смыслу, чувствам, включая законное чувство собственности, напомнил, как тихая старая женщина (Кларисса, конечно) мечтала сидеть в своем саду и смотреть на павлинов, – напрасно: Амалия ничего не желала слушать.
– Она-то, может быть, и хочет их видеть, – сказала она, блестя глазами, – вопрос в том, хотят ли они видеть ее.
И с этими словами повернула обратно к дому.
Кристиан понял, что ему придется либо пропустить следующую гонку, либо просить денег у отца. Договориться с Амалией казалось проще, и он решил предпринять еще одну попытку.
– Сударыня, но ведь это все-таки не ваши птицы!
– Достаточно того, что они на моей земле, – возразила Амалия, – потому что все, что здесь, находится под моей защитой.
Кристиан тотчас же увидел логическую брешь и не замедлил в нее устремиться:
– Но это же абсурд, госпожа баронесса… Вот я, к примеру, нахожусь на вашей земле. И что это значит?
Амалия усмехнулась.
– Это значит, что вы тоже, – серьезно сказала она, – пока вы здесь.
Кристиан надулся. Надежда на помощь эксцентричной старой дамы таяла с каждым мгновением, а кроме нее, рассчитывать было не на кого.
– Я очень благодарен вам за ваше намерение, сударыня, – сдержанно начал он, – но от кого вы собираетесь меня защищать?
– Ну, может быть, от того же, от кого и павлинов, – заметила Амалия, и в глазах ее вспыхнули искры. – А это правда, что автомобилям, как и лошадям, хозяева дают собственные имена?
Немного удивленный таким оборотом беседы, Кристиан тем не менее подтвердил, что так оно и есть.
– То есть если кто-то предоставит вам автомобиль для гонок, но пожелает назвать его как-нибудь по-особенному, это возможно? – продолжала Амалия.
Кристиан мрачно поглядел на нее.
– Никто не даст мне автомобиль для гонок, – сказал он с вызовом, – хотя бы потому, что он может разбиться.
– Я дам, – сказала Амалия так просто, что можно было подумать, что в 1897 году автомобиль был не предметом роскоши, а самой обыкновенной вещью вроде пары перчаток или веера.
– Но у вас нет автомобиля!
– Значит, вы поможете его купить, – безмятежно ответила баронесса.
Тут, надо признаться, Кристиан не на шутку рассердился.
– Мне кажется, сударыня, – проворчал он, – что вы пытаетесь подкупить меня, как… как мисс Уинтерберри. Вы подарили бедной девушке дорогое платье, и она теперь на все готова ради вас, потому что раньше ей никто ничего подобного не дарил. Но я…
– Вы просто глупый мальчик, – отозвалась Амалия безмятежно. – Если бы я хотела вас подкупить, то уж точно использовала бы не деньги.
И она с удовольствием увидела, как храбрый д’Артаньян покраснел, как спелая вишенка.
– Лучше подумайте над моим предложением, – продолжала Амалия. – Машина моя, но выбираете ее вы. На гонках она будет носить то имя, которое я скажу. А во всем остальном предпочитаю положиться на вас, потому что ничего не понимаю в марках и типах моторов.
Кристиану ужасно хотелось произнести длинную речь о том, что он все-таки не ребенок и с ним не следует так обращаться, но они уже дошли до дома. Лакей вышел Амалии навстречу и вручил ей телеграмму. Распечатав ее, Амалия нахмурилась.
Ответ гласил: «СОЖАЛЕЮ НИЧЕМ НЕ МОГУ ПОМОЧЬ ИСКРЕННЕ ВАШ».
Утром Амалия лично побывала на почте, чтобы отправить в Париж российскому резиденту О. телеграмму с оплаченным ответом. Телеграмма содержала шифрованный запрос, кто из враждебных агентов недавно был в Париже и мог иметь интересы на юге Франции. По мысли Амалии, все, что случилось в поезде, имело под собой крайне конкретную подоплеку – ее прежнюю деятельность, а раз так, любые сведения могли оказаться весьма кстати.
И вот теперь О., которого она знала много лет, О., который в глаза и за глаза называл ее «гордостью нашей Особой службы», попросту отказался помочь, – тот самый О., которого она вытаскивала из нескольких серьезных передряг и который когда-то клялся ей в дружбе до гроба.
Ей внезапно стало так обидно, словно отказ обесценивал и перечеркивал ту часть ее жизни, которая была связана с приключениями, тайнами, деликатными поручениями и трудной, напряженной деятельностью, которая не раз могла стоить Амалии здоровья, а то и жизни. Но тут Амалия вспомнила кое-что и сказала себе: «А что, если этот ответ вовсе не от О.?»
Дело в том, что утром, на почте, она ощутила нечто. У людей, которые долго и упорно занимаются какой-нибудь опасной, непростой работой – ловят преступников, к примеру, или служат в разведке, – инстинкт развивается иначе, чем у обычных людей, оттачивается, совершенствуется и порой приобретает масштабы настоящего ясновидения. Утром на почте все было как всегда, и служащие за конторками сидели самые обыкновенные, но Амалия каким-то сверхъестественным чутьем угадала, что что-то не так. И это ощущение не покидало ее, пока она сама не покинула здание почты.
Папийон держит ее на подозрении, это ясно. Что, если он решил просматривать ее корреспонденцию? Конечно, в телеграмме говорилось о шелке, а не об агентах, но догадаться, что одно подменило собой другое, не так уж сложно, особенно если узнать, кому телеграмма направлена.
– Что-то не так? – спросил Кристиан.
«Надо ехать в Париж, – подумала Амалия, – и встретиться с О. лично. Он или не он прислал мне ответ, но при встрече ему придется все мне рассказать».
Однако она тут же вспомнила, что завтра она отправляется в противоположном направлении вместе с экспрессом «Золотая стрела», чтобы понять, что случилось в поезде. Такое поручение никому нельзя было передоверить.
– Не забудьте взять билеты, – сказала она Кристиану. – Жду вас на вокзале завтра утром, заезжать за мной не надо.
И, кивнув ему на прощание, быстрым шагом взбежала по ступеням.
* * *
Набросок второго письма, найденный в сафьяновой книжечке Мэй Уинтерберри
Дорогая Флора!
Радуйся, я была в Монако и выиграла в казино. Конечно, половину денег сразу же послала домой, но все равно, тебе хватит на новое платье и шляпку, а еще я пришью тебе новые руки.
Тут происходит много всего таинственного, мы строим версии, и еще я стала Портосом. Я участвовала в расследовании, представь себе! Джек бы, наверное, никогда не поверил! Но пока расследование приостановлено, потому что А. должна кое-что выяснить, и она сказала, что до ее возвращения ничего предпринимать не надо.
Про Уолтера мне говорили, что он женится, а потом за ужином Бланшар сказал, что вряд ли. Я думаю, что адвокатам вполне можно верить в таких вещах. Он, правда, прибавил, что Уолтер скорее повесится, чем свяжет себя с одной из мисс Б., но к чему это сказано, я так и не поняла.
Бабушка все расспрашивала меня, где я была и куда ходила, а потом стала жаловаться, что я совсем не желаю ее знать. Она предложила мне сыграть на фортепьяно, но у них такое красивое фортепьяно, такое дорогое, все в позолоте, что я немножко струхнула и сказала, что играть не умею. По-моему, они мне не поверили.
Еще бабушка поссорилась с графом де Ламбером, то есть хотела поссориться, но он сразу же сообразил, куда ветер дует, откланялся и ушел. Я надеюсь, это не повлияет на его решение быть нашим д’Артаньяном. Хотя, по-моему, из всех наших лучше всего кардинал Ришелье. И почему мистер Дюма ничего не написал об этом?
Глава 17 Путешественники без багажа
Когда на следующее утро Кристиан явился на вокзал, Амалия уже в нетерпении расхаживала по перрону, постукивая каблучками.
– Я смог купить билеты только в первый вагон, а не во второй, – сказал граф извиняющимся тоном.
– Это не так важно, – ответила Амалия. – В конце концов, мы можем и перепутать купе, – исключительно по рассеянности.
По мысли графа, госпожа баронесса была последним человеком в мире, который мог страдать рассеянностью, но тут его мысли приняли совершенно иное направление, потому что Амалия понизила голос и совершенно будничным тоном спросила:
– За нами следят?
– Не думаю, – ответил Кристиан, немного смутившись, – во всяком случае, я никого не заметил.
– Плохо, – заметила Амалия. – Потому что следить, конечно, должны. Папийона не надо учить таким вещам.
Экспресс «Золотая стрела» вплыл под своды вокзала, и с первого же взгляда Амалия убедилась, что Кристиан не ошибся и взял билеты именно на тот состав, который был им нужен. Молодая женщина отлично помнила, что у стрелы на их локомотиве не хватало одной маленькой полоски, символизировавшей оперение. Сейчас ее тоже не было, и Амалия, воспрянув духом, поднялась в вагон.
Ей хотелось как можно быстрее оказаться в купе номер 10, чтобы проверить свою догадку, но она подождала, пока поезд тронется, и только тогда сделала знак своему спутнику, что пора идти. Они перешли в соседний вагон. Граф шагал за Амалией, но неожиданно она остановилась и стала рассматривать ручку на окне.
– Что-нибудь нашли? – полюбопытствовал Кристиан.
Амалия, не отвечая, оглядела коридор, двери купе, на которых сверкали номера и эмблемы экспресса. Выражения ее лица граф не понимал.
– Это не тот вагон, – наконец сказала она.
– Простите, – с удивлением начал Кристиан, – но я навел все возможные справки, и это именно тот состав, в котором вы ехали. Ошибки быть не может!
– Да, состав тот, – вздохнула молодая женщина. – Только вот второй вагон первого класса заменили. Догадываетесь, почему?
Хоть и ему не хотелось признаваться, но Кристиан все же растерялся.
– И что же нам теперь делать? – спросил он.
– Искать кондуктора, – отозвалась Амалия, – и надеяться на то, что он хоть что-то сможет прояснить.
– Вот он, – сказал Кристиан, кивая на высокую фигуру в форменной одежде, которая двигалась по коридору навстречу.
Амалия вспомнила, что уже видела этого кондуктора, когда ехала в Ниццу. Это был тот самый волшебник, который убирал из их купе осколки разбитого флакона. Самое интересное, впрочем, заключалось в том, что кондуктор, по-видимому, тоже вспомнил Амалию, и вид у него при этом сделался недоверчивый и самую малость настороженный. Сначала он попятился и попытался изобразить, что идет совсем в другую сторону, но Амалия окликнула его и помахала в воздухе сложенной бумажкой.
– Сударь, – задорно спросила она, – хотите сыграть в лотерею? Приз – сто франков.
Начало беседы, по крайней мере, нельзя было назвать обескураживающим. На лице кондуктора появился интерес.
– Вам угодно шутить, сударыня? – на всякий случай спросил он, косясь на купюру.
– Если и так, моя шутка сделает вас богаче, – отозвалась молодая женщина. – Хотите попробовать? Вы-то ничем не рискуете.
Кондуктор облизнул губы и подошел ближе.
– Если это не противозаконно…
– Как вас зовут? – спросила Амалия.
– Луи Норвэн.
– Так вот, мсье Норвэн, я хочу знать, что стало со вторым вагоном, – проговорила Амалия. – Почему его заменили?
В глазах Норвэна заплескалась паника, но прежде, чем она успела принять размеры стихийного бедствия, Амалия как-то очень ловко сунула купюру кондуктору в карман. Глотнув воздуху, Норвэн выдавил из себя:
– А что со вторым вагоном, сударыня? Ничего не…
– Месье Норвэн! – с укором промолвила Амалия, и в ее пальцах вновь неведомо как материализовалась бумажка, которая только что вроде бы получила постоянную прописку в кармане кондуктора. – За сто франков я желала бы иметь другой ответ. Правдивый, – уточнила она.
– Но меня просили… – прошептал кондуктор и угас.
– Никому не говорить, конечно, – подхватила Амалия. – Ни слова, ни полслова, ни даже намека. – Она прищурилась. – Вы разочаровываете меня, сударь. Повторяю: честный, правдивый и полный рассказ – и эти деньги ваши. Итак?
Кондуктор посмотрел на Кристиана, на Амалию, на сложенную бумажку – и, очевидно, решился.
– Все это произошло из-за пассажира, – торопливым, срывающимся шепотом начал он. – Того, который исчез.
– Как исчез? – удивился Кристиан. Он-то ждал совершенно иного развития событий.
– Обыкновенно, – ответил Норвэн. – Ехал господин в десятом купе, купил оба места, до Ниццы. В Ницце я постучал, потом зашел, может быть, мсье спит – а его нет. При нем чемоданчик был, так чемоданчика тоже не оказалось.
«Значит, он действительно был из десятого купе! – в восхищении подумал Кристиан. – Ах, госпожа баронесса, госпожа баронесса!»
– Как его звали? – спросила Амалия. – Я имею в виду, вашего пропавшего пассажира?
Норвэн как-то угас и стал косить взглядом, ища выход. Амалия решила прекратить его мучения, засунула купюру ему в карман и извлекла из сумочки другую.
– Сударыня, – прошептал Норвэн, – я женатый человек! Меня уволить могут! Полицейские строго-настрого…
– Имя, – тихо проговорила Амалия, и взор ее полыхнул золотом.
– Пьер Моннере, – пролепетал кондуктор, окончательно сбитый с толку. – Его звали Пьер Моннере.
Амалия удовлетворенно кивнула, и вторая купюра присоединилась к первой, которая уже лежала в кармане у женатого человека и образцового служащего.
– Дальше, – подсказал Кристиан, которому не терпелось узнать, чем же закончилась эта история.
– А что дальше, сударь? – вздохнул Норвэн. – Ну мало ли что могло случиться – ехал, к примеру, в Ниццу, но передумал и вышел раньше. Или вспомнил, что в Париже у него неоконченное дело, и решил вернуться. – Норвэн промолчал. – Только если он сошел с поезда, я должен был его видеть. А я не видел.
– Он мог выйти из другого вагона, – заметил граф, и Амалия послала ему предостерегающий взгляд.
– Как он выглядел, этот Пьер Моннере?
– Обыкновенный господин, – отвечал кондуктор. – Лет 50 или 55, седоватый брюнет, плотный, с усами щеткой, хорошо одет. Чем-то похож на коммивояжера, но, по-моему, не коммивояжер.
«Коммивояжер в ресторане! – внезапно вспомнила Амалия. – Он сидел, развернув газету… Он или не он?»
– Скажите, месье Норвэн, Моннере выходил в вагон-ресторан? – спросила она.
Норвэн удивленно посмотрел на нее и подтвердил, что пассажир действительно отлучился на какое-то время, а когда вернулся, от него пахло телятиной и вином, и он напевал себе под нос.
– Когда он сел в Париже на поезд, то выглядел очень довольным, – добавил кондуктор. – Как будто только что выиграл или совершил выгодную сделку.
– А что именно он напевал?
– Какой-то мотивчик из «Манон Леско», – ответил Норвэн, подумав.
– Когда он отлучался в вагон-ресторан, то чемоданчик, конечно, брал с собой, – хмуро заметила Амалия.
– Нет, – сразу же ответил кондуктор. – При себе он носил только небольшую сумку.
– То есть в его багаже имелся не только чемодан, но и сумка, – уточнила Амалия. – А он что-нибудь сдавал в багажный вагон?
– Нет, – отозвался Норвэн, – не помню такого. Впрочем, господа полицейские тоже ничего не нашли.
Итак, неизвестный пассажир, немолодой, представительного вида ехал с багажом из двух предметов от Парижа до Ниццы, но по пути загадочным образом испарился. Вместе с вещами.
– Он с кем-нибудь разговаривал в пути?
– Нет, сударыня.
– Может быть, здоровался с кем-нибудь?
– Нет, я ничего такого не помню. Да и господа полицейские меня тоже уже об этом спрашивали, я бы вспомнил, если что. Он просто прошел в свое купе, попросил его не беспокоить и закрыл дверь.
– А потом исчез.
– Да, сударыня.
– А дальше? – не утерпел Кристиан. – Что было дальше?
Норвэн тяжело вздохнул.
– Дальше, месье, все как обычно: мы доехали до Вентимильи и в положенное время отправились обратно. В Лионе к нам нагрянула полиция. Они затребовали список пассажиров предыдущей поездки и стали опрашивать всех кондукторов. И еще… – Норвэн помялся, – велели очистить два купе. Десятое и седьмое. А в Париже отцепили второй вагон, объявили, что забирают его для нужд следствия, и строго-настрого запретили говорить о происшедшем. Наши, конечно, пригнали другой второй вагон, но мне говорили… ну, одна знакомая сказала, что никогда не видела господина директора линии в такой ярости. Префект даже не пожелал объяснить ему, что происходит.
Гм, помыслил Кристиан, тоже мне женатый человек. Хотя – мало ли бывает знакомых на свете? Может, это действительно… подруга жены, к примеру. Или сестры. Может же у кондуктора быть сестра, в самом деле?
– Скажите, месье Норвэн, – спросила Амалия, залезая в сумочку, – а когда вы зашли в десятое купе, собираясь будить Моннере, вы не заметили ничего любопытного? Или такого, что привлекло ваше внимание?
Норвэн задумался.
– Да ничего особенного не было, – ответил он, пожимая плечами. – Постель смята, на ней явно спали. Только вот обшивка продрана в двух местах, но я не думаю, что пассажир стал бы сбегать из-за такой мелочи. С путешественников других классов мы берем штрафы за порчу имущества, но я не помню, чтобы хоть раз оштрафовали пассажира первого класса.
– А до этой поездки обшивка была целой? – спросила Амалия.
– Да, сударыня. Мы же обязаны осматривать все купе, когда поезд приходит в конечный пункт назначения и пассажиры выходят. До этого все было в порядке.
– Если это обычное купе первого класса, то там должно быть зеркало, рукомойник, лампа под оранжевым абажуром, откидной столик и прочее, – перечислила Амалия. – Лампа или зеркало не были разбиты? Столик не был сломан?
– Нет, сударыня, ничего такого.
– Зато в рукомойнике не было воды, – усмехнулась Амалия.
Норвэн открыл рот.
– По правде говоря, я не знаю, откуда вы узнали, но воды действительно не было. Не подумайте, что я нерадив и забываю про воду, ее должно хватать, но…
– Может быть, вы заметили еще что-нибудь, месье Норвэн? Подумайте хорошенько, прежде чем ответить.
Кондуктор замялся.
– В общем-то, это не мое дело, – вымолвил он наконец, – но я бы сказал, что простыни пахли женскими духами.
– Да? Какими именно?
– Ну откуда же мне знать, сударыня… Но приятно, это точно.
– Когда Моннере уезжал из Парижа, какая у него была верхняя одежда?
– Пальто, сударыня. Такое темное, ничем не примечательное.
– Когда он исчез вместе с багажом, пальто тоже исчезло?
– Да. Поэтому я и не волновался особо. Решил, что возникли какие-то обстоятельства, при которых ему понадобилось вернуться. Бывает ведь такое. А что я сам не видел, как он покидал поезд, так он мог перейти в другой вагон и выйти уже из него.
– В 10-м купе, я имею в виду, когда вы туда вошли, вы не заметили никаких посторонних вещей? Перчаток, к примеру, или…
– Нет, – покачал головой Норвэн. – Ничего не было. Все было очень аккуратно. Я хочу сказать… – он замялся, – пассажиры же разные бывают… Но в его купе было очень чисто, даже подметать не надо.
– Не то что у некоторых, которые роняют флаконы, – улыбнулась Амалия.
Норвэн замахал руками, уверяя, что он и в мыслях не имел ничего подобного.
– Кстати, полиция обо мне расспрашивала? – невинным тоном поинтересовалась молодая женщина. – Ведь расспрашивала же, да?
Кондуктор потупился.
– Если уж правду говорить, сударыня, то они из меня всю душу вынули. Сначала двое местных, потом комиссар из Парижа, а потом еще один, которого они называли полковником. Все расспрашивали, что за духи, да зачем духи, да кто ваша попутчица и зачем вы ночью выглядывали.
– А, так вы видели, – улыбнулась Амалия. – Моя попутчица услышала крик. Вы тоже его слышали?
– Я, если честно, немного вздремнул, – признался Норвэн. – Шум меня разбудил, я постучал к госпоже графине, но она из-за двери ответила, что с ней все в порядке, просто приснился неприятный сон.
– И последний вопрос, – сказала Амалия, держа в воздухе очередную стофранковую купюру. – Подумайте хорошенько, прежде чем ответить.
«Вот, – подумал Кристиан, который не упускал ни единого слова из беседы. – Так я и знал, что она приберегла самый главный вопрос под конец».
– Если даже это случилось не в вашем вагоне, – продолжала Амалия, – то вы ведь общаетесь с другими кондукторами, а они непременно должны были заметить. – Граф аж губы кусал от нетерпения. – Скажите мне вот что: в одном из вагонов первого класса случаем не пропадали полотенца и постельное белье?
Кристиан решил, что ослышался. Норвэн вытаращил глаза.
– Знаете, сударыня, очень странно, что вы спросили… Действительно, кондуктор третьего вагона мне говорил, что в одном купе белья недосчитались. Но у нас в дороге всегда под рукой несколько запасных комплектов, если что. А полотенца, по правде говоря, пропадают частенько. В десятом купе, например, не осталось ни одного, хотя я точно помню, что вешал два, как обычно.
– Спасибо, месье Норвэн, что уделили мне время, – сказала Амалия, кладя ему в карман третью купюру. – Надеюсь, что наше общение было плодотворным для всех нас. – Она посмотрела на часы. – На всякий случай должна вас предупредить, что мы с моим другом брали билеты до Вентимильи, но сойдем в Ментоне. Это для того, чтобы полиция вдруг нас не хватилась. Впрочем, вы всегда можете им сказать, что в глаза меня не видели.
И она очаровательно улыбнулась и потянула графа де Ламбера обратно в первый вагон.
Глава 18 Ее преосвященство
– Амалия Константиновна!
– Потом, все потом.
– Госпожа баронесса!
– Граф, полно. Я…
– Ваше преосвященство! – жалобно воззвал граф де Ламбер. – Ну неужели вы ничего мне не скажете?
– А что я должна сказать? – пожала плечами Амалия.
Но Кристиана было не унять.
– Между прочим, – сообщил он, восторженно глядя на свою спутницу, – я читал Шерлока Холмса. И нашего Габорио[184], и множество других авторов. Но не думал, что такое встречается в действительности!
– Что именно? – в изнеможении спросила Амалия.
– Вы ведь все-все поняли? Догадались, в чем дело? А почему вы спрашивали о воде и полотенцах? А кто этот Моннере, вы его знаете?
– Понятия не имею, – отозвалась молодая женщина. – Придется выяснять, кто он и какие у него были резоны пропасть без вести между Парижем и Ниццей. Причем самое интересное заключается именно в том, почему он пропал, а не в том, почему его убили. Причина убийства, я полагаю, окажется банальнее некуда, но вот почему трупа не оказалось в купе…
– Просто убийца столкнул его с поезда. Ударил ножом и столкнул, – вдохновенно предположил Кристиан. – А раньше он полагал, что ему удастся сделать все так, как вы описывали: труп на диване, рядом ваша перчатка… Но Моннере стал сопротивляться и нарушил его планы. Поэтому убийце и пришлось подбрасывать вам дополнительную улику – нож. Конечно! Он это сделал потому, что первая улика не могла сработать!
– Боюсь, что вы неправы, – возразила Амалия. – Раз убийца смог забраться в мое купе, значит, у него был ключ или отмычки. Когда Моннере ушел к себе, он заперся и лег спать, а ночью, когда он спал, к нему явился непрошеный гость, который открыл его купе точно так же, как и мое. Спящий человек не сопротивляется, так что убийце не надо было никого сбрасывать с поезда.
– Тогда где тело? – уже в изнеможении спросил граф. – Или кондуктор нам солгал?
– Я же сказала, что исчезновение тела – самый любопытный момент в этом преступлении, – напомнила Амалия, и ее глаза сверкнули. – Впрочем, думаю, что все скоро прояснится.
– Когда? – загорелся Кристиан.
– Когда в деле появится второй труп.
– Гм, – раздумчиво молвил граф, – должен вам сказать, что я с подозрением отношусь к романистам, которые убивают en masse[185]. Обычно это свидетельствует о недостатке фантазии.
– А в этом деле вообще нет никакой фантазии, – пожала плечами Амалия, – здесь все до крайности прозрачно.
– Только не для меня! А почему вы спрашивали Норвэна о белье? – Амалия, не отвечая, смотрела в окно, но граф не отставал. – Вы сказали, что мы выйдем в Ментоне. Это правда? Что мы будем там делать?
– Мой отец умер здесь от чахотки, он похоронен на местном кладбище, – сказала Амалия. – Я навещу его могилу, а вы можете возвращаться в Ниццу, если вам угодно. Кроме того, должна вам сказать, что сегодня вечером мы с вами отбываем в Париж.
– Я понял, – кивнул молодой человек. – Вы хотите узнать, кто такой на самом деле этот Пьер Моннере.
– В Париже вы подберете себе автомобиль, – сказала Амалия. Кристиан хотел возразить, но она продолжала: – Кроме того, нам надо избавиться от наших влюбленных.
– Ваше преосвященство?
– Ну да, я говорю о Мэй и этом молодом священнике. Дело становится слишком непредсказуемым, думаю, им больше не стоит участвовать.
– Вряд ли Портос и Арамис нас поймут, – заметил Кристиан.
– Дорогой граф, сейчас речь идет уже не об игре в мушкетеров, а о преступлении, за которым может стоять все что угодно. Нельзя подвергать опасности девушку, которая начиталась романов, и поклонника, который ради нее готов на любую глупость. Потому что, если с ними что-то случится, я себе этого не прощу.
– Насколько я знаю, они всего лишь друзья детства. Почему вы называете его ее поклонником?
– Ну так это сразу же видно, – сказала Амалия, улыбаясь. – Впрочем, если даже я неправа, сути дела это не меняет. Надо найти им какое-нибудь безобидное занятие, и пусть думают, что помогают нам. А мы тем временем попытаемся понять, что же именно случилось в «Золотой стреле» и почему события развернулись именно так, а не иначе.
Поезд прибыл в Ментону, и Амалия с графом вышли. На вокзале они взяли фиакр, и Амалия попросила отвезти их на православное кладбище. Вид у нее сделался строгий и сосредоточенный, и Кристиан видел, что мыслями она уже далеко от того загадочного дела, которое так его занимало. Поэтому он не стал задавать вопросы, полагая, что рано или поздно молодая женщина сама все расскажет.
В то время как Амалия и ее спутник вплотную приблизились к разгадке тайны десятого купе, Мэй в Ницце героически выдерживала осаду, которую вела ее бабушка. По совершенно непонятной причине та вдруг сделалась такой доброй, что девушку охватил невольный страх. Ясное дело, расположение Клариссы могло скрывать только какие-то новые козни.
Бабушка поочередно предложила внучке проехаться к модистке, к Альфонсине за шляпками, в парфюмерный магазин и наконец просто – на Английскую набережную подышать свежим воздухом. Правда, по словам Клариссы, Английская набережная была уже не та, ибо англичан в Ницце становилось все меньше и меньше.
На каждое предложение Мэй отвечала отказом, мотивируя тем, что у нее хватает платьев – достаточно шляпок – духи уже есть – а свежим воздухом она вполне может дышать и в саду, никого не утруждая.
– Но я обещаю тебе взять на себя все расходы! – воскликнула Кларисса, раздосадованная тем, что странная застенчивая девушка так упорно сторонилась ее благодеяний. – Может быть, ты все же передумаешь насчет модистки? – Она решила бросить в бой тяжелую артиллерию: – А еще мы можем поехать в ювелирный магазин.
Услышав последние слова, Бланшар, находившийся тут же, едва не проглотил свою сигару. Уж он-то отлично знал, что его подруга не могла покинуть ювелира, не купив хотя бы два-три пустячка стоимостью каждый в хороший автомобиль.
– Большое спасибо, – дипломатично сказала Мэй, – но я не ношу украшений.
Кларисса насупилась.
– Иногда я даже сомневаюсь, что ты моя внучка, – проворчала она. – Женщина должна любить украшения, а мужчина должен любить дарить их женщине, и тогда все идет как по маслу. К примеру, мой первый муж думал, что женщина – это существо, которое должно только вести хозяйство, рожать детей и угождать его родне. К счастью, мой второй муж совсем не такой!
И она задорно покосилась на Бланшара. Однако если Кларисса рассчитывала, что ее слова произведут эффект разорвавшейся бомбы, то она ошиблась.
– Я так и подумала, что он ваш муж, – серьезно сказала Мэй.
– Да? – сварливо спросила Кларисса. – Почему, интересно?
– Ну, – протянула Мэй, розовея, – иначе он не выходил бы утром из вашей спальни.
Бланшар издал сдавленный звук и нагнулся, чтобы скрыть улыбку. Кларисса хотела ответить, что по столь пустяковой причине можно объявить женатыми любых людей, которые даже слышать не хотят слово «свадьба», – не говоря о таких, которые уже женаты, причем вовсе не на тех, от кого выходят утром. Но она посмотрела на открытое честное лицо Мэй – и слова замерли у нее на языке.
– Если ты вдруг передумаешь, – сказала Кларисса, – я имею в виду насчет магазинов…
Однако Мэй уже поднялась с места, пробормотала какое-то извинение и поспешно сбежала в свою комнату.
Едва она ушла, как адвокат дал себе волю. Он упал на диван и разразился таким хохотом, что в доме напротив собака полковника Барнаби насторожила уши, а затем залилась сердитым лаем.
– Юбер! – возмутилась Кларисса. – Ну что смешного?
Но она и сама не выдержала и вскоре хохотала вместе со своим верным другом, супругом и сообщником во всех проказах.
– Я сначала думал, что она притворяется, – объяснил адвокат, вытирая слезы, которые от смеха выступили у него на глазах. – Но подделать такую наивность просто невозможно.
– Значит, тебе она тоже нравится? – спросила Кларисса. Однако Бланшар не успел ответить на этот щекотливый вопрос, потому что сверху неожиданно донесся какой-то грохот.
Дело было вот в чем: когда Мэй поднялась в свою комнату, она заметила, что шпильки плохо держат ее прическу, поэтому она решила уложить волосы снова. Она вытащила шпильки, расплела прическу, взяла расческу и стала причесываться перед зеркалом, думая о том, что сейчас делает Амалия и удалось ли ей найти что-нибудь в десятом купе. Тут Мэй заметила, что забыла вытащить из волос еще одну шпильку и та упала на пол.
Мэй наклонилась и подобрала шпильку, а когда распрямилась, в зеркале вдруг оказалось два отражения. Одно-то было ее, но вот второе принадлежало господину средних лет с лицом злым и решительным, с узкими губами, сжавшимися в тонкую полоску.
Оторопев от столь дерзкого вторжения, Мэй собиралась задать незнакомцу вопрос, что он здесь делает и как он смел войти в комнату приличной девушки, но не тут-то было. Господин, оказавшийся на добрую голову выше, без всяких околичностей схватил ее за горло и сдавил его.
– Где аквилон? – прошипел он в лицо Мэй, брызгая слюной. – Куда вы дели аквилон?
Мэй вытаращила глаза и сдавленно захрипела, не понимая, о чем речь. Когда на нее напали, она выронила расческу и теперь свободной правой рукой пыталась разжать пальцы, державшие ее за горло, но господин, похоже, вовсе не собирался ослаблять хватку. В левой руке у Мэй до сих пор была зажата шпилька, и, вспомнив о ней, девушка взмахнула рукой и несильно ткнула остриями шпильки господину в лицо.
Тот вскрикнул и машинально разжал руки.
– На помощь! – прохрипела Мэй и бросилась бежать, но врезалась в столик и упала. Столик опрокинулся вместе со всем, что на нем стояло, и произвел грохот, которому могла бы позавидовать знаменитая петербургская пушка, отмечающая полдень. На лице незнакомца Мэй прочитала неодолимое стремление убить ее прямо здесь и сейчас, но в это мгновение на лестнице раздался топот, и кто-то стал дергать ручку двери, которую Мэй по привычке заперла на ключ.
– Мадемуазель Мэй! Что с вами? – кричал адвокат.
– Мэй, что случилось? – Это уже была Кларисса.
– Ничего, я до вас еще доберусь! – пригрозил незнакомец. Миг, и он был уже на подоконнике открытого окна, откуда благополучно спрыгнул в сад.
Плача от страха и пережитого волнения, Мэй поползла к двери. У нее не было сил встать, но тут замок поддался, дверь распахнулась, и первой на пороге оказалась бабушка.
– Мэй! Что происходит?
Мэй замотала головой, размазывая по лицу слезы.
– Человек… Тут был человек…
На большее ее не хватило, и она разрыдалась. Кларисса подбежала к внучке и стала поднимать ее с пола. Бланшар осмотрел комнату.
– Здесь на подоконнике чей-то след, – заметил он и, перегнувшись через подоконник, высунулся в сад. – Но в саду никого нет. Он убежал.
– Мне нужен кардинал… – сквозь слезы проговорила Мэй.
– Что? – Кларисса оторопела.
– Кардинал… Он все знает! И свя… священник. Мне нужен Уолтер!
Взрослые переглянулись. По правде говоря, они ничего не поняли.
– Дорогая, ты что, хочешь перейти в другую веру? – осторожно спросила бабушка. – Как говорила моя знакомая, веру надо выбирать еще осторожнее, чем будущего мужа. А уж она-то знала толк в мужьях!
– Это что, Нини? – прищурился Бланшар. – Насколько я помню, все закончилось тем, что очередной муж ее застрелил.
– Нет, – ответила Кларисса сердито, – Аманда.
– Невелика разница, – отозвался адвокат. – Эту супруг обчистил до нитки и бросил. Помню, я видел, как она побиралась на Монмартре. А ведь какие праздники когда-то закатывала! Знаешь, во времена империи…
– Юбер! – Кларисса сделала страшные глаза.
– Он пытался меня убить, – прошептала Мэй, не слушая их. – Он хотел меня убить!
– Кардинал? – изумился Бланшар. Раздосадованная тем, что ее совершенно не понимают, Мэй разразилась громким плачем.
– Нет, конечно! Другой!
…Едва Амалия вернулась в Ниццу, как к ней примчался встревоженный Уолтер и сообщил о нападении. Бросив все, баронесса в сопровождении Кристиана и священника поспешила на виллу «Маршал».
Мэй лежала в постели, и три лучших врача Ниццы, которых вызвала Кларисса, по очереди предписали ей отдых и полный покой. Вслед за врачами явился и инспектор Депре, но Мэй не пожелала с ним говорить, и ему пришлось удалиться.
Кларисса, похоже, всерьез восприняла роль доброй бабушки, потому что теперь она наотрез отказывалась пускать к Мэй троих друзей да еще дать им говорить с внучкой наедине. Насупившийся Бланшар стоял возле жены и буравил глазами Амалию.
– Должен вам сказать, дамы и господа, – внезапно объявил он, – что все это чрезвычайно странно. До сих пор в городе не было случаев дневных нападений на виллы, да еще в присутствии хозяев.
– Может, это был похититель павлинов? – не моргнув глазом предположила Амалия. – Или мы имеем дело с заговором наследников покойного маршала? Мало ли что может взбрести в голову людям, которые лишились целого миллиона!
– Вы все шутите, сударыня, – с подобием улыбки промолвил адвокат. – А я вот вспоминаю, что в поезде, которым вы ехали, произошло какое-то темное дело. Настолько темное, что из Парижа сюда прислали комиссара Папийона, и он был в этом доме, хоть и полагал, будто я настолько забывчив, что не признаю его в лицо. Между прочим, – тут Бланшар покосился на Мэй, – он выпытывал у внучки моей жены, где вы были и что делали.
Как видим, адвокат хоть и постарел, однако же не лишился былой проницательности, и, по правде говоря, Кристиану де Ламберу сделалось малость не по себе. Он-то привык считать Бланшара старым чудаком, а тот, оказывается, вовсе не утратил прежней хватки.
– Что ты имеешь в виду, Юбер? – обратилась к нему встревоженная жена.
– Я имею в виду, – ответил адвокат, испытывая мало понятное людям другой профессии удовольствие от того, что сейчас он припрет оппонента к стенке, – что нападение на твою внучку может быть как-то связано с тем, что произошло в поезде. А стало быть, и с баронессой Корф.
И он улыбнулся своей тонкой улыбкой, о которой в свое время знаменитый прокурор Реми де Фужероль говорил, что один вид ухмыляющегося Бланшара вызывает у него приступ язвенной болезни, колики и разлитие желчи разом.
– У меня другое объяснение, – сказала Амалия, и Кристиан тотчас же весь обратился в слух. – Что, если нападение подстроили вы, чтобы заставить мисс Мэй поскорее вернуться домой? И именно поэтому вы теперь не хотите, чтобы она мне все рассказала, потому что такие шуточки чреваты серьезными неприятностями. Это вам не китайская ваза и не пара подброшенных ложек.
Улыбка Бланшара несколько померкла.
– Дорогой, – вмешалась его жена, и голос ее прямо-таки источал мед, – я полагаю, что так мы можем дойти до бог весть чего. В конце концов, друзья Мэй – наши друзья, не так ли? – Говоря, она пребольно ущипнула его за руку. – Мой лакей проводит вас, но я очень прошу вас, господа и вы, сударыня, не утруждать бедняжку. Ей и без того досталось.
Когда двое мушкетеров и кардинал удалились, Бланшар сердито обернулся к жене:
– Кларисса, я не люблю лезть в чужие дела, ты же знаешь, но тут может быть так, что ей понадобится помощь адвоката. Зачем ты разрешила им говорить с ней без нас? Мы должны знать, что происходит, в конце концов!
– Дорогой Юбер, – снисходительно промолвила его половина, грациозно пожимая плечами, – до чего же ты наивен!
После чего она провела его в комнату, которая находилась под комнатой Мэй, и королевским жестом указала на камин.
– Каминная труба, – пояснила Кларисса. – Зачем в наши дни подслушивать у замочной скважины, когда есть другие пути? Секретничать – это их право. Зачем же им мешать, верно?
Не удержавшись, адвокат расцеловал Клариссу, и поэтому они пропустили начало разговора Амалии с Мэй.
– Как вы себя чувствуете? – спросила Амалия, присаживаясь к Мэй на кровать.
Мэй храбро объявила, что сейчас все хорошо, а тогда она ужасно испугалась.
– У меня была только шпилька, и я… Видели бы вы меня! Он схватил меня за горло, а я отбивалась шпилькой, как шпагой! – И она еще раз повторила эту фразу, довольная, что нашла эффектный оборот. Ее щеки раскраснелись, глаза сверкали. Без сомнения, какой-нибудь бессердечный человек не преминул бы заметить, что нападение только пошло Мэй на пользу: она похорошела, и от былой застенчивости не осталось и следа.
– Мэй, ты самая храбрая девушка на свете! – вырвалось у священника.
– Уолтер, сделайте одолжение, – вмешалась Амалия, – посмотрите, не стоит ли кто за дверью. Никого нет? Прекрасно. Господин граф! Передвиньте, будьте добры, эти ширмы поближе к камину. Вот так, очень хорошо. Прошу всех говорить потише, – так, на всякий случай. А теперь к делу. Мэй, как именно выглядел ваш гость? Опишите мне его как можно подробнее.
Мэй ответила, что человек был высокий, и, подняв ладонь над головой, показала, на сколько он был выше ее. Ему около тридцати пяти, у него усы, а теперь еще и две царапины на лице, в том месте, куда она попала шпилькой.
– Жаль, что слуги стерли с подоконника след, – вздохнула Амалия. – А садовник или кто-нибудь еще его не видел?
Мэй ответила, что, кажется, нет.
– У него был акцент? – продолжала Амалия. Но Мэй этого не помнила.
– О! – Она встрепенулась. – Я вспомнила, как это называется в книгах, особую примету, да! Когда он заговорил, я увидела, что у него не хватает части зуба. То есть…
– Половины верхнего переднего резца, – кивнула Амалия. – Так что именно он вам сказал?
– Вы его знаете? – изумился граф.
– Как только я поняла, что речь идет о господине, который с легкостью забирается на второй этаж и без ущерба для себя выскакивает из окон, я уже тогда предположила, с кем мы имеем дело, – ответила Амалия. – Итак, Мэй, мне нужно дословно все, что он сказал. Чего он хотел от вас?
– Он искал аквилон, – ответила девушка изменившимся голосом. – И все время повторял, куда мы его дели.
В комнате повисло недоуменное молчание.
– Да, – уронила наконец Амалия, – это любопытно.
– Позвольте, – проговорил Кристиан, волнуясь, – но ведь аквилон – это северный ветер? Или я чего-то не понимаю?
– Мэй, может быть, ты не так его поняла? – предположил священник. – При чем тут ветер и куда его можно деть?
– Я тоже ничего не понимаю, – призналась Мэй. – Но только в одном я уверена: он говорил именно об аквилоне. Он повторял и повторял это слово. И… – она запнулась, – по-моему, он был очень рассержен. Он действительно считал, что аквилон находится у нас.
Глава 19 Волшебный сверток и третье мороженое
– Воля ваша, – объявил граф, – но я не вижу никакого смысла.
Однако священник придерживался другой точки зрения.
– Я думаю, то, что мы не видим смысла, не значит, что его нет на самом деле, – сказал он.
– Вот именно, – поддержала его Амалия. – Аквилон как ветер не может иметь к делу никакого отношения. Очевидно, это обозначение чего-то другого… иными словами, код.
– Да, но в таком качестве аквилон может означать все, что угодно, – заметил граф.
– Или кого угодно, – подхватил священник. – Что, если аквилон – это фамилия или прозвище?
– Что ж, будем иметь в виду, – сказала Амалия. Она поглядела на часы и поднялась с места. – Мы с графом сегодня уезжаем искать отгадку дела в Париже. Что же касается вас…
Мэй подпрыгнула на месте.
– Как! Вы уедете? А как же я? Как же Уолтер?
– Разумеется, Арамис будет приглядывать за Портосом, – сказал граф с улыбкой. – Ведь Портосу здорово досталось!
Однако Мэй упрямо замотала головой:
– Я не хочу! Не хочу здесь оставаться! Я поеду с вами!
Она откинула одеяло и сделала попытку подняться на ноги.
– Мэй, это вовсе не шутки, – серьезно сказала Амалия. – На вас сегодня напали, куда же вы поедете? Вам нужно отдыхать и набираться сил.
– Я уже набралась сил! – вскричала Мэй. – И… я очень хочу вам помочь! Я ужасно испугалась, это правда, но теперь я рассердилась! Пожалуйста, миледи, возьмите меня с собой!
– Мэй, – несмело начал Уолтер, – я думаю…
– Ты тоже поедешь с нами, конечно, – подхватила Мэй. – Заодно будешь присматривать за мной. Обещаю, я вас не подведу!
Обескураженный священник умолк. Он имел полное право сказать, что его присутствие необходимо в церкви, что леди Брэкенуолл… но внезапно он поймал себя на той же мысли, что и Мэй. Он понял, что рассердился, а рассерженный человек может своротить горы. Кем бы ни были эти люди, у них нет никакого права нападать на Мэй, и Уолтер Фрезер был полон жажды их проучить. Все остальное могло подождать, особенно леди Брэкенуолл с ее матримониальными планами и невыносимыми дочками. К слову, невыносимыми они казались Уолтеру вовсе не потому, что обладали пугающей внешностью и не могли похвастаться особым приданым, а потому, что были бесцеремонны, навязчивы и недобры.
Амалия выразительно поглядела на графа, и Кристиан решил, что настало его время вмешаться.
– Мадемуазель Мэй, ехать сейчас для вас – верх безрассудства, – начал он.
– Конечно, – на удивление легко согласилась Мэй, – когда у меня на шее такие синяки! – До прихода Амалии и друзей она украдкой рассматривала свою шею в зеркале.
– Мэй, – в изнеможении сказала Амалия, – я не думаю, что ваша бабушка вас отпустит.
– Моя бабушка только счастлива от меня отделаться, – возразила Мэй. – И вообще я уже взрослая. У нее нет на меня никаких прав.
В комнате, расположенной под спальней внучки, Кларисса Бланшар с неудовольствием отошла от камина.
– Наконец-то стало слышно, когда они заговорили громче, – проворчала она, чихая от пыли. – Но как она обо мне говорит! Лучше бы я этого не слышала, честное слово.
Она с возмущением раскрыла веер и принялась обмахиваться. В комнате наверху Амалия вздохнула и вновь посмотрела на часы.
– Хорошо, – внезапно сказала она, – вы едете со мной. Вы, разумеется, тоже, мистер Фрезер. С одним условием: в Париже станете делать только то, что скажу я, тем более что вас ждет очень, очень ответственная задача. Договорились? У вас есть два часа, чтобы собраться.
И она удалилась, недовольная собой. Ей не удалось отделаться от этих детей, как она называла про себя Мэй и Уолтера. Но что делать с их настойчивостью, непосредственностью, с этими умильными, блестящими глазами? И священник тоже хорош – казался таким рассудительным, таким скучным и так легко пошел на поводу у своей подруги детства.
«В конце концов, – подумала Амалия, – в Париже найду, чем их занять. И больше никаких опасных приключений».
На выходе из дома ее нагнал Кристиан де Ламбер. «Вот еще один великовозрастный гаврош, – мелькнуло в голове у Амалии. – По-детски радуется любому риску. Почему так происходит – потому ли, что современная жизнь скучна и упорядоченна, или это просто свойство некоторых беспокойных натур, авантюрная жилка, которая либо есть, либо ее нет?»
Откроем читателю правду – когда Амалия собиралась ехать в Париж вместе с графом, она на самом деле тоже рассчитывала незаметно от него отделаться, переключив его внимание на дорогие его сердцу автомобили, а сама без помех заниматься расследованием. Теперь, когда она знала по крайней мере одного человека, замешанного в происходящем, это было значительно проще.
– Значит, мы поедем в Париж все четверо? – спросил Кристиан.
– Разумеется, – сказала Амалия.
У графа вертелся на языке вопрос, но он предпочел оставить его при себе. Дело в том, что Кристиан был далеко не глуп и сразу же понял, что Амалия кое о чем умалчивает. Вот и сейчас, например, она ничего не сказала о человеке, который напал на Мэй, хоть ясно, что Амалии он известен. Словом, хоть кардинал Ришелье и сотрудничал с тремя мушкетерами, но он все равно оставался скрытным и непредсказуемым, как и подобает истинному герою Дюма.
Итак, вечером того же дня четверо сообщников сели на экспресс, отправляющийся в Париж, и на сей раз добрались до столицы Франции без всяких приключений. Однако мы не можем обойти вниманием один чрезвычайно интересный инцидент, который за несколько часов до этого произошел в почтовом отделении города Ниццы – том самом, откуда Амалия недавно отправляла телеграмму российскому резиденту.
Само по себе происшествие казалось совершенно пустячным. В разгар дня на почту вошел молодой человек с большой сумкой в руках, белозубый и дочерна загорелый. Молодой человек посмотрел на хорошенькую приемщицу писем м-ль Арманс, улыбнулся и спросил, нет ли письма до востребования для господина Пиге. Ему показалось, что м-ль Арманс посмотрела на него настороженно.
– Для господина Пиге? – переспросила она.
– Да, это я, – подтвердил молодой человек. – А письмо должно быть из Парижа.
То, что последовало за этим разговором, окутано густейшей завесой тайны, но папаша Доранж, который любил коротать часы в обществе литра дешевого вина на скамейке недалеко от почты, уверял, что через некоторое время четверо крепких мужчин выволокли из здания какой-то барахтающийся и отчаянно сопротивляющийся сверток, засунутый в подобие мешка. Сверток, кстати сказать, не только сопротивлялся, но и употреблял разные слова, к которым словари французского языка относятся весьма неблагосклонно.
Не без труда четверо здоровяков затолкали сквернословящий кулек в экипаж, который сразу же взял курс на главное полицейское управление города Ниццы. А на почте меж тем пятый участник задержания вытер пот и воспользовался новейшим человеческим изобретением, телефоном, дабы известить поселившегося у префекта г-на комиссара Папийона, что птичка благополучно залетела в клетку. Но птичка оказалась вовсе не та, которую ждали.
Не подозревая обо всех этих интереснейших событиях, мушкетеры и возглавляющий их кардинал в лице Амалии вышли из экспресса на Лионском вокзале города Парижа и направились в апартаменты, которые принадлежали баронессе Корф. По ее словам, это куда удобнее, чем жить в гостинице.
– Приведем себя в порядок, – сказала Амалия, – позавтракаем, передохнём, а потом займемся делом.
Однако Мэй, которая выдержала со своей бабушкой форменную битву за право покинуть Ниццу и уехать вместе с баронессой Корф, высказалась в том духе, что она готова приступить прямо сейчас. Уолтер горячо поддержал ее и объявил, что он тоже не нуждается в передышке. Благоразумный Кристиан возразил, что дело само собой, а хороший завтрак еще никому не помешал. Пока они пререкались, баронесса велела остановить карету и вышла, сказав, что вернется через несколько минут.
Этих нескольких минут хватило, чтобы мушкетеры без своего кардинала почувствовали себя обездоленными сиротами. Мэй надулась, Уолтер замолчал, а Кристиан сделался хмур, как осенняя туча. Он то и дело поглядывал в окно и был несказанно рад, когда Амалия наконец появилась, держа в руке маленький листок.
– Я тут навела кое-какие справки, – сообщила она. – Теперь мы знаем, где живут те, кто нам нужен.
По словам Амалии, в этом деле представляли особый интерес два человека. Первым, разумеется, был Пьер Моннере, тот самый пассажир из десятого купе, а вторым – кондуктор Луи Норвэн. Если Норвэн сказал им неправду о том, как звали пассажира, и настоящий Пьер Моннере жив, здоров и вообще в глаза не видел экспресс «Золотая стрела», тогда кондуктор приобретал первостепенное значение, его надо во что бы то ни стало найти и узнать настоящее имя пропавшего.
Впрочем, помимо этих двоих, было и третье лицо, чрезвычайно интересовавшее Амалию, но о нем она предпочитала до поры до времени молчать. Законным путем навести справки все равно не представлялось возможным, потому что оно принадлежало к людям-невидимкам, которые в силу профессии очень не любят афишировать свою деятельность. Звали этого человека Оберштейн, и Амалия не без оснований предполагала, что именно он и был тем высоким господином со сколотым зубом, который нагнал страху на бедную Мэй.
«Будем надеяться, что он все еще в Ницце… Интересно, на кого он работает на сей раз – на немцев, австрийцев или на кого-то еще? И знают ли в нашем посольстве хоть что-нибудь?»
В своей парижской квартире Амалия уже несколько лет не держала слуг. Она любила Париж, но в последние годы больше времени проводила в Петербурге и Ницце, не считая поездок к друзьям вроде того же герцога Олдкасла или визитов в свои имения. За порядком в доме следил консьерж, а его жена в отсутствие хозяйки раз в неделю убирала в комнатах.
– Жермен! Эти господа и мадемуазель со мной. Будьте так добры, принесите мне газеты и попросите, чтобы из ресторана доставили завтрак.
Она просмотрела принесенные газеты, обращая особое внимание на известия с юга Франции, и нахмурилась, поняв, что ее расчеты не оправдались. Нигде не было упоминания о загадочном втором трупе, который – как была уверена Амалия – рано или поздно должен появиться.
«Пока не будем ломать голову… Сейчас есть дело поважнее».
После завтрака Амалия объявила:
– Разделимся на две группы. Я и господин граф займемся Пьером Моннере. Что касается Луи Норвэна, то он достается вам, мистер Фрезер, и вам, Мэй. Постарайтесь узнать о нем побольше – вернулся он в Париж или нет, часто ли бывает дома, словом, все, что можно. Если представится случай, постарайтесь проследить за ним, только осторожно.
– Наверное, мне надо переодеться юношей? – предложила Мэй, блестя глазами. – Не забывайте, он видел меня и может узнать!
Священник попытался представить себе Мэй в мужской одежде, но тут Амалия положила конец игре его воображения, сказав:
– Не надо заходить так далеко, достаточно неброской одежды и шляпки с вуалеткой. Вот адрес Норвэна, – она протянула Мэй половину листка. – Деньги на расходы у вас будут. Не думаю, что с исполнением задания возникнут трудности, но на всякий случай, если что-то случится, бегите быстро, кричите громко и ни в коем случае не пытайтесь никого задержать. Вы поняли?
Мэй и Уолтер синхронно кивнули, не удержавшись, кивнули снова и опять одновременно.
– Мы можем приступать? – спросила Мэй, ужасно гордясь собой.
– Действуйте!
Когда дверь за Мэй и Уолтером закрылась, Амалия повернулась к Кристиану, но он успел заметить, что она улыбается.
– Неужели этот Норвэн так для вас важен? – спросил граф.
– Нет, – ответила молодая женщина, – только в том случае, если сказал мне неправду. А проверить это мы можем, лишь отыскав Пьера Моннере.
…Через час Амалия и ее спутник уже были в районе Марэ, где проживал пропавший пассажир. Баронесса Корф оглядела старый дом с крошечными балкончиками, задержалась взглядом на фамилии архитектора и дате постройки – 1832, – которые, по французскому обычаю, аккуратно выведены на фасаде под одним из карнизов. По карнизу взад-вперед ходил голубь. Он выбрал себе удобное местечко, сел и замер, напыжившись и выпятив грудь.
– Я думаю, – сказал Кристиан, – проще всего спросить у консьержа.
Амалия не любила простых путей. Кроме того, опыт подсказывал ей, что Пьер Моннере – если только Норвэн не солгал насчет имени – мог оказаться кем угодно: слугой министра, которому стали известны государственные тайны, пособником шпиона или же ловким шантажистом. И уж в чем Амалия не сомневалась, так это в том, что в доме успела побывать полиция, а значит, консьерж получил самые недвусмысленные инструкции.
– Мсье Моннере!
Кристиан вздрогнул и поднял глаза. По тротуару вприпрыжку бежал мальчик лет пяти, одетый, как картинка из каталога детских товаров. На нем было Идеальное Детское Пальто, Идеальный Детский Костюмчик, Самая Модная Шапочка и Самые Прочные Ботиночки, которые только можно отыскать в славном городе Париже. За мальчиком быстро, насколько позволяли юбки, шла бонна, раскрасневшаяся от негодования, и уж она-то совсем не подходила для каталога чего бы то ни было.
– Мсье Моннере, вы ведете себя возмутительно!
Мальчик остановился, подождал, пока бонна подойдет ближе, после чего с сосредоточенным видом снял с себя шапочку и швырнул ее на землю. Вслед за шапочкой последовали игрушки, извлеченные из карманов, и Самый Модный Шарфик, который до того красовался на шее маленького бунтовщика.
Бонна ахнула, а мальчик отошел к скамейке, уселся и принялся болтать ногами, демонстративно отвернувшись от няни. Весь его вид выражал непоколебимую решимость.
– И все из-за того, что я не дала вам съесть мороженое! – запричитала бонна. Однако она оглянулась на дом и взбодрилась: – Ничего, вот когда ваша мама узнает, что вы наделали, она на неделю оставит вас без сладкого!
Она подобрала шапочку, шарфик и игрушки и поспешила в дом. Глаза Амалии сверкнули.
– Три мороженых, – шепнула она Кристиану. Он хотел спросить, зачем, но она топнула ногой. – Сейчас же!
И выражение лица у нее сделалось точь-в-точь такое же решительное, как у мальчугана, так что граф де Ламбер не стал спорить.
Когда он вернулся с мороженым, он увидел, что Амалия уже сидит на скамейке рядом с маленьким бунтовщиком, делая вид, что не обращает на него никакого внимания. Графу, впрочем, она улыбнулась так, словно ждала его всю свою жизнь.
– И зачем вы купили три мороженых? – совершенно искренним тоном удивилась она. – Нас же только двое!
Кристиан открыл рот, хотел что-то сказать, но не стал и поступил очень разумно, потому что Амалия обернулась к мальчику и дружелюбно спросила:
– Хочешь?
Мальчик насупился, но добрая фея уже взяла из рук Кристиана стаканчик и вручила ему.
– Как тебя зовут? – продолжала Амалия.
– Никола, – отозвался ребенок, глядя во все глаза то на нее, то на мороженое в своей ручонке.
– Никола, а дальше как?
– Моннере. – Он ответил не сразу, потому что залез в мороженое всей мордочкой и от усердия даже испачкал нос.
– Между прочим, я знал одного Моннере, – вмешался Кристиан. – У него был магазин тут неподалеку. Это случаем не твой папа?
– Нет, – ответил Никола после того, как ухитрился за раз проглотить едва ли не половину стаканчика. – Мой папа – полицейский.
Взрослые ошеломленно переглянулись, а Никола потер нос и солнечно улыбнулся.
– Он ловит преступников, – на всякий случай уточнил ребенок.
– Каждый день? – заинтересовалась Амалия. – А вчера он кого-нибудь поймал?
Никола задумался.
– Нет, – сказал он наконец с сожалением. – А может, и да. Просто он уехал. Но он часто уезжает. А мороженое вкусное. Я люблю мороженое. А еще я люблю пускать кораблики, но Одетта боится, что я упаду в воду. А я скоро вырасту?
– Э… я думаю, да, – осторожно сказал Кристиан.
– Я хочу вырасти, – пояснил Никола, – чтобы Одетта мне не приказывала. Она не дает мне кататься на карусели. И вообще она скучная. С ней не поиграешь. А вы любите играть?
– Видишь ли, – серьезно сказала Амалия, – мы уже взрослые.
Никола вздохнул.
– Значит, когда я вырасту, то не смогу играть? – Он наморщил свой маленький нос. – И кататься на карусели тоже? Тогда зачем становиться взрослым?
– Ну, – предположил Кристиан, которого забавляла и восхищала детская логика, – может быть, чтобы не слушаться Одетту?
– Ну да, – подтвердил Никола, печально заглядывая в пустой стаканчик. – Но играть я ведь тоже не смогу. Хотя папа иногда со мной играет. Он обещал поиграть со мной, когда вернется, но не вернулся. Забыл, наверное.
– А твоя мама что об этом говорит? – спросила Амалия.
– Ничего, – ответил Никола. – Мама плакала. И Одетта тоже.
– Правда? Почему же?
– Не знаю. Приходили двое дядей, один толстый, а другой не очень. Сказали, что они с папиной работы, долго говорили с мамой, а потом с Одеттой. После этого у мамы были красные глаза, и у Одетты тоже. А я не плакал, мне толстый дал монетку. А почему вы не едите мороженое?
Из дома вышла Одетта в сопровождении молодой красивой дамы. Увидев своего сына на скамейке между двумя прилично одетыми взрослыми, дама покраснела.
– Никола, иди сюда! Я же тебе говорила, чтобы ты не болтал ногами, когда сидишь… Какой же ты непоседливый! Я надеюсь, он не утомил вас, сударыня? Одетта все время на него жалуется…
Однако Амалия рассыпалась в комплиментах Никола и заявила, что он очаровательный малыш и неотразимо напоминает ее собственных детей. Прелестный ребенок! Просто чудо! И такой рассудительный, такой умный! Обычно сдержанная, баронесса внезапно сделалась такой приторной, что Кристиану даже стало неловко. Никола тоже стоял насупившись и словно не верил, что его так чрезмерно, так преувеличенно хвалят. Но мать Никола, казалось, была счастлива слышать эту медовую лесть. Конечно, подтвердила она, он милый мальчик, хотя иногда бывает немножко упрямым. Но Пьер – это отец – так его балует, так балует! У него в первом браке не было детей, он так долго ждал ребенка… Едва молодая женщина произнесла имя мужа, как на ее лицо набежало облачко, в глазах показались слезы. Усилием воли она прогнала их и улыбнулась.
– Идем, Никола… Попрощайся с мсье и мадам!
– До свиданья, – степенно сказал Никола. Одетта подобрала с земли брошенную мальчуганом игрушку, которую не заметила в первый раз, и троица зашагала к дому. В дверях Никола обернулся и помахал доброй фее мороженого рукой.
Глава 20 Парик и пуля
– Должен вам сказать… – начал граф де Ламбер.
– Можете ничего не говорить, – отозвалась Амалия. – Да, детей расспрашивать нехорошо. Но зато мы теперь можем быть уверены, что кондуктор нам не солгал. Пропавшего пассажира действительно зовут Пьер Моннере, он жил в этом доме, а недавно уехал и не вернулся. Вскоре появился Папийон вместе со своим помощником и, судя по всему, довел до сведения хозяйки, что с супругом произошло несчастье. Вопрос в том, как оно связано с профессией нашего пассажира из десятого купе, а также с неведомым аквилоном и господином, который навестил Мэй без приглашения.
– Я думаю, связь очень простая, – сказал Кристиан. – Пьер Моннере вел какое-то расследование и в ходе его обнаружил нечто крайне важное. Что именно, мы пока можем только гадать.
– Верно, – согласилась Амалия. – Остается только сделать вывод, что расследование как-то связано с Ниццей, раз Моннере ехал именно туда. Вдобавок расследование очень важное, иначе Моннере не катался бы первым классом. Хотя… – Она задумалась.
– Что? – спросил Кристиан, с любопытством поглядывая на нее.
– Почему он был один? Если дело действительно важное, кто-то должен был его страховать, но он ехал в одиночку. Почему?
– Может быть, у него были свои причины действовать одному? – предположил Кристиан. – Допустим, он не доверял коллегам или… или попросту хотел забрать все лавры себе.
– Это только предположения. Нам надо узнать, чем именно занимался Моннере, какое отношение это дело имеет к Ницце и, само собой, при чем тут аквилон. Конечно, у меня в Париже есть знакомые в соответствующих кругах, но, судя по таинственности, которая окружает происходящее, узнать что-либо будет непросто.
– Я попытаюсь навести справки через друзей, – сказал Кристиан. – Может быть, мне повезет больше. Хотя думаю, что в конце концов выяснится, что мы имеем дело с шантажом, который ставит под угрозу репутацию какого-нибудь политика.
– Что ж, попробуйте, – отозвалась Амалия. – Кстати, не забудьте: у вас в Париже еще одно задание: обзавестись автомобилем, который обойдет всех на ближайших гонках. Третье место меня не устроит, так и знайте!
– Не волнуйтесь, сударыня, – с поклоном ответил граф. – Автомобиль, который будет носить ваше имя, просто обязан прийти первым!
– С чего вы взяли, что он будет носить мое имя? – довольно сухо спросила баронесса. – Вообще-то я собиралась назвать его Аделаидой, в честь матери.
Кристиан был так поражен, что даже сбился с шага. По его мнению, вряд ли можно найти существо более далекое от мира моторов, автомобилей и гонок, чем мать Амалии Аделаида Станиславовна. Это была взбалмошная, эмоциональная особа, которая одевалась не по возрасту ярко и обладала умением вывести из себя любого, кто почему-либо ей не нравился. Люди, плохо знавшие Аделаиду, считали ее недалекой и, прямо скажем, глуповатой. Люди, которые знали ее получше, шепотом заверяли, что она ой как умна и способна всех заткнуть за пояс, просто прикидывается глупой, чтобы сбить окружающих с толку. Истина же, как это обычно случается, была где-то посередине, но где именно – этого никто не мог определить.
– Что такое? – спросила Амалия, от которой не укрылось смущение ее спутника.
– Я никогда не думал, что ваша матушка… – начал Кристиан и запнулся, не зная, как закончить фразу так, чтобы ненароком не задеть молодую женщину.
– О, – уронила Амалия, – вы плохо ее знаете. Кстати, это она сообщила мне, что вы пришли третьим на гонках Париж – Руан. Она вообще большая сторонница технического прогресса.
– А вы, значит, нет? – спросил граф.
– Сложно объяснить, – серьезно ответила Амалия. – Видите ли, я всей душой за прогресс. Но вместе с тем придерживаюсь мнения, что когда мистер Дарвин придумал свою остроумную теорию насчет происхождения людей от обезьян, он обидел обезьян. У человека есть потрясающая способность обращать во зло все, к чему он прикасается, и боюсь, что ни прогресс, ни цивилизация вообще ничего не смогут с этим поделать.
– Мне кажется, – заметил Кристиан, – вы слишком пессимистичны. Если сравнивать жизнь, которая была в прошлом веке, и нашу, то улучшения неоспоримы. И это не только водопровод, паровозы, автомобили и эти… движущиеся картинки.
– Синема, – кивнула Амалия. – Конечно, жизнь не стоит на месте, но в общем и целом люди, дорогой граф, не меняются. Они все так же любят, как и их предки, все так же ненавидят и все так же ревниво следят за малейшей выгодой, а за большой – о, тут они готовы на все что угодно, вплоть до убийства. – Она поморщилась. – Надеюсь, вы управитесь с покупкой автомобиля? Если меня еще не будет, скажете консьержу или его жене, они все принесут. – Она сделала шаг прочь.
– А разве вы не пойдете выбирать машину? – спросил Кристиан, совершенно растерявшись.
– Я в этом ничего не смыслю, – ответила Амалия, пожимая плечами. – Мне проще положиться на специалиста, то есть на вас.
И она удалилась, постукивая каблучками. От Кристиана не укрылось, что по меньшей мере двое случайных прохожих с интересом посмотрели ей вслед.
Сердясь на себя, на Амалию и на ее секреты, он все же взял фиакр и отправился осматривать подходящие автомобили, но мысли его были далеко. Амалия тем временем дошла до авеню генерала Оша и, войдя в один из домов, попросила лакея передать его господину записку, которую написала еще утром.
Через полтора часа, когда Амалия рассматривала украшения в одном из ювелирных магазинов, к ней подошел немолодой господин, опирающийся на трость. Внешность у господина была самая заурядная, и посторонний наблюдатель мог отметить лишь морщинки под глазами, седые виски и слегка ироническую улыбку. Это и был тот самый О., российский резидент, которому Амалия из Ниццы посылала телеграмму и от которого получила ответ, ничего ровным счетом не прояснивший. Взглянув на часы, Амалия увидела, что О. опоздал на пятнадцать минут, что для такого пунктуального человека могло значить только одно: желание указать ей на место.
– Мадам интересуют браслеты? – спросил предупредительный приказчик.
– Нет, – сказала Амалия, – я ищу украшение для корсажа… может быть.
Она поздоровалась с О., чтобы создать впечатление – опять же для возможного наблюдателя, – что они встретились в магазине совершенно случайно. О. был любезен, как всегда, но сух, как застоявшийся в вазе букет, и Амалия, мило улыбаясь, решила, что просто так ему этого не спустит. От природы она была крайне злопамятна и не забывала ничего, ни хорошего, ни плохого.
– Я вам писала, – сказала Амалия, – и получила ответ, но, признаюсь сразу же, он меня не устроил.
О. вздохнул.
– Амалия Константиновна, право же, вы меня удивляете… Вы должны сами понимать, что в нынешних обстоятельствах… при том, что вы больше не состоите, так сказать, в наших рядах…
– Вам что-нибудь известно об Оберштейне? – перебила его Амалия. – Чем он сейчас занимается?
– Разве Оберштейн во Франции? – Однако О. удивился таким безупречным тоном, что Амалия сразу же поняла: он лжет.
– На кого он сейчас работает? – продолжала Амалия. – Или это тоже секретная информация?
– Боюсь, – дипломатично промолвил О., – нас не интересует ни этот авантюрист, ни то, с кем он сотрудничает. Впрочем, вы же сами знаете – он всегда продается тому, кто больше заплатит.
Амалия вздохнула.
– Я думала, вы не откажетесь мне помочь, – сказала она наконец. – Мне очень нужна информация.
О. стал заверять ее, что готов хоть сейчас на все, что угодно, дабы угодить госпоже баронессе. Но Амалия отлично понимала, что это всего лишь слова. Ее охватила досада.
– Боюсь, – сказал О., – мне уже надо идти, сударыня. Вы и сами понимаете: дела… Был счастлив повидаться с вами, госпожа баронесса.
Он не торопился уйти, не сбегал от нее: нет, такие люди достаточно владеют собой, чтобы удалиться степенно, спокойно и не спеша. Они отбывают с достоинством, а на вашу долю остается лишь раздражение и смутное ощущение, что вас одурачили, ловко провели, и даже некому пожаловаться, как с вами обошлись. Однако последнее слово в этом незримом поединке все-таки оказалось за Амалией.
– Вас случайно не интересует аквилон? – громко спросила она в спину уходящему резиденту.
Конечно, это была шалость, порожденная досадой, но она сработала. Спина дрогнула, и когда О. обернулся, Амалия увидела на его лице настороженное любопытство.
– А что, вам известно, где находится аквилон? – Тоном О. пытался обратить все в шутку, но Амалия видела, что он вовсе не шутит.
– Там же, где и Эол, я полагаю, – усмехнулась она. – Всего доброго, сударь.
Она повернулась к приказчику и попросила показать ей украшение для корсажа в виде гирлянды глициний с бриллиантами, аметистами и жемчугом. О. нерешительно потоптался на месте, переложил трость из одной руки в другую и удалился поразительно быстрым для его возраста шагом.
«Нет, не шантаж, конечно… – размышляла Амалия, делая вид, что рассматривает украшение. – Но что-то по нашей части, определенно, если уж О. известно об этом. Quod erat demonstrandum[186]. Только при чем тут полицейский Моннере? Будь на его месте какой-нибудь агент вроде Оберштейна, было бы понятно; но Моннере, коллега Папийона? Или он случайно разворошил осиное гнездо?»
В конце концов ей надоело ломать голову над загадками, и она просто купила украшение, которое рассматривала, а в придачу к нему – еще и кольцо.
Пока Амалия коротала время в ювелирном магазине, Мэй обсуждала с Уолтером, каким образом лучше всего подобраться к Луи Норвэну. Они уже расспросили соседей и узнали, что у кондуктора трое детей и он должен вернуться домой ближе к вечеру, когда поезд прибудет в Париж. Дальше, очевидно, за Норвэном надо установить слежку, как предписывают правила детективных романов, но тут Мэй бросила на себя взгляд в зеркальную витрину, мимо которой проходили они с Уолтером, и трагически проговорила:
– Он меня узнает!
На ней было бежевое пальто, которое ей одолжила Амалия, а также шляпка с вуалеткой, закрывавшая пол-лица. Мэй мучил неотвязный страх, что востроглазый Норвэн признает ее, сбежит, скроется, затаится в парижских улицах, и тогда расследование провалится, и исключительно из-за нее, а раз так, баронесса Корф (по совместительству кардинал Ришелье) до конца своих дней не пожелает с ней разговаривать. Напрасно Уолтер твердил Мэй, что она выглядит прекрасно и что Норвэн никогда ее не признает хотя бы по одной причине – ему в голову не придет, что за ним следят. Мэй охватила жажда преображения, кошелек жег карман, и она потянула своего спутника в магазин.
Через полчаса из магазина вышел все тот же Уолтер с открытым, симпатичным лицом, но на его руке висела девушка сантиметров на десять выше, ибо Мэй купила туфли на высоких каблуках. Кроме того, теперь у нее были белокурые волосы. Да, да, Мэй наконец исполнила свою мечту, приобретя парик.
– Теперь, – объявила она, – я выше ростом, и волосы у меня другого цвета. Может быть, мне надо еще изменить голос, чтобы Норвэн уж точно меня не признал?
Уолтер, которого все эти преображения вконец смутили и запутали, стал уверять Мэй, что кондуктор все равно не услышит ее голоса, а раз так, ни к чему и стараться.
– Я просто пытаюсь предусмотреть все, – храбро ответила Мэй.
Увы, она не предусмотрела того, что высокие каблуки ужасно неудобны для ходьбы, а новые туфли невыносимо жмут. Мэй стала хромать и замедлять шаг, Уолтер заметил это и встревожился. Вдобавок парик то и дело порывался обнаружить свое чужеродное происхождение и рухнуть на тротуар вместе со шляпкой. Мэй была в отчаянии.
– Из меня никуда не годный сыщик, Уолтер! – со слезами на глазах сказала она своему другу. – Портос всех подвел!
Священник стал ее успокаивать. Он нашел тысячу доводов, один убедительнее другого. Все они, впрочем, сводились к тому, что Мэй самая лучшая на свете, а стало быть, ее сыщицкие подвиги не имеют совершенно никакого значения.
– Может быть, вернемся домой, если тебе тяжело идти? – предложил Уолтер. – Я не думаю, что госпожа баронесса будет сердиться на нас за то, что мы не выполнили ее задание.
– Да, но она же сказала, что очень важно проследить за Норвэном, – возразила Мэй. – Что, если он сказал нам неправду о человеке из десятого купе?
Однако через полсотни шагов Мэй была вынуждена сдаться. Она потерпела поражение. Туфли победили. Идти дальше невозможно.
– Надо взять фиакр, – сказал Уолтер, но тут Мэй схватила его за руку и стала вертеть головой.
– Он здесь! – сказала она таким громким шепотом, который при желании можно было расслышать на том конце улицы.
– Кто? – спросил вконец растерявшийся Уолтер.
– Кондуктор! Быстрее, Уолтер, он уходит!
И, забыв обо всем на свете, Мэй побежала вперед. Священнику ничего не оставалось, как последовать за ней.
– Странно, – пробормотал Уолтер, косясь на часы на ближайшей церкви, – если соседи сказали нам правду, он должен был вернуться только через час.
Однако Мэй не ошиблась: это действительно был Норвэн, который освободился раньше времени, причем он успел еще и переодеться в обычную одежду, чтобы униформа не бросалась в глаза. Кондуктор шел по улице, оглядываясь по сторонам, и Мэй в страхе прижималась к Уолтеру, боясь, что Норвэн их заметит. В одном месте кондуктор внезапно остановился, вытащил из кармана какую-то бумажку и стал рассматривать номера домов, после чего повернулся и зашагал обратно.
– Он идет на встречу! – зашептала Мэй на ухо Уолтеру. – Очень важную! Ему назначили встречу, но он не уверен, куда идти!
Не дойдя десятка шагов до добровольных сыщиков, которые в панике вжались в стену, Норвэн свернул в боковую улочку. Переведя дыхание, Мэй побежала за ним, таща за собой друга детства. Ни каблуки, ни стертые в кровь ноги – ничто в мире больше не являлось помехой.
Увы, место, в которое Норвэн направлялся, оказалось до крайности прозаическим. Это был ломбард. Сквозь запыленное стекло мушкетеры видели, как Норвэн предъявил тучному неопрятному старику, владельцу ломбарда, квитанцию – ту самую бумажку, которую разглядывал на улице, – заплатил деньги и забрал какой-то небольшой предмет.
– Уолтер! – прошептала Мэй. – Уолтер, что ты видел?
– Это какая-то коробочка, – ответил священник. – А внутри украшение вроде кольца.
Мэй разочарованно отпрянула от окна.
– И какой в этом смысл? – спросила она.
– Смысл в том, – серьезно сказал Уолтер, – что он просто заложил кольцо, а потом вернулся, уплатил залог из тех денег, которые получил от кардина… от госпожи баронессы, и забрал его. Вот и все, Мэй.
Звякнул колокольчик, Норвэн вышел из ломбарда, и Мэй поспешно затащила Уолтера за угол дома, чтобы их не заметили. Но тут у девушки так заболели ноги, что она охнула, покачнулась и едва не упала. Уолтер подхватил ее и помог добраться до ближайшей скамейки. Плача, Мэй достала из коробки свои старые ботинки и попыталась переобуться, но сквозь слезы она ничего не видела. Тогда Уолтер опустился на колени и стал снимать с нее туфли, а потом надел и застегнул ботинки.
– Уолтер… – пролепетала Мэй.
Она сидела на скамейке, он стоял на коленях, и расстояние между их лицами было короче одного вздоха. Мэй смутилась до того, что у нее заполыхали даже уши. Уолтер тоже залился краской и забормотал что-то о том, какая прекрасная сегодня погода (небо было хмуро, как лицо безденежного должника) и как он рад, что хоть в чем-то оказался полезным Мэй. Он бы дошел до бог весть каких глупостей, если бы чуткое ухо его спутницы не уловило поблизости какой-то шум.
– Уолтер!
Нет сомнений, предок Мэй (тот, что воевал с Наполеоном) с умилением взирал с небес на подвиги правнучки, которая выказывала истинно английскую стойкость. Только что по ее щекам лились непритворные слезы боли, и вот она уже взвилась со скамейки, как серна, и со всех ног поспешила на шум.
В узкой улочке боролись двое мужчин. Один был знакомый Мэй кондуктор Норвэн, зато второго она видела впервые. Он был молод, невысокого роста, а про лицо нельзя было сказать ничего определенного по той причине, что оно было искажено усилием и злостью.
– Мэй! – закричал Уолтер, подбегая к ней. Он раньше, чем она, заметил, что двое мужчин дрались за то, чтобы вырвать друг у друга револьвер.
В следующее мгновение незнакомец вывернул руку непривычному к схваткам кондуктору и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел, Норвэн как-то обмяк и стал сползать по стене.
– Мерзавец! – заверещала Мэй, до глубины души возмущенная тем, что в ее присутствии убивали человека.
Незнакомец обернулся, и, поняв, что появились свидетели его преступления, нехорошо оскалился. Но прежде, чем он успел что-либо предпринять, Уолтер Фрезер с разбегу врезался в него, и двое мужчин покатились по земле. Револьвер отлетел в сторону. Священник, который, как оказалось, чтил английский бокс не меньше заповедей англиканской церкви, приложил врага в челюсть, но тот не растерялся и, улучив момент, ударил Уолтера ногой в колено. Молодой человек закричал.
– Не смей его трогать! – возмутилась Мэй, поднимая револьвер. Он оказался ужасно тяжелым и плясал в дрожащих руках. Тем не менее девушка попыталась прицелиться, но Уолтер и незнакомец продолжали бороться. Как ни хотелось ей положить этому конец, она отлично понимала, что шансы попасть в своего ничуть не меньше, чем подстрелить врага.
– Прекратите, или я стреляю! – завизжала Мэй. Однако незнакомец точно не собирался остановиться; более того, он захватил Уолтера локтем за горло и стал душить. Тогда Мэй опустила оружие дулом к мостовой, нажала на что-то, зажмурясь от ужаса, и грянул выстрел.
– А-а! – сдавленно вскрикнул незнакомец, хватаясь за ногу.
Пуля попала в булыжник и отрикошетила врагу в щиколотку. Мэй, ничего не понимая, смотрела безумными глазами то на дымящееся оружие, то на Норвэна, который застыл у подножия стены, то на Уолтера. Отшвырнув священника, раненый бросился прочь. Он прихрамывал, из ноги сочилась кровь.
Кашляя и растирая шею, Уолтер поднялся на ноги, и тут к нему метнулся пахнущий духами ураган оборок, юбок и белокурых волос и повис у него на шее.
– Уолтер… о, Уолтер! Я думала, он убьет тебя!
Тут парик, улучив момент, все-таки свалился с головы Мэй вместе со шляпкой, но она этого даже не заметила.
– К счастью, ничего страшного не произошло, – смущенно кашлянул Уолтер, осторожно вынимая из пальчиков девушки револьвер. – Но боюсь, кондуктор серьезно ранен. Я думаю, нам надо как можно скорее сообщить обо всем баронессе Корф.
Глава 21 Рыцарь и дракон
– В конце концов, – объявил Кристиан, – я приобрел автомобиль с электрическим мотором. Думаю, что им принадлежит будущее, потому что из всех существующих типов двигателей электрические – самые безопасные.
– Дорогой граф, – заметила Амалия, – я, как и все женщины, ничего не смыслю в безопасности. Я лишь полагаю, что если что-то именуется автомобилем, то оно должно ехать само и по возможности быстро. – Она посмотрела на часы. – Интересно, куда запропастились наши мушкетеры? Пора обедать, а их все нет.
Словно в ответ на ее вопрос за дверью раздался грохот, потом послышался треск разбитого стекла, а затем сама дверь распахнулась с такой силой, словно тот, кто ее открывал, всерьез собирался сорвать ее с петель.
– Мэй! – укоризненно промолвила Амалия, глядя на девушку, которая стояла на пороге. – Что случилось, в самом деле? На вас лица нет!
– Я разбила, – простонала Мэй, прижав руку к груди и пытаясь отдышаться. На окончание фразы ее не хватило.
– Говорят, это к счастью, – невозмутимо отозвалась Амалия.
– И опрокинула… – простонала Мэй.
– Ничего страшного, жена консьержа все уберет. Но почему вы так спешили?
– Норвэн! – простонала Мэй. – Он ранен!
Амалия нахмурилась. Когда она отрядила Мэй и Уолтера на всякий случай проследить за кондуктором, у нее и в мыслях не было, что все так скверно обернется.
– То есть как ранен? – спросил Кристиан. – Вы видели, кто это сделал? Это был тот же человек, что напал на вас?
Мэй замотала головой.
– Нет. Другой. Я в него попала. То есть я не хотела, но пуля… Рикошет, вот! А стреляла я в землю. А потом мы пошли по следу.
Кристиан попытался представить себе Мэй – отважного стрелка, которая вдобавок где-то сумела раздобыть оружие, но воображение начисто отказалось повиноваться. Пришлось смириться и признать, что в жизни есть вещи куда более удивительные, чем те, которые можно себе представить.
– Может быть, присядете и расскажете все по порядку? – предложила Амалия. – Как вы нашли Норвэна, что он делал, как выглядел человек, который его ранил, и о каком следе вообще идет речь.
Мэй набрала воздуху в грудь и стала рассказывать, как они заметили кондуктора на улице, как он выкупал в ломбарде заложенную вещь, как ушел, а Мэй с Уолтером отстали, потому что у нее заболели ноги. Она поведала о схватке, о том, как случайно ранила нападавшего, и тот убежал. Уолтер отправился к хозяину ломбарда и попросил его вызвать врача и полицию. Мэй пыталась поговорить с Норвэном, но он только стонал. А потом Уолтер заметил след – пятнышки крови на мостовой, которые оставил убегавший. И так как врач уже появился, Мэй с Уолтером оставили раненого на его попечение и пошли по следу.
– На перекрестке мы чуть не потеряли след, – доложила Мэй. – Но вскоре разобрались, что к чему, и отправились дальше. Потом ему надоело ходить, и он сел в фиакр.
– Тут вы его и потеряли, – вздохнул Кристиан. Мэй зарделась.
– Нет, мсье, который продавал газеты поблизости, запомнил адрес, который назвал седок. Мы поехали туда.
– Вы нашли его? – изумился граф.
– Только его жилье, – Мэй потупилась. – Отыскали по каплям крови. Сам он успел скрыться. Уолтер остался сторожить внутри с револьвером, вдруг кто объявится. Ну, а я поспешила к вам… Вот.
– Очень хорошо, – объявила Амалия, поднимаясь с места. – Едем! Заодно проверим вашу новую покупку, – добавила она, поворачиваясь к графу.
– А что он купил? – наивно спросила Мэй.
– Автомобиль. С электрическим двигателем.
Прежняя Мэй содрогнулась бы, едва услышав одно слово «автомобиль». Новой Мэй, похоже, все нипочем. Сев на кожаное сиденье элегантного монстра, на сей раз зеленого с черным, она лишь тогда почувствовала, до чего у нее болят ноги.
По пути Амалия расспрашивала девушку, что та запомнила. Но Мэй не заметила никаких особых примет, которые позволили бы баронессе однозначно установить личность незнакомца.
«Если он угрожал Луи Норвэну оружием, а потом бежал, это явно не полицейский… Что же – еще один агент? Кто тогда? Стеринг? Генрих? Зябловский сидит в варшавской цитадели, это точно не он. По манере действий похоже на Генриха, но, может быть, это вообще кто-то, кого я не знаю. Интересно, почему он напал на кондуктора? Полагал, что ему что-то известно о пропавшем из десятого купе? А что, если милейший Пьер Моннере на самом деле работал не один, и это его сообщник?»
– Вы говорили с хозяином ломбарда? – спросила Амалия. – Что именно у него забрал Норвэн?
– Думаете, это может быть важно? – неуверенно спросила Мэй. – Уолтер говорил, кольцо.
– Все-таки надо подробнее поговорить с хозяином, – заметила Амалия. – Возможно, это совпадение, но на кондуктора напали именно тогда, когда он вышел из ломбарда.
– А что такого может быть в обыкновенном кольце? – подал голос Кристиан.
– Откуда мне знать? Но вторая заповедь следователя – не упускать ни одной мелочи. Потому что на самом деле это может оказаться вовсе не мелочь.
– А первая заповедь какая? – спросила Мэй.
– Первая – искать свидетеля, который все видел и все знает, – объяснила Амалия, – а также улики, которые могут прояснить случившееся.
Начал накрапывать дождь, и молодая женщина поглядела на небо и поморщилась. Впопыхах она забыла захватить зонт.
– Нажмите вон ту ручку, – посоветовал Кристиан, – поднимется откидной верх.
«Надо же, как далеко шагнула техника! – уважительно помыслила Мэй, когда они оказались в укрытии. – Но все равно, лошади мне нравятся больше».
– Куда теперь? – спросил граф.
– Вон на ту улицу, – подсказала Мэй, показывавшая дорогу.
Пока Мэй и ее спутники пробирались в новехоньком авто по запруженным экипажами и редкими машинами улицам, Уолтер Фрезер расхаживал по укрытию супостата, то и дело трогая ручку револьвера в кармане. Молодой священник чувствовал себя рыцарем, забравшимся в логово дракона. Давно Уолтер не ощущал такого душевного подъема. Ради этого стоило стерпеть даже удар, который едва не выбил ему коленную чашечку.
Однако так как Уолтер был не только рыцарем, но и здравомыслящим молодым человеком, он задумался о том, как бы установить личность господина, который занимал жилье на чердаке. Консьержка внизу сообщила, что комнату снимает мсье Дювернь, приехавший из Онфлера, но Уолтер подозревал, что Дювернь – лишь, так сказать, творческий псевдоним. Подозрения обратились в уверенность, когда он стал выдвигать ящики бюро и в одном из них обнаружил немецкую монету.
Тут Уолтер отбросил щепетильность и стал осматривать все подряд. Если кусок мыла и старый чемодан без меток не смогли дать ему никакой информации, то ярлычок на костюме, висевшем в шкафу, без всяких околичностей сообщил, что он сделан в Вене неким Циглером. Конечно, не существовало закона, по которому житель Онфлера не мог бы по каким-нибудь причинам завернуть в Вену, но чтобы сшить костюм на заказ, нужно пробыть в Вене не один день. А так как австрийская столица во все времена была отнюдь не дешевым городом, то изделие тамошнего портного как-то не очень сочеталось с проживанием на парижском чердаке.
Тихо ликуя от собственной сообразительности, Уолтер Фрезер потер руки и продолжил осмотр. Он ощупал костюм и в одном из карманов обнаружил обрывок салфетки с каким-то рисунком. Когда Уолтер разгладил его, то озадаченно нахмурился. Рисунок на салфетке до странности напоминал крыло летучей мыши. «Может быть, это знак какой-нибудь тайной организации?» – подумал изумленный священник.
Тут он заметил, что в самом низу шкафа лежит еще какой-то сверток, завернутый в кусок грубого сукна. По очертаниям он больше всего напоминал продолговатую коробку. Уолтер вытащил ее из шкафа, развернул сукно – и оторопел.
Это был миниатюрный гроб длиной примерно в полметра или около того, сделанный по всем правилам, и хотя из-за царапин и пыли на крышке он выглядел старым, все равно Уолтер почувствовал невольную дрожь. По весу он уже определил, что внутри ничего не должно находиться, и все же ему было не по себе. Он сглотнул слюну, поставил коробку-гроб на стол, вытер о себя вспотевшие ладони и приоткрыл крышку.
…Нет, он все же оказался неправ.
Внутри что-то белело – листки, покрытые рисунками и заметками. Вздохнув с облегчением, священник потянулся к листкам, которые неведомо как занесло в столь странное место – и тут на него обрушился потолок. Комната накренилась и рассыпалась на куски, после чего Уолтер Фрезер провалился в небытие.
… – Викарий!
– Уолтер, что с тобой? Что он с тобой сделал?
– Мистер Фрезер, вы меня слышите?
Ему брызнули в лицо водой, потом в нос ударил резкий запах нашатыря. Уолтер застонал и дернулся. Комната стала обретать прежние очертания, три лица плыли вокруг него, и глаза у Мэй были огромные, как блюдца.
– Ударили по голове, – сказал Кристиан Амалии. – Может быть даже сотрясение мозга.
– Летучая мышь, – промямлил бедный священник.
– Что? – Амалия наклонилась к нему.
– Гроб. – Он встряхнул головой и невнятно повторил: – Где гроб? А летучая мышь?
– Разве здесь был гроб? – спросила озадаченная Мэй. – Где?
– В шкафу, – простонал Уолтер. – Как коробка. А внутри бумаги.
– Что за бумаги? – спросила Амалия.
– Не знаю. Я… я не успел. – Он не закончил фразу, но и так было ясно, что он имеет в виду.
Амалия осмотрела комнату и заглянула в закуток за перегородкой, где стоял медный рукомойник, позеленевший от времени, и висел уголок разбитого зеркала. Под рукомойником лежал обрывок ткани, пропитавшийся кровью.
– Все ясно, – сказала Амалия, поворачиваясь к друзьям. – Он перевязывал ногу. Когда вы вошли, не убежал, а просто спрятался. На будущее – всегда проверяйте, есть ли кто-то в комнате, кроме вас.
Мэй и Уолтер потупились и свесили головы. Они понимали, что допустили промах и им нет прощения.
– А в остальном вы, конечно, молодцы, – добавила Амалия, смягчаясь. – Уолтер, вам немного лучше? Может быть, вы расскажете, о какой летучей мыши говорили?
Священник объяснил. Пока он говорил, Мэй оглядывалась.
– Но в комнате больше ничего нет, – сказала она. – Ни костюма, ни чемодана, ни… – она зябко передернула плечами, – гроба. Он все унес.
Уолтер кивнул на бюро.
– В левом нижнем ящике, – сказал он, – я нашел немецкую монетку.
Однако монеты тоже на месте не оказалось.
– Любопытно, – сказал Кристиан.
– Просто он видел все манипуляции Уолтера, – пояснила Амалия. – Кстати, револьвер все еще при вас?
Священник охнул и схватился за карман. Оружие исчезло.
– Почему он меня не убил? – внезапно спросил Уолтер.
– Ему надо было срочно собирать вещи, чтобы ни одна из них его не выдала, – ответила Амалия. – Выстрел произвел бы ненужный шум. Может быть, в других обстоятельствах он бы просто вас задушил, но не забывайте, он ранен, и любое усилие могло дорого ему обойтись.
«Все-таки, – подумала она, – это Генрих. Стеринг бросил бы вещи, взял бы только самое ценное, но не оставил свидетеля в живых».
– Надо поговорить с консьержкой, – сказала Амалия. – Может быть, ей удастся вспомнить что-нибудь ценное. Кристиан! Помогите Уолтеру спуститься. Ему сегодня здорово досталось. Ничего, когда вернемся домой, я вызову лучшего врача, и он быстро поставит вас на ноги.
Граф де Ламбер и Мэй помогли священнику сойти вниз, а Амалия отправилась расспрашивать консьержку. Однако баронессе не удалось узнать ничего, кроме того, что новый жилец был аккуратен, не причинял хлопот, платил за жилье точно в срок и бумаги в полном порядке. Всего он прожил в доме около месяца. По-французски говорил без малейшего акцента.
«Наверняка Генрих, – решила Амалия, – у этого всегда был порядок как с документами, так и с французским. Но летучая мышь! И гроб! Что тут творится, в самом деле? Масонский заговор?»
По правде говоря, она была недовольна оборотом, который принимали события. От природы Амалия была крайне рациональна, и все, что попахивало мистикой, обыкновенно вызывало у нее ироническую улыбку. Однако у нее не было оснований сомневаться в словах молодого священника. Если он видел изображение летучей мыши и коробку в виде гроба, значит, они существуют в реальности.
«Но при чем тут Норвэн и нападение на него? Как он может быть связан с этой историей?»
Она довезла Уолтера до дома, вызвала врачей и, оставив Мэй в качестве сиделки, отправилась разговаривать с владельцем ломбарда о том, что именно выкупал у него Луи Норвэн.
Увы, Амалии не удалось не то что побеседовать с владельцем – место происшествия и прилегающие улицы были оцеплены полицией, и ей не удалось даже подойти к ломбарду. Досадуя, она велела Кристиану возвращаться.
– Я думаю, владелец ломбарда уже в полиции, – сказал граф.
– И Норвэна наверняка допросят, как только он сможет говорить, – добавила Амалия.
– Тогда, – заметил Кристиан, – полицейские скоро будут и у вас. Они ведь знают, что это Мэй и Уолтер нашли раненого кондуктора.
– Пока нет, – ответила Амалия. – Наши мушкетеры не стали дожидаться полицию. Но, конечно, врач их видел, и он опишет их приметы. Найти их для Папийона – пара пустяков.
– Вы считаете, он настолько хорош? – не удержался Кристиан.
– Ах, прошу вас, – отмахнулась Амалия, – вы, наверное, читали слишком много романов, где любители проявляют чудеса гениальности, а профессиональные сыщики всегда глупы. Папийон в своем деле не один из лучших, а просто лучший. И если ему не всегда везет, то в этом виноват не он, а обстоятельства.
– А я слышал, что невезение – оправдание для глупцов.
– Да? И кто же это сказал?
– Какой-то знакомый мадам Клариссы. Писатель, кажется.
– Это сказал кардинал Ришелье, – сухо сказала Амалия. – Которого мадам Кларисса никак не могла знать. Есть, впрочем, и другое мнение, которое заключается в том, что случай – псевдоним провидения, а также третье, что провидение – разновидность случая. Чему вы улыбаетесь? Лучше смотрите на дорогу, пока мы в кого-нибудь не въехали.
По правде говоря, Кристиану куда больше нравилось смотреть на Амалию, особенно тогда, когда она так очаровательно сердилась. Однако он пересилил себя и стал следить за дорогой, на которой, впрочем, не происходило ровным счетом ничего интересного.
Когда автомобиль подъезжал к дому, Амалия разглядела, что у ее подъезда стоит экипаж. Прежде чем консьерж назвал имя гостя, она уже знала, кто так неожиданно решил ее навестить.
Глава 22 Секреты и советы
– Да, – сказал О., улыбаясь самой сердечной, самой доброжелательной, самой обволакивающей из своих улыбок, – я проезжал мимо и на правах старого друга решил навестить вас.
Чем старше становилась Амалия, тем хуже она относилась ко всем видам притворства, лицемерия и фальши. Поэтому она села в кресло напротив резидента и довольно холодно ответила:
– Насколько мне известно, в нашем кругу не бывает друзей, есть только насущные интересы. Не так ли?
Вслед за этим последовало довольно продолжительное молчание. О. все еще любезно улыбался, но про себя размышлял, что разговор с Амалией выйдет непростым… если выйдет вообще.
Вслух же, впрочем, он сказал:
– Мое положение, госпожа баронесса, обязывает меня соблюдать осторожность, и вы сами должны понимать… – Тут он увидел опасные огонечки в глазах Амалии и поправился: – Хорошо. Полагаю, мы и в самом деле можем говорить откровенно. Что вам известно об аквилоне?
– Ничего. Я полагала, что вы сумеете мне о нем рассказать.
– Нет, нет, – вкрадчиво промолвил О., – вы проговорились, госпожа баронесса, и я никогда не поверю, что вы ничего не знаете.
– Я проговорилась? – мрачно спросила Амалия.
– О да. Вы же изволили сказать, что аквилон там же, где и Эол. Значит, вы знаете и об Эоле тоже?
– Это была шутка, – сухо сказала молодая женщина. – Каламбур, если угодно. Аквилон – северный ветер, а Эол – бог ветров.
Однако по выражению лица О. она поняла, что он не верит ни единому ее слову.
– Не будем притворяться друг перед другом, сударыня, – наконец промолвил резидент, поглаживая пальцем набалдашник трости, – тем более что мы хорошо друг друга знаем. Не имею понятия, каким образом вы узнали об этом деле, но… – он глубоко вздохнул, – если вам известно об аквилоне что-то конкретное, мы будем весьма вам благодарны, если вы разделите ваши знания с нами. В этом деле в интересах России – не быть в неведении относительно того, что происходит. Обладание секретом аквилона может… может оказаться чрезвычайно важным с военной точки зрения. Я уверен, что вы и так это понимаете. – И резидент вновь сердечно улыбнулся.
Амалия вздохнула. Хотя О., по сути, не сказал ничего существенного, все же он обмолвился, что речь о некоем секрете, имеющем военное значение. Вот почему, значит, вокруг крутится столько агентов, а французская полиция сочла необходимым соблюдать строжайшую тайну.
Значит, это вовсе не шантаж, как они предполагали. Новые разработки? Усовершенствованное оружие? Передовой тип взрывчатки? Непробиваемая обшивка для броненосцев? Какая разница, в конце концов – вариантов сколько угодно…
– Пока мне известно очень мало, – сказала она. – Слишком мало, по правде говоря. Вам известно, чем занимался некий Пьер Моннере? Он был коллегой Папийона.
В глазах О. мелькнуло удивление.
– Так Моннере был одним из тех, кто расследовал пропажу, – ответил он. – Разве вы не знали?
– Я же вам говорила, – устало повторила Амалия. – Пока мне известно очень мало. И вообще…
Она хотела закончить фразу: «И вообще, мне больше нет никакого дела до военных секретов, до вашей Особой службы и всей этой грязи», но удержалась. Что-то ей подсказывало, что О. вряд ли простит такое пренебрежение к структуре, к которой принадлежит сам.
– Моннере работал один? – спросил она. – Я имею в виду, у него были помощники?
– Были, – отозвался О., буравя ее взглядом, – так, мелкая сошка, которым он только приказы отдавал, а они выполняли, не задавая вопросов. Впрочем, Моннере хоть и хороший полицейский, но нельзя сказать, чтобы у него много наград или чтобы коллеги уважали его, как Папийона. – Он выждал крохотную паузу и небрежно спросил: – Так он не зря исчез, получается?
– Он не исчез, – решилась Амалия. – Думаю, его убил Оберштейн, и как раз из-за аквилона. – Она прищурилась. – Кстати, этот господин случаем работает не на вас?
О. стал горячо отрицать. Как она могла подумать? И вообще, Оберштейн такой негодяй, что ему ни один порядочный человек руки не подаст.
– Ну, не обязательно пожимать ему руку, чтобы иметь с ним дело, – ответила Амалия и рассердилась на себя. Это была фраза, которую примерно в таком же контексте разговора о нечистоплотных агентах при ней произнес как-то ее бывший начальник, генерал Багратионов.
Так что, получается, она зря думала, что давно отошла от Особой службы и ее деятельности, иногда героической, а иногда попросту гнусной? Или есть такая работа, которая неминуемо въедается в душу, входит в плоть и кровь?
– Должен вам сказать, сударыня, – промолвил О., не сводя с нее пристального взора, – что мы чрезвычайно заинтересованы в этом деле. Если вам удастся достать бумаги, я думаю, что вы сможете попросить все, что угодно, и ваша просьба будет услышана.
Так-так. Получается, аквилон – это не только военный секрет, а еще и бумаги, которые пропали, причем одним из тех, кто расследовал пропажу, был именно Моннере. Какие именно бумаги имелись в виду? Формулы? Чертежи? Уж не те ли случаем листки, которые священник видел в наводящей трепет коробке, похожей на гроб? А что означает Эол? Какое отношение бог ветров имеет к происходящему?
– Если я буду вновь помогать вам, то только по собственной воле, – холодно сказала Амалия. – Мне ничего не нужно, у меня все уже есть.
– Чем больше у человека есть, тем больше ему нужно, – тихо заметил О.
Они посидели еще минут десять, обмениваясь ничего не значащими фразами. После ухода резидента Амалия поймала себя на мысли, что очень хочется проветрить комнату, – а может быть, взять какую-нибудь вазу, разумеется, некрасивую, и швырнуть об стену, чтобы хоть как-то выместить излишек дурного настроения.
Однако вместо всего этого она предпочла заглянуть к Уолтеру, который принял лекарство и спал. Мэй, сидя возле него в кресле, изучала пособие для начинающих полицейских. Когда Амалия вошла, она как раз читала главу, посвященную описанию огнестрельного оружия.
– Где вы это взяли? – изумилась баронесса.
– Купила в книжном напротив, когда ходила за лекарствами, – ответила Мэй, доверчиво глядя на нее.
В этом месте, конечно, Амалии следовало произнести длинную речь о том, что все-таки романы о сыщиках – это одно, а реальная жизнь – совсем другое. В книгах за спиной главного героя стоит сам автор, который ни в коем случае не даст ему пропасть; но в жизни одна-единственная ошибка может обернуться гибелью. Случай Пьера Моннере доказывал это как нельзя лучше.
Однако Амалия не любила читать нравоучения, а еще меньше – вмешиваться в чужую жизнь. Впрочем, про себя она решила, что сделает все от нее зависящее, чтобы с Мэй и ее другом больше ничего не произошло.
– Когда устанете или захотите спать, – сказала Амалия, – скажите мне. Я позову жену консьержа, и она вас сменит.
Мэй поблагодарила ее, но сказала, что пока останется с Уолтером. Когда настало время ужина, за столом оказались только Амалия и Кристиан. Мэй не хотела отходить от своего друга, еду отнесли в его комнату.
– Что дальше? – спросил Кристиан.
– Раз мы сейчас в Париже, надо этим воспользоваться, – ответила Амалия. – Вы сумеете найти Жоржетту Бриоль?
– Любовницу графа де Мирамона? – Кристиан поднял брови. – По правде говоря, я совершенно ее не знаю. Как она выглядит?
– Эффектная рыжая женщина в красном платье. Думаю, вы видели ее на перроне, когда встречали Мэй на вокзале в Ницце.
– А, вот кого вы имеете в виду! Теперь я вспомнил. А зачем ее надо искать? Она имеет какое-то отношение к происшедшему?
– Пока не уверена, – с расстановкой ответила Амалия. – Но очень может быть. Мне нужно знать все, что она помнит об экспрессе «Золотая стрела». О скандале в вагоне-ресторане все известно, и это меня не интересует. Попытайтесь ее разговорить. Полагаю, вам это удастся лучше, чем мне.
– Думаю, мне лучше удастся справиться с делом, если вы скажете, что именно вы хотите узнать, – дипломатично промолвил Кристиан. – Потому что сам я, к примеру, до сих пор не понимаю, что произошло в поезде. Вы говорите загадками, а я…
– А вы не любите загадки. – Амалия сухо улыбнулась.
– Не очень, – признался Кристиан. – И к тому же я видел господина, который навестил вас сегодня. Понимаю, почему вы предпочитаете хранить все в такой тайне. – Хоть он и старался произнести эти слова как можно более непринужденно, в его голосе все равно сквозила обида.
«А стоит ли? – мелькнуло в голове у Амалии. – Я ничего не должна О., – как, впрочем, и он мне. А скрытность… Пьер Моннере, судя по всему, тоже скрытничал, и к чему это привело?»
– В сущности, дело не в тайне, а в том, что у меня в руках далеко не все нити, – начала Амалия. – Но кое-что уже ясно. Пассажира из десятого купе звали Пьер Моннере. Он был полицейским и вместе с другими людьми расследовал пропажу бумаг, связанных с военным секретом под кодовым названием «аквилон». Каким-то образом этот аквилон имеет отношение к другому секрету под названием «Эол», о котором мне вообще ничего не известно. По некой причине Пьер Моннере счел нужным сесть на экспресс «Золотая стрела» и отправиться в Ниццу. Он купил два места первого класса в одно купе, чтобы никто его не потревожил. Однако на том же поезде оказался господин по фамилии Оберштейн, который решил разделаться с Моннере, а убийцей выставить меня. Он украл мою перчатку, чтобы оставить ее на месте преступления как неопровержимую улику, зарезал Моннере и подбросил орудие убийства, как он считал, мне, а на самом деле – Мэй.
– Этот Оберштейн, он кто – шпион? – спросил Кристиан, который слушал Амалию очень внимательно.
– Скажем так, вольнонаемный агент, – сказала Амалия. – Готов работать на кого угодно, лишь бы платили. К тому же он довольно опасный мерзавец. – Она поморщилась. – До этого места кое-что ясно, а дальше начинается нечто странное. Почему Оберштейн напал на Мэй? Почему он решил, что аквилон находится у нас? Я могу еще понять, почему в деле появился Генрих и почему он напал на несчастного кондуктора. Но…
– А Генрих – это господин в венском костюме?
– Да.
– Еще один агент?
– Конечно. Допустим, он тоже охотился за аквилоном. Узнал об исчезновении Моннере и решил, что кондуктору может быть что-то известно. Но коробка в виде гроба плохо вяжется с военными секретами, да и вообще с характером всего дела.
– Это четвертая странность, – напомнил Кристиан. – Помните, вы говорили, что пока их три. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем Оберштейну понадобилось убивать полицейского. Все-таки во Франции за такие вещи полагается смертная казнь. Даже если Моннере узнал, что бумаги у Оберштейна, и шел по следу, проще скрыться, чем так рисковать.
– Да уж, – сказала Амалия и задумалась. – Но из поведения Оберштейна следует, что бумаги пропали, причем он подозревает в этом нас. Очевидно, никаких бумаг у него на самом деле не было, иначе этот мсье ни за что не выпустил бы их из рук.
– Он думал, что они у Моннере! – воскликнул Кристиан. – Вот почему Оберштейн напал на него! Он хотел узнать, где бумаги, а потом разделаться с полицейским.
– Тоже странно. Если бы Моннере нашел бумаги, то немедленно отдал бы их полковнику.
– Какому еще полковнику?
Амалия с укоризной посмотрела на него.
– Вы невнимательно слушали Норвэна, – сказала она. – Его допрашивали полицейские, а затем какой-то полковник. Конечно, этим делом занимается не только полиция, но и контрразведка.
– А если Моннере вел свою игру? – предположил Кристиан. – Если он вовсе не собирался отдавать бумаги? Что, если он ехал в Ниццу, чтобы продать их какому-то третьему лицу?
– Ну да, – насмешливо сказала Амалия. – Ехал на «Золотой стреле» в первом классе, где записываются имена и фамилии пассажиров. Как будто он не знал, что если на службе его хватятся, то в два счета найдут. – Она шевельнулась в кресле. – В одном вы правы: Оберштейн не стал бы так просто нападать на Моннере. Была какая-то причина, причем очень веская.
– Моннере узнал, что бумаги в Ницце, – выпалил Кристиан.
– Что?
– Ну конечно! Это все объясняет. Если наш полицейский честолюбив и напал на след, то ничего удивительного, что он решил ни с кем не делиться. – Кристиан подался вперед, возбужденно блестя глазами. – Допустим, он узнал, что бумаги в Ницце. Помните, в каком хорошем настроении он был в поезде? Даже кондуктор заметил. Моннере ехал в Ниццу за бумагами, совершенно точно. Но Оберштейн понял это и напал на него, чтобы узнать, где те находятся. Он с самого начала решил, что не оставит полицейского в живых. К тому же в поезде он увидел вас и решил использовать это обстоятельство.
– И если Моннере сказал Оберштейну неправду… – медленно проговорила Амалия. – Да, вот теперь все сходится. Моннере понимал, что ему все равно не жить, и обманул Оберштейна. Конечно, тот понял, что его провели, но уже тогда, когда было слишком поздно. К тому же, просматривая газеты, он догадался, что его инсценировка не сработала, потому что тело попросту исчезло, и запаниковал. – Амалия усмехнулась. – Понимаете, он решил, что это я каким-то образом узнала об убийстве и избавилась от трупа. Что, если я вдобавок сумела добраться до тайны аквилона?
– Мы опять подходим к этому исчезновению, – пожаловался Кристиан, – а вы ничего мне не объясняете. Почему тело Моннере исчезло?
– А-а, – протянула Амалия, и глаза ее замерцали. – Я думаю, что знаю, почему.
– Здесь замешан второй агент, верно? Этот Генрих?
– Нет, даже если он и оказался в поезде, ему не было никакого смысла избавляться от тела. На самом деле могла быть только одна причина того, что его, как я полагаю, сбросили с поезда, а купе привели в порядок, чтобы создать впечатление, что пассажир просто ушел.
– Амалия Константиновна!
– Нет, нет, дорогой граф. Подумайте сами, и все поймете. Но теории теориями, а подтверждать их должны факты. Должен появиться еще один труп, а его до сих пор нет.
Кристиан нахохлился.
– Именно поэтому вы хотите, чтобы я поговорил с Жоржеттой Бриоль? – спросил он.
– Да. Меня интересует, что она запомнила о ночи, когда экспресс ехал из Парижа на юг. Не слышала ли шагов в коридоре, странного шума и тому подобного. Как ей спалось, какие снились сны и прочее.
– Хорошо, – кивнул молодой человек, – хотя, должен вам признаться, я терпеть не могу общаться с женщинами этого типа. Но ради вас, конечно, я узнаю все, что смогу. Только…
– Только – что?
– Когда я расспрошу ее, – сказал Кристиан, – вы мне все-таки расскажете, что произошло с телом Пьера Моннере. Потому что вы можете говорить все что угодно, госпожа баронесса, но я не вижу ни одной причины, почему оно должно было исчезнуть.
– Со своей стороны, – серьезно проговорила Амалия, – у меня к вам тоже будет одна просьба. Только к нашему делу она уже не имеет никакого отношения.
– В самом деле? – заинтересовался Кристиан. – Какая именно?
Амалия вздохнула. По правде говоря, она долго колебалась и вот наконец решилась.
– Вы научите меня водить автомобиль? – спросила она.
Глава 23 Неожиданные вести
Когда Кристиан проснулся на следующее утро в особняке своего отца, он вспомнил, во-первых, что ему надо отыскать Жоржетту Бриоль, а во-вторых, как выглядели волосы Амалии, пронизанные солнцем, когда она сидела на месте водителя рядом с ним и внимательно слушала объяснения по поводу разных технических элементов. И какие у нее были глаза… ах, глаза.
Она слушала, а потом сказала: «Кажется, я все поняла». И они поехали по двору – сначала медленно, потом быстрее, потом Амалия сделала круг возле дома и остановилась.
«Надо было сказать ей, что это не так-то просто – водить машину, – подумал недовольный собой Кристиан. – Иначе она может решить, что я… что я совсем ей не нужен».
Тут к нему в спальню заглянул лакей и сообщил, что герцог, его отец, только что приехал в Париж и желает позавтракать вместе со своим отпрыском.
Когда лакей вышел, Кристиан сдавленно застонал и спрятал голову под подушку. По правде сказать, он не любил своих родителей. Пожалуй, любил – слово вообще не слишком уместное, потому что они существовали в совершенно разных мирах. Мир матери составляли балы, насыщенная светская жизнь и переписка с членами королевских семей, удостаивавшими ее своей дружбой. Мир отца был разграничен между охотой, придворными обязанностями, которые сын находил довольно-таки нелепыми, и попытками сделать из него, Кристиана, образцового наследника знатной семьи. Что касается самого Кристиана, то он был равнодушен к титулам, обязанностям и королевским особам, если это не очаровательные дамы. Но настоящих дам среди них мало, а очаровательных – и того меньше.
В общем, день не задался с самого начала. Раз отец дома, то к завтраку следовало спускаться при полном параде, но Кристиан проигнорировал требования домашнего этикета и отправился в обычной одежде. Герцог из-за газеты сухо кивнул ему. Это был чрезвычайно сдержанный, чрезвычайно учтивый господин, но отчего-то вид его наводил на мысли, что он какой-то не вполне живой. К тому же герцог был преисполнен чувства собственного достоинства настолько, что ничье чужое его не волновало.
– Мне сообщили, – сказал герцог после того, как половина завтрака протекла в полном молчании, – что ты в Ницце служишь чуть ли не шофером. – Неодобрительный оттенок последнего слова на самом деле должен был показать, что только хорошее воспитание мешает отцу Кристиана высказать все, что он думает.
– Я просто помогаю одной даме управляться с автомобилем, – буркнул сын, не поднимая глаз от тарелки.
– Даме? – На сей раз интонация приобрела оттенок вопросительной иронии. Герцог хотел дать понять сыну, что уж кто-кто, а Кларисса никак не заслужила этого почетного определения. – Люди могут подумать… – и он выдержал легкую паузу, показывая, что такое поведение Кристиана может вызвать самые предосудительные толки. Чувствуя нарастающее раздражение, тот положил вилку и поднял голову.
– Что? – с вызовом спросил он. – Она старше моей матери, между прочим.
– А баронесса Корф старше тебя на десять лет, – мягко заметил отец.
– На девять с половиной, – поправил Кристиан и осекся, отлично понимая, что проговорился. Точный подсчет выдавал его с головой, как не выдало бы прямое признание в любви.
Однако отец почему-то не пожелал воспользоваться его промахом.
– И у нее, конечно, тоже есть автомобиль, – снисходительно промолвил он, улыбаясь в усы.
– Со вчерашнего дня. Впрочем, наверное, вам об этом тоже сообщали, – задорно сказал Кристиан. – Кстати, она обещала мне дать машину для гонок.
Герцог вздохнул. Откроем маленькую тайну – отец Кристиана вовсе не был так уж скуп. Он готов был сквозь пальцы смотреть на то, как сын спускает фамильное состояние на скачки, кутежи и актрис «Водевиля» или «Варьете» – в конце концов, все прочие наследники знатных семей поступали так же, и это считалось в порядке вещей. Но Кристиан был равнодушен к лошадям, попойкам и продажным красавицам, и пока отец выделял ему содержание, он тратил все деньги на автомобили, полеты на воздушных шарах и тому подобные вещи. С точки зрения герцога, это совершенно неприлично, а когда сын начал участвовать в автомобильных гонках и его имя стали упоминать в газетах, сделалось ясно, что честь семьи под угрозой. Герцог поговорил с Кристианом и объяснил: или тот вернется к подобающим его возрасту развлечениям, или отец будет вынужден превратиться в скупого рыцаря и урежет его содержание. Нет, настоящей ссоры не получилось, но отношения между отцом и сыном значительно охладились, тем более что герцог все-таки выполнил свое обещание и, видя упрямство Кристиана, стал давать ровно столько денег, чтобы не поощрять пагубные наклонности. Это означало, что на жизнь ему хватало, но об автомобилях и гонках он мог забыть. Просить денег у матери бесполезно – она принадлежала к тому типу людей, которые с легкостью идут на любые нелепые траты, но не подадут нищему, ссылаясь на то, что у них нет лишнего гроша. А Кристиан не любил чувствовать себя в положении нищего.
– Я все же надеюсь на твое благоразумие, – своим обычным ровным тоном промолвил герцог. – Ее сыну уже пятнадцать лет, а еще у нее есть приемный сын, который носит ее девичью фамилию. Говорят, – раздумчиво добавил герцог, – что он очень похож на одного из ее знакомых.
Кристиан вспыхнул и поднялся с места.
– Вы невыносимы, – сказал он.
Он хотел продолжить обличительную речь, но посмотрел на непроницаемое лицо отца и понял, что это будет лишь бесполезная трата времени. Поэтому Кристиан швырнул салфетку на стол и вышел, хлопнув дверью.
Зеркало в спальне отразило его раскрасневшееся, сердитое лицо. Он вполголоса выругался и начал мерить комнату шагами. Кристиан и сам не мог бы сказать, что именно так его задело; уж, во всяком случае, не упоминание о детях Амалии. Неужели отец хотел намекнуть, что она ловит его?
«Вздор», – сказал он себе, вспомнив открытое лицо возлюбленной, ее глаза, ее улыбку. Но осадок все-таки остался, мутный, неприятный, и, чтобы разогнать его, Кристиан напомнил себе о поручении отыскать Жоржетту Бриоль.
«Вот и прекрасно… Этим и займемся».
Квартира Жоржетты находилась в бельэтаже дома, расположенного в модном районе, а из окон открывался вид на Эйфелеву башню. Дверь открыла молодая горничная простоватого вида и сказала, что мадам нет дома, когда вернется – неизвестно, но он может оставить свою карточку.
– Спасибо, – сказал Кристиан, – я лучше зайду потом.
Через полчаса он сидел в кафе, просматривал газеты и размышлял, что предпринять. Кристиан был недоволен собой. В конце концов, Мэй нашла нож, Уолтер отыскал логово шпиона, Амалия умело руководила ими всеми, а он, Кристиан де Ламбер, ровным счетом ничем не отличился. Поручили ему совершенно пустяковое дело – допросить свидетеля, так и то не сумел выполнить.
– Кристиан! Ты уже в Париже? А мы думали, все еще на юге!
К нему подсел знакомый, молодой маркиз Гастон де Монферье. Он был высок и сухощав, с маленькой ухоженной головкой, и постоянно улыбался, показывая мелкие белые зубы. Из-под выпуклых век смотрели темные большие глаза, шарф свешивался небрежно, но донельзя элегантно, а бутоньерке мог позавидовать любой лондонский денди. Кому-то, особенно женщинам могло показаться, что Гастон выглядит неотразимо, и он и впрямь слыл большим волокитой. Он был обаятелен и добродушен, питал пристрастие к сплетням, считал себя душой общества и искренне удивился бы, если бы ему сказали, что его существование абсолютно бесполезно. Когда-то он учился вместе с Кристианом, но друзьями их назвать нельзя – хорошими знакомыми, не более того.
– А я все думал, ты или не ты промелькнул мимо меня вчера на Елисейских Полях, – продолжал маркиз, с любопытством глядя на него. – Кстати, мне показалось или в автомобиле с тобой сидела мадам Корф?
Кристиан, конечно, не Мэй – он умел врать, но беда в том, что нескладно. Он мог, к примеру, сказать, что Амалия – троюродная племянница кузена его крестной матери или что он просто помогает ей устраивать благотворительный вечер в пользу погорельцев Гренландии, а вместо этого он начал какую-то глупейшую фразу, запнулся, покраснел и дал повод жаждущему сплетен де Монферье окончательно убедиться: что-то здесь нечисто.
– Уверяю тебя, тут нет ничего особенного, – уже сердито сказал Кристиан. – Она просто захотела купить автомобиль. Должен же кто-то его водить!
Маркиз задумчиво кивнул.
– Поразительная особа эта баронесса, – заметил он. – А как д’Авеналь относятся к тому, что ты состоишь при ней… верным пажом?
– При чем тут виконт д’Авеналь и его семья? – удивился Кристиан.
– О, прости! Ну мы-то полагали, что это дело решенное. – Кристиан, не понимая, смотрел на него. – Я имею в виду, ты и мадемуазель Иоланда… Ваши семьи давно дружат, а ей уже восемнадцать, самый подходящий возраст для… ну, ты сам понимаешь. Твоя мать недавно разговаривала с ее родителями, и они вроде бы не против, только твоя страсть к моторам их смущает, но виконт…
Кристиан сидел распрямившись, как натянутая струна, и не верил своим ушам. Итак, дорогие родители решили применить крайнее средство для того, чтобы заставить его образумиться? Женить его? На мадемуазель Иоланде, которую он знает с детства, которая вполне мила и он ничего против нее не имеет, но…
– Вы уже помолвлены? – спросил Гастон, горя от любопытства.
– Я только что приехал, – выдавил из себя Кристиан. – Когда бы я успел?..
– Ты можешь на меня положиться, – заверил его маркиз, – я никому не скажу, что видел тебя с госпожой баронессой. – О том, что он уже рассказал об этом двум дюжинам их общих знакомых, он благоразумно умолчал. – Лично мне Иоланда очень нравится. Думаю, вы будете прекрасной парой. А с госпожой Корф у тебя бы все равно ничего не вышло.
– Почему это? – уже мрачно спросил Кристиан.
– Ну, у меня же не вышло, – с обезоруживающей простотой признался Гастон. – Не смотри на меня так, я только слегка приволокнулся за ней, но она… – Он вздохнул. – Я же говорю – поразительная особа! Просто не пожелала меня знать. Ума не приложу, чем я ей не угодил. А ведь ее, знаешь ли, нельзя назвать… э… разборчивой. Я слышал, у нее был роман с игроком, да, с профессиональным игроком! И друзья у нее странные, по крайней мере, некоторые. Мне говорили…
И де Монферье, понизив голос, рассказал душераздирающие подробности о друзьях Амалии, которые все как один не дружили с законом и которых наверняка не пускали в приличные дома, в то время как она совершенно свободно принимала их у себя.
– По-моему, все это дурацкие сплетни, – холодно сказал Кристиан. – Я не встречал у нее дома ни одного человека, которому было бы неудобно пожать руку.
– Конечно, ты прав, – легко согласился маркиз. – Наверное, все дело в том, что для своего возраста она поразительно выглядит, вот люди и рады приписать ей хоть что-нибудь. Хотя в то же время нельзя сказать, что она следует светским условностям. Она не дает балы, редко ходит на званые вечера, почти не бывает в театре, зато ее портреты пишут лучшие живописцы. Все сейчас с ума сходят по Больдини[187], платят ему сумасшедшие деньги, лишь бы он их написал. Только мадам Корф не искала его расположения, он сам захотел нарисовать ее портрет.
Кристиан не слишком разбирался в живописи, но про себя подумал, что на месте этого Больдини написал бы не один портрет Амалии, а несколько.
…И еще, по правде говоря, он был рад, что она отшила Гастона. Если бы она была благосклонна к этому ничтожеству, это сильно уронило бы ее во мнении Кристиана. При всей своей демократичности он отлично сознавал, что люди вовсе не равны, только для него неравенство заключалось в личных качествах, а не в социальном положении.
– Ты давно с ней знаком? – осведомился де Монферье, испытующе глядя на него.
– Скажи, Гастон, тебе не надоело? – прямо спросил граф.
– Ты о чем? – изумился тот.
– Тратить свою единственную и неповторимую жизнь на какую-то чепуху, – терпеливо пояснил Кристиан. – Чем ты занимаешься? Ходишь по гостиным, разносишь сплетни, выспрашиваешь у меня подробности о женщине, которую я едва знаю. Зачем это все, для чего, в чем смысл? Я не понимаю. Может быть, ты мне объяснишь?
– Ты сегодня в русском настроении, как я погляжу, – добродушно ответил Гастон, которого ничуть не обидели слова приятеля. – Смысл жизни, душа и прочие нелепости, над которыми ваши писатели так любят ломать голову. Какой, к примеру, смысл в автомобильных гонках, которыми ты так увлекаешься?
– Победить природу, – серьезно ответил Кристиан, – испытать собственный характер и, может быть, установить рекорд. Дойти, например, до скорости в сто километров в час. Пока невозможно, но как знать?
– А по-моему, все это глупости, – отозвался Гастон, поправляя бутоньерку. – Я не спорю, для тебя это, наверное, много значит, но для меня победить природу и прочее – всего лишь слова. И ты прости меня, но я не променяю все автомобили мира на лошадь, которая выиграет очередные скачки в Шантийи. Кстати, вот тебе пример торжества над природой ничуть не хуже твоего, потому что хорошо объездить лошадь – целое искусство.
У Кристиана не было никакого желания спорить – не потому, что он не был уверен в своей правоте, а потому, что вновь особенно остро ощутил, что разговаривает с человеком из другого мира. Какой смысл в том, чтобы пытаться его переубедить? Все равно они никогда не поймут друг друга.
«Бедняга, – подумал маркиз, когда Кристиан наконец попрощался с ним и удалился. – Вот еще один неплохой малый, который потерян для общества, а все потому, что изменил своему назначению. Зря он все-таки играет в равенство, это ему не к лицу. И как он может общаться с этими грубиянами, которые чинят моторы? Ясно же, что для общения куда больше подходят люди вроде герцогини Г. или великого князя В.». И он развернул карточку меню, весьма довольный собой.
Было воскресенье, и Кристиан шагал в толпе гуляющих, думая о том, прилично ли заглянуть к Жоржетте Бриоль снова и вернулась ли она, пока его не было. Однако рыжей дамы вновь не оказалось дома, и горничная не пожелала сообщить, где та находится. Вконец недовольный собой, Кристиан двинулся к особняку, в котором жила Амалия. Пару раз в толпе ему почудилось, что он видит впереди Жоржетту, но это оказывались другие женщины с рыжими волосами.
«В конце концов, – сказал он себе, – она может быть где угодно».
И он задумался о том, как поступить с Иоландой. Судя по всему, родители всерьез вознамерились его женить.
Пока Кристиан с приятелем обсуждали в кафе смысл жизни, Амалия приняла у себя дома посетителя, который, по ее расчетам, должен был явиться гораздо раньше. Имеется в виду комиссар Папийон.
Он рассыпался в любезностях, объявил, что госпожа баронесса хорошеет день ото дня и он сердечно рад ее видеть. Но, увы, сюда его привели неотложные дела.
– Полагаю, – заметила Амалия, – вас ко мне принес добрый ветер.
Папийон слегка напрягся, но не стал ничего отрицать.
– Надеюсь, он будет добрым для нас обоих, госпожа баронесса. Потому что долг обязывает меня сказать вам кое-что, что может вам не понравиться. И все же я рассчитываю на то, что вы поймете меня.
– Говорите, – сказала Амалия, – я вас слушаю.
– Я буду краток, – отозвался комиссар. – Так вот, сударыня, мне известно все, что вы предприняли в течение последних дней. Я знаю всех ваших помощников и знаю все, что они сделали и продолжают делать для вас. И я убедительно прошу вас держаться подальше от этого дела, иначе последствия могут быть самые непредсказуемые. Я далек от того, чтобы угрожать вам, но вы должны понимать, что мы не потерпим ни малейшего вмешательства в то, что касается наших интересов. Франция – демократическая страна, но и у нашей демократии есть границы.
– Надеюсь, – сдержанно заметила Амалия. – Потому что демократия без границ – это нечто совершенно удручающее. – Она прищурилась. – А как же августовский визит господина Фора?[188] Я полагала, что наши страны союзники, а у союзников не может быть секретов друг от друга.
Папийон задумчиво посмотрел на нее.
– Даже у самой лучшей жены бывают секреты от мужа, сударыня. Что говорить о политике?
– Дорогой комиссар, – устало сказала Амалия. – Нам обоим было бы гораздо проще, если бы мы были откровенны друг с другом.
– Откровенны? – Папийон пожал плечами. – После того, как вам вчера нанес визит некий господин из посольства? Простите, сударыня, но я не настолько наивен.
Амалия улыбнулась.
– После того, как вы взяли на себя труд столь откровенно меня предупредить, я тоже должна кое о чем предупредить вас. Мой интерес в этом деле не политический, и мне все равно, верите вы мне или нет. Просто господин Оберштейн перегнул палку, и теперь я очень хочу его проучить. Кстати, вы уже арестовали его? – Папийон не шелохнулся, но по блеску его глаз Амалия поняла, что ответ, скорее всего, отрицательный. – Зря, потому что это он убил вашего коллегу Пьера Моннере. Не знаю, что такое тот сумел найти, но, очевидно, этого оказалось достаточно.
– Я вижу, вы не теряли времени даром, – вздохнул комиссар. – И все же я еще раз прошу вас, сударыня, не вмешиваться. Иначе нас могут заинтересовать многие любопытные моменты. К примеру, откуда у простого кондуктора в кошельке оказалось две стофранковые купюры, причем третью он успел разменять, выкупая кольцо из ломбарда? Я уж не говорю о том, что выслать ваших английских друзей с запретом возвращаться во Францию – проще простого. Не вынуждайте нас идти на крайние меры, сударыня, иначе потом будет поздно.
– Ну, это мы еще посмотрим, – заметила Амалия. – Ветер ведь может перемениться, разве нет?
Папийон поднялся с места.
– Признаюсь, я был бы счастлив работать с вами, сударыня, – сказал он серьезно. – Но в нынешних обстоятельствах это совершенно исключено. И я ничем не смогу вам помочь, если вы по-прежнему будете мешать следствию.
– Думаю, если сравнить выводы следствия и мои, то окажется, что мне известно куда больше, – задорно парировала Амалия. – Так кто кому мешает, сударь?
Папийон улыбнулся.
– Я допускаю, что вам кое-что известно, сударыня. Но боюсь, что не все. Так или иначе, вы можете больше не посылать господина графа к Жоржетте Бриоль, это совершенно бесполезно.
– Хотите сказать, что вы ее уже задержали? – с любопытством спросила Амалия.
– Нет, – серьезно ответил Папийон. – Труп Жоржетты Бриоль выловили вчера в море недалеко от Ниццы. Она убита несколько дней назад.
Глава 24 Несоответствия
– Нет, – воскликнула Амалия, – это не может быть второй труп!
– Простите? – Папийон так изумился, что снова сел.
– Я ожидала появления в деле второго трупа, – терпеливо пояснила Амалия. – Но это не может быть Жоржетта Бриоль! Исключено!
– Мы полагаем, что ее убийство действительно не имеет никакого отношения к делу, которым занимался Моннере, – кивнул комиссар. – Несколько дней назад на свободу вышел любовник Жоржетты, фальшивомонетчик Руссело. Нам известно, что он питал к ней серьезные чувства, и вряд ли ему понравился тот образ жизни, который вела Жоржетта, пока он сидел в тюрьме. Вдобавок перед отъездом из Ниццы она получила крупную сумму от графини де Мирамон. Эти деньги, равно как и прочие вещи, исчезли. Сегодня коллега Депре телеграфировал мне, что в одном из дешевых пансионов Ниццы видели человека, похожего на Руссело, вскоре после того, как мадемуазель Бриоль исчезла. Сейчас Депре ищет фальшивомонетчика, и при том обороте, который приняло дело, я не сомневаюсь, что коллега его найдет.
– Мне известно, что когда Жоржетта получила деньги, она собрала вещи и поехала на вокзал Ниццы, где купила билет на поезд в Париж, – сказала Амалия, хмурясь. – Так что же – на поезд она не села?
– Судя по всему, раз ее выловили из моря с размозженной головой. Возможно, что Руссело перехватил ее на вокзале, они поссорились, и во время ссоры произошло убийство. Испугавшись, он забрал вещи и деньги, труп бросил в море, рассчитывая, что его никогда не найдут, и скрылся.
– Это всего лишь версия. Полагаете, у одного Руссело была причина поссориться с Жоржеттой и убить ее? Если уж на то пошло, то я могу назвать еще одно лицо.
– Графиню де Мирамон? Вы, наверное, удивитесь, но Депре пришло в голову то же, что и вам, – усмехнулся Папийон. – Увы, у графини неоспоримое алиби – она не покидала отель после отъезда Жоржетты, чему есть множество свидетелей. Потом из Парижа примчался ее разъяренный отец, и она не отходила от мужа, боясь, что месье Стен сотворит с зятем… что-нибудь нехорошее.
– Очень плохо, что у графини есть алиби, – сухо сказала Амалия. – Я имею в виду, если выяснится, что Жоржетту убил не Руссело, тогда может оказаться, что ее гибель все-таки связана с делом Моннере. Вы меня знаете, комиссар, и я рискну дать вам совет: не выпускайте это убийство из виду. Как-то слишком уж неожиданно и некстати оно произошло.
– Понимаю, – серьезно проговорил Папийон. – Вы думаете, что Жоржетта могла что-то видеть или слышать, и это решило ее судьбу? Но граф де Мирамон уверяет, что ночью, когда произошло убийство, она спала, и у меня нет оснований не верить ему. А вечером и утром они были вместе, и она видела то же, что и он.
– Почему граф так уверен, что Жоржетта спала? Неужели он бодрствовал всю ночь?
– По его словам, да. Объяснение с женой так его взволновало, что он не мог сомкнуть глаз. – Папийон поднялся с места. – Был счастлив повидаться с вами, госпожа баронесса. Надеюсь, вы все же поразмыслите над тем, что я вам говорил.
– Можете не сомневаться, сударь, – ответила Амалия, улыбаясь. – Если вы все же передумаете и решите сотрудничать, я к вашим услугам.
Однако когда за комиссаром закрылась дверь, выражение ее лица изменилось. Амалия была убеждена, что с помощью своих верных мушкетеров почти раскрыла это дело, – за исключением некоторых деталей. И теперь неожиданная гибель рыжей любовницы графа де Мирамона заставила ее усомниться в правильности своей версии.
«С другой стороны, она действительно была свидетелем, хоть и вовсе не того, о чем думает Папийон… Но что мне делать с алиби? Убить человека на вокзале – или выманить с вокзала, отвезти на берег моря, размозжить голову, бросить в воду, да еще так, чтобы никто не видел – нужно время. Или же я все-таки что-то упустила?»
Она взяла колоду карт и стала раскладывать сложный пасьянс в четыре масти, чтобы хоть немного отвлечься. За этим занятием ее и застал граф де Ламбер.
– Я пытался отыскать Жоржетту Бриоль, – сказал он, – но ее дома не оказалось, и горничная уверяет, будто не знает, когда она вернется.
– Она не вернется, – сказала Амалия. – Ее убили.
Кристиан откинулся на спинку кресла.
– Это и есть…
– Нет, это не второй труп, о котором я говорила, – опередила его Амалия. – Второе убийство должно было состояться еще до того, как убили Пьера Моннере. Жоржетта Бриоль приехала в Ниццу живой и здоровой, я сама видела ее на вокзале. Получается, это не она. Однако я пока не могу поручиться, что ее гибель не связана с нашим делом.
– Я не читал в газетах об убийстве, – сказал Кристиан, – хотя смотрел их, когда был в кафе. Это вам Папийон сказал?
– Откуда вы знаете, что он тут был? – поинтересовалась Амалия.
– Несколько минут назад я видел, как он разговаривал с женой вашего консьержа, – без зазрения совести доложил коварный граф. – Причем она отошла от дома на достаточное расстояние, чтобы вы не могли увидеть ее из окна.
– А, – протянула Амалия и задумалась. – Но это, в общем, не так уж важно.
– То, что она шпионит за вами для полиции? – поднял брови Кристиан. – Простите, но мне представляется, что вы чересчур снисходительны.
– Что она может ему сказать? – пожала плечами Амалия. – Какими духами я пользуюсь? Глупости все это. Папийон, конечно, отличный полицейский, но сейчас он на неверном пути, а это значит, что у нас перед ним преимущество. Беда в том, что мы не знаем самого главного. – Она посмотрела на карты.
– Вы уже два раза попробовали этот ход, – напомнил Кристиан. – Пасьянс не складывается.
– Должен сложиться, – отрезала Амалия. – Просто ход неверный. Теперь попробую другой.
И она переложила карты.
– Нет, нет, – запротестовал Кристиан, – так у вас совсем ничего не получится.
– Все дело в том, – возразила Амалия, – какая карта сейчас откроется. Мне позарез необходимо освободить один ряд, чтобы получить свободу маневра.
И в несколько ходов она стремительно сложила пасьянс.
– Вот и все, – сказала она, улыбаясь. – Вы, кажется, упоминали, что умеете управлять воздушным шаром?
Несколько удивленный граф подтвердил, что так и есть.
– То есть у вас есть знакомые во Французском обществе воздухоплавания и прочих местах, – подытожила Амалия. – Придется обратиться к ним.
– Что именно я должен узнать? – быстро спросил молодой человек.
– Ну, нас-то интересуют Эол и аквилон, – усмехнулась Амалия. – Коротко говоря, надо понять, кто из инженеров занимается разработками летательных аппаратов для военных. Это может быть какой-то особенный воздушный шар, дирижабль… в общем, не знаю. Но он совершенно точно летает и должен иметь военное назначение.
– Боюсь вас разочаровать, – сказал Кристиан серьезно, – но воздушные шары и дирижабли не имеют военного назначения, разве что для разведки с воздуха. Только это все равно слишком хлопотно, и потом, такой аппарат может сбить любая пушка.
– Дорогой граф, – терпеливо сказала Амалия, – я долго думала над этим, но аквилон – это ветер, а Эол – бог ветров. То, что обозначают эти слова, должно летать. И оно интересует военных, раз они так тщательно охраняют эти секреты. По-моему, ясно.
– Но какой смысл военным… – вновь начал Кристиан.
– А вы подумайте о бомбах, которые можно бросать на города с воздуха, – посоветовала Амалия. – Что, если речь идет о летающем аппарате, который сумеет подниматься выше досягаемости пушек? Я, кажется, уже говорила вам, что думаю о теории мистера Дарвина. Стоит всегда исходить из того, что любое изобретение будет прежде всего употреблено во зло, а вовсе не во благо.
Не слишком убежденный ее словами, Кристиан тем не менее пообещал узнать все, что только можно.
– А как себя чувствует наш Арамис? – спросил он.
– Мистер Фрезер? Поправляется, к счастью, – улыбнулась Амалия. – А Мэй сидит с ним и изучает пособие для начинающих полицейских. Когда я заходила к ним прошлый раз, она уже дошла до техники ведения допроса.
– Зачем это ей? – удивился Кристиан.
– Она почему-то уверена, что пригодится. А я не стала ее разубеждать.
Глава «Допрос подозреваемого» и в самом деле показалась Мэй весьма занимательной. Среди прочего там рекомендовалось пропускать промежуточные этапы вопросов и ловить противника на мелочах. Пример: расследуется убийство.
– Господин студент, это вы убили пожилую даму?
– Да вы что! Да у меня алиби! Да меня видели двадцать человек в пивной и собака у дверей.
– Тэк-с, тэк-с. Значит, десять тысяч ассигнациями тоже не вы похитили?
– Какие десять тысяч? Я вообще ничего не взял из квартиры, я… Ой!
– Ай-ай-ай, господин Раскольников, как нехорошо!
Прочитав главу два раза, причем очень внимательно, Мэй вздохнула и закрыла книжку.
– Когда будет твоя свадьба, Уолтер? – спросила она, задумчиво глядя в окно.
– Какая свадьба? – изумился бедный священник.
– С дочерью леди Брэкенуолл, – пояснила коварная Мэй, загадочно улыбаясь. – Кажется, все об этом говорят.
Уолтер, у которого возникло ощущение, что его вторично огрели по голове, покраснел, побледнел, подскочил на месте и стал уверять Мэй, что он никогда!.. ни за что!.. ни при каких обстоятельствах! Он так разволновался, что Мэй даже стало его жаль.
– Не волнуйся так, Уолтер, врач ведь велел тебе находиться в покое, – сказала она, поправляя подушку. – Я просто подумала, ну, слышала краем уха какие-то разговоры у бабушки… Наверное, я все перепутала.
Уолтер вздохнул, сжал руку Мэй и признался во всем. В том, как он мечтает остаться в Ницце и как леди Брэкенуолл шантажирует его возможностью быть постоянным священником в местной церкви. Пока он сидит как на иголках и каждую минуту может опасаться, что его попросит оттуда какой-нибудь беспринципный негодяй, который решится стать зятем почтенной дамы.
– Надо рассказать об этом миледи Корф, – заметила Мэй. – Она что-нибудь придумает.
– Что она может поделать? – уныло спросил Уолтер. – Она же не имеет никакого отношения к нашей церкви.
– Зато принц Уэльский очень даже имеет, – возразила рассудительная Мэй. Уолтер оторопел.
– Мэй, ты имеешь в виду, что она знакома с его высочеством и…
– Нет, – бесхитростно пояснила Мэй. – Но герцог Олдкасл – ее хороший знакомый, а принц – его кузен.
Честный Уолтер ужаснулся при мысли, что из-за него станут тревожить кузена его высочества, и попросил Мэй ничего не говорить миледи Корф. В конце концов, все как-нибудь само образуется. Его считают хорошим священником, и, может быть, он все-таки останется в Ницце.
– Конечно, если ты так хочешь, я ничего не скажу, – пообещала Мэй, про себя, впрочем, решив поговорить с Амалией при первой же возможности. – А когда у тебя будет постоянное место, – добавила она, – ты, наверное, и в самом деле сможешь жениться.
– В целом свете, – решился Уолтер, – есть только одна девушка, на которой я хотел бы жениться.
– Да? – спросила Мэй. – И кто же?
– А ты не догадываешься?
Мэй задумалась.
– Я только надеюсь, что она хорошая, – предположила она несмело.
– Самая лучшая на свете, – серьезно ответил Уолтер и посмотрел ей в глаза.
…Когда Кристиан пришел в комнату священника, Мэй встретила его сообщением, что они с Уолтером помолвлены. Кристиан поздравил их, но не смог удержаться от вздоха.
– Хорошо вам, – сказал он, с невольной завистью поглядывая на их сияющие лица. – А меня женить хотят.
– Ну так не женитесь, – заметила Мэй, пожимая плечами. Сегодня все казалось ей особенно легким и достижимым.
– Легко сказать! – воскликнул Кристиан.
Вернувшись к Амалии, он сообщил о том, что Мэй, похоже, решила связать свою жизнь со священником.
– Боюсь, леди Брэкенуолл этого так не оставит, – вздохнула Амалия. – Конечно, постарается отомстить. Надо будет все-таки подыскать для мистера Фрезера достойное место. Грустно, если им придется начать свою совместную жизнь в бедности.
– А вы всегда стремитесь всех облагодетельствовать? – проворчал Кристиан.
– Я жестокосердный расчетливый циник, – поддразнила его Амалия, – и за каждую услугу плачу услугой. Так лучше?
– Простите, – смиренно сказал граф. – Я сказал, не подумав.
– Люди вечно жалуются на отсутствие добра, только откуда ему взяться, если они так подозрительно к нему относятся? – Амалия поднялась с места. – Ладно, идемте проведать нашу «Аделаиду». Водить я теперь умею, а что мне делать, если произойдет поломка?
Глава 25 Человек, который мечтал летать
Для Кристиана де Ламбера выдался донельзя насыщенный день.
Сначала он искал Жоржетту Бриоль, которую по известной причине не сумел найти. Затем объяснял Амалии разные технические тонкости, а когда наконец вернулся домой, то отец огорошил его сообщением, что сегодня на ужин к ним прибудут друзья герцога, и в их числе – виконт д’Авеналь со своей семьей.
Тут сознание Кристиана как-то поплыло, и он воочию увидел себя у алтаря с белой розой в петлице фрака, а рядом – очаровательную мадемуазель Иоланду в белой фате и белом платье с длинным шлейфом. Но какой бы прелестной она ни была, Кристиан не собирался жениться, и его не интересовало, что думают по этому поводу родители и даже родители родителей.
Поэтому он усилием воли прогнал видение, мило улыбнулся, сказал, что он чрезвычайно рад, прошел в одну из комнат первого этажа и благополучно покинул дом через окно, после чего, выражаясь языком полковника Барнаби, «дал дёру». Смею вас заверить, что самому д’Артаньяну не приходилось совершать столь стремительный маневр.
Через полчаса Кристиан уже стучался в дверь своего приятеля Жака Понталье, который обладал двумя преимуществами: он не водился со знатью, а стало быть, не мог выдать беглого графа, и к тому же страстно увлекался всем, что было связано с полетами. Как видим, наш герой вовсе не собирался забывать о задании, которое ему дала Амалия.
Понталье встретил его с распростертыми объятьями, пригласил ужинать, рассказал о воздушном шаре, который он с друзьями собирался запускать, и заодно упрекнул, что Кристиан променял парение в воздухе на грохот моторов на земле.
– Вообще-то, – солгал Кристиан, – я собираюсь вернуться к полетам. Автомобили мне надоели.
Понталье расхохотался и хлопнул его по плечу.
– Вот! Я же тебе говорил: гонки – вздор! Что это за цель – дойти до скорости в сто километров в час? А дальше что? Двести? Триста? Другое дело, Кристиан, когда ты летишь, как птица! Вверху Бог, внизу земля, а ты посередине. Но все-таки ближе к Богу и птицам, чем к людям, и это правильно. На земле нет ничего хорошего, поверь мне!
– Ну уж прямо, – проворчала его жена Нанетта, внося ужин. Жак засмеялся. Что бы он ни говорил, но свою семью этот сорокалетний здоровяк любил крепко.
– На этой неделе, – сказал Жак, – мы собираемся запускать наш шар. Тогда и посмотрим, не ошибся ли я с расчетами. Приходи, для тебя всегда найдется место!
Они отдали должное ужину, обменялись новостями, и Кристиан, набравшись духу, приступил к делу.
– Скажи, Жак… Тебе что-нибудь известно об Эоле?
– Известно ли мне! – воскликнул его друг, загораясь, как порох. – Я, наверное, всю жизнь буду жалеть, что не смог присутствовать при его полете. Ее мать была больна, я не смог отлучиться, – объяснил он, кивая на Нанетту. – А потом эти паршивые военные наложили лапу на проект, и Адер уже меня не приглашал.
– Давай по порядку, хорошо? – предложил Кристиан. – «Эол» – это что? Воздушный шар? – Жак мотнул головой. – Дирижабль?
– Я бы не жалел о дирижабле, я десятки их перевидал, – ворчливо отозвался Понталье. – Нет, Кристиан. «Эол» – это самолет.
– Что?
– Са-мо-лет, – наслаждаясь каждым слогом, отчеканил Жак. – Совершенно новое слово в истории воздухоплавания. Шары, нагретый воздух – это совсем другое. «Эол» – это крылья и мотор. Бог ветров, понимаешь ли ты! Семь лет назад Адер запускал его в парке замка Грец-Арменвилье, недалеко от Парижа. А я не смог прийти! Эх!
Он яростно запустил пятерню в свои жесткие темные волосы и взъерошил их.
– Там были служащие, они смотрели, разинув рты. Никто не верил, что он полетит, но он полетел! Конечно, пролетел мало, пару десятков метров, и поднялся над землей ненамного, но, понимаешь, это ведь первый полет! Нельзя ждать от человека, что он взмоет, как птица. И потом, никто еще не знает толком, как управлять этой штукой. С шарами все ясно, у нас накоплен опыт в несколько веков. А тут – ничего не понятно. Крылья, мотор! А воздушные потоки? А дождь, а снег? Все это ведь тоже надо учитывать!
– То есть самолет – это машина с крыльями, как у птицы, и…
Жак мотнул головой.
– Адер скопировал механизм крыла летучей мыши. Он долгое время изучал полеты птиц, насекомых и летучих мышей. Почему-то летучие мыши ему приглянулись больше всего.
«Летучая мышь! – мелькнуло в голове Кристиана. – Викарий же видел на салфетке набросок крыла… Так что, получается, ему не померещилось?»
– А сам Адер – это кто? – спросил он.
– Клеман Адер – инженер и изобретатель, – ответил Жак. – Он усовершенствовал телефон, велосипед и… что еще? Да, создал какую-то машину для постройки железных дорог. Чтобы укладывать рельсы или что-то в этом роде. В общем, деньги у него водятся, но по-настоящему он помешан только на полетах. Хороший человек, – без тени иронии прибавил он.
Кристиан потер лоб. Внезапно возникло впечатление, что рядом с ним существовал совершенно особый, жутко интересный и неизведанный мир чудес, который он проморгал исключительно по собственной нерадивости. Ведь полеты всегда стояли для него на втором месте после автомобилей.
– А дальше? – спросил он. – Я имею в виду, с «Эолом», с Адером… и вообще.
– Я же тебе сказал: дальше влезла армия, – проворчал Жак. – Адер человек обеспеченный, но строить самолеты – занятие не из дешевых. Я слышал, один «Эол» ему обошелся в 200 тысяч франков[189]. Армия предложила необходимые деньги, чтобы довести модели до ума. С тех пор он закрылся, и в том, что касается самолетов, работает только для них.
– А какой у армии может быть интерес? – спросил Кристиан.
– У этих сволочей может быть только один интерес: военный, – ответил Жак, и желваки на его скулах заходили ходуном. По натуре Понталье был убежденный пацифист. – Речь ведь идет не просто о полете, который может проделать каждый идиот, если ему взбредет в голову сигануть в Сену с моста. Речь идет об управляемом полете, Кристиан. И страна, которая независимо от других стран разработает летающие на большой высоте машины, получит большое преимущество.
Кристиан нахмурился. Странно, подумалось ему, ведь Амалия и Жак – такие разные люди, но, в сущности, говорят они об одном и том же.
– Так ты придешь посмотреть на наш шар? – спросил Жак. – Конечно, это не самолет, но обещаю, он точно полетит.
– Надеюсь, твой шар поможет мне улететь от моих неприятностей, – пошутил Кристиан. В глубине души он понимал, что вряд ли сможет участвовать, но не хотелось обижать старого друга.
– А что у тебя за неприятности? – спросил Понталье.
– Кажется, семья собралась меня женить, – признался Кристиан.
Жак расхохотался.
– Ей-богу, сударь, вы ведь уже не мальчик! Скажите «нет», и дело с концом.
– А как поживают остальные? – спросил Кристиан, чтобы свернуть неприятную для него тему. – Альберто, Люка, Симон? Я поднимался в воздух вместе с ними, пока окончательно не пересел на автомобили.
– Да все у них нормально вроде бы, – сказал Жак, пожимая мощными плечами. – Симона только легавые затаскали по допросам. – К полицейским Понталье относился еще хуже, чем к военным.
– А что случилось? – осторожно спросил Кристиан. – Может быть, я смогу помочь?
– Да с ним-то все в порядке, – успокоил его Жак. – Просто он живет рядом с домом Луи Жиффара, которого недавно обокрали. Причем кража получилась какая-то странная, взяли только одну вещь, которую он хранил в память о друге.
– Какую еще? – спросил Кристиан, даже не догадываясь, что именно его ждет.
– Это долгая история, – серьезно ответил Жак. – Не поверишь, но вообще-то украли гроб.
Кристиан поперхнулся.
– Ну да, я бы тоже не поверил, если бы мне сказали, – кивнул Жак. – И тем не менее это чистая правда! Вот слушай…
… – Госпожа баронесса! Пришел граф де Ламбер и просит его принять. Он…
Но Кристиан, презрев приличия, уже влетел по ступеням в гостиную Амалии.
– Амалия Константиновна, – торжественно объявил он по-русски, – я знаю все!
– Ступайте, Мадлен, – сказала Амалия жене консьержа. – Все в порядке.
Та нехотя удалилась, не смея перечить.
– Что именно вы знаете, Кристиан?
– Все! Про «Эол», гроб и летучую мышь.
– Начнем с «Эола», – распорядилась Амалия, – а потом разберемся с остальными. Итак?
Кристиан набрал воздуху в грудь и стал рассказывать, как он – по чистой случайности, разумеется, – заглянул в гости к приятелю, с которым они когда-то вместе летали на воздушном шаре, и тот просветил его насчет множества любопытных вещей.
– Еще Понталье мне сказал, – говорил взволнованный граф, – что после «Эола» Клеман Адер стал строить второй самолет, уже двухмоторный, и назвал его «Зефир», но по каким-то причинам не достроил. Я думаю, что «Аквилон» – это, наверное, уже третий по счету. Но проект окружен военной тайной, так что сами понимаете…
– Так, – сказала Амалия, поставив руки на подлокотники и соединив кончики пальцев. – Кое-что прояснилось. Мсье Адер занимался постройкой самолета для армии, и тут пропали какие-то его чертежи. К делу подключили лучших полицейских, в том числе Моннере, а также контрразведку. Моннере напал на след… и дальше мы все видем. – Она сощурилась. – Рисунок на салфетке, увиденный Уолтером, – это схема крыла, которую, вероятно, набросал Генриху один из сотрудников Адера, видевший самолет. А при чем тут гроб?
– Это очень грустная история, – сказал Кристиан. – О человеке, который мечтал летать.
– И она, конечно, тоже связана с самолетами.
– Да, сударыня. Но вообще-то это произошло давно, почти 20 лет тому назад.
– Я вся внимание, – сказала Амалия.
– Человека, о котором я говорю, звали Альфонс Пено. Его отец был адмиралом, а сам он отличался слабым здоровьем и не мог плавать по морям. Зато мечтал летать. Он создавал небольшие модели… самые разные, которые летали, но все это были, в сущности, игрушки. Со своим другом Полем Гошо он хотел даже придумать такой самолет, который сможет садиться на воду. Это, конечно, кажется фантастикой, но Пено был уверен, что это возможно.
– Невероятно, – сказала Амалия, которая очень внимательно слушала Кристиана. – Так когда, говорите, это было?
– В семидесятые годы, сударыня. Когда Альфонсу Пено было 20, он уже присоединился к Французскому обществу воздухоплавателей. Потом он стал вице-президентом этого общества и участвовал в издании газеты «Аэронавт». – Кристиан перевел дыхание. – Ему было мало небольших моделей, он хотел построить аппарат, на котором смог бы летать человек, но это означало большие затраты. Общество воздухоплавателей не поддержало проект Альфонса Пено, и в отчаянии он решил, что его мечта никогда не осуществится. Тогда он положил все чертежи самолета, которые он и его друг Гошо тщательно подготовили, в коробку в форме гроба, и отдал ее своему знакомому по имени Луи Жиффар, который тоже грезил о полетах. А потом Пено отправился домой и покончил с собой. Это случилось в 1880 году. Ему было всего 30 лет.
– Поразительно, – проговорила Амалия, потрясенная до глубины души. – Я пыталась придумать хоть какое-нибудь объяснение этой коробке, которую видел мистер Фрезер, но… признаюсь честно, ничего подобного мне в голову не пришло. Безумно жаль этого Альфонса Пено. Судя по тому, что вы рассказали, он был очень талантлив, и если бы он был жив сейчас… Да что тут говорить!
– Луи Жиффар сохранил коробку и чертежи на память о своем друге, – добавил Кристиан. – А несколько дней назад их украли. Жиффара допрашивала полиция, как и его соседей. И вот что интересно: их попросили никому не говорить о происшедшем, и весть о краже в газеты тоже не просочилась.
– Ну что ж, – сказала Амалия, – теперь ход событий примерно ясен. Есть два агента, которые охотятся за всем, что связано с самолетами. Генрих украл чертежи Пено, Оберштейна, похоже, интересовал только «Аквилон». Каким-то образом Генрих тоже прознал об «Аквилоне» и решил укрепить свои позиции, потому что чертежи семнадцатилетней давности – это одно, а современные разработки Клемана Адера – совсем другое. Теперь надо понять, что именно сумел отыскать Моннере, почему он поехал в Ниццу и что вообще произошло с бумагами, пропавшими у Адера. Судя по поведению обоих агентов, ни один из них до бумаг пока не добрался. Так что у нас есть шанс.
– Что будем делать? – спросил Кристиан.
– Мне нужен Клеман Адер, – ответила Амалия. – Беда в том, что формальный визит ничего не прояснит, а методы, которые я применила к маленькому Моннере, в случае с изобретателем точно не сработают. – Она лукаво покачала головой. – А было бы занятно накормить изобретателя мороженым и выведать все, что нам нужно.
Кристиан вздохнул.
– Если дело только в мороженом, – объявил он, – то я готов пожертвовать собой.
– В каком смысле?
– Так, – беспечно промолвил Кристиан. – Просто у меня появилась одна мысль. Кажется, я знаю, как нам заполучить Адера. – Он блеснул глазами и наклонился к Амалии. – И хотя для меня это будет чертовски рискованно, но ради вас я пойду на все!
Глава 26 Слуги и господа
– Своим поведением, сударь, – заявил герцог, – вы поставили нас в неловкое положение. Чрезвычайно неловкое!
Он был так раздосадован, что даже не пытался скрыть свои чувства.
– Можете мне объяснить, куда вы так внезапно удалились без объяснения причин и где пропадали всю ночь? – продолжал он. – Ваша мать уже начала беспокоиться. И вообще, это совершенно неслыханно!
Разговор этот происходил на следующее утро после того, как граф де Ламбер наподобие гоголевского персонажа выпрыгнул в окошко и отправился сначала к Понталье, а потом к баронессе Корф. С ней он несколько часов обсуждал их будущие действия, а когда они наконец обо всем договорились, на дворе уже стояла ночь, и Амалия сказала, что он может переночевать у нее, если пожелает.
– Я скажу Мадлен, – добавила она, – она постелит для вас в синей спальне.
И так как Кристиан вовсе не горел желанием вернуться домой, а, с другой стороны, был не прочь задержаться возле баронессы подольше, он с радостью согласился.
Он превосходно провел ночь в мягкой постели (для особо любопытных читателей сообщаем, что спал граф все-таки один), а наутро вернулся под родительский кров, предчувствуя ледяной прием и град упреков за свое вчерашнее бегство.
– Я был в гостях, – ответил Кристиан отцу. – У своей знакомой.
Герцог поглядел на его лицо, понял, что по части упрямства ему сына не обойти, и нахмурился.
– Я надеялся, что нам удастся избежать этого разговора, – сказал герцог после небольшой паузы, во время которой он поправил фигурку в шкафу, которая осмелилась не так стоять и нарушала законы симметрии. – Но госпожа баронесса Корф не может похвастаться безупречным поведением. Более того, если называть вещи своими именами, она авантюристка… да, обыкновенная авантюристка. И я был бы весьма признателен, если бы вы…
– При чем тут баронесса Корф? – нетерпеливо перебил его Кристиан. – Моя знакомая, о которой я говорил, это Мэй Уинтерберри.
Тут герцог растерялся, что, по правде говоря, случалось с ним чрезвычайно редко. Он почувствовал, что совершенно отстал от жизни, раз не в состоянии уследить за увлечениями своего сына. Чтобы скрыть свое смущение, он кашлянул.
– Кажется, я где-то слышал это имя. Она англичанка? Или американка?
– Она внучка мадам Бланшар, – ответил Кристиан, – и весьма достойная особа. Я обещал пригласить ее с другом к нам на вечер. Думаю, можно также пригласить Авеналей, Гастона, кого-нибудь из ваших друзей, знакомых матери, в общем, кого хотите. А еще я хотел бы пригласить человека по имени Клеман Адер.
– Вы хотите устроить вечер? – изумился герцог. Сколько он помнил, Кристиан никогда не проявлял интереса к светским развлечениям. – Но так быстро это не делается. Приглашения надо рассылать за месяц, хотя бы за несколько недель! Что о нас будут думать люди?
– Это будет маленький вечер, – вкрадчиво промолвил Кристиан. – Только для своих. Никаких писателей, никаких актрис, никаких салонных звезд. И, честно говоря, я не могу представить себе человека, который пожелал бы вам отказать.
– Ну разве что совсем небольшой вечер, – пробормотал герцог, которого обуревали сомнения. Он покосился на сына, но тот ответил ему безмятежным взглядом сытого кота, слопавшего любимого попугайчика хозяйки и притворяющегося, что знать не знает, отчего к его физиономии прилипли пестрые перья. – А зачем тебе понадобился этот Адер? Сколько я помню, он обыкновенный вульгарный промышленник и к тому же из совершенно незначительной семьи.
– Он создает моторы, – пояснил Кристиан. – А я хочу выиграть следующую гонку Париж – Руан, и мне надо кое-что с ним обсудить.
Герцог заколебался.
– Я надеюсь, – сказал он наконец, – вы не помолвлены с этой мадемуазель Мэй?
– Что вы! – воскликнул Кристиан. – Между нами, она предпочитает священнослужителей. Пригласите на вечер кардинала Парижского, и она будет совершенно счастлива.
Забегая вперед, стоит отметить, что герцог не стал рисковать и приглашать кардинала, который относился к нему довольно прохладно. Зато явились другие гости, общим числом человек тридцать, что составляло недурное число для «маленького вечера».
Среди них оказалась и Иоланда д’Авеналь, которая уже знала об идее выдать ее замуж за Кристиана и горячо поддерживала намерение своих родителей. Граф ей всегда нравился, а что касается страсти к автомобилям, то она уже давно решила, что заставит его забыть все эти глупости.
Впрочем, она не стала опережать события, а повела себя исключительно тонко.
– Дорогой Кристиан! – прощебетала она. – Сколько мы с вами не виделись! – (Два месяца, по правде говоря.) – Это правда, что вы будете участвовать в следующих гонках? Как это очаровательно! Представьте, мне всегда нравились автомобили. В них есть что-то такое… мощное!
Кристиан, который разговаривал с немолодым господином, спросил, знает ли она месье Адера, и представил Иоланде изобретателя. Но тут в толпе гостей произошло легкое движение, и Иоланда обернулась.
Машинально она отметила роскошное шелковое платье, потом еще более роскошные украшения – на корсаже в виде ветки глициний, искрящейся бриллиантами, на шее, в волосах. «Эта диадема! – мелькнуло в голове у Иоланды. – Где же я видела ее раньше?»
Что же до мужчин, то они увидели прелестную девушку, темноволосую, кудрявую, которая улыбалась немного смущенной улыбкой, крепко зажав в руке обшитую кружевом сумочку. Изобретатель, который обладал присущей людям его типа способностью прежде остальных проникать в суть вещей, подумал, что день прожит не зря, и повеселел. Мало того, что сын герцога оказался весьма толковым молодым человеком и со знанием дела рассуждал о моторах, так еще на вечере оказалась такая очаровательная особа.
Возле девушки стоял совершенно растерянный молодой человек, чем-то неуловимо смахивающий на священника. Видя, что Уолтер находится в затруднении, а Мэй попросту не знает, что делать, Кристиан подошел к ним и подвел гостей к хозяину дома.
– Это мадемуазель Мэй, о которой я вам говорил, – сказал он отцу. – А это… кхм… ее кузен Уолтер.
Герцог посмотрел на ветку глициний, которая трепетала и переливалась на груди Мэй, на порозовевшее от смущения лицо девушки, и в голове его, пока он произносил требуемые приличиями любезные слова, наперегонки понеслись самые странные мысли. Он вспомнил о миллионе Клариссы, а вслед за этим как-то незаметно – о том, что виконт д’Авеналь, если быть откровенным, не может похвастаться большим состоянием. Кроме того, подумал, что Мэй ничуть не похожа на свою бабушку и что, судя по украшениям, эта англичанка вскоре станет чрезвычайно богатой наследницей. О том, что украшения, равно как и платье, Мэй на вечер предоставила баронесса Корф, герцог, конечно, не подозревал.
Пока на втором этаже особняка Иоланда, кусая губы, ревниво поглядывала на Мэй, ставшую центром всеобщего внимания, Адер пил шампанское, Кристиан говорил с ним о моторах, автомобилях и летательных аппаратах, Гастон де Монферье, потирая сникший ус, горестно думал, что Кристиан, которого он считал простофилей, обвел всех вокруг пальца и отхватил себе до неприличия богатую партию, – так вот, пока наверху происходили все эти события невероятной важности и вечер набирал обороты, слуги внизу терпеливо ждали, когда все закончится, господа устанут веселиться и можно будет вернуться домой. Горничная Мэй сидела на стуле, держа в руках пальто своей госпожи. Если при слове «пальто» вам представляется нечто практичное и скроенное из куска темной ткани, вы ошибаетесь. Белое пальто мадемуазель Мэй было произведением портновского искусства, в котором практичности было не больше, чем в золотой статуэтке, усыпанной алмазами. Оно было украшено вышивкой, усеяно блестками и пробуждало коммунистические мысли во всяком, кто его видел, – даже в тех, кто считал себя противниками коммунизма. В общем, в этом пальто было что-то такое, что призывало немедленно его экспроприировать, а хозяина запрятать туда, где никакая одежда ему больше не понадобится.
– Может, повесишь пальто хозяйки с остальными? – спросил сердобольный лакей, косясь на симпатичную горничную англичанки. – А то они там наверху долго сидеть будут.
– Так оно же белое, – горестно сказала горничная. Это была брюнетка с карими глазами, всем хорошая брюнетка, только одна щека у нее немного раздута. – Одно пятно, и прощай моя служба. Лучше уж я тут посижу, так надежнее.
– Да уж, тяжелая у нас работа, – поддержал разговор немолодой слуга, который сидел неподалеку.
– И не говорите! – воскликнула горничная. – А вы чей будете?
– Господина Адера, – важно ответил слуга. – Слышала о таком?
Горничная наморщила лоб.
– Чулочный фабрикант, что ли? – не совсем уверенно предположила она.
– Какое там, – отозвался ее собеседник. – Он инженер, изобретатель. У нас дома такие господа бывают!
– И что, хорошо платит? – загорелась горничная.
– Очень хорошо, – подтвердил слуга.
– Придирается, значит, сильно, – разочарованно молвила горничная. – Знаем мы эти богатые места. Всю душу вытянут, пока деньги получишь.
– Да нет, не так уж и придирается. Но порядок любит, что есть, то есть.
– А по мне, – заявил первый лакей, – нет ничего лучше знатных господ. Что бы ни говорили, но они умеют себя вести. Платят, конечно, не шибко, зато такого, как у вашего Адера, у нас не бывает.
– Молчи уж лучше, – отозвался немолодой слуга. – Всезнайка!
– А что у вас приключилось? – с любопытством спросила горничная. – Что, хозяин кого-нибудь побил?
– Да ты что! – ужаснулся слуга Адера. – Нет, у нас другая оказия. Только это секрет.
– Секрет Полишинеля, – объявил герцогский лакей. Похоже, он всерьез вознамерился овладеть вниманием кареглазой горничной. – Месье Адер открыл, что его чертежи кто-то копировал, а чертежи секретные. Ну, тут и поднялась суматоха: кто, да как, да кто посмел, да как сумел. А по всему выходило, что, кроме своих, никто не мог. Месье Адер же помощниками не пользуется, сам все чертит.
– Ты-то откуда знаешь? – недоверчиво спросил слуга изобретателя.
– Слуга префекта рассказал, – объяснил лакей. – У префекта стены тонкие, поневоле все услышишь.
– Так что, вас обвинили в краже? – с сочувствием спросила горничная у старого слуги. – Ужас какой!
– Да бог с вами, никто меня не обвинял! Но страху натерпеться пришлось, это точно. Полицейские всюду шныряли, вопросы задавали…
– Вы не принесете мне стакан воды? – попросила горничная у герцогского лакея. – Очень уж у вас тут жарко!
Тот ухмыльнулся и, сказав: «Будет исполнено, мамзель», испарился.
– Я однажды была в доме, где произошла кража, – сказала горничная, доверчиво глядя на старого слугу. – Ух, как хозяева кричали! Никому не пожелаю пережить такое!
– Да хозяин-то на нас не кричал, – ответил слуга. – И полицейские такие вежливые были, что прямо оторопь берет. Особенно этот, как его… Папийон.
– Да ну! – Горничная разинула рот. – Он же знаменитость, о нем в газетах пишут! И ты его видел?
– Как тебя, – подтвердил слуга, довольный эффектом. – Они нас поделили, я хочу сказать, полицейские нас поделили между собой, кто с кем работает, а мы были вроде как подозреваемые. Их четверо, и все птицы высокого полета, дело-то важное! Папийон, Легран, потом еще один, забыл фамилию, и этот, как его – Моннере. Этот самый противный, доложу тебе. Прицепился к Стефану…
– Кто такой Стефан?
– Слуга мсье Адера. Он по фамилии Малле, но я его всегда Стефаном зову. Он самый старый после меня, то есть самый старый я, потому что больше всех служу у господина, ну, а он уже после пришел. Да… Так вот, Моннере кто-то сказал, что видел Стефана возле рабочего кабинета хозяина, и как раз тогда, когда никого в кабинете не было. А Стефан честный малый, только проку от этой честности, она никого еще в суде не защитила. Даже мсье Адер говорил Моннере, что не подозревает Стефана, но тот твердил: у него были ключи от кабинета, его видели неподалеку, он мог снять копии. Прицепился, как репей, и довел беднягу, наверное.
– В каком смысле довел? – изумилась горничная.
– Так Стефану на улице стало плохо, и он под карету попал, – пояснил слуга со вздохом. – Моннере этот все грозил, что выведет его на чистую воду. Ты, говорит, меня не проведешь своей фальшивой преданностью, я тебя насквозь вижу. Жестокие они люди все-таки, эти сыщики.
– А Стефан что, умер? – Говоря, горничная деликатно зевнула.
– Нет. В больнице лежит, весь покалеченный. Мсье Адер обещал, что будет платить ему пенсию. Все-таки он ни в чем не виноват, за что же его так?
Лакей герцога принес стакан воды для горничной, но когда она протянула руку, он быстро отвел свою.
– Ну! Это еще что? – сердито спросила горничная.
– А поцеловать? – спросил наглец.
– Больно много чести, – фыркнула горничная.
– Ай-ай-ай! – укоризненно сказал лакей. И, наклонив стакан, вылил воду на белое пальто Мэй.
– Ах ты гад! – взвизгнула горничная и, вскочив с места, с размаху стукнула его кулаком под дых, а потом рубанула ладонью по шее так, что лакей почти в беспамятстве повалился на пол.
– Мадемуазель! – Слуга изобретателя вытаращил глаза.
– Что тут творится? – С этими словами в комнатке появился немолодой человек с желчным лицом и военной выправкой, которую не спутать ни с какой другой.
– Господин полковник! – простонал слуга Адера. – Это… это… он испортил пальто ее хозяйки, а она его поколотила. – Лакей лежал на полу, держась за шею, и слабо стонал.
– И правильно сделала, – одобрил господин полковник, скользнув взглядом по дорогому пальто. Пятно растекалось. – Кстати, там уже минуту кто-то трезвонит в дверь. В этом доме что, совсем нет приличных слуг?
И, не удостоив более взглядом драчливую горничную, которая поправляла прическу, он удалился.
– Чертовка! – простонал лакей. – Ты зачем дерешься, а? Вода высохнет, и будет твое пальто как новое!
– Ага, высохнет, – проворчала горничная. – А если она сейчас захочет уезжать, что же, мне место терять?
– Да куда она уедет, – с отвращением ответил лакей, поднимаясь с пола и отряхивая одежду. – Ей еще графа заарканить надо. – И, чувствуя себя в точности как китайский сервиз, который разбили на тысячу осколков, отправился открывать дверь.
Тем временем граф, которого, по мысли прислуги, Мэй неминуемо должна была заарканить, вежливо, но твердо пресек попытки Гастона увлечь девушку танцевать и отвел ее в угол. Вскоре к ним присоединился Уолтер Фрезер. Молодого священника раздирали противоречивые чувства. Он никогда еще не видел Мэй такой ослепительной – и искренне гордился ею. Но также он замечал взгляды мужчин, направленные на нее, и его терзала нешуточная ревность.
– У вас дома очень мило, – сказала Мэй Кристиану. – И ваши родители очень любезны. Но все равно мне не по себе. Я чувствую себя обманщицей!
Услышав эти слова, Уолтер внезапно успокоился. Какое бы платье Мэй ни надела, в глубине души она все равно оставалась прежней – той, которую он так любил.
– Вам удалось поговорить с Адером? – спросила Мэй.
– Как Ам… то есть баронесса Корф и предполагала, стоило мне заговорить о полетах, как он стал отвечать общими фразами, – заметил молодой человек. – Будем надеяться, что ей удалось узнать куда больше.
– Мне почему-то кажется, – сказал Уолтер, – что у нашего кардинала все должно получиться. – Он улыбнулся Мэй и тайком взял ее за руку.
«Однако! – Гастон де Монферье, наблюдавший эту сцену, едва не уронил свой монокль. – Кристиан позволяет этому мужлану держать ее за руку! Ну, быть ему рогатым! Нет уж, будь моя воля, я бы на километр не подпускал таких… кузенов!»
Однако Мэй, совершенно забыв о своей роли, тепло улыбнулась Уолтеру в ответ. А когда она повернула голову, произошло нечто ужасное.
В дверях она увидела бабушку Клариссу.
Глава 27 Беглецы
…В сущности, раньше все было просто. На одной стороне была она, Кларисса Фортескью, в первом браке – Уинтерберри, во втором – Бланшар, наследница маршала Поммерена и в силу денег – особа весьма значительная. На другой стороне были ее жадные родственники.
Они слали ей слезные письма, кляузы, льстивые поздравления с праздниками – это они-то, которые раньше не писали ни слова и привыкли считать ее мертвой, потому что им так удобно. Но едва она разбогатела, как они сочли ее более чем достойной родней – и стали ей досаждать.
Она уничтожала большинство писем, не читая, и хохотала над теми, которые ей доводилось прочесть. А потом стали являться просители – один за другим. Ее внуки, черт бы их побрал.
Конечно, они были вежливы. Они осыпали ее комплиментами и клялись в преданности, но на их лицах она читала одно и то же: «Когда же ты наконец загнешься? Когда мы получим твои денежки?»
И оттого она избавлялась от них, методично и упорно, как от сорняков, которые забрались в ее прекрасный райский сад, где сама она была и Евой, и змеей, и запретным плодом. А потом среди сорняков оказалось совершенно неизвестное растение, и Кларисса растерялась.
История с экспрессом «Золотая стрела», нападением на Мэй и ее поспешным отъездом в обществе баронессы Корф, которую Кларисса не без оснований считала чрезвычайно подозрительной особой, совершенно выбила старую даму из колеи. Сначала она, разумеется, сказала Бланшару:
– Уехала – ну и ладно! Жаль, конечно, что мне не пришлось ее выпроваживать. Я бы придумала что-нибудь новенькое!
В тот день она купила себе очаровательного пекинеса, чтобы позлить одну надменную принцессу, у которой тоже была собачка этой породы, и заказала две дюжины павлинов для сада. А потом она как-то незаметно для себя оказалась в комнате Мэй. Та уехала впопыхах и большую часть вещей оставила в своей комнате.
Клариссе была неведома щепетильность – во всяком случае, по отношению к людям, которые имели наглость претендовать на ее наследство. Поэтому через полчаса она добралась до записной книжки, покрытой невнятными каракулями про убийства и трупы, почему-то мушкетеров и кардинала Ришелье, а также прочитала два письма к некой Флоре.
– Юбер! – запричитала Кларисса, выходя из спальни с записной книжкой в руках. – Юбер, моя внучка – сумасшедшая! Она пишет кому-то, кому хочет пришить руки! И еще ее подругу, оказывается, роняли из окна!
Адвокат выслушал перевод писем Мэй на французский и задумался. Острый логический ум, как всегда, помог ему отыскать самый правдоподобный ответ.
– Все очень просто, – сказал он наконец. – Она пишет кукле.
– Юбер! Ты сошел с ума? – возмутилась Кларисса.
– Я бы сказал, это вполне в твоем духе, – отозвался адвокат. – Ты что, не разговариваешь иногда со своим портретом, на котором тебе двадцать пять лет?
– Мало ли с кем я разговариваю, – сварливо отозвалась Кларисса, – все равно, писать кукле ненормально! И что это за заметки об окровавленных ножах, кардинале, который будто бы все знает, и убийстве? Не нравится мне все это!
Бланшар нахмурился.
– Мне кажется, – сказал он наконец, – твоя внучка попала в какую-то историю.
– Но почему она мне ничего не сказала? – вскричала Кларисса.
– Просто она убеждена, что ты ее, гм, не слишком жалуешь, – тактично ответил адвокат.
Кларисса задумалась.
– Я вовсе не обязана ее выручать, – промолвила она наконец. – И вообще, она ни о чем меня не просила. Так что мне все равно, что там произошло.
Однако Бланшар видел, что ей вовсе не все равно. Через некоторое время Кларисса вновь вернулась к этой теме.
– Юбер! Кто это сказал, что в наших детях мы любим не их достоинства, а свои недостатки?
– Ты, – ответил адвокат, не моргнув глазом.
– Я помню, это был кто-то из моих друзей, – пожаловалась Кларисса, – но не помню, кто. Старость! Цитируешь неизвестно кого и считаешь себя умной, потому что забыла, у кого подслушала фразу. Юбер!
– Да, дорогая?
– Когда привезут моих павлинов?
– Обещали через неделю. Быстрее я не смог.
Кларисса поглядела на печальную мордочку пекинеса и посадила собачку себе на колени.
– И зачем я завела собаку? – пожаловалась она. – Наверняка она будет гонять павлинов.
– Она же совсем маленькая, – удивился Бланшар. – Но ты же не из-за нее беспокоишься, верно?
– Я ни о чем не беспокоюсь, – ответила Кларисса с металлом в голосе, и муж почел за благо оставить эту тему.
А потом она стала собираться и велела взять два билета на экспресс до Парижа.
– Мне не нравится эта баронесса, – заявила Кларисса. – И вообще мне все не нравится! Уж я-то разберусь, что да как!
И, едва сменив одежду и наведя кое-какие справки, отправилась разбираться.
По правде говоря, Кларисса ожидала чего угодно. Но увидеть Мэй в бальном платье и бриллиантовой диадеме, Мэй, увешанную драгоценностями, как елка конфетами, Мэй в самом чопорном, самом неприступном доме Сен-Жерменского предместья – это что-то неописуемое.
С точки зрения Клариссы, Мэй еще могла получить платье по дружбе или по знакомству – хотя, сколько помнила старая дама, туалеты от Дрекола никому просто так не дают. Но украшения, сверкавшие на девушке, пробудили в бабушке самые мрачные предчувствия, потому что по опыту Кларисса знала, что обрести такие драгоценности честным путем может только любимая дочь богача или нелюбимая, но законная супруга. Поневоле старой даме пришлось подозревать, что ее внучка или ограбила ювелирный магазин, или продалась богачу, что ничуть не лучше, так как означало, что она, Кларисса, совершенно в ней ошиблась. Ноздри старой дамы трепетали от негодования, глаза сверкали. Возле нее Бланшар, весь взмокший от напряжения, держал руку на кармане, где на всякий случай носил нюхательную соль. Раньше в ней не возникало нужды, но теперь, когда адвокат видел выражение лица жены, он не сомневался, что она или упадет в обморок, или закатит грандиозный скандал.
– Эварист, – сухо сказала она хозяину, – что это такое?
– Я бы просил вас… – с неудовольствием начал герцог.
– О, не стройте из себя ханжу. После того, что между нами было, это просто смешно! – Тон ее был как пуля, разящая наповал. – Только я одного не понимаю. Откуда у нее это платье и эти драгоценности? Сто тысяч франков, не меньше, и все от Фуке и от Вевера![190]
– Я полагал, что вы… – начал удивленный герцог.
– Так, так, – просипела Кларисса, заметив Уолтера, – и священник тоже здесь! Что они затеяли, в самом деле?
В другом конце зала Мэй, бледнея, прошептала Уолтеру:
– Уолтер… Мне сейчас станет плохо! Как она на меня смотрит!
– Если вам станет плохо, его преосвященство этого не одобрит, – вмешался находчивый Кристиан. – Быстро идите за мной!
И, подхватив под локти Мэй и Уолтера, потащил их к задней двери.
– Кристиан! – изумилась Иоланда. – Вы уже уходите?
– Нет, улетаю! – ответил он, очаровательно улыбаясь.
Трое мушкетеров скатились по лестнице, едва не сбив с ног лакея, который нес тяжелый, как броненосец, поднос, однако Уолтер в последнее мгновение поднос подхватил и не дал ему рухнуть.
– Побольше шампанского! – прокричал Кристиан изумленному слуге. – Скорее, скорее сюда! Амалия! Да где же она… Амалия!
Та тотчас же появилась, причем несла не только белое пальто, которое одолжила Мэй, но и плащ Уолтера, и свою накидку. Судя по всему, у Амалии уже было все готово для поспешного отхода.
– Кларисса наверху – не знаю, как она сюда проникла – я ее не приглашал, слово дворянина! Где ваша машина?
– На улице, у подъезда. Можем уходить. Я узнала все, что надо.
Через несколько минут, когда Кристиан сидел за рулем, а автомобиль трясся по безлюдным улицам, Амалия сняла с головы парик, вытащила из-за щеки шарик, который так изменил ее внешность, и пересказала сообщникам все, что ей удалось узнать от слуги Клемана Адера.
– Итак, Моннере больше всего подозревал слугу Адера, которого зовут Стефан Малле. Это набожный старик, которого остальные слуги в доме очень уважают. Когда-то он служил чертежником, что стало дополнительным поводом заподозрить его. Сами понимаете, для того чтобы скопировать чертежи, нужна определенная сноровка. У Малле двое сыновей, дочь умерла в родах, и шесть или семь внуков. Сыновья и внуки работают кто где и в деньгах вроде не нуждаются, но есть один нюанс: во время недавнего скандала, связанного с Панамским каналом, Малле потерял почти все сбережения, так что не исключено, что он захотел поправить свои дела, продав копии чертежей на сторону. Сейчас он в больнице и в довольно плохом состоянии. Его жена держит мелочную лавку в Париже, причем расположенную в том же квартале, что и ломбард, куда заходил Луи Норвэн. Интересно, это случайное совпадение или нет?
– Мы все время возвращаемся к ломбарду, – заметил Кристиан. – Вы считаете, он может иметь какое-то значение?
– Не только я, – усмехнулась Амалия. – Вчера я опять пыталась подъехать туда, поговорить с хозяином и узнать, что за кольцо выкупал Норвэн. Но там по-прежнему все оцеплено полицией, причем они явно что-то ищут. Даже подняли крышку люка, в который стекает вода, и вызвали рабочих.
– А что они могли искать? – удивился Кристиан. – Кольцо ведь было у Норвэна, а оружие унес Уолтер.
– Возможно, схватка произошла как раз из-за кольца, – пояснила Амалия. – Когда они его стали вырывать друг у друга, оно могло куда-нибудь упасть.
– Скажите, – подала голос Мэй, – вы считаете, что Малле действительно украл чертежи своего хозяина?
– Важно не то, что считаю я, а то, что считал Пьер Моннере, – отозвалась Амалия. – Я вам говорила, что Стефан Малле угодил под карету как раз в тот день, когда Моннере уехал в Ниццу?
Мушкетеры переглянулись.
– И что же это значит? – спросил Кристиан.
– Смотрите, – сказала Амалия. – Мы видим, что в деле замешаны два агента. Мы знаем, что с чертежей сняли копии. Но в то же время по поведению агентов ясно, что копий чертежей ни у одного из них нет. Вопрос: где эти копии и почему они до сих пор не попали по назначению?
– Если Стефан Малле не успел их передать… – начал Уолтер.
– Точно! – ахнула Мэй. – Моннере ему помешал! Наверное, он следил за слугой, и у того не было возможности передать копии тому, для кого он их снимал. А потом попал под карету!
– Но при чем тут Ницца? – спросил Кристиан. – Вы узнавали, Малле был в Ницце?
– То-то и оно, что не был, – с досадой ответила Амалия. – Похоже, Стефан в последнее время вообще не покидал Парижа.
– У него мог быть сообщник, – заметил Уолтер.
– Да там вообще могло быть что угодно, – вздохнула Амалия. – Видите, чем мы занимаемся? Гадаем, потому что не можем просто пойти к нужным людям, показать им документ, который дает нам право вести расспросы, и попытаться узнать все, что нам нужно. Кристиан! Куда вы повернули?
– Разве мы едем не к вам домой? – удивился молодой человек.
– Нет, – решительно ответила Амалия. – Едем к ломбарду. Надо понять, что это за кольцо и почему в полиции ему придают такое значение.
– Но если Норвэн просто заложил кольцо, а потом выкупил его… – начала Мэй.
– Норвэн его не закладывал, – возразила Амалия. – Вы же сами мне рассказывали, как следили за кондуктором. Он даже не знал дорогу в ломбард. Нет, это что-то другое.
– Ох! – сказала Мэй в полном восторге. – Какая вы умная!
– А что, – медленно начал Кристиан, – если Норвэн где-то нашел закладную квитанцию? К примеру, в десятом купе? Помните, вы еще расспрашивали, что не так было с десятым купе, и он явно колебался с ответом!
– И не забывайте, – подлил масла в огонь Уолтер, – что этот ломбард находится недалеко от лавки жены Малле, вы сами говорили!
– Правда, увлекательно? – улыбнулась Амалия. – Не хочу вас разочаровывать, но там, где два дня искала полиция, мы вряд ли что-то найдем. И все же попробовать стоит. Кристиан! Остановитесь у какой-нибудь лавки, нужно купить фонарь.
Когда впоследствии граф де Ламбер вспоминал о событиях этой ночи, он всякий раз видел вдохновенные глаза Амалии, развившуюся прядь волос, висящую вдоль щеки, желтое пятно фонаря и темные силуэты в парижских сумерках. Полицейские уже не стерегли улицу, но ломбард был закрыт, и сквозь решетки на окнах не пробивалось ни одного луча света. Тогда Амалия перебралась туда, где Норвэн схватился с Генрихом, и попросила Уолтера и Мэй еще раз на месте рассказать ей, что именно они видели.
– Я могу залезть в водосточный колодец, – предложил Кристиан.
Амалия покачала головой.
– Они его уже осмотрели. Если там что-то и было, они уже нашли. – Она повела фонарем вокруг себя, освещая стены. – Ни окурка, ни соринки. Полицейские все прочесали. Идем в ломбард.
– А они будут с нами разговаривать? – испуганно пискнула Мэй.
Амалия остановилась, о чем-то раздумывая, и тут Кристиан неожиданно увидел, как она лукаво улыбается.
– Вот что, – сказала она. – Вы и Уолтер идите, стерегите автомобиль. А мы с Кристианом пойдем поговорим с хозяином. – Она увидела разочарованные глаза девушки и сказала: – Все в порядке, Мэй. Просто так надо. Уолтер! Господин граф во фраке, вы бы не могли одолжить ему свой плащ? Сейчас не холодно, а мы скоро вернемся.
Уолтер отдал графу плащ, взял из рук Амалии фонарь и вместе с Мэй вернулся к машине.
– Мне кажется, внутри никого нет, – заметил Кристиан, застегиваясь.
– Сейчас посмотрим, – отозвалась Амалия. Она оглядела своего спутника и поправила ему воротник. – Кстати, сделайте мне одолжение, когда спросят, кто вы, представьтесь полковником Лораном. И говорите этаким властным голосом, чтобы не вызывать сомнений.
– А кто такой этот Лоран?
– Скажем так, телохранитель Адера, – объяснила Амалия. – Он не стал подниматься вместе с ним к гостям вашего отца, потому что могли возникнуть разные вопросы.
– Понятно, – кивнул Кристиан.
Они были уже возле ломбарда. Граф кашлянул и дернул за звонок.
Им пришлось ждать несколько минут, прежде чем за дверью послышались чьи-то шаги.
– Кто там? – спросил испуганный женский голос.
– От комиссара Папийона, – отозвалась Амалия. – Откройте!
– Чего вы от нас хотите? – возмутилась женщина за дверью. – Вы уже забрали моего мужа! Должны же люди отдохнуть от вас, в конце концов!
– Между прочим, – нашелся Кристиан, – мы пришли сказать вам, что вашего мужа завтра отпустят.
– Если сейчас вы ответите нам на три вопроса, которые подтвердят его окончательную невиновность, – добавила Амалия.
Повисла напряженная пауза, потом загрохотали засовы.
– Входите, – буркнула немолодая полная женщина, стоявшая за дверью в ночном чепце, халате и стоптанных домашних туфлях. – В комнаты не приглашаю, ваши люди перевернули все вверх дном. Между прочим, ваш комиссар обещал мне вернуть книги, в которые мы вносим данные о заложенных вещах! И все это из-за какого-то дурацкого кольца, которому цена не больше сотни франков!
– Господин полковник, я полагаю, надо будет действительно напомнить Папийону насчет книг, – заметила Амалия. – Эти полицейские и впрямь чересчур много себе позволяют. – Она повернулась к опешившей хозяйке: – Вы мадам Сорбье, верно? Жена владельца ломбарда?
– Да, мадам.
«Откуда Амалия знает ее фамилию? – подумал заинтригованный Кристиан. – Ах да! Фамилия ведь написана на табличке над входом! До чего же я глуп!»
– Вы хорошо знаете клиентов мужа? – продолжала Амалия.
– Вполне. Я уже это говорила.
– Еще раз пройдемся по основным пунктам, чтобы ничего не забыть. Итак, кольцо у вас от…
– Мадам Малле. Жены Стефана Малле. Я знала их дочь и ее мужа, Антуана Пиге.
– Вот как? Насколько нам известно, дочь Малле давно умерла.
– Ну и что, – возразила хозяйка, – Антуан Пиге тоже помер, но я же их помню. Он сначала пил, а потом в фокусники подался. Что это за ремесло?
– Антуан Пиге нас пока не интересует, – вмешался Кристиан. – Вас не удивило, что за заложенным кольцом явился другой человек?
– А с чего мне удивляться? Тогда в лавке сидел мой муж, а я наверху вешала новые занавески. Появился господин с квитанцией, заплатил деньги, забрал кольцо. Может, она не могла отлучиться, вот его и попросила. Может, он жених ее внучки и решил сделать ей приятное. Какое мне дело? Вы должны понимать, господин полковник, что если мы будем во все совать нос, то люди просто перестанут к нам ходить.
– Дальше что было? – спросил Кристиан.
– Дальше, господин полковник? Он забрал кольцо и ушел. Все! Меня уже двадцать раз спрашивали об этом, и я всякий раз говорила одно и то же. А потом я услышала на улице хлопок. Мне потом сказали, что выстрел, но я не прислушивалась, если честно.
– Но если вы стояли наверху, то, может быть, что-нибудь заметили? – настойчиво спросила Амалия. – Что-нибудь еще?
– Да ничего особенного, говорю вам, – сказала хозяйка, пожимая пухлыми плечами. – Он вышел от нас, сделал несколько шагов, достал кольцо, выбросил коробку, кольцо переложил в другой карман и удалился. Кто на него напал, как это было – я из моего окна никак видеть не могла. Да господин комиссар сам уже смотрел и признал, что это невозможно.
– Значит, он выбросил коробку, – протянула Амалия. – А что, она была какая-то не такая?
– Да уж, – отозвалась хозяйка. – Старая и неказистая. Я бы тоже ее выбросила, по правде говоря. Но раз уж кольцо принесли в ней…
– А куда он ее бросил? – спросил Кристиан.
Хозяйка скривилась.
– Да в кучу с мусором, куда же еще? Мимо проходил и бросил. А что, это важно?
– Если комиссар вас об этом не спрашивал, то нет, – ответила Амалия.
– Он о другом меня спрашивал, – поделилась хозяйка. – О молодом человеке, который прибежал и стал кричать, что надо звать врача и полицию. И акцент у него был такой чудной, сразу видно, что не француз.
– Ах, этот, – протянул Кристиан. – Вы не волнуйтесь, мы его уже взяли.
– Думаю, мы можем идти, месье Лоран, – сказала Амалия. – Простите, что побеспокоили, сударыня, но можете спать спокойно: все ваши тревоги остались позади.
«Полковник» и его спутница попрощались с женой владельца ломбарда и вышли наружу, под моросящий дождь.
– Полагаю, – объявил Кристиан, – теперь мы будем искать коробку.
– Будем, – согласилась Амалия. – Зовите Уолтера, пусть несет фонарь.
Однако Уолтер явился не один: вместе с ним пришла Мэй и, узнав, в чем дело, потребовала, чтобы ей тоже разрешили принять участие в поисках. Ее пыл не охладило даже то, что куча с мусором, о которой говорила хозяйка, оказалась самой настоящей помойкой, по которой бродили тощие коты, выискивая остатки пищи. Завидев людей, они тоскливо заурчали и, сверкнув глазами, брызнули прочь.
– Да, – промолвил Кристиан, оглядывая поле будущих поисков, и больше ничего не сказал.
Было уже совсем темно, с соседней улицы доносился стук подков и шум проносящихся карет, а здесь четыре силуэта копошились во мраке, пытаясь отыскать выброшенную незадачливым кондуктором коробочку, и свет фонаря отбрасывал на их лица причудливые тени.
– Я ничего не нашел, – признался граф через четверть часа. – Только едва не порезался об осколок бутылки.
– Я тоже, – вздохнула Амалия, морщась. Ей очень хотелось как можно скорее вымыть руки, а еще – уйти отсюда и больше не возвращаться.
– Осторожнее, Мэй, – заметил Кристиан девушке, которая, забыв обо всем, с увлечением копошилась в ворохах старья и объедков. – Вы испачкаетесь.
– Ой, – сказала Мэй. – Кажется, я нашла что-то вроде коробочки. То есть она похожа на коробочку, но почему-то совсем мягкая.
Фонарь метнулся, мушкетеры и возглавляющий их кардинал придвинулись ближе.
– Это бархат, – проговорил Кристиан изменившимся голосом.
– И расползшийся картон, – добавила Амалия. – Неудивительно – все эти дни шли дожди.
– Ура! – объявила Мэй. – Мы нашли! А что теперь? – спохватилась она, пытаясь вытереть испачканный нос внутренней стороной локтя.
– Понятия не имею, – призналась Амалия, осторожно ощупывая то, что осталось от коробки. – На первый взгляд ничего тут нет. Хотя…
Она вытащила внутреннюю часть, в которой было углубление для кольца, и тут фонарь в руке священника накренился совсем уж опасно, а сердце Кристиана сделало мягкий кульбит в его груди.
Между дном и внутренней частью коробки лежала свернутая полоска бумаги с расплывшимися чернилами. Амалия с облегчением перевела дух.
– Так, – распорядилась она. – А теперь – домой! И всем – мыться, мыться, мыться!
Глава 28 Тайник над ангелом
«Глава третья. Как работать с уликами».
Мэй нетерпеливо перевернула страницу пособия для начинающих полицейских, ища раздел «бумажные улики», к каковым относились: письма, записки, открытки, газеты, визитные карточки и тому подобные предметы, которые могли объявиться во время следствия. Однако нового Портоса интересовал вовсе не сухой перечень, а раздел «восстановление уничтоженных улик».
Мэй запустила пальцы в волосы, обнаружила в них неизвестно откуда взявшийся сухой лист, вытащила его и углубилась в чтение.
«Если преступник сжег бумажную улику, следует тщательно собрать все оставшиеся клочки и попытаться реконструировать исходный текст, разложив клочки на чистом листе бумаги достаточно большого размера и методом перебора определив их последовательность в тексте. Для этой работы рекомендуется пользоваться пинцетом, так как бумажные клочки, уцелевшие в огне, становятся очень хрупкими, и если их трогать руками, они могут окончательно рассыпаться в прах. Также желательно не допускать в помещении сквозняков, которые могут унести легкие клочки и свести на нет все усилия по восстановлению текста».
Оборот «методом перебора определив их последовательность в тексте» заворожил Мэй своеобразным полицейским романтизмом, и она никак не могла заставить себя читать дальше. Впрочем, дальше уже не было ничего интересного, за исключением советов по поводу того, как считывать текст письма с промокательной бумаги в случае, если само письмо было уничтожено.
Вздохнув, Мэй закрыла книгу, посмотрела на часы, которые показывали четвертый час ночи, легла в постель и закрыла глаза. Ровно через восемь с половиной минут она встала, наскоро оделась и спустилась вниз, где ее преосвященство баронесса Амалия Корф, несмотря на поздний час, обсуждала со своими верными мушкетерами, что делать дальше.
Когда Мэй открыла дверь, до нее долетел голос Амалии:
– От грязи и воды бумага раскисла, а чернила расплылись. Теперь бумага подсохла, но вряд ли из нее удастся многое извлечь. – Она мимоходом улыбнулась Мэй, достала из ящика стола лупу и склонилась над запиской, разложенной на столе под лампой.
– Миледи, – спросил Уолтер, – а что именно содержится в записке?
– Полагаю, – ответил Кристиан, который стоял и глядел поверх плеча Амалии, – это инструкция, как найти чертежи. Малле сразу же попал под подозрение и не мог открыто встретиться со шпионом. Поэтому он изобрел окольный путь: чертежи в тайнике, указание на тайник спрятано в месте, где мало кто догадается его искать, а квитанция, дающая право получить указание, должна попасть к адресату. Из-за того, что Малле попал под карету, цепочка нарушилась, и в конце концов указание попало к нам.
– Три с половиной строки убористого почерка, – проворчала Амалия, изучая бумажный лоскут с расплывшимися чернилами. – Первое слово – «les pap», тут все ясно. Это les papiers, бумаги. Дальше идет менее вразумительное s, после которого какая-то закругленная буква – то ли «o», то ли «e».
– Sont, – подсказала Мэй. – «Находятся».
– Разумеется, поскольку слово короткое и по правилам французского это должен быть глагол. А вот дальше – совсем плохо. Сплошная каша из расплывшихся закорючек. Кроме того, записка была сложена вдвое, и чернила с одного конца отпечатались на другом. Если бы этот мерзавец Малле пользовался не дешевыми чернилами, у нас было бы больше шансов понять, куда он дел копии бумаг Адера. А так, боюсь, три четверти текста нечитабельны.
Она уступила лупу Кристиану и устало откинулась на спинку кресла. Мэй подсела поближе. Уолтер устроился рядом с ней и незаметно сжал ее пальцы. Склонившись над запиской, мушкетеры расшифровывали текст, споря и сомневаясь по поводу каждой буквы.
– Это b, по-моему, – говорил Уолтер.
– Нет, это e с accent aigu сверху, – возразил Кристиан. – Потому что следующая буква – g, а во французском нет таких слов, чтобы b и g шли в начале подряд.
– Тогда следующая – тоже é, – заметила Мэй.
– Нет, вокруг пятно с другой части записки. Думаю, на самом деле это l.
– Тогда что же у нас получается, – удивился Уолтер. – Egl… это же начало слова église, церковь?
– А почему бы ему не спрятать чертежи в церкви? – спросил Кристиан. – Ведь госпожа баронесса говорила, что, по отзывам слуг, Стефан Малле был очень набожен. Опять же, церковь – место, не вызывающее подозрений.
– Если в записке указана церковь, – вмешалась Амалия, – то дальше должно быть ее название. Либо это Saint, то есть святого, либо Sainte – святой, либо Notre-Dame – посвященная Богоматери. – Она отобрала лупу у Кристиана и вгляделась в чернильные разводы на лоскутке бумаги.
– Мне кажется, – несмело промолвил Уолтер, – это не Notre-Dame, потому что слово в записке короче.
– Значит, Saint, – мрачно сказала Амалия. – В конце слова точно виден хвостик t, то есть святых-женщин можно исключить. Беда в том, что следующее слово никак не читается. Уолтер!
– Да, миледи?
– Принесите-ка мне из библиотеки справочник по Парижу. Там должен быть список всех церквей.
– Мы будем обходить все? – ужаснулась Мэй. – Я не хочу ничего сказать, но, по-моему, их в Париже несколько сотен!
– А я думаю вот что, – подал голос граф. – Стефан Малле ведь был католиком? Получается, что часть церквей сразу же можем исключить, потому что он не стал бы прятать чертежи в лютеранской или православной церкви, это привлекло бы внимание. И еще надо сначала заняться церквями, которые ближе всего к его дому и лавке жены.
– Вы совершенно правы, граф, – согласилась Амалия, вынимая из ящика стола маленькую линейку. – Но сначала произведем кое-какие расчеты. Слова, как известно, имеют разное число букв, и каким бы убористым почерком ни писал господин Малле… ну да, церковь Сен-Поль-Сен-Луи, к примеру, будет в два раза длиннее церкви Сент-Элуа. Теперь посмотрим… Думаю, обе церкви сразу же можно исключить. В имени нашего святого, судя по всему, содержится от 6 до 8 букв.
– Saint-Eustache, церковь Святого Евстахия? – предположил Кристиан.
– Сен-Жермен? – вторила ему заинтригованная Мэй.
Амалия нахмурилась.
– Беда в том, что название – это даже не полдела, а всего лишь треть, – проворчала она. – Если мы правы, он действительно спрятал чертежи в церкви. Но где именно?
Уолтер принес справочник, и Амалия, вооружившись карандашом, принялась переписывать на отдельный листок церкви, которые им подходили. Меж тем мушкетеры дочитали записку и переглянулись.
– Ange – это ангел, – заявил Кристиан.
– Что-то спрятано над ангелом, – добавил Уолтер.
– Дальше шло длинное пояснение, какой именно имеется в виду, – добавила Мэй. – Но чернила смыла вода.
– Мне все-таки кажется, что эти сплошные черточки вот здесь – это m и u, – вмешался Кристиан. – Mur или muraille, то есть в любом случае стена.
Амалия посмотрела на часы.
– Четверть седьмого… Что ж, неплохо поработали. Мы знаем, что речь идет о церкви святого, в чьем имени от 6 до 8 букв. Тайник находится где-то над ангелом, где стена. Если принимать во внимание место жительства Малле, местонахождение лавки его жены, а также место работы Малле… то есть парижскую квартиру Клемана Адера, получается, что надо сосредоточиться на 12, 4 и 8-м округах. – Она посмотрела на список, который лежал перед ней. – Да… будет нелегко.
– А что теперь? – спросил Кристиан, который, несмотря на бессонную ночь, горел жаждой деятельности, как и остальные.
– Теперь нам надо поспать, – огорошила его Амалия. – Хотя бы три часа. Чтобы подняться со свежими силами и завершить крайне утомительное дело.
И, не смея перечить своей предводительнице, все разошлись.
Впрочем, следует признать, что короткий сон и впрямь сыграл свою роль, позволив измученным мушкетерам хоть немного передохнуть. Теперь они прямо-таки рвались в бой, но Амалия настояла на том, чтобы они прежде всего позавтракали и выпили кофе. Никогда прежде в своей жизни Мэй не проглатывала завтрак так быстро, – настолько ей не терпелось вновь приступить к поискам.
– А теперь, – сказала Амалия, когда с завтраком было покончено, – приступим.
И они приступили. Одна за другой потянулись церкви Saint-Pierre, Святого Петра, Saint-Antoine, Святого Антония, Saint-Esprit, Святого Духа, Saint-Augustin, Святого Августина, Saint-Philippe, Святого Филиппа, и еще десятка святых, имена которых вылетели у Мэй из головы. Во всех церквях было какое-то неимоверное количество ангелов, но Амалия уже в начале поисков выразилась так:
– Я думаю, что наш находится где-то в пределах досягаемости, потому что Стефан Малле уже старый человек и не станет забираться под потолок или на уровень витражей. Словом, это должен быть ангел, до которого можно дотянуться рукой.
Однако все ангелы, которых они видели, по тем или иным причинам совершенно не подходили. Когда они выходили из церкви Святого Августина, Кристиан заметил впереди рыжую женщину и вздрогнул.
– Что с вами? – спросила Амалия.
– Мне показалось, она похожа на Жоржетту Бриоль, – признался молодой человек. – Впрочем, все рыжие немного похожи.
– Да, – рассеянно подтвердила Амалия, – ваша правда.
С Сены дул ветер, и она, поморщившись, поплотнее запахнула пальто.
– Что будем делать – двинемся осматривать остальные церкви? – предложил Кристиан.
– Нет, – сказала Амалия. – Мне нужно подумать.
И они уселись на скамью и застыли в молчании.
– Если мы все правильно расшифровали… – начала Амалия.
– Я не думаю, что мы ошиблись, – заметил Кристиан.
– Понимаете ли, для того чтобы спрятать что-то в церкви, надо эту церковь хорошо знать, – пояснила Амалия. – Не просто заглянуть туда пару раз, а именно знать. Мы осмотрели церкви там, где он живет, там, где он работает, там, где работает его жена. Что остается?
– Может быть, он дружит с каким-нибудь священником где-то в другом месте? – предположил Уолтер. – И потому хорошо знает там укромные места.
– Возможно, – согласилась Амалия. – Впрочем, есть еще один вариант. Кристиан! Садитесь-ка в автомобиль, навестите месье Адера и узнайте – у него или у прислуги, неважно, – были ли у Стефана Малле друзья среди священнослужителей и в какую церковь он ходил в детстве. А мы вас пока подождем.
– Я мигом, – пообещал молодой человек и исчез.
Вернувшись менее чем через час, он доложил:
– У Стефана Малле были друзья в церкви Святого Духа и Святого Августина, где мы уже побывали. А в детстве он принадлежал к приходу Святого Северина и даже пел в местном хоре.
– Значит, едем в церковь Святого Северина, – сказала Амалия, поднимаясь с места.
Как вам известно – а если нет, в неведении вы все равно не останетесь, – церковь Святого Северина находится в Латинском квартале, недалеко от важнейших учебных заведений Парижа. Сама по себе церковь кажется большой, но внутри выглядит довольно скромно, чтобы не сказать аскетично. Возможно, именно поэтому появление четырех господ на собственном автомобиле вызвало некоторый переполох, и, едва они переступили порог, перед ними нарисовался священник еще моложе Уолтера.
– Господа, чем могу служить? Вы, кажется, приезжие?
– Я граф де Ламбер, – представился Кристиан, – а это мои друзья. Вы бы не могли… э… – он покосился на Амалию, и она едва заметно кивнула головой, – да, вы не могли бы показать нам церковь? Месье Фрезер… э… большой специалист по церковной архитектуре.
Мистер Фрезер про себя ужаснулся, но взгляд Мэй прибавил ему храбрости, и он сказал, что будет счастлив, если его коллега (тут Мэй ущипнула его за руку, и он быстро поправился)…его новый знакомый окажет им такую любезность.
– Конечно! – с воодушевлением воскликнул священник и повел гостей по церкви. – Стиль здания, как вы, наверное, уже заметили, готический.
– О, – сказала Мэй, – обожаю готику!
– Одна из капелл была выстроена Мансаром, – добавил священник. – А еще у нас замечательные колокола. К примеру, самый старый колокол в Париже, который действует с 1412 года.
– Скажите, – с умным видом спросила Мэй, чтобы отвлечь внимание от Амалии, которая отстала и скрылась за колонной, – а святой Северин… он, кажется, был австриец?
Священник с достоинством распрямился.
– Нет, сударыня, – сухо сказал он, – вы говорите о святом Северине, который из Норика, а эта церковь посвящена нашему святому Северину Парижскому. Угодно ли вам посмотреть витражи поближе? Некоторые из них современные, но иные датируются временем постройки церкви.
И он с большим знанием дела стал объяснять гостям, какие сцены представлены на витражах, после чего поведал, что мраморный алтарь был создан на средства герцогини Монпансье, кузины короля Людовика XIV.
– Это та дама, которая во время Фронды как-то выстрелила из пушки? – заинтересовалась Мэй. – Кажется, я читала об этом у Дюма.
– Да, мадемуазель, именно она!
Пока молодой священник рассказывал графу, архитектору и Мэй историю создания церкви, Амалия незаметно осмотрела здание, убедилась, что все ангелы, имеющиеся в наличии, находятся вне пределов досягаемости обычного человека, и рассердилась на себя. Для очистки совести она обошла церковь еще раз, и снова безрезультатно.
Через минуту к ней присоединись ее верные мушкетеры.
– Вы нашли их, миледи? – шепотом спросил Уолтер.
– Нет, – с досадой ответила Амалия. – Жаль, что пришлось напрасно побеспокоить славного священника. Идемте, господа!
Кристиан в последний раз оглянулся на царящий под сводами полумрак, в котором были видны редкие горящие свечи, и вздохнул. В церкви его всегда посещали мысли, которыми он ни с кем не делился в обычной жизни, и на душе становилось светло и грустно одновременно. Прежде чем уйти, он приблизился к чаше со святой водой и окунул в нее пальцы.
В следующее мгновение цветной солнечный луч прорезал витражи и упал на стену. Кристиан де Ламбер поднял глаза – и замер.
Из стены над чашей со святой водой выступал очаровательный пухлощекий ангел. Он смотрел прямо на Кристиана.
Глава 29 Обретение аквилона
– Ваше преосвященство, господа мушкетеры, я нашел!
– Что?
– Где?
– Как?
– Ангел!
– Кристиан! Я же осмотрела всю церковь!
– Над чашей со святой водой, Амалия Константиновна… Возле самого входа! Там темный угол, ангел едва выступает из камня… Я тоже увидел его, только когда на него упал свет!
– Так… – Пауза. – Уолтер! Мэй!
– Мы здесь!
– Срочно отвлеките священника, чтобы он нам не помешал.
– Но как, миледи?
– Уолтер, вы что, ребенок? Честное слово… Спросите у него… да, как он относится к пожертвованиям для церкви. Кристиан! Идем!
Священник еще не успел удалиться, когда на него с двух сторон налетели архитектор и его спутница. Спутница взяла священника под руку и увлекла в сторону алтаря.
– У вас очень милая церковь! – объявила она, хлопая ресницами. – И такой очаровательный стиль… кажется, романский?
– Готический! – важно поправил ее Уолтер. – Кстати, мсье… Как вы относитесь к пожертвованиям?
Священник набрал воздуху в грудь и принялся перечислять насущные нужды. Нужд накопилось много, и подробное их разъяснение заняло бы никак не меньше четверти часа.
Воспользовавшись передышкой, Кристиан и Амалия стали простукивать стену над ангелом. Обнаружилась пустота, но как до нее добраться, совершенно непонятно. С виду стена казалась совершенно глухой и состоящей из цельного камня.
Амалия и граф стали нажимать на все выступы на стене, рассчитывая, что где-то скрывается потайной рычаг. Внезапно раздался легкий щелчок, и в камне открылась небольшая щель. Засунув туда руку, Амалия обнаружила внутри пачку листков, свернутых трубкой и завернутых в кусок непромокаемой ткани.
– Это он? – спросил Кристиан в нетерпении. – Аквилон?
Амалия сорвала ткань и развернула листки. Аккуратно перерисованные наброски. Чертежи летательного аппарата с крыльями, до странности напоминающими крылья летучей мыши… Элементы системы управления…
Щелк!
– Я так и знал, госпожа баронесса, – проговорил в нескольких шагах от нее вальяжный голос по-немецки. – А теперь будьте так любезны, отдайте аквилон мне.
Помрачнев, Амалия обернулась и увидела улыбающегося Генриха, который держал на мушке графа де Ламбера.
– Нет-нет, – опередив ее намерение, быстро проговорил агент, – никаких резких движений, иначе я прострелю вашему другу голову. Чертежи, сударыня, и тогда никто не пострадает.
– Эти чертежи, – сказала Амалия, – принадлежат Франции.
Генрих усмехнулся.
– И именно поэтому, наверное, я вижу здесь именно вас, а не полковника Лорана, к примеру, – парировал он. – Отдайте мне чертежи, и разойдемся с миром.
Священник, который как раз описывал Уолтеру и Мэй историю одного из подкидышей, которого нашли под дверями церкви, обернулся и увидел возле дверей господина с револьвером, который угрожал друзьям архитектора.
– Что происходит? – вырвалось у священника. – Мсье, это божий храм! Как вы смеете!
Лицо Генриха дернулось. Амалия поняла, что агент на взводе и вот-вот выстрелит.
– Берите и убирайтесь, – сказала она, протягивая ему чертежи. – Святой отец! Стойте там, где стоите! Пусть он уйдет!
– Премного благодарен, – ответил Генрих, забирая чертежи.
И рукой с чертежами (в другой он по-прежнему держал револьвер) ухитрился даже притронуться к шляпе на прощание, подлец.
Слегка прихрамывая и пятясь спиной, вышел.
– Вы отдали ему чертежи! – простонал Кристиан. – Что вы наделали!
Амалия села на скамью, незаметно протерла глаза и зевнула. Этой ночью ей так и не удалось уснуть.
«Как же я устала… Не заметила ангела, вовремя не учуяла этого мерзавца… Это все усталость. Ну и пусть».
– Надо звать полицию! – возмутился молодой священник. – Это какой-то сумасшедший!
– Никого не надо звать, поверьте мне, – отозвалась Амалия. – Он ушел, ну и… пусть.
– Миледи! – К ней подбежала Мэй. – Что нам делать? У нас же есть автомобиль! Мы можем догнать его!
Амалия прислушалась.
– Бесполезно, – сказала она с загадочной улыбкой. В следующее мгновение дверь церкви со скрипом повернулась на петлях, и на пороге возник комиссар Папийон.
– Вы все-таки ослушались меня, сударыня, – проговорил он укоризненно, качая головой.
– Вы его взяли? – спросила Амалия, ничуть не удивленная его появлением. – Между прочим, чертежи Пено тоже украл он. Кстати, кто из ваших людей сегодня весь день следовал за нами в лохмотьях? Уж не полковник ли Лоран?
Папийон насупился.
– Не знаю, с чего вы взяли…
Амалия прищурилась.
– Передайте ему, что когда нищий берет, к примеру, на улице Фортюни фиакр и сует кучеру золотой, это выглядит странно. Мои друзья, может быть, и не заметили, зато я отлично все видела.
– Хотите сказать, – проворчал Папийон, – что вы позволили нам следить за собой?
– Я полагала, это будет нелишне, – призналась Амалия. – Честно говоря, я опасалась не Генриха, а Оберштейна. Этот негодяй куда опаснее.
– Можете не волноваться, – отозвался Папийон. – По нашим данным, Оберштейн уже покинул Францию. – Он сунул руку в карман. – Позвольте вернуть вам эту маленькую вещицу, госпожа баронесса. Ночью вы обронили ее, когда искали… кхм… на улице коробку из-под кольца.
И он протянул Амалии сверкающий бриллиантами браслет.
– Ах, вот он где, – протянула Амалия, улыбаясь. – Бедная Мэй так убивалась, не понимая, где могла его потерять. А почему вы не сразу вспомнили о коробке?
– Все эти дни, – доверительно признался комиссар, – меня рвали на части. Кроме того, полковник Лоран жаждал отыскать кольцо во что бы то ни стало. Когда Норвэн и агент боролись, кольцо упало в колодец, и его унесло водой. Вы не представляете, через что прошли мои люди, прежде чем сумели его достать. Однако я сразу понял, что кольцо только для отвода глаз. Но пока Норвэн пришел в себя, да врачи разрешили с ним говорить… Правда, он тоже не сразу вспомнил про коробку.
– А Ницца? – спросила Амалия. – Почему Моннере ездил в Ниццу?
– Дело было так. Началось с того, что мсье Адер, по натуре человек крайне внимательный, заметил, что его бумаги лежат не так, как он их оставил. Он осмотрел их, понял, что с них снимали копии, и сразу же вызвал нас. Так как подозреваемых было много, мы поделили их между собой. А Моннере сразу же начал подозревать Малле – и из-за показаний свидетеля, который видел старика возле кабинета, и потому, что тот был чертежником, и еще потому, что все его сбережения растаяли во время Панамского скандала. Моннере стал следить за стариком, тот занервничал и, переходя улицу, попал под колеса. Когда его отвезли в больницу, Моннере явился туда и потребовал его вещи. Там было среди прочего письмо в Ниццу до востребования, написанное так, что можно было подозревать все что угодно, и закладная квитанция на кольцо. Моннере решил, что письмо – шифр, и помчался в Ниццу, никого не предупредив. В поезде на него напал Оберштейн, как вы и говорили. Нам вскоре стало известно, куда Моннере уехал, как и то, что до Ниццы он не добрался, и мы сразу же начали поиски. На насыпи нашли тело, пальто, чемодан, сумку – короче, все вещи. Но квитанцию не нашли… зато там лежала ваша перчатка, госпожа баронесса. Только я ни минуты не верил, что это могли сделать вы.
– Почему? – быстро спросил Кристиан.
– Гм, – сказал Папийон, задумчиво глядя на витражи, – в принципе, вполне допустимо, что госпожа баронесса могла прикончить моего коллегу. Но терять такие важные улики на месте преступления – явно не ее почерк.
Амалия улыбнулась.
– Просто те, кто выбросил тело из поезда, так же поступили и с вещами, которые были в купе, – сказала она. – Оберштейн тщательно продумал инсценировку: труп на диване или на полу, рядом моя перчатка. Не знаю как, но Моннере перед смертью обманул его и указал неверный след. Потом люди, которые избавлялись от тела, не заметили квитанцию, и она упала куда-то – может быть, за диван или за столик. Но ее нашел Луи Норвэн, когда убирал купе, как обычно. Он увидел, что в квитанции указано недорогое украшение, и решил как-нибудь заглянуть в ломбард. Потом его начала интересовать суета вокруг десятого купе, и он зашел в ломбард, когда за ним следили мои друзья.
– Вы говорите – люди, которые избавлялись от тела, – заметил Папийон, который слушал Амалию чрезвычайно внимательно. – Вы уже знаете, кто это?
– Знаю. Но для полноты картины мне необходимо понять, кто был их сообщницей. Кстати, что там с убийством Жоржетты Бриоль? Вы уже арестовали ее друга-фальшивомонетчика?
– Да, Депре мне телеграфировал. Но Руссело категорически отрицает, что убивал ее. И к тому же, похоже, у него алиби. Впрочем, вопрос, действительно ли это алиби или его друзья свидетельствуют в его пользу, чтобы он не угодил на гильотину. Между прочим, Руссело уверяет, что ни за что не стал бы трогать Жоржетту, что она любила только его, а те, с кем она была ради денег, ничего не значили. Он был уверен, что они станут жить вместе, как только он выйдет из тюрьмы, и был удивлен, что она как раз в это время уехала из Парижа. Он поехал за ней в Ниццу, там его и арестовали.
– И последний вопрос, – сказала Амалия. – Кому предназначалось письмо в Ницце?
– Внуку Малле, сыну его дочери, которая умерла. Зять Малле был фокусником, а внук странствовал по Европе с труппой циркачей. Из Барселоны он написал деду, что вскоре вернется во Францию и морем прибудет в Ниццу. Тот хотел ответить ему и написал в Ниццу до востребования. В общем, это была самая обычная история, но нас она здорово запутала. Дело в том, что письмо было адресовано Пиге, а, по нашим данным, Оберштейн как-то пользовался фальшивым паспортом на ту же фамилию. Если бы Моннере не торопился пожать все лавры, если бы расспросил хотя бы жену Малле, то понял бы, что к чему. Но он сделал ошибку, а вслед за ним и мы.
– Господин комиссар! – На пороге возник оборванец с военной выправкой. – О, так я и знал, что вы беседуете с вашей старой знакомой. Чего вы ждете? Мы можем ехать!
– Здравствуйте, полковник, – сказала Амалия. – Вы чудесно выглядите!
Однако полковник Лоран был не лыком шит, что и доказал его ответ.
– Вы тоже, сударыня, – язвительно промолвил он, кланяясь. – Наряд горничной вам совершенно не к лицу! Ваше счастье, что месье Папийон поручился за вас и предложил предоставить вам полную свободу действий, потому что, по его словам, чего не отыщете вы, не найдет никто. Но мы не теряли вас из виду, сударыня, ни на минуту!
– Какой ужасный нищий! – вполголоса сказала Мэй Уолтеру, который рассматривал витражи. – Интересно, о чем он беседует с баронессой Корф?
– Понятия не имею, дорогая, – ответил тот, улыбаясь своей доброй улыбкой. – По правде говоря, я ужасно рад, что все закончилось.
– Я, наверное, подожду тебя снаружи, – сказала Мэй. – Там тепло и солнечно. – Она порылась в сумочке. – Уолтер, у тебя не найдется мелкой монеты?
Амалия и полковник Лоран все еще пререкались. Папийон благоразумно пытался остановить перепалку, но старые противники остались глухи к увещеваниям. Как ни странно, но конец распре положила Мэй, которая величаво проследовала к выходу, по пути вложив монетку в руку полковника.
– Вот, – сказала она. – Это вам от святого Северина, мсье.
После чего удалилась, а полковник Лоран утратил дар речи. Кристиан не выдержал и расхохотался. Папийон отвернулся, пряча в усах улыбку.
– Простите, – сказал он, – нам пора идти. Надо будет разобраться с этим прохвостом и еще найти чертежи Пено, о которых вы упоминали. Но, думаю, вечером я заеду к вам… на правах старого друга.
Он как-то очень галантно поклонился Амалии и бесшумно двинулся к выходу вслед за красным от раздражения полковником.
– Вы жалеете, – заметил Кристиан Амалии.
– О чем?
– Вы же хотели… – он закусил губу, – достать чертежи для своих. Разве нет?
– Еще чего не хватало, – усмехнулась Амалия. – После этого они вообразили бы, что я жить без них не могу, и тогда уж точно не оставили бы меня в покое. Нет, я очень рада, что все получилось именно так. Кому нужен самолет, пусть сам его выдумывает, а не ворует чужие идеи. Хотя… – она сделала паузу и разгладила ладонью складку на юбке, – я не думаю, что у изобретения Адера есть будущее.
– Почему? Вам не нравится мысль о том, что человек может летать?
– Нет, – рассеянно ответила Амалия, – дело вовсе не в этом. Просто, мне кажется, месье Адер неудачно выбрал образец для своей машины. Трудно вообразить более противное животное, чем летучая мышь. Да, да, и не надо улыбаться.
Она увидела, что Уолтер закончил осмотр витражей, и поднялась с места.
– Будущее покажет, правы вы или нет, – сказал Кристиан. – В конце концов, даже Наполеон не признавал паровых машин.
– Значит, не зря моя прабабушка говорила, что знала генералов получше него, – парировала Амалия. – Кстати, граф, у меня к вам просьба. Мне бы хотелось пожертвовать деньги этой замечательной церкви, где мы поставили точку в наших приключениях, но я предпочитаю сделать это через вас, потому что сама я не католичка. Вы согласны?
– Разумеется, – ответил Кристиан. Он хотел добавить еще что-то, но тут их самым невежливым образом прервали. Входная дверь распахнулась им навстречу, и на пороге показалась Кларисса Бланшар.
– Вот вы где! – проскрежетала она, увидев Амалию в окружении верных мушкетеров. – Так-так, очень хорошо. Только у меня один вопрос: куда вы дели мою внучку?
Глава 30 Похищение
– Мэй!
– Мадемуазель Уинтерберри!
– Мэй, где вы?
Однако девушка не показывалась и не отзывалась. Уолтер вспомнил, что на церкви Святого Северина имеются какие-то необыкновенно замечательные гаргульи, о которых говорил священник, и предположил, что Мэй могла прогуляться вокруг здания, чтобы взглянуть на них. Мушкетеры, а также ее преосвященство три раза обежали вокруг церкви и вернулись к входу, констатировав, что гаргульи на месте, а Мэй нигде нет.
– Должна сказать, – заметила Амалия, – что мне все это крайне не нравится.
Тут она заметила бедно одетого веснушчатого мальчишку лет десяти, который стоял неподалеку и с любопытством смотрел на нее.
– Послушай, – спросила она у мальчика, – ты не видел тут девушку в бежевом платье? Она вышла из церкви минут десять тому назад.
– Нет, не видел, – ответил мальчик. – А вы Амалия, да?
– Откуда ты знаешь? – удивился Кристиан.
– Меня господин просил передать вам записку, – объявил оборванец и действительно достал из кармашка штанишек обрывок бумаги с нацарапанными на нем каракулями. – Сказал, срочно. Вот!
С этими словами он сунул листок в руки Амалии и кинулся бежать во весь дух.
– Я убью Папийона, – коротко сказала баронесса, прочитав то, что было написано на листке. – «Покинул Францию», «покинул Францию»! – передразнила она. Граф де Ламбер еще никогда не видел ее в такой ярости. – Уолтер! Срочно в машину! Кристиан! Гоните на набережную Орфевр!
– А как же… – начал священник.
– Мадам Бланшар? Поверьте мне, она как-нибудь обойдется без нас… как и мы без нее, – добавила она как бы про себя.
Через полчаса Амалия в кабинете Папийона коротко пересказала то, что им было известно. Если верить записке, Оберштейн похитил Мэй и угрожал ее убить, если ему не отдадут чертежи. Место встречи – через два часа в Венсеннском лесу между Золотыми воротами и озером. Выслушав Амалию, Папийон вздохнул.
– Госпожа баронесса, – сказал он, – вы должны понимать, что теперь, когда мы заполучили чертежи, мы уже не выпустим их из рук. Между нами, министр внутренних дел уже звонил мне, – он выразительно покосился на телефонный аппарат, стоявший на его столе, – и он до смерти рад, что мы так дешево отделались.
– Мне не нужны чертежи, – отрезала Амалия. – Дайте мне бумаги, которые внешне напоминали бы их. Все равно Оберштейн не разбирается в летательных аппаратах, и я сомневаюсь, что у него будет время проверять, настоящие они или нет.
Папийон посмотрел на ее лицо, вызвал помощника, шепотом отдал ему какое-то указание и повернулся к карте Франции, которая висела на стене.
– Хм… Венсенн – это восток. Допустим, Оберштейн хочет добраться до германской границы, но туда в любом случае путь не близкий. – Он нахмурился. – Он не отдаст вам заложницу, госпожа баронесса. Она нужна ему, чтобы добраться до границы. Он решил сыграть по-крупному, и это не тот игрок, который будет колебаться, если речь зайдет о чужой жизни.
– Все это мне прекрасно известно, – сказала Амалия. – Но Мэй во что бы то ни стало необходимо выручить.
– Полагаю, – сказал Папийон, – я смогу послать в Венсенн наших людей, чтобы они оказали вам помощь на месте. Сам я, разумеется, тоже поеду.
– В записке сказано, чтобы я не привлекала полицию, – напомнила Амалия. – Иначе Оберштейн ни за что не ручается… и так далее.
– Но вы уже обратились ко мне, – серьезно сказал Папийон. – Я виноват, что ввел вас в заблуждение. Конечно, Оберштейн обвел моего человека вокруг пальца, сделав вид, что уезжает. Я не отрицаю своей вины.
– Боюсь, – твердо ответила Амалия, – что в этом деле я не могу ни на кого положиться, кроме… – Она задумалась, а потом уверенно проговорила: – Джокера. Конечно, мне нужен джокер.
– Простите? – изумился Папийон.
– Вы же сами сказали, что Оберштейн решил сыграть по-крупному. Надо, чтобы он провалил эту партию. – И она изложила Папийону свой план.
– Да, – промолвил комиссар задумчиво, – это может сработать.
– Тогда пожелайте нам попутного ветра, – улыбнулась Амалия, поднимаясь с места. – Кстати, я же вам не сказала, кто и почему позаботился выбросить вашего коллегу Моннере из вагона.
– Я уже это знаю, представьте себе, – вздохнул Папийон. – Беда в том, что у меня нет никаких доказательств.
– Доказательства – пустяк, – отмахнулась Амалия. – Достаточно послать одно письмо, и они сами упадут вам в руки.
– Что еще за письмо? – с любопытством спросил комиссар.
– От имени третьей дамы, которая не участвовала в деле, но согласилась сыграть свою роль. Только сначала надо на всякий случай проверить, не опередили ли нас. Вы еще не догадались, комиссар? – Амалия поглядела на часы. – Так уж и быть, пока у меня есть пять минут, я вам все объясню.
Так она и поступила.
– Вам надо работать у нас, честное слово, – объявил Папийон, выслушав ее. – Значит, вы полагаете…
– Конечно, можно обойтись и без письма, – кивнула Амалия. – Но тогда придется перебирать всех знакомых семьи, которые подходят под описание, а это может занять время. Все зависит только от вас, комиссар. Да, так когда я смогу зайти за чертежами?
– Через полчаса, я полагаю, – отозвался Папийон.
Однако фальшивые чертежи появились уже через четверть часа, и Амалия, поблагодарив комиссара, удалилась. Сегодня ей надо было успеть сделать еще много дел, и к тому же она собиралась отдать кое-какие распоряжения.
За несколько минут до назначенного в записке времени Амалия была уже на месте, возле сожженного молнией дерева, которое указывалось в качестве ориентира. Следует особо отметить, что до Венсенна Амалия добралась на автомобиле, взяв с собой в качестве сопровождающего только молодого священника. Что же до графа де Ламбера, то, возможно, у него нашлись куда более важные дела.
Однако Оберштейн не появился. Уолтер блуждал по поляне, как неприкаянное привидение, каждую секунду вынимая часы и сверяясь с ними. Что же до Амалии, то она отметила про себя, что сегодня солнце светит особенно ярко, улыбнулась с тайным удовлетворением и открыла кисейный зонтик. Если бы стояла плохая погода, ее джокер мог и не сработать.
– Уолтер, прекратите протаптывать новую тропинку, – капризно проговорила она. – У вас такой вид, как будто вы решили выиграть дерби, причем в качестве лошади. Никуда мсье Оберштейн не денется, мы нужны ему не меньше, чем он нам.
– Должен сказать вам, сударыня, – проговорил Уолтер, на которого попытки Амалии пошутить произвели самое тягостное впечатление, – что иногда мне случается сожалеть… – Он запнулся и не закончил фразу.
– Нечего, – сказала Амалия, – вот вернетесь в Ниццу и произнесете в церкви проповедь, что все, что ни делается, непременно к лучшему. И леди Брэкенуолл прослезится и простит вам невнимание к ее дочкам.
– Боюсь, – вздохнул Уолтер, – что Ницца теперь для меня закрыта.
– Глупости, глупости! Не хотите же вы сказать, что откажетесь от места после того, как я с таким трудом достала его для вас?
– Вы? – пролепетал Уолтер. – Достали мне место?
– Ну да, обойдя леди Брэкенуолл, – пожала плечами Амалия. – Не хочу сказать ничего такого, но эта дама только в Ницце может делать вид, что от нее многое зависит. Да, не забудьте пригласить меня на свадьбу, мистер Фрезер, а то я обижусь.
– Миледи! Я… мы… всегда! Конечно! – Уолтер прижал обе руки к груди, его лицо сияло. Теперь, когда все устроилось столь волшебным образом, он даже как-то запамятовал обо всех неприятностях, которые произошли с Мэй.
– Надо же, как трогательно, – произнес возле них чей-то надменный скрипучий голос. – Интересно, а я получу приглашение?
Из-за обгорелого ствола выступил господин Оберштейн собственной персоной. Шрамы от шпильки Мэй еще не до конца зажили на его лице. Он стоял, заложив руки в карманы, и насмешливо покачивался на носках.
– Где Мэй? – спросила Амалия.
– В надежном месте, – отозвался агент. – Где чертежи?
– В надежном месте, – повторила Амалия его слова.
Глаза агента сузились.
– Сударыня, – проговорил он, – не надо меня злить. Если я не вернусь с чертежами через две минуты, мой товарищ будет вынужден прикончить вашу сообщницу.
– Это нечестно! – возмутился Уолтер. – Мы даже не знаем, что с Мэй и жива ли она!
– Очевидно, вы еще недостаточно хорошо знаете баронессу Корф, – язвительно заметил агент, – иначе она давно уже объяснила бы вам, что в жизни честность только помеха. Так вы отдадите мне чертежи или нет?
– Держите, – буркнула Амалия, протягивая ему сверток.
– Примерно так я и предполагал, – задумчиво протянул агент, забирая сверток. – Вы подсунули этому ослу Папийону ненастоящие чертежи, а настоящие незаметно забрали. Но если я узнаю, что вы попытались меня провести, – его голос изменился, зазвучали угрожающие нотки, – вы об этом пожалеете.
Быстрым движением он спрятал чертежи в карман, вытащил револьвер и свободной рукой схватил за воротник Уолтера, который находился ближе к нему.
– Это еще что? – сердито спросила Амалия.
– На всякий случай, – пояснил мерзавец, холодно улыбаясь. – Пусть мсье проводит меня до кареты. Всего доброго, госпожа баронесса. Надеюсь, я еще буду присутствовать на ваших похоронах.
– Смотрите не простудитесь, – с недоброй усмешкой отозвалась Амалия. – Не то увидитесь со мной куда быстрее, чем вам хотелось бы.
– Обещаю одеться очень тепло, – парировал Оберштейн, скалясь, и в следующее мгновение выстрелил. Пуля пролетела над головой Амалии, молодая женщина успела пригнуться и спрятаться за машиной. Но Оберштейн не остановился на этом и два или три раза выстрелил по шинам.
– Это чтобы вы не смогли ехать за мной, госпожа баронесса! – прокричал он, отступая и волоча за собой Уолтера.
Оберштейн дотащил священника до места, где стояла карета агента. Бросив взгляд в окно, Уолтер увидел на сиденье Мэй, которая спала, привалившись к стенке.
– Пошел прочь! И не вздумай путаться у меня под ногами, не то пристрелю!
Оберштейн отшвырнул его и вскочил на козлы. Щелкнул кнут, и лошади помчались по дороге.
– Мэй! Мэй! – отчаянно закричал Уолтер. – Мэй!
Он кинулся бежать, но лошади скакали слишком быстро. Схватившись за голову, Уолтер бросился обратно. Амалия уже заводила мотор. Стоит особо отметить, что для человека, которого только что пытались убить, она выглядела поразительно спокойно.
– Садитесь, Уолтер! Одна шина испорчена, но мотор цел, а это значит, что все еще впереди.
– Мы их не догоним! – отчаянно вскрикнул священник. – У него слишком резвые лошади!
Амалия лихо развернула автомобиль и выехала на дорогу. Из-за простреленной шины машину немилосердно трясло, она подскакивала на каждом ухабе, но Уолтер ничего не замечал.
– Только бы мы сумели его догнать! Боже, какая медленная эта колымага! Госпожа баронесса, а она не может ехать быстрее?
– Вы, Уолтер, совсем отстали от времени, – вздохнула Амалия. – Если я говорю, что Оберштейн от нас не уйдет, значит, никуда ему не деться!
– Но… но… – начал священник.
Он хотел сказать, что расстояние между ними и агентом вовсе не сокращалось, а даже наоборот. Но тут Амалия сбросила скорость, подняла голову и улыбнулась.
Из-за деревьев показался большой воздушный шар. Он был пестрый, как оперение райской птицы, и до того красивый, что щемило сердце. Сверкая на солнце всеми цветами надежды, он покачивался в воздухе, и Амалия, не удержавшись, помахала ему рукой.
– Что это значит? – пролепетал вконец растерявшийся Уолтер.
Он видел, что шар висит над дорогой, по которой летела карета Оберштейна. Внезапно в корзине под шаром произошло какое-то движение, и аэростат начал плавно снижаться.
– Что там происходит? – беспокойно спросил Уолтер. Привстав на месте, и он вертел головой, но автомобиль теперь ехал по сплошному лесу, и ни кареты, ни шара не видно. – Что творится? Это полицейские, да?
– Нет, – серьезно ответила Амалия, – это мой джокер.
И она надавила на клаксон, чтобы спугнуть косулю, которая опрометью метнулась через дорогу.
Уолтер обернулся на косулю, которая, вытянув шею, смотрела вслед невиданному самодвижущемуся монстру на колесах, и решил покориться судьбе. Деревья меж тем стали редеть, и Амалия прибавила скорость.
– Вот! – взволнованно закричал Уолтер. – Это он! Его карета!
Амалия затормозила и подъехала ближе. Бешеная гонка закончилась. Кристиан держал под уздцы лошадей, фыркавших и скребущих копытами землю. В полусотне метров висел над травой воздушный шар, и какая-то дама с помощью двух мужчин пыталась выбраться из корзины, сопровождая каждое свое движение причитаниями. Уолтер вытаращил глаза.
– Мадам Кларисса? – пролепетал он.
Однако тотчас же вспомнил о девушке в карете и бросился к ней.
– Мэй! Мэй, ты меня слышишь?
Она дремала, но, когда Уолтер вытащил ее из кареты, приоткрыла глаза.
– Ах! Уолтер! Это ты? А что случилось? – Она приподняла голову. – Что это за место?
– Мэй, разве ты не помнишь, что с тобой произошло? – с тревогой спросил Уолтер. – Оберштейн похитил тебя! Он хотел увезти тебя с собой, как заложницу!
– Я ничего не помню, – призналась Мэй, хлопая ресницами. – Кажется, я вышла из церкви… ну да! И еще эта тряпка на лице… шарф или что-то вроде нее… с таким неприятным запахом…
– Судя по всему, Оберштейн усыпил ее хлороформом, – вмешалась Амалия. – Увез с собой и морочил нам голову, что он тут не один, что у него есть сообщники. – Она повернулась к Кристиану. – А где он, кстати?
Граф замялся.
– Лежит у дороги недалеко отсюда, – наконец признался он. – Ему… э… попало по голове мешком с песком, который мы держим в качестве балласта.
– Вы бросили на него сверху мешок с песком? – изумилась Амалия. – Браво, граф! Вы оказались очень находчивы!
– Это не я, – улыбнулся Кристиан. – Это ее бабушка.
Меж тем Кларисса, охая и держась за бок, выбралась наконец из корзины и подошла к внучке.
– Так! – объявила она, сверкая глазами. – Во-первых, я немолодая женщина! – Она отлично знала, что неплохой еще не значит хороший, а немолодой – не обязательно старый. Хотя Клариссе было уже 65, ничто в мире не могло заставить ее признать себя старухой. – Мне надо беречь здоровье, а из-за тебя пришлось летать на воздушном шаре! И еще эти прохвосты не хотели меня пускать, хотя я с таким трудом их отыскала!
Она свирепо покосилась на Жака Понталье и второго воздухоплавателя, которым оказался невысокий молодой человек южной внешности с пышными усиками. Последний, однако, истолковал взгляд старой дамы в свою пользу, потому что поклонился, прижав руку к груди, и широко улыбнулся.
– Нечего улыбаться, – возмутилась Кларисса, – я чуть не умерла там наверху от страха! Во-вторых… да, что во-вторых? – Она отдышалась. – Я желаю, чтобы мне все наконец объяснили! То ты сбегаешь от своей бабушки, то ходишь в бриллиантах, то тебя берут в заложницы… И в-третьих, Флора – это твоя кукла?
– Да, – пролепетала Мэй и густо покраснела.
Кларисса развела руками.
– И ты еще собралась замуж! Боже мой, как же ты будешь жить? Ведь замужество – это…
Судя по всему, Кларисса собиралась высказать свои взгляды на брак, которые никак нельзя было назвать толерантными, но ее перебила Мэй.
– Это очень хорошо, – сказала она серьезно. – Потому что рядом со мной будет Уолтер.
И она влюбленно поглядела на него, а он покраснел и поцеловал ее маленькие пальчики.
– Священник! – простонала старая дама. – Моя внучка выходит за священника! Послушай, может быть, ты еще передумаешь, а? Есть же, в конце концов, и другие варианты. Граф де Ламбер, к примеру…
Кристиан закашлялся и отпустил узду. Впрочем, уже не было никакой нужды держать коней, которые вели себя совершенно спокойно.
– Я, пожалуй, пойду посмотрю, как там мсье Оберштейн, – объявил он. – Вдруг он решил прийти в себя и учинит нам еще какую-нибудь пакость.
И он быстро удалился.
– Нет, не думаю, что он пришел в себя, – заметил молодой воздухоплаватель. По-французски он говорил с заметным акцентом. – Уверен, ему здорово досталось.
– Я должна поблагодарить вас, – сказала Амалия. – Вы Жак Понталье, да?
– Нет, – живо ответил ее собеседник, – я Сантос-Дюмон. Альберто Сантос-Дюмон, для вас – просто Альберто. Жак – это он. – Он указал на второго воздухоплавателя, который стоял неподалеку.
– Вы замечательные люди, – серьезно сказала Амалия. – У меня ничего бы не получилось, если бы вы отказались помочь нам. Так что – спасибо.
– Ну что вы, – заворчал Жак. – Все равно этот шар надо было испытать, рано или поздно. Правда, Альберто?
– Сущая правда, – подтвердил тот, улыбаясь, как ребенок.
Меж тем вокруг наших друзей стали собираться люди. Первым, как ни странно, появился Бланшар. Он прискакал на лошади, которая уже была вся в пене, и буквально кубарем скатился с седла.
– Клер! Клер! Все в порядке? Милая, все хорошо? Я так боялся, что с тобой что-нибудь случится!
– И чего ты боялся? – проворчала Кларисса, обмахиваясь веером. – Завещание все равно в твою пользу, стал бы богатым вдовцом да жил бы в свое удовольствие.
– Клер, – жалобно ответил Бланшар, держа ее за руки, – что ты такое говоришь! Как я буду жить без тебя? У меня же никого больше нет!
Старая дама, верная себе, хотела отпустить какую-нибудь колкость, но перехватила взгляд Амалии, полный понимания, – и прикусила язык.
– Перестань, Юбер, – смущенно проговорила Кларисса. – Видишь, я даже летала на шаре, хотя до смерти боюсь высоты. Жизнь прекрасна! – Она улыбнулась. – Знаешь, а ведь, между прочим, это я стукнула мешком того негодяя, который увез мою внучку.
– Я никогда в этом не сомневался! – пылко заверил ее Бланшар, хотя впервые слышал об этом.
Меж тем люди вокруг все прибывали и прибывали. Появились любопытные, привлеченные полетом воздушного шара, потом подоспела полиция. Папийон осмотрел Оберштейна, который лежал и только слабо стонал, выслушал историю о мешке с песком, который храбрая Кларисса Бланшар швырнула на него сверху, и уважительно покачал головой.
– Дамы и господа, – объявил комиссар после того, как Оберштейна увезли, – сейчас мы вернемся в Париж, и участники этого дела дадут показания для протокола. Со своей стороны…
Жак Понталье скривился.
– Послушайте, месье, – заговорил он с плохо скрытым раздражением, – мы не можем оставлять здесь воздушный шар. Мы с Альберто должны вернуть его на место. Так что давайте выберем для ваших протоколов какое-нибудь другое время.
– Я думаю, – вмешалась Амалия, – до завтра это действительно может подождать. Тем более что у господина комиссара есть в Париже еще одно неоконченное дело.
И она обменялась с Папийоном многозначительным взглядом.
– Тогда, я полагаю, – сказал комиссар, – мы действительно можем отложить официальную часть до завтра. В конце концов, не думаю, что за несколько часов Оберштейн куда-нибудь денется.
На том и порешили.
Что же касается неотложного дела, о котором упоминала Амалия, то доподлинно известно, что вечером этого дня графу де Мирамону доставили короткое письмо в запечатанном конверте. Обратный адрес отсутствовал, но посыльный сказал, что отправившая его особа просила передать, что она хорошо знает графа.
Прочитав послание, граф слегка переменился в лице и поднялся к жене. Прислуга слышала, как супруги шептались вполголоса, затем оба оделись и ушли, заявив, что отправляются в театр.
Впрочем, хотя они действительно приобрели билеты, смотреть спектакль в отдельную ложу пошла одна только графиня. Что же до графа, то он поехал на улицу Лепик, осмотрелся и, убедившись, что никто его вроде бы не заметил, поднялся на третий этаж и постучал в дверь.
– Кто там? – настороженно спросил из-за двери женский голос.
– Это я, Элали, – ответил граф. – Откройте, нам надо поговорить.
Загремели засовы. На пороге оказалась молодая темноволосая женщина, не слишком красивая, не слишком уродливая, в общем, обыкновенная, каких в Париже можно найти сотни тысяч, если не больше.
– Вы вовремя пришли, – заметила женщина, посторонившись, чтобы пропустить графа. – Завтра я переезжаю на бульвар Османа, в новую квартиру.
Граф оскалился.
– А вы неплохо обогатились, – заметил он. Голос его дрожал от сдерживаемой злости. – Только зря вы решили, что это будет длиться вечно.
– Что? – удивленно спросила женщина.
Однако граф де Мирамон, похоже, не был расположен входить в объяснения. Вместо этого он прыгнул на свою собеседницу, повалил ее на пол и стал душить.
Женщина захрипела, стала отбиваться… Она отчаянно вырывалась и ногтями едва не угодила ему в глаза, но граф увернулся и, закусив губы, стиснул пальцы еще сильнее.
А потом услышал негромкий кашель – и в изумлении поднял глаза.
На пороге стоял комиссар Папийон.
– Здравствуйте, господин граф, – спокойно промолвил он. – И вы также, мадемуазель Менар. Так что у нас тут происходит?
Глава 31 Точки над «ё»
– Она купила воздушный шар, – сказала Мэй.
– Быть не может! – изумился комиссар Папийон.
– Может, может. А еще, – Мэй порозовела, – она сделала нам подарок к свадьбе. Дом в Ницце. Теперь у нас с Уолтером все будет совсем хорошо.
Разговор этот происходил через неделю после того, как Клариссе пришла в голову светлая мысль атаковать с воздуха негодяя, который похитил ее внучку, и сбросить на него мешок с песком. Вскоре неугомонная бабушка вернулась в Ниццу, заявив, что больше никогда в жизни не сядет в корзину, болтающуюся в небе. Целый вечер она сотрясала воздух жалобами, что она немолода и в свои почтенные годы заслужила покой. А потом…
– Граф де Ламбер умеет управлять воздушным шаром, – сказала Мэй. – Ну и… учит ее понемножку. Да, и адвокат тоже напросился. Так сказать, за компанию.
– Ясно, – вздохнул комиссар.
– Вы ничего такого не подумайте, – добавила Мэй, – они далеко не летают, только поднимаются на несколько десятков метров и сразу же спускаются. Правда, бабушка уже обещала, что прилетит ко мне на свадьбу на воздушном шаре. Ей ужас как хочется увидеть, какие у гостей при этом будут лица.
– Ваша бабушка – молодец, – серьезно сказал Папийон. – А где госпожа баронесса?
– Немного задержалась в Париже, – объяснила Мэй. – Поднималась на шаре вместе с другом господина графа, Понталье, и этим бразильцем, месье Альберто. Но она вернулась в Ниццу сегодня утром, и моя бабушка сразу же позвала ее на файфоклок. Я уже рассказывала бабушке, как все было и с чего началось, но она хочет узнать всю историю именно от госпожи баронессы… и от вас. Я ведь знаю далеко не все, по правде говоря, и мне самой любопытно прояснить кое-какие детали.
Пунктуальная Амалия явилась за несколько минут до назначенного времени. На ней было синее платье с белыми цветами. Лицо разрумянилось, а глаза сверкали так ярко, что залюбовался даже Папийон.
– Полагаю, ваша бабушка опоздает, – объявила Амалия, посмотрев на каминные часы с бронзовыми фигурами. – У нее сейчас важное дело.
– Что еще? – удивилась Мэй.
– Я думаю, она вам сама все расскажет, – уронила Амалия. – Если коротко, то, по-моему, она пытается прикончить вашего соседа, который живет напротив.
– Полковника Барнаби? – ужаснулась Мэй. – За что?
– Понятия не имею, – отозвалась Амалия, с восхитительным безразличием пожимая плечами. – Но, когда Эмильен вез меня по дороге, я видела, как ваша бабушка гоняла полковника и его друга по саду и нещадно лупила их зонтиком.
Мэй позвала Уолтера, и молодые люди вместе с комиссаром стали высказывать догадки, с чего Кларисса могла так взъесться на их соседа.
– Я надеюсь, полковник не слишком пострадает, – сокрушенно промолвила Мэй, качая головой.
– Ну, мадемуазель, он же военный, – философски заметил Папийон. – Должен быть привычен и не к таким тяготам.
Из-за схватки с полковником Кларисса опоздала на файфоклок и вошла в гостиную в сопровождении Кристиана и Бланшара, воинственно вздернув подбородок и на ходу поправляя волосы. Следует особо отметить, что адвокат нес в руке зонт, совершенно потерявший вид из-за частого соприкосновения с разными частями тела Барнаби и капитана Картрайта. И хотя Папийон был человеком не робкого десятка, но, увидев выражение почтенной дамы, на всякий случай отодвинул стул подальше.
– Бабушка, – испуганно спросила Мэй, – что случилось?
– Я так и знала! – крикнула Кларисса. – Я всем говорила, а меня никто не слушал! Это они слопали моих павлинов!
…Увы, но это отчасти оказалось правдой: полковника Барнаби и его друга погубило желание отведать павлиньего филе. Один из слуг полковника узнал, что на землях баронессы Корф водится необыкновенное количество этих птиц, и подал хозяину мысль, что пропажу нескольких птиц хозяйка все равно не заметит. Сначала полковник возмутился, потом поразмыслил и решил, что русские известны своей беспечностью, а раз так, жаркое стоит перьев. Но, на свою беду, слуга тащил павлина на кухню именно в тот момент, когда Клариссе вздумалось полетать на воздушном шаре. А так как шары – штука довольно капризная, то она вместе со своими спутниками приземлилась в саду полковника аккурат тогда, когда слуга уже готовился перерезать пернатому горло.
Увидев, как какой-то негодяй пытается прикончить павлина – того самого, маленького, который сбежал последним и которого она отлично помнила, – Кларисса испустила такой вопль, что дрогнули стены и задребезжали стекла. После чего она схватила первое, что ей попалось под руку, а именно зонтик, и бросилась на обоих джентльменов, горя жаждой мести.
Слуга, разумеется, успел удрать и закрылся в погребе, причем предусмотрительно запер дверь на все засовы, чтобы англичанка к нему не прорвалась.
Измочалив врагов и изломав зонтик, Кларисса на прощание обругала Барнаби и Картрайта последними словами, которым выучилась еще в то время, когда жила с бедным писателем, и удалилась с гордо поднятой головой. Освобожденный павлин, само собой, сразу же удрал обратно на земли баронессы Корф.
– Я им покажу, как есть моих павлинов! – кричала Кларисса, расхаживая по гостиной. – Я их выживу из Ниццы! Я доложу о них префекту! Я… да я не знаю, что я с ними сделаю! Мерзавцы!
Кристиан сел рядом с Амалией и, вполуха слушая этот словесный поток, заметил по-русски:
– Может быть, сказать ей, что произошло недоразумение? Ведь почти все павлины находятся у вас… и потом, мне все-таки жалко бедных англичан. Она же теперь сживет их со свету!
– А мне не жаль, – ответила Амалия, и ее взор полыхнул подобно Этне во время извержения, так что Кристиан даже поежился. – Эти господа позволяли себе разные пари в отношении меня, так что пусть теперь Кларисса делает с ними, что хочет.
И она тепло улыбнулась старой даме.
– Но что это я все о павлинах да о павлинах, – спохватилась хозяйка. – Юбер, позвоните, чтобы принесли чай. Кстати, господин комиссар, я хотела у вас уточнить: как относятся французские законы к жестокому обращению с животными?
– Отрицательно, мадам, – отвечал комиссар с легким поклоном.
– Я так и думала, – оживилась старая дама. – Скажите, а мне удастся посадить этих негодяев в тюрьму? Я думаю, пара месяцев на местной здоровой пище отучит их есть моих птиц! – мстительно прибавила она.
Уолтер тайком улыбнулся Мэй и взял ее за руку. Разгоряченная Кларисса разглагольствовала о своих ненаглядных павлинах битых четверть часа. Она пожурила французские законы за их мягкость и выразила мнение, что тем, кто обижает таких чудесных птиц, надо сразу же отрубать голову.
– Боюсь, – сказал Папийон дипломатично, – наши законодатели, мадам, с вами не согласятся.
– Очень жаль! – вздохнула Кларисса.
Исчерпав павлинью тему, она наконец вспомнила о том, ради чего все собрались, и повернулась к Амалии.
– Внучка уже рассказала мне то, что ей известно, но мне бы очень хотелось услышать вашу версию событий, сударыня, – сказала Кларисса. – Потому что, честное слово, я до сих пор кое-чего не понимаю.
– Я тоже, – заметил Уолтер.
– И я! – поддержал его граф.
– А раз уж комиссар Папийон все равно приехал в Ниццу, чтобы уточнить кое-какие детали, как он выразился, – продолжала Кларисса, – то я решила не терять даром времени и объединить вас обоих, чтобы вы нас окончательно просветили. Юбер! – Адвокат подпрыгнул в кресле. – Не спи!
– Что ты, дорогая! – воскликнул тот и через минуту вновь задремал.
– Так как же все произошло? – спросила Мэй.
Амалия прищурилась.
– Все началось, – негромко заговорила она, – с того, что французский инженер и изобретатель по имени Клеман Адер решил создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Аппараты легче воздуха давно известны – это воздушные шары и дирижабли, но Адер хотел сделать принципиально новую машину, снабженную мотором. Первая попытка семь лет назад, в 1890 году, вроде бы увенчалась успехом, и тогда военное министерство предложило ему сотрудничество и финансирование. Таким образом, работа Адера оказалась засекречена, но вы сами понимаете, что в нашем мире нет ничего притягательнее секретов.
О новом летательном аппарате вскоре узнали за пределами Франции – и обеспокоились. Тогда же вспомнили и о предыдущих попытках создать аппараты тяжелее воздуха, так называемые самолеты. Одна из попыток принадлежит несчастному Альфонсу Пено, после которого остались подробные чертежи. Агент по имени Генрих, которому было поручено разузнать как можно больше о невиданных новых машинах, решил выкрасть эти чертежи и через некоторое время осуществил свое намерение. Однако куда больше, чем чертежи Пено, его интересовал самолет Адера под кодовым именем «Аквилон». Впрочем, не только Генрих пытался навести о нем справки, но и некий Оберштейн, также агент, причем куда более опасный и дерзкий, чем его коллега. Тем не менее Генрих все же опередил его и сумел наладить контакт со старым слугой Адера, Стефаном Малле. Малле когда-то работал чертежником и обещал за хорошие деньги сделать копии чертежей.
– Десять тысяч франков, – вставил Папийон. – Генрих обещал ему именно такую сумму, половину – как задаток, а вторую – когда чертежи окажутся у него.
Амалия кивнула.
– Не стоит забывать, что у Малле была еще одна причина для того, чтобы согласиться на предложение шпиона – в Панамском скандале он потерял все свои сбережения. Дело представлялось ему нетрудным, но он не был профессионалом и допустил несколько просчетов, а вскоре Адер, будучи человеком крайне наблюдательным, заметил, что в бумагах кто-то рылся. Изобретатель сразу же дал знать военным, а те, посовещавшись, решили привлечь к делу лучшие полицейские кадры в лице присутствующего здесь месье Папийона и его коллег, среди которых был некий Пьер Моннере.
– Мы сразу же поняли, что тут замешан кто-то из своих, кто постоянно находился в доме, – добавил Папийон. – А у месье Адера большой дом и много прислуги, поэтому пришлось разделить подозреваемых между собой.
– Пьер Моннере сразу же стал подозревать Стефана Малле, – продолжала Амалия. – Для других слуг Малле был своим человеком, преданным старым слугой, и они даже помыслить не могли, чтобы подозревать его. Но, вероятно, у Моннере был большой опыт, и он понимал, что в некоторых обстоятельствах преданность – не более чем пустой звук. Так или иначе, он взял Малле на заметку и стал следить.
– Мало того, он произвел обыск в его доме, а также в лавке его жены, – подал голос Папийон. – Пьер говорил мне, что уверен: старик не выдержит и допустит ошибку. Он установил за Малле слежку и не выпускал его из виду, рассчитывая, что предатель приведет его к агенту.
– Но Малле оказался достаточно сообразительным. К тому же он понимал, что означает провал для него и для его семьи. Он успел спрятать скопированные чертежи в церкви Святого Северина, которую посещал когда-то. В детстве он пел в местном хоре, постоянно бывал в церкви, и, думаю, для него в здании не было тайн.
– Священник по моей просьбе провел кое-какие разыскания, – заметил Папийон. – Он говорит, что герцогиня де Монпансье использовала церковь, чтобы тайно видеться там с одним из своих любовников. Не забывайте, что у герцогини были чрезвычайно натянутые отношения с королем, который не жаловал и ее поклонников. Священник уверен, что, когда герцогиня дала деньги на алтарь, она попросила сделать в стене тайник, а потом использовала его, скорее всего, для обмена письмами со своим кавалером.
– Однако Малле нашел тайнику другое применение, – прибавил граф. – Что же было потом?
– Потом, – сказала Амалия, – он написал Генриху записку, где именно следует искать чертежи. Дальше я могу только гадать. Вероятно, Малле хотел передать записку напрямую, но заметил слежку и был вынужден действовать окольным путем.
Тогда он взял дешевое кольцо, спрятал записку в коробочку и попросил жену сходить в ломбард. Квитанцию все равно надо было передать агенту.
– По словам Генриха, они должны были разминуться в книжной лавке, – вмешался Папийон. – Малле вошел бы в лавку, сунул квитанцию в книгу и ушел, уводя полицию за собой. Генрих сидел в кафе напротив и ждал. Когда Малле удалился, он вошел бы в лавку и забрал книгу.
– Что это была за книга? – поинтересовался священник.
– «Три мушкетера» с иллюстрациями Лелуара, – проворчал Папийон. – У этого агента неплохой вкус, надо сказать.
Три новых мушкетера переглянулись и расхохотались.
– Но вся цепь развалилась, – сказала Амалия, – потому что Малле попал под карету.
– В двух шагах от лавки, переходя дорогу, – уточнил Папийон. – Агент, который вел его, сразу же вызвал Моннере. Старика отвезли в больницу. Он был помят от столкновения, у него сломана нога, но, если говорить откровенно, он больше жаловался, чем страдал по-настоящему. Кроме того, сумел привлечь на свою сторону врача, который решил, что имеет место полицейский произвол, и наотрез отказался пускать к нему моего коллегу.
– Тогда Моннере забрал вещи старика и обыскал их, – подхватила Амалия. – Нашел квитанцию, но она не привлекла его внимания. Кроме того, увидел письмо до востребования, адресованное в Ниццу. Письмо предназначалось внуку Стефана, но Моннере не знал этого.
– Малле не слишком складно выражал свои мысли, – добавил Папийон. – И Моннере стал подозревать, что это какой-то хитрый шифр. Вдобавок фамилия человека, который должен был забрать письмо, совпадала с той, которая значилась в одном из фальшивых паспортов агента Оберштейна.
– Поэтому Моннере решил, что он на верном пути. Он был горд своим успехом и не собирался ни с кем его делить. Он купил два билета в десятое купе «Золотой стрелы», чтобы ему никто не мешал, и отбыл в Ниццу, рассчитывая на месте привлечь полицию, арестовать того, кто явится за письмом, и узнать, где чертежи. Но еще до того, как он сел на поезд, его выследил Оберштейн.
И тут агенту несказанно повезло. Он увидел меня, более того, понял, что я еду в одном вагоне с Моннере – до которого на самом деле, конечно, мне не было никакого дела. Оберштейн решил использовать это обстоятельство. Если раньше он колебался по поводу того, как поступить с полицейским, то теперь решил убить его, предварительно разузнав все о чертежах, а вину свалить на меня.
Я ехала в одном купе с Мэй, и она случайно разбила флакон духов. Мы открыли окно и перебрались в вагон-ресторан. В это время Оберштейн залез в купе и похитил оттуда мою перчатку, на которой была метка. Ее редкий цвет в два счета позволял установить, чья она. Это была идеальная улика.
В вагоне-ресторане мы неожиданно стали свидетелями сцены между графом Теодором де Мирамон, его женой Матильдой и рыжей женщиной по имени Жоржетта Бриоль. С виду обыкновенный любовный треугольник, и на Мэй их выяснение отношений произвело крайне тягостное впечатление. Она предположила даже, что у графа имеются веские причины, чтобы убить жену. А потом ночью мы услышали крик графини, однако Матильда заверила меня, что ей просто приснился дурной сон.
– Вот, – вмешался Кристиан, – с этого места я прошу вас быть подробнее. Что за крик? Какое отношение он имел к происходящему? И почему, когда вы расспрашивали кондуктора Норвэна, вы уже знали о том, что он должен был увидеть в десятом купе… и не только там? Я имею в виду исчезновение белья, полотенец, отсутствие воды в рукомойнике…
Амалия вздохнула.
– Я скажу, что произошло. Ночью Оберштейн пробрался в десятое купе и застал Пьера Моннере врасплох. Однако полицейский каким-то образом сумел не выдать ему тайну письма до востребования, а направил по неверному пути.
– Моннере всучил ему ключ, который носил при себе по поводу совершенно другого дела, – буркнул Папийон. – Сказал, что он от квартиры в Ницце, а чертежи спрятаны в тайнике под картиной, изображающей женщину в желтой шляпе. Он так убедительно все описывал, что Оберштейн ему поверил.
– Потом Оберштейн его зарезал. – Амалия поморщилась. – Труп лежал, вероятно, на полу, и рядом Оберштейн бросил мою перчатку. И ушел, причем даже не стал закрывать дверь, как я полагаю. Любой, кто случайно заглянул бы туда, неминуемо обнаружил бы тело.
– Погодите-погодите, – встрепенулась Мэй. – То есть если бы графиня де Мирамон…
– Графиня солгала нам, – сказала Амалия. – Что она сказала? Что ей приснился сон. Где она находилась при этом? В коридоре, причем на ней было то же платье, что и в вагоне-ресторане, иными словами, на ночь она не раздевалась. Я допускаю, что она могла задремать, сидя на диване, и ей что-то приснилось. Но если вам что-то снится, вы не станете выскакивать в коридор. Вы просто постараетесь лечь поудобнее или сесть, если уж вы не любите ложиться на ночь в поездах, и все. А графиня находилась именно в коридоре.
– И как же вы это объясняете? – поинтересовалась Кларисса.
– Графиня выходила из купе по самой прозаической, обыкновенной причине, о которой обычно не пишут в романах, – с улыбкой пояснила Амалия. – А когда возвращалась, то случайно открыла десятое купе вместо своего девятого. И сразу же все увидела. Поэтому и кричала. Не так ли, месье комиссар?
– По ее словам, ночью она заснула, – сказал Папийон. – Сквозь сон до нее донеслась какая-то возня за стенкой, но вскоре все стихло. Через некоторое время графиня вышла в туалет, а когда вернулась, то случайно перепутала дверь своего купе и соседнего. Тут вы абсолютно правы.
– Но почему она не подняла тревогу? – вмешался Уолтер.
– Ага! – победно сказала Амалия. – Вот это и есть самый интересный вопрос. В самом деле: почему?
– Испугалась скандала, огласки? – предположил Кристиан. – Или хотела избежать расспросов в полиции?
– О, полно вам, – отозвалась баронесса. – Бояться скандала – после того, что было в вагоне-ресторане? И потом, как бы графиня де Мирамон ни относилась к полиции, ее положение в любом случае делало ее неуязвимой для любых подозрений.
– Тогда я ничего не понимаю, – заявила Кларисса.
– И ладно бы она просто закрыла купе и ушла к себе, – добавил Кристиан. – Но вы ведь намекали, что она избавилась от тела и уничтожила все следы происшедшего! Почему?
– А вы подумайте. Зачем графине де Мирамон так рисковать, избавляясь от тела человека, к гибели которого она совершенно не причастна?
– Значит, она все-таки причастна, – заметил Уолтер.
Амалия откинулась на спинку кресла.
– Я говорила и продолжаю говорить: есть только одна причина, почему графиня поступила именно так. Обнаружение тела в соседнем купе каким-то образом ставило под удар ее саму. Если бы появилась полиция, она бы могла выяснить нечто крайне нежелательное. Догадываетесь, что это?
– Получается, она тоже была шпионкой? – спросила заинтригованная Кларисса.
– Нет, – медленно сказал Уолтер. – Вы хотите сказать, что… графиня тоже кого-то убила?
– Я не знаю, она или ее муж. Суть дела в том, что она решила помочь ему скрыть следы преступления. Мэй, помните тяжелый чемодан, который графиня не пожелала сдавать в багаж и везла с собой, чемодан, о котором она говорила носильщикам в Ницце? Что там могло быть, если ночью она даже не стала переодеваться? Уж явно не платья и не сорочки.
– Боже мой! – ахнула Мэй. – Так она везла… труп?
– Да, – сказала Амалия, – именно так. Матильда с мужем условилась обо всем. Вероятно, он должен был ехать в Ниццу вместе с дамой сердца, и они решили не отказываться от поездки, чтобы не возбуждать лишних подозрений потом, когда обнаружат тело. В вагоне-ресторане она устроила сцену, чтобы пассажиры запомнили, что ее муж находился вместе с рыжей женщиной. Не было никакой нужды в скандале в общественном месте – достаточно подстеречь мужа в соседнем вагоне и выяснить отношения там. Именно эта эффектная театральная сцена прежде всего возбудила мои подозрения. Помнится, граф де Мирамон настолько увлекся, что необдуманно произнес слово «балаган». Это действительно был балаган, но они меня не провели!
– Так, – объявила Кларисса. – Я требую имя! Кто убит? Почему важно, чтобы графа запомнили с рыжей особой?
– А вы еще не поняли? – удивилась Амалия. – Это была Жоржетта Бриоль. Не та, в вагоне-ресторане, а настоящая.
Мэй застыла на месте с раскрытым ртом.
– Но ведь… Мы же видели ее!
– Как заметил граф де Ламбер, все рыжие женщины похожи друг на друга, – сказала Амалия. – В вагоне-ресторане мы видели рыжие волосы, красное платье и накрашенное лицо. Эффектные штрихи продуманной картины. Помнится, Мэй при мне упоминала, что граф де Мирамон произвел на нее впечатление не слишком умного человека. Не удивлюсь, если весь замысел по созданию алиби принадлежит его жене. Она-то явно из другого теста.
– Еще раз, – попросил Кристиан. – Жоржетту Бриоль убили. И…
– Граф случайно убил свою любовницу, когда она объявила ему, что бросает его и возвращается к фальшивомонетчику Руссело, – пояснил Папийон. – Он толкнул ее, она упала, ударилась виском и умерла. Ревнивая жена выследила его в тот день. Матильда намеревалась устроить сцену, а вместо этого увидела совершенно растерянного мужа над трупом. Графине казалось, что она его больше не любит, но именно в тот момент она поняла, что не сможет предать его.
– Еще бы, – хмыкнула Кларисса. – Ведь обладание его секретом давало ей над ним безграничную власть. Уж впоследствии он точно был бы как шелковый.
– Думаю, и это в том числе, – ответил комиссар с улыбкой. – Но когда они стали думать, что делать с телом, сразу же выяснилось, что графу не удастся выйти сухим из воды. Кучер, который подвез его к дому, знал его в лицо. Его видели несколько человек, когда он входил в дом, словом, все складывалось донельзя скверно. И тогда Матильда, как вы правильно решили, госпожа баронесса, решила создать вторую Жоржетту Бриоль.
– И кто сыграл ее роль? – спросил Уолтер.
– Элали Менар. Подруга Матильды по пансиону, сирота, обедневшая… в общем, то, что надо. По ее словам, она подозревала неладное, но ей объяснили, что речь идет о розыгрыше, пообещали большие деньги, и она решила не задавать лишних вопросов.
– Мирамоны с самого начала рассчитывали бросить тело в воду? – спросила Амалия.
– Да, – сказал Папийон, – потому что в нынешних условиях невозможно точно определить дату смерти, если тело долго находилось в воде. На этом и был построен их план. Граф, графиня и «Жоржетта» прибывают в Ниццу. Граф и графиня бросают труп в воду, потом графиня дает «Жоржетте» денег, и та соглашается уехать.
– И графиня ведь вовсе не таилась, когда предлагала деньги! – вырвалось у Кристиана. – То есть она нарочно хотела, чтобы имелись свидетели?
– Конечно. «Жоржета» получает деньги, отправляется на вокзал, покупает билет, а дальше в туалете снимает парик и надевает обычную одежду. Тем временем граф и графиня де Мирамон находятся у всех на виду, то есть у них стопроцентное алиби. А их сообщница садится в купе второго класса и с деньгами уезжает в Париж, но для всех она – Жоржетта Бриоль, которая бесследно исчезла с этими же деньгами. Чем не мотив для убийства? И когда тело обнаружат, то у полиции будет мотив, у супругов – алиби, и ни один следователь не свяжет воедино убийство и воссоединившуюся семью де Мирамон.
– И тем не менее, когда Мэй по моей просьбе стала говорить с ними об экспрессе и вашем приходе сюда, господин комиссар, моя помощница сразу же заметила, что они нервничают, – сказала Амалия. – Немудрено, что оба были как на иголках, ведь уже в поезде их планы спутал Оберштейн. Он-то понятия не имел о том, что они совершили убийство. А у графа и графини был веский повод не приглашать полицию, когда Матильда обнаружила тело в десятом купе. Даже если бы полицейские не стали проверять их вещи, Мирамоны потеряли бы время, а когда вы путешествуете с разлагающимся трупом в чемодане, время очень быстро может обернуться против вас.
– Так вот почему они избавились от Моннере! – вырвалось у Мэй.
– Вот именно. Сначала графиня выждала, когда все успокоятся и перестанут спрашивать о том, что ей приснилось, и побежала в третий вагон к мужу советоваться. Он, наверное, пришел в ужас, но согласился, что от тела надо избавиться. Моннере был крупный и тяжелый, одна графиня ни за что бы не справилась. Они выбросили его наружу, вслед выкинули на насыпь чемодан полицейского, его сумку и пальто. Теперь оставалась самая неприятная часть работы. Оберштейн, как я уже говорила, зарезал Моннере, поэтому крови в купе было достаточно. Кровь осталась на диване и на простынях, поэтому граф принес взамен них простыни лже-Жоржетты и вырезал из обивки куски, в которые кровь успела впитаться. Графиня полотенцами терла пол и стены купе, чтобы не осталось пятен, а потом замыла все водой. Вот почему была прорезана обивка, вот почему исчезли полотенца, и вот почему в рукомойнике не оказалось воды. Помните, что говорил кондуктор? Когда он вошел, в купе было совершенно чисто, даже подметать не надо. Конечно, чисто, ведь Мирамоны позаботились все убрать. Только одного они не заметили – квитанции на кольцо.
– Она упала за диван, – вставил Папийон. – Так сказал Норвэн. Сначала он не придал ей значения, потому что кольцо явно не из богатых, но потом…
– Сам Норвэн не знал, что думать. Он решил, что у пассажира возникли неотложные дела, и поэтому он вышел. Но еще до этого Оберштейн решил, чтобы окончательно меня утопить, подбросить мне орудие убийства. Когда мы с Мэй вышли из купе в Ницце, оставив там свои чемоданы, Оберштейн завернул туда и сунул нож и окровавленный платок без меток в мой чемодан. То есть он думал, что чемодан мой, но на самом деле это был чемодан Мэй. Когда она разбирала вещи, то нашла нож и не знала, что думать. Она даже решила, что это бабушка пытается таким образом избавиться от нее.
– И совершенно зря, – отчетливо промолвил Бланшар, который, казалось, дремал, сидя в кресле.
– Юбер! – возмутилась Кларисса. – Ты же спишь!
– Мой сон, – сказал адвокат, деликатно зевая и прикрывая ладонью рот, – стоит иного бодрствования. Как я понимаю, мадемуазель Мэй сразу же побежала со своей находкой к госпоже баронессе?
– Вы правильно понимаете, месье Бланшар, – ответила Амалия. – И я сразу же вспомнила о пропавшей перчатке – идеальной улике. Мне стало ясно, что где-то рядом со мной произошло убийство, причем виновной хотят выставить меня. Затем я поняла, что некто оказался заинтересован в том, чтобы скрыть следы, и это явно не Оберштейн. По моей мысли, незадолго до этого имело место второе убийство, и я сказала господину графу: стоит ожидать появления еще одного трупа. Когда стало известно, что Жоржетта Бриоль убита, я решила, что это не может быть тот самый труп, но вскоре все стало на свои места. Все остальное вам известно. Мы с Мэй, Уолтером и Кристианом организовали, так сказать, небольшой отряд и стали расследовать это дело. Уолтер и Мэй отыскали жилье Генриха и попутно спасли Норвэна от верной смерти. Мэй нашла коробку от кольца, в которой было спрятано указание на тайник. Граф увидел ангела именно там, где нужно, и он же подключил своих друзей из общества воздухоплавателей, чтобы перехватить Оберштейна, когда он похитил Мэй. Мадам Бланшар, кстати, тоже приняла посильное участие: разыскала графа и настояла на том, чтобы лететь вместе с ним и его друзьями, а потом уронила на Оберштейна мешок с песком, от чего, возможно, он не оправится до конца своих дней. Словом, все делали, что могли. Ну, а я… Я просто старалась вам не мешать, – закончила она с улыбкой.
– А как вы нашли Элали Менар, которая изображала Жоржетту Бриоль? – спросил Кристиан. – Или, получив 10 тысяч франков, она стала слишком открыто тратить их и привлекла внимание?
– Нет, она вела себя очень умно, – ответил Папийон. – Госпожа баронесса посоветовала мне прежде всего проверить, не было ли в последнее время случаев насильственной смерти среди молодых небогатых женщин, которые могли знать Матильду де Мирамон или ее супруга. По мысли госпожи баронессы, мы ведь могли и опоздать, потому что двойник Жоржетты – опасный свидетель. Когда выяснилось, что все вроде бы в порядке, я по совету баронессы послал письмо якобы от имени двойника, где открытым текстом вымогались деньги. Мирамоны поняли, что дело плохо, раз зашла речь о шантаже, и решили покончить с Элали Менар. Они пошли в театр, причем графиня осталась в ложе, а граф вскоре ушел. По возвращении она подтвердила бы, что он все время был с ней. На самом деле он поехал убивать мадемуазель Менар и таким образом привел к ней нас. Само собой, граф не успел исполнить свой замысел, зато мадемуазель Менар сразу же сделалась чрезвычайно любезной и выдала графа и графиню… как у нас говорят, с потрохами.
– Словом, госпожа баронесса всегда и во всем права, и вам оставалось только следовать ее советам, – заметил Кристиан.
Папийон улыбнулся.
– Не во всем. В главном она все же ошиблась.
– Что вы имеете в виду? – спросила Амалия с неудовольствием.
– Никто не убивал Пьера Моннере, – веско промолвил комиссар.
– То есть как? – Мэй уже была готова возмутиться. В ее глазах Амалия была совершенно непогрешима, она просто не имела права на ошибку!
– То есть его пытались убить, это верно, – поправился комиссар. – Но видите ли, в чем дело… У Пьера Моннере молодая жена.
– Я помню, – сухо сказала Амалия.
– И он ее очень любит. – Комиссар вздохнул. – Одним словом, чтобы казаться стройнее и моложе, он… э… носит корсет.
– То есть Оберштейн… – проговорила Амалия, начиная понимать.
– Ну да, – кивнул Папийон, – корсет спас беднягу Моннере. Оберштейн его ударил ножом несколько раз, но, к счастью, не убил. Однако крови было столько, что Мирамоны решили, что он точно мертв. К счастью, они ошиблись.
– И что с ним теперь? – спросила Амалия. – Он умирает? Они же выбросили его из поезда!
– Да, но упал он очень удачно, как сказал врач. Сейчас Моннере идет на поправку, хотя ему, бедняге, досталось. Как вы думаете, от кого я мог узнать детали его слежки за слугой и прочие подробности? Конечно, от самого Пьера. И еще один момент. Полковник Лоран очень хотел притянуть вас к ответу. Но я сразу же сказал Лорану, что это не вы, потому что вы бы не оставили Моннере в живых. А видя, как энергично вы ведете расследование, я окончательно убедился, что вы ни при чем.
– Но все же посоветовали мне отойти в сторону, – заметила Амалия, – конечно, для того, чтобы сильнее меня подхлестнуть.
– По-моему, вы чего-то не договариваете, – вмешался Кристиан. – Я же своими глазами видел, как вы расспрашивали консьержку!
– Да, я спросил у нее, какими духами пользуется госпожа баронесса, – не стал отрицать Папийон. – Полковник был уверен, что если не она пыталась убить Моннере, то уж точно могла заметать следы убийства. Дело в том, что простыни из десятого купе пахли женскими духами, ну и…
– Это потому, что граф де Мирамон взял простыни Жоржетты, – напомнил Уолтер.
– Это нам стало известно позже, а тогда мы не знали, что думать. Вдобавок, когда врач разрешил мне навестить Моннере, тот сказал, что на него напал переодетый Оберштейн, но, когда его потом вытаскивали из купе, он смутно увидел лицо какой-то женщины.
– Хорошо, что Моннере остался жив, – серьезно сказала Амалия. – У него замечательный ребенок, он не заслужил того, чтобы расти сиротой.
– Кстати, о детях, – вмешалась Кларисса, обращаясь к Мэй. – Если у вас, мои дорогие, родится дочь, я настаиваю на том, чтобы она носила мое имя. Да!
– Бабушка!
– Миссис Бланшар, – вмешался Уолтер, краснея, – должен вам напомнить, что мы еще не женаты!
– Как сказал кто-то из моих знакомых, вчера еще не женаты, а завтра уже бабушка с дедушкой, – парировала Кларисса. – Время идет чертовски быстро. – Она дернула сонетку. – Жером! Чай остыл… да бог с ним, с чаем! Неси лучшее шампанское, какое только есть. Я хочу выпить с моими друзьями!
…Ниццу окутывали сумерки. В траве стрекотали кузнечики. Над морем долго висело облако, похожее на дракона, которому отрубили голову, но в конце концов оно растаяло и превратилось в десятки маленьких пушистых овечек. С виллы «Маршал» доносился смех и звуки рояля. Полковник Барнаби покосился в ту сторону и, поморщившись, дотронулся до шишки на голове. Голова адски болела, но полковник утешал себя философской мыслью, что если кто и может побить англичан, так это только сами англичане… вернее, англичанки. Хромая, к нему подошел капитан Картрайт и устроился рядом. Голова капитана была перевязана, на скуле красовался огромный синяк.
– Мы побиты, но не сломлены, – сказал капитан, чтобы подбодрить старого друга.
– Лично я сломлен, да еще как, – сварливо отозвался полковник. – Если бы вы не приставали ко мне с этим дурацким филе, все бы обошлось.
– Да вы сами каждый день твердили о том, каких павлинов вы ели в Индии! – обиделся капитан. – Я-то при чем?
Полковник Барнаби тяжело засопел и взял газету. Для этого ему пришлось шевельнуться, и он тихо застонал. У него было такое ощущение, словно сегодня по нему промчался эскадрон, а вслед за ним протоптало целое стадо разъяренных слонов.
– Хотите пари? – предложил капитан, который страдал не меньше своего друга.
– Ни за что, – коротко ответил полковник.
– Последний раз вы выиграли, – не отступал капитан. – Не хотите дать мне возможность отыграться?
– Я больше не буду заключать пари по поводу Клариссы, – объявил полковник. – Я слышал, что она в Париже чуть ли не до смерти уходила какого-то малого мешком с кирпичами. – Он снова потрогал шишку на голове и откровенно прибавил: – Знаете, сэр, я еще пожить хочу.
– Хорошо, оставим Клариссу, – согласился капитан. – А как насчет баронессы Корф?
– Не пойдет, – объявил полковник. – Вы уже проиграли мне 10 фунтов, когда бились об заклад, что за месяц покорите ее сердце.
– Нет, это пари уже устарело, – с сожалением промолвил капитан. – Знаете что? Ставлю двадцать фунтов, что до конца года она выйдет за графа де Ламбера.
– Вздор, – фыркнул полковник, скрываясь за газетой. – Она старше его. Может, у них и будет что-нибудь, но до алтаря дело точно не дойдет.
– Значит, вы участвуете? – обрадовался капитан.
Барнаби опустил газету, буравя его взглядом.
– Пятьдесят фунтов, – объявил он.
– Идет, – кивнул капитан.
Джентльмены скрепили пари рукопожатием и одновременно скривились от боли. Зонтик Клариссы поработал сегодня на славу, и каждое движение давалось им с трудом.
Эпилог
12 октября 1897 года Клеман Адер провел первые испытания своего нового самолета «Аквилон», над которым работал несколько лет. Однако повторные испытания, которые прошли через два дня в присутствии представителей военного министерства, закончились неудачей. Вскоре министерство прекратило финансировать создание самолетов, и Адер больше никогда не возвращался к этому проекту.
Примерно за двадцать лет до этого, в 1878 году американский предприниматель Милтон Райт подарил своим сыновьям Уилберу и Орвиллу летающую игрушку, сделанную по чертежам некоего Альфонса Пено. Так началось увлечение полетами, которое сопровождало их всю жизнь. После множества проб и ошибок 17 декабря 1903 года спроектированный ими самолет поднялся в воздух, использовав для разгона рельсы. Этот полет стал началом новой эры в истории авиации.
13 сентября 1906 года в Париже бразилец Альберто Сантос-Дюмон, упомянутый в романе, впервые поднял свой самолет в воздух без использования дополнительных приспособлений, только за счет двигателя. Далее развитие авиации шло только по нарастающей. В 1907 году Поль Корню создает вертолет. Луи Блерио впервые в истории перелетает через Ла-Манш 25 июля 1909 года. В марте 1910 появляется первый гидросамолет, построенный французом Анри Фабром. В 1913 Ролан Гаррос первым пересекает на самолете Средиземное море. Позже будут перелеты через Атлантику, через Тихий океан, войны, воздушные бои и бомбардировка Хиросимы… Но все это уже потом.
Сам «Аквилон», единственный в мире самолет, созданный по образу и подобию летучей мыши, сохранился до наших дней. Он находится в Музее искусств и ремесел города Парижа. Ну а мы закончим наш роман маленькой заметкой, опубликованной в «Petit Journal» в июле 1898 года:
«Очередная гонка Париж – Руан завершилась уверенной победой графа Кристиана де Ламбера, который преодолел все препятствия на автомобиле, носящем поэтическое имя «Аделаида». Наш корреспондент пытался расспросить господина графа о том, какую тайну скрывает это название, однако тот, как настоящий рыцарь, предпочел уклониться от ответа. Прежде граф де Ламбер участвовал в гонках, однако наивысшим его достижением до сих пор было лишь третье место. На вопрос о своих будущих планах счастливый победитель ответил, что мечтает достичь скорости в сто километров в час, а потом вплотную заняться полетами, о которых он также говорит с большим воодушевлением. Таким образом, мы вынуждены заключить: кем бы ни была мадемуазель Аделаида, в честь которой граф назвал своего железного друга, ей необыкновенно повезло».
Валерия Вербинина Золотая всадница
Глава 1 Военно-морской вопрос
– Должен признаться, нас очень беспокоит положение дел в Иллирии, – промолвил военный министр и со значением посмотрел на свою собеседницу.
Сидевшая в кресле напротив дама отвела взгляд от окна, наполовину завешенного тяжелой бархатной портьерой с золотыми кистями, и вопросительно изогнула брови, ожидая продолжения.
– Впрочем, с этими балканскими странами никогда нельзя быть ни в чем уверенным, – добавил министр К. с легкой улыбкой. – А в нынешних обстоятельствах и подавно. Вам, конечно, известно, что Австро-Венгрия и Германия готовы на все, чтобы подорвать наше влияние в этом регионе. До известной степени нам удалось нейтрализовать их усилия, заручившись поддержкой Сербии, и было бы замечательно привлечь на свою сторону и Иллирийское королевство.
– Так за чем же дело стало? – спросила собеседница спокойно. – Насколько я помню, министр иностранных дел граф Муравьев не так давно подписывал с иллирийцами некие договоры, которые предпочли сохранить в тайне.
– Это было еще при покойном короле Владиславе, – кивнул министр. – Как вы помните, он пришел к власти после весьма неприятных событий… после того, как республиканцы изгнали предыдущего короля, кузена Владислава. Однако республика в Иллирии не прижилась, международный авторитет державы сильно пошатнулся, а с австрийцами дело едва не дошло до войны. Поэтому иллирийцы решили призвать на царство Владислава, зная его чувство меры и другие выдающиеся качества. Изгнанный король к тому моменту уже успел отказаться от своих прав, а его сын в результате несчастного случая стал калекой и не мог наследовать трон[191]. Кандидатуру Владислава одобрило большинство европейских монархов, и ему действительно удалось… гм… существенно поправить дела страны, не впадая при этом в крайности. К сожалению, год назад король неожиданно скончался от тяжелой болезни, а его наследник…
И министр выдержал чрезвычайно благонамеренную, но в то же время чертовски двусмысленную паузу, давая понять, что наследник оказался не на высоте положения.
– Король Владислав с готовностью подписал с нами договор о дружбе и союзничестве. Это было только начало, далее мы должны были заключить с иллирийцами соглашение по поводу Дубровника, но не успели. И вот теперь новый король… – Военный министр поморщился. – Словом, Амалия Константиновна, ситуация стала крайне запутанной. Король Стефан на словах выказывает желание сотрудничать с нами, но на деле всячески затягивает подписание договора о Дубровнике.
– Дубровник – это бывшая Рагуза? – спросила Амалия. – Морской порт?
– Совершенно верно, госпожа баронесса. Он интересен тем, что мы собирались разместить там нашу военно-морскую базу.
Амалия нахмурилась. Итак, Дубровник, а совсем рядом – земли Австрийской империи. Конечно, австрийцы с союзниками сделают все от них зависящее, чтобы не допустить никакой российской базы по соседству со своими владениями.
– Покойный король Владислав прекрасно понимал, что российская военная база на его территории заставит врагов Иллирии поостеречься. К тому же мы уже бывали в Дубровнике. Если помните, еще при Екатерине граф Орлов приводил туда нашу эскадру, так что, в сущности, ничего особенного в нашем желании не было.
Разумеется, подумала про себя Амалия, устроить военную базу в стратегически выгодном и важном месте – какие пустяки!
– Увы, при жизни короля Владислава мы не успели осуществить этот план, а его сын делает все, чтобы избежать разговора о Дубровнике и присутствии там российского флота. – Военный министр развел руками. – Между тем, госпожа баронесса, этот вопрос для нас чрезвычайно важен. У нас хорошие отношения с Сербским королевством, но у Сербии нет выхода к морю, и в этом вопросе она нам не помощник. Вот если бы нам удалось закрепиться в Дубровнике…
Амалия пошевелилась, раскрыла веер и стала им обмахиваться.
– Вам должно быть известно, Алексей Николаевич, что я больше не состою на особой службе, – спокойно промолвила молодая женщина. – Кроме того, я полагаю, что это дело скорее по дипломатической части.
Однако переубедить К. было не так-то легко.
– Мы уже пытались использовать дипломатические каналы, но все старания наших людей только запутали ситуацию. Очевидно, что король Стефан не хочет пускать нас в Дубровник, а между тем нам необходимо там закрепиться. Это обезопасит нас от, гм, необдуманных действий, которые могут последовать со стороны недружественной нам Австро-Венгрии.
– И подставит под удар саму Иллирию, – тихо напомнила Амалия.
– Это политика, госпожа баронесса. – Военный министр пожал плечами. – К тому же Иллирия будет нашей союзницей, и мы, в случае чего, всегда придем ей на помощь.
Баронесса Корф сложила веер. Глаза ее сверкнули.
– Боюсь, Алексей Николаевич, иллирийцам этого недостаточно, чтобы рисковать серьезной ссорой с таким могущественным соседом, как Австрийская империя. Кроме того, если хотите знать, что я думаю о российских войнах…
– Да?
– Россия обыкновенно так выигрывает войны, что лучше бы она их проигрывала, – сухо заметила баронесса Корф. – Все время одно и то же: неоправданные людские потери и утрата контроля над ситуацией, когда война наконец кончается. Выигрывать мы, положим, умеем, но пользоваться плодами победы – никак не научимся. Вспомните хотя бы нашу войну с турками при покойном государе Александре Николаевиче.
Однако военный министр улыбнулся.
– Неужели вы против освобождения Болгарии, Амалия Константиновна?
– Нет, но меня изумляет, с какой быстротой отвернулась от нас страна, которой вообще могло не быть на карте, если бы не наше вмешательство.
– Я вижу, вы не слишком жалуете наше правительство, Амалия Константиновна, – сказал К. после паузы.
– Правительство? – Баронесса Корф раздраженно повела плечами, и по тому, как сверкнули ее карие глаза, военный министр догадался, что его гостья разошлась не на шутку. – В России, Алексей Николаевич, бывает только два правительства: плохое и очень плохое. И нам следует благодарить бога, что мы имеем всего лишь плохое правительство, потому что очень плохое – это либо кровопийца Иван Грозный, пропади он пропадом, либо Лжедмитрий, Смутное время и гражданская война. Пусть уж лучше будет просто плохое правительство.
Военный министр почувствовал беспокойство. Разговор никак не поворачивался в нужное ему русло. Казалось бы, с начальником особой службы генералом Багратионовым было решено, что именно Амалия Корф подходит для того, чтобы выполнить деликатное задание и вынудить иллирийского монарха пустить русские корабли в Дубровник. А теперь оказывается, что эта дама не почитает ни военный престиж империи, ни правительство и мысли высказывает самые возмутительные. Да еще, нимало не обинуясь, смотрит ему прямо в глаза, словно нарочно испытывает его терпение. Однако К. был достаточно умен и терпелив, чтобы обратить любую ситуацию к своей выгоде.
– Право, не знаю, Амалия Константиновна, что с вами сегодня такое, – промолвил он шутливым тоном, откидываясь на спинку кресла. – Конечно, весна в Петербурге никак не наступит, да-с… меланхолия, так сказать… – Он вздохнул и примирительно улыбнулся, изучая свою собеседницу. – Я первый готов признать, что у нашего правительства есть недостатки, но служба отечеству…
Амалия с досадой подумала, что К., по своему обыкновению, сейчас произнесет длинную, пустую, убаюкивающую речь о том, что и так всем прекрасно известно, но министр заметил выражение ее лица и вовремя остановился.
– Однако мы собрались здесь вовсе не для политических прений, госпожа баронесса. Что бы вы – и я – ни думали о нашей державе в частном, так сказать, порядке, мы оба служим ей. И я бы не вызвал вас, если бы вопрос о Дубровнике не имел первостепенного значения.
– Я понимаю, – ответила Амалия, устало глядя в окно. – Но не вижу, каким способом я могу помочь. Я никогда не была в Иллирии, никого там не знаю и, боюсь, не смогу иметь на короля никакого влияния.
– Тем не менее мы хотели бы, чтобы вы поехали в Любляну. Мы очень, очень на вас рассчитываем, потому что если не вы, то никто другой с этим и подавно не справится.
Амалия с неудовольствием покосилась на своего собеседника.
– Мне 36 лет, Алексей Николаевич, – с некоторым вызовом в голосе промолвила она.
– Тем не менее я уверен, что вы найдете нужные доводы, чтобы повлиять на короля Стефана. Со своей стороны, мы готовы предоставить вам любую помощь. – Слово «любую» К. подчеркнул голосом.
В кабинете повисло напряженное молчание.
– Чего, собственно, король хочет? – спросила Амалия. – Почему он тянет с подписанием соглашения? Может быть, он уже заключил тайный договор с Австро-Венгрией, чтобы не пускать нас в Дубровник?
– По нашим данным, – хмуро ответил министр, – такого договора пока нет, но разговоры о нем ведутся. Все дело в балерине Рейнлейн, которая, гм, пользуется покровительством его величества. Мы полагаем, что она является австрийским агентом влияния, а это крайне… крайне осложняет ситуацию. Король Стефан немного легкомысленен и склонен принимать решения под влиянием минуты. Что, конечно, может серьезно повлиять на наши отношения, – задумчиво добавил министр.
– Сколько лет королю? – спросила Амалия.
– 27.
– Не самый подходящий возраст для легкомыслия, – заметила баронесса Корф. – Хорошо, Алексей Николаевич. Чего именно вы от меня хотите?
– Чтобы мы получили право разместить нашу военно-морскую базу в Дубровнике. Как именно вы этого добьетесь, нас не интересует. Важен только результат. – Военный министр заколебался, и это не укрылось от Амалии. – Кроме того, полагаю, вам необходимо знать еще кое-что. Период республиканского разброда, гм, очень пришелся по вкусу некоторым… безответственным личностям. Судя по депешам, которые мы с Багратионовым получаем от нашего резидента в Любляне, положение короля не так прочно, как нам хотелось бы.
Амалия пристально посмотрела на министра.
– Это ведь на короля Стефана недавно было совершено покушение, не так ли?
– На него покушались уже дважды, госпожа баронесса.
– Республиканцы?
– Судя по всему, да. Покойный король Владислав, как я уже говорил, был человеком умеренных взглядов и не слишком их преследовал. Стефан же изгнал из страны республиканских вожаков, и теперь они только и делают, что из Парижа и Лондона призывают к вооруженному мятежу. Но главное даже не попытки республиканцев ниспровергнуть существующий в Иллирии строй. Дело в том, что у короля есть только три дочери, и право наследовать престол на них не распространяется. В случае гибели нынешнего монарха трон займет его двоюродный брат, который воспитывался в Германии и находится под влиянием кайзера. Так вот, Амалия Константиновна, перемена правителя для нас крайне нежелательна. Вы понимаете, что я имею в виду?
«Как нельзя лучше», – подумала баронесса Корф. Получается, предстоит ехать на край Европы к легкомысленному монарху, чья власть висит на волоске. И мало того что ей надо убедить его сделать то, что он, по-видимому, делать не хочет, надо еще и позаботиться о том, чтобы правителя Иллирии ненароком не ухлопали до того, как он подпишет нужное России соглашение. С одной стороны, интригуют республиканцы, с другой стороны – братец и стоящий за ним кайзер, а где кайзер, там и австрийский император, потому что оба – враги России. Ах, политика, политика! Да еще эта балерина, с которой надо соперничать за влияние на короля… Амалия почувствовала, как у нее от досады сводит скулы. Она терпеть не могла балерин, чья профессия в те времена недалеко ушла от работы в привилегированном публичном доме, да и балет, надо сказать, не слишком жаловала.
– Вы даете мне чрезвычайно сложное поручение, Алексей Николаевич, – проворчала Амалия. Военный министр в ответ лишь скромно улыбнулся, и улыбка эта говорила: разумеется, будь задача попроще, мы бы вызвали не вас, уважая ваши выдающиеся способности. – Как зовут нашего резидента в Любляне?
– Петр Петрович Оленин.
Оленина Амалия не знала, и это обстоятельство ничуть не улучшило ее настроения.
– Можно еще один вопрос? Как у короля обстоят дела с финансами?
– Хорошо. Недавно в стране открыли новое месторождение, и, по-моему, там есть даже золото… или серебро… Точнее можно узнать у Петра Петровича.
Н-да. Одно дело – пытаться повлиять на монарха, которому нужны деньги, и совсем другое – искать управу на того, кто вовсе не стеснен в средствах. Однако, к счастью, не только деньги движут миром.
– У нас есть на короля что-либо компрометирующее?
К. заерзал в кресле. Оборот, который принимал разговор, военному министру нравился все меньше и меньше. Алексей Николаевич, как человек светский, безусловно, предпочел бы, чтобы по отношению к монаршей особе было проявлено больше деликатности. Вполголоса, словно кто-то мог их слышать, он ответил, что, насколько ему известно, ничего особенного за молодым королем не числится. Ну, были интрижки, различные любовные истории, но ничего особенного, ровным счетом ничего, понимаете?
– Само собой, наш резидент изучил все материалы о короле и мадемуазель Рейнлейн, и если бы что-то было, то уж наши дипломаты…
Ну да. Они бы использовали имеющиеся козыри, и никто не вызывал бы в кабинет военного министра с просьбой о помощи баронессу Корф.
– Так вы согласны, сударыня? До Любляны от нас нет прямого поезда, но «Северный экспресс», который идет в Париж, позволит вам проделать большую часть пути с комфортом. В Варшаве вы пересядете на поезд до Вены, а оттуда – на люблянский.
Таким образом, ехать придется с двумя пересадками, да еще через недружественную Вену. Не будь пересадок, не исключено, что военному министру удалось бы уломать баронессу Корф; однако судьбы стран, как известно, нередко решают самые незначительные обстоятельства, и Амалия решила, что пора ставить точку в этом затянувшемся разговоре.
– Мне очень жаль, Алексей Николаевич, – сказала она, улыбнувшись самой светской, самой любезной из своих улыбок, – но я не могу согласиться на предлагаемую мне миссию. В данных условиях я не вижу ни одного способа добиться того, чего вы хотите, и считаю трату государственных средств и своего времени совершенно бесполезными. – Пораженный министр открыл рот, чтобы возразить, но Амалия уже поднялась с места. – Если вас интересует мое мнение, найдите в кордебалете Большого театра балерину поизворотливее, чем эта Рейнлейн, и пошлите ее в Любляну с нашим агентом. Возможно, так вам удастся убедить короля сделать то, чего так хочет наше правительство. Есть, впрочем, и другой способ: найти среди ближайших наследников короля того, кто считает, что интересы Иллирийского королевства совпадают с интересами Российской империи, и расчистить ему дорогу к трону.
– Амалия Константиновна! – К. едва не задохнулся от негодования. – Прошу вас, мы ведь не какие-то террористы, чтобы действовать подобным образом! Особа монарха для нас священна, и мы никогда…
Увы, но приходится признать, что К. был совершенно прав: век девятнадцатый еще не утратил уважения к человеческой жизни и особенно – к жизни правителя, будь он хоть сто раз врагом. Наполеон не пытался убить своего соперника, французского короля в изгнании, а англичане, в свою очередь, всего лишь сослали Наполеона. А ведь происходи эти события в наши дни, с опальным императором наверняка расправились бы без суда и следствия, да еще не забыли бы упомянуть о том, что это было сделано исключительно ради торжества демократии и мира во всем мире.
– В таком случае, – сказала Амалия, – остается только ждать, когда мадемуазель Рейнлейн наскучит иллирийскому королю. Всего доброго, милостивый государь.<MI>
И, ослепительно улыбнувшись на прощание, она удалилась, а изумленный министр стоял и смотрел ей вслед.
Глава 2 Пожелание удачи
Пока Амалия Константиновна едет в карете домой, откроем читателю одну маленькую тайну. Дело в том, что, сам того не подозревая, военный министр попал в точку, предположив, что резкие выпады баронессы Корф были вызваны ее меланхолическим настроем. А если говорить начистоту, то Амалия уже несколько дней пребывала в самом скверном расположении духа.
Причиной этого было известие, напечатанное в одной из газет, о том, что княжна Мария Орлова вышла замуж в Москве за некоего господина. Оба счастливых молодожена были Амалии хорошо знакомы. С Марией или, как ее называли по-домашнему, Мусей Амалия дружила много лет[192]. В юности у княжны случился неудачный роман с Верещагиным, журналистом, который подавал большие надежды, но, увы, абсолютно был ей не пара. Ловкий господин Верещагин быстро утешился, найдя богатую невесту из купеческого сословия. На ее деньги он основал ряд процветающих изданий, после чего и думать забыл о бедной Мусе.
Эта история испортила ей жизнь, а сплетни, исказившие все случившееся, привели к тому, что княжна долгое время не могла выйти замуж. И вот наконец знаменательное событие свершилось, но о нем Амалию – как-никак ближайшую подругу – даже не поставили в известность. А все потому, что жених княжны тоже был другом Амалии. И даже более чем другом.
Словом, в одно далеко не прекрасное утро Амалия открыла газету и увидела, что ее любовник обвенчался с ее же подругой. Моя героиня перечитала заметку дважды, чтобы уяснить ее смысл, после чего отложила газету (хотя очень хотела просто ее отшвырнуть) и допила кофе, не чувствуя его вкуса.
Ее душила злоба – тот сорт раздражения, самый опасный, который рождается из уязвленного самолюбия и ощущения, что тебя провели, хотя ты ничем этого не заслужил. Тотчас же Амалия вспомнила разные мелкие детали, смущение Муси, которой при ней как-то принесли запечатанное письмо, то, что княжна Орлова без всякого повода послала ей в последнее время несколько дорогих подарков, и ее настроение разом ухудшилось. Получалось, что ее обманули самым обидным, недостойным способом, предали, выражаясь языком великосветских романов, и это было едва ли не оскорбительнее всего.
Напрасно она призывала на помощь все свое самообладание, напрасно напоминала себе, что не придавала связи с будущим мужем Муси (а, щучья холера!) особого значения и не собиралась за него замуж, даже когда он делал ей предложение, а делал он это несколько раз. И ей впервые пришло в голову, что для него, человека также самолюбивого, неоднократные отказы были крайне обидны, и весьма возможно, что Муся, которая была в курсе их отношений, вольно или невольно могла сыграть на этом. Однако вообще вся эта история – свадьба втайне от всех, извещение в газете, поразившее как гром среди ясного неба – выглядела настолько пошлой, настолько унизительной, что совершенно выбила Амалию из колеи. К тому же вскоре ее навестил бывший муж, барон Корф. Поглядев на его лицо, Амалия подумала, что сейчас он начнет выражать ей соболезнования – ведь в свое время Амалия тоже ушла от него, и теперь, можно сказать, барон был отомщен с лихвой. Однако Александр Корф был слишком благородным человеком, чтобы унижаться до столь мелочного сведения счетов, к тому же он пришел к бывшей жене совсем по другому делу.
– Миша влюбился, – сказал он.
Миша был их общим сыном, которому уже сравнялось 17 лет. Он учился в Пажеском корпусе, и его ждала блестящая карьера, которая, бог весть отчего, не устраивала Амалию. К тому же она заметила, что в последнее время сын начинает от нее отдаляться, все больше переходя под влияние своих великосветских друзей, и ей это не нравилось. И вот словно для того, чтобы оправдать ее опасения, бывший муж рассказал ей, что их сын влюбился в какую-то балерину, и, кажется, дело зашло настолько далеко, что он хочет на ней жениться.
– Очень мило, – сказала Амалия придушенным голосом. В предыдущей главе мы уже упоминали, кем в то время считались балерины. – И как вы предлагаете исправить положение?
Барон поморщился и сказал, что, очевидно, Мишу придется женить на ком-нибудь другом. Тут Амалия вспомнила, что ей уже 36 лет, что, если сын женится, она, вполне вероятно, станет бабушкой, и испытала ужас от одной этой мысли.
Итак, сына придется образумить, и если у него появятся дети… И еще Мусина свадьба, черт бы их всех побрал!
Амалия чувствовала внутренний бунт и ни с кем не могла поделиться. Жизнь упорно навязывала ей роли, к которым она оказалась не готова. Тут тебе разом и обманутая женщина (да-да, обманутая!), и без пяти минут бабушка, и 36 лет за плечами… Но она не чувствует этих лет, она на них не выглядит, и на улице весна, и сердцу хочется любви и надежды, а тут – на тебе! – сын творит одни глупости, газетное извещение глумится над ней каждой своей буквой, и еще эта записка от военного министра с птичьей фамилией…
Амалия сказала мужу, что всецело полагается на его благоразумие, пообещала поговорить с Мишей, прекрасно зная, что никакие доводы на юного и влюбленного человека не подействуют, и отправила министру ответ, что готова быть у него завтра, чтобы обсудить то, что его интересует.
Она надеялась, что работа, которая уже столько раз ее спасала, и на этот раз отвлечет от тяжелых и – будем откровенны – совершенно бесполезных мыслей. Потому что можно делать все что угодно – рыдать, ломать руки, бить дорогой фарфор и посылать небу горькие жалобы – ничего это не изменит. Двое людей, которым она доверяла, сочли возможным обойтись с ней так, как обошлись. Теперь надо было с наименьшими потерями пережить это неприятное испытание и идти дальше, и благополучно дождаться момента, когда столкнешься с предателями на улице лицом к лицу и искренне удивишься про себя: «Боже! И что это я тогда так переживала?» Или, как говорила ее матушка Аделаида Станиславовна: «Ни один человек на свете не стоит твоей слезы, если не умеет тебя ценить».
Итак, Амалия приехала в условленное время к военному министру, однако дело, которое он предложил, ее разочаровало. Прежде она действовала в основном в Западной Европе, а в балканских государствах у нее не было никакой точки опоры, чтобы выполнить данную миссию. Кроме того, Иллирийское королевство уже долгое время не доставляло Европе ничего, кроме головной боли. При Наполеоне разнородные провинции были объединены и выделены в отдельное государство. После падения императора к власти пришел король Христиан Первый, который сумел последовательно отбить нападения австрийцев и сербов и сохранить единство страны, – правда, не обошлось без утраты части территории, которую все же пришлось уступить противникам. Однако в Иллирии проживало слишком много народностей, в стране не было религиозного единства, что постоянно приводило к внутренним конфликтам, которыми пытались воспользоваться враги извне. Католики враждовали с православными и мусульманами, хорваты – с сербами, словенцами и итальянцами, жители гор презирали жителей побережья, которые платили им той же монетой. По уровню развития страна никак не могла считаться передовой, а тут еще интеллигенция, как всегда, полная самых благих намерений и, как всегда, не имеющая понятия, как их осуществить. И когда к власти пришел слабохарактерный Христиан Третий (это было уже в шестидесятые годы), ситуация стала критической. Первые короли прекрасно осознавали, что в такой стране, как Иллирия, власть может быть только самодержавной, и не допускали никаких покушений на нее. При последнем Христиане начались волнения: народ требовал создать парламент, утвердить конституцию, отменить цензуру, дать свободу политзаключенным и осуществить много других вещей, которые непременно должны были привести к иллирийскому золотому веку. Король пытался лавировать, но влияние твердолобой и упрямой королевы Фредерики, его супруги, оказалось сильнее, а манера поведения государыни, больше подходящая супруге неограниченного монарха образца XVII века, окончательно испортила отношения между королем и даже теми министрами, которые предлагали обойтись внешними уступками, ничего не меняя по существу. В конце концов, все завершилось банальным мятежом, в ходе которого войска позволили восставшему народу действовать как ему заблагорассудится. Вместе с мужем и маленьким сыном Фредерика бежала в Дубровник, где еще оставались верные короне части.
Последовала длительная, мучительная осада города мятежными войсками, которую известный монархист поэт Брегович описал в своих знаменитых стихах, и в итоге королю с семьей пришлось бежать в Париж. Там он наконец-то почувствовал себя человеком и с усердием принялся прожигать жизнь, не обращая более внимания на жену, которая порядком ему наскучила[193]. В Иллирии тем временем был создан парламент, а дальше началась вечная история лебедя, рака и щуки, которые пытаются тащить государственный воз и только топчутся на месте. Впрочем, главный смысл этой басни обычно никто не замечает – ведь ни лебедь, ни щука, ни рак тягловыми животными не являются в принципе, и доверять им везти что бы то ни было совершенно бессмысленно.
Пока депутаты произносили речи и рьяно обличали друг друга во всех смертных грехах, на границах активизировалась Австрия, да и Сербия была не прочь заявить свои права на часть иллирийских территорий. Видя, что страну могут просто-напросто разорвать на части, правящие верхи испугались и решили хотя бы для виду вернуться к монархии, чтобы договориться с соседями. Христиан к тому времени уже отрекся от престола, а его больной сын не мог претендовать на трон, что более чем устраивало членов парламента, которые отлично понимали, что ненавистная Фредерика играла бы при малолетнем короле роль регентши и прежде всего принялась бы сводить старые счеты. После длительных консультаций с лидерами европейских держав было решено предложить корону Владиславу, двоюродному брату Христиана. Он числился на хорошем счету у Австрии, был женат на немецкой принцессе и сумел расположить к себе Россию. Кроме того, было известно, что Владислав – человек уравновешенный, спокойный и чуждый каких бы то ни было крайностям. Предполагалось, что он не станет мешать депутатам править и в то же время прекрасно будет представлять страну на международной арене. К тому же все знали, что он терпеть не может бывшую королеву, а значит, не допустит ее влияния на государственные дела.
Владислав прибыл в страну, принес присягу народу и парламенту, распорядился отремонтировать и обновить королевские дворцы в Любляне и Дубровнике, которые из нелюбви к предыдущим монархам толпа разграбила подчистую, и стал завоевывать сердца своих подданных. Попутно он незаметно, но последовательно снижал роль парламента, раздавал щедрые награды друзьям и особенно тем, кто все еще смотрел на него косо, и на одном из обедов публично заявил, что сам он вообще-то республиканец, просто король по профессии. В прошлом он получил прекрасное образование и по приезде едва ли не первым делом пожертвовал Люблянскому университету библиотеку, собранную предыдущими королями, точнее, то, что от нее осталось. Он всегда был учтив и любезен, отличался красноречием, но при этом не утомлял слушателей и, когда того требовала ситуация, не лез за словом в карман. Некоторые министры, впрочем, утверждали, что он особенно любезен тогда, когда отправляет человека в отставку или же выставляет его за дверь, выжав все, что ему было нужно. Когда в Любляне поймали карикатуриста, который в подпольной газете изобразил худощавого, сутулого короля в особенно неприглядном виде, монарх распорядился пригласить его во дворец и угостил первоклассным обедом, заметив при этом:
– Полагаю, что вам будет проще рисовать меня с натуры… Милан! Бумагу и карандаши господину художнику, пожалуйста.
Само собой, что после спаржи и рябчиков а-ля рюсс рисовать карикатуры на короля было как-то неудобно, но художник все же попытался не ударить в грязь лицом.
– Очень, очень мило, – снисходительно одобрил король, глядя на рисунок, на котором был изображен в виде вопросительного знака. – Вы не против, если я приберегу ваше творение для люблянского королевского музея, маэстро?
Маэстро только молча поклонился; он был вовсе не глуп и понимал, что все козыри на руках у его собеседника. Конечно, слова «поборник свободы печати» звучат гордо, но одно дело – когда тебя за это притесняют, бросают в грязную, зловонную камеру и ты выглядишь героем, и совсем другое – когда тебя хвалят, угощают обедом во дворце и дают деньги, на которые можно безбедно прожить несколько лет.
Подобным образом король прибрал к рукам всех недовольных, точнее, тех из них, которые имели хоть какой-то вес. Он отлично знал, что человек, как и цветок, раскрывается при хорошем обращении, а любой сорняк всегда можно вырвать с корнем, было бы желание. Между кнутом и пряником Владислав всегда выбирал второе, и его обходительность, его харизма, его умение разговаривать с каждым на его языке были таковы, что он умело обводил вокруг пальца любого человека для достижения своих целей. Он не мог справиться только с упертыми монархистами, сторонниками Фредерики, которые считали, что он захватил престол, принадлежащий по праву ее мужу, и с непримиримыми республиканцами, для которых любой монарх был узурпатором по определению. Впрочем, даже республиканцы, видя, как он правит, начинали колебаться. Он непреклонно защищал права своей страны, не позволял себе никакой жестокости, был прост в личном обращении – хотя, разумеется, монаршая простота всегда обманчива – и в повседневной жизни одевался непримечательно, что импонировало его подданным, большинство из которых не было избаловано роскошью. О том, что внешне скромный монарх не забывал откладывать крупные суммы в заграничных банках – он был умен и отлично помнил судьбу своих изгнанных предшественников, – само собой, мало кто знал. Практически никто не догадывался, что несколько министров попеременно выполняют роли, требующие жесткости, а то и жестокости. Так было при подавлении мятежа, инспирированного австрийцами, когда были убиты тысячи людей, а король, разумеется, в это время хворал и не знал, какой приказ отдал его слуга. Едва король выздоровел (чудесным образом это совпало с полным подавлением мятежа и уничтожением без суда всех австрийских агентов в регионе), он, конечно, страшно разгневался и выгнал министра, заявив, что не потерпит никакого кровопролития в своей стране.
– Наших подданных надо беречь, все они дороги нашему сердцу! Что касается восставших, то они получат амнистию при условии, что более не примутся за старое.
Газеты на все лады восхваляли человеколюбие короля, умалчивая о том, что амнистировать, по сути, было некого: старый генерал Розен, когда-то служивший Христиану, а потом перешедший к Владиславу, прошелся по восставшим землям огнем и мечом, не щадя никого.
Прямым следствием инспирированного австрийцами мятежа стало то, что Владислав задумался о более прочном союзе с Россией. До сих пор его позиция сводилась к строгому нейтралитету, но, имея под боком такого монстра, как Австро-Венгрия, стоило позаботиться о будущем, чтобы не быть съеденным. Именно в это время был заключен секретный договор с Россией, а потом… Потом хитрого старого лиса настигла безжалостная судьба.
Владислав, всегда притворно болевший, когда нужно было принимать трудное или непопулярное решение, заболел по-настоящему. Врачи диагностировали рак. Умирал король долго и мучительно, но ему, наверное, не было безразлично, что, узнав о его болезни, жители королевства – хорваты, сербы, словенцы, итальянцы, горцы, горожане, крестьяне, католики, православные, мусульмане, протестанты – стали молиться за его здоровье, посылать знахарей и целителей, писать трогательные малограмотные письма и приносить многочисленные амулеты, которые были призваны его исцелить. Но Владислав, даже умирая, оставался реалистом: он понимал, что обречен, что амулеты и знахари не помогут, и все же улыбался из последних сил всякому, кого допускали к его постели, и по-прежнему был любезен, прост и ласков в обращении. В последние дни, когда боли сделались особенно невыносимыми и врачи без перерыва давали больному морфий, он почти все время находился в забытьи, но перед смертью ненадолго пришел в себя. Жена, все это время сидевшая у его постели, встрепенулась и послала адъютанта полковника Войкевича за наследником. Ей казалось, что умирающий силится сказать что-то, и она полагала, что это может быть нечто очень важное.
– Николай… – прошептал король, сжимая ее руку.
Она похолодела, думая, что он говорит об их младшем сыне, который по недосмотру прислуги утонул в детстве. Но затем она разобрала:
– Царь… Павлович…
Она поняла, что он имеет в виду русского императора, который давно умер, и мучительно пыталась понять, что имеет в виду муж. Между ними всегда были очень теплые отношения, и она знала – он никогда не изменял ей, хотя у него была масса возможностей, особенно когда он стал королем. Вошли полковник Войкевич с бледным, растерянным наследником, и стали возле изголовья.
– Сказал… сказал… – бормотал король, водя рукой по одеялу. – Помнишь?
Войкевич, который много занимался самообразованием, любил читать историческую литературу и отлично знал историю стран Европы, догадался первым.
– «Держи все»? Это было последнее напутствие царя наследнику, – объяснил он.
По лицу умирающего скользнуло нечто вроде улыбки облегчения.
– Держи… держи все… – прохрипел он, обращаясь к сыну. – Не дай им… Не дай погубить страну.
Королева тихо плакала. Через несколько минут началась агония, и ближе к вечеру король Владислав скончался.
На его похороны пришло столько народу, что не только кафедральный собор Любляны, но и площадь перед ним, и прилегающие улицы были заполнены людьми. Они ехали из Дубровника, из Сплита, из далеких деревень, спускались с гор, чтобы хоть краем глаза увидеть, как проводят в последний путь человека, который объединил страну и навел в ней порядок. И совершенно искренне, бескорыстно приехали немногие уцелевшие участники недавнего мятежа, раскаивающиеся в том, что причинили любимому государю такое горе своим ослушанием. И Петр Петрович Оленин, русский резидент, который находился внутри собора, думал о том, что этот крайне хитрый и дальновидный человек, о котором до его правления мало кто слышал, сумел всех провести. Его выбирали как послушное орудие, а он оказался и с волей, и с характером – достаточными, чтобы управлять такой сложной страной, как Иллирия.
Однако прошло совсем немного времени, и выяснилось, что его наследник, король Стефан Первый, сделан из совсем иного теста: он пошел не в отца, а в дядю, никчемного Христиана. Он любил удовольствия и явно не собирался ни в чем себе отказывать. Его отец выше всего ставил государственные дела; сын предпочитал себя и свои желания. Первыми почувствовали ослабление власти воинственные соседи – Австро-Венгрия, Италия и Сербия, затем зашевелились внутренние неприятели – республиканцы и сторонники Фредерики. Но если последние составляли безусловное и, скажем так, архаическое меньшинство, то республиканское движение, питаясь непопулярностью нового режима, крепло день ото дня. Почуяв опасность, Стефан поторопился принять меры, разогнал парламент, нескольких вожаков партии выдворил из страны, а кого-то бросил в казематы. Сразу же одно за другим последовали два покушения, которые при предыдущем короле казались делом немыслимым. Во Владислава однажды стрелял какой-то студент, но у старого короля был такой авторитет, что набежавшая толпа просто растерзала стрелявшего, после чего все попытки прекратились. Что же касается Стефана, то после покушений он удвоил охрану и стал обходиться с республиканцами еще круче, чем прежде. Как и все недалекие люди, он предпочитал простые решения, и ему представлялось, что отец давал республиканцам слишком много воли, а теперь настала пора закрутить гайки. Но, занятый своими политическими противниками, он не заметил, как двор мало-помалу стал превращаться в арену борьбы партий. Одни интриговали в пользу Австро-Венгрии, другие – в пользу Италии, третьи защищали интересы России. Проитальянская партия была особенно сильна среди выходцев из области Далмация, к которой относился и Дубровник. Эти края долгое время принадлежали Венеции, и здесь до сих пор проживала масса людей со звучными итальянскими фамилиями. Поэтому, когда русское правительство нацелилось на Дубровник, чтобы разместить там базу военно-морского флота, «итальянцы» возмутились, а их лидер, сенатор граф Верчелли, недвусмысленно дал понять королю, что опасается бунта и полного отделения Дубровника от страны. Так как город имел большое стратегическое и торговое значение, этого нельзя было допустить, а значит, русским надо было дать от ворот поворот. Однако пока король Стефан всячески оттягивал подписание соглашения с русскими, Австро-Венгрия воспользовалась ситуацией и предложила, чтобы в Дубровнике стояли ее корабли, а это было все равно, что пригласить удава в гости к беззаботной семье белых мышек. Стефан понял, что ему не от кого ждать помощи, и решил, что в Дубровник он вообще никого не пустит. Некоторое облегчение принес союз с Сербией, заключенный при посредничестве России, когда две недолюбливающие друг друга страны поклялись друг другу в мире и согласии. Однако Стефан отлично понимал, что на сербов тоже нельзя полагаться, потому что они ищут выход к морю и при случае будут не прочь оттяпать кусок иллирийского побережья. Словом, жизнь короля оказалась такой хлопотной, что скрасить ее смогла только мадемуазель Рейнлейн. У нее были большие глаза, очаровательные ножки и она совершенно бесподобно крутила фуэте. А если она выслушивала жалобы короля на то, как ему тяжело с этим чертовым Дубровником, который решительно все мечтают у него отобрать, то исключительно по доброте душевной. Это, разумеется, никак не было связано с тем, что австрийский резидент Кислинг всегда первым оказывался осведомлен о шагах, которые предпринимали Россия, Сербия или Италия при иллирийском дворе.
Еще раз перебрав в уме все обстоятельства дела, Амалия почувствовала облегчение от того, что у нее хватило духу отказаться. Иначе ей пришлось бы иметь дело не только с королем и его пассией, но и интриговать против графа Верчелли, который демонстративно никогда не говорил иначе, чем по-итальянски; воевать с кузеном короля Михаилом, который представлял интересы кайзера и остерегаться генерала Ракитича, вокруг которого группировались австрийские ставленники. А еще были республиканцы, и сторонники Сербии, и группа Фредерики, и еще невесть кто.
Плохо, впрочем, было то, что она оставалась без работы, а это значило, что неприятные мысли нахлынут с новой силой. И они, действительно, так досадили Амалии, что она полночи проворочалась без сна.
Наутро мать за завтраком, поглядев на усталое, бледное лицо дочери, как бы невзначай завела речь о том, что княгиня Белозерская устраивает бал и Амалия уже давно обещала туда поехать. Баронесса Корф в принципе не любила ни балы, ни охоты, ни скачки; все это представлялось ей обременительным, скучным времяпрепровождением. Но теперь, когда ей было нечем заняться, она подумала, что бал, быть может, ее развлечет.
Для вечера она выбрала шелковое платье от Дусе[194] на сиреневом чехле с крупными нашитыми бусинами, изображающими гроздья винограда, и легким шарфом лилового цвета, являющимся частью платья и слегка прикрывающим плечи. Украшения – парюра[195] с аметистами и бриллиантами, а еще веер, расписанный самим Лелуаром[196], с прекрасными дамами в париках по моде XVIII века.
Очаровательная баронесса Корф, которая выигрышно смотрелась в любом наряде, в этом платье была просто неотразима, и на мгновение она забыла и изменника, и лучшую – когда-то – подругу, оказавшуюся банальной змеей. По пути к Белозерской, на одном из перекрестков, карета попала в затор. Лошади фыркали и нетерпеливо топтались на месте, кучера перекликались, обсуждая причины неожиданного скопления экипажей. Оказалось, где-то впереди перевернулась тяжело груженая телега, которой правил пьяный возница.
Амалия сидела в карете, обмахиваясь веером, потом повернула голову и посмотрела в окошко, но ничего в нем не увидела, так как ее внимание привлекло собственное отражение в стекле. На нее смотрела тридцатишестилетняя женщина с тоскующими глазами, в которых было написано, что ее бросили, она осталась одна и ее никто не любит. Может быть, поэтому она сегодня нарядилась так ярко, чтобы ее кто-нибудь заметил и увел с этого скучного бала у старой сплетницы, где даже мороженое пропахло пылью.
Амалия похолодела. Работа в особой службе приучила ее мыслить на много ходов вперед, и теперь она словно воочию видела, как поднимается по огромной лестнице княжеского особняка, ослепительно одинокая, здоровается с хозяйкой. Та произнесет несколько любезных слов, а потом будет за глаза перемывать ей косточки и говорить – конечно же, о нем и о Мусе, и о том, как они счастливы теперь, и как должно быть скверно баронессе Корф, гордячке, которая привыкла вечно побеждать. И наверняка Белозерская добавит, что это, в конце концов, справедливо, что удача и так слишком долго была благосклонна к этой особе, а теперь настало время расплаты. И своей подруге княгиня скажет что-нибудь вроде:
– Посмотрите, милочка, она сидит в углу одна и к ней никто не подходит!
При мысли о том, что ее личное поражение окажется предметом пересудов этих дураков, у Амалии потемнело в глазах. Она постучала в стенку кареты и велела кучеру разворачиваться.
– Как же так, сударыня? Ведь это единственная дорога к особняку!
– Довольно, – проговорила Амалия. – Я никуда не еду. Возвращаемся домой.
Кучер, который за время службы у своей госпожи привык ничему не удивляться, пообещал, что попытается выбраться из затора как можно скорее, и Амалия откинулась на спинку сиденья, нервно обмахиваясь веером. Мысли ее текли однообразным, грустным потоком, и она вдруг поняла, что, как бы ей ни хотелось, в Петербурге она никуда от них не спрячется. Ее ранили, ранили очень больно, в самое сердце, а раз так… раз так, лекарство могло быть только одно. Когда она подняла голову, карета как раз проезжала мимо военного министерства.
– Степан, стой!
Конечно, она могла просто сесть на «Северный экспресс», как уже делала не один раз, и уехать в Париж. Но она знала Мусю и понимала, что та вполне может отправиться со своим новоиспеченным мужем в свадебное путешествие в столицу Франции, а Амалия намеревалась во что бы то ни стало не допускать встречи с ними.
По крайней мере, в ближайшее время, пока все не уляжется. И она, как это нередко бывало, почувствовала досаду от того, что разум бессилен справиться с некоторыми чувствами.
– Алексей Николаевич у себя? – спросила она у дежурного адъютанта, войдя в приемную.
У К. была привычка засиживаться в министерстве допоздна, хотя никто не мог сказать с уверенностью, было ли это следствие подлинного служебного рвения или он просто делал вид, что загружен работой до чрезвычайности. Он с изумлением привстал с места, когда к нему вошла баронесса в вечернем платье, с легким шарфом на плечах, оттеняющим белизну ее кожи. Бриллианты сверкали и переливались на ее шее, запястьях и в завитках белокурых волос, глаза горели каким-то необычным, холодным огнем.
– Чем обязан, сударыня… – он запнулся, не зная, как объяснить этот неожиданный визит.
– Просто я успела передумать, – бросила Амалия. – По поводу Иллирии. Если, конечно, не передумали вы.
Министр медленно опустился обратно в кресло. Он не понимал, что нашло на баронессу Корф, но нельзя сказать, что ситуация его не устраивала.
– То есть вы готовы ехать в Любляну?
– Завтра же, если вам будет угодно. Мне нужны деньги на расходы и копии донесений нашего резидента. Я должна представлять себе, с кем мне придется иметь дело.
К. кивнул.
– Я немедленно распоряжусь, чтобы вам все доставили. Ближайший экспресс отходит завтра вечером. Что-нибудь еще?
– Да, Алексей Николаевич. Пожелайте мне удачи. Представляется, что в этом деле она очень понадобится!
Глава 3 Адъютант его величества
Едва Петр Петрович Оленин открыл утром глаза, он сразу же вспомнил, кого он должен сегодня встретить на вокзале.
Итак, в Любляну приезжает баронесса Корф, о которой он в свое время слышал столько любопытных вещей. Говорили между прочим, что она будто бы предотвратила в одиночку большую войну[197], но Петр Петрович был склонен считать, что если какой-либо войне суждено начаться, то ее не в состоянии отменить никакая земная сила. По натуре Петр Петрович был фаталистом, больше всех живых существ любил своего кота Ваську и раз в неделю отправлял курьером в Петербург подробнейшие донесения обо всем, что творилось при иллирийском дворе. Некоторое время назад он первым уловил неблагоприятные для России признаки и дал понять начальству, что подписание соглашения насчет Дубровника рискует затянуться до Страшного суда. Сначала Петра Петровича, как водится, пожурили за паникерство, а потом, получив из дюжины дополнительных источников те же сведения, встревожились. В Любляну приехал опытный дипломат граф Ламсдорф и попробовал найти подходы к королю Стефану. Ламсдорф беседовал с ним и доверительно, и по-отечески, ссылался на союзный договор, на священную обязанность славян дружить между собою и так далее. Стефан, который имел в роду дюжину немцев, столько же австрийцев, чуть меньше французов и итальянцев, но ни одного славянина, произнес в ответ прочувствованную речь и прослезился, но соглашения не подписал. Ламсдорф не отступал и пробовал убедить его и так и эдак, но ничего не добился и уехал восвояси с неприятным ощущением от проваленной миссии, которая может ой как аукнуться Российской империи. И вот теперь в качестве последнего средства из Петербурга посылают баронессу Корф, вероятно, рассчитывая на то, что женщине будет легче растопить сердце монарха.
«Ну, Рейнлейн вряд ли это допустит», – усмехнулся про себя Петр Петрович и отправился кормить кота.
Поезд баронессы должен был прибыть на вокзал в полдень, но, отлично зная особенности балканского транспорта, Петр Петрович явился в половине первого. Его расчеты полностью оправдались: поезд Вена – Любляна, как всегда, опаздывал.
Петр Петрович прогулялся по перрону, возле которого росли роскошные вишневые деревья, в эту пору находящиеся в самом цвету. Однако не поэтическая красота цветущих белых вишен занимала в эти мгновения российского резидента, а мысль о том, что именно может предпринять неведомая ему баронесса Корф, чтобы добиться своего. Зная обстановку при дворе, он не сомневался, что Дубровник для России потерян окончательно, и хорошо, если удастся не допустить там присутствия австрийского флота, который способен создать большие проблемы нашим союзникам в Адриатике.
Вдали сипло свистнул локомотив и медленно– медленно, словно украдкой, стал подходить к станции. Носильщики оживились, подтянулись немногие встречающие. Поезд пропыхтел вдоль единственной платформы вокзала и остановился.
– Любляна! Любляна, конечная!
Петр Петрович приподнялся на цыпочки и тут только вспомнил, что у него нет фотографии баронессы Корф, есть только словесное описание: красивая блондинка за 30. Как сообщили ему из Петербурга в недопустимо легкомысленном стиле, «мимо, Петр Петрович, вы точно не пройдете».
«Ох столичные остряки!» – вздохнул про себя Оленин и завертел головой, высматривая ту самую блондинку.
Из вагона первого класса вышла брюнетка лет 30 с собачкой. На взгляд Петра Петровича, собачка была куда симпатичнее хозяйки. Впрочем, в данный момент брюнетки его вовсе не интересовали.
Из другого вагона показалась миловидная блондинка, и лет ей было как раз около 30. Петр Петрович двинулся было к ней, но в этот момент из вагона вышел муж блондинки, который нес на руках ребенка и о чем-то оживленно переговаривался со своей женой.
«Не то».
Из вагонов спускались военные, какие-то мужчины в цилиндрах, горничная со стертым невыразительным лицом и обширная старуха с тремя подбородками, плавно переходящими в бюст. Петр Петрович поглядел на нее и подумал, что старуха наверняка была когда-то молода и, может быть, даже нравилась кому-то. Однако сейчас не время было размышлять об этом, тем более что баронессы Амалии Корф не было видно.
Тут он завидел за спиной старухи даму в вуалетке с мушками, которая как раз готовилась спуститься на низкий перрон. Дама определенно была блондинкой – он видел завитки светлых волос, выглядывавшие из-под шляпки, – но было не похоже, что ей больше 30 лет. На всякий случай Петр Петрович приблизился, но тут из-за его спины выскочил высокий военный и галантно подал даме руку, помогая спуститься. Незнакомка поблагодарила его улыбкой и трепетом длинных ресниц.
– Merci, monsieur[198].
Военный учтиво поклонился, и, когда он повернулся, Петр Петрович признал его. Это был Милорад Войкевич, адъютант короля Стефана, и чутье подсказало Оленину, что адъютант никак не мог по случайному совпадению оказаться на этом перроне одновременно с ним, да еще подавать руку незнакомой даме.
Поспешно приблизившись, Петр Петрович чуть резче, чем ему хотелось бы, спросил:
– Баронесса Корф?
Незнакомка подняла вуалетку, и на Оленина поглядели загадочные карие глаза, в которых трепетали золотистые искорки.
– Именно так, сударь. А вы – Петр Петрович Оленин?
Чувствуя неловкость, он поклонился. Амалия перевела взгляд на статного черноволосого Войкевича, и Оленин понял: она тоже догадалась, что полковник прибыл сюда не просто так и руку подал ей не из обычной вежливости, а с некой задней мыслью.
– Петр Петрович, – на довольно чистом русском сказал Войкевич, – как вы вовремя! Надеюсь, вы представите меня вашей знакомой? – И он устремил на Амалию пылающие то ли притворным, то ли настоящим восхищением черные глаза.
Оленин понял, что его переиграли, и напустил на себя небрежный вид, словно все происходящее было в порядке вещей.
– Амалия Константиновна, это полковник Войкевич, адъютант его величества… Баронесса Амалия Корф.
– Счастлив познакомиться с вами, сударыня, – сказал полковник, кланяясь. И, хотя Амалия была в перчатках, взял ее руку и поцеловал чуть выше запястья[199].
– Какое совпадение, что вы оказались здесь, – продолжал Оленин. Происходящее невольно начало его забавлять.
– О, – не моргнув глазом отозвался Войкевич, – я просто встречал старого товарища. Он должен был приехать с этим поездом, но я что-то его не вижу.
Он стоял, высокий, очень худой, с тонкой талией и выбритым до синевы лицом, и победно улыбался краями губ, наслаждаясь каждым нюансом этой маленькой сценки. Бритье в армии ввел в моду Стефан, который никогда не мог похвастаться густой растительностью на лице и чисто брился в то время, когда еще при жизни отца состоял в полку. Черные глубоко посаженные глаза и черные волосы делали Войкевича похожим на турка, но кожа у него была светлая, почти не загоревшая на солнце. Его нельзя было назвать красавцем, но таково свойство военной формы, что она любого мужчину делает более видным, чем он есть на самом деле. Разговаривая с Олениным, полковник нет-нет да поглядывал на Амалию, которая, судя по всему, его очень занимала. «Интересно, что он знает о ее миссии?» – с беспокойством подумал Петр Петрович. Но, поглядев в лицо Войкевичу, понял, что тому уже все известно и он нарочно явился к поезду, чтобы встретить незваную гостью и доложить королю, что за особа эта Амалия Корф, которую к нему подсылают русские.
– Петр Петрович, – уронила Амалия, – мне нужен носильщик.
Она до сих пор не сказала адъютанту ничего, кроме слов благодарности на французском, и вообще никак не подала вида, что придает его присутствию хоть какое-то значение, и мысленно наблюдательный Петр Петрович отметил это. Однако Войкевич, казалось, этого не замечал.
– Позвольте я отнесу ваши вещи, государыня, – предложил он.
Амалию, должно быть, позабавило, что он спутал слово «сударыня» со словом «государыня», потому что она улыбнулась.
– Если вам так угодно, полковник…
– Уверен, Милораду не впервой это делать, – добродушно вставил Петр Петрович.
Войкевич быстро обернулся, его глаза угрожающе вспыхнули. Ни для кого при дворе не было секретом, что отец адъютанта был простым слугой, а дед – вообще пастухом. Нет сомнений, что Милорада ждала та же участь, однако отец Стефана, считавший, что у детей свои права, сквозь пальцы смотрел на то, как его сын с увлечением играет с сыном обычного слуги. Когда Стефан начал заниматься с учителями, выяснилось, что он слишком ленив. Чтобы его подстегнуть, Владислав велел учить вместе с ним и Милорада, тайком пообещав последнему награду за каждую хорошую оценку. Поначалу мальчику приходилось нелегко – он не знал даже грамоты, не то что начатков латыни, – но врожденное упорство, а может быть, и обещания Владислава сделали свое дело. Вскоре он уверенно склонял слово rosa[200], а через несколько лет уже прочитал Цезаря в оригинале и далеко обошел товарища своих детских игр по математике. У него был пытливый, любознательный ум, он много читал и хватался за любую книгу, которую мог достать. Мать Стефана, поначалу невзлюбившая сына лакея, вскоре признала, что он достоин большего, чем быть простым слугой, и, когда умерли его родители, взяла его в свою семью. Он был закадычным другом Стефана и сохранил свое положение даже тогда, когда тот из дальнего родственника опального монарха внезапно превратился в наследника престола Иллирийского королевства. Оба, и Стефан, и Милорад, по настоянию Владислава отправились служить в гвардии, а вскоре король присвоил Войкевичу чин капитана. По восшествии на престол Стефан произвел его в полковники и дал ему звание личного адъютанта. Такая благосклонность к сыну слуги шокировала местных аристократов, но после того, как адъютант на дуэли убил двоих молодых людей, которые посмели его задеть, все сочли за благо прикусить языки. Оскорблять этого человека было крайне опасно, однако Оленин, обладавший дипломатической неприкосновенностью, спокойно встретил взгляд разъяренного иллирийца. Войкевич был опасен, но коварный Петр Петрович вовсе не собирался отказывать себе в удовольствии лишний раз вывести ненавистного выскочку из себя. Полковника он терпеть не мог за то, что тот, хоть и участвовал во всех дворцовых интригах, никогда не делал ничего, что могло бы принести пользу России, а такой человек для резидента мог быть только врагом.
– Я думаю, нам все же лучше взять носильщика, – прозвенел спокойный голос Амалии.
Полковник пересилил себя и, обернувшись к ней, улыбнулся. По правде говоря, больше всего в это мгновение ему хотелось свернуть флегматичному коротенькому Петру Петровичу шею.
– Как вам угодно, государыня.
– У нас говорят сударыня, – не удержавшись, поправила его Амалия.
– О, это совсем не то! – засмеялся полковник. Но глаза его все еще горели гневом, который очень не понравился Амалии. Оглянувшись на цветущие вишни, она сказала первое, что пришло в голову:
– Вы не принесете мне ветку, полковник?
Войкевич тотчас же отправился выполнять поручение, а Оленин подозвал носильщика и велел ему перенести вещи дамы в экипаж.
– Петр Петрович, – шепнула ему Амалия, – что на вас нашло? Не надо злить этого человека, ни к чему.
– Если вы так считаете… – начал Оленин с некоторой досадой.
– Считайте, что это приказ, – оборвала она его. Петр Петрович хотел обратить все в шутку, но по виду Амалии понял, что она говорит совершенно серьезно, и насупился. Похоже, приезжая дама принимает свою миссию близко к сердцу, раз позволяет себе такой командный тон.
Вернулся Войкевич, неся с собой ветку так густо усаженную белыми раскрытыми цветами, что не видно было коры.
– Вы очень любезны, полковник, – сказала Амалия и, сняв перчатку, протянула ему руку. Однако Милорад, похоже, был не слишком силен в этикете, потому что на сей раз он руку просто пожал, после чего откланялся и, метнув на резидента испепеляющий взгляд, удалился.
– Иллирийские манеры, – проворчал Петр Петрович, от которого не укрылся промах Войкевича.
– Полно вам, господин Оленин, – отозвалась Амалия. – Давайте лучше сядем в экипаж и поговорим. Надеюсь, вы уже подыскали мне хорошее жилье?
Глава 4 Два совещания
Милорад Войкевич стремительно взлетел по лестнице, швырнул фуражку дворцовому лакею и без стука вошел в кабинет, где стояла светлая мебель изящных форм, и шкафы, набитые книгами.
Секретарь короля Тодор, изогнувшийся в почтительной позе возле стола, за которым сидел его величество, даже не удивился появлению адъютанта, который столь невежливым образом ворвался в монаршие апартаменты. Сам же Стефан, завидев полковника, просиял и быстрее, чем обычно, подмахнул последние бумаги.
– Можешь идти, – сказал король секретарю. Тот забрал бумаги, низко поклонился, пятясь, отступил к дверям и скрылся из виду.
– Ну что? – с нетерпением спросил Стефан. – Садись.
Полковник хмуро поглядел на него и, вместо того чтобы подчиниться, сделал круг по комнате, подойдя к окну.
– Честное слово, я когда-нибудь его повешу, – пожаловался он.
– Кого, Тодора? – удивился Стефан. Развалившись в кресле, он достал сигару и с наслаждением провел ею перед лицом, чтобы в полной мере ощутить запах дорогого табака. – Он же твой кузен, сколько я помню, и ты сам его мне присоветовал. Что он такого натворил?
Между королем и его адъютантом с детства установились самые доверительные отношения, и Стефан не считал нужным менять их ни тогда, когда сделался наследником престола, ни тогда, когда стал королем. Наедине с ним Милорад имел право говорить обо всем, о чем заблагорассудится, и не утруждать себя излишними церемониями. На людях, конечно, полковник вел себя гораздо сдержаннее, однако всем было отлично известно, что даже исповедник короля знает о нем меньше, чем приятель детства. Жена Стефана, надменная плоскогрудая немецкая принцесса, превыше всего на свете ставившая этикет, множество раз пыталась внушить своему супругу, что он должен вести себя с адъютантом построже, но король только посмеивался. Вообще, требовать чего-то от этого добродушного блеклого блондина именно смысл только в одном случае – если вы хотели, чтобы он поступил с точностью до наоборот.
– Я говорю не о Тодоре, – проворчал полковник, плюхнувшись на диван и вытянув свои длинные ноги. – Я об Оленине.
Король, который как раз в это мгновение раскуривал сигару, удивленно вскинул брови.
– Чем же он тебе не угодил? Пишет свои донесения – ну и пусть пишет.
– Он слишком полагается на свою неприкосновенность, – сквозь зубы ответил полковник. – И мне надоело, что он позволяет себе… – он дернул щекой и не закончил фразу.
Стефан только пожал плечами. Он отлично знал Оленина, и в глубине души его немного забавляло, как тот пытается обходиться с самолюбивым адъютантом.
– Полно тебе, Милорад… Выслать его из страны – так русские пришлют другого, и еще неизвестно, будет ли нам от этого лучше. Пока Оленин ничем себя не скомпрометировал, пусть остается. – Он подался вперед. – Ну что? Ты ее видел?
– Баронессу Корф? Видел.
– Рассказывай! – потребовал король. – Как она?
Милорад поглядел на него и улыбнулся.
– Я видел ее на перроне всего пару минут. О чем тут рассказывать?
От обиды король едва не выронил сигару и покраснел.
– Хорошенькое дело! Милорад, это никуда не годится! Должен же я знать, в конце концов, кого ко мне подсылают, чтобы отнять Дубровник. Насколько она опасна?
– Настолько, насколько может быть опасна любая красивая женщина, – беспечно ответил полковник.
– Так она красавица? – с удовлетворением заключил Стефан. – Тем лучше, хотя бы не потрачу время зря.
– Хорошо, что Лотта вас не слышит, – поддразнил его полковник.
– О да, Лотта и Шарлотта, – усмехнулся король. Шарлоттой звали его жену, которую он никогда не любил и с которой жил только по необходимости. – Ты мне так и не сказал: она брюнетка, блондинка?
– Блондинка, и у нее прехорошенькие ручки. И запястья тонкие-тонкие… Королевские запястья, словом.
– Дьявол! – простонал Стефан. – Ну почему я не мог сегодня отправиться на вокзал встречать… кузена Михаила, к примеру? Я теперь не усну, думая об этой баронессе. Где мне ее увидеть?
Войкевич нахмурился.
– Это плохая мысль, ваше величество, – промолвил он после паузы.
Если адъютант говорил «ваше величество», когда они беседовали наедине, Стефан понимал, что речь идет о вещах, важных для него как короля, и обыкновенно он прислушивался к словам Милорада.
– Ты прав, ни к чему мне искать с ней встречи, – усмехнулся монарх, разглядывая сизые клубы дыма, уплывающие к потолку. – Все равно она сама должна будет явиться ко мне, и тогда я решу, что мне делать.
– С Дубровником? – быстро спросил полковник.
– Нет-нет, с Дубровником все давно уже решено. Она ничего от меня не добьется.
– А я думаю, – медленно проговорил Милорад, – что она попытается.
И двое мужчин со значением посмотрели друг на друга.
– Хорошо, тогда я не буду ей мешать, – довольно-таки двусмысленно отозвался Стефан.
Адъютант не мог сдержать улыбки.
– Завтра ваш кузен принц Михаил устраивает бал. Думаю, она явится туда вместе с Олениным, и вы сможете рассмотреть ее… во всех подробностях.
– Да, подробности мне не помешают, – рассмеялся король и только тут спохватился, что он курит, а его товарищ нет. – Сигару? Бери, если хочешь.
– Я лучше папиросу.
– Пф! Папиросы – это… это… – Он сделал своей маленькой белой ручкой неопределенный жест, показывая, что папиросы по сравнению с благоуханными сигарами – ничто. – А впрочем, кури что хочешь, – добродушно заключил он.
Полковник достал папиросы, с наслаждением затянулся и откинулся на спинку дивана.
– Кстати, вы знаете, что говорят о лейтенанте Бекмане и фрейлине ее величества? – спросил он.
– А что говорят? – загорелся монарх. Едва ли не больше всего на свете он обожал сплетни, а его адъютант всегда был отлично осведомлен о том, что творилось при дворе.
Пока в королевском кабинете обсуждалось поведение фрейлины, которая, не обладая ни красотой, ни богатством, ухитрилась-таки скомпрометировать лейтенанта, да так, что ему, похоже, теперь придется на ней жениться, в гостиной российского резидента шла совершенно иная беседа.
– Я подумал, что вам не стоит жить в гостинице, – сказал Петр Петрович, – и поэтому снял для вас апартаменты недалеко от посольства. Прислуга будет наша, посольская, так что ни о чем не беспокойтесь.
Амалия, стоя у окна, рассеянно смотрела на два флага, развевающиеся над соседней площадью. На одном красовался устрашающего вида зеленый дракон, взгромоздившийся на башню, – это был флаг города Любляны. На другом был изображен золотой коронованный лев на синем фоне, он являлся государственным флагом Иллирии.
– А посольство далеко от королевского дворца? – спросила Амалия, оборачиваясь к Оленину.
– Не очень. Мы сейчас в Старом городе, – объяснил резидент, – а дворец стоит на холме, который возвышается над Любляной.
– А собор, мимо которого мы проезжали…
– Кафедральный собор Святого Николая. Строили итальянцы в барочном стиле.
– Должна признаться, мне больше нравится готика, – заметила Амалия. Петр Петрович покосился на нее с любопытством: с его точки зрения, такая дама скорее должна была любить какое-нибудь легкомысленное рококо, чем стихийный, трагический готический стиль.
– В городе есть готическая часовня, но она относится к королевской резиденции. Впрочем, если вы захотите там побывать, думаю, это можно будет устроить. – Петр Петрович улыбнулся. – Все местные достопримечательности легко можно обойти за один день. Несколько церквей, но ни одной первоклассной, ратуша, фонтан Трех рек, дворец князя Михаила, наследника престола… Вообще, в Любляне дворцов хватает, хотя, с моей точки зрения, большинство из них всего лишь большие особняки. – Говоря, Петр Петрович достал из кармана ключ, отомкнул верхний ящик стола и вытащил из него большой конверт, украшенный печатью со львом. – Завтра мы с вами приглашены к наследнику на званый вечер. Король также будет, – добавил он.
– А мадемуазель Рейнлейн?
– Разумеется.
Амалия отошла от окна и опустилась в кресло, к великой досаде оленинского кота, который облюбовал это место. Васька только что проскользнул в дверь, сделал круг по комнате, чисто по-кошачьи делая вид, что совершенно не замечает гостью, после чего бесцеремонно взобрался к ней на колени. По правде говоря, кот был не прочь выпустить коготки – так, слегка, чтобы показать, кто в доме хозяин, – но, поглядев в золотистые глаза Амалии, почему-то отказался от этого намерения и сделал вид, что дремлет.
– У нас есть что-нибудь на эту особу? – спросила баронесса Корф, хмурясь.
Петр Петрович вздохнул и развел руками.
– Кроме сведений о ее прошлых любовниках, ничего. Но король не тот человек, который станет обращать внимание на чье-то прошлое.
– Понятно, – уронила Амалия. – Петр Петрович, только откровенно. Вы считаете, у меня есть шансы добиться того, что нам нужно?
Петр Петрович задумчиво поглядел на баронессу и хотел было завести речь, полную обиняков и тонких намеков, куда рассчитывал подпустить также пару шуток и, пожалуй, шпильку в адрес российского правительства. Но тут он, как и его кот, увидел выражение глаз Амалии и понял, что нет смысла ходить вокруг да около.
– Боюсь, Амалия Константиновна, что нет.
– Противостоящие нам силы настолько непреодолимы? – спросила Амалия, гладя кота.
– Это Балканы, Амалия Константиновна, – улыбнулся резидент. – Вы ведь раньше работали в Западной Европе, не так ли? Ну так на Балканах вам придется забыть все, что вы знаете. И дело даже не в том, что этот регион – настоящая пороховая бочка. Здесь все крайне… э… запутано. С виду в Иллирии, конечно, Европа, монархия, связанная со многими царствующими домами, парламент и сенат. Казалось бы, живи, царствуй и радуйся. На самом деле страну населяет нищий и, как следствие, озлобленный народ, от которого можно ждать чего угодно. Отсталость, опять же – во многих районах докторов до сих пор считают кем-то вроде приспешников сатаны и предпочитают обходиться услугами знахарей, из-за чего, само собой, мрут как мухи. В столице и на побережье дело обстоит чуть получше, но уверяю вас, мне известны аристократы весьма высокого рода, которые искренне верят, что мыться вредно. При этом все как один хором утверждают, что они европейцы, сторонники цивилизации и вообще без них не обходился ни один чих мировой истории. К тому же они всерьез полагают себя интеллектуальной нацией, и попробуйте только сказать им, что вы считаете Бреговича – которого, кстати сказать, они и не читают – посредственным поэтом. О, в этом случае вы на всю жизнь сделаетесь их врагом! А еще, – будничным тоном продолжал Петр Петрович, – в стране нет единства. Колоссальная внутренняя разобщенность, каждая деревня непременно терпеть не может соседнюю. То же самое и между людьми, и я вам скажу, что нет ничего легче, чем кого-то с кем-то тут поссорить. Прибавьте к этому вечную славянскую привычку путать государственные деньги со своими. Неудивительно, что до сих пор здесь так мало железных дорог, а обычные не ремонтируются годами.
– Совсем как в России, – заметила Амалия, внимательно слушавшая своего собеседника.
– Не буду с вами спорить, – улыбнулся Петр Петрович. – Теперь посмотрим, Амалия Константиновна, что у нас получается. Вы приехали сюда, чтобы заключить договор по поводу Дубровника. На что или на кого мы можем рассчитывать, чтобы добиться своего? Есть генерал Иванович, который несколько лет служил в России, женат на русской и готов защищать наши интересы. – Петр Петрович поморщился. – В Петербурге генерала считают нашим другом, а лично я полагаю, что лучше бы он был нашим врагом. Нет ничего хуже, чем вот такие прямолинейные военные, везде привыкшие идти напролом. Вокруг Ивановича группируются люди, которые идут за ним либо из симпатии, либо потому, что мы щедро платим за оказанные услуги. – Резидент не мог удержаться от вздоха, вспомнив, сколько денег ему в свое время пришлось уплатить всем этим «друзьям». – Однако среди них нет ни одного министра, ни одного сколько-нибудь важного сановника. Стало быть, при обсуждении вопроса о Дубровнике только Иванович будет за нас, а все остальные – против. Остальные – это сенатор Верчелли, старый брюзга, затем наследник престола Михаил, который держит сторону немцев, и вся австрийская клика вместе с резидентом Кислингом, которая группируется вокруг генерала Ракитича. Ни для кого не секрет, что они – обыкновенные предатели, которые желают только одного, чтобы Иллирия стала полностью зависимой от Австро-Венгрии, а еще лучше, чтобы вообще потеряла независимость и вошла в состав империи. Не забудьте также республиканцев, которые группируются вокруг депутата Старевича – эти вообще нас терпеть не могут и, едва заслышав о Дубровнике, поднимут крик, что страну оккупируют. Ну и, наконец, Лотта Рейнлейн. Мне доподлинно известно, что ей шлют деньги из Вены, и пока она оказывает влияние на короля, нечего и думать о том, чтобы подписать соглашение по поводу Дубровника. Скорее уж там будут стоять австрийские корабли, и если этого до сих пор не произошло, то только потому, что король Стефан все-таки не безумец и отлично понимает последствия такого шага.
Амалия задумалась.
– Хотите совет? – спросил Петр Петрович, пристально наблюдавший за ней.
– Разумеется.
– Как человек, который уже десять лет находится в Любляне, скажу вам откровенно: нет никакой надежды перетянуть всех этих людей на свою сторону или хотя бы нейтрализовать их. А поддержка генерала Ивановича такова, что лучше бы ее не было. На вашем месте, Амалия Константиновна, я бы постарался добиться нейтралитета Дубровника и остальных иллирийских портов. Чтобы там не было ни нашей, ни австрийской военно-морской базы, ни итальянской, о которой мечтает граф Верчелли.
Амалия улыбнулась.
– Скажите, Петр Петрович… А о чем мечтает полковник Войкевич?
По правде говоря, Оленин ждал этого вопроса и оттого кивнул с удовлетворением.
– Войкевич – сын лакея, о чем нередко склонен забывать. С самого детства он неотлучно находится при короле, и тот доверяет ему как никому другому. Конечно, его поддержка была бы весьма ценной для нас, но… – Резидент раздраженно повел плечами. – Я не вижу никакого способа добиться этого. Влиять через женщину на него бесполезно – хоть он и готов влюбиться в первую встречную, но с удивительной ловкостью отделяет любовь от серьезных дел. Деньги он берет со всех, с кого только можно, но у него скверная манера никогда не делать того, что обещал, или делать минимум. Кроме того, он не слишком умен и сам признается, что его ничего не интересует, кроме того, чтобы на нем мундир хорошо сидел.
– Чью сторону он держит? – спросила Амалия.
Оленин улыбнулся.
– Как ни странно, он держит сторону короля. Конечно, полковника обхаживали и австрийцы, и итальянцы, и даже представители сербского короля, которых здесь не слишком жалуют. Но этот тип скользкий, как угорь. Он всем улыбается, со всеми сердечен и со всех, как я уже говорил, берет мзду. Ходят слухи, что он даже делится с королем взятками, которые получает со всех сторон, за что король смотрит сквозь пальцы на то, что предпринимает Войкевич. Недавно, к примеру, полковник сумел протолкнуть проект новой железной дороги, которую будут строить англичане, и благодаря этому купил себе целый дворец. А ведь наши предлагали построить железную дорогу гораздо дешевле…
Амалия вздохнула и машинально погладила кота. Тот, казалось, спал, но приоткрыл глаза и поудобнее свернулся на коленях у молодой женщины.
– Словом, все против нас, – задумчиво проговорила Амалия. – Что ж, трудности на то и существуют, чтобы их преодолевать.
С точки зрения Петра Петровича, эта фраза в данных обстоятельствах не имела ровным счетом никакого смысла, но он умел быть снисходительным к дамам и потому счел за благо оставить свое мнение при себе.
– А теперь, – сказала его собеседница, – расскажите мне все, что вам известно о Лотте Рейнлейн.
Глава 5 Бал во дворце наследника
– Значит, ее зовут Амалия Корф? – спросила балерина.
Генерал Ракитич утвердительно кивнул. Лотта откинулась на спинку кресла, задумчиво глядя в трехстворчатое зеркало над гримировальным столиком. В зеркале отражалась молодая, стройная темноволосая женщина с большими серыми глазами. Недруги Лотты Рейнлейн (а таких было более чем достаточно) обыкновенно говорили, что она не красавица, что у нее слишком тонкие губы и костлявые плечи (выпирающие кости в ту эпоху считались чем-то вроде смертного греха). На фотографиях Лотта и впрямь не впечатляла особой статью, но в жизни у нее была восхитительная осанка, лебединая шея и изящные руки, а выразительные глаза с длинными черными ресницами околдовывали и сбивали с толку. В прошлом году она приехала в Любляну на гастроли, танцевать в местном театре. На представлении ее увидел король Стефан и сразу же влюбился. Следствием его влюбленности стало, во-первых, то, что театр вскоре обновили и украсили впечатляющим количеством позолоты, а во-вторых, то, что Лотта Рейнлейн стала почти официальной фавориткой царствующего монарха. Поначалу придворные считали, что увлечения Стефана хватит, как это уже не раз случалось раньше, всего на пару месяцев, но время шло, а Лотта только все глубже вонзала свои коготки в королевское сердце. Она была пикантная, в меру остроумная, незлобивая и обожала то, что любят женщины и дети – игрушки и все блестящее. Речь ее напоминала щебет маленькой птички, и в жизни она предпочитала окружать себя птицами в клетках, цветами, бриллиантами, духами и крошечными собачками. При этом те, кто хорошо знал ее по сцене, утверждали, что она, несмотря на всю избалованность, редкая труженица.
– Баронесса! – протянула Лотта и задумалась, облокотившись на красивую белую руку.
Смуглый, тощий, носатый Ракитич, в пику королевской моде носивший громадные усы, кашлянул.
– Милорад сказал, что она очень, очень хороша собой, – заметил генерал. – Так что… берегитесь, мадемуазель!
– Ей уже 36 лет, – отмахнулась Лотта с той беспечностью, с какой можно рассуждать, только если тебе еще нет 25. – Чего мне бояться?
– Она интриганка, – шепнул Ракитич, зловеще шевельнув усами. – И авантюристка. Кислинг говорит, она проворачивала такие дела, которые ему даже и не снились. Думаю, нам стоит ее опасаться.
– Это мы еще посмотрим! – объявила Лотта и легким, типично балетным движением поднялась с места.
Сегодня у нее была только одна небольшая репетиция, на которой настояла она сама. А вечером…
Вечером, разумеется, она даст бой этой неведомой баронессе Корф, которая попытается – Лотта была совершенно в этом уверена – увести у нее ненаглядного короля.
– Смотрите, мадемуазель, я вас предупредил! – крикнул Ракитич ей вслед.
Можно быть уверенным, что ни одна женщина не выбирала в тот день бальное платье придирчивее, чем Лотта Рейнлейн, которой предстояло встретиться лицом к лицу со своей соперницей. Наряд кремового цвета, украшенный оборками и богатой вышивкой, был восхитителен. Шелковые воланы, где надо, прикрывали выпирающие ключицы, однако выгодно обрисовывали красивые руки, украшенные тяжелыми сверкающими браслетами. С собой на бал Лотта захватила любимую собачку по кличке Талисман – она верила, что этот зверек и впрямь приносит ей удачу.
Так как согласно этикету балерина не могла приезжать в сопровождении короля, она, как обычно, явилась в обществе Ракитича, которого язвительный Верчелли за глаза прозвал «собачьим генералом». Именно Ракитичу обычно приходилось носить на руках любимую собачку королевской фаворитки.
Вечер начался в восемь, балерина приехала на час позже, однако ее сразу же ждало разочарование. Верзила Кислинг, уныло потягивавший в углу шампанское, сразу же сообщил ей, что баронесса Корф пока не показывалась.
– А его величество? – спросила балерина, отчего-то забеспокоившись.
Резидент ответил ей, что король Стефан уже приехал и что непредсказуемый Войкевич успел учинить скандал, о котором завтра наверняка будет судачить вся Любляна.
Дело в том, что на вечер к князю Михаилу была приглашена делегация из Германии, сопровождать которую должны были люди Войкевича. Если Стефан был согласен терпеть своего двоюродного брата, то вечные восхваления немцев уже действовали королю на нервы. Кроме того, хоть делегация и была негосударственной, немцы сначала нанесли визит наследнику и только потом – королю, что Стефан счел нешуточным для себя оскорблением.
– Неужели Милорад вызвал их на дуэль? – рассеянно спросила Лотта.
Оказалось, что полковник организовал месть гораздо тоньше. Итак, в начале вечера заиграла торжественная музыка, и в зал вошли немцы. Все высокие, плечистые, крепкие как на подбор. Но коварный Войкевич распорядился отобрать из своего полка самых рослых солдат. И, когда приглашенные вошли в зал, все увидели маленьких, хлипких немцев, над которыми возвышались здоровенные хорваты, словенцы и сербы, сопровождавшие делегацию.
– Лилипуты наносят визит, – сострил известный своим желчным характером граф Верчелли, и шутка мгновенно облетела зал. Князь Михаил был в ярости, но формально ему было не в чем обвинить строптивого полковника. Михаил просил почетное сопровождение для гостей, и Войкевич с согласия его величества такое сопровождение предоставил. Что тут особенного, в самом деле?
Сразу же развеселившись, балерина подошла к полковнику и протянула ему руку для поцелуя. По правде говоря, обычно она не слишком жаловала адъютанта – как и большинство женщин, которые подсознательно терпеть не могут друзей своих благоверных.
– Вы, оказывается, коварный человек, Милорад! – сказала она Войкевичу, смеясь и играя веером.
– Не понимаю, о чем вы, мадемуазель, – отвечал полковник, напустив на себя скромный вид. – Я просто исполняю свой долг!
Черноволосый, с ослепительной улыбкой, в белом парадном мундире с золотыми аксельбантами, он прямо-таки излучал обаяние, и Лотта на мгновение взглянула на него другими глазами.
Ах, если бы не король! Если бы не этот слюнтяй!
«Интересно, – подумала балерина, – Милорад действительно скоро женится на богатой или?..»
Но тут очень кстати подошел Стефан и, изо всех сил стараясь сохранять серьезность, поблагодарил адъютанта за то, что тот блестяще справился с его поручением и предоставил немцам такой внушительный эскорт.
– Для меня честь – служить вашему величеству, – объявил полковник, кланяясь, и тут земля ушла у Лотты из-под ног.
Причиной этого было вовсе не землетрясение, как могут подумать мои практичные читатели, а появление в зале нового лица. Лицо это было женского пола и невероятного очарования. Вокруг вновь прибывшей колыхалось облако шелка кораллового цвета, отделанное блестящими стразами, которые складывались в очертания бабочек и цветов орхидеи. Слева от незнакомки, приглядевшись, можно было заметить Петра Петровича Оленина, но я ручаюсь моей честью сочинителя, что ни один человек в зале в то мгновение не обратил на него внимания – слишком уж эффектна и ослепительна была его спутница.
Завидев вновь прибывшую, здоровенный генерал Иванович приосанился и расправил плечи еще шире, хоть это казалось делом почти невозможным. Австрийский резидент Кислинг побледнел, а князь Михаил, напротив, покраснел. Генерал Ракитич так таращился на гостью, что чуть не уронил вверенную ему собачку. Нос королевы Шарлотты, которая стояла в углу, сделался еще длиннее, а платье стало выглядеть еще безвкуснее. Республиканский депутат Старевич поперхнулся длинной речью о выгодах демократии, которой он пытался уморить графа Верчелли, и все мысли о свободе, равенстве и братстве благополучно вылетели у него из головы. Что же касается язвительного старого графа, то впервые за последние годы ему совершенно не хотелось шутить.
– Однако! – молвил Войкевич, пристально глядя на Амалию, и более не сказал ничего.
Король Стефан испытывал смешанные чувства. Политика приучила его к осторожности, и, едва прошел первый всплеск восторга, он сразу же вспомнил, кем Амалия является и для чего она прибыла сюда. А она, словно нарочно желая его подразнить, в сопровождении Оленина прежде всего подошла к хозяину дворца. Петр Петрович представил их друг другу и объявил, что Амалия всегда мечтала побывать в Любляне и рада, что ей представилась такая возможность.
– Я о-очень рад нашему знакомству, сударыня, – сказал по-французски князь Михаил, учтиво кланяясь, и Амалия отметила, что наследник престола немного заикается. Князь был высокий, но тщедушный и весь какой-то хлипкий. Линия рта красивая, но немного безвольная, нос птичий, маленькая головка возвышается над узкими плечами. И глаза тоже маленькие. Часто мигая, они по-птичьи тревожно глядели на Амалию. Чтобы успокоить князя, она сказала несколько любезных слов и расспросила его об архитекторе дворца и о том, кто занимался росписью залов. Петр Петрович, стоявший возле Амалии, вел себя так, словно его тут вообще не было, но острым взором приметил небольшую группу женщин напротив, которые все как одна недружелюбно косились на его спутницу и, прикрываясь веерами, злословили вовсю. Также он не без удовольствия отметил растерянный вид Лотты Рейнлейн и то, как полинял, потускнел ее наряд, теперь казавшийся лишь скучной кремовой тряпкой. «Ай да баронесса… И как король на нее смотрит! Неужели она добьется того, что Дубровник будет наш?»
– Кузен, кузен, – шутливо сказал Стефан, подходя к ним, – это непростительно! Ты захватил самую лучшую гостью… а нам остается только смотреть и завидовать!
Михаил смешался еще сильнее и представил Амалии короля, из-за плеча которого выглядывал улыбающийся полковник. Стефан поцеловал ручку гостьи, после чего не сразу отпустил ее, и произнес витиеватый светский комплимент.
А Амалия, улыбаясь, слушала его и думала, до чего же ей скверно. В душе ее словно сидела маленькая черная кошечка и неутомимо скребла, скребла когтями. Все это было нелепо – и толпа приглашенных, которые силились выглядеть по-европейски, но только подчеркивали свою провинциальность, и несчастные глаза Лотты, которую она узнала по фотографии на открытке, и обилие позолоты в окружающей обстановке, при том что потолок вокруг люстры потемнел и пошел трещинами, а лакеи ходили в несвежих сорочках. Но хуже всего было платье – коралловая мечта от кудесника Жака Дусе, которое она заказала, намереваясь поехать этим летом куда-нибудь вместе со своим любовником, и которое теперь каждой складкой, при каждом движении напоминало о ее личной неудаче. И от этих потаенных мыслей глаза ее темнели, рука сжимала веер все сильнее, пока не произошла маленькая катастрофа – пластина переломилась, и веер упал на пол.
Амалия опомнилась и поглядела на веер так, словно видела его впервые в жизни. Король был немного раздосадован – он не ожидал от Амалии такой нарочитой, театральной выходки, к тому же в каких-то двух десятках шагов от них стояла его супруга. Выручил его, как всегда, Войкевич, который наклонился, подобрал веер и с улыбкой вернул его хозяйке. Она поблагодарила его кивком головы.
– Я надеюсь, вам понравится в Любляне и мы еще долго будем иметь удовольствие видеть вас, – сказал король Амалии.
– О, ваше величество может не сомневаться в этом! – последовал ответ.
Глава 6 Платье с бриллиантами
А вечер меж тем продолжался. Платье имело успех, и Амалия имела успех, она танцевала с Петром Петровичем, который начал находить свои обязанности чертовски приятными, а потом с хозяином дворца, с генералом Ивановичем, который двигался, как медведь, и едва не отдавил ей ноги, и еще с одним генералом по фамилии Новакович, который наговорил ей столько пошлых комплиментов, что другой женщине хватило бы на целый месяц. От Новаковича ее спас полковник Войкевич, с которым она танцевала целых три раза, а потом ее пригласил сам король Стефан. И его величество пожимал ей руку чертовски значительно, как отметили про себя разом помрачневшие Кислинг и Ракитич.
– В ней есть что-то павлинье, – сказала королева Шарлотта и неодобрительно поджала губы.
– Вы правы, ваше величество, – поддакнула ее невзрачная фрейлина, та самая, которая окрутила красавца-лейтенанта, – ворона в павлиньих перьях!
Но даже граф Верчелли не согласился с таким определением, заявив, что было бы воистину благословением небес, если бы все враги королевства походили на баронессу Корф. К нему подошел озабоченный депутат Старевич.
– Знаете, дорогой граф, – начал он по-итальянски, потому что славянские языки старый реакционер упорно не признавал, – я полагаю, что, несмотря на разницу в наших взглядах, у нас есть и точки соприкосновения. – Он покосился на короля, который был увлечен разговором с баронессой, и добавил: – Я имею в виду Дубровник.
– Вы имеете в виду, Рагузу? – прищурился Верчелли, который терпеть не мог новых названий бывших итальянских городов.
У Старевича так и вертелся на языке резкий ответ, но депутат сумел сдержаться.
– По моим сведениям, эта особа…
– По моим тоже, – ответил желчный граф, не любивший тратить лишних слов.
– А что, если она сумеет…
Старевич оглянулся на ослепительную Амалию и проглотил конец фразы.
– Не сумеет, – ответил Верчелли хладнокровно. – Ей неизвестен характер его величества. Как бы она ни одевалась – или раздевалась, – она ничего не добьется.
– Мне, однако, представляется, – несмело начал депутат, – что его величество весьма подвержен чуждым влияниям… особенно со стороны таких очаровательных особ, как эта.
– Гм! – сказал на это Верчелли. – Боюсь, сударь, у вас превратное понятие о характере его величества.
После чего он преспокойно повернулся к опостылевшему республиканцу спиной и заговорил с Кислингом о погоде.
Бедная маленькая балерина вся кипела от обиды. Но, по опыту зная, что битва за мужчину редко проигрывается в одно сражение, она решила запастись терпением, а для начала – быть со Стефаном в два раза более ласковой, чем прежде.
Весь вечер она искусно лавировала, чтобы не пересечься с соперницей, однако женщины все же столкнулись в дверях, покидая бал.
– Надо же, какое миленькое у вас платье, – не удержалась Лотта. Тон ее притворно кричал: миленькое-то миленькое, но не более того. – А эти блестящие бусинки…
Никто не знает, что именно нашло на Амалию в то мгновение, но она невозмутимо ответила:
– Это бриллианты, мадемуазель, – и тем самым сразила королевскую фаворитку наповал.
Ракитич помог балерине сесть в экипаж и забрался внутрь вместе с собачкой. Талисман блаженно спал. На балу ему удалось несколько раз лизнуть мороженого, и он чувствовал себя на седьмом небе от счастья.
– Как вы думаете, – спросила Лотта внезапно, – это действительно бриллианты?
Ракитич растерялся.
– У баронессы на платье! – пояснила балерина, сердясь на то, что мужчины такие тугодумы.
– Откуда мне знать, мадемуазель? – пробормотал генерал. – Но у этих русских прорва денег, так что я бы не удивился.
Лотта, выслушав его, замкнулась в гордом молчании. Приехав домой, она долго ходила из угла в угол, а ночью не сомкнула глаз.
Что же до Амалии, то, как с ней обыкновенно случалось после больших балов, она сразу же заснула и пробудилась ближе к полудню, когда уже вовсю сияло солнце.
Она долго лежала в постели, перебирая воспоминания о вчерашнем вечере, и хмурилась. Наваждение не отступало, работа не приносила облегчения. Стоило ей подумать о своем любовнике и о том, что он, вполне возможно, счастлив с другой, и ее охватывало холодное бешенство. А еще это платье, которое она заказывала, чтобы понравиться ему…
«Да перестану ли я когда-нибудь каждое мгновение вспоминать о нем? – уже с досадой сказала она себе, отворачиваясь от солнечного света, бившего в окна. – Конечно, я никогда не верила в то, что время лечит – оно просто наносит новые раны, боль которых перекрывают старую. И вообще…»
Ее мысли прервал осторожный стук в дверь. Вошла Зина, миловидная веснушчатая девушка из посольства, которую Оленин определил баронессе в горничные.
– Слуга господина полковника Войкевича доставил, – объяснила Зина, протягивая на подносе какой-то узкий длинный сверток.
Обрадовавшись возможности отвлечься, Амалия взяла сверток и сняла бумагу. Внутри оказался футляр для веера, а в футляре – сам веер, восхитительная старинная работа с фигурной резьбой, перламутром, ручной росписью и позолотой. В прилагаемой записке полковник выражал надежду, что веер, некогда принадлежавший госпоже Помпадур, окажется достойной заменой своему раненому товарищу, который он поднял вчера на балу. Амалия улыбнулась.
«Господин полковник, до чего же вы проницательны… Госпожа Помпадур! Однако умеете вы делать намеки, милостивый государь…»
И, отпустив Зину, она задумалась, хочется ли ей действительно стать, пусть и на короткое время, королевской фавориткой или лучше попытаться добиться своего как-то иначе.
У Амалии было много увлечений, но до сих пор складывалось так, что она ни разу не шла наперекор своему сердцу. Бывало, она совершала ошибки, но она всегда влюблялась вполне искренне. В отличие от очень многих она никогда не жила с мужчиной ради денег или положения в обществе, и даже работа в особой службе не смогла заставить ее изменить своим убеждениям. Вот и сейчас она представила себе глуповатое добродушное лицо короля Стефана, его курносый нос, блеклые волосы – и состроила легкую гримасу разочарования.
Конечно, приятно, если у твоих ног оказывается монарх какого-никакого, но все же королевства. Но удовольствие это длится от силы минуту, а потом что?
К тому же у Амалии не было никаких оснований верить, что она добьется подписания соглашения о Дубровнике, если сумеет очаровать короля. Ведь Лотта Рейнлейн наверняка пыталась выхлопотать то же самое, но для австрийцев. Однако у нее до сих пор ничего не вышло.
Словом, все было туманно, и на мгновение Амалию охватил соблазн послушаться Петра Петровича, махнуть рукой на Дубровник и попытаться добиться лишь нейтралитета страны. Однако военный министр недвусмысленно дал ей понять, что на нейтралитет иллирийцев с таким колеблющимся монархом они положиться не могут. Значит, надо было каким-то образом добиться своего – и, хотя Амалия не привыкла отступать, она могла признаться самой себе, что пока не видит ни единого способа устроить в Дубровнике на законных основаниях российскую военно-морскую базу.
Вздыхая, Амалия встала с постели, привела себя в порядок и надела светлое домашнее платье, после чего велела подавать завтрак. Едва она села за стол, слуга доложил о приходе Петра Петровича.
– Очень хорошо, проси.
Оленин явился, галантно поклонился и взглядом скользнул по сосредоточенному профилю Амалии, по тонкой руке, которой она поправляла стоявшую в вазе на столе ветку вишни. Но тут баронесса повернула голову, увидела гостя и с улыбкой поднялась ему навстречу.
– Я завтракаю, надеюсь, вы не в претензии? Присаживайтесь, прошу вас…
Петр Петрович объявил, что завтрак – это святое, присел и стал рассказывать, что ему удалось узнать сегодня. Город судачит о вчерашней выходке Войкевича, натянувшего нос немцам, а еще говорят, что на балу у наследника была русская дама, которая произвела на его величество весьма сильное впечатление. Балерина Рейнлейн будто бы кусает от досады локти, рассчитала свою портниху и послала в Париж нарочного с мерками, требуя, чтобы ей как можно скорее изготовили платье, расшитое бриллиантами, да еще лучше, чем у баронессы Корф.
– Бриллиантами? – поразилась Амалия. – Но… Она что, приняла мои слова всерьез?
– Не знаю, что вы ей сказали, госпожа баронесса, – отвечал Оленин, – но Лотта – барышня очень самолюбивая, она не может допустить, чтобы кто-то был одет лучше, чем она.
– Ах вот как! – протянула Амалия.
И многоопытный Петр Петрович невольно насторожился. Интонацию своей собеседницы он не понимал, но было такое впечатление, что она узнала что-то очень важное для себя, а может быть, и для общего дела.
– Вот что, Петр Петрович, – сказала Амалия немного погодя. – Мне нужно точно знать, каково финансовое положение короля и сколько он тратит… ну, скажем так, на капризы своей фаворитки.
Оленин, несколько удивленный, обрисовал положение и сказал, что Стефан – человек щедрый и что для Лотты он не жалеет ничего.
– А налогов в этом году рассчитывают собрать больше или меньше? – спросила Амалия.
Резидент, про себя все более и более удивляясь обороту, который принимал разговор, объяснил, что налоги по сравнению с прошлым годом увеличили, но что денег почему-то стало меньше. Ну, тут и славянская манера путать государственные доходы со своими, вы же понимаете…
Амалия кивнула, словно сложившееся положение вполне ее устраивало, и задала следующий странный вопрос.
– Петр Петрович, как по-вашему, король не собирается в ближайшее время бросать Лотту Рейнлейн?
Тут Оленин заерзал на стуле и после небольшой паузы признался, что это вряд ли возможно, разве что Лотта каким-то образом свернет себе шею, танцуя фуэте, или произойдет еще что-нибудь столь же непредвиденное.
– Нет, меня как раз устраивает, что Лотта остается фавориткой короля Стефана, – отмахнулась Амалия. Оленин вытаращил глаза. – Все дело в том, что мне понадобится кое-что.
Она позвала горничную, велела ей принести чернильный прибор и на небольшом надушенном листке написала, что именно ей нужно.
Прочитав листок, Петр Петрович изменился в лице.
– Но это… – начал он.
– Мне было сказано: Дубровник – любой ценой, – сухо сказала Амалия, вновь принимаясь за завтрак. – Впрочем, вы всегда можете запросить у военного министра его мнение по этому поводу. Все дело в том, нужна нам база в здешних водах или нет.
Тут Оленин окончательно перестал понимать что бы то ни было.
– А дешевле не получится? – осторожно спросил он. – Неужели вы всерьез собираетесь… гм… предложить Лотте такие колоссальные деньги, чтобы она покинула короля?
– Нет, – хладнокровно ответила Амалия, – эти деньги я собираюсь истратить сама.
Петр Петрович издал какой-то неопределенный звук.
– Ради Дубровника, – уточнила Амалия.
– На подкуп наших врагов? – мрачно спросил Оленин. Он не был жадным, но тяжело переживал, когда деньги Российской империи уходили неизвестно кому. – Вы хотите, чтобы они надавили на короля и заставили его подписать соглашение? Тогда действительно малой суммой не обойтись. Взять хотя бы графа Верчелли, он настоящий миллионер, хоть и любит, как все итальянцы, жаловаться на бедность…
– Граф Верчелли не получит от меня ни гроша, – твердо отозвалась его собеседница.
– А генерал Ракитич? Просто так он своих друзей-австрийцев не продаст, учтите это!
Амалия поглядела на Оленина, подумала, что объяснять ему свой план слишком скучно, потому что такой основательный человек наверняка выдвинет тысячу доводов против. По правде говоря, Амалия была не вполне уверена, что ей удастся добиться своего, да и вся схема сложилась в ее голове лишь несколько минут назад, но попытаться осуществить план стоило – хотя бы потому, что никакого другого не было и не предвиделось.
В конце концов, пусть резидент думает что угодно, главное, чтобы он ей не мешал.
– Вам известно, что именно мне нужно. Отправляйте срочную депешу в Петербург, я жду их ответа. Без денег и без банкира, который будет в точности выполнять мои указания, я ничего не сумею добиться.
Стоило посылать из столицы хваленого особого агента, печально помыслил Петр Петрович, чтобы она занялась банальнейшим подкупом всех и вся. С такой задачей он и сам прекрасно мог бы справиться.
– Я надеюсь, госпожа баронесса, вы отдаете себе отчет в том, что делаете, – довольно сухо промолвил резидент, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. – Потому что в случае провала мы потеряем и Дубровник, и деньги… причем деньги, прошу заметить, вовсе не маленькие.
– Умоляю вас, Петр Петрович, ведь еще ничего не произошло, – ответила Амалия, улыбаясь каким-то своим затаенным мыслям. – Кстати, подыщите мне хорошего повара. Тот, которого вы прислали, то недожаривает, то пережаривает… Я же не могу пригласить к себе князя Михаила, если у меня будет такой скверный стол!
– Князя Михаила? – поразился Оленин.
– Ну да. Я ведь побывала у него в гостях, и ничто не мешает ему нанести мне ответный визит. Конечно, не в эту тесную квартирку, – задумчиво добавила Амалия. Петр Петрович открыл было рот, чтобы напомнить, что в тесной квартирке было семь прекрасно обставленных комнат, но по виду своей собеседницы понял, что лучше с ней не спорить. – Мне нужно нечто совершенно другое. Вопрос только в том, что? – Она повела плечами и ослепительно улыбнулась опешившему резиденту. – Но вы не волнуйтесь, Петр Петрович. Сегодня же я начну искать для себя новый дом!
Глава 7 Аукцион
– Все-таки в этой баронессе что-то есть, – изрек король Стефан.
– Определенно, – подтвердил Войкевич.
– Хотя я удивляюсь – неужели они не могли послать сюда кого-нибудь помоложе. – Король поджал губы и стал похож на большого капризного мальчика. – Да и карие глаза мне не слишком нравятся. У красивой женщины глаза должны быть светлые. – И он невольно покосился на фотокарточку Лотты, которая стояла у него на столе.
– Значит, вам будет легко ее отбрить, – объявил полковник, улыбаясь.
– К чему торопиться? – безмятежно возразил Стефан. – Конечно, меня будут долго осаждать, но последнее слово все равно останется за мной. Хотя удивительно, что русские, вроде бы такие умные люди и не смогли придумать ничего нового. Действовать через женщину! – Он королевски вздернул плечи. – Это же старо как мир! Неужели они всерьез полагают, что я попадусь на эту удочку?
– Очевидно, они исчерпали все доводы, – предположил Войкевич, и тут послышался робкий стук в дверь.
– Войдите! – крикнул Стефан.
На пороге возник Тодор и, часто-часто мигая, доложил, что ее величество просила передать его величеству письмо. Король нахмурился.
– Что там еще? – проворчал он, разрывая конверт.
Прочитав, он нахмурился еще больше.
– Она просит у меня деньги на организацию благотворительного вечера, – пояснил Стефан безмолвствовавшему адъютанту. – Можешь идти, Тодор.
– Ее величество просила подождать ответа, – еле слышно пробормотал секретарь, косясь на кузена. Тодор приступил к своим обязанностям сравнительно недавно и до сих пор нервничал всякий раз, когда ему приходилось говорить с королем.
Стефан вздохнул.
– Десяти золотых хватит? Милорад! Напиши записку в казначейство, я подпишу.
Войкевич подошел к столу, своим быстрым, решительным почерком написал требуемое и подал Стефану на подпись. Тот криво расписался и махнул рукой, отсылая секретаря.
– Вздор вся эта благотворительность, – сказал король адъютанту, как только дверь за Тодором закрылась. – Мои жена и матушка всерьез полагают, что если они будут творить добрые дела, то нас не выгонят, как некогда дядю Христиана. А по-моему, это напрасная трата времени и денег. Царь Николай правил жестко, никому не давал воли и умер в своей постели, а его сын освободил крестьян и провел реформы, после чего его убили террористы. Никогда не знаешь, чего надо этим славянам. Если хочешь знать, я всегда мечтал стать французским императором. – Он блаженно зажмурился. – С французами можно сотворить великие дела, а что можно сделать с нашими недотепами?
– Франция теперь уже не та, – рассудительно заметил Милорад.
– Конечно, республика ее погубит, – тотчас же согласился Стефан. – Все говорят: демократия, у народа больше власти, а на деле выходит, что власть все равно у кого угодно, только не у народа. Потому что народ никогда не правит – правят отдельные личности, вопрос только в том, какими путями они приходят к власти. Да что я тебе говорю – ты же сам недавно доказывал мне, что демократия потерпела крах уже в Древней Греции…
Он вздохнул, утомленный тем, что на протяжении двух минут ему пришлось рассуждать на серьезные темы, пусть и словами своего адъютанта. В дверь снова постучали. На сей раз это оказался старый слуга, который носил к королю послания от Лотты. Прочитав записку, король позеленел.
– Мы будем иметь удовольствие видеть мадемуазель Рейнлейн сегодня на сцене? – спросил полковник.
– Черта с два, – тоскливо ответил король. – Она, видите ли, заболела и плохо себя чувствует. – Он сложил записку и покачал головой. – Ах, баронесса, баронесса! Можешь идти, Милан.
Слуга скрылся за дверью.
– Уверен, ваше присутствие сумеет ее вылечить, – сказал Милорад.
– Я собирался сегодня ехать в театр, – с металлом в голосе ответил Стефан. – Иначе мне придется умирать со скуки на вечере, который устраивает ее величество. О, как все это некстати!
Он поднялся с места. Встал и полковник.
– Если вы собираетесь выехать из дворца, – начал Войкевич, – я должен предупредить охрану.
– С чего ты взял? – с неудовольствием отозвался король. – Не могу же я ехать к ней всякий раз, когда она вообразит, что я ее больше не люблю. И потом, если она больна, то я же не врач!
Он отвернулся и в раздражении заходил по кабинету.
– И ее дружба с этим Ракитичем мне не нравится, – продолжал его величество, распаляясь все сильнее и сильнее. – Черт побери, отец завещал мне страну не для того, чтобы я продал ее этим паршивым австрийцам!
Войкевич, которому от Ракитича и Кислинга регулярно перепадали большие суммы, не стал развивать эту тему, а только сказал:
– Ваше величество, я распорядился увеличить вашу охрану. Надеюсь, вы не будете на меня за это в обиде.
– Нет, что ты, – сказал Стефан. Этот добродушный человек остывал так же быстро, как начинал сердиться. – Почему именно сейчас?
– На всякий случай, – уклончиво ответил полковник. – Не доверяю я этим республиканцам.
– Старевич? – болезненно поморщился король. – Как ты думаешь, возможно ли лишить его депутатской неприкосновенности? Я бы с удовольствием посадил его в каземат, чтобы он прекратил мутить народ.
Однако адъютант успокоил короля, объяснив, что Старевич человек вполне разумный, именно такие нужны в парламенте, чтобы управлять республиканской сворой. Другое дело – неконтролируемая молодежь, начитавшаяся умных книжек и подпитываемая недовольной интеллигенцией.
– У тебя есть какие-то определенные сведения? – забеспокоился король.
– Нет, – сказал Войкевич, – но он привык обо всем думать заранее. И потом, сейчас весна, в Любляну в это время прибывает больше народу, чем обычно, и он решил на всякий случай подстраховаться.
– Так что ваше величество может без помех ехать куда заблагорассудится, – добавил полковник.
Стефан улыбнулся и сказал, что Лотта живет неподалеку, и, пожалуй, он может как бы невзначай заглянуть к ней в гости и узнать, что же такое творится с бедняжкой.
Доподлинно известно, что визит к балерине состоялся в тот же день, и для человека заболевшего мадемуазель Рейнлейн приняла гостя слишком горячо. В порыве страсти любовники сломали кровать, расколотили несколько ваз и опомнились только ближе к вечеру.
Поглядев на часы, Стефан понял, что ему пора идти.
– Куда же ты? – промурлыкала Лотта, водя пальчиком по простыне.
Король объяснил, что, поскольку театр сегодня отменяется, ему придется скучать на благотворительном вечере, который устраивают его жена и мать.
– Я поеду с тобой, – объявила балерина.
– И речи об этом быть не может!
– В сопровождении Ракитича, как всегда, – уточнила Лотта и, спрыгнув с постели как была нагишом, принялась рыться в гардеробе.
По мысли Лотты, ненавистная баронесса Корф наверняка воспользуется ее отсутствием, чтобы обольстить, околдовать, очаровать бедного доверчивого Стефана и выудить из него соглашение по поводу Дубровника. А этого ни в коем случае нельзя было допустить.
Надо сказать, что подозрения балерины оправдались: прибыв на вечер, она сразу же заметила в толпе гостей Амалию, которая непринужденно беседовала с наследником. Впрочем, настроение балерины тотчас улучшилось, потому что, хоть платье баронессы и было великолепно, сегодня она была почти без украшений и, стало быть, никак не могла соперничать с Лоттой, которая надела чуть ли не все подаренные ей королем драгоценности. Однако, едва Амалия повернулась, балерина увидела на ее шее восхитительный бриллиант не то голубого, не то сиреневого оттенка[201]. Этот камень словно магнитом притягивал взоры окружающих, и, конечно, к такому украшению не были нужны никакие дополнения.
Кусая губы, Лотта смотрела, как соперница сделала самый очаровательный, самый изысканный реверанс Стефану, который, судя по его лицу, в это мгновение ничуть уже не жалел, что явился на скучный вечер. А королева Шарлотта едва ли не впервые в жизни испытывала удовлетворение при мысли, что нашелся хоть один человек, сумевший уесть балетную потаскушку, которая залезла в постель ее законного супруга.
– Однако вы становитесь царицей нашего скромного люблянского света, сударыня! – заметил король Амалии. – Я вижу вас всюду, куда ни прихожу.
– Главное для света – чтобы было солнце, сир, – ответила Амалия, улыбаясь, и поглядела на него многозначительным взором, словно он и был этим солнцем.
Стоявший в нескольких шагах Верчелли, который слышал весь разговор, опечалился. Старому ворчуну искренне нравилась Амалия – так же сильно, как не нравилась роль, которую она на себя брала.
Стефан хотел ответить любезностью на любезность, но увы: он не обладал красноречием своего отца и не смог придумать ничего, чтобы затмить смелый каламбур баронессы. Чувствуя, что еще немного, и эта женщина совершенно его загипнотизирует, он очень кстати вспомнил о существовании своей жены и отошел к ней. А Амалия обратилась к Войкевичу:
– Господин полковник!
– К вашим услугам, сударыня?
Амалия поблагодарила его за присланный веер и выразила желание, чтобы в следующий раз он подарил ей веер, который принадлежал, к примеру, императрице Жозефине. Коварный Милорад поклонился и, прижав руку к сердцу, объявил, что ради такой очаровательной дамы он достанет луну с неба, правда, солнце не обещает. Эта маленькая пикировка, полная скрытого подтекста, не ускользнула от внимания австрийского резидента, который блуждал поблизости, как неприкаянная комета, бросая подозрительные взгляды на русскую авантюристку. Он успокоился только тогда, когда гости расселись и королева-мать, волнуясь, произнесла небольшую речь о деятельности королевского благотворительного общества. В Дубровнике создан новый приют для сирот и подкидышей… В Сплите общество помогло семье сапожника, чья хибара сгорела дотла… В Любляне…
Амалия давно размышляла о пользе благотворительности, и, невзирая на доводы некоторых рассудительных, или, возможно, прижимистых людей, которые указывали на то, что излишняя благотворительность поощряет бездельников, развращает и приучает уповать на помощь свыше, а не действовать самим, она давно решила этот вопрос для себя. Лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего; а если не хочешь или не можешь ничего делать, то лучше молчать, а не философствовать. В Петербурге она много занималась благотворительностью и являлась членом нескольких обществ – помощи сиротам, калекам, инвалидам войны и так далее. Здесь, в Любляне, ей сразу же бросилось в глаза, что все организовано очень скромно, без размаха и без особой фантазии. В то же время ей понравилось волнение королевы-матери, по-видимому вполне искреннее, и то, как звенел ее голос, когда она рассказывала о бедных и обездоленных. Так как в программе вечера значился аукцион, все средства от которого должны были пойти на благотворительные нужды, Амалия решила, что обязательно что-нибудь купит.
Однако сначала выступила певица люблянского театра, которую баронесса нашла крикливой и манерной, затем дети аристократов представили сценку из трагедии Бреговича «Гибель Клеопатры» – тема, по которой до иллирийского поэта высказалась чуть ли не половина классиков, включая мистера Шекспира, тема, можно сказать, затупившая немало писчих перьев, производившихся во все времена. Певице хлопали, вполголоса обмениваясь замечаниями, что она сегодня не в голосе, детям хлопали еще щедрее, уверяя, что, если бы не их происхождение, они бы прямо сейчас заткнули за пояс Тальма, Муне-Сюлли и прочих корифеев сцены, и Амалия почувствовала себя почти что в России. Наконец начался благотворительный аукцион, и королева-мать подозвала Войкевича, чтобы он помог ей представлять лоты.
Сначала продавали несколько табакерок, которые приобрел наследник, слегка поторговавшийся с генералом Новаковичем. Потом появились картинки, нарисованные принцессами – дочерями Стефана, и не то чтобы картинки были хороши или действительно нужны кому-то, но из уважения к королю гости изобразили вялый торг. Граф Верчелли, выразительно выгнув бровь, следил, как наследник, генерал Ракитич и еще двое человек поднимают ставки, в глубине души мечтая только проиграть. В конце концов, вмешался король и предложил на пять золотых больше, чем остальные. Подхалимы захлопали в ладоши, а королева искренне обрадовалась тому, что рисунки ее девочек останутся в семье. По большому счету, благотворительность наводила на нее скуку, она считала, что бедняки все равно останутся бедными, вшивыми и грязными, сколько для них ни делай, и не понимала стремления своей свекрови непременно приобщить к помощи обществу всю семью. Однако на людях королева Шарлотта остерегалась показывать свои чувства, раз уж филантропия была нынче в моде.
Затем вниманию публики представили несколько народных поделок, которые приобрел Кислинг – исключительно ради того, чтобы повеселить свое начальство в Вене. Под конец явилась вышивка, сделанная собственноручно самой королевой-матерью. На ней было изображено озеро, беседка и два лебедя, плывущие по воде.
Едва увидев вышивку, Амалия поняла, что та сделана чистым, неглупым и, пожалуй, не слишком счастливым человеком. Это нельзя было назвать искусством, это была просто вещь, радующая глаз, и моя героиня решила, что непременно купит ее.
Торг начался с десяти золотых.
– Кто дает десять золотых? – спросил Войкевич.
– Я, – подал голос наследник.
Король собирался пошутить, что Михаилу хватит и табакерок, ни к чему ему еще и шитье тетушки, но тут вмешалась Амалия.
– Двадцать, – объявила она.
И тут все услышали тонкий от волнения голос балерины:
– Тридцать.
Все задвигались, завертели головами, пытаясь вникнуть в суть происходящего. Шарлотта неодобрительно поджала губы. Ей не нравилась сама мысль, что рукоделие члена семьи может оказаться у этой… особы.
– Пятьдесят, – бросила Амалия, даже не глядя на молодую женщину.
– Шестьдесят, – тотчас же парировала Лотта.
– Сто.
По залу прокатился вздох изумления. Будь вышивка выполнена даже золотыми нитями, она бы все равно не могла стоить таких денег.
– Сто десять, – объявила Лотта.
– Сто тридцать.
– Сто пятьдесят.
– Двести, – не моргнув глазом отозвалась Амалия.
– Двести двадцать.
– Двести пятьдесят.
– Двести шестьдесят. – Балерина слегка побледнела, на ее висках выступили бисерины пота.
– Триста.
Лотта приоткрыла рот, но не издала ни звука. Почему-то в это мгновение она с необыкновенной ясностью ощутила, что, сколько она ни будет набавлять, Амалия все равно даст больше и выиграет аукцион. «И потом, к чему мне вышивка? Будь это хотя бы картина…»
– Триста золотых за озеро, беседку и двух лебедей! – объявил Войкевич. – Бесподобное шитье государыни-матери! Кто больше? Кто больше? – Похоже, полковник вошел во вкус. – Господа, вы меня разочаровываете! Ну что ж, – он вздохнул, – похоже, шитье уезжает в Россию. Раз! Два! Три! Продано!
И, поклонившись, он разразился аплодисментами в честь Амалии. Король встал с места и последовал его примеру, вслед за ним захлопал и весь зал.
– Амалия Константиновна! – отчаянно просипел Оленин, в то время как его спутница, поднявшись с места, грациозно раскланялась во все стороны. – Но… но… у нас нет таких денег!
– Успокойтесь, Петр Петрович, – шепотом ответила Амалия. – У меня есть.
Королева Шарлотта поглядела на бледное, расстроенное лицо балерины и решила, что день прожит не зря. На ее глазах любовницу мужа унизили уже второй раз, и королева, обмахиваясь веером, решила, что непременно надо будет сказать баронессе пару любезных слов.
– А вы почему не ставили? – сердито спросила Лотта у Ракитича.
Бравый генерал вытаращил глаза.
– Триста золотых за вышивку! Мадемуазель, вы что? Где вы видели такие цены?
Войкевич подошел к Амалии и объявил, что драгоценный выигрыш доставят к ней на дом, а что касается платы, то она может рассчитаться когда ей угодно. Их величества вовсе не настаивают на немедленной оплате.
Амалия заверила его, что заплатит завтра, просто у нее сейчас нет при себе таких денег. Королева-мать поблагодарила гостью за проявленную щедрость и сказала, что, если госпожа баронесса интересуется благотворительностью, завтра как раз будет заседание их комитета, и она приглашает Амалию посетить его.
– О, – отозвалась баронесса Корф, – разумеется, ваше величество, я приду!
Глава 8 Заговор валетов
Глубокой ночью, уже после того как аукцион во дворце королевы-матери завершился и все гости разъехались, в одном из маленьких домиков Старого города собралась престранная компания.
Вообразите себе комнату, погруженную в полумрак, которая слабо освещается единственной свечой, горящей в высоком, закапанном воском подсвечнике, представьте круглый стол, затянутый темным сукном, вокруг которого сидят восемь закутанных в плащи фигур. Лиц не видно, видно только, как блестят глаза, и едва слышны голоса, приглушенные сумраком и таинственностью, которая царит в этом месте.
– Что ж, господа, – начинает высокий человек, взявший на себя, по-видимому, обязанности председателя, – прошу предъявить пароли.
Подавая пример, он вынимает из кармана половину карты – пикового валета – и кладет ее на середину стола, возле подсвечника. Сидящий напротив председателя молча достает вторую половину той же карты и кладет ее к первой.
– Валет треф! – провозглашает председатель.
Две половины крестового валета ложатся на стол.
– Прекрасно… Валет бубен!
И валет бубен, разрезанный на две части, предстает перед присутствующими.
– Валет червей!
Чья-то отягощенная кольцами рука кладет на стол первую половину валета червей. Пауза, последний из сидящих за столом лихорадочно роется в карманах.
– Валет червей, – повторяет председатель, и в его тоне звучит глухая угроза.
– Сейчас, сейчас… – бормочет обладатель второй половинки.
И неожиданно, вскочив с места, бросается к дверям.
– Это шпик! – взвизгивает кто-то.
– Шпион! Держите его!
Но шпион не успевает убежать далеко. Навстречу ему выдвигается седокудрый слуга с тонкими, недобрыми, сжатыми губами. Миг, и в руке слуги зловеще сверкает молния. Потом хрип незваного гостя, напоровшегося на что-то, возня, звук падающего тела.
– Не извольте беспокоиться, господа, – спокойно произносит слуга. Он наклоняется и вытирает о сюртук убитого окровавленное лезвие.
Председатель поднимается из-за стола.
– Дай мне взглянуть на него, – требует он.
Подчиняясь приказу, слуга переворачивает труп, открывает пухлое лицо неизвестного, искаженное ужасом и болью, и голову, совершенно лишенную волос.
– Свет сюда, – командует председатель, и второй валет пик, взяв со стола подсвечник, подходит ближе.
– Надо уходить, – бормочет кто-то из присутствующих. – Ведь он явился вместо червонного валета… Нас раскрыли!
– Еще нет, – спокойно произносит председатель. – Я еще до начала заседания знал, что второй червонный валет погиб. А этот человек мне известен, он работал за награду для королевских властей. Жадность его погубила.
– Но если он привел с собой солдат…
– Успокойтесь, господа. На улице совершенно тихо. Впрочем, если вы настаиваете, я могу попросить слугу сходить и проверить.
– Да-да, пошлите!
– Прошу вас, выполните их требование, – говорит председатель слуге. – Наши друзья волнуются.
– Мне вообще не нравятся убийства, – подает голос один из бубновых валетов, судя по сложению, флегматичный толстяк средних лет.
– А что делать с телом, господин? – почтительно осведомляется убийца.
– Пусть пока лежит здесь. Потом ты выбросишь его в Любляницу[202].
Слуга уходит, а председатель берет подсвечник и возвращается за стол. Шесть пар глаз следят за ним с настороженностью и любопытством.
– Должен признаться, начало встречи не слишком удалось, – говорит председатель с легкой улыбкой. – Что ж, теперь я объявляю очередное заседание валетов открытым. Долой королевскую власть!
– Долой Стефана!
– Предлагаю обсудить план дальнейших действий, – продолжает председатель. – Вопрос в том, пришла ли пора избавиться от монархии раз и навсегда.
– Как сказал Дантон, – замечает пиковый валет, – для того чтобы избавиться от короля, хорошо любое время.
– И ничего он такого не говорил, – возражает единственный оставшийся в живых червовый валет.
– Уверены? Ну, не говорил, но мог бы сказать…
– Мы опять утонем в словопрениях, – вмешивается трефовый валет, до сих пор молчавший. – Почему бы нам просто не прикончить эту мразь?
– Действительно! – поддерживает его валет-близнец. Впрочем, если верить голосу, то это и не валет вовсе, а дама.
– А вам не приходило в голову, – внезапно говорит бубновый толстяк, – что убийство Стефана равносильно коронации Михаила, только и всего? Да еще простой народ будет почитать Стефана как мученика.
– Хорош мученик, да он просто мерзавец!
– Это мы знаем, что он мерзавец, а народ так не считает. На его фигуру пока еще падает отблеск личности отца, а покойный Владислав, что ни говори, был образцовый правитель.
– Да, особенно это проявилось во время мятежа. Помните, что король сказал Розену: «Мне проще молиться за убитых, чем видеть живых на плахе».
– Это всего лишь слухи, господа. О том, что именно король сказал, знает только старый Розен, а он не из болтливых.
– Да, особенно теперь, когда его хватил удар в имении возле Сплита и он лишился языка…
– Господа, можно сколько угодно рассуждать о том, каким Владислав был королем и насколько он лучше или хуже, чем его сын. Ясно одно: институт королевской власти отжил свое… и недалеко то время, когда это поймут все!
Начавшийся спор прервало возвращение слуги, который доложил, что на улице все спокойно и поблизости нет ни единого солдата.
– Прекрасно, – сказал председатель. – Можешь идти. Хотя… постой. – Он указал взглядом на тело, лежавшее на полу. – Убери его отсюда куда-нибудь. Неприятно беседовать, когда в комнате лишний.
Притихшие заговорщики молча проводили взглядом слугу, который взял труп за ноги и выволок за порог. Кажется, когда дверь наконец затворилась, не было такого валета, который не вздохнул бы с облегчением.
– Предлагаю обсудить план цареубийства, – говорит трефовый валет, он же дама.
– А не рано ли? – спокойно спрашивает председатель. – Король еще недостаточно дискредитировал себя. После его насильственной смерти могут возникнуть осложнения.
– Например?
– Например, Верчелли возглавит мятеж в Далмации, и мы потеряем и эту область, и Дубровник. Ведь итальянская партия поддерживает короля.
– По-моему, – замечает червовый валет, – вам свойственно преувеличивать итальянское влияние. В сущности, их партия держится только на этом старом мерзавце-сенаторе, который сумел внушить королю почтение к себе. В Далмации итальянцев едва наберется пять процентов, а по всей стране – и того меньше.
– Да, но в их руках деньги и производство, и они представляют в крае значительную силу.
– Не такую значительную, как им хотелось бы. Просто Верчелли – великолепный наглец и держит себя так, словно в Иллирии нет никого, кроме итальянцев. Нам многому стоит у него поучиться, хотя бы умению защищать свои интересы за счет других.
– Мы собираемся избавиться от короля или нет? – нетерпеливо вмешивается трефовый валет номер один. – Если начать думать о тех, кого его смерть не устроит, то, извините, таких вовсе не мало!
– Дорогой друг, вам надо научиться думать о последствиях своих действий, – усмехается председатель. – Убить Стефана для того, чтобы заполучить в короли Михаила, извините, неразумно.
– Тогда надо убить и Михаила тоже, – заявляет его собеседник не моргнув глазом.
– И тогда королем вновь станет Христиан! – хохочет бубновый толстяк. – Этого еще не хватало!
– Нам нужна республика, а республике…
– Нужен король, – язвит кто-то в полумраке.
– Нужны военные, – заканчивает свою мысль председатель. – Генералы, которые поведут за собой людей. Одно цареубийство или два ничего не решат.
– Совершенно с вами согласен, – замечает червовый валет.
– Я тоже, – говорит бубновый валет. Его валет-близнец только кивает.
– И кого же вы предлагаете? – спрашивает трефовый валет-дама.
– Я рассчитывал обсудить это с вами, друзья.
– Выбор невелик, – говорит второй бубновый валет. – В армии всего несколько человек пользуются влиянием: Розен, Иванович, Ракитич, Новакович и Блажевич. Розен при смерти, дни его уже сочтены. Блажевич, как мы знаем, ушел в отставку и стал депутатом парламента. К тому же ходят слухи, что он сторонник союза с Сербским королевством, а вы все знаете, как тут относятся к нашим соседям. Остаются Иванович, Ракитич и Новакович. Иванович – сторонник союза с русским царем, а в России никогда не поддержат республиканский переворот.
– Революция! – пылко выкрикивает трефовый валет, предлагавший цареубийство, и в его голосе слышны юношеские интонации. – Ручаюсь вам, это будет революция, а не переворот!
– Как вам угодно, – сухо соглашается его собеседник. – На чем я остановился? Ах да, Ракитич и Новакович. – Даже по голосу слышно, что он морщится, произнося имя Ракитича. – Полагаю, ни для кого не секрет, что первый – шпион австрийцев и его цель – либо подчинить Иллирию Австрии, либо вообще сделать нашу страну частью их империи. Остается только Новакович. Выбор, конечно, неважный, потому что Иванович и даже Блажевич будут повлиятельнее, но все же, думаю, для свержения короля его поддержки вполне хватит. Вопрос только в том, как этой поддержки добиться. От короля он не видел ничего, кроме хорошего, стало быть, непонятно, на чем тут можно сыграть.
– Новакович – человек честолюбивый, – задумчиво произносит председатель. – Очень честолюбивый.
– И что же? – с любопытством спрашивает пиковый валет.
– Я думаю, – отвечает председатель, – что если мы пообещаем Новаковичу диктатуру, он легко примет нашу сторону. Мой уважаемый коллега прав: остальные генералы нам не подходят. Значит, остается только этот.
– Да ведь Новакович болван! – взрывается пылкий трефовый валет. – Вы соображаете, что делаете? Вы собираетесь отдать Иллирию – ему! И речь шла о республике, а вовсе не о диктатуре!
– А лично я, – неожиданно говорит бубновый толстяк, – одобряю ваш план. Мне кажется, я понимаю, куда вы клоните.
– Главное – чтобы Новакович сделал все дело, – объясняет председатель. – И когда мы избавимся от королевской семьи и их прихвостней, Новаковичу придется последовать за ними.
– Браво! – говорит кто-то.
– А если он не захочет? – сомневается пиковый валет.
– У него не будет выбора, – отвечает председатель спокойно.
– Вы говорите о генералах, – начинает практичный червовый валет, – а забываете о человеке, который имеет неменьший вес, чем они. Я говорю о полковнике Войкевиче.
– О, – морщится пиковый валет, – оставьте, прошу вас! Это все равно что пытаться задобрить цепного пса. Все почему-то уверены, что Войкевич за деньги продаст кого угодно, но на самом деле он никогда не делает ничего, что может повредить королю. Он воспитан в семье Владислава и предан Стефану до мозга костей.
– Всякая преданность имеет свои пределы, – замечает бубновый толстяк. – Его двоюродный брат недавно стал королевским секретарем и кажется куда более сговорчивым малым. Может быть, попытаться через него повлиять на Войкевича? Если бы полковник согласился нам помочь, это бы многое упростило.
– Полковник только и делает, что увеличивает королевскую охрану, – усмехается председатель. – И ему совершенно невыгодно, чтобы со Стефаном что-нибудь произошло. Уверен, если Войкевич узнает о наших планах, он немедленно даст знать куда следует, и нас всех прихлопнут.
– Но если осторожно попытаться… – возражает бубновый толстяк. – Или через женщину… Войкевич от них без ума!
– Друзья, – с неудовольствием промолвил председатель, – кажется, вы не понимаете. Нас вполне устроит участие Новаковича, и ни к чему приплетать сюда этого сомнительного адъютанта. Пока надо заручиться помощью генерала и ждать удобного момента, чтобы свергнуть короля. Само собой, надо продолжать агитацию в народе, но помните: когда доходит до дела, безоружные толпы мало что решают. Нам они нужны скорее как выразитель недовольства монархией, который призван оправдать наши действия в глазах мирового сообщества.
– Только смотрите, не промахнитесь с Новаковичем, – посоветовал пылкий трефовый валет. – Не то он устроит в Иллирии такую республику, что все начнут добрым словом поминать Стефана и его придворную шайку лизоблюдов.
– Я уже сказал: Новакович не успеет стать диктатором, – промолвил председатель с ангельской улыбкой. – А теперь, друзья мои, обсудим, как продвигается привлечение сторонников в провинции.
Глава 9 Разговор начистоту
На следующее утро Амалия против обыкновения проснулась рано и, едва встав с постели, принялась изучать план королевского замка, который Петр Петрович вчера набросал по ее просьбе. Затем она позавтракала, переоделась в строгий костюм в английском стиле и, сев в экипаж, который ей также предоставил российский резидент, велела везти себя к королевской резиденции.
Ночью шел дождь, но утро выдалось солнечным и теплым, и на поверхности реки, мимо которой они ехали, танцевали золотые блики. Амалия смотрела на них, рассеянно щурясь, и размышляла. Удастся ли ее план? Не подведет ли она людей, которые послали ее сюда? Или, может быть, пока не поздно, придумать что-нибудь еще?
На выезде с моста стояли полицейские, вид у бравых служак был растерянный. Недалеко от них доктор осматривал чье-то неподвижное тело, и Амалия, проезжая мимо, заметила, что у неизвестного утопленника была совершенно лысая голова и темный плащ простого покроя.
Экипаж стал подниматься на холм, и Амалия увидела впереди замок, над которым развевался иллирийский флаг с золотым львом на синем фоне. Вблизи королевская резиденция не производила особенного впечатления, и у Амалии мелькнуло в голове, что здание смахивает скорее на казармы, чем на дворец царствующего монарха. Сходство с казармами подчеркивалось караулами, которые были выставлены на каждом шагу.
На первом посту Амалия сообщила, что прибыла по приглашению королевы-матери на заседание благотворительного комитета, которое должно было состояться в одном из флигелей замка. Вряд ли баронессе Корф можно было поставить в упрек, что она явилась за полчаса до назначенного времени; напротив, такое стремление не опаздывать должно было скорее вызвать расположение.
Сверху от замка открывался замечательный вид на Любляну, но в это мгновение Амалию меньше всего волновали местные красоты. Дворцовый лакей проводил ее во флигель, где должно было состояться заседание благотворительного комитета, но на полпути Амалия извинилась, шепотом задала какой-то вопрос и, получив ответ, исчезла в указанном направлении. Прежде чем удалиться, она успела сказать слуге, что теперь знает, куда идти, так что он может не утруждать себя и не ждать ее. Когда она, гм, вымоет руки, она сама найдет дорогу во флигель. А так как Амалия подкрепила свои слова полновесной серебряной монетой, у лакея не было никаких причин не поверить ей.
Однако баронесса Корф отправилась вовсе не в комнату уединенных раздумий, о местоположении которой спрашивала старого слугу. Целью ее, которой она вскоре достигла, был кабинет его величества, который именно в это время, закончив слушание докладов и подписание важных бумаг, имел обыкновение прохлаждаться там на диванчике в компании хорошей сигары. О распорядке дня иллирийского монарха Амалии также поведал накануне незаменимый Петр Петрович.
Его величество полулежал на софе под окном, куря изумительную гавану и находясь в том блаженном состоянии духа, которое овладевало им всякий раз, когда он развязывался с нудными или тяжелыми делами, к которым относились все без исключения вопросы государственного управления. Какая-то маленькая птичка села на карниз за окном, повиляла хвостиком, уморительно попрыгала на месте и улетела. Король проводил ее взглядом и невольно улыбнулся, а когда поднял голову, увидел напротив себя постороннее лицо, и у лица этого были загадочные золотистые глаза баронессы Корф.
От неожиданности Стефан уронил сигару, которая упала прямо на персидский ковер и прожгла в красивом орнаменте приличных размеров дыру.
– Добрый день, ваше величество, – сказала Амалия, лучась улыбкой. – Надеюсь, вы великодушно простите меня за то, что я взяла на себя смелость побеспокоить вас?
Король поспешно спустил ноги с дивана, подобрал сигару и сказал, что госпожа баронесса вольна чувствовать себя как дома. В тоне его, однако, слышался легкий сарказм.
– Вы очень любезны, сир, – промолвила Амалия, грациозно опускаясь в кресло, и устремила на монарха пристальный взор. – Если позволите, ваше величество, мне хотелось бы поговорить с вами начистоту.
Характер Стефана был таков, что менее всего на свете он любил разговоры начистоту. Впрочем, в этом отношении он мало чем отличался от большинства других мужчин, пусть даже некоронованных.
– И о чем же будет этот разговор? – спросил он, изо всех сил стараясь сохранить непринужденный вид.
– О, ваше величество, – вздохнула Амалия. – Вы ведь прекрасно осведомлены о том, какую миссию мне поручили в Петербурге. Когда я сказала, что вы, судя по всему, твердо намерены не предоставлять нам базу в Дубровнике, никто не стал меня слушать.
«Если она явилась соблазнить меня, к чему такой закрытый наряд? – думал тем временем Стефан. – Хотя он ей очень к лицу… Только бы Милорад не притащился раньше времени, с него станется все испортить!»
– Это ведь так, сир? – почтительно спросила Амалия. – Я правильно понимаю, что русскому флоту не видать Дубровника как своих ушей?
Король смешался и забормотал, что он уважает Российскую империю вообще и русского императора в частности, как он всей душой хотел бы оказаться им полезным… но увы, увы! Непреодолимые обстоятельства… противодействие соседей… нежелательные последствия… Он чрезвычайно сожалеет, но… но…
История государства – это его география, как сказал известный делатель истории мсье Бонапарт. А когда твоя география такова, что с одной стороны у тебя Австро-Венгрия, которая спит и видит, как бы присоединить твои земли к своим, а с другой – Сербия, которая тоже не желает тебе ничего хорошего, как-то не очень тянет оказывать услуги посторонним, пусть даже и самым уважаемым, потому что это может завести в места, в которые обыкновенно приводят вымощенные добрыми намерениями дороги.
– Я очень рада, что мы прояснили этот вопрос, – объявила Амалия таким тоном, словно ничего другого она и не ожидала. – Ваше величество, простите, но я правильно понимаю, что российская база также не может быть размещена ни в Сплите, ни в другом портовом городе вашего королевства?
Стефан, который в этот момент как раз размышлял, что его гостье больше подошло бы открытое декольте, рассеянно ответил, что ни Сплит, ни другие города никак, ну никак не годятся для размещения базы российского флота. И вообще, парламент не позволит ему подписать соглашение, даже если он сам будет не против.
Амалия, которой отлично было известно, что еще Владислав укротил парламент и добился права в любой момент распускать его, не стала возражать, а только очаровательно улыбнулась.
– Должна признаться, ваше величество, я счастлива, что мы нашли с вами общий язык, – объявила она. – Потому что я ужасно не люблю поручений, которые связаны с военными делами…
«Сейчас она сделает попытку оказаться ко мне ближе, а потом ринется на приступ», – мелькнуло в голове у монарха. Однако Амалия лишь раскрыла веер и стала им обмахиваться, непринужденно глядя на своего собеседника.
– Коль скоро, сир, мы пришли с вами к согласию относительно Дубровника – а ничего другого я и не ожидала, – должна вам сказать, что моему правительству хотелось бы все же некоторых гарантий безопасности. И, конечно, его вполне устроит заявление о нейтралитете ваших портовых городов.
Стефан вздохнул. Этот добродушный блондин был вовсе не лишен чувства юмора и отлично понимал, какой комизм кроется в ситуации, когда у него ни с того ни с сего требуют гарантий нейтралитета его собственных портов, которыми он, вообще-то, имеет право распоряжаться по своему королевскому усмотрению.
– Госпожа баронесса…
– Ваше величество!
– Но, сударыня…
– Сир!
Увы, написанные слова не передают интонаций, с которыми были произнесены эти короткие реплики; но, уверяю вас, на свете имеется мало актеров, способных произнести их так, как произнесли мои герои. Я уж не говорю о безднах смысла, которые таились в столь простых с виду фразах.
– Должен отдать вам должное, сударыня, вы чрезвычайно милы и удивительно ловко сумели застать меня врасплох, но… в конце концов, я король! С какой стати я должен обещать вашей державе нейтралитет чего бы то ни было? И вообще, нашим соседям это точно придется не по душе.
Вот что имел в виду Стефан, а слова Амалии значили:
– Ваше величество, вы ведь так галантны, так любезны, вы настоящий рыцарь. Ну что вам стоит подписать какую-то незначительную бумажку о нейтралитете портов? И потом, – многозначительный взмах ресниц, – неужели я зря приехала в Любляну? Я не могу возвращаться восвояси с пустыми руками!
«Почему она сидит на месте и даже не пытается ко мне подойти?» – подумал заинтригованный монарх и, сам того не заметив, сделал движение навстречу своей гостье.
– Сударыня, вы просите невозможного… – Он заметил опасные искорки в глазах Амалии и поправился: – Я не могу ничего обещать… Мне нужно посоветоваться с министрами… с парламентом! Хотя, я полагаю, нейтралитет портов не противоречит нашим интересам… И ввиду уже имеющегося договора о дружбе между моей страной и вашей…
«Интересно, какими духами она пользуется? – мелькнуло у него в голове. – Никогда не встречал их прежде, но… пахнет чертовски соблазнительно!»
– Я правильно понимаю, ваше величество, что соглашение о нейтралитете не может быть заключено в короткие сроки? – с ученым видом спросила Амалия.
Его величество заверил ее, что государственные дела вообще не вершатся в одно мгновение, что нужно проконсультироваться, прозондировать почву, убедиться в том, что соглашение не ущемит ничьи интересы, и так далее. Он нагромоздил друг на друга уйму ловких закругленных фраз, и чем красноречивее он становился, тем ласковее и многозначительнее улыбалась Амалия, прикрываясь трепещущими перьями веера.
«Чертовка! Да она испытывает мое терпение!» – подумал изнывающий Стефан.
Но тут за дверями раздались чьи-то стремительные шаги, и в комнату без стука вошел полковник Войкевич. Завидев баронессу Корф, которая запросто общалась с монархом в его личном кабинете, Милорад опешил, но тотчас же овладел собой и учтиво поклонился.
– Прошу меня извинить, я, кажется, не вовремя, – негромко промолвил полковник.
Амалия бросила взгляд на часы, стоявшие на камине, и поднялась с места.
– Что вы, полковник, скорее я задержала его величество… Благодарю вас, сир, за то, что вы согласились уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени.
И величавой походкой она выплыла из комнаты, на прощание улыбнувшись обоим мужчинам. До начала заседания благотворительного комитета оставалось ровно семь минут.
– Я прибью Тодора, честное слово, – горько сказал Войкевич, когда дверь за баронессой затворилась. – Как она могла пройти мимо него? Он же обязан неотлучно находиться в приемной!
– Должно быть, он отошел куда-то на минуту, а она воспользовалась этим и вошла, – проворчал Стефан, которого начало искренне забавлять это маленькое приключение. Он заметил, что все еще держит в руке сигару, и положил ее в пепельницу.
– А если бы у нее было задание убить вас? Если бы это вообще была не она, а какой-нибудь террорист? – Полковник в волнении зашагал по комнате. – Боже мой!
– Перестань, Милорад, – сказал Стефан уже с недовольной гримасой. – Госпожа баронесса – не régicide[203], и не надо делать из нее преступницу.
– Чего она от вас хотела?
– Мы поговорили, – объяснил король, – начистоту. Она показалась мне очень разумным человеком. По ее словам, она с самого начала понимала, что никаких шансов на базу в Дубровнике у России нет. Собственно говоря, они должны были догадаться об этом после визита Ламсдорфа.
– Ну что ж, – вздохнул Войкевич, – тем лучше. Она выдвинула какие-то требования?
– Да. От имени своей страны она просит о нейтралитете всех наших портов.
– А мы обязаны обещать его русским? – уже спокойно спросил полковник. – Насколько я помню, уже заключенный с ними договор ничего такого не предусматривает.
– Тебе надо заниматься политикой, – поддразнил его Стефан.
– Мне? – Милорад поморщился. – Вы шутите. Лучше я поставлю пару часовых к дверям вашего кабинета.
– Перестань, Милорад. – Король нахмурился. – Это уже чересчур.
– Вовсе нет. Вы ведь еще не знаете, зачем я пришел к вам. Только что я видел министра внутренних дел.
– И?
– Из Любляницы сегодня выловили тело одного из агентов. По последним сведениям, которые тот успел сообщить, ему удалось выйти на след неких заговорщиков. Министр сразу же отправил людей на его квартиру, но увы: кто-то опередил их и поджег дом, заметая следы.
– Опять эти проклятые республиканцы, – сквозь зубы промолвил Стефан. Глаза его потемнели, ноздри недобро раздувались.
– Или проклятые немцы, одни либо вместе со своими союзниками австрийцами, – уронил Войкевич. Король поежился. – Ведь князь Михаил – наследник, и нет сомнений, что кое-кто предпочел бы видеть его на троне вместо вас.
Стефан сразу же как-то обмяк и тяжело опустился за свой стол.
Пока в королевском кабинете шел этот малоприятный, но неизбежный разговор, Амалия быстрым шагом спустилась по лестнице, вышла из замка и направилась к пристройке, в которой должно было состояться заседание благотворительного комитета.
Слегка запыхавшись, баронесса вошла в зал точно с боем часов, сделала реверанс царствующей королеве и королеве-матери и получила разрешение сесть. Началось обсуждение разных вопросов, после чего королева Шарлотта попросила Амалию рассказать, как обстоит дело с благотворительностью в России. Баронесса с готовностью выполнила монаршую просьбу. Она говорила кратко и по существу, никого не утомляя, а после заседания (которое окончилось довольно быстро) подошла к королеве-матери и сказала, что хотела бы заплатить за приобретенную вчера вышивку. Мать Стефана была тронута – в глубине души она полагала, что баронесса Корф, подобно многим покупателям, будет расплачиваться еще долго, тем более что вышивка вовсе не стоила потраченных на нее денег.
– Благодарю вас, сударыня, – сказала королева-мать. – Теперь я спокойна, потому что у нас есть деньги на то, чтобы достроить в Дубровнике второй приют для детей-сирот.
Амалия выразила надежду на то, что в будущем сумеет еще не раз помочь их величествам в нелегком деле благотворительности, и удалилась. На сегодня у нее было намечено еще одно важное дело.
Глава 10 Лошадь д’Артаньяна
Как уже известно читателю, Амалия собиралась найти себе новый дом. Собственно говоря, он нужен был не столько ей лично, сколько для успеха той коварной комбинации, которую она задумала, поэтому баронесса собиралась подойти к выбору со всем тщанием.
Итак, сев в экипаж, она отправилась осматривать дома, которые продавались или сдавались внаем. Скажем сразу же, что задача оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось вначале. Ибо Любляна – город довольно скромный, особенно для столицы, в архитектурном смысле вовсе без излишеств. Осмотрев несколько особняков, Амалия поняла, что ни один из них ей не нравится, а те дома, которые пришлись ей по вкусу, были недоступны, потому что в них уже кто-то жил. Стало быть, следовало менять уже обдуманный план, и это Амалии было вовсе не по душе.
Она велела кучеру возвращаться домой, откинулась на подушки кареты и задумалась. В какое-то мгновение ее охватил почти непреодолимый соблазн бросить все и вернуться в Петербург, но тут она услышала недовольное восклицание кучера и подняла глаза.
Экипаж ехал вдоль какого-то большого запущенного парка, в глубине которого виднелся серый дом.
– Что там, Никита? – спросила Амалия.
– Да крестьянин какой-то, сударыня, со своей повозкой, – отозвался кучер. – Местные совсем не умеют ездить, чуть не сшиблись.
– Я не об этом, – ответила Амалия, глядя на парк. – Что это за место?
– А, так это при французах здесь устроили, – объяснил словоохотливый кучер. – У них в Париже был сад Тиволи, так вот они и тут сделали Тиволи. Маршал Мармон, который герцог Рагузский, приказал разбить парк… Это еще, стало быть, при Наполеоне было.
– А что за особняк?
– Не знаю, сударыня. Там никто не живет. А впрочем, можно узнать у графа Верчелли. Это ведь его собственность.
– Езжай к воротам, – распорядилась Амалия. – Я хочу осмотреть дом и сад.
Дряхлый привратник, который отворил немилосердно скрипящие ворота, сообщил, что эта земля действительно принадлежит графу, но сам Верчелли здесь не живет и в доме давно не был.
– Его милость хотел продать эту землю под застройку, а здание снести, да только кто этим будет заниматься… Невыгодно это никому. Вот замок и стоит без дела, а графу приходится платить налоги…
– Что, дом настолько старый? – спросила Амалия.
– Считайте сами, сударыня… Построен в семнадцатом веке, в прошлом веке был резиденцией нашего епископа. Потом пришли французы… эти, ясное дело, устроили тут все по-своему. После них парк и замок отошли семье Верчелли.
– Я могу осмотреть замок?
С точки зрения Амалии, это был всего лишь трехэтажный особняк, но в Любляне, похоже, любое здание выше одного этажа считалось замком.
– Разумеется, сударыня… Сейчас я позову ключницу, она вас везде проведет и все покажет.
Он удалился искать ключницу, а Амалия решила тем временем осмотреть парк.
Случалось ли вам в незнакомой, чужой стране вдруг попадать в место, которое кажется вам милым и близким, словно родной дом, в котором вы не были очень давно? Именно это ощущение возникло у Амалии, едва она сделала несколько шагов по парку. Конечно, все здесь было запущено, дорожки заросли сорняками, статуи, судя по всему, привезенные еще при французах, потемнели и смотрели настороженно, а от клумб остались только контуры, но все же – до чего здесь было хорошо! Над головой пели птицы, на кусте сверкала крошечными каплями дождя паутинка, солнце пронизывало лучами кроны деревьев, и на землю ложилась ажурная колышущаяся тень…
«Восстановить клумбы… Заново сделать дорожки и посыпать их гравием… Обновить статуи… Расставить кое-где беседки… ну, положим, можно обойтись и без беседок… или нельзя? Что еще? Совсем забыла! Обязательно надо будет устроить площадку для лаун-тенниса…»
– Прошу, сударыня, – сказала ключница, кланяясь. И Амалия последовала за ней к дому.
Дворец Тиволи был расположен на небольшом возвышении, к нему вела каменная лестница, находившаяся не в самом лучшем состоянии. «Ступени тоже надо будет отремонтировать», – мысленно сделал заметку Амалия. В комнатах царил полумрак и прохлада, окна были плотно зашторены.
– Вы бы не могли открыть занавески? Благодарю вас…
Она переходила из комнаты в комнату, ведомая жилистой, крепкой ключницей, которая открывала окна, показывала, рассказывала… Чужое, незнакомое, хмурое пространство оживало на глазах, на люстрах заблестели хрустальные подвески, у дам на портретах появились улыбки, стал виден рисунок на деревянной части старинной арфы, забытой в углу, и только один не смирился – бюст императора Наполеона, каким-то образом переживший в этой гостиной своих победителей и их союзников, смотрел надменно и строго, поджав губы. Мебель была французская, разномастная, словно ее тащили из всех эпох – там стулья в прихотливом стиле рококо, тут столешница, инкрустированная перламутром, а вот красное ампирное кресло с белыми фигурными подлокотниками в виде лебедей. Кресло Амалии ужасно понравилось, и она, сев в него, стала осматривать свое будущее царство.
Полно, да царство ли?
– Вы ищете для себя дом, сударыня? – почтительно спросила ключница.
– Да, – ответила моя героиня, – мне нужен особняк с парком, и чтобы конюшни были в порядке, потому что я собираюсь много ездить верхом.
Ключница приободрилась: судя по всему, у дамы водились деньги. Те, кто раньше приходили осматривать замок, так и уходили ни с чем.
– У нас хорошие конюшни, сударыня, просторные. Если хотите, я вас провожу.
Амалия вздохнула.
– Перед замком я заметила фонтан, он что, не работает?
– Нет, сударыня.
Стало быть, фонтан тоже придется чинить. Амалия спросила адрес графа Верчелли, уточнила, какое жалованье получают привратник, ключница и остальные слуги, и задумалась. По всему выходило, что ее авантюра влетит Российской империи в копеечку. А что, если ее план провалится?
– А по соседству кто живет? – спросила она наконец.
Ключница, немного подивившись вопросу, ответила, что можно сказать, никто, потому что парк, мягко говоря, не маленький. Впрочем, они часто видят князя Михаила, он тоже любит верховую езду и по утрам обыкновенно скачет мимо.
Когда Амалия встала с кресла, она уже решила про себя, что постарается во что бы то ни стало заполучить Тиволи. Оставался сущий пустяк – договориться с графом Верчелли.
Сенатор был в этот день совершенно свободен, потому что очередное заседание сената должно было состояться только через неделю, и старый брюзга не знал, куда себя деть. Единственным его развлечением оставались письма родственников, живших в Италии, но так как послания их содержали только просьбы о деньгах в той или иной форме, граф ждал прилива желчи (который он обыкновенно именовал вдохновением), чтобы ответить своим нежно любимым родичам в достойной форме, оставив их с носом.
Можно понять, как обрадовался Верчелли, когда слуга доложил, что его спрашивает баронесса Корф. По мысли графа, российская шпионка явилась, чтобы так или иначе перетянуть его на свою сторону, и Верчелли с интересом приготовился наблюдать за тем, как его попытаются, выражаясь языком короля Стефана, «взять на абордаж».
Однако оказалось, что Амалия явилась к нему совершенно по другому делу, потому что ей понравился дом в старой части Любляны, которым владел граф. Верчелли отлично помнил это здание, унылое и темное, которое раньше принадлежало какому-то монастырю и было примечательно разве что остатками старинной росписи на потолке и стенах. Тем не менее он напустил на себя важный вид и объявил, что дом либо продается, либо сдается внаем, но не на месяц, как хотела бы госпожа баронесса, а минимум на полгода, ибо у почтенного графа не гостиница и он не привык заниматься пустяками.
– Полгода? – изумилась Амалия. – Сударь, мне нужно приличное жилье на месяц… может быть, на два, но не более!
При мысли, что эта вертихвостка рассчитывает за столь короткий срок окрутить монарха и выбить из него то, что нужно пославшим ее русским, Верчелли почувствовал сердцебиение и решил, что просто так баронессе этого не спустит. Он был сердит хотя бы уже потому, что его явно не принимали всерьез – настолько, что даже не пытались завлечь.
– Так уж и быть, сударыня, – молвил он со вздохом, – исключительно из уважения к вам я готов поступиться своими принципами и сдать вам дом на четыре месяца… но не меньше!
– Четыре месяца – тоже многовато, – заметила Амалия. – Позвольте узнать, господин граф, во сколько вы оцениваете месяц пребывания в этом замечательном доме?
Господин граф помялся и озвучил цифру, на которую в Париже можно было преспокойно снять всю авеню Ош с Триумфальной аркой в придачу. Амалия (которая, впрочем, не ожидала ничего иного) сделала большие глаза.
– Если уж вы платите по триста золотых за вышивку, названная мной сумма и подавно будет вам по карману, – объявил жестокосердный граф.
– То была королевская вышивка, – рассудительно возразила Амалия, – а это всего лишь дом. Может быть, вы согласитесь снизить цену?
– Сударыня, я бы с радостью, но… как можно? Изумительный дворец, в котором жил сам Наполеон… даже как-то обидно, честное слово!
– Наполеон никогда не был в Любляне.
– Ну, если бы он здесь оказался, он бы остановился именно у меня!
Надо признать, что скаредность подсказывала старому графу самые неожиданные доводы; однако по лицу Амалии он видел, что они ничуть на нее не действуют.
– Сударь, я вижу, вы не расположены к серьезному разговору… Что ж, значит, мне не судьба любоваться на замечательные фрески в вашем особняке. Прощайте!
И, встав с кресла, она шагнула к двери.
Верчелли понял, что еще мгновение – и он останется один на один со своей желчью и с письмами родственников, и запаниковал.
– Это прекрасный старинный дворец! – простонал он. – Другого такого нет во всей Любляне! Сударыня…
Амалия уже взялась за ручку двери.
– Я готов обсудить цену! – прокричал Верчелли в отчаянии.
Его собеседница остановилась, о чем-то раздумывая, и повернулась к нему.
– Мне кажется, что этот дворец слишком темный, в нем мало солнца, – объявила она. – Может быть, у вас есть на примете что-нибудь еще?
Сенатор утер пот и предложил Амалии на выбор три особняка (которые он упорно именовал дворцами). Он призвал на помощь все свое красноречие и знание истории, расписывал, кто и когда побывал в этих замечательных домах и какие непревзойденные архитекторы над ними работали. Амалия улыбалась и кивала: днем она уже побывала во всех этих местах и знала, что дворцы, о которых повествует Верчелли, всего лишь никуда не годные развалюхи.
Наконец Верчелли вспомнил о замке Тиволи, который уже лет десять тщетно пытался хоть кому-нибудь всучить, и рассказал Амалии о райском месте, красивом, ухоженном, с множеством цветников, фонтанов и статуй… словом, втором Версале, только лучше.
– Там нет газа, – ответила бессердечная баронесса Корф, обмахиваясь веером.
– И без газа можно прекрасно жить, – быстро возразил Верчелли.
– Водопровод не действует, и воду приходится таскать из пруда.
– Но она все-таки есть, – напомнил граф. – Подумайте: прекрасный дворец в три этажа и роскошный парк…
– На что мне парк? Лучше уж что-нибудь поскромнее, но с водопроводом… и с электричеством. Газовое освещение все-таки уже устарело.
– Дворец в прекрасном состоянии! – защищался Верчелли. – И фонтаны…
– Ни один из них не работает.
– Зато у вас будет собственный парк! И никаких докучных соседей.
– Тоже мне, преимущество, – пожала плечами Амалия. – Я человек общительный и люблю бывать в компании друзей.
И она так посмотрела на сенатора, что на мгновение он даже забыл, зачем они здесь находятся; однако в следующее мгновение жадность вновь напомнила о себе, и Верчелли опомнился.
– Однако все находят, что дворец Тиволи прекрасен…
– Поэтому в нем уже десять лет никто не живет, – фыркнула Амалия. – Я вижу, сударь, что у вас нет ничего, чтобы меня порадовать.
Верчелли застонал про себя и объявил, что готов снизить цену. Они вновь перебрали все принадлежащие графу дома, и каждый Амалия вновь отвергла, но куда тверже и категоричнее, чем раньше. Очевидно, ей не меньше графа наскучили эти бесплодные обсуждения. А по тому, как гостья нет-нет да поглядывала на дверь, сенатор понял, что она просто-напросто тяготится его обществом и только ищет предлог для того, чтобы уйти.
– На площади, недалеко от российского посольства, я видела очаровательный домик с резными деревянными фигурами на фасаде, – наконец сказала Амалия. – Он сдается, и мне сказали, что обращаться надо к Новаковичам. Это, случаем, не родственники генерала, с которым я танцевала?
Граф затравленно поглядел на нее и, не зная, за что уцепиться, вновь завел речь о Тиволи. На сей раз он снизил цену до почти приемлемой, но требовал, чтобы договор был подписан сроком на полгода.
– Ну, не знаю, сударь, право, не знаю, – протянула Амалия, и он видел, что молодая женщина начала колебаться. – Если бы там имелся хотя бы газ…
– Я бедный человек, сударыня, – промолвил Верчелли с горестным вздохом.
– Неужели? – задумчиво уронила Амалия и посмотрела ему в глаза.
И, хоть старый граф был вовсе не робкого десятка (впрочем, в жизни ему и не приходилось чего-то особенно бояться), он все же дрогнул.
– Сударыня… Я очень бедный человек!
Амалию так и подмывало расхохотаться, но она сдержалась и ограничилась тем, что раскрыла веер и вновь – испытанное средство – выразительно покосилась на дверь. И сенатор решился.
– Конечно, из уважения к вам… – Он покусал губы и озвучил вполне допустимую цену, даже чуть ниже того, на что рассчитывала Амалия.
Теперь был ее черед дать ответ, но, отлично зная людей наподобие своего собеседника, она не торопилась.
– Так вы согласны? – спросил граф, нервничая.
– Пожалуй, да, – вздохнула Амалия. – Я пришлю к вам Петра Петровича для подписания договора. – Она покачала головой. – И как вы уговорили меня снять этот Тиволи? Уму непостижимо… Вы очень ловкий человек, граф! Ведь я намеревалась просить у вас совсем другой дом…
Сенатор решил, что хоть в чем-то сумел обвести шпионку вокруг пальца, и приосанился. Он отлично помнил, что особняк, о котором она заговорила первой, находится недалеко от королевской резиденции, в то время как Тиволи располагается на северо-западе города, и мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось хоть в чем-то расстроить замыслы этой особы.
В самом лучшем расположении духа Амалия направилась домой. План, детали которого она весьма тщательно разработала, начал претворяться в реальность. Теперь оставалось договориться с Олениным, чтобы он нанял садовников и рабочих, заказать новые статуи и цветы для клумб, наметить места для беседок и теннисной площадки… А еще надо починить фонтан, и нанять оркестр, и…
«Может быть, соорудить в парке искусственные руины? Искусственную реку, конечно, я не потяну, да и не к чему она…»
Амалия вышла из кареты возле дома, в котором Оленин снял ей квартиру, и тут же обратила внимание на небольшую толпу неподалеку. Все ее дурные предчувствия разом пробудились. Уж не устроили ли ей вражеские агенты какую-нибудь пакость?
Однако оказалось, что причиной столпотворения была всего лишь лошадь, но зато какая! Желтая, цвета лютика, с тонкими ногами, крутой шеей и большими глазами. Животное сердито косилось на людей, которые обступили его и смеялись, показывая пальцами. Лошадь мотала головой и пыталась вырваться, но денщик держал повод крепко.
И тут в голове у Амалии закружился калейдоскоп воспоминаний: стало быть, ей лет 8 или 9, и старший брат Костя, примостившись возле нее, читает вслух чудесную книжку с текстом, напечатанным в две колонки, и черно-белыми картинками.
Желтая лошадь! Д’Артаньян и его отец, Менг, незнакомец, миледи… Уж не потому ли она, Амалия, выбрала жизнь, полную приключений, что брат когда-то прочитал ей эту книгу?
– Что происходит? – спросила молодая женщина и, протянув руку, погладила лошадь, чтобы успокоить ее.
Денщик объяснил, что его хозяин, генерал Новакович, играл недавно в карты со своим коллегой Ивановичем, последний проиграл не только деньги, но и одну из своих лошадей. Новакович ставил на лошадь не без умысла, потому что конюшни у Ивановича были отменные. Однако бравый генерал, воспользовавшись неточной формулировкой – «одна из ваших лошадей», обвел выигравшего вокруг пальца и прислал ему лошадь, которой дорожил менее всего и которая уродилась непонятно в кого.
– Вряд ли генерал Новакович будет этим доволен, – заметила Амалия. – А не продаст ли он эту лошадь мне?
Денщик вытаращил глаза. Собственно говоря, он до сих пор слонялся по улице только потому, что сильно опасался хозяйского гнева, который обязательно выплеснется, едва генерал увидит, какой выигрыш ему прислал Иванович. А в гневе Новакович был ой как крут!
– Думаю, он не откажется, – почтительно ответил денщик. – Он живет неподалеку, если вам угодно, я могу вас проводить.
Больше всего в это мгновение он боялся, что странная дама передумает и ему придется явиться к Новаковичу в одиночестве. Однако дама, судя по всему, была решительно настроена завладеть желтой лошадью.
Узнав, какую свинью (в виде лошади) подложил ему «этот мерзавец Иванович», громадный белокурый розоволицый Новакович побагровел, посинел, позеленел, стал стучать по столу кулаком и разразился ругательствами одно заковыристее другого. Но стоило струхнувшему денщику сказать, что лошадь не прочь выкупить какая-то дама, и генерал удивился настолько, что вновь обрел человеческий вид.
– Дама? И что это за дама?
Увидев Амалию, генерал воспрянул духом и решил, что лошадь, конечно, пустяк, просто он произвел на русскую гостью столь ошеломительное впечатление, что она теперь ищет любой предлог познакомиться с ним поближе. Он наговорил ей множество пошлых комплиментов, между прочим, сказав, что счастлив ее видеть сегодня и будет еще более счастлив встречаться с ней в дальнейшем. Впрочем, следует отдать генералу должное – он и слышать не захотел о деньгах за желтого урода и, объявив, что капризы дамы для него священны, подарил лошадь Амалии, начисто отказавшись от платы.
Таким образом, моя героиня в один день заполучила дом, который был ей нужен, и лошадь, которая вроде ей была не нужна. Однако человеку, который весь день в отдалении следовал за ней, отмечая в памяти каждое передвижение, такие тонкости, конечно, не были известны, и ближе к ночи он доложил своему начальнику:
– Баронесса Корф вернулась на свою квартиру, которую для нее снимает Оленин. Утром она была во дворце на заседании…
– Утро можешь пропустить, – оборвал его собеседник. – Что она делала потом?
– Смотрела разные дома. По-моему, она собирается переехать. Дольше всего она пробыла в Тиволи, а потом отправилась к графу Верчелли и находилась у него несколько часов. Слуги…
– Да, так что говорят слуги графа?
– Что она обсуждала с их хозяином аренду разных домов и в итоге остановилась на Тиволи.
– И граф, конечно, заломил двойную цену.
– Он пытался, но ему пришлось уступить.
Человек, слушавший доклад шпиона, изумленно поднял брови. С его точки зрения, это было равносильно подвигу.
– А потом?
– Потом она купила у генерала Новаковича лошадь, которую ему проиграл Иванович. То есть собиралась купить, но Новакович ей так подарил.
– Что за лошадь?
– Желтая. Как одуванчик.
– Зачем ей желтая лошадь? – пробормотал собеседник шпиона. – Ладно. Что было потом?
– Ничего. Она у себя. Писем не отправляла, больше никуда не ходила. Правда, к ней после ужина наведался Оленин, и они долго беседовали. О чем – неизвестно.
– Хорошо. – Собеседник шпиона достал из ящика стола несколько серебряных монет. – Продолжай за ней следить, только осторожно. Если выяснишь что-то важное, прямиком ко мне.
– Да, господин полковник. Конечно, господин полковник.
Господин полковник Войкевич откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы за головой и задумался. Глаза его в полумраке блестели, как черные алмазы, по губам то и дело пробегала улыбка.
– Да, – наконец промолвил он, глядя на висящий напротив портрет короля Владислава, – так что же вы задумали, баронесса Корф?
Глава 11 Золотая всадница
Австрийский резидент Томас Кислинг пребывал в самом скверном расположении духа.
Кислинг был высокий, узкоплечий, с жидкими усами и такими же жидкими светлыми волосами. Глаза у него были бесцветные, голос – ничем не примечательный. Вытянутое худое лицо пытался украшать такой же вытянутый нос, но без особого успеха. Во внешности Кислинга не было ничего яркого, ничего запоминающегося. И, хотя в ней не прослеживалось и ничего неприятного, его не любили ни женщины, ни дети, ни животные. Да что уж там – Кислинга вообще никто не любил. Сколько он себя помнил, он всегда оставался в стороне, играя роль наблюдателя, а все остальные находились где-то рядом, в поле его зрения. Они действовали, а он смотрел и делал выводы, не пытаясь слиться с окружающими. В школе за эту манеру его частенько колотили, но когда Кислинг вырос, тумаки как-то сами собой сошли на нет; более того, выяснилось, как нужен порой человек, умеющий наблюдать и делать выводы. У него был очень цепкий взгляд, а методичный холодный ум помогал отбрасывать несущественное и фокусироваться на важном. А так как наблюдательный человек видит многое из того, что окружающие хотели бы скрыть, то Кислинг был не слишком высокого мнения о других людях. Возможно, поэтому их нелюбовь или неприязнь никогда его не трогали. В жизни он любил только одно: свою работу. Душу его грела мысль, что история, о которой столько рассуждают болваны-профессора, делается в том числе и его руками, и для него не было большего наслаждения, чем удачное завершение многоходовой сложной комбинации, в результате которой его страна оказывалась в выигрыше, а противник терпел позорное фиаско. Это был самый прилежный, самый преданный сторонник Австрийской империи, и если бы ему кто-нибудь сказал, что империя, и император, и все, что составляло смысл его жизни, исчезнет, не пройдет и 20 лет, – он бы только рассмеялся холодным неприятным смешком и не поверил. Потому что тот, кто чувствует за собой силу своей державы, склонен забывать о том, что на всякую силу может найтись еще большая, которая ее сокрушит.
В Иллирии Кислингу, мечтавшему о просторе для своих интриг, поначалу было тесновато, но потом он втянулся в работу и стал находить большое удовольствие в том, чтобы вертеть местными сановниками и добиваться от них того, что ему было нужно. Очаровательная Лотта Рейнлейн была его идеей, и в случае, если бы она справилась с заданием и заставила короля пустить австрийцев в Дубровник, можно было считать все проблемы Австрии в этом регионе решенными. Однако тут Кислинг наткнулся на непонятное противодействие, которое сводило на нет все его усилия. Он приписывал его нерешительности Стефана, затем влиянию России, затем твердолобости министра иностранных дел Суботича, который дружил со ставленником русских генералом Ивановичем и вдобавок терпеть не мог австрийцев. Кислинг предписал Лотте быть еще более ласковой с королем и не без труда, но добился того, чтобы Суботичу дали отставку. Сменивший его министр с весьма монархической фамилией Деспотович относился к союзу с Австро-Венгрией куда благосклоннее, тем более что ему обещали очень хорошие деньги в случае, если австрийцы получат базу в Дубровнике. Однако, несмотря на все хлопоты резидента и его присных – Деспотовича и генерала Ракитича, – король только мило улыбался и отделывался туманными обещаниями, и из него никак, даже с помощью Лотты, не удавалось выудить соглашение. Время шло, дело не двигалось с места, и Кислинг начал нервничать. Известные депутаты вроде Старевича и Блажевича были против базы, но они не могли иметь решающего влияния на короля, потому что Старевич был республиканцем, а Блажевич предлагал утопический союз с Сербией. Одно время резидент полагал, что имеет дело с интригами, которые ведут либо королева-мать, либо наследник, преследующие какие-то свои цели. Тут в Любляне объявилась известная авантюристка баронесса Корф, и Кислинг понял, что с соглашением об австрийской базе лучше поторопиться, потому что русская база в этих водах была бы для его страны катастрофой. Однако вскоре после того, как Амалия арендовала у Верчелли Тиволи, с важными вестями явился Ракитич. Лицо, которое не желает пускать австрийцев в Дубровник, это не депутат, не министр, не сановник и не королевская особа, а просто алчный малый, который привык обтяпывать свои дела за чужой счет и вовсе не заинтересован в том, чтобы лишиться одного из своих источников дохода.
– Это Войкевич, чтоб его черти съели! – рявкнул Ракитич и стукнул по подлокотнику кулаком.
– Вы уверены? – мрачно спросил Кислинг.
– Король почти признался в этом Лотте, – проворчал Ракитич, немного успокоившись. – А она сразу же послала меня сказать вам. Нет сомнений, это полковник.
Кислинг вспомнил, сколько денег он передал Войкевичу, чтобы тот повлиял на короля и убедил его заключить нужное австрийцам соглашение. Так что, полковник банально его обманул?
– Вы же знаете его манеру, – сказал Ракитич. – Брать деньги со всех, много обещать и ничего не делать. Зачем подписывать соглашение, если ему платите вы, потом русские, потом итальянцы и даже сербы через Блажевича? Я бы не удивился, если бы он брал мзду даже с республиканцев, которые на всех углах кричат, что подкуп – это низко и они никогда до такого не опустятся.
Кислинг скрипнул зубами… из-за этого продажного прохвоста он потерял драгоценное время, соглашение не подписано, и еще эта баронесса Корф…
– Вам известно, что русские требуют у короля нейтралитета наших портов? – спросил генерал. – Они больше не просят, чтобы их корабли пустили в Дубровник.
– Ну, если так, они или очень наивны, или попросту глупы, – ответил Кислинг, и на его лице впервые с начала разговора появилось некое подобие улыбки. – Но, по крайней мере, это дает нам некоторую свободу маневра.
Ракитич кивнул.
– Я только ума не приложу, что нам делать с Войкевичем, – пожаловался он. – Я бы послал кого-нибудь из своих людей вызвать его на дуэль, да только это бессмысленно – он слишком хорошо стреляет.
Кислинг сосредоточенно размышлял, покусывая изнутри нижнюю губу. Конечно, Войкевич – жалкий тип, который возвысился лишь благодаря личному доверию двух королей, но оказывает на Стефана влияние. Причем такое, с которым справиться не в состоянии даже искусительница Лотта Рейнлейн.
– Я поговорю с ним еще раз, – сказал наконец Кислинг. – Постараюсь убедить не мешать нам. Но если будет упорствовать, что ж – придется от него избавиться.
– А что делать с этой… с баронессой Корф? – с тревогой спросил Ракитич.
Кислинг пожал плечами.
– Пока она требует нейтралитета портов, она нам не опасна, – уронил он. – Но…
Он умолк. По правде говоря, он сомневался, целесообразно ли было присылать из Петербурга столь выдающуюся особу только для того, чтобы добиться нейтралитета, который ничего, по сути, не значит. Уж нет ли у нее какой-то задней мысли?
На самом деле австрийский резидент был прав: Амалия действительно ничего не делала просто так, а если и делала, выяснялось, что это удачным образом согласуется с ее планами. К примеру, когда наследник престола утром отправился, как обычно, на конную прогулку, впереди на тропинке он увидел чудесное зрелище: золотую всадницу на золотой лошади. Михаил подстегнул коня и вскоре поравнялся с баронессой Корф. В золотистой амазонке, верхом на лошади невиданной желтой масти Амалия была чудо как хороша. Она милостиво улыбнулась Михаилу и на очаровательном французском осведомилась, что он делает в ее владениях.
– Я и не знал, что эта земля п-принадлежит вам, сударыня, – признался князь, который смотрел на нее во все глаза.
– Принадлежит – слишком громкое слово, – засмеялась Амалия. – Просто я взяла в аренду у графа Верчелли этот милый уголок с замком в придачу. Кроме того, я некоторым образом ваша должница.
– В самом деле? – изумился ее собеседник.
– Конечно, вы ведь столь любезно принимали меня в вашем старинном дворце, и теперь я тоже обязана пригласить вас к себе. Но сначала надо привести парк и замок в порядок. Если у вас найдется свободная минутка, я хотела бы посоветоваться с вами по этому поводу – я не так хорошо разбираюсь в предмете, как мне хотелось бы.
Князь Михаил поклонился и галантно объявил, что он готов помогать баронессе чем может, после чего немедленно был приглашен взглянуть на владения Амалии поближе. И, едва они оказались на главной аллее, которая вела к замку, Михаил чуть не уронил хлыст и в удивлении привстал в стременах.
Дремучий, запущенный парк Тиволи, небрежением графа Верчелли превратившийся в настоящие дебри, теперь преображался на глазах. Повсюду была бурная деятельность: одни работники расчищали дорожки и заново посыпали их песком, другие подстригали кусты, третьи высаживали цветы, щеголь-архитектор, выписанный из Парижа, размечал место для беседок и теннисного корта. Дому, который жался к деревьям в глубине парка, тоже не суждено было остаться прежним: слуги перетаскивали мебель, а маляры перекрашивали безжизненный серый фасад в ослепительно-белый цвет.
– Всегда мечтала устроить себе маленький Версаль, – объявила Амалия. – И потом, должна же я себя как-то развлечь, а то в вашей сонной Любляне я умру от скуки.
– Госпожа баронесса! – К ней приблизился взволнованный инженер, специалист по системам подачи воды. – Кажется, я разобрался в причинах поломки, и ваш прекрасный фонтан скоро заработает снова.
– Очень плохо, – осадила его Амалия. – Что такое один фонтан для такого большого парка? Сделайте мне еще десяток фонтанов. Господин Деланнуа! Это мой архитектор, – пояснила она Михаилу. – Господин Деланнуа, так что там с кортом? И не забудьте про руины, прошу вас! И многие статуи нуждаются в замене, а еще я хочу, чтобы привезли новые, копии самых лучших в мире!
И она стала объяснять своему спутнику, каким она видит будущее Тиволи. Глаза ее блестели, на губах порхала грациозная улыбка, тонкая ручка, затянутая в перчатку золотистой кожи, повелительно указывала, где будет располагаться большой цветник, новый фонтан или романтическая беседка. Князю Михаилу показалось, что он попал в сказку. Его завораживало зрелище хорошенькой хлопочущей женщины, которая так толково всем распоряжалась. И когда она спросила, играет ли он в теннис, он, не задумываясь, ответил утвердительно, хотя до этого держал ракетку в руках всего два раза в жизни.
– Но сначала я собираюсь созвать друзей на званый вечер, когда все тут будет устроено по моему вкусу, – добавила Амалия.
Михаил огляделся и рискнул предположить, что на устройство уйдет не меньше трех месяцев. Амалия гордо вскинула головку и объявила, что через две недели все будет готово, и она готова держать пари по этому поводу. И хотя князь был вовсе не азартным человеком, он и сам не заметил, как согласился на пари.
– Но на что же мы будем спорить? – спохватился наследник.
– Ах, я совершенно в этом не разбираюсь! – вздохнула Амалия. – Спорить на деньги, по-моему, вульгарно. Знаете что? Давайте спорить на желание. Кто проиграет, обещает выполнить желание выигравшего. Разумеется, оно должно быть в пределах разумного.
Михаил опомнился. Столь странное условие связывало его по рукам и ногам, но Амалия смеялась так заразительно и, казалось, была в таком восторге от своей новой игрушки – Тиволи, что князь простился с молодой женщиной с большой неохотой. Он уехал в свою резиденцию, а Амалия отправилась распоряжаться насчет того, чтобы как следует почистили старый, заросший тиной пруд.
– И еще мне понадобятся фейерверки, – сказала она Петру Петровичу, который мрачно расхаживал по дому, заложив руки за спину.
– Фейерверки?
– Ну да. И лебеди.
Оленин внимательно посмотрел на свою сообщницу, но не заметил никаких признаков того, что она шутила.
– Вы собираетесь подать их на званом ужине? – спросил Петр Петрович замогильным голосом.
– Вы в своем уме? – рассердилась Амалия. – Как можно есть лебедей! Пусть они плавают в пруду, это же так красиво!
Оленин вытер холодный пот и поспешно откланялся. Отчего-то у него адски разболелась голова. Кроме того, он никак не мог взять в толк, каким образом преображенный парк, обновленный дом, лебеди и фейерверки приблизят их к заветной цели – русской базе в Дубровнике.
– Ну-с, – спросил король вечером у своего адъютанта, – что поделывает наша гостья, баронесса Корф?
– Ничего особенного, государь, – отвечал Войкевич, но его глаза смеялись. – Представляете, она купила Тиволи у Верчелли и решила все там переделать. Парк теперь выглядит так, словно там окопалась гвардия Наполеона, которая сдерживает атаки русской кавалерии. Кроме того, наша гостья заключила пари с наследником, что через две недели все будет готово, и обещает устроить по этому случаю грандиозный вечер.
– В самом деле? – изумился король. – Поразительная женщина! А каковы условия пари?
– Князь ничего об этом не сказал, – ответил адъютант.
– Ах вот как! – протянул заинтригованный Стефан, однако не стал развивать эту тему.
– Она ездит в желтой амазонке на желтой лошади, – донес Лотте Рейнлейн генерал Ракитич. – Грозится устроить из Тиволи Версаль. Сдается мне, она что-то задумала, только пока непонятно, что именно.
– Версаль? – протянула Лотта и задумалась. – А что, желтый цвет сейчас в моде?
Пока вся Любляна ломала головы над странным поведением баронессы Корф, обсуждая ее планы по превращению Тиволи в Версаль и ее невиданного скакуна, слуги князя Михаила заметили, что утренние верховые прогулки их господина делались все продолжительнее и продолжительнее. Объяснение нашлось очень быстро: наследник, который раньше галопом, не задерживаясь, проносился через парк Тиволи, теперь предпочитал ездить с толком, с чувством, с расстановкой и непременно заворачивал к замку, где вовсю кипела битва человека с природой. Амалия встречала своего гостя с неизменным радушием, и, хотя князь в глубине души был готов к тому, что рано или поздно она заведет с ним разговор на политические темы, его очаровательная собеседница, казалось, была поглощена только перестройкой Тиволи.
– Как вы находите эту статую? Не правда ли, она чудесна? Копия «Персея» Челлини, только не из темного металла, а из гипса. Мне очень понравилась эта вещь, когда я была во Флоренции. Она стоит там в портике рядом с площадью… Обратите внимание, какой тут Персей – совсем еще мальчик! Поразительный скульптор был этот Челлини, право… А теперь надо выбрать для статуи подходящее место.
И Персея начинали двигать, повинуясь указаниям Амалии, а она порхала вокруг, сверкала глазами, расточала улыбки, и было в ней что-то нездешнее, что-то от яркой диковинной птицы, которая неведомо как залетела в эти края. Князь Михаил смотрел на нее и тихо млел, не подозревая, что неподалеку человек Войкевича, переодетый садовником, тщательно отмечает про себя все нюансы бесед наследника с баронессой.
– Сегодня он задержался на сорок минут, – докладывал вечером соглядатай, преданно глядя на королевского адъютанта. – Советовал расположить корт для тенниса рядом с прудом. Баронесса горячо его поблагодарила, а как только он ушел, велела строить корт совсем в другом месте, ближе к замку.
– Еще что-нибудь?
– Да. Она распорядилась устроить на подходе к замку четыре цветника в форме буквы «А». Я так понимаю, это потому, что ее Амалией зовут…
– Это совершенно несущественно, – оборвал его полковник. – Ступай и продолжай наблюдение.
Сообщив новые пароли и лично обойдя все караулы в королевской резиденции, Войкевич почувствовал, что ему неплохо было бы и отдохнуть, и отправился к себе домой. Время было уже за полночь, и он в который раз с грустной иронией подумал: «И какая женщина выдержит такое?»
Войкевичу было 27 лет – самый подходящий возраст, чтобы обзавестись семьей, и порой он пытался представить себя женатым человеком, но без особого успеха. Он отлично понимал, что принадлежит не себе, а королю, и будущей жене придется с этим мириться, а раз так, в семье неизбежно начнутся ссоры. Впрочем, статному адъютанту и без жены приходилось неплохо. У него было множество подруг, более или менее постоянных, но он ничуть не обольщался на их счет. Справедливости ради стоит добавить, что он вообще не был склонен обольщаться.
Дома его ждал посетитель, и, едва увидев Кислинга, сквозь напускное спокойствие которого сквозила напряженность, Войкевич отчего-то разозлился. В глубине души он терпеть не мог чванливого австрийца – даже больше, чем Оленина, который постоянно его задевал.
– Чем обязан чести видеть вас? – спросил полковник, даже не предлагая гостю сесть.
Кислинг слегка скривил тонкие губы в намеке на улыбку.
– Я пришел уберечь вас от колоссальной ошибки, – тихо промолвил резидент. И, вплотную приблизившись к Милораду, прошипел: – Не становитесь у нас на пути!
– Дорогой Томас, какая муха вас укусила? – притворно изумился Войкевич.
– Мне известно, что вы отговорили короля подписать с нами договор по поводу Дубровника, а ведь его величество совсем было решился на это. – Кислинг покачал головой. – Это не по-дружески, господин полковник. Вспомните, сколько подарков вы от нас получили. Его императорское величество Франц-Иосиф был готов дать вам орден, если вы поспособствуете нашему делу…
Он увидел колючий взгляд своего собеседника, уловил, как дрогнули его ноздри, как недобро сжался рот. В следующее мгновение господин адъютант его величества полил Франца-Иосифа, Австрийскую империю и лично Кислинга отборной бранью, закончив свою краткую, но энергичную речь пожеланием, чтобы престарелый император засунул свой орден туда, где наград не носят в принципе.
Резидент попятился. Он так привык к ироничной манере Войкевича, к его придворной любезности, к тому, что тот скалил зубы, но никогда не кусал, что этот взрыв ярости оказался для Кислинга совершенно в новинку. «Уж не продался ли он русским? – мелькнуло в голове у резидента. – Да нет, это невозможно!»
– Вы еще пожалеете об этом! – прошипел Кислинг, единственно чтобы оставить за собой последнее слово, и удалился быстрым шагом. Ему было неприятно чувствовать за спиной присутствие разъяренного полковника.
Милорад после ухода резидента некоторое время бесцельно мерил шагами комнату, но потом неожиданно схватил большую хрустальную пепельницу и метнул ее в стену, разбив вдребезги.
– Что я наделал! О, проклятье…
Он схватился за голову и рухнул в кресло. Конечно, виной всему была обыкновенная усталость, но как мог он, такой осторожный человек, обнаружить свои чувства перед этой бестией Кислингом?!
«А впрочем, если ему уже все известно…»
Стало быть, австрийский резидент больше ему не доверяет, а Войкевич отлично понимал, что это значило. У него не было привычки недооценивать своих врагов, а в том, что отныне они с Кислингом враги, он не сомневался.
В то время как полковник размышлял, как ему с наименьшими потерями выйти из сложившейся ситуации, еще один военный в Любляне не мог сомкнуть глаз, хотя и по совершенно другой причине.
Наутро он первым делом явился в Тиволи к баронессе Корф и попросил передать, что ее хочет видеть генерал Иванович.
Амалия тотчас же вышла к своему гостю. Наружностью пятидесятилетний Иванович несколько смахивал на покойного императора Александра Второго и даже носил бакенбарды, как русский царь, хотя они давно вышли из моды.
Генерал перебросился с Амалией несколькими ничего не значащими фразами о том, как замечательно она устроила свое новое жилище, и после этого перешел к делу:
– Госпожа баронесса, ко мне недавно обратилась одна… особа с довольно странной просьбой. Она хочет, чтобы я продал ей двух желтых лошадей, таких же, как у вас. Признаться, я в некотором затруднении и не понимаю, зачем ей это надо. Мне говорили, что этот шалопай Здравко Новакович подарил вам лошадь, которую он у меня выиграл, и… и…
Под ясным взглядом Амалии генерал запнулся и рассердился на себя. Черт побери, он никогда не умел соблюдать придворный этикет!
– У вас есть еще желтые лошади? – спросила Амалия с любопытством.
– Да, сударыня, но я не держу их у себя в конюшне, потому что это не лошади, а смех один. Простите, пожалуйста, – спохватился он, – я хотел сказать…
– А особа, которая жаждет их купить, – это, случаем, не Лотта Рейнлейн?
– Так точно, госпожа баронесса. Просто мне показалась странной ее настойчивость… и потом, эта история с подарком Новаковича… Я не был уверен, что эта… особа не затевает какую-то каверзу. – Судя по виду генерала, он собирался сказать вместо «особы» нечто куда более крепкое, и только присутствие баронессы, дамы до кончиков пальцев, удержало его от этого.
– Ну что ж. – Амалия улыбнулась. – Все в порядке, дорогой генерал. Я полагаю, вы можете продать Лотте обеих лошадей. Но, если хотите послушаться моего совета, запросите за них побольше.
– Подороже? – удивился Иванович.
– Да. Как можно дороже, и уверяю вас, вы не прогадаете. В конце концов, лошади этой масти чрезвычайно редки.
Генерал не знал, что на это сказать, и на всякий случай поклонился. Но, при всей своей прямолинейности, он чувствовал по тону собеседницы, что Лотту ждет какой-то подвох, хотя и не понимал, какой именно. Заверив Амалию в том, что она всегда может на него положиться, он удалился.
Амалия задумчиво посмотрела в окно. Отсюда ей были прекрасно видны статуи, белевшие среди деревьев, новые беседки и фонтан, высоко выбрасывающий струи. Гостиная, в которой она находилась, тоже выглядела восхитительно, особую прелесть ей придавали ширмы, расписанные птицами и цветами в японском стиле. Даже бюст Бонапарта подобрел и стал глядеть томно и многозначительно. Амалия задержала на нем взгляд и улыбнулась своим мыслям.
– Ну что, дорогой император, – сказала она, – пора приглашать гостей!
Глава 12 Фейерверк
– Благотворительный вечер? – изумилась королева Шарлотта.
– Да, ваше величество. В замке Тиволи, специально перестроенном в честь такого события, – ответил Петр Петрович.
Королева задумалась. За две недели, прошедшие с момента ее знакомства с баронессой Корф, она несколько раз встречалась с последней на заседаниях благотворительного комитета и вынесла из этих встреч впечатление, что Амалии далеко до филантропического рвения ее свекрови. К чему же тогда этот вечер? Или белокурая баронесса решила, подобно Лотте Рейнлейн, прибрать к рукам ее супруга?
– Я не знаю, дорогой мсье Оленин, – наконец сказала Шарлотта, глядя мимо него. – Разумеется, передайте баронессе благодарность за приглашение, но…
– Мы выписали оркестр из Вены, – вкрадчиво шепнул искуситель Петр Петрович. – Ваше величество! Неужели вы откажетесь украсить своим присутствием наше скромное торжество?
При словах «оркестр из Вены» королева встрепенулась. Больше всего на свете эта сухая, чопорная женщина любила хорошую музыку.
– В самом деле? Ну что ж, мсье Оленин… Если мы не будем заняты в этот вечер, мы, возможно, навестим вашу… знакомую.
– Что она затевает? – На другом конце Любляны Лотта Рейнлейн нетерпеливо допрашивала своего сообщника Ракитича.
– Обещают благотворительный вечер, – проворчал генерал, который на таких мероприятиях обыкновенно умирал от скуки. – Оркестр, фейерверк и прочее. Фейерверк из Парижа, оркестр из Вены. Всей люблянской знати разосланы приглашения. Ожидают, между прочим, и его величество.
– А мне приглашение не прислали! – Лотта топнула ногой. – Вот что! Я не допущу, чтобы Стефан тратил время на эти глупости! Довольно того, что его мать то учреждает детские приюты, то открывает новые больницы… Какая разница, где умирать, в новой больнице или в старой?
– Разумеется, я буду на вечере, – говорил в то же самое время король своему кузену Михаилу. – По твоим словам, она все переделала в Тиволи… Должен же я увидеть физиономию Верчелли, когда он там окажется!
– О да! – улыбнулся наследник.
– Конечно, благотворительность – замечательная идея, но ее воплощение в современном обществе оставляет желать лучшего, – говорил сухопарый рассудительный Старевич своей жене. – Однако, если мы туда не пойдем, люди могут превратно это истолковать.
– Кажется, на вечере обещают благотворительный базар? – спросила его супруга. – Придется купить что-нибудь, чтобы не ставить хозяйку в неловкое положение.
– Да, – кивнул Старевич. – Все сборы будто бы пойдут на новый приют в Дубровнике, а также больницу и богадельню в Любляне, но ты же знаешь, как это бывает. Всегда вычитают расходы на устройство вечера, а неимущим достаются крохи.
– Интересно, а оркестр, правда, будет из Вены? – мечтательно спросила супруга. Она так давно не танцевала… Боже мой, неужели впереди у нее нет никакой радости, только старость, увядание и повседневность, без единого праздника, без единого просвета?
– Это легенда, – охладил ее пыл всезнающий муж. – Думаю, нам повезет, если оркестр будет хотя бы румынский, а не местный.
– А фейерверк?
– Пара ракет, пара шутих, и больше ничего. Не будь такой легковерной, дорогая!
В замке Тиволи меж тем Петр Петрович Оленин подсчитал уже потраченное и предстоящие расходы, побледнел, пересчитал снова и побледнел еще сильнее.
– Амалия Константиновна! – простонал он умоляюще.
– Петр Петрович, пока все замечательно, все идет как надо!
– Но, Амалия Константиновна… Мы разоримся!
– Не будьте пессимистом. В конце концов, русский орел мух не ловит. Да!
– Госпожа баронесса… – Резидент собрался с духом. – Если вы собираетесь таким образом произвести впечатление на его величество…
– Вы ничего не понимаете, Петр Петрович, – вздохнула Амалия. – Моя цель – вовсе не его величество.
– Но тогда…
– Петр Петрович! Ступайте лучше на кухню и проследите… не знаю, за чем хотите. Или проверьте, хорошо ли укреплены фонарики в саду. Кстати, что у нас с погодой?
– Погода прекрасная, – убитым голосом доложил Петр Петрович, – на небе ни облачка.
– Положительно, звезды к нам благосклонны, – объявила Амалия и удалилась к себе – осматривать наряд, предназначенный для вечера.
Оленину сделалось жарко, хотя день и так обещал быть теплым. Чтобы хоть как-то излить свое раздражение, он вернулся к себе и стал строчить в Петербург донесение, в котором доводил до сведения начальства, что он не понимает баронессу Корф, не видит смысла в ее действиях и вообще считает, что надо не цепляться за этот никчемный Дубровник, а строить новейшие корабли и ускорить перевооружение российской армии, чтобы отбить у противника всякую охоту связываться с Россией.
Видя, что хозяин чем-то раздражен, Васька подошел и ткнулся в него головой. Петр Петрович заворчал, но взял своего верного друга на руки. Васька потерся о него мордочкой, умильно покрутился на коленях у хозяина, щуря зеленые глаза, после чего грациозно перепрыгнул на стол и опрокинул чернильницу аккурат на почти законченное послание.
– Паршивец! – сокрушенно вздохнул резидент, качая головой. Впрочем, было понятно, что донесение в столь резком виде отправлять было нельзя. Поэтому он снял Ваську со стола, погрозил ему пальцем, а донесение изорвал в клочья и сжег, чтобы даже Кислинг с его истинно австрийским рвением не смог ничего выудить из разрозненных обрывков.
По правде говоря, Оленину до ужаса не хотелось идти ни на какой благотворительный вечер, но он все же пересилил себя, переоделся, побрызгал на себя убигановскими духами[204], погладил Ваську, попросил его на прощание не слишком любезничать с соседскими кошками и сел в карету, которая должна была отвезти его в Тиволи. У ворот ему пришлось пропустить вперед роскошный экипаж, расписанный под золото и запряженный парой лошадей чрезвычайно редкой золотистой масти. Из экипажа грациозно выпорхнула Лотта Рейнлейн со своим неизменным спутником, генералом Ракитичем, который нес Талисмана. Фаворитка сегодня была в умопомрачительном наряде голубого цвета, который как нельзя лучше оттенял цвет ее глаз.
Убедившись в том, что король жаждет видеть обновленный Тиволи и никак не получится отговорить его от визита, Лотта решила дать бой сопернице на ее территории. Так как приглашение, посланное Ракитичу, позволяло ему захватить с собой даму, балерина легко проникла в оплот ненавистной баронессы. Однако, едва мадемуазель Рейнлейн увидела метаморфозу, произошедшую со старым, запущенным парком, все мечты о мести моментально вылетели у нее из головы.
Ибо упорство Амалии, фантазия Амалии, а также – не в последнюю очередь – деньги, полученные Амалией от российского правительства, сделали настоящее чудо. Всюду, куда ни кинь взор, торжествовала сказочная гармония. Пестрели цветочные клумбы, радовали взгляд кусты, подстриженные в форме разных хитроумных фигур, а оркестр, сидевший на возвышении, одну за другой играл восхитительные венские мелодии, от которых у души вырастали крылья, и она готова была устремиться куда-то вдаль без оглядки. Взлетали ввысь струи фонтанов, пруд был полностью вычищен, и по его зеркальной поверхности скользили белые лебеди. А вокруг – статуи прекрасных женщин и задумчивых античных мужчин, и даже Персей, грозный мальчик-воин, попиравший тело Горгоны и высоко поднимавший ее отрубленную голову, не нарушал эту чарующую идиллию.
– Боже, – лепетала жена Старевича, совершенно потерявшая голову, – как тут красиво! А оркестр-то вовсе не румынский!
Ее муж-республиканец подавленно молчал. По правде говоря, ему было попросту нечего сказать, но тут к ним приблизился Томислав Блажевич. Обыкновенно Старевич не слишком жаловал своего коллегу, который ратовал за заведомо провальный союз Иллирии с Сербским королевством, но теперь депутат почувствовал даже нечто вроде симпатии, увидев знакомое лицо среди этого чуждого великолепия.
– Праздник-то, праздник! – сказал Блажевич, цокнув языком. – Вы видели хозяйку? Еще нет? Бедная Лотта!
– Почему это она бедная? – заинтересовался Старевич.
– Так, – туманно ответил собеседник. – Заметили, какая у Лотты новая карета? А лошади? Иванович может купить пол-Любляны на те деньги, которые получил с нее за этих лошадей. Редчайшая масть, нигде в мире таких больше нет! Каприз природы! А ожерелье? Вы видели, какое на ней ожерелье? А диадема?
– Конечно, – с готовностью ответила жена Старевича. – Ходят слухи, что его величество… гм, выложил за них целое состояние!
Блажевич тем временем поймал лакея и отнял у него разом два бокала шампанского.
– Настоящее французское, – объявил сторонник союза с Сербией. – Не какая-нибудь итальянская шипучка, от которой только изжога… прошу прощения, сударыня. – Он понизил голос. – И ради чего все это? Я спрашиваю вас, ради чего?
– А вы как думаете? – спросил Старевич, сгорая от любопытства.
– Политика! – изрек Блажевич, важно поднимая указательный палец и при этом не выпуская из рук бокалов. – Я вам больше ничего не скажу, но тут, конечно, замешана политика. Размах! – Он остановил еще одного лакея и на сей раз взял с подноса три бокала, решив, очевидно, не мелочиться.
Петр Петрович стоял, оглядываясь то на карету и лошадей Лотты Рейнлейн, то на саму балерину, явно потрясенную размахом нового Тиволи, и в голове его блуждали мысли одна любопытнее другой. Ему показалось, что он наконец-то уловил, куда именно клонила Амалия, затевая все это, и про себя отдал должное тонкому коварству своей сообщницы. «Однако… Если она будет продолжать так и дальше, то дело, возможно, выгорит. Или, – добавил он мысленно, усмехаясь, – мы вылетим в трубу».
Разом повеселев, он двинулся по аллее к замку, не прекращая по старой привычке тщательно фиксировать происходящее вокруг. Вот граф Верчелли, который устроился на скамье, поигрывает тросточкой и растерянно улыбается, чтобы скрыть свое изумление. Старевич… еще один депутат… увядшая жена Старевича, которая смотрит вокруг с восторгом маленькой девочки, впервые попавшей на елку… Громогласный здоровяк, генерал Новакович, который всегда хохочет за двоих… Тщедушный чиновник, какой-то родственник генерала – Оленин помнил его смутно… Но тут он вошел в дом и увидел Амалию.
На ней было платье цвета розового шампанского, расшитое жемчугом, и вместо всяких украшений – цветок в волосах, экзотическая, невероятной красоты орхидея, привезенная из Индокитая во Францию и оттуда выписанная в Любляну. И эта орхидея, притягивавшая все взоры, совершенно затмила маленькую мещаночку Лотту Рейнлейн со всеми ее сверкающими бриллиантами, с диадемой, украшенной крупными сапфирами, и тяжелым ожерельем. Да что там затмила – просто скомкала, как никуда не годный набросок, и выбросила куда-то на обочину вечера, долой, прочь.
«Однако сильна! – подумал в невольном восхищении резидент Кислинг. – Только если она думает, что ей так легко удастся приручить короля…»
Но прежде короля на вечер явился наследник, и всякий мало-мальски наблюдательный человек сразу же сказал бы вам, что если кто и был приручен Амалией, то, несомненно, князь Михаил. Он так долго целовал запястье хозяйки, так долго держал его в руках и глядел на баронессу с таким восхищением, что граф Верчелли, стоявший сзади и ожидавший своей очереди, начал вполголоса роптать.
– Нашу хозяйку узурпировали, – пожаловался он генералу Новаковичу.
Однако тут явился король в сопровождении супруги, королевы-матери, охраны и вездесущего Войкевича. И взгляд, которым Стефан окинул Амалию, говорил, что король ни капли не сомневается в том, что хозяйка так принарядилась специально для него и чрезвычайно ценит такое внимание.
Впрочем, взгляд этот остался незамеченным королевой, которую гораздо более интересовала Лотта Рейнлейн. Убедившись в том, что негодная плясунья вновь низведена Амалией до состояния полнейшего ничтожества, королева подобрела и решила, что непременно окажет баронессе какую-нибудь услугу.
Что касается королевы-матери, то она недоумевала. Этот роскошный прием, с ее точки зрения, очень мало походил на благотворительный вечер. Наверное, ее единственную из гостей не трогали изысканные цветники, виртуозность венского оркестра и лебеди в саду. Эта славная женщина привыкла к простоте, а как раз ее-то она тут и не находила. Знай она истинную цель затеянной Амалией комбинации, она бы, несомненно, возмутилась. Но бесхитростная королева ни о чем не догадывалась, чего, кстати, нельзя было сказать о Милораде.
Полковник Войкевич не сомневался, что все действия Амалии имеют одну цель, а именно – завлечь и использовать господина его и повелителя. Поэтому адъютант был намерен ни на шаг не отпускать от себя его величество. В то же время Стефан, которому тоже представлялось, что он прекрасно понимает замысел Амалии, посмеиваясь про себя, ждал, когда его начнут обхаживать, льстить, посылать пламенные взоры и вообще брать в осаду по правилам, существующим с незапамятных времен.
Все гости собрались в большом зале, и Амалия послала слугу сказать оркестру, чтобы музыканты тоже перебирались в дом. После чего хозяйка произнесла маленькую речь о том, что в знак российско-иллирийской дружбы и с благословения ее величества вдовствующей королевы Стефании она организовала небольшой благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут сиротам, старикам и больным. Также Амалия поблагодарила всех присутствующих за то, что они откликнулись на ее приглашение, и выразила надежду, что они не сочтут время, проведенное под ее кровом, потраченным зря.
– Вообще-то, это ваш кров, дорогой граф, – заметил Старевич графу Верчелли, который тайком истреблял похищенное в соседнем зале мороженое. – Вы ведь не продали ей Тиволи, верно?
– Мы заключили договор, – хладнокровно отвечал сенатор, верный приобретенной еще на дипломатической службе привычке никогда не говорить ни да ни нет, если общаешься с противником.
Обыкновенно благотворительный аукцион был скучнейшей частью любого вечера, которую не пропускали только из вежливости. Однако, когда Амалия призвала на помощь Петра Петровича и стала объявлять лоты, в зале повисло напряженное молчание. Началось все с брошки с бриллиантами и опалами, изображающей букетик ландышей, за ней последовали жемчужный браслет известной парижской фирмы, шкатулочки с перламутровой инкрустацией, веера, зонтики, куклы в модных платьях, духи в хрустальных флаконах, украшения, наимоднейшие шляпки – все совершенно новое и завораживающе красивое. Вскоре торг разгорелся не на шутку. Жена Старевича урвала самую лучшую шкатулочку и отчаянно сражалась за золотые дамские часики. Королева приобрела три брошки, браслет и десяток шляп. Лотта тоже пыталась за них бороться, но натолкнулась на хмурый взгляд короля и сочла за благо отступить, сказав себе в утешение, что теперь Стефану придется купить ей куда более дорогие украшения. Мужчины бились за запонки и портсигары. Цены росли как на дрожжах, гости почувствовали азарт и набавляли, не щадя нервы противника. Оленин весь взмок и только смутно соображал, что эти вещи будут проданы, по крайней мере, вдвое дороже, чем их брали в Париже, а значит, смелая авантюра баронессы хоть частично окупится. Наконец взорам присутствующих явился венец коллекции – дамское колье с бриллиантовой розой, и Лотта, едва увидев его, поняла, что оно должно принадлежать ей. Ракитич тщетно пытался вполголоса остановить ее, потому что завладеть колье собиралась и королева, – ничего не помогало. Поедая пятую порцию мороженого, Верчелли с удовлетворением наблюдал, как три дамы – третьей была очень богатая и обычно очень скупая жена министра печати Лаврича – набавляют цену и, забыв всякие правила приличия, пытаются перекричать друг друга. Наконец вмешался король и предложил такую цену, которую никто не осмелился перебить. Шарлотта посмотрела на супруга испепеляющим взором, но Стефан поклонился ей и вполголоса заверил, что покупает украшение для нее, и только для нее. Королева тотчас же успокоилась и, распахнув черный веер из перьев страуса, милостиво улыбнулась Амалии.
Вновь заиграл оркестр, и хозяйка дома объявила, что теперь гости вольны распоряжаться собой как им заблагорассудится. Если кто-то проголодался, милости просим в соседний зал; если кто-то хочет танцевать – бальный зал к их услугам. Она просит только одного – не расходиться, потому что через некоторое время начнется фейерверк под руководством мастера, который делал фейерверки еще для вдовствующей французской императрицы и ее супруга.
Петр Петрович стоял в углу, утирая платочком пот, и смотрел на человеческий водоворот, который кипел вокруг Амалии. Очарованные гости кланялись, целовали ей руку, уверяли, что вечер получился незабываемым и они давно не получали такого удовольствия от благотворительного аукциона. Королева-мать тоже поблагодарила Амалию, хоть и несколько сухо. Добрая женщина не могла взять в толк, для чего нужен был этот размах, когда они раньше устраивали все гораздо скромнее и все вроде бы оставались довольны.
– Отменный, отменный вечер, – сказал Кислинг наследнику. – Ваше высочество, а это правда, что вы заключили с хозяйкой пари, что она не успеет переделать парк и замок за две недели?
Слова австрийского резидента угодили в самое больное место. Михаил отлично помнил условия пари и, надо сказать, они его тревожили. Как честный человек, он не мог отказаться от своего слова. С другой стороны, у него не было никаких сомнений по поводу того, зачем сюда прибыла баронесса Корф – об этом, благодаря российским связям Кислинга, все в Любляне были осведомлены еще до ее приезда.
…Неужели она потребует у него повлиять на короля и заставить его уступить Дубровник русским?
Вечерело, в саду зажглись цветные фонари. А потом над парком поднялась первая ракета.
– Фейерверк, фейерверк! – закричала разом помолодевшая жена Старевича и потянула остальных гостей на террасу.
Это было восхитительное зрелище: над парком один за другим взмывали огненные букеты, лопались снопы звезд, плясали шутихи. Только безмолвные белые статуи остались безучастными к этому зрелищу да старый глухой пес Тобик, который дремал в своей конуре возле домика садовника.
Улучив минуту, Михаил подошел к Амалии, которая стояла между королевой и Войкевичем, и напомнил ей о пари, которое так его тревожило. Амалия удивленно подняла брови, словно давным-давно о нем забыла. В небе появился ее огненный вензель – буква «А», и толпа на террасе зааплодировала.
– Ах, условие! – уронила Амалия. – На что мы спорили – на желание? Ну так вот, я желаю сыграть с вами в теннис, ваше высочество. Надеюсь, вы не откажетесь от своего слова?
И она стала глядеть на небо, на котором мастер фейерверков как раз в эти мгновения изобразил инициал короля и золотую корону.
Глава 13 Партия в теннис
– Должна признаться, я не вижу в этом никакого смысла, – сказала Лотта.
– А между тем он есть, – отозвался Кислинг. – Милорад Войкевич очень любит женский пол, и никого не удивит, если он начет ухаживать и за вами. Главное – обставить дело так, чтобы об этом узнал король, во-первых, и чтобы в результате его величество удалил от себя не вас, а этого выскочку, во-вторых.
Балерина вздохнула.
– Вы предлагаете мне завлечь полковника? – будничным тоном спросила она.
– Не совсем. Полагаю, достаточно будет получить доказательства, что он интересуется вами. Потом вы пожалуетесь королю, предъявите ему подтверждение, и герр Войкевич на веки вечные отправится стеречь крепость в Дубровнике. Если ему повезет, конечно.
Лотта задумалась. По правде говоря, ей не слишком хотелось участвовать в очередной интриге Кислинга, и не потому, что адъютант был ей настолько неприятен. Просто Стефан в последнее время был с ней так мил, преподнес ей роскошные драгоценности, чтобы компенсировать утрату колье с розой, и вдобавок подарил дворец в старой части Любляны. Лотта очень хотела дворец с парком, как у баронессы Корф, чтобы заткнуть эту гордячку за пояс, но, увы, второго такого парка, как Тиволи, в Любляне не нашлось. Балерина объявила во всеуслышание, что заново обставит свой дворец в десять дней и по истечении этого срока даст такой бал, что небу будет жарко. И мало того что ей надо заниматься обстановкой и заодно держать в поле зрения соперницу, которая покушается на ее любовника, теперь на ней новая обуза – Войкевич. Она капризно поджала губы.
– Томас, а вы не можете справиться с Войкевичем своими силами? В конце концов… – она мгновение поколебалась, но все же договорила фразу: —…нет такого человека, от которого нельзя было бы избавиться.
– Это может вызвать ненужные осложнения, – усмехнулся Кислинг, – а в случае, если король поймет, откуда дует ветер, наши отношения с Иллирией будут безнадежно испорчены. Другое дело, если полковник сам подставится и вызовет гнев его величества. А король Стефан, что бы про него ни говорили, очень дорожит вами, мадемуазель. И он никогда не возвращает свое доверие людям, которые его разочаровали.
– Это будет не разочарование, дорогой Томас, – уронила Лотта, – а предательство.
– Рад, что мы так хорошо понимаем друг друга, – серьезно произнес резидент и поцеловал ей руку.
Случайно или нет, но под открытым окном гостиной как раз в эти мгновения оказался старый, грязный, глухонемой нищий, на которого слуги Лотты никогда не обращали особого внимания. На самом деле нищий был куда моложе, чем казалось, и вовсе не утратил ни слуха, ни членораздельной речи, что и доказал этим же вечером, когда представлял полковнику Войкевичу свой отчет о королевской фаворитке.
– К даме заезжал Кислинг, что для него довольно необычно, потому что, как правило, его поручения Лотте передает Ракитич. Но на сей раз дело серьезное. Берегитесь, господин полковник, они задумали вас погубить.
– Да? И каким же образом?
– Насколько я понял, Лотта собирается вас завлечь, а потом пожаловаться королю.
Войкевич мрачно посмотрел на своего шпиона.
– Интересно, с чего они взяли, что мне будет приятно валяться на той же подстилке, что и Стефану, – зло проговорил он, переходя на местный диалект. Лженищий был его родственником, и перед ним адъютант не боялся обнаружить свои истинные чувства.
Шпион вздохнул.
– Может, Кислинга собьет карета? – ненавязчиво предложил он. – Совершенно случайно, само собой.
– Или в него ударит молния, – хмыкнул полковник. – А что? Весной у нас часто бывают грозы.
– Так мне заняться этим? – настойчиво спросил его собеседник.
– Нет, – ответил Войкевич, подумав. – Пока нет. Будем держать его в поле зрения. И эту даму, баронессу Корф, тоже.
– И Оленина?
– Само собой.
Не подозревая, какие о них ведутся речи, Петр Петрович и Амалия сидели в большой гостиной замка Тиволи и занимались делом. Под внимательным взглядом Бонапарта резидент подводил итоги, вычисляя, сколько денег им принес приснопамятный благотворительный аукцион. Амалия, опершись подбородком на руку, рассеянно смотрела на фонтан за окном, струи которого в солнечных лучах вспыхивали золотыми искрами. Закончив подсчеты, Петр Петрович поморгал глазами и решил для очистки совести пересчитать все заново. Однако и повторный пересчет дал тот же самый результат.
– Поразительно! – пробормотал резидент. – Госпожа баронесса, мы сумели выручить на аукционе больше, чем потратили на вечер. Я, правда, не включил в счет строительство беседок и создание новых фонтанов, но…
– Отправьте в благотворительный комитет ее величества королевы-матери остаток в двойном размере, – распорядилась Амалия.
– Но это очень большие деньги! – вскричал Петр Петрович. – Амалия Константиновна, кому вы думаете оказать этим услугу? Здесь же, как в России, все разворуют, и… и на этом точка, финал!
– Вы, Петр Петрович, не понимаете, – Амалия устало поморщилась. – Благодаря этому комитету я вхожа в самые высокие придворные круги. Королева Шарлотта после вечера послала мне крайне любезное письмо. Королева-мать также ко мне благоволит, и я не могу позволить себе терять эти связи из-за каких-то никчемных денег.
– Понимаю, – сказал резидент после паузы. – Думаю, ваш план может сработать. Лотта Рейнлейн купила не только лошадей у Ивановича, подражая вам, – она уговорила его величество купить ей и дворец на главной площади.
И сообщники обменялись крайне красноречивым взглядом.
– Лучше, если она купит еще несколько дворцов, – заметила Амалия. – Вот что, Петр Петрович. Отправляйтесь-ка вы в город да присмотрите там самые дорогие особняки. Можете также съездить в Сплит и в Дубровник, я не возражаю. И, когда будете разговаривать с владельцами, дайте им понять, что в приобретении заинтересована баронесса Корф. Можете также завести речь о покупке целых имений от моего имени, это ваше дело. Главное, чтобы они были побольше и стоили как можно дороже.
– А чем будете заниматься вы? – с любопытством спросил резидент.
– А я буду играть в теннис с его высочеством, – безмятежно отозвалась Амалия.
У Оленина вертелся на языке следующий вопрос – какая роль в комбинации Амалии отведена наследнику, – но он не стал задавать его, памятуя о том, что лишние разговоры могут только навредить. Впрочем, баронесса Корф сама давно собиралась расспросить его кое о чем.
– Кстати, Петр Петрович… Я смутно помню, что князь Михаил женат, а между тем я до сих пор не слышала упоминания ни о его супруге, ни о детях. Почему?
– О, это весьма печальная история, – оживился резидент. – Князь Михаил женился, как женятся все в его кругу, на равной ему по крови баварской принцессе Луизе. Было это, когда наследнику сравнялось 20 лет… стало быть, уже 9 лет тому назад. Молодые жили сначала вполне мирно, но, к сожалению, этот брак оказался трагически неудачным. У княгини один за другим случилось несколько выкидышей, а потом с ней стали происходить странные вещи. Она уверяла, что она из стекла и ее зовут цветочницей Бертой. Словом, она сошла с ума, и, хотя было известно, что в ее роду наблюдалась склонность к меланхолии и подобные отклонения, такой развязки никто не ожидал. Доктора, конечно, пытались сделать все, что только возможно, но… Когда разум блуждает в сумерках, посторонние бессильны помочь. Последний раз я видел княгиню три года назад, но ее уже тогда держали под присмотром. Она находится в одном из замков недалеко от Любляны, потому что князь Михаил по понятным причинам считает невозможным жить с ней под одной крышей. Забыл вам сказать, что у нее бывают приступы буйства, и тогда она вполне способна убить человека. Детей у них не было, возможно, к счастью, и все же это осложняет положение наследника. Представьте себе, что со Стефаном что-то случится и Михаил станет королем. Возникает сразу же масса вопросов по поводу наследования, да и душевнобольная королева страну не украсит.
– А князь не пытался добиться развода? – спросила Амалия.
Петр Петрович поднял брови. Интересно, почему баронесса Корф вдруг так заинтересовалась этой темой?
– Они католики, Амалия Константиновна, – тихо напомнил резидент. – Королевская семья в Иллирии всегда была католической, хотя значительная часть населения исповедует православие. Боюсь, что вопрос о разводе может быть поставлен только в самом крайнем случае.
– А проавстрийская партия, конечно, выступает против развода, – тотчас же сделала вывод Амалия. – Допустим, Стефана больше нет, его дочери не наследницы, Михаил не разведен… и, если с ним что-то случится, страну попытаются захватить австрийцы, пользуясь внутренней смутой. А она наверняка возникнет, если не будет твердого порядка престолонаследия. – Она покачала головой. – Почему Стефан не примет закон о том, чтобы женщины могли наследовать престол?
– В Иллирии? – изумился Петр Петрович. – Простите меня, Амалия Константиновна, но на таком посту далеко не все мужчины способны справиться. Женщина на троне – опять будет смута и ослабление верховной власти.
– Это смотря по тому, какова будет женщина, – возразила Амалия. Резидент покосился на нее и не смог сдержать улыбки.
– Признайтесь, Амалия Константиновна, вы были бы не прочь примерить корону иллирийских монархов, – поддразнил он свою собеседницу. – Ту самую, которая весит не то два, не то три килограмма, с огромным рубином наверху.
– Это интересный вопрос, Петр Петрович, – серьезно ответила Амалия и задумалась. – Не стану от вас скрывать: мне иногда хотелось бы побыть правительницей неделю… или две. Просто чтобы понять, что это такое. Но мы с вами прекрасно понимаем – этого не будет никогда, потому что мой отец – не король.
– А жаль! – вздохнул Петр Петрович. – Я бы с таким удовольствием служил вам, ваше величество…
– А я бы с неменьшим удовольствием повелевала вами, – в тон ему отозвалась Амалия, поднимаясь с места. – Так не забудьте, что мое величество интересуется покупкой дорогой недвижимости и крупных имений. Чем больше и дороже, тем лучше.
Бонапарт поглядел вслед выплывающей из гостиной молодой женщине и сразу же погрустнел. На уход Оленина он даже не обратил внимания.
Через полчаса Амалия прошла через гостиную, держа в руках пару превосходных теннисных ракеток и сумку с мячиками. Она вышла в сад, где у подножия лестницы ее дожидался князь Михаил.
Увидев баронессу Корф, наследник обомлел, и надо сказать, было отчего. На Амалии была элегантная светлая блузка, длинная белая юбка с черным поясом и обманчиво простая с виду шляпка с узкими полями, приколотая к прическе булавкой. На ногах красовались башмачки, за которые Золушка отдала бы и карету-тыкву, и своего надутого принца в придачу. Однако вовсе не башмачки поразили наследника в самое сердце, а то, что Амалия в своем наряде, рекомендованном всеми модными журналами для игры в теннис, выглядела совсем юной, хрупкой и беззащитной.
Князь Михаил трепещущим голосом произнес подходящие к случаю слова приветствия, заикаясь вдвое чаще, чем обычно. Однако стоило Амалии посмотреть ему в глаза со своей очаровательной открытой улыбкой, и он сразу же пришел в себя.
– Всегда мечтала научиться играть в теннис, – объяснила искусительница, лучась улыбкой. – Так что теперь я жду, что вы меня хоть немножечко потренируете.
Это «хоть немножечко» прозвучало так по-девичьи непосредственно, что князь Михаил вновь почувствовал, что он теряет голову. Опомнился он только тогда, когда они уже пришли на корт – новехонький, только что построенный корт с кипенно-белой сеткой, протянутой между двумя желтыми столбиками. Солнце светило так ярко, что слепило глаза, но от стоящих неподалеку деревьев на корт падала благословенная тень, и наследник немного приободрился.
– Как вы, возможно, з-знаете, в теннис м-можно играть и вдвоем, и вчетвером. Когда и-играют вдвоем, сначала игроки становятся на задней линии. Потом они могут перемещаться, но только по своей половине корта. Мяч должен находиться в корте… не улетать за пределы разметки. Касаться мяча можно только ракеткой. Сначала подает один игрок, потом другой. Счет ведется по с-сетам и геймам. Сет – это…
Амалия слушала и кивала. По правде говоря, она ввела наследника в заблуждение, сказав, что совсем не умеет играть. Когда-то она играла в теннис, просто так, для удовольствия… но это было давно, и она не сомневалась, что с тех пор уже все успела забыть.
– Боюсь, из меня выйдет н-неважный учитель, – сказал наследник с виноватой улыбкой.
– О, ваше высочество, вы слишком к себе суровы, – сказала Амалия. – Начнем?
Начало было именно таким, каким оно может быть у двух любителей, один из которых играл в теннис всего два раза, а другая не играла уже много лет. Мячи бестолково летали по корту туда и сюда. Потом Амалия спохватилась и вызвала сынишку садовника, чтобы он собирал мячи, оказавшиеся в ауте. Вместе с вихрастым Огненом явился и старый пес Тобик, который решил, что задание собирать мячи касается и его, и стал носиться за ними с веселым лаем. Мало-помалу игра налаживалась, удары обоих игроков стали увереннее, и Михаил уже куда меньше махал ракеткой мимо мяча, который просто обязан был взять. Когда стало совсем жарко, Амалия решила прерваться и поблагодарила его высочество за доставленное удовольствие. Михаил вполне искренне ответил, что он получил еще большее удовольствие, и, в сущности, это было правдой. Пока Амалия бегала по корту, отражая удары, он не раз имел возможность увидеть ее стройные лодыжки, что, кстати сказать, было одной из причин частых промахов князя.
Они расстались, условившись завтра попрактиковаться в теннисе еще раз. По пути домой князь пытался припомнить, не пробовала ли баронесса между делом разговорить его на политические темы, да так ничего и не вспомнил. Беседа шла о теннисе, о теннисе и только о теннисе.
«И какие у нее ножки… Куда до нее этой Лотте!»
Он не мог дождаться завтрашнего дня, а время, словно нарочно, тянулось невыносимо медленно, и окружающие явно сговорились, чтобы отравить ему оставшиеся часы ожидания. Сначала он получил написанное кошмарными каракулями письмо от жены, которая заявляла, что с ней обращаются неаккуратно и могут разбить, поэтому она требует, чтобы он забрал ее. Затем он отказался от предложения кузена возглавлять какую-то никчемную правительственную комиссию, и граф Верчелли с напускным добродушием намекнул королю, что у наследника и так много дел, особенно в области спорта. Корректный Стефан не стал задавать вопросов при посторонних, но после заседания спросил у адъютанта, о чем, собственно, идет речь.
– Его высочество играет с баронессой Корф в теннис, – ответил Войкевич.
– Ах вот как! – задумчиво протянул король.
На следующий день Михаил снова появился на теннисном корте, но едва они с Амалией обменялись несколькими ударами, как из-за деревьев показались неожиданные гости. Ими оказались король в сопровождении адъютанта и охраны, а также неизбежная Лотта с генералом Ракитичем, который нес Талисмана.
– Госпожа баронесса, – объявил Стефан, кланяясь, – мы оказались по соседству и решили вас навестить. Надеемся, вы не против?
Амалия заверила его, что таких гостей она рада видеть в любое время, и сказала, что они с князем Михаилом играют в теннис, но можно попробовать сыграть вчетвером.
– Будьте осторожны, сударыня, – заметил наследник, – его величество играет очень хорошо!
– Тогда, – сказала Амалия, – мы с князем сыграем против вас и…
– И меня, – вмешалась Лотта и очаровательно улыбнулась любовнику.
– Нам еще понадобится судья, – напомнил Михаил. – Когда играют вчетвером, без судьи не обойтись.
Судьей назначили Милорада Войкевича. Ракитич, почесывая Талисмана за ушком, сел на скамью возле корта, предназначенную для зрителей, а королевская охрана сочла за лучшее раствориться в близлежащем парке. Амалия послала Огнена принести дополнительные ракетки, и сынишка садовника убежал, гордясь, что ему выпало такое ответственное поручение.
Когда он вернулся, таща с собой новехонькие ракетки, Амалия разговаривала с гостями о бале, который мадемуазель Рейнлейн намеревалась устроить в своем новоприобретенном особняке.
– Разумеется, мы будем рады видеть вас, госпожа баронесса, – сказала балерина, кисло улыбаясь.
Старый Тобик, который лежал на траве, высунув от жары язык, с любопытством наблюдал, как молодая дама с голубыми глазами придирчиво выбирает себе ракетку. Лотта посетовала на то, что эти ракетки для нее тяжеловаты, и сообщила Амалии, что спортивный инвентарь обязательно надо покупать у совершенно другой фирмы. Тут, почуяв неладное, вмешался король:
– Дорогая мадемуазель, разумеется, если вы не хотите играть…
– О, что вы, ваше величество! – сладко пропела Лотта.
Как и было условлено, она играла в паре с королем против Амалии и Михаила. По первым же ударам Стефана Амалия убедилась, что он действительно хорошо умеет играть в теннис, чего нельзя было сказать о балерине. Проиграв подачу, она всякий раз принималась доказывать, что на самом деле ее сторона выиграла, и спорила с Войкевичем, который со своей ролью судьи справлялся очень хорошо. У него оказался очень острый глаз, он безошибочно определял аут и не пытался никому подсуживать – качество, которое Амалия в любом судье ставила очень высоко.
– Кажется, нас обыгрывают, – сказал Михаил Амалии, когда король и балерина все-таки вырвались вперед.
– Подавайте больше мячей на мадемуазель Рейнлейн, – посоветовала ему Амалия. – Бейте по слабому звену, не давайте его величеству действовать!
Таким образом Амалия и наследник сравняли счет, но тут произошло непредвиденное: Михаил поскользнулся и подвернул ногу. Он, правда, заявил, что это ничего не значит и с ним все в порядке, но двигаться стал гораздо тяжелее, и Амалия поняла, что она одна не справится, тем более что балерина вошла во вкус и, прекратив ненужные препирательства, весьма лихо отбивала летящие в ее сторону мячи.
– Его высочество не может продолжить игру, – объявил Войкевич.
– Ура! Мы выиграли! – закричала Лотта и захлопала в ладоши. Но, встретив взгляд короля, сконфузилась.
– Госпожа баронесса, я не могу одерживать победу только потому, что кто-то поскользнулся, – галантно сказал Стефан, поворачиваясь к Амалии. – Это было бы несправедливо по отношению к такой прекрасной даме, как вы.
– Мы можем заменить его высочество на генерала Ракитича, – предложил Войкевич с улыбкой.
Ракитич, который снял с колен Талисмана и наслаждался холодным лимонадом, который по его просьбе принес Огнен, едва не поперхнулся.
– Ваше величество!
– Ну же, генерал! Вы ведь военный, вам нельзя отступать!
– Я не умею играть в теннис! – отчаянно выкрикнул Ракитич. Бравый генерал только что представил себе перспективы объяснения с Кислингом, по какому праву он посмел принять сторону вражеской шпионки, пусть даже в пустяковой партии в теннис, и голос его звучал чрезвычайно убедительно.
– Господин полковник, – вмешалась Амалия, – может быть, вы доиграете эту партию вместо князя Михаила? А его высочество займет ваше место.
– В самом деле! – поддержал Амалию король.
Таким образом, Михаил занял место судьи, а Войкевич снял свой белый китель и с ракеткой в руках встал на задней линии.
– Вы хорошо умеете играть в теннис, полковник? – спросила Амалия.
– Поживем – увидим, – беспечно ответил Милорад и крутанул ракетку, прилаживаясь к ручке.
– Я буду выходить к сетке, если что, – распорядилась Амалия. – А вы играйте на задней линии, у вас рост подходящий.
И игра возобновилась.
Поначалу полковник играл не слишком удачно, но потом, видимо, настроился и уже почти не совершал промахов. А когда дело дошло до подачи, он сотворил три эйса подряд, которые не сумел взять никто из соперников.
– Перерыв! Перерыв! – закричала Лотта.
Однако и после перерыва Войкевич продолжал действовать столь же успешно, и стало ясно, что они с Амалией выиграют эту партию. Лотта металась по корту, но ничего не могла сделать. Умения короля тоже не хватало, чтобы справиться с соперниками. Наконец Михаил объявил финальный счет.
– У нас был эйс в последнем сете, а вы им подсудили, ваше высочество! – упрекнула его балерина. – Мяч был вовсе не в ауте!
– Можем переиграть, – предложила Амалия, которая и сама сомневалась в правильности решения.
Они переиграли этот мяч, и победа все равно осталась за Амалией и полковником.
– Честно говоря, давно я так не веселился, – заметил король. – Прекрасная партия, Милорад!
Ответом ему была широкая открытая улыбка, которую так странно было видеть на обычно замкнутом лице Войкевича. «А вы, оказывается, азартный человек, господин полковник», – подумала Амалия, от которой не укрылась перемена в настроении адъютанта. От Петра Петровича она уже знала, что полковник наводнил страну своими шпионами, из-за чего у него нередко вспыхивали конфликты с министром внутренних дел, который настаивал на том, что подобные службы должны находиться в его компетенции. И Амалии, которая всегда считала, что человек соткан из противоречий, было приятно убедиться, что хоть в чем-то этот стяжатель, обманщик и глава соглядатаев был такой же, как и все.
– Никогда бы не подумал, что вы так хорошо играете в теннис, сударыня, – заметил король Амалии, целуя ей руку.
– Просто все время заниматься благотворительностью скучно, – ответила Амалия с восхитительной непринужденностью. – Да и в теннис получается играть не всегда. Жаль, что в Любляне нет ни скачек, ни казино. Я бы с удовольствием посмотрела хорошие скачки, но, видно, придется ждать, когда я окажусь в Париже.
Откроем читателю одну маленькую тайну: баронесса Корф всегда была равнодушна к скачкам, которые в ту эпоху составляли непременную принадлежность любого мало-мальски приличного светского сезона. Отёй, Лоншан, Шантийи[205], жокеи, фавориты, ставки, ипподромы, состязания, в том числе состязания модных туалетов, ибо «платье для скачек» было особой частью гардероба всякой уважающей себя модницы и заказывалось отдельно – все это было ей глубоко чуждо. Однако Стефан счел вполне естественным, что такая утонченная дама скучает в его стране по образу жизни, к которому она привыкла. Он поклонился и, многозначительно пожав руку Амалии, пообещал ей устроить скачки этим же летом.
– О, ваше величество, ваше величество, – вздохнула Амалия, – вы ведь не хуже моего знаете, что это невозможно. Подумайте сами: мало ведь найти землю для ипподрома, нужно еще и трибуны, и лошадей, и всадников, и билетеров, много чего еще. Невозможно, решительно невозможно!
Но, как уже упоминалось выше, от Стефана можно было добиться чудес, если только начать ему перечить. Он уже загорелся идеей скачек; более того, он даже знал, в честь кого объявит первые скачки в Любляне. (Нет, не в честь мадемуазель Рейнлейн, как вы только что опрометчиво решили, дорогой читатель, а конечно же, в честь своего отца, короля Владислава.) По поводу казино, кстати сказать, тоже можно было подумать, тем более что это требовало гораздо меньше затрат, чем строительство ипподрома.
Так маленькая партия в теннис привела к большим переменам, а генерал Ракитич, на которого любой спорт действовал усыпляюще, все проспал. Он счастливо дремал на скамье, приоткрыв рот. Что же до Талисмана, то, воспользовавшись предоставленной ему свободой, он сбежал в кусты, где его потом нашла Амалия. Она погладила его по голове и взяла на руки, а он в знак благодарности лизнул ей ладонь.
Глава 14 Честная игра
Мария Старевич держала в руках ворох разномастных конвертов и недоумевала. Судя по всему, светская жизнь в Любляне в этом сезоне предполагалась нешуточная.
Бал в новом дворце Лотты Рейнлейн, благотворительный вечер у королевы-матери, еще один бал, но уже в русском посольстве, приглашение на какой-то ужин в австрийское посольство… а еще в городе идут толки о том, что король затеял строительство ипподрома и собирается открыть казино…
Где же взять столько платьев, чтобы показаться на всех этих блестящих вечерах без чувства неловкости?
– Бранко! – закричала госпожа Старевич своему мужу. – Бранко, тут столько приглашений… Я не знаю, что делать! Никогда еще в Любляне не было такого… А ты слышал об ипподроме? Неужели это правда?
Старевич успокоил свою жену: наверняка это слухи, потому что у короля не хватит денег на такой дорогостоящий проект, а серебряные рудники, которые будто бы призваны поднять экономику страны, на самом деле оказались не такими богатыми, как полагали вначале. Однако тут Мария огорошила мужа.
– Моя горничная знакома с костюмершей Лотты Рейнлейн, – заметила она. – Она уверяет, что строительство ипподрома – дело решенное. Лотта сначала пыталась отговорить короля, но когда баронесса Корф объявила, что выпишет из Парижа одного из лучших жокеев, поторопилась сама его перекупить, чтобы он скакал в ее цветах.
– Да? – рассеянно спросил Старевич. – И какие же у нее цвета – белый в честь балета и красный в честь красного фонаря?[206]
И, довольный своей шуткой, которую он не рискнул бы повторить на публике, он расхохотался.
– Бранко! – сказала Мария укоризненно, качая головой. – Я знаю, она тебе не нравится, но ведь она хорошо танцует…
– И пусть танцует, – сердито отозвался Старевич, – но я против ее влияния на государственные дела. Кстати, ты слышала о ее соперничестве с баронессой Корф? Баронесса хотела вложить деньги в какие-то земли на юге, но Рейнлейн их перекупила. Точно так же она пытается затмить баронессу во всем, что та делает. Баронесса по какой-то прихоти ездит на желтой лошади, так Лотта заказала себе экипаж с двумя желтыми лошадьми. Баронесса дала деньги благотворительному комитету, так Лотта назло ей прислала больше. В Тиволи баронесса устроила корт для тенниса, а Лотта купила загородное поместье, которым интересовалась баронесса, и заявила, что теперь у нее будет не только корт, но и поле для гольфа. Баронесса переделала Тиволи за две недели, а Лотта за десять дней перевернула вверх дном свой новый дворец, но, говорят, так и не добилась ничего путного.
– Откуда же у нее столько денег? – изумилась добросердечная Мария.
– У нее? Лучше спроси – у короля, – еще более сердито ответил Старевич. – Ты меня знаешь, я никогда не был поклонником монархии, но я глубоко уважаю покойного короля Владислава, потому что он в личной жизни оставался порядочным человеком и не давал влиять на себя кому попало. – Мария, помнившая, как ее муж в частных разговорах обзывал Владислава мерзавцем и узурпатором, благоразумно промолчала. – А теперь что? Чуть ли не всеми делами заведуют королевский адъютант и эта балерина, а король… – Он оборвал себя на полуслове и поморщился.
– Но так ведь не может продолжаться вечно, – сказала Мария, чтобы успокоить своего супруга.
– Конечно, – подхватил депутат, который совершенно не умел разграничивать работу и семейную жизнь и даже дома сотрясал стены политическими речами, которые уместнее было бы произносить в иллирийском парламенте. – Всем в Любляне отлично известно, что Лотта Рейнлейн играет на руку австрийцам, а это во много раз хуже, чем если бы она была агентом России, например. Потому что Россия далеко и не претендует на то, чтобы нас захватить, а Австрия только об этом и мечтает. Так что я не исключаю, что в ближайшее время что-то произойдет. Или новая революция, или еще что-нибудь. Ты знаешь мою точку зрения на революции – это кровопускание, которое применяют, когда жизнь больного иначе не спасти, а страна больна, и с этим не поспоришь.
Однако Мария решительно покачала головой.
– Революции не будет, – объявила она.
– Почему, позволь спросить? – с любопытством осведомился ее муж.
– Потому что люди уже попробовали твою хваленую свободу и поняли, что она им не по нраву. Потому что большинству людей все равно, кто ими правит, лишь бы их не слишком притесняли. Мало этих причин? Тогда вспомни предыдущего короля, которого никто не знал до его приезда сюда и которого все оплакивали, когда он умер. Каким бы плохим правителем ни был Стефан, на него до сих пор падает отблеск величия его отца. А Владислав, что бы ты ни говорил, был великий человек.
– О боже, я живу с монархисткой! – притворно ужаснулся Старевич и поцеловал жену в завитки волос на шее. – Милая моя, я не отрицаю, что некоторые монархи вполне достойные люди и правители, но ничто не убедит меня в том, что республиканская система…
– Посмотри на Францию, – посоветовала жена. – Вот твоя республика: всюду коррупция и жуткие скандалы, вроде того, который был с Панамским каналом. А ведь французы пытаются строить республику уже в третий раз, и обе предыдущие попытки заканчивались империей.
И она победно посмотрела на мужа, который зачарованно притих и смотрел на нее так, словно видел впервые в жизни.
– Что?
– Я тебя обожаю, когда ты начинаешь говорить о политике, – вздохнул депутат. – Видишь ли, если теория плохо реализуется на практике, это не значит, что она плоха. Просто нужно время, чтобы…
– Нет, это именно значит, что теория плоха, – возразила Мария, привыкшая все свои рассуждения доводить до конца и не оставлять недомолвок. – И еще: в теории республика позволяет всем гражданам участвовать в управлении страной, но это же иллюзия. Ну сходил ты, проголосовал за того или другого кандидата, которого все равно лично не знаешь, и что? Ты всерьез веришь, что это и есть управление страной? Ты отдал свой голос, а дальше уже ничего от тебя не зависит. И о тебе никто не вспомнит до следующих выборов.
– Одним словом, vive le roi![207] – поддел ее муж.
– Я думаю, Стефану надо просто дать время, – сказала Мария, разглаживая складку на юбке. – Рано или поздно он одумается и оставит свою балерину. В конце концов, до сих пор он не совершал опрометчивых шагов.
По правде говоря, Старевич сомневался, что Стефан так просто оставит свою любовницу. Королева Шарлотта в свое время кому только не жаловалась на мужа, прося повлиять на него – все было бесполезно. И даже уговоры королевы-матери, которую Стефан искренне чтил, не помогли. Он по-прежнему старался проводить с балериной все свободное время, только безотказный Ракитич чаще выступал ширмой для их отношений, вот и все.
– Знаешь, Мария, я вовсе не уверен, что у нас есть время, – наконец промолвил депутат. – Колесо истории вертится быстро, вот в чем дело. И потом… – Он поморщился. – Для того, чтобы написать картину, нужен талант. Талант нужен и для того, чтобы сочинить книгу… и даже для того, чтобы сделать хорошие сапоги. Для управления государством требуется совершенно особый талант, и мне кажется… то есть я почти уверен, что у Стефана в отличие от его отца такого таланта нет. А это значит, что на своем посту он может только навредить.
Мария не стала ничего говорить, она только взяла руку мужа и крепко сжала ее. Она знала, что он искренне переживает за государственные дела, и, хотя в глубине души считала его переживания напрасной тратой сил и времени, потому что он мало на что мог влиять, она бы никогда не призналась в этом. Она лишь повторила, что надеется на то, что все как-нибудь само собой образуется.
Пока Старевичи обсуждали царствующего монарха и его фаворитку, Лотта Рейнлейн пыталась одновременно решить две задачи: как наконец обойти баронессу Корф, которая затмевала ее по всем статьям, и как все-таки справиться с заданием, которое дал ей Кислинг, то есть завлечь черноволосого адъютанта и погубить его в глазах короля. Пока ни то ни другое не удавалось. Как бы ни старалась Лотта, Амалия все равно лучше одевалась, лучше играла в теннис и лучше умела обставлять дома, в которых жила. Кроме того, она начала обсуждать с королем проект нейтралитета иллирийских портов, в которые не должен был заходить ни один военный корабль. Собственно говоря, договор этот можно было разработать за пару дней, а подписать еще быстрее, но Стефан не торопился. Он отлично понимал, что, получив интересующую ее бумагу, Амалия уедет из страны, а в его планы это вовсе не входило. Он сознавал, что присутствие баронессы придает его жизни некий шик, которого Лотта при всем своем старании не могла обеспечить. С Амалией можно было говорить на любую тему, она очень здраво судила обо всем на свете. К тому же она была остроумна, очаровательна и не пыталась навязывать себя королю. Напротив, она, по-видимому, отличала князя Михаила и то и дело оказывала ему мелкие знаки внимания, от которых 29-летний князь терял голову. Впрочем, полковник Войкевич придерживался другой точки зрения.
– По-моему, это старый прием, чтобы завлечь вас, государь, – сказал он. – Она притворяется, что ее интересует его высочество, чтобы из чувства соперничества ею заинтересовались вы.
А Лотта высказалась еще определеннее:
– Стефан, ни одна женщина на свете не стала бы даже смотреть на этого жалкого заику, когда ты находишься рядом!
И она нарочно несколько раз назвала Амалию при короле «старухой», чтобы окончательно убедить его не иметь с ней дела.
Если Лотта была вполне уверена в своем влиянии на короля, то с Войкевичем дело обстояло совсем иначе. Ее чары на него не действовали, и он всячески уклонялся от того, чтобы дать посторонним хоть намек, что мог ею заинтересоваться. В конце концов, Лотте наскучила эта игра, и она избрала другую тактику. Отныне она стала придерживаться с полковником нарочито вызывающего тона. Лотта рассчитывала, что вспыльчивый Милорад однажды непременно сорвется и наговорит ей дерзостей, и тогда уж она найдет способ от него избавиться. Однако Войкевич и тут удивил ее, придерживаясь безразличной вежливости, и не было похоже, чтобы шпильки балерины как-то на него действовали. В сердцах Лотта поклялась, что так или иначе сумеет его выжить, и стала ждать своего часа. Ей было прекрасно известно, что иногда словно открываются невидимые врата судьбы, и тогда получается даже больше, чем ты загадывал в самых смелых мечтах; тогда сбывается то, о чем бесполезно даже помышлять, когда эти врата закрыты. По ее мнению, врата, которые отвечали за устранение Войкевича, однажды непременно должны были открыться, и главное было – не упустить свой шанс.
Пока же она забросала заказами Ворта и Дусе, которые должны были сшить ей самые модные платья для предстоящего сезона, и приготовилась принимать гостей во дворце, который ей подарил иллирийский король.
В вечер приема дом ломился от гостей. Не то чтобы у Лотты Рейнлейн насчитывалось много друзей, просто здесь собрались все, кто не желал ссориться с королем и его фавориткой, а таких было большинство. В пику Амалии Лотта заказала на дом аж два оркестра, а из Ниццы для украшения дворца привезли огромное количество дорогостоящих цветов. Балерину в розовом открытом платье, расшитом золотом, можно было смело ставить на обложку любого модного журнала той эпохи, и фрейлина Райкович, которая во всех дворцовых интригах неизменно держала сторону королевы, тщетно подыскивала в уме слова, которыми можно будет потом опорочить перед государыней столь смелый, изысканный наряд. Однако тут в сопровождении Петра Петровича явилась баронесса Корф в красном бархатном наряде с кружевными рукавами. И фасон-то был (вернее, казался) чрезвычайно простым, как все гениальное, и отделка вроде бы не поражала воображение, но красный оттенок был подобран таким образом, что платье притягивало к себе все взоры. Фрейлина приободрилась и поняла, что фаворитка посрамлена. Наутро она красочно описала королеве эту сцену, добавив, что язвительный Верчелли описал встречу Амалии и Лотты как «le rouge et l’invisible»[208] и заметил, что «le rouge gagne»[209].
– Должна признать, – уронила Шарлотта, – что у баронессы действительно хороший вкус.
Окончательно убедившись, что Амалия не посягает на ее мужа и словно нарочно раз за разом ставит на место Лотту Рейнлейн, королева прониклась к баронессе самыми теплыми чувствами. Легче всего нам найти общий язык с врагами наших врагов, и, когда Амалия явилась во дворец на очередное заседание благотворительного комитета, Шарлотта похвалила ее платье и спросила о том, кто его шил. Амалия рассказала ей о парижских кутюрье и модистках – она следила за модой и обращала внимание не только на крупные и известные дома, но и на только что появившиеся, еще неизвестные марки. В конце беседы Амалия спросила, у кого ее величество собирается заказывать туалеты для скачек, потому что ипподром откроют 21 июня, в день рождения короля Владислава, и остается не так уж много времени.
Не без смущения королева призналась, что еще не думала об этом, но будет рада узнать мнение баронессы Корф. Амалия посоветовала ей нескольких кутюрье и заодно порекомендовала ювелиров, которые наверняка сумеют изготовить к платьям подходящие украшения.
– Амалия Константиновна, боюсь, у вас ничего не выйдет, – заметил Петр Петрович, узнав о разговоре своей сообщницы с королевой. – Женщины в иллирийской королевской семье всегда отличаются двумя качествами: они добропорядочны и одеваются как кухарки. Королева с детства привыкла носить только черное, серое или коричневое. К тому же в придворном штате имеется личный портной королевы, честный немец. С какой стати его считают портным, мне непонятно, потому что с таким же успехом он мог бы заведовать булочной. Однако он получает хорошие деньги за то, что одевает ее величество, и, уверяю вас, он ни за что не позволит, чтобы его вытеснили парижские конкуренты.
– Я думаю, ее величеству подойдет мадам Пакэн[210], – ответила Амалия, пропустив слова резидента мимо ушей. – Во-первых, она заполнила рекламой все издания на свете, а люди любят иметь дело с тем, что широко известно. Во-вторых, она создает действительно добротную, качественную одежду. Для меня этого недостаточно, я люблю что-нибудь этакое, с изюминкой, но королева Шарлотта – другое дело. Кроме того, я посоветовала ей Редферна[211], его строгий английский стиль должен прийтись ей по душе. И, конечно, Ворт, всегда милый Жан-Филипп Ворт[212], когда речь идет о выходном платье или о таком бальном наряде, чтобы все ахнули.
– Насколько я помню, все это очень дорогие портные, – промолвил резидент весьма двусмысленным тоном.
– А мастерство всегда ценится дорого, друг мой, особенно в столь эфемерной области, как мода, – парировала Амалия. – Что слышно насчет казино?
– Казино скоро будет открыто, – рапортовал Петр Петрович. – Король вошел во вкус и клянется сделать из Любляны столицу Европы. Полковник Войкевич не против, тем более что он уже записался в совладельцы будущего казино и взял на себя организационную часть. Из Монте-Карло специально выписали нескольких завсегдатаев игорных заведений, чтобы, так сказать, задать тон. За ними, само собой, подтянутся шулера, которых уже давно нигде не принимают. Что еще? Про ипподром вы уже знаете, строительство идет полным ходом. Король от имени Лотты Рейнлейн купил имения, которые будто бы облюбовали вы. Он уже влез в долги и имел неприятный разговор с министром финансов – помните, тем суровым господином в роговых очках, у которого на лице словно написано «не дам»? Вы же видели его на вечере в Тиволи.
– Да, я помню. Кстати, королева среди прочего упомянула, что министр финансов получил отставку.
– Когда?
– Несколько часов тому назад.
– О-о, – протянул Петр Петрович. – Что ж, это упрощает дело… Наше дело, я хотел сказать. Кого бы ни поставили на место уволенного министра, он, скорее всего, не так хорошо будет разбираться в экономике и будет более склонен тратить, чем копить. В богатой стране эта черта прошла бы незамеченной, но в том-то и дело, что Иллирия не богатая страна.
– Я надеюсь, вы не упускаете из виду Кислинга? – спросила Амалия. – Австрийцы ни в коем случае не должны опередить нас и заключить договор о Дубровнике.
– По моим сведениям, Кислинг пока затаился, – ответил резидент. – С одной стороны, его должны были успокоить наши просьбы о нейтралитете, с другой – король, несмотря на чары Лотты, упорно не желает даже слышать о Дубровнике. – И он со значением посмотрел на Амалию.
– Как по-вашему, Петр Петрович, – внезапно спросила она, – король понимает, что происходит? Неужели он не видит, какую роль играет Лотта Рейнлейн и к чему именно она его толкает?
– Сложно сказать. – Оленин нахмурился. – Я бы не сказал, Амалия Константиновна, что король глуп. Проблема в другом – он считает себя умным человеком, который в состоянии справиться с любой ситуацией. То есть он держит возле себя Лотту, потому что уверен, что в случае чего сумеет поставить ее на место. Для нас было бы лучше, если бы Стефан был чуточку менее самонадеян и избавился от балерины, но, боюсь, на это он не пойдет.
– Кстати о балерине, – сказала Амалия. – Завтра мы опять играем в теннис. Не забудьте, вы обещали прийти и играть в паре со мной, потому что у его высочества все еще болит нога.
– Можете рассчитывать на меня, – ответил Оленин, кланяясь.
Однако когда он завтра в назначенный час появился на корте, выяснилось, что ни короля, ни Лотты не будет. Его величество весьма сожалел, но дела… и т. д.
– В таком случае сыграем вдвоем, – распорядилась Амалия, – а его высочество будет судьей.
Однако в лице Оленина Амалия наткнулась на неожиданно сильного соперника и проиграла партию, чем наследник был явно недоволен. Он даже пытался присудить Амалии несколько спорных мячей, но она всякий раз честно указывала, что аута не было, и Петр Петрович справедливо заработал свое очко.
– Госпожа баронесса, – искренне сказал Михаил после игры, – поверьте, я делал все, чтобы вы выиграли!
– Я тоже, ваше высочество, я тоже, – шутливо отозвалась Амалия.
Она предложила гостям остаться на обед, но Петр Петрович посмотрел на наследника и под каким-то пустячным предлогом уклонился. Инстинкт бывалого дипломата и хорошего разведчика шепнул ему, что Амалию лучше оставить с ее высочеством одну, и Оленин откланялся.
Просторная столовая со светлыми занавесками на окнах и светлой мебелью очень понравилась Михаилу. Впрочем, с некоторых пор ему нравилось все, что имело отношение к Амалии.
– Если бы вы не стали оспаривать мое решение в последнем сете, – сказал он, – и согласились, что там был аут, уверен, вам бы удалось переломить ход игры.
– Там не было аута, – ответила Амалия, которую уже начала тяготить эта тема. – Я точно видела, что мяч приземлился до линии.
– А на что же судья? – живо возразил наследник. – Вам надо было только согласиться с моим решением, госпожа баронесса!
– Нет. Я предпочитаю играть честно.
– В самом деле? – промолвил князь слегка изменившимся голосом.
Когда речь идет о теннисе, уточнила про себя его собеседница. Но она была слишком умна, чтобы произнести вслух окончание фразы, и предпочла заменить его очаровательной улыбкой.
– Должен с-сказать, – начал Михаил, который отчего-то вновь начал заикаться, – мне известно, зачем вы прибыли в Любляну, сударыня.
– Я и не делала из этого секрета. – Справедливости ради тут стоило добавить: так как австрийская разведка все равно уже разгласила мою миссию.
– А его величество о-обещал вам договор о нейтралитете? – настойчиво спросил наследник, подавшись вперед.
– Как члену государственного совета, вам это должно быть известно. – Амалия откинулась на спинку кресла, изучая лицо своего собеседника. Он явно волновался больше обычного – вот бы понять, почему.
– Мой кузен лжет, – с нажимом сказал Михаил. – Он никогда ничего не п-подпишет. Потому что есть бумага, которая прямо запрещает ему это делать.
Глава 15 Завещание
Это было что-то совершенно новое, но Амалия не подала виду, насколько важна информация, которую она только что услышала.
– Бумага?
– Да, с-сударыня.
Он смотрел на нее, мигая чаще обычного, и кадык на его шее судорожно дернулся несколько раз. Неожиданно ножки кресла, взвизгнув, скользнули по полу – Михаил поднялся с места.
– Его величество заключил секретный договор с австрийцами? – мрачно спросила Амалия, чувствуя в душе пустоту и странную, ни с чем не сравнимую тоску, которую суждено в полной мере познать только тому, кто проиграл партию окончательно и бесповоротно.
– Нет, – успокоил ее собеседник. – Это другое.
И затем наследник произнес нечто совершенно невероятное:
– Если вам угодно будет подождать, через час, самое большое через два я привезу вам эту бумагу.
Так, мысленно сказала себе Амалия, переводя дух, все в порядке. Князь находится под германским влиянием, Германия не желает излишнего усиления Австрии, хоть они и союзницы, и поэтому через Михаила решила поставить российскую шпионку в известность о планах короля Стефана. Ибо в политике не бывает друзей – есть только враги врагов. И еще враги союзников, ведь последние в любую минуту могут стать врагами.
А пока Амалия протянула подошедшему наследнику руку, который почтительно поцеловал ее и, взглянув молодой женщине в глаза, быстрым шагом вышел.
«Нет, – подумала баронесса, – здесь не германские планы, здесь что-то другое… Щучья холера, уж не влюбился ли он в меня?» – Она недовольно покачала головой, не вполне отдавая себе отчет, к чему именно относится это недовольство. В сущности, Амалия ничего не имела против наследника, но его поступок не на шутку ее озадачил. Если он действительно принесет ей документ, не предназначенный для посторонних глаз, ей придется его отблагодарить, а у женщины вообще-то есть только один способ отблагодарить мужчину. К такому повороту событий Амалия совершенно не была готова.
Князь вернулся через час с четвертью. К этому времени Амалия уже и не знала, чего она хочет – увидеть таинственный документ, проливающий свет на поступки короля Стефана, или больше не видеть наследника вообще.
– Вот, – сказал Михаил, протягивая Амалии большой конверт. – Вы будете первой, кто его увидит, за исключением членов нашей семьи.
Амалия посмотрела на него, на конверт, снова на наследника и наконец решилась. Внутри конверта оказалось несколько листков, исписанных крупным и стремительным почерком, а в конце стояла подпись короля Владислава и его личная печать – лев в короне, вставший на дыбы, со скипетром в лапе. Амалия начала читать.
С первых же слов стало ясно, что она имеет дело со своеобразным завещанием покойного короля, который оставил своему наследнику подробнейшие инструкции на случай всяких непредвиденных осложнений и вообще любых ситуаций, которые могут возникнуть в период его царствования. Так, Стефану предписывалось чтить мать, в случае мятежа немедленно бежать из страны в Париж, где в банках хранилась основная часть капиталов семьи, не возвышать чрезмерно никого из военных, чтобы не стать от них слишком зависимым. Далее следовали краткие, но совершенно убийственные характеристики лиц, которые имели в правительстве какой-то вес.
«С республиканцами следует соблюдать сугубую осторожность, так как их мятеж уже привел несколько лет назад к низложению царствующего монарха… Следует оставить на виду одного из них, к примеру, Старевича, который любит произносить речи по поводу и без, и внимательно наблюдать за теми, кто к нему потянется. Более решительных вожаков республиканцев, которые мало говорят, но рвутся действовать, можно и нужно ликвидировать, но осторожно. Когда сбежавшего за границу смутьяна в Лондоне убивают агенты короля или когда он как бы случайно падает под поезд – «две большие разницы»…
Сенатор Верчелли, по сути, – старый глупец, представляющий интересы ничтожного меньшинства. Именно поэтому с ним следует держать себя любезно, так как на самом деле за ним нет никакой реальной силы и он полностью зависит от нашего благоволения…
В такой стране, как Иллирия, лучше, чтобы главнокомандующим был царствующий монарх, иначе может случиться так, что другой главнокомандующий подчинит себе армию и задумается о мятеже и захвате власти. Кстати, переведи генерала Ракитича в кавалерию, так как он всю жизнь служил в пехоте, а кавалеристы его презирают. У Ракитича есть авторитет среди военных, даже слишком большой, но таким образом он будет быстро сведен на нет».
Особая часть завещания была посвящена внешнеполитическим отношениям.
«Сын мой, мне горько это писать, но я оставляю тебе беспокойное наследство… Мы не можем доверять ни Австрии, ни Сербии, потому что они – особенно первая – готовы на все, чтобы уничтожить нас. Другие страны, такие как Британия и Германия, слишком сильны, и они всегда будут воспринимать нас только как пешку в своих играх. Не надейся также на русских и на химерическое славянское братство, которого нет и никогда не было. Русским вообще нельзя верить, потому что они в любой момент могут продать своих союзников, и самое обидное, что в отличие от каких-нибудь англичан они сделают это без какой-то особой выгоды, то есть задешево, за чечевичную похлебку. Именно поэтому нельзя пускать ни их, ни кого-либо другого в Дубровник или любой другой порт нашего королевства. Не подписывай с ними никаких обязательств, включая соглашение о нейтралитете портов, которое они могут от тебя потребовать, когда ты откажешься отдавать им Дубровник. Помни, что любой документ в этой области создаст тебе больше врагов, чем друзей. Что касается договора, который я уже подписал: благодаря формулировкам, тщательно проработанным графом Верчелли, он не дает России никакого преимущества и не налагает на нас никаких обязательств, хотя сделанные в нем заявления звучат очень громко и русские восприняли его всерьез…
В случае начала войны в Европе держи строгий нейтралитет и ни с кем не порти отношений, потому что войны имеют обыкновение не всегда заканчиваться так, как хочется воюющим. В смысле общей линии государственного поведения бери пример со Швейцарии, которая поставила себя над всеми европейскими разногласиями и уже несколько веков преспокойно копит золото, в то время как ее соседи без всякой пользы режут друг другу глотки…»
Амалия считала, что уже давно привыкла к гримасам человеческого бытия, но все же она ежилась от неловкости, когда читала этот откровенный и, скажем прямо, возмутительный документ, который с уверенностью констатировал одно: никому нельзя верить, окружающие не стоят и ломаного гроша, кто не с нами, тот против нас, а кто против нас, тех надо истреблять всеми доступными способами, важно только не попадаться. Она дочитала завещание до конца и, чтобы собраться с мыслями, прочитала еще раз.
– Любопытный у короля почерк, – уронила она, складывая листки обратно в конверт. – Государственный, я бы сказала.
– Это не его величество, это Войкевич писал под диктовку, когда дядя был уже болен, – ответил Михаил.
Опять Войкевич! Амалия не смогла скрыть досадливой гримасы. Интересно, кому – и за сколько – он уже успел передать содержание политического завещания Владислава? И почему Петр Петрович не узнал о таком важном документе? Или он настолько восстановил против себя адъютанта, что никакие деньги уже не могли исправить положение?
– После смерти дяди генерал Ракитич был сразу же переведен в кавалерию, – сказал Михаил. – И Стефан твердо намерен выполнить завет отца относительно портов… как и все остальное. Теперь вы понимаете, что ваша… что то, ради чего вы приехали сюда, не может осуществиться?
– Вы поразительный человек, ваше высочество, – вздохнула Амалия, пристально изучая своего собеседника. – Привезли мне подлинник документа государственной важности…
– Да, – просто ответил Михаил. – Он хранится в королевском кабинете, но король редко заглядывает в этот ящик. Я подумал, что вы должны знать, потому что… я ценю людей, которые предпочитают играть честно. И вы были очень добры ко мне, – добавил он, волнуясь.
У Амалии уже голова шла кругом. Она отдала наследнику конверт и, облокотившись на стол, задумалась. Работа в особой службе научила ее искать в любом событии скрытый смысл, но беда в том, что при таком подходе самые простые вещи начинают казаться чудовищно сложными. Вот пример простого подхода: князь Михаил показал Амалии документ, потому что она ему приглянулась. Пример сложного подхода: документ – подделка, Амалию хотят втянуть в грязную игру спецслужб, хотят использовать каким-либо образом, к примеру, заставить ее отказаться от попыток заключить нужный России договор. Амалия услышала, что наследник спрашивает ее о чем-то, и подняла глаза.
– Вы мне не в-верите?
– Просто я удивлена. После того, как король Владислав называл государя «дорогой друг»… – Она оборвала фразу на полуслове и едва заметно поморщилась.
Михаил вздохнул. Так как он испытывал к Амалии симпатию, он счел вполне естественным, что ее покоробила откровенность, с которой его дядя отзывался о России.
– Ваше высочество, верно ли я понимаю, что его величество будет оттягивать подписание соглашения о нейтралитете до последнего, но никогда не признает прямо, что вообще не собирается его подписывать?
– Это вполне в х-характере моего кузена, – сдержанно ответил наследник.
– И я потеряю время, но ничего не добьюсь… Ах, какая досада! – покачала головой Амалия. – Я была уверена, что мне придется провести в Любляне несколько месяцев, и арендовала Тиволи на этот срок, а теперь… Теперь, похоже, в моем пребывании здесь нет никакого смысла.
С некоторым опозданием сообразив, что Амалии теперь и в самом деле нечего делать в Иллирии, князь растерялся и забормотал нечто нечленораздельное. Он напомнил о скачках, о планах короля насчет казино и даже объявил, что госпоже баронессе по праву надлежит быть царицей здешнего света. Его собеседница мягко улыбалась и с виду словно колебалась, уступить ли ей доводам своего гостя, но на самом деле терялась все больше. Если князь Михаил и в самом деле призван был ей внушить, что она ничего не добьется от Стефана, он должен был горячо поддержать ее желание уехать. Вместо этого наследник уговаривал ее остаться, причем было видно, что он делает это совершенно искренне и без какой-либо задней мысли.
Наконец Амалия соблаговолила сказать, хотя она подумает, но ей не всегда принадлежит право принимать решения, что лично ей очень понравилось в Любляне и она всегда рада обществу его высочества. И Михаил просиял так, словно имел дело не с высокопоставленным российским агентом, а просто с очаровательной во всех отношениях дамой, с которой они только что приятнейшим образом беседовали не о государственных секретах, а о том, какая на улице стоит прекрасная погода.
Выпроводив князя, который несколько раз поцеловал ей руки и чуть не забыл на столе конверт с завещанием короля Владислава, Амалия написала записочку Петру Петровичу и попросила его заглянуть в Тиволи, как только он освободится.
Резидент явился ближе к вечеру, и Амалия пересказала ему все, что удалось узнать, не упоминая, впрочем, кто именно доставил ей бесценный документ. Услышав о завещании, Петр Петрович изменился в лице, а узнав, как именно рекомендовал с ними обращаться покойный король, вообще стал сам не свой.
– Собственно говоря, наличие этого документа может многое изменить, – сказала Амалия. – Однако меня волнует другое: каким образом, Петр Петрович, вы могли упустить из виду существование такой важной бумаги?
Оленин заохал, схватился за голову и стал преувеличенно каяться. Он отлично понимал, что проштрафился, и не собирался отрицать свою вину.
– Полно вам, Петр Петрович, – прервала Амалия его излияния. – Давайте говорить начистоту. Лично я хочу сказать вот что: король скончался отнюдь не вчера, а полковник Войкевич, который писал завещание под диктовку его величества, вовсе не склонен хранить секреты, за которые ему могут заплатить. Наверняка австрийцы, сербы и не знаю кто еще уже отлично осведомлены о плане, который старый король оставил Стефану. Судя по этому, вы должны были понять – что-то нечисто, и постараться навести справки.
Однако Петр Петрович покачал головой и твердо сказал, что он постоянно общается и с австрийцами, и с немцами, и с сербами, и с итальянцами и готов поручиться, что они никак не обнаруживали своего знакомства со злосчастным завещанием, да и информаторы тоже никогда ни о чем таком не упоминали. Амалии оставалось только поверить ему на слово, однако категоричность Оленина разбудила в ней старые подозрения. Что, если документ все-таки не был настоящим? Что, если князь с его открытым, простодушным лицом пытается заманить ее в ловушку?
То же самое ей сказал и Петр Петрович.
– Госпожа баронесса, насколько мы можем доверять лицу, которое показало вам документ? И откуда вообще известно, что это завещание – подлинное?
Однако перед мысленным взором Амалии вновь возник конверт, который явно открывали уже не раз, листки, заверенные королевской печатью. И самое главное – неповторимый стиль завещания, который вполне согласовывался с характером покойного короля.
– Полагаю, что завещание настоящее, и лицо, которое мне его показало, действовало с самыми благими намерениями, – промолвила Амалия сдержанно. – Кроме того, теперь становится ясно, почему, несмотря на все старания Лотты Рейнлейн, австрийцам до сих пор не удалось закрепиться в Дубровнике.
– Да, Лотта Рейнлейн… – вздохнул Петр Петрович. – Вам известно, что она пытается вбить клин между королем и полковником?
– В самом деле? – подняла брови Амалия. – Что ж, в таком случае, возможно, нам удастся найти с полковником общий язык.
– Это будет нелегко, госпожа баронесса.
– Сами посудите: человек, который знает все, что творится во дворце, и при всей своей… скажем так, открытости умалчивает о самом важном… Любопытная личность этот Войкевич, вы не находите?
– Не нахожу, – признался резидент. – Он мерзавец и возвысившийся хам. Не знаю, почему он умолчал о завещании. Хотя мотив его, скорее всего, самый простой – содержание документа известно очень узкому кругу лиц, и если бы все вдруг о нем узнали, найти источник утечки не составило бы труда. Что ни говори, а это попахивает государственной изменой.
– Если он ставит осторожность выше алчности – он человек разумный, – возразила Амалия. – Значит, с ним можно иметь дело.
Петр Петрович не стал спорить. Он прекрасно знал, что у женщины куда больше способов приручить мужчину, чем у мужчины – укротить другого мужчину. Тем не менее он счел нужным донести до баронессы свою точку зрения.
– Если вам угодно знать мое мнение, Амалия Константиновна, было бы куда лучше, если бы Лотта избавила двор от этого проходимца. России от него никогда не было никакой пользы, а уж поверьте, я в свое время приложил достаточно усилий, чтобы с ним договориться.
– Вы забываете, Петр Петрович, что он с самого начала поддерживал идею создания казино и ипподрома, – напомнила Амалия. – А ведь для нашего плана это очень важно.
И в глазах ее блеснули золотистые огонечки, которые сказали Оленину куда больше, чем любые слова.
Глава 16 Скачки
В тихой иллирийской столице творились невиданные дела.
Прежде всего там открылось казино. Самое настоящее казино – с рулеткой, картами и сказочной возможностью выиграть много-много денег. Само собой, проиграть их тоже было можно, но о проигрыше как-то думать не хотелось. И не беда, что казино расположилось в здании непонятного архитектурного стиля, более похожем на казармы, а вместо настоящего шампанского там подавали обычное игристое вино. Главным, пожалуй, была иллюзия прикосновения к манящей сладкой жизни, о которой добропорядочные иллирийцы до сих пор читали только в заграничных романах. Подумайте сами: вчера вечером вы шли, согнувшись под бременем забот, и на углу улицы раскланивались с приятелем.
– Как ваши дела, сударь?
– Да ничего, помаленьку, вот, возвращаюсь домой со службы…
То ли дело сегодня, когда вы идете, лихо заломив шляпу на затылок, и на вопрос знакомого небрежно отвечаете:
– Я только что из казино. Кстати, сегодня там выступала итальянская певица. Весьма, весьма недурственно!
И как будто мало одного казино, в какие-то невероятные сроки был построен ипподром, открытия которого публика ожидала с большим нетерпением.
Скачки, господа! В Любляне будут скачки! Самые настоящие! Лошади, жокеи, цветные билетики, флаги над трибунами, король в королевской ложе, шум, толкотня, дамы в светлых платьях и с кружевными зонтиками в руках… Ах, ах, ах!
Между этими двумя событиями уместилось третье, которое тоже поразило простодушных люблянцев до глубины души. А именно: однажды на площади возле собора Святого Николая они узрели дракона. Почти такого же, который красовался на люблянском флаге, только был он железный, вонючий, с рулем и на дутых шинах.
Автомобиль!
Боже, неужели на свете действительно существуют автомобили, они не являются выдумкой репортера «Люблянского вестника»? До чего дошел прогресс в 1899 году, вы только подумайте, – железная тележка ездит без лошадей! И даже не по рельсам!
Автомобиль принадлежал баронессе Корф, которая первым делом пригласила прокатиться в нем обеих королев. Королева-мать устрашилась и отказалась, а чопорная королева Шарлотта неожиданно для себя самой не устояла перед соблазном. Было ужасно тряско, но очень весело, и королева в некотором изумлении поняла, что еще немного, и они с баронессой Корф подружатся окончательно.
– Старуха завела автомобиль! – пожаловалась Лотта королю. – А мы до сих пор ездим… в каких-то каретах!
Стефан вздохнул и велел купить три самых лучших, самых дорогих авто: одно для себя, одно для дочерей (их Амалия тоже прокатила, и они остались в полном восторге) и одно для ненаглядной Лотты. Министр финансов, получив распоряжение короля, также вздохнул, и даже несколько раз кряду, но перечить не осмелился. Ему было прекрасно известно, что траты на капризы балерины превысили все мыслимые пределы, что на одно украшение дворца мадемуазель Рейнлейн ушло больше годового бюджета Дубровника, и он уже давно ломал себе голову, какие новые налоги изобрести, чтобы пополнить казну. Беда была в том, что все возможные налоги уже были введены при Владиславе, который был мастером по части выжимания из населения излишков. Впрочем, покойный король много строил и занимался дорогами, так что деньги уходили в конечном итоге на благо страны, а не на прихоти фаворитки.
…И наконец настал долгожданный день открытия.
Впервые! В Любляне! Королевские скачки! На ипподроме Владислава Первого! Три забега! Участвуют жокеи с европейскими именами! А также кавалеристы отборных полков его величества! Не пропустите, дамы и господа, не пропустите!
Трибуны набиты так, что некуда упасть не то что яблоку, но и семечку от яблока. В толпе мечется фотограф «Люблянского вестника», с глазами мученика, при зловещих вспышках магния он делает снимки для завтрашнего выпуска. (Королевские скачки – первая полоса, целиком!)
– Позвольте! – время от времени вскрикивает помятый, задавленный, страдающий фотограф. – Пропустите!
Королевская ложа, которая пока пустует, потому что король с семьей появится прямо перед открытием. Снимем на всякий случай и пустую ложу, авось пригодится. Придворные дамы… боже мой, две дамы поссорились из-за того, кому сидеть ближе к зрелищу! Генерал Ракитич, который громогласно обещает, что его кавалеристы заткнут за пояс профессиональных жокеев в последнем забеге, в котором будут состязаться победители двух первых забегов – жокейского и офицерского. Белокурый генерал Новакович кланяется какой-то хорошенькой фрейлине, улыбаясь, как чеширский кот. Депутат Старевич с женой… этих можно не снимать, потому что их фото цензура все равно не пропустит на одной странице с королем. Депутат Блажевич, в манерах которого до сих пор чувствуется военная выправка. Генерал Иванович с женой и сыновьями, которые рядом с отцом кажутся хлипкими, хотя сами вымахали под метр девяносто. Кислые дипломатические физиономии, которые сами себе кажутся очень важными, но на самом деле решительно никому не интересны. Цветник самых богатых горожанок. Гм… Среди дам, но чуть-чуть в отдалении от них – блистательная Лотта Рейнлейн. По спине фотографа течет пот, он делает и делает снимки как заведенный. Какая талия! Какие глаза! Боже, когда же наконец изобретут цветную фотографию, которая позволит передавать тончайшие нюансы увиденного? Мария Старевич смотрит на фаворитку, и в ее взоре читается: какая шляпка! Какое платье! Боже, ну почему нельзя, чтобы всегда, всю жизнь было двадцать пять лет?
Но тут взошло солнце в облике белокурой баронессы Корф, плывущей в восхитительной пене венецианского кружева, из которого сплошь состоял ее умопомрачительный наряд. Фотограф вытаращил глаза. Фотограф едва не уронил вспышку. Фотограф понял, что восход светила стоит того, чтобы его запечатлеть, и лихорадочно стал выбирать самый выигрышный ракурс. Он тотчас же понял, что выигрышным будет любой и, не думая о том, к месту ли будут его снимки, возьмут их в газету или нет, стал полыхать магнием так, словно задался целью извести весь свой запас кадров. Оленин, сидевший возле Амалии, как всегда корректный и неприметный, не мог удержаться от улыбки.
– Госпожа баронесса, кажется, это называется «произвести фурор», – шепнул он.
Тут оркестр заиграл национальный гимн, и в королевской ложе появился король с семьей, наследником престола и неизменным Войкевичем. Трибуны разразились аплодисментами. Король учтиво раскланялся и занял свое место рядом с королевой Шарлоттой. Королева-мать, не любившая шумихи, устроилась в глубине ложи, а Войкевич остался стоять. Маленькие принцессы, для которых устроили особые высокие сиденья, чтобы они все видели, смеялись и закрывали лица веерами. Старшая покосилась на очаровательную, восхитительную, царственную Амалию, отыскала глазами среди зрителей Лотту и, улучив момент, когда фаворитка повернулась в сторону их ложи, показала ей язык.
– Нет, – сказал вечером редактор «Люблянского вестника», – Ивица, дружище, тебе показалось!
– Так тут же все видно! – горячился фотограф. – Принцесса действительно показала ей язык!
– Нет, наверное, она просто облизывала губы, – решительно парировал редактор. – Ну подумай сам: иллирийская принцесса, прекрасно воспитанная… прелестная девочка… и высовывать язык, как какая-нибудь босячка, прости господи! Немыслимо, совершенно немыслимо!
И замечательный кадр полетел в корзину. Скажем, чтобы закрыть эту тему, что верноподданный редактор был неправ. Старшая дочь Стефана давно знала о любовнице отца и совершенно не по-детски переживала за мать, поэтому и не смогла сдержаться на ипподроме.
Но вот гимн умолк, и председатель сената, старый граф Цесар, покряхтев, стал произносить речь, написанную незаменимым сенатором Верчелли. Когда дело шло о договоре, важной речи или любой другой бумаге государственного значения, граф Верчелли всегда либо имел честь составлять ее, либо осуществлял окончательную редакцию. Такой уж был талант у этого желчного человека – он умел обращаться со словом как никто другой, и даже его враги признавали, что в этой области он незаменим. А ведь нет ничего дороже признания врага.
Стоит отметить особо, что подагрический граф Верчелли не жаловал скачки, да и вообще любые занятия спортом. Поэтому он отыгрался, написав длинную, цветистую и великолепную по форме, но совершенно невыносимую для слушателей речь. Председатель сената читал по бумажке, запинаясь и то и дело поправляя пенсне. Публика начала ерзать и перешептываться, на лице Лотты Рейнлейн застыла гримаса скуки. И, когда наконец граф Цесар окончил чтение, раздались такие бурные аплодисменты, какие еще никогда не выпадали на долю этого скромного и довольно робкого человека. Совершенно стушевавшись, он сел, а зрители приготовились смотреть на скачки. На поле тем временем уже высыпали жокеи, казавшиеся с высоты трибун совсем маленькими, и вывели лошадей.
– Ох, какая красавица! Какие ноги! Какая грудь!
– Кто, Лотта Рейнлейн?
– Да нет же, вон та лошадь!
– Папа, а лошадки когда побегут?
– Сейчас, дочка!
– А мы все увидим?
– Конечно!
– Дожили, господа… Скачки! В Любляне! Неужели мы и впрямь в Европе, как утверждают географы? – острил какой-то молодой человек, сидящий в нескольких десятках метров от королевской ложи.
– Данко, прошу тебя! – сердито шепнула его спутница. – Скачки – вещь полезная.
– С чего бы это?
– С того, что можно видеть короля. Вблизи. А когда он в замке или у своей Лотты… – Девушка нервно оглянулась и скомкала конец фразы.
– Толку-то, – проворчал ее спутник так тихо, что только она могла его слышать. – Ложа высоко, до нее не доберешься. А внизу сплошь переодетые шпики и полицейские. Полковник Войкевич не зря ест свой хлеб.
– Все равно это шанс, – шепнула девушка, сжимая его локоть. – Надо будет им воспользоваться.
– Может, удастся сесть поближе и бросить бомбу? – спокойно предложил ее спутник, оглядываясь на ложу.
– Данко, – вспыхнула девушка, – там же дети! Совсем маленькие!
– И что? Наверняка, когда вырастут, будут такими же сволочами, как их папаша.
– Убивать детей отвратительно! Народ никогда не простит нам этого! Ты… ты… Даже и не думай!
– Успокойся. Я пошутил. Лучше всего, конечно, просто его застрелить. Просто я никак не могу сообразить, как это сделать.
– Мы что-нибудь придумаем, – пообещала девушка, успокаиваясь. – Главное – чтобы никто, кроме короля, не пострадал. Мы не хотим бойни, мы хотим только избавить народ от тирана!
– Судя по тому, как этот народ ликует, тиран его вполне устраивает, – сквозь зубы процедил молодой человек и стал смотреть на поле.
Меж тем первый заезд уже начался, и зрители стали криками поддерживать тех, на кого поставили деньги, и тех, за кого просто болели. Многие вскочили с мест, чтобы лучше видеть. На ипподроме стоял невероятный шум. Лошади летели к финишу, развевались гривы, мелькали конские ноги, жокейские куртки, шлемы. Лотта Рейнлейн вскочила с места, не помня себя. Она видела, что «ее» жокей на своем скакуне летит впереди остальных и с каждым мгновением все ближе к заветному финишу.
– Давай! Давай! – кричала она, потрясая кулачком и обезумев от восторга.
Но вот сзади выскочил другой всадник на светлой в яблоках лошади и стал подбираться все ближе… Трибуны взревели. Жокей Лотты впереди на полкорпуса… преследователь поравнялся с ним… Преследователь обходит его!
– Ах, проклятье! – вскрикнула балерина вне себя, топая ногой.
Но тут жокей Лотты совершил почти невозможное – на последних метрах дистанции он собрался, догнал противника и, казалось, имел все шансы выйти вперед. Однако неожиданно на вороном скакуне вылетел третий всадник и погнал, погнал к финишу… Его конь мчался так, словно обрел второе дыхание, да что там мчался – летел, повинуясь умелой руке наездника. Вороной выиграл полкорпуса на финише, придя первым.
– Невероятно! – только и мог сказать пораженный король. Его старшая дочь заулыбалась: она была счастлива, что ставленник фаворитки потерпел поражение. А королева Шарлотта захлопала в ладоши так громко, что ее свекровь оглянулась с недоумением.
– Не каждый день удается так развлечься, – объяснила королева с широкой улыбкой.
Собственно говоря, королева сказала правду, но не всю, даже поражение ставленника Лотты мало что значило для нее. Почему-то в эти мгновения она особенно остро ощутила, что наконец-то она свободна и может дышать полной грудью. Словно эмоции тысяч людей, эти сияющие восторгом лица, подбадривающие крики, мельтешение лошадей там, внизу, открыли запертую дверь, за которой она задыхалась, и выпустили ее наружу, приобщили к своему ликованию и к своему миру. Ведь в жизни Шарлотта знала очень мало радости. Свекровь держалась с ней корректно, но прохладно, муж ни единой минуты не был ей верен, и даже свекор, которого все считали умным человеком, едва удостаивал ее словом. В кругу европейских монархов, куда более снобистском, чем принято думать, сама Шарлотта всегда оставалась незначительной немецкой принцессой и королевой страны, которая ничего особенного собой не представляла. Тогда молодая женщина замкнулась в своей чопорности и окружающим установила дистанцию между собой и миром. Так как она была несчастна, ей ничто не нравилось: она с брезгливой усмешкой смотрела на благотворительные порывы свекрови, с презрением – на своего никчемного мужа, с раздражением – на его лучшего друга полковника Войкевича, и даже дети сердили ее больше, чем радовали, потому что она видела только их недостатки, не обращая внимания на достоинства. И внезапно наваждение кончилось: она была счастлива, что девочки визжат от восторга, что скачки оказались такими интересными, что баронесса Корф посоветовала ей, к каким портным лучше обращаться, и благодаря этому на Шарлотте сегодня расшитое розами шелковое платье, которое отметил даже этот несносный Войкевич, заявив, что государыня выглядит восхитительно, и он опасается сказать больше, иначе его слова истолкуют превратно. Ах, чудесная, милая баронесса! Шарлотта даже привстала на месте, чтобы увидеть Амалию. Та сидела, обмахиваясь веером, и о чем-то беседовала с подошедшим к ней генералом Новаковичем, который навис над ней, как облаченная в парадный мундир белокурая башня. Генерал сказал что-то, Амалия засмеялась, Оленин улыбнулся, не разжимая губ. Но тут Амалия ответила, судя по всему, каким-то колким и задорным замечанием, и Новакович аж порозовел от удовольствия, а Петр Петрович поглядел на нее с удивлением и восхищением.
– Цецилия, – решившись, сказала Шарлотта фрейлине, – позовите в нашу ложу баронессу Корф, пожалуйста.
Стефан посмотрел на супругу удивленно, но возражать не стал, и через несколько минут Амалия в сопровождении Оленина показалась в ложе. «Какие кружева!» – подумала Шарлотта, глядя на платье баронессы. Любая другая женщина на месте королевы почувствовала бы укол зависти и сказала бы Амалии что-нибудь нелестное, но вся неприязнь Шарлотты была обращена на Лотту Рейнлейн, а Амалия ей скорее нравилась. К тому же королева ни на минуту не забывала, что она по положению гораздо выше и к тому же на несколько лет моложе – хотя, глядя на дам, никто бы этого не сказал.
– Надеюсь, я не разлучила вас с генералом? – спросила Шарлотта с улыбкой.
– О, что вы, ваше величество!
Амалия могла бы добавить, что пошлые комплименты Новаковича ей уже порядком наскучили, но не стала углубляться в детали.
– Кажется, вы всех присутствующих уже знаете, – сказала королева. – Милорад! Пожалуйста, распорядитесь, чтобы принесли стул для госпожи баронессы.
– Я сам распоряжусь, – вмешался князь Михаил и вышел.
Как интересно, подумала Шарлотта. Что это такое с наследником? Раньше он не стал бы искать стул даже для бельгийской королевы, а тут… И она пристально посмотрела на Амалию, которая ответила ей совершенно безмятежным взглядом.
Михаил был, пожалуй, единственным членом семьи, к которому Шарлотта испытывала симпатию – отчасти из-за постигшего его несчастья, отчасти потому, что сам он всегда вел себя по отношению к ней безупречно. В отличие от своего кузена Михаил за женщинами не волочился, а с тех пор, как его жена повредилась в уме, стал часто ходить в церковь и щедро жертвовал на благотворительные начинания королевы-матери. Однако Шарлотта была достаточно умна и понимала, что здоровому молодому мужчине этого должно быть мало. До нее доходили слухи, что Михаил вдруг увлекся теннисом и иногда приезжает к баронессе поиграть, потому что у нее единственный в Любляне приличный корт. Но дело, конечно, вовсе не в теннисе; и Шарлотта подумала, что Амалия, такая тактичная и знающая свое место, будет для Михаила прекрасной парой и уж, по крайней мере, отвлечет его от грустных мыслей. Шарлотта как-то видела в часовне наследника, рыдающего после встречи с обезумевшей женой (он полагал, что его никто не видит, а королева зашла в часовню случайно), и внезапно прорвавшееся отчаяние этого сдержанного, воспитанного человека произвело на нее гнетущее впечатление. В сущности, князь Михаил – неплохой человек, и такая женщина, как баронесса Корф, вполне подходит для того, чтобы вернуть его к жизни. «Но, конечно, им стоит встречаться не только на корте… Это надо будет устроить».
Королева милостиво улыбнулась Амалии и заговорила с ней. Они обсудили погоду, слегка коснулись благотворительности и перешли к моде. Вернулся Михаил в сопровождении лакея, который тащил стул, и баронесса получила разрешение сесть.
– Вы любите охоту, госпожа баронесса? – спросила королева, доброжелательно глядя на Амалию своими близорукими маленькими глазами.
По правде говоря, Амалия не выносила все, что было связано с охотой, и вообще считала убийство животных ради забавы варварством. Однако вопрос королевы вряд ли подразумевал отрицательный ответ, и Амалия ограничилась тем, что она не слишком ловкая охотница (что было близко к истине).
– В таком случае я приглашаю вас на королевскую охоту, – объявила Шарлотта. – Уверена, она придется вам по душе. Даже австрийский император был не прочь поохотиться у нас, когда его приглашал покойный король.
И Амалия поняла, что теперь она точно не сможет отказаться.
Начался второй заезд, в котором участвовали уже не профессиональные наездники, а военные полков его величества. И все было хорошо до того момента, пока молодой лейтенант Мирко Галич на повороте не вылетел из седла и, неловко покатившись по земле, застыл с раскинутыми руками, как сломанная кукла. Трибуны ахнули, несколько женщин упали в обморок. Даже король, который знал Галича и встречал его при дворе, изменился в лице.
– Милорад! – крикнул он, но адъютант уже все понял без слов и быстрым шагом вышел из ложи. К неподвижно лежащему Галичу бежали люди. Потом появился доктор в сопровождении Войкевича. Доктор осмотрел молодого человека, чье лицо было испачкано травой и землей, и покачал головой.
– Мне очень жаль, господин полковник… Он сломал себе шею.
И доктор повторил:
– Поверьте, мне очень жаль.
– Принесите носилки, – распорядился Войкевич, ни на кого не глядя. На скулах его ходуном ходили желваки. Он протянул руку и закрыл лейтенанту глаза.
– Носилок нет, – пролепетал кто-то из растерянных служащих.
– Несите носилки, или, черт подери, я сделаю их из вашей шкуры! – гаркнул разъяренный полковник командирским голосом.
– Что произошло? – тихо спросила королева, когда адъютант вернулся.
Войкевич провел рукой по лицу и объяснил, что случилось несчастье. Шарлотта зябко поежилась и стала усиленно обмахиваться веером. Ее радостное настроение вмиг улетучилось, и она горько спросила про себя: «За что, господи? За что?»
А сидевшая возле нее Амалия чувствовала неподдельные угрызения совести, ведь молодой лейтенант погиб в том числе и из-за нее, из-за того, что она придумала блестящий план, как России добиться стоянки для флота в Дубровнике, и подбила короля построить ипподром. Потому что, каким бы идеальным ни был ваш план, всегда найдется некий неучтенный элемент, обстоятельство, о котором вы даже не подозревали или на которое не обратили внимания. Сейчас таким элементом стал молодой лейтенант, застывший с удивленным лицом на импровизированных носилках, которые уносили хмурые, вмиг посерьезневшие служители. И третий заезд, самый интересный, в котором состязались победители первых двух, Амалия смотрела уже сквозь слезы.
Но в третьем заезде все обошлось, и король торжественно вручил приз победителю – жокею на вороной лошади, который выиграл первый заезд. И к концу этого дня никто уже не вспоминал о погибшем лейтенанте, никто не думал о нем, кроме его безутешной матери и сестер.
Что же до нашей героини, то Оленин проводил ее до Тиволи и, угадав причину расстроенного вида Амалии, сказал:
– Сударыня, я вам удивляюсь… В чем вы виноваты? Молодой человек плохо держался в седле, и его сбросила лошадь. Он неудачно упал и… и на этом жизнь для него закончилась. Конечно, это трагедия, но вы-то тут при чем?
Амалия вздохнула. Ей хотелось верить в то, что Петр Петрович прав, но инстинктивно она понимала, что на ней тоже лежит вина за гибель Галича.
Попрощавшись с Олениным, она удалилась к себе, а после ужина, переодевшись в простое домашнее платье, вышла в сад. Стрекотали кузнечики, и луна, словно запутавшись в ветвях деревьев, нависала над Тиволи. Амалия села на скамью возле пруда и задумалась. Потом она уловила в сумерках легкое движение, словно поблизости перемещалось какое-то белое пятно. Миг, и в полосу света на земле робко вступил большой красивый лебедь. Амалия хорошо его помнила – она часто ходила кормить лебедей в парке, и эта птица постоянно подплывала к ней и, похоже, совсем ее не боялась.
– У меня ничего нет, – сказала ему Амалия, словно извиняясь.
Лебедь вздохнул и приблизился, потом решился и подошел совсем близко, вытянув свою чудесную шею. Амалия невольно улыбнулась и осторожно погладила его по голове. Лебедь встряхнулся и пристроился возле ее ног.
Когда она встала и пошла к дому, лебедь некоторое время следовал за ней, но потом отстал и побрел обратно к пруду.
– Ишь ты, – пробормотал младший садовник, который из своего домика наблюдал эту сцену. – Лебедя приворожила! Колдунья, не иначе. Надо будет полковнику сказать, – добавил он, обращаясь к Тобику, который дремал рядом на полу.
И он предался мечтам о том, сколько ему заплатит Милорад Войкевич, когда он предупредит его насчет колдуньи. Ведь всем в Иллирии известно, что с колдуньями шутить нельзя.
Глава 17 Королевская охота
– Она приглашена на королевскую охоту, – сказала Лотта.
– Это идея короля?
– Нет. Его жены. – Лотта настолько не уважала Шарлотту, что даже не считала нужным называть ее королевой.
Генерал Ракитич сделал круг по комнате, засунув руки в карманы, и снова подошел к балерине, которая, сидя на диване, с мученическим видом обмахивалась веером.
– Если всего лишь жены, – неуверенно пробормотал генерал, – тогда ничего.
– Но я не могу ехать на охоту, – пожаловалась Лотта. – Даже если бы я захотела…
Она умолкла и, прикусив нижнюю губу, стала размышлять, не удастся ли отговорить короля от этой затеи. В конце концов, с точки зрения Лотты, с ней Стефан мог провести время куда приятнее.
– Меня, вероятно, пригласят на охоту, – сказал генерал. – Поверьте, я сделаю все, чтобы эта авантюристка не смогла к нему приблизиться.
– А если вас не позовут? – сухо спросила Лотта. – Полковник вполне может сделать так, что о вас забудут. Ведь именно он обеспечивает охрану короля и утверждает список гостей… а в последнее время он нас невзлюбил.
– Чтобы я зависел от какого-то полковника? – вскинулся Ракитич. – Если меня не пригласят, я пожалуюсь военному министру! Они не имеют права меня обойти!
Лотта посмотрела на генерала и подумала, что некоторые военные глупы до безобразия. Охота – частное дело, и при чем тут, скажите на милость, какой-то военный министр?
Забегая вперед, скажем, что Лотте не удалось отговорить Стефана от поездки, как не удалось и заставить включить Ракитича в список приглашенных. Балерина просила слишком настойчиво, и у Стефана закралось подозрение, не является ли генерал ее любовником. Кроме того, он и так из-за Лотты лишился возможности играть в теннис на корте баронессы и не желал, чтобы ему перечили еще и сейчас.
– Мне не нравится эта баронесса, – сказала Лотта, проникновенно глядя в глаза своему любовнику. – Пообещай мне, что даже не станешь на нее смотреть!
И Стефан пообещал. Также он дал слово, что не будет ее слушать, но, когда он явился на охоту и завидел Амалию в золотистой амазонке рядом с ее золотистой лошадью, все обещания разом вылетели у него из головы.
Кроме того, рядом с Амалией находился наследник престола и, как выразился позже ехидный Верчелли, «почтительно пожирал ее взором». Стефана задело, что гостья увлечена беседой с князем, а не с ним, и он подошел ближе.
– Ваше величество! – сказала Амалия и сделала очаровательный реверанс.
Глаза баронессы блестели сегодня особенно ярко, и король посмотрел на нее с удовольствием. Ах, если бы она не была так предана интересам своей страны… и была чуточку более легкомысленна, у них могло бы что-то получиться.
«А впрочем, кто сказал, что у нас ничего не выйдет? – подумал Стефан. – В конце концов, я могу пообещать ей договор о нейтралитете, если и она кое-что мне пообещает… так сказать, взамен. Мой кузен для нее не годится, он слишком серьезный, с ним она умрет от скуки, а вот я… совсем другое дело!»
– Я проезжал вчера мимо вашего дома, – сказал Михаил Амалии, – и в окне видел вас. Мне показалось, вы читали книгу.
– Да. «Историю Иллирии» Бреговича. Я не знала, что ваш знаменитый поэт писал и исторические сочинения.
– И что вы думаете?
– О чем? О книге, об Иллирии, об истории Иллирии или об истории вообще?
– Пощадите! – рассмеялся Михаил. – Просто об истории, – добавил он уже серьезно.
– Что ж, если вам угодно знать, я считаю, что история лепится из хаоса методом бесконечных проб и ошибок. Есть государства с долгой историей, прошедшие все ступени цивилизации и достигшие высокой степени организации. Есть, напротив, государства молодые, находящиеся в стадии становления, где внутренние связи еще не сложились до конца и все кажется неустойчивым. Это не значит, что одни государства хуже, а другие лучше. Они просто разные, и, по-моему, Брегович в своей книге зря сравнивает Иллирию с Англией и Францией. А во всем остальном его труд очень любопытен.
«Черт побери, – подумал король, – как она хорошеет, когда пытается умничать! Лотта, наоборот, в таких случаях смотрится глупее некуда».
– Милорад, – произнес он вслух, – где я мог забыть хлыст?
Войкевич кликнул слугу и приказал ему принести хлыст короля.
– Наверное, я оставил его в комнате, когда переодевался, – объявил Стефан. – А вот и ее величество!
Королева Шарлотта милостиво поприветствовала собравшихся, и машинально король отметил про себя, что его супруга оделась чрезвычайно к лицу. Положительно, сегодня ему везло на женщин, и он думать забыл о Лотте, которая страдала в своем роскошном дворце.
Охота началась как-то внезапно и бестолково, и позже Амалия могла вспомнить только лай собак, загонщиков в живописных национальных костюмах, разрумянившееся от скачки лицо короля, который, похоже, попал в свою стихию, и Михаила, который больше смотрел на нее, чем следил за охотничьими перипетиями. Но вот где-то впереди затрубили в рог, наследник встрепенулся, закричал что-то и ринулся вперед. Ему очень хотелось убить сегодня какого-нибудь зверя, чтобы поразить Амалию.
«Какая глупость эта охота, – сказала себе рассудительная баронесса Корф, когда вся кавалькада скрылась из виду. – Раньше, не спорю, это имело смысл, потому что охотой добывали пропитание; ну а теперь? Им что, есть нечего?»
Она передернула плечами и крепче сжала поводья.
«И какое у короля было глупое лицо, когда он утром смотрел на меня… Он все время смеялся и высовывал кончик языка, косясь в мою сторону. Уж не собирается ли Стефан предложить этот никчемный договор о нейтралитете за то, что я буду к нему благосклонна? Ах, ваше величество, ваше величество!»
Тут Амалия услышала плеск воды и, повернув в сторону, через несколько минут выехала к реке, вернее, крошечной речушке, которая весело бурлила, пробегая по камням. На берегу стояла тощая, заморенная лисица и, склонив голову, жадно глотала воду. Бока ее мерно раздувались и опадали.
С опозданием завидев Амалию, она прыгнула в сторону, и страх в ее глазах напоминал страх загнанного в угол человека, который отлично понимает, что вот-вот ему конец.
Амалия посмотрела на лису, вздохнула и, развернув лошадь, поехала обратно. Желтый конь недовольно фыркнул и мотнул головой. Поведение хозяйки ему инстинктивно не понравилось. Как можно было уезжать, даже не поборовшись за добычу?
«Кажется, я отстала от моих спутников», – подумала Амалия и пришпорила коня.
Через несколько мгновений что-то случилось. Позже Михаил сказал, что, наверное, лошадь оступилась и попала ногой в кротовую нору, но никакой норы в тот момент Амалия не заметила. Она знала лишь, что только что ехала верхом – и вот уже лежит на траве, почему-то без шляпы, и вдобавок пребольно ушиблась локтем и левым коленом о ствол поваленного дерева, почти незаметный в высокой траве.
Амалия закрыла на мгновение глаза, а когда открыла, увидела, как по травинке возле ее лица бежит хлопотливый муравей. Отчего-то это рассердило ее, она сделала попытку подняться, но тут колено заболело так сильно, что она вскрикнула. Лошадь уже встала на ноги и грустно смотрела на нее.
Боже, как болит нога – не было бы перелома – как ужасно стать калекой; рука, кажется, пострадала меньше – надо надеть шляпку, зачем она валяется на земле?
Да, надо надеть шляпку, и эта типично женская, совершенно нелогичная мысль тотчас помогла Амалии обрести присутствие духа.
Она потянулась за шляпкой, но тут прическа некстати осознала, что ее держат лишь несколько шпилек, и приняла решение совершить самоубийство. От резкого движения волосы Амалии рассыпались по плечам, и она чуть не разрыдалась.
Ваше величество! Ваше высочество! Боже, эти мужчины всегда рядом, когда они не нужны, а когда нужны, никого, никого, ни единого человека!
«И одежду порвала», – подумала Амалия с досадой, заметив разодранный на локте рукав.
Лошадь повернула голову, и Амалия заметила всадника, который выезжал из-за деревьев. Сначала она увидела белого коня, потом сидящего на нем высокого человека в белом мундире, но голова его была в венце солнечных лучей, потому что солнце светило сзади. Когда он приблизился, Амалия узнала полковника Войкевича.
– Что случилось? – спросил Милорад.
– Я упала с лошади, – честно сказала Амалия. – А теперь не могу подняться.
И, сердясь из-за шляпки, волос и порванного рукава, она тем не менее с вызовом посмотрела в глаза полковнику.
– Вы сильно ушиблись?
– Нет. Только ударилась коленом об это… этот ствол.
Полковник Войкевич вздохнул. Собственно говоря, он подумал то же, что подумал бы на его месте любой искушенный царедворец: Амалия нарочно подстроила свое падение, вернее, симулировала, рассчитывая привлечь внимание короля. И его искренне позабавила мысль о том, какое разочарование она должна была испытать, когда вместо его величества на поляне появился он.
– Давайте я вам помогу, – тем не менее сказал он, соскакивая с лошади.
Он протянул обе руки и помог ей подняться, но тут Амалия сдавленно застонала и чуть не упала. Полковник едва успел ее удержать.
– Я не могу ступить на левую ногу, – пожаловалась она. В руке она все еще сжимала шпильки, выпавшие из прически, а другой опиралась на локоть адъютанта.
– Совсем не можете? – спросил Войкевич с легкой иронией.
Она подняла глаза и сердито посмотрела на него снизу вверх (он был гораздо выше).
– Боюсь, я повредила колено.
Она слегка побледнела. «Актриса», – не без уважения подумал Милорад. Вслух он, впрочем, спросил:
– Вы уверены, что не сможете сесть в седло?
Амалия только покачала головой. Сейчас любая мысль о поездке верхом вызывала у нее страх. Она некстати вспомнила распростертое на земле тело лейтенанта, и ей едва не сделалось дурно.
– Да полно вам, – мягко сказал Войкевич, видя, как она побледнела. Но тут он посмотрел ей в глаза – и нахмурился. Ничего, даже отдаленно похожего на игру, в них не было.
– Вот что, – решительно объявил полковник. – Раз вы не можете ни идти, ни ехать, я донесу вас до охотничьего домика.
– Он близко? – спросила Амалия, по-прежнему цепляясь за него.
– Близко, – успокоил ее Милорад, не уточняя, что в их краях близким считалось любое расстояние меньше 5 километров. – Вы не бойтесь, мы скоро будем на месте.
Он легко поднял ее на руки и понес, а обе лошади, поколебавшись, двинулись следом за ним. Свободной правой рукой Амалия держалась за шею полковника и думала только об одном: серьезно у нее повреждено колено или нет. От боли, которая то вспыхивала, то угасала, ей казалось, что серьезно, и ей мерещились пожизненная хромота, осложнения, госпиталь, ампутация и всякие ужасы.
Завидев, как полковник выходит из леса с Амалией на руках, Михаил так сильно изменился в лице, что Стефан взглянул на него с некоторым беспокойством.
– Что такое, почему он ее несет? – вырвалось у наследника. Он спрыгнул с лошади и быстрым шагом подошел к Войкевичу.
Получив объяснения, князь заметался, предложил вызвать карету, доктора и немедленно ехать в больницу. Но Амалия сказала, что предпочитает, чтобы ее отвезли домой.
– Там, в лесу, осталась моя шляпка… Недалеко от реки, на поляне, где упавшее дерево…
И Михаил помчался спасать шляпку, а королева послала человека за своей каретой, чтобы доставить баронессу Корф в Тиволи.
– А лису мы так и не затравили, – сообщила она Амалии, чтобы хоть немного утешить. – Она куда-то пропала. Думаю, нам надо купить новых собак, эти уже ни на что не годятся.
Поглаживая лысину, Верчелли смотрел, как Амалию сажают в открытый экипаж, и жалел только об одном – что счастье нести такую прелестную женщину выпало этому мужлану Войкевичу, который совершенно не способен его оценить. Притворялась баронесса Корф или нет, с распущенными волосами, растерянная и в помятой амазонке, она была очень хороша.
– Даже и не думайте! – свирепо бросил ему Михаил, проходя мимо.
– Ваше высочество? – изумился граф. Наследник круто повернулся на каблуках и приблизился к нему вплотную.
– Если в-вы скажете хоть что-нибудь о ней, – прошипел он, – я вам шею сверну!
– Даже если я скажу, что она само очарование? – поднял брови граф. Он не выносил, когда ему приказывали, будь то даже монаршие особы или их наследники.
– Это вы можете говорить сколько угодно! – ответил Михаил, удаляясь.
Он сел на лошадь и поехал за экипажем, который увозил Амалию.
– Вот, – объявила Лотта, узнав о происшедшем, – о чем я говорила! Стоило мне отлучиться, и она уже пытается отнять у меня Стефана, изобразив падение с лошади! Еще повезло, что поблизости оказался адъютант, а не король!
Кислинг, который механически кивал в ответ на каждую ее фразу, при последних словах нахмурился и о чем-то задумался.
– Так или иначе, – произнес он с расстановкой, – это может оказаться для нас полезным… если она действительно не сумеет какое-то время ходить.
И больше не проронил об этом ни слова.
Амалия успокоилась только тогда, когда вновь оказалась в своей спальне, в кровати с высоким балдахином, и вызванный доктор (между прочим, личный врач короля и наследника), осмотрев распухшее колено, объявил, что кости целы, просто госпожа баронесса сильно ушиблась и переволновалась.
– Вам лучше принять снотворное, сударыня, и хорошенько отдохнуть. Завтра станет окончательно ясно, есть серьезные повреждения или нет.
И он послал горничную Зину в аптеку за лекарством.
Амалия покорно выпила снотворное, чувствуя себя, как маленькая девочка, которая впервые за долгое время заболела. Все, что составляло недавно смысл ее жизни – особая служба, интриги на благо родины, поручение министра К., даже придуманный ею коварный замысел, – все отошло на задний план. Ее волновало только одно: сумеет ли она ходить, как прежде, или это падение обернется для нее нешуточными осложнениями.
«Впрочем, Лавальер[213] была хромоножкой… И не только она… Какая Лавальер, о чем я! У нее был король, хоть какое-то время, и настоящий, а тут…»
И она сама не заметила, как погрузилась в сон.
Проснулась она посреди ночи от очень неприятного ощущения. На языке разведчиков это ощущение называется по-разному, но суть его одна.
Что-то не так.
Что-то совсем не так.
Амалия с трудом подняла голову (снотворное придворного доктора оказалось на редкость качественным) и в полумраке спальни, освещенной светом едва теплящейся лампы, увидела, как колышется занавеска. Большое окно было распахнуто настежь.
Стало быть, она выпила снотворное, которое принесла та веснушчатая горничная, Зина, а потом…
Нет, Амалия не приказывала открывать окно, более того, прислуга наверняка должна была заметить, что хозяйка не выносит сквозняков и распоряжается открывать окна очень редко, когда стоит сильная жара. Что же это такое, в самом деле?
– Зина! Зина!
Горничная не отзывалась. Амалия дернула несколько раз за сонетку – бесполезно. Никто не шел.
Амалия бессильно упала на подушки. Итак, все очень просто: Зину кто-то подкупил, чтобы погубить Амалию. Потому что она болела туберкулезом, от которого вылечилась с большим трудом, и любая простуда могла оказаться для нее смертельной.
А ведь как просто – открытое окно, в которое вливается свежий ночной воздух.
Всего лишь открытое окно.
Амалия завозилась на постели, натягивая повыше одеяло, но оно было тонкое, летнее и, конечно, никак не могло ее защитить. И еще нога болит, стоит пошевельнуться.
Переиграли… переиграли…
Надежная прислуга, уверял Петр Петрович… Вот тебе и надежная. И ведь продала наверняка задешево, как писал покойный король… И еще это снотворное… все одно к одному… Нельзя спать… нельзя… Может быть, еще раз позвать Зину? Да нет… Она затаилась… не придет…
Амалия почувствовала, что глаза у нее снова слипаются, и погрузилась в сон.
На этот раз она пробудилась от совершенно другого ощущения. Еще до того, как открыть глаза, она уже знала, что находится в комнате не одна.
Повернув голову, Амалия увидела в кресле возле кровати силуэт. От снотворного у нее путались мысли, и она страдальчески поморщилась, узнав наконец ночного гостя. Окно, еще недавно так тревожившее молодую женщину, было закрыто.
– Что вы тут делаете, Милорад?
Войкевич, который задумчиво смотрел на Амалию, подперев рукой подбородок, блеснул глазами и откинулся на спинку кресла.
– Я заметил, что ваше окно открыто. А в этом месяце часто бывают холодные ночи.
Амалия задумалась, но так ничего и не поняла. От полковника пахло табаком, но вовсе не запах беспокоил ее в это мгновение, а то, как он на нее смотрел. С удивлением… или не с удивлением, а…
– И вы залезли ко мне в окно?
– Я в детстве лучше всех лазал по деревьям, – объявил Войкевич. – Забраться в окно – пара пустяков.
– Я не открывала окна, – проворчала Амалия. – Это наверняка проделка Кислинга, чтобы я простудилась и умерла.
– А я думал, вы нарочно оставили его открытым. Для меня, к примеру. Как ваше колено?
– Плохо, – сказала Амалия. – Болит.
Она сердито потерла кулачками глаза, чтобы не засыпать. И этот жест показался ему очень трогательным, почти детским. Еще он вспомнил, как нес ее по лесу, и она, очевидно, не сознавая этого, приникла головой к его груди. А какие у нее были мягкие душистые волосы…
– Мне очень жаль, – сказал Милорад, пересаживаясь на кровать.
– Ты же мне не поверил.
Это «ты» было преждевременным и явно лишним, потому что Милорад отвернул край одеяла и задумчиво посмотрел на ее ногу.
– Колено выглядит ужасно, – вздохнула Амалия.
– Вовсе нет.
Он наклонился и несколько раз осторожно поцеловал многострадальное колено, а у Амалии, которая никогда не теряла чувства юмора, мелькнула мысль, что ее гость выбрал довольно необычный способ лечения.
– И локоть у меня тоже болит, – пожаловалась она.
Милорад поднял голову и с интересом посмотрел на Амалию. В который раз своим замечанием ей удалось застать его врасплох.
– И потом, это глупо. Ты же прекрасно понимаешь, что не можешь мне доверять. – «Как и я тебе», – добавила она про себя. – И вообще, в этой стране меня интересует только одно: Дубровник.
– А меня интересуешь только ты, – ответил ее собеседник.
Глава 18 Встреча в Дубровнике
Петр Петрович Оленин взял ножницы и аккуратно стал вырезать из газеты статью с фотографиями. На одной из фотографий была баронесса Корф, которая сидела в ложе на новом ипподроме рядом с королевой.
Затем Петр Петрович таким же манером распотрошил еще несколько газет, в которых содержались те или иные сообщения о его сообщнице, кое-что отчеркнул карандашом и сел переводить на русский отмеченные места.
Закончив перевод, он сел писать подробное донесение в Петербург. Шифровать его он не стал – все равно для непосвященного в нем не содержалось ровным счетом ничего особенного, кроме сообщений о светских успехах госпожи баронессы.
Вручив донесение курьеру, Петр Петрович выглянул в окно, чтобы посмотреть, какая стоит погода, взял шляпу, спустился вниз и велел посольскому кучеру везти себя в Тиволи.
Узнав о падении Амалии на охоте, он ни минуты не сомневался в том, что та задумала какую-то комбинацию для привлечения внимания короля. Однако в Тиволи он застал только князя Михаила и рыдающую Зину, которая бежала куда-то. Одна щека у Зины была багровой, но никаких объяснений горничная давать не пожелала.
Под внимательным взглядом Бонапарта Михаил мерил гостиную шагами, и Петр Петрович, никогда не терявший хладнокровия, отметил про себя, что вид у обыкновенно сдержанного князя на редкость свирепый. Интересно, что могло так разозлить его высочество?
– Вы слышали, что горничная нарочно распахнула настежь окно, чтобы госпожа баронесса простудилась? – наконец спросил Михаил.
Петр Петрович изумился и попросил объяснений, которые в полной мере тут же получил. Когда Михаил явился утром справиться о здоровье больной, Амалия пожаловалась ему на Зину, сказала, что ночью насилу с больной ногой сумела закрыть окно, и попросила вместо нее рассчитать горничную, потому что она больше не желает видеть это вероломное создание.
«Вот черт побери! – подумал расстроенный Петр Петрович. – Интересно, сколько ей дал Кислинг за труды? Наверняка немного – этот подлец на редкость прижимист, когда речь идет не об основных агентах. На Лотту-то он денег не жалеет».
– Я намерен добиться высылки Кислинга из страны, – решительно объявил Михаил. – Это ведь один из его агентов подкупил горничную. Что он себе позволяет, а?
И князь так стукнул своим хилым кулаком по столу, что подпрыгнула чернильница.
Петр Петрович открыл рот, посмотрел на лицо князя и рот закрыл. Однако он все-таки выдавил из себя с присущей дипломатам учтивостью:
– Мы поддержим вашу просьбу, ваше высочество.
Михаил собирался сказать еще что-то, но в это мгновение открылась дверь и, опираясь на трость, вошла Амалия. Поглядев на нее, Петр Петрович нахмурился. Он нашел, что для особы, разыгравшей падение с лошади, у нее был чересчур бледный вид. По его мнению, в таких вопросах отнюдь не стоило переигрывать.
Наследник бросился к Амалии, пододвинул кресло, едва не опрокинув от волнения бюст (Бонапарт при этом покосился на него с явной злобой), и заметался вокруг молодой женщины, предлагая свои услуги. Амалия ограничилась тем, что попросила его принести стакан лимонада да проследить, как слуги его делают, не то с них станется подсыпать туда чего-нибудь, плохо совместимого с жизнью.
Когда Михаил удалился, заверив, что вернется быстрее ветра, Амалия с легкой улыбкой поглядела на Оленина.
«Уж не собирается ли она окрутить наследника? – размышлял тем временем пораженный резидент. – Конечно, с нее станется; но ведь не Михаил принимает решение по Дубровнику!».
– Во-первых, Петр Петрович, – сказала Амалия, – я действительно упала с лошади, и у меня болит колено. – Она шевельнула левой ногой и поморщилась. – Во-вторых, я ничего такого не планировала и не собиралась просить на охоте помощи у короля. Это случайность, понимаете?
– Понимаю, – ответил Оленин, глядя на нее во все глаза.
– Врач уверяет, что через несколько дней все должно пройти, а если не пройдет, значит, что-то все-таки повреждено. – Отсутствие рентгена в те годы сильно осложняло жизнь эскулапам. – Но довольно об этом. Что с нашим делом?
– Хм, – сказал Петр Петрович, косясь на дверь. – Король уже влез в долги.
– Сильно?
– Не так сильно, как нам бы хотелось, но все к тому идет.
– Следите за ситуацией, Петр Петрович.
– Я только это и делаю, госпожа баронесса. Вам известно, что его высочество решил добиться высылки Кислинга?
– Насколько я знаю Кислинга, – усмехнулась Амалия, – выслать его получится только тогда, когда этого захочет он сам.
– А если князь обратится к королю?
– Вряд ли Лотта Рейнлейн допустит, чтобы его выставили за пределы Иллирии. Кроме того, короля бесполезно просить о чем бы то ни было, он всегда все делает наоборот.
Вернулся Михаил с лимонадом, и Петр Петрович перевел разговор на общие темы. Вскоре он откланялся и удалился, но по пути домой ломал себе голову, действительно ли Амалия упала с лошади случайно или по какой-то причине она морочит ему голову.
«Может быть, из-за случая с горничной она перестала мне доверять? – Он покачал головой. – О, как это некстати!»
Тем временем Михаил клялся Амалии, что он больше не допустит, чтобы с ее головы упал хоть один волос. Так как несколькими часами ранее то же самое, но куда более пылко, ей обещал Милорад, у Амалии возникло чувство, что она наблюдает какую-то комическую сцену. Чувство это только усилилось, когда князь посулил, что Кислингу не жить, если он снова станет строить козни против Амалии. Войкевич, по крайней мере, был куда определеннее – он пообещал, что повесит австрийца на фонаре, но в следующую минуту сознался, что на соседнем фонаре, если ему представится такая возможность, он повесит Оленина. Амалия, делая вид, что принимает все всерьез, попросила полковника оставить Петра Петровича в покое, и Милорад нехотя дал слово, что попытается его простить.
Вообще, надо сказать, Амалия была недовольна собой. Умным людям отлично известно: за что бы вы ни брались, начинать надо сверху, а не снизу. Когда требуется повлиять на короля, ни к чему заводить роман с его адъютантом. В принципе Амалия ничего не имела против Войкевича, но это была не то что не влюбленность, но даже и не просто симпатия. И так как она ни капли не сомневалась, что сообразительный адъютант рано или поздно попытается ее использовать, она решила, что не доставит ему такой радости. Один раз он сумел застать ее врасплох, и будет с него.
Приняв такое решение, Амалия значительно повеселела, и даже нога у нее стала болеть куда меньше. Молодая женщина сумела прогуляться до пруда и, придравшись к ирисам, которые будто бы плохо цвели, уволила младшего садовника, в отношении которого давно питала некоторые подозрения. Прежде чем лечь спать, она тщательно проверила все окна в доме, чтобы полковник не смог повторить свой подвиг. Князь Михаил обиняками (как и следовало порядочному человеку) предложил ей свою охрану на эту ночь, но Амалия отказалась, и он ретировался, совершенно уверившись в том, какая она исключительная женщина, раз дает от ворот поворот члену государственного совета и наследнику иллирийского престола.
Через несколько дней Амалию навестила королева Шарлотта, которая сообщила среди прочего, что ее свекровь заболела. Едва Амалия смогла выезжать, она отправилась во дворец, засвидетельствовать матери Стефана свое почтение. Баронесса вовсе не ожидала, что ее примут, однако королева распорядилась ее пропустить и призналась, что ее беспокоит работа благотворительного комитета. Она собиралась ехать в Дубровник, проверить, как идут дела в приюте имени короля Владислава, а теперь поездка отменяется. А между тем в прошлом году она уже уволила вороватого директора и боится, что новый ничуть не лучше.
Амалия немного подумала и сказала, что готова пожертвовать присутствием на следующих скачках, которые вошли в Любляне в необыкновенную моду, и съездить в Дубровник. Ей уже давно хотелось своими глазами увидеть знаменитый город и порт, из-за которого разгорелся весь сыр-бор.
Королева Стефания оживилась, но, подумав, сказала, что не смеет беспокоить Амалию, которая недавно серьезно ушиблась. Однако баронесса Корф заверила ее, что небольшое путешествие только пойдет ей на пользу. Через некоторое время Амалии доставили деньги на поездку и бумагу, подписанную королевой, о том, что баронесса Корф является ее полномочным представителем и вольна делать в благотворительных заведениях Дубровника все, что ей заблагорассудится.
– Карета будет ждать вас, сударыня, когда вы прикажете, – объявил лакей, почтительно кланяясь.
Амалия хотела было сказать, что поедет в автомобиле, но вспомнила здешние дороги, подумала, что до Дубровника путь не близкий, и сказала, что готова отправиться завтра же.
Откроем читателю маленькую тайну: причиной столь поспешного бегства было не в последнюю очередь желание избавиться от общества Войкевича. После ночи, которую они провели вместе, полковник вообразил, что имеет на нее какие-то права, и стал – с точки зрения Амалии – невежливым и назойливым. Кроме того, вся жизнь Войкевича вертелась вокруг Стефана и казарм полка, которым командовал Милорад, а, по мнению Амалии, этого было слишком мало. Она не любила людей, с которыми нельзя поговорить ни о книгах, ни о живописи, ни о музыке. Также она – как и большинство из нас – не любила людей, которые являлись свидетелями ее слабости. И наконец, Войкевич не нравился ей потому, что строил из себя донжуана и слишком много говорил о своих победах над женщинами. Амалия невысоко ставила мужчин, которым недостает воспитания, а Милорад, несмотря на его долгое пребывание при дворе, в глубине души все равно оставался внуком пастуха и сыном простого слуги. И, хотя Амалия не считала себя снобом, ей было трудно привыкнуть к некоторым его манерам – хотя бы к тому, что вдали от чужих глаз он преспокойно может есть руками, обходясь без ножа и без вилки. Замечания его, когда он давал себе волю, порой бывали возмутительно грубыми, и даже смех у него был слишком громкий, режущий ухо. Улыбка у него, когда он расслаблялся, была широкая, подкупающая, но, глядя на эти ровные, белые зубы, Амалия всякий раз думала: крокодил, да и только, зазеваешься – и он мигом тебя проглотит. Нет слов, он умел быть очень обаятельным, особенно с женщинами, но баронесса Корф была слишком искушена и понимала, что обаяние тоже является оружием, а у такого человека, как Войкевич, и подавно. От усталости и разочарования Амалию мог спасти человек совершенно иного склада и к тому же никак не связанный с ее работой, человек, которому она хоть немного могла доверять, но жизнь научила ее, что доверять нельзя никому. Стало быть, оставалось только работать, следовать намеченному плану, выполнить задуманное и вернуться в Петербург, в уютный особняк на Английской набережной. Она уже не раз ловила себя на том, что скучает по семье и детям.
Наутро баронесса выехала в Дубровник и после долгой, тряской дороги, часть которой шла вдоль изумительно красивого адриатического побережья, прибыла к месту назначения. В городах, которые она видела впервые, Амалию больше всего интересовали ее собственные ощущения, и поэтому она, отложив посещение приюта, полдня посвятила ознакомлению с Дубровником. Наметанным глазом она сразу же определила, что город наводнен австрийскими агентами, и нельзя сказать, чтобы это пришлось ей по вкусу. «Когда мы устроим тут нашу базу, этих господ придется выдворить на родину».
Она побывала в Старом городе, в котором много лет назад выдерживали осаду изгнанная королева Фредерика и ее муж с теми немногими войсками, которые у них оставались. На стенах дворца до сих пор виднелись следы от пуль, часть укреплений была разрушена прямым попаданием ядра, и ее еще не восстановили. В общем и целом, по мнению Амалии, Дубровник очень походил на итальянские города, расположенные на другом берегу Адриатического моря, – такие же улицы, залитые солнцем, церкви и фонтаны в итальянском стиле. Почувствовав, что она уже получила от Дубровника все, что можно, Амалия решила отправиться в приют, не предупредив заранее о своем визите. Она отлично знала, что неожиданность лишает проверяемых возможности приукрасить действительность и обмануть тех, кто явился с проверкой.
Узнав, зачем к нему явилась скромно одетая дама в костюме по английской моде, директор засуетился и предложил Амалии показать все, что она захочет. Госпожа баронесса достала из сумочки записную книжку и карандаш и принялась методично обходить все помещения. Ее не интересовала пыль в углах, зато она сразу же определила, что посуда на кухне старая, а одежда воспитанников могла бы быть и понаряднее. Из поведения директора она сделала вывод, что он если и ворует, то не так явно, как его предшественник, но не потому, что честнее, а потому, что боится потерять место. Труднее всего ей пришлось в классах, где учились дети. У брошенного ребенка особый, ни с чем не сравнимый взгляд, и, пока Амалия находилась в классе, глаза всех детей с напряженным любопытством следили за ней. По дороге в кабинет директора Амалия молчала и хмурилась. Директор, на которого манеры гостьи и особенно – записная книжка с карандашом произвели большое впечатление, робко предположил, что это потому, что в классах мало портретов покойного короля и его супруги, и пообещал исправиться.
– Не в этом дело, – отмахнулась Амалия. – Говорите, сколько нужно денег на новую посуду и хорошую одежду. Кроме того, я думаю, при приюте нужен свой собственный доктор, потому что дети есть дети, они часто болеют. И, наконец, в погребе одна стена обваливается, ее нужно укреплять.
Пораженный таким деловым подходом, директор назвал сумму расхода по каждой статье и благоговейно следил, как Амалия складывает цифры в столбик.
– Хорошо, – сказала она наконец, – я доложу ее величеству.
И, так как она слишком хорошо знала людей, добавила на прощание, что если в приюте в дальнейшем не найдут никаких злоупотреблений, директора и учителей представят к наградам и повысят им оклад.
Вечером Амалия вышла в Старый город прогуляться и медленно двинулась по набережной, вдоль городских стен. Колено все еще давало о себе знать, и вместо трости она опиралась на элегантный зонтик, но Амалия отдавала себе отчет в том, что ей неуютно вовсе не из-за боли в ноге. Все дело было в приютных детях, в том, как они смотрели на нее, пришедшую из свободного мира, где у каждого были мама и папа и еще деньги, чтобы быть независимым от других людей.
– Амалия?
Услышав свое имя, она повернула голову и увидела Мусю, а рядом с ней – ее мужа Андрея. Оба смотрели на нее во все глаза.
Глава 19 Человек, который всегда появляется вовремя
Это было уже чересчур, и Амалия не на шутку рассердилась. Стоило ехать на другой конец Европы, чтобы избавиться от мыслей об этих людях, и именно здесь они возникли на ее пути!
Андрей занервничал. Глаза Амалии метали молнии. С его точки зрения, этот затертый оборот как нельзя лучше подходил для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию надвигающейся грозы.
– Не знала, что вы наведаетесь в Дубровник, – промолвила Амалия, в тоне ее не было даже намека на любезность.
– Мы поехали в Париж, а оттуда – в Венецию, – поспешно ответил Андрей. – Потом нам надоели крикливые итальянцы и грязная вода в каналах. В путеводителе было написано, что Дубровник – жемчужина Адриатики, вот мы и сели на корабль.
Как уже говорилось выше, Амалия очень ценила воспитанность, но в некоторых ситуациях полагала, что она только осложняет дело. Ее так и подмывало наговорить счастливым супругам гадостей, только ничего плохого не шло на ум. Муся за время своего замужества явно похорошела, помолодела и расцвела, да и он… Не сказать, чтобы он выглядел плохо. Ему досталась вся любовь женщины, которая много лет ждала своего принца, и надо быть последней жабой, чтобы не чувствовать в ответ хоть какой-нибудь признательности.
И тут, пока Амалия колебалась между желанием высказать все, что она о них думает, или просто сбежать, чтобы не утратить окончательно чувство собственного достоинства, на горизонте появился спаситель.
Да, это был именно он, а точнее – господин Войкевич в белоснежном мундире, при орденах, пожалованных за невесть какие заслуги, стройный, высокий, черноволосый… одним словом, полная противоположность Андрею, и противоположность весьма авантажная, потому что все дамы, прогуливавшиеся по набережной, и даже англичанки, которых мужчины обычно волнуют куда меньше их собачек, завертели головами и стали оглядываться на молодого военного.
Справедливости ради следует добавить, что черные глаза военного тоже метали молнии, стоило ему увидеть беглянку, но, приблизившись, он сразу понял, что происходит нечто исключительное. Войкевич обладал сверхъестественным чутьем, когда дело касалось людей, ему близких, и он мгновенно угадал, что с Амалией творится что-то неладное, и причина, скорее всего, кроется в спутнике второй дамы, который не понравился ему с первого взгляда.
– Госпожа баронесса! – воскликнул Милорад, улыбаясь. – Рад вас видеть, – тут он завладел рукой Амалии и поцеловал ее, да не один раз. – Кажется, мы с вами виделись, и совсем недавно? – Он нарочно произнес эту фразу многозначительным тоном и внимательно посмотрел на хлыща в штатском. Хлыщ слегка, но все-таки переменился в лице, и Милорад печально подумал, что с удовольствием удавил бы его своими руками. Однако осуществить это намерение прямо сейчас не представлялось возможным, и полковник ограничился тем, что улыбнулся еще шире, хотя и с некоторой угрозой.
Вспомнив о приличиях, Амалия представила Мусю и ее мужа Войкевичу.
– Адъютант его величества короля Стефана полковник Войкевич, – сказала она, кивая на Милорада.
– Вы не обиделись, что я опоздал на набережную? – спросил он, проникновенно глядя ей в глаза.
Амалия подавила улыбку. Сложившаяся ситуация начала ее забавлять, но она была благодарна полковнику за неожиданное появление. В жизни, как и на войне, один против двух всегда проигрывает, особенно если один из этих двух – ваш бывший любовник. А теперь к ней мало-помалу начало возвращаться спокойствие духа.
– Уверена, у вас была веская причина не приходить раньше, – сказала она полковнику.
– Вы даже не подозреваете, насколько вы правы, – вздохнул Войкевич. После чего взял Амалию под локоть, слегка поклонился Мусе и пошел прочь, уводя с собой свою спутницу.
– Господин полковник, – шепнула Амалия через несколько шагов, – это было невежливо.
– Нет, невежливо было бы, если бы я швырнул его в воду, – парировал невыносимый Милорад. – Кто это и почему они так на тебя смотрели?
Амалия поморщилась, услышав обращение на «ты», и сделала попытку высвободить руку, но полковник, похоже, придерживался наполеоновского правила – никогда не отдавать то, что уже захватил.
– Это моя подруга.
– Нет, не подруга.
– Бывшая, – сдалась Амалия.
– Бывших друзей не бывает, есть только новые предатели, – отрезал Милорад. – А он, кто он? Ты ни слова о нем не сказала.
– У меня болит нога! – сердито выпалила Амалия. – Куда ты меня тащишь?
– Прости, ради бога. – Он сбавил ход, по-прежнему не выпуская ее руку. – Почему ты уехала?
– Меня попросила королева.
– Она ни о чем тебя не просила. Ты сама предложила.
Ну конечно, с досадой подумала Амалия, он уже все разузнал!
– Ты что, забыл о моем поручении? – спросила она с легкой иронией. – Должна же я видеть, на что похож этот Дубровник, который вдруг всем понадобился!
Милорад остановился и некоторое время изучал ее своими глубоко посаженными черными глазами.
– Я тебе не верю, – сказал он наконец. – Что я сделал не так?
Объяснять это было слишком долго, и Амалия, пожав плечами, снова двинулась вперед. Полковник шел с ней рядом, стараясь приноровиться к ее маленьким шагам. Сделать это было непросто, потому что он так и кипел. Ох уж эти женщины, которые всегда говорят все, кроме самого главного!
– Что ты делаешь в Дубровнике? – спросила Амалия, не глядя на него.
– Инспектирую здешнюю крепость по заданию короля.
– Тебе известно, что город наводнен австрийскими шпионами?
– Да. Но Стефан не хочет конфликта с Францем-Иосифом.
– Что это значит? Он что, не хозяин на своей земле?
– Дубровник далеко от Любляны, – сквозь зубы ответил Войкевич. – Многое может произойти, учитывая желание австрийцев и ваше тут закрепиться. Думаю, нам стоит увеличить здешний гарнизон.
Однако он тут же улыбнулся и добавил:
– Считай, что я сам выдал тебе важную информацию… раз ты тут по делам.
Амалия была уверена, что, когда они дойдут до гостиницы, полковнику придется с ней проститься, но не тут-то было. Милорад сделал вид, что уходит, а через пять минут постучался к ней в дверь.
– Можно войти? – спросил он и, держа фуражку под мышкой, перешагнул порог, не дожидаясь ответа Амалии.
Она ретировалась в другую комнату под предлогом, что ей надо заняться прической, а когда вышла оттуда, Милорад уже на турецкий манер разлегся на диване, подложив под локоть подушку. Впрочем, в облике адъютанта и впрямь было что-то турецкое.
Увидев, что он с улыбкой глядит на нее снизу вверх, Амалия вздохнула и в следующее мгновение вцепилась ему в волосы.
– Ай, ай, ай! – притворно запричитал Милорад, которому было не больно, а скорее смешно. К тому же ему нравилось, когда Амалия сердилась.
Оттаскав адъютанта его величества за волосы, Амалия почувствовала, что у нее снова заболела нога.
– Никогда не смейте приходить ко мне, – предупредила она.
– Но, Амалия…
– Я сказала: никогда!
Милорад нахохлился.
– Когда ты говоришь мне «вы», у меня такое ощущение, словно меня заживо хоронят, – пожаловался он. В ответ в него полетела подушка с другого дивана, а за ней – все свободные подушки в помещении.
Почувствовав, что ее силы на исходе, Амалия рухнула на диван в другом конце комнаты. Милорад покосился на нее и, убедившись, что гроза миновала, встал на колени и подполз к ней.
– Ковер грязный, – проворчала Амалия, никогда не терявшая чувства реальности.
Она пыталась оттолкнуть полковника от себя, но не тут-то было. У нее возникло впечатление, что у него не две руки, а чуть ли не десяток, и все норовят обвиться вокруг ее талии.
– Ну хорошо, – вздохнул Милорад. – Просто посидим на диване, я положу голову тебе на колени. И ничего больше не будет.
И он тотчас же устроился рядом с ней, и прижался щекой к ее платью, от которого пахло какими-то парижскими духами.
– Что мне с тобой делать? – пробормотала Амалия, теряясь.
– Делать? – оживился Милорад. – О, женщина со мной может сделать много чего! Слово офицера, – быстро добавил он, видя, что Амалия не прочь снова вцепиться ему в волосы.
Тут она не выдержала и расхохоталась.
– Я в Любляне Здравко чуть на дуэль не вызвал, – объявил Войкевич, обнимая ее за талию.
– Какого еще Здравко?
– Новаковича, у которого ты лошадь купила. Он сказал, что венская певичка, которая сейчас выступает в казино, лучше, чем ты.
– И что? Может, она и правда лучше.
– Ну уж нет, – возразил Милорад, после чего взял ее руку и стал целовать пальцы один за другим.
– Про бывших друзей и новых предателей – это откуда?
– Что?
– Ну, ты про Мусю сказал. На набережной. Откуда это?
Милорад нахмурился.
– Не помню.
– Уж не короля ли Владислава выражение? Очень в его духе.
Войкевич вздохнул и провел по лицу рукой.
– Король Владислав, – сказал он спокойно, словно речь шла о самой обыкновенной вещи, – был великий человек.
– Несмотря на то, что по его приказу убили столько людей?
– Зато остальные благодаря ему остались в живых. Помнишь, что ты говорила о странах с разным уровнем развития? В моей стране – пока – можно править только самодержавно, не потакая никакой демократии. Потому что, когда люди понимают свободу только как возможность грабить и убивать кого хочется, ничего хорошего из этого выйти не может. Я знаю, некоторые мечтают, чтобы у нас все было как во Франции, к примеру, но это невозможно. Демократия должна быть естественным итогом развития, она не вводится штыками и не объявляется с какого-то момента, потому что кому-то так захотелось. Это одна из причин, почему провалилась недавняя революция. Люди связывали с переменами определенные надежды, а когда поняли, что все стало гораздо хуже, чем прежде, их это возмутило. – Войкевич посмотрел на притихшую Амалию и улыбнулся с неожиданным озорством. – Что? Ты думала, я совсем дурак, который не может рассуждать на умные темы? А со стороны наследника это было свинством, между прочим.
– Не поняла?
– Я знаю, он показал тебе завещание покойного короля, – спокойно промолвил Милорад. – Поэтому ты и представляешь образ мыслей Владислава, хотя никогда с ним не встречалась.
– Мне о нем много рассказывали, – сухо ответила Амалия, чувствуя, что разговор переходит на скользкую тему.
Но полковник только покачал головой.
– Не пытайся меня обмануть. Я все равно всегда буду на один шаг впереди тебя, слышишь?
Амалии стало неприятно, что ее поймали, и она сделала попытку столкнуть голову Войкевича со своих колен, но тщетно.
– Милорад! Уже поздно!
– Ну и что?
– Милорад! Ну ей-богу…
Рассердившись, она ущипнула его, но тут верзила-полковник расхохотался так, что чуть не скатился с дивана. С досады Амалия стукнула его кулачком, но Войкевичу все было хоть бы хны.
– Завтра найду этого, в штатском, – объявил он, – и прикончу его.
– Кого?
– Того типа. С набережной.
На сей раз он подпрыгнул и сел, потому что Амалия с размаху влепила ему пощечину, а моя героиня, воспользовавшись полученной свободой, тотчас же вскочила на ноги.
– Не смей бить меня по лицу! – вскипел Войкевич, вскочив с дивана.
– Ты все-таки дурак, – устало сказала она. После чего села и, закрыв лицо руками, расплакалась.
– Хорошо, я его не трону, – проворчал Милорад, обнимая ее и осыпая поцелуями лицо, волосы, тонкие пальцы. – Не трону, обещаю. Только не плачь!
Против всех приличий, на следующий день они вместе поехали обратно в Любляну. Амалия почувствовала, что начинает теряться. Милорад из кожи вон лез, чтобы ей угодить, и она могла говорить себе сколько угодно, что он делает это, рассчитывая ее использовать, но интуитивно чувствовала, что это не так и что она действительно ему нравится. О том, к чему это может привести, она старалась не думать, но дала себе слово, что не позволит их отношениям зайти слишком далеко. Кроме того, мысленно она пообещала, что не даст ему возможности использовать себя как источник информации – и, в свою очередь, не станет пытаться использовать его, потому что ее план не мог вызвать у этого фанатичного сторонника Стефана ничего, кроме возмущения.
Когда Войкевич вернулся в Любляну, он первым делом наведался в замок и справился у королевского секретаря Тодора, своего родственника, которого негласно назначил главным на время своего отсутствия, все ли в порядке.
– Она опять пыталась настроить короля против тебя, – сказал Тодор.
«Она» – это, конечно, Лотта Рейнлейн. Войкевич нахмурился.
– Все намекала, как хорошо в твое отсутствие, и просила навсегда оставить тебя стеречь крепость в Дубровнике. Мол, там тебе самое место.
– А король?
– Ты же знаешь его манеру. Поулыбался, покивал, чтобы ее не раздражать, и перевел разговор на другую тему. А кто она?
– Ты о ком?
– Ты же влюбился, я вижу. Кто она?
– Я не влюбился, – почему-то рассердился Милорад.
– Кому ты это говоришь, у тебя глаза горят, – печально констатировал Тодор, который был весьма сведущ в сердечных делах, хотя его самого никто никогда не любил. – И такой вид, который бывает только тогда, когда человек влюбляется. Ты все время улыбаешься невпопад и явно думаешь о ком-то. Я ее знаю?
– Тодор, ты мне надоел, – без всяких околичностей объявил полковник. – Я немножко увлекся. От нее так пахнет, и эти шелка… – Он покачал головой и неожиданно вспылил. – Да прекрати ты на меня смотреть! Говорят тебе, это просто увлечение… Пройдет.
И он так сверкнул глазами на Тодора, что бедняга-секретарь совершенно стушевался и предпочел перевести разговор в деловое русло.
– Когда я был вместо тебя, то получил от одного из эпизодических информаторов донесение. Довольно странное, по правде говоря. Говорится о каких-то валетах, но все изложено очень сумбурно. Я прочитал два раза и все равно понял не до конца.
– Дай его мне, – распорядился Милорад, протягивая руку.
Он был рад тому, что так кстати выдалась возможность отвлечься. Конечно, история с валетами, скорее всего, только предлог для агента, чтобы потребовать аванс за труды. Войкевич отлично знал эту манеру – напустить туману, заинтересовать, взять деньги, а потом все окажется очередным пшиком. Однако опыт научил его, что на самом деле пренебрегать нельзя ничем, потому что любое сообщение из самого проверенного источника может оказаться дезинформацией, а самое незначительное на первый взгляд послание – содержать нечто очень ценное. Поэтому он взял у Тодора листок, исписанный прыгающими каракулями, и, изгнав на время всякие мысли о женщине с золотистыми глазами, углубился в его изучение.
Глава 20 Объяснение
Граф Верчелли крякнул, поправил салфетку, заложенную за ворот, взял нож и вилку и с нетерпением воззрился на только что принесенное блюдо, с которого слуга снял крышку. Очевидно, увиденное Верчелли не понравилось, потому что граф, сенатор и кавалер высшего иллирийского ордена Золотого Льва окаменел и выпучил глаза.
– Что это? – спросил Верчелли голосом суше ветра сирокко, пролетающего над бескрайней пустыней, и, слегка оттопырив мизинец, указал на содержимое блюда.
– Печеный картофель, ваше сиятельство.
– Картофель? А почему я должен его есть?
– Но ваш доктор считает… – залепетал сбитый с толку слуга.
– Что он считает, я знаю, – свирепо перебил его граф. – Наверняка он считает, что мне пора к праотцам. А так как я не тороплюсь на встречу с ними, он решил меня уморить. Печеный картофель, надо же!
После чего граф, сенатор и кавалер встал и стал бросать картошку в потемневшие от времени портреты предков, висевшие в простенках. Огромная столовая замка Верчелли окнами выходила на солнечную сторону, но по неизвестной науке причине здесь всегда было холодно, уныло и неуютно.
Слуга, давно уже привыкший к манерам своего хозяина, лишь почтительно поклонился, забрал пустую тарелку и стал подбирать разбросанные куски картофеля. Верчелли налил себе ликеру, понюхал, поморщился, одним махом опрокинул рюмку и налил еще.
В этой мрачной столовой, да еще после оскорбления в виде печеного картофеля его так и подмывало с кем-нибудь поругаться, но, как на грех, никого, достойного принять на себя гнев графа, поблизости не было. Что проку ругаться со старым слугой, который и возразить-то толком не смеет?
– Джулиано! – крикнул Верчелли.
Слуга тотчас же подошел к нему.
– Джулиано, – объявил граф капризным тоном, – я сейчас умру, если ты не приведешь мне хоть какой-нибудь довод в пользу того, почему я должен оставаться в живых.
Слуга мгновение поразмыслил.
– В субботу будут скачки, – не слишком уверенным тоном сообщил он.
– Знаю, – отмахнулся граф. – Лошади с человеческими глазами и женщины, похожие на лошадей. Ты меня не убедил.
– Баронесса Корф вернулась из Дубро… из Рагузы, – быстро поправился Джулиано.
– Когда?
– Вчера вечером.
– Одна?
Точности ради следует сказать, что перед непосредственным возвращением в Любляну Амалии все-таки удалось убедить Милорада, что они должны въехать в город раздельно. Поэтому можно считать, что верный Джулиано не солгал, объявив, что баронесса вернулась solo.
– Очень плохо, – скорбно молвил Верчелли, качая головой. – Куда катится страна, где такая женщина разъезжает одна? Положительно, мир становится все хуже, и единственное, что мы можем сделать, это наблюдать его упадок. – И уже другим тоном он добавил: – Ты не разбавлял ликер?
– Ваше сиятельство! – ужаснулся Джулиано, едва не выронив поднос.
– Какой-то он не такой крепкий, как раньше, – подозрительно заметил Верчелли. – И нечего так на меня смотреть, у меня от твоего взгляда изжога начинается. Иди, займись делом!
Джулиано, пятясь, вышел из столовой. Однако едва он оказался за дверью, как граф звоном колокольчика призвал его обратно и капризно осведомился, сколько ему ждать свой десерт.
После десерта прибыл курьер, доставивший графу послание от нового министра итальянского правительства. Прочитав его, Верчелли впал в мизантропию и решил, что весь мир сошел с ума. В письме ему в деликатных выражениях сообщали о том, что он уже и так прекрасно знал – Лотта Рейнлейн имеет на короля неограниченное влияние и что неплохо было бы для соблюдения интересов Италии это влияние как-нибудь сократить. Также до сведения графа доводилось, что уже несколько недель находящаяся в Любляне баронесса Корф – агент российского правительства и чрезвычайно целеустремленная особа, с которой надо держать ухо востро.
Тут Верчелли решил, что ему необходимо срочно прогуляться, чтобы успокоить нервы. По причине, оставшейся неизвестной, он прогулялся аккурат до Тиволи, где осведомился, принимает ли баронесса, и получил ответ, что она не более часу назад уехала в королевский дворец.
Уходя, граф мрачно покосился на статую Персея и задумался, если ли у него дела в королевском дворце. Тут он вспомнил, что несколько дней назад Стефан послал своего адъютанта проинспектировать Дубровник, и расправил плечи. Ничто не мешало сенатору наведаться к его величеству, чтобы поинтересоваться состоянием южных рубежей Иллирии.
Однако король, как оказалось, был занят вовсе не государственными делами. В саду королевского замка устроили корт наподобие того, который был у баронессы Корф, и помолодевший, посвежевший Стефан играл в теннис со своим кузеном. Судил матч генерал Новакович, который от усердия покрылся потом. В роли зрителей выступали Амалия, старшая принцесса, горячо поддерживавшая отца, и неизменный телохранитель короля, полковник Войкевич.
– А! Граф! – вскричал король, заметив вновь прибывшего. – У вас что-то есть для меня? Подождите, пока мы доиграем сет!
Сет вскоре был проигран, и Стефан добродушно признал свое поражение. Слуги принесли лимонад, и Михаил предложил королю попробовать отыграться.
– Дорогой кузен, как это любезно с вашей стороны! Конечно, я бы хотел попытаться. Все-таки, согласитесь, перед такими зрителями надо стараться!
Он говорил и улыбался дочери, одновременно стреляя глазами в сторону Амалии. «Интересно, с чего это Войкевич вдруг так потемнел лицом? – удивился Михаил, заметив, как внезапно помрачнел адъютант. – Или его настолько раздражает старый граф?»
Игра возобновилась, и на сей раз Михаил дал королю выиграть, после чего Стефан пригласил всех в замок и распорядился принести прохладительные напитки.
– Если у вас есть дело ко мне, дорогой граф…
Граф Верчелли вздохнул и даже без особой желчи осведомился, как идут дела в славной Рагузе, она же Дубровник.
– Полковник представлял мне доклад на эту тему, – отозвался Стефан. – Он должен быть в моем кабинете.
Произнося эту фразу, он вспомнил, что захватил доклад, когда ехал к Лотте, и оставил его на столе в ее спальне. Слегка изменившимся голосом Стефан попросил слугу поискать доклад в его апартаментах, хотя отлично знал, что там его не будет. Амалия тем временем подошла к стене, рассматривая висящий на ней портрет женщины с пытливыми глазами, которые словно следили с полотна за зрителем.
– Это шведская королева Кристина, – пояснил Стефан, подходя к ней. – Да-да, та самая, которая ради любви перешла в католичество и отреклась от престола.
Сенатор насупился. Ему не понравилось, каким тоном король произнес слово «любовь» и как многозначительно смотрел при этом на Амалию своими выпуклыми светлыми глазами.
– Мне известна ее история, – сказала Амалия. – Я видела могилу королевы в Риме, в соборе Святого Петра.
– Весьма романтическая история, не правда ли? – оживился король.
Амалия слегка приподняла тонкие брови. На ее взгляд, история шведской королевы являлась примером того, как разведка – в данном случае испанская – перестаралась. Достаточно было влюбить в себя королеву, но побудить ее менять веру, после чего она утрачивала всякую власть, было лишним. Куда лучше было, если бы она просто влюбилась без оглядки и оставалась на троне, служа интересам Испании.
К Амалии подошел Михаил.
– Ваше величество, – сказал он, ободренный молчанием молодой женщины, – лично я воспринимаю эту историю несколько иначе. Что мне весь мир, если я спас свою душу?
– Так-так, – с улыбкой заметил Стефан, – я вижу, мнения разделились! Дорогой кузен, мне кажется, вы недооцениваете силу любви. А вы как думаете, сенатор?
– Королева сделала глупость, только и всего, – хладнокровно ответил желчный граф.
И по блеску глаз Амалии он с удовлетворением убедился, что его мнение было ей куда ближе, чем суждения остальных.
– Полковник Войкевич?
– Если это и была глупость, то прекрасная, – рассудительно заметил адъютант. – Точно так же можно назвать глупостью желание человека биться до конца, когда он окружен превосходящим врагом. Многие великие поступки и подвиги, украшающие историю человечества, немыслимы без… без безрассудства.
– Милорад, ты, как всегда, сама мудрость, – заметил король.
Верчелли усмехнулся.
– Хотел бы я знать, сколько раз в жизни она жалела о том, что сделала, – уронил он. – Конечно, на людях она бодрилась и старалась не подавать виду, но наедине… с собой…
– Мне кажется, граф, вы преувеличиваете притягательность власти, – сказал Михаил.
– Преувеличиваю? – Верчелли раздраженно передернул плечами. – Ваше высочество, людям всегда свойственно стремиться вверх, а не вниз. Вы найдете сколько угодно таких, которые не прочь стать королем или королевой, но никто не мечтает о том, чтобы быть нищим на паперти и просить подаяние. Когда ты король, ты на самом верху, и любое другое положение после этого – не более чем падение.
– Я помню, у вас тоже есть портрет королевы Кристины, в вашей прекрасной галерее, – вмешался король, который видел, что Михаил собирается продолжить спор, чего Стефану вовсе не хотелось. – Вы уже показывали его нашей гостье?
Верчелли с некоторой заминкой признался, что не показывал, и пригласил Амалию навестить его галерею в любой день, когда ей будет удобно.
– У графа прекрасное собрание картин, – добавил Михаил, чтобы подчеркнуть брюзгливость старого сенатора, который не любил докучных посетителей, и заодно поставить его на место. – Насколько я помню, там есть Боттичелли и Микеланджело, и даже маленький женский портрет, который будто бы писал Леонардо.
– Если он что-то там и писал, то разве что ожерелье на шее, – фыркнул Верчелли. – Фон совершенно не леонардовский, в чем госпожа баронесса сможет убедиться, если соблаговолит навестить мои скромные пенаты.
– Обязательно навещу, дорогой граф, – улыбнулась Амалия.
Вернулся сконфуженный лакей и доложил, что нигде не может отыскать доклад полковника по поводу Дубровника.
– А, ничего, я вспомнил, где его оставил, – быстро отозвался король. – Можете больше не искать, я потом сам его привезу.
«Так я и знал – он забыл его у Лотты, – подумал старый граф, раздражаясь все больше. – Все равно что отдал документ лично в руки Кислингу. И что король нашел в этой девке?»
Вслух, впрочем, он сообщил, что доклад, разумеется, может подождать, после чего получил приглашение остаться и отобедать с королем в узком кругу. Само собой, такое же предложение получила и Амалия.
Тем не менее она была рада, когда наконец вернулась в Тиволи. Новая горничная доложила ей, что только что приехала какая-то дама, которая очень хочет ее видеть.
«Это не королева Стефания, – подумала Амалия, – она была в замке, и королева Шарлотта меня там тоже видела. Какое-то поручение от Оленина?»
Однако навстречу ей с дивана, волнуясь, поднялась Муся.
Амалия была человеком терпеливым (до известной степени), но в это мгновение у нее мелькнуло ощущение, что ее обложили со всех сторон. Тут и король с его подчеркнутым вниманием, и ревнивый Милорад, который менялся в лице всякий раз, когда она при нем заговаривала с другим, и задание, которое осуществлялось не так быстро, как хотелось бы, и Кислинг, который пытался от нее избавиться, и…
И Муся, вот уж кого точно не хватало!
– Ты не рада меня видеть? – спросила Муся.
И спохватилась, что худшего начала для разговора нельзя было бы придумать, – и еще это «ты», как будто они все еще подруги и ничего не изменилось!
На мгновение у Амалии возник соблазн разыграть королеву и задавить свою незваную гостью холодностью, но неожиданно она почувствовала, как ей все надоело. И у нее вообще нет настроения изображать кого-либо, кроме самой себя.
– Зачем ты в Любляне? – напрямик спросила Амалия.
– Я хотела попросить у тебя прощения. Надо было сделать это еще в Дубровнике… Но я никак не могла собраться с духом, а когда мы пришли к тебе в гостиницу, оказалось, что ты уже уехала.
Амалия рассердилась. Она не выносила лицемерия – или того, что ей казалось таковым. Мало того что люди делают вам гадости – им обязательно нужно после этого искать оправдания в ваших глазах, и вы еще должны утешать их чрезмерно чувствительную совесть и уверять, что ничего особенного не произошло!
– Мне ужасно неловко из-за того, что случилось, – жалобно проговорила Муся.
Амалия стояла напротив нее, вытянувшись, как струна, и так стиснула в пальцах ручку ни в чем не повинной шелковой сумочки, что, если бы шелк был живым, он бы давно уже завопил от боли. Однако это была корректная парижская сумочка, украшенная вышивкой в виде цветов и колибри, и поэтому она даже не шелохнулась.
– Не понимаю, чего ты от меня хочешь, – наконец сказала Амалия (глаза ее при этом так и сверкали). – Если тебе неловко, то мне и подавно!
Муся подумала, что Андрей оказался прав и ни к чему было ехать сюда и искать разговора со старой подругой. Но что-то сильнее толкало Мусю все же попытаться расставить точки над i.
– Все получилось случайно, – промолвила она очень тихо. – Поверь, я ничего не планировала и не думала, что зайдет так далеко. Просто…
И продолжила:
– Мне очень жаль, что ты… что я… что все так вышло. Поверь, я бы все отдала, чтобы это была не ты, а кто-то другой. Но Андрей… И я… – она запнулась. – У меня никогда не было шанса устроить свою жизнь так, как я хотела. Тебе-то всегда было гораздо легче – твоя семья поддерживала все, что ты делала. Ты могла даже объявить, что летишь на Луну – они бы только одобрили!
«О чем это она говорит?» – поразилась Амалия.
– И тебе всегда доставалось все самое лучшее! И в жизни… и вообще… И мужчины! – с вызовом выпалила Муся, раскрасневшись. – Я слышала в нашем посольстве, что у тебя роман с наследником престола… А у меня никого нет! И никогда не было! И мое время уходит… Да что там говорить? Разве ты можешь это понять!
Она с отчаянием махнула рукой и села на диван, отвернувшись от Амалии. Колени ее подкашивались, губы дрожали. Муся и не думала, что ей так тяжело дастся этот разговор.
– Глупости ты говоришь, – промолвила Амалия, страдальчески морщась.
– Глупости? – Муся повернулась и посмотрела на нее исподлобья. – Что – глупости? У тебя прекрасный муж, замечательные дети, все, что ты хочешь… И великий князь! – добавила она обиженно, как будто подруга отняла у нее лучшую куклу.
– С великим князем уже давно все кончено, – сухо напомнила Амалия.
– Это неважно! Тебе стоило только поманить его пальцем, и он прибежал бы обратно. А я… – Она всхлипнула. – У меня никогда ничего не складывалось так, как я хотела! Знаешь, как я завидовала твоей смелости, перед которой все отступали? Не тому, что ты красивее меня, что ты умнее… Мне никогда не хватало именно смелости. Я никогда не могла бороться за себя – и проигрывала! Я свою жизнь проиграла, понимаешь ты это? Верещагин… это я сейчас понимаю, что он хам и свинья, что его всегда интересовали только деньги и карьера, но тогда-то я этого не видела! Может, я бы сумела его исправить, если бы только… А ведь время не возвращается! Жизнь проходит! Моя жизнь проходит! У меня волосы седеть начали в двадцать один год… Я сидела перед зеркалом, и смотрю – седой волос! Первый седой волос! Как это было ужасно, ты даже не представляешь… Я же совсем молодая была! Я иногда чувствую себя старой, как… как египетские пирамиды. Вот в таком настроении я и познакомилась с Андреем, – добавила она, вытирая слезы.
Вся злость Амалии разом куда-то улетучилась. Она подумала, сколько же таких хороших, в сущности, людей, у которых жизнь не задалась, которые не могут себя найти, и мечутся, и мучаются. Как она раньше не поняла, что творится у Муси в душе, ведь это же было так просто… Но подруга всегда умела держать лицо – княжна Орлова, чего вы хотите…
– Ужинать будешь? – спросила Амалия.
– Что? – поразилась Муся.
– Будешь ужинать? Я тогда распоряжусь, чтобы готовили на двоих.
У Муси голова шла кругом. «Все-таки я была права, что порывалась объясниться… Она всегда была честной со мной. Честнее всех, кого я знаю. И то, что мне пришлось ее обмануть, лежало камнем на сердце. Конечно, она меня не простит… не сразу, но может быть… Как же все это сложно, как мучительно!»
– Я не знаю… – пробормотала она. – Если я тебе не помешаю…
– Нет, – коротко сказала Амалия и, вызвав служанку, попросила приготовить им ужин на двоих.
Глава 21 Сватовство
– Значит, старая подруга? – задумчиво спросил Кислинг.
Его осведомитель кивнул.
– Все это неспроста, – вздохнул резидент, – наверняка она доставила какие-то бумаги или новые инструкции. К тому же эта якобы подруга приехала в страну через стратегически важный Дубровник… Все сходится.
Он потер переносицу, досадливо морщась. Как бы еще узнать, что именно доставила эта особа…
– Ступайте… Если узнаете что-нибудь еще, дайте мне знать.
– А вознаграждение?
Кислинг поморщился так, словно у него заболел зуб, но сел за стол и написал записку казначею посольства, чтобы подателю сего выдали за труды обычную сумму.
– Я принес вам важные сведения, господин Кислинг, – обиделся осведомитель, – а вы все обычными суммами меня кормите… У меня, знаете ли, семья, дети…
Кислинг терпеть не мог, когда его шантажировали, да еще детьми, которых он с ранних лет не переносил. Поэтому, улыбнувшись своими узкими губами, он ответил:
– Не знаю и знать не хочу. А если дети вам так мешают, утопите их в Люблянице, и дело с концом.
Осведомитель посмотрел на лицо Кислинга, понял, что больше обычной суммы ему не видать, вздохнул и откланялся. Но, выйдя за ворота, он решил, что так этого не оставит, и уже через полчаса входил в кабинет Тодора Войкевича, проныры, который выполнял обязанности кузена в части управления шпионами, когда сам полковник куда-то отлучался.
Тодор принял осведомителя очень ласково, внимательно выслушал его сообщение о визите некой подруги к баронессе Корф, а также ненавязчиво расспросил про выводы, сделанные по этому поводу Томасом Кислингом. Стало быть, подруга совершает с мужем большое путешествие? Свадебное путешествие по Европе? Интересно, очень интересно…
– И они долго беседовали, – донес секретарь Войкевичу, когда последний наконец вернулся.
– И что? – рассеянно спросил Милорад. Он ездил к Амалии, но дома ее не застал и почему-то почувствовал себя не в своей тарелке.
– А дальше эта подруга собирается ехать в Вену, – продолжал секретарь. – Вместе с мужем.
– И что?
– Все это крайне подозрительно, – сказал Тодор.
Милорад расхохотался и потрепал его по голове, словно кузен до сих пор был маленьким ребенком.
– Спасибо, Тодор, я приму к сведению… Но меня куда больше беспокоит старый хрыч.
– Граф Верчелли? – изумился секретарь. – А он-то тут при чем?
– Не знаю, – хмуро ответил Милорад, – но она зачем-то поехала к нему смотреть картины. И что в них может быть такого интересного?
В самом деле, Амалия после встречи с Мусей почувствовала потребность немного отвлечься и решила, не откладывая в долгий ящик, принять приглашение Верчелли и посмотреть, какие картины имеются в собрании старого ворчуна. Сенатор принял ее очень любезно и повел осматривать галерею. По правде говоря, Амалия не ожидала увидеть ничего особенного, но собрание Верчелли ее приятно удивило. Она сразу же узнала руку Караваджо на некоторых картинах, а Боттичелли был хоть и не первоклассный, но женщины на портретах представали такими же неземными и утонченными, как и на известных его шедеврах. Кроме того, Амалия оценила, что картины были размещены очень продуманно, а это встречается далеко не всегда. У Верчелли соседние холсты всегда гармонировали друг с другом, не создавая резких перепадов настроения. К тому же вся коллекция висела на удачной высоте, так что можно было без помех рассмотреть каждую деталь.
– Как вам Леонардо, госпожа баронесса?
– Вы правы, – согласилась Амалия. – Картина той же эпохи и в близкой манере, но это не он.
– Вот видите! – возликовал Верчелли. – А ведь один американец был согласен купить у меня этот портрет, лишь бы я признал, что картина принадлежит кисти Леонардо.
– И часто вам поступают предложения продать ваши картины?
– Не очень, – довольно хмыкнул хозяин, – потому что эти мошенники прекрасно знают, что я им отвечу. Хотя у меня был Гойя, и вот его я как раз продал. Терпеть не могу испанскую мазню, такое впечатление, что вся их школа не знала никакого цвета, кроме черного.
– Некоторые картины Гойи очень хороши, – возразила Амалия, – да и Веласкес не такой мрачный, как вы говорите.
– Если уж выбирать придворного портретиста, то эти французские негодяи, Клуэ и Натье, ничуть не хуже, чем Веласкес, – сварливо ответил Верчелли. – А вообще, самая лучшая живопись, конечно, итальянская.
«Кто бы сомневался!» – подумала Амалия, едва удержавшись от улыбки. И она подошла поближе к картине Боттичелли, чтобы рассмотреть сложную прическу и украшение на руке женщины.
– По-моему, госпожа баронесса, она похожа на вас, – объявил Верчелли, почему-то насупившись.
– Нет, – просто ответила Амалия. – Но я люблю Боттичелли.
Она отметила, что у женщины на руке кольцо с изумрудом, и, видимо, это должно что-то значить. Однако тут до Амалии неожиданно донесся шум опрокинутого столика. Баронесса резко обернулась и увидела, что Верчелли попытался опуститься на одно колено, да опрокинул столик, на который опирался.
– Господин граф, вам плохо? – забеспокоилась Амалия.
– Вовсе нет, – пропыхтел хозяин, – но по правилам полагается делать так, почему я должен быть исключением?
– Полагается делать что?
Верчелли вздохнул.
– Я намереваюсь просить вашей руки, сударыня, – проворчал он, – как же мне это делать, если не на коленях?
Должна признаться, что моя героиня вообще-то за словом в карман не лезла, но тут она попросту растерялась.
– Господин граф…
– Да, да, я все знаю, – отмахнулся Верчелли. – Я старый, лысый и некрасивый. Вы молоды, очаровательны и вы красавица. По-моему, мы будем прекрасной парой.
И он с надеждой воззрился на нее снизу вверх.
– Господин граф, буду откровенна: это самое странное предложение, которое я получила в жизни.
– Я тоже с вами откровенен, как видите, – вздохнул Верчелли, – потому что не вижу иного способа вас завоевать. Вы любите Боттичелли, значит, полюбите и меня. По крайней мере, я очень на это надеюсь.
– Сударь!
– Во-первых, вы получите титул графини. Во-вторых, так как я старше вас, вы имеете все шансы стать моей наследницей. Заметьте, я принципиально не делаю долгов, потому что тот, кто живет в долг, проедает свое будущее. Стало быть, все мое состояние отойдет к вам, включая Тиволи, который так вам приглянулся, и коллекцию картин. Взамен вам придется терпеть мое общество – не такая уж большая обуза, потому что я человек с понятием и вовсе не намереваюсь быть навязчивым сверх меры. И, уж конечно, нам будет о чем поговорить.
– Господин граф…
– Когда я вижу недоверие на вашем лице, меня это совершенно убивает. Не думал, что когда-нибудь в жизни скажу это, но все-таки скажу. – Верчелли глубоко вздохнул. – Если хотите, я даже буду защищать интересы России, которая мечтает прибрать к рукам Рагузу… то есть Дубровник. Я готов и в дальнейшем оказывать ей поддержку, а уж верьте, мое слово в сенате кое-что значит!
– Сударь, – серьезно сказала Амалия, – должна вам сказать, я против того, чтобы человек предавал свою родину.
– О, дорогая, – скривился Верчелли, – я-то думал, вы выше предрассудков. С какой стати я должен любить клочок земли, пусть даже самый распрекрасный, только потому, что я там родился? Почему меня не должен устраивать весь остальной земной шар? Потому, что у меня не было возможности выбирать, где появиться на свет? А если бы она была? Если бы бог, ангелы или не знаю кто спросили меня: синьор Лоренцо Верчелли, где вы предпочли бы родиться, какую страну и эпоху назвать своей – вы что, всерьез полагаете, что я выбрал бы эту страну и эту гнусную эпоху торгашей? Если бы у меня была возможность выбирать, будьте уверены – уж я бы выбрал Флоренцию конца XV века, не меньше! Один из моих предков вел дела при Лоренцо Медичи[214]. Он каждый день видел Великолепного, наверняка знал и этого вашего Боттичелли, и Леонардо, и прочую шатию-братию… и что? Дурак дураком, я же читал его письма! Все, о чем он мечтал, – это жить в деревне вместе с любовницей, в то время как на его глазах творились поистине великие дела! – Верчелли с досадой стукнул кулаком по стене. – Ну почему, почему мне так не повезло? А ведь мне завидуют, ха! Глава нашего сената граф Цесар не может обойтись без моей консультации ни по одному вопросу, я уж молчу о его величестве. Одним словом, – добавил Верчелли уже более спокойным тоном, – вы приобретете очень ценного союзника, сударыня. И у вас всегда будет столько денег на расходы, сколько вы пожелаете.
Амалия подошла к нему и протянула руку.
– Встаньте, граф.
– И не подумаю, – пропыхтел поразительный старик. – Так да или нет?
– Мне нужно подумать, – вывернулась Амалия.
– Значит, нет, – вздохнул Верчелли. Он взял ее руку и прижался к ней щекой. – Какая у вас нежная кожа…
– Зачем вам это надо? – не удержалась Амалия. – Вы ведь умный человек, граф!
– Хотите сказать, слишком умный, чтобы жениться? – проворчал тот, не без труда поднимаясь на ноги. – Должен же я хоть когда-нибудь пожить для себя, а не для государства или детей, которые вспоминают обо мне раз в год, или чего-то еще. – Он внимательно посмотрел Амалии в глаза, не отпуская ее руку. – Вы мне нравитесь, сударыня. В вас есть что-то такое… такое! – Верчелли вздохнул. – Но я не принимаю отказа, учтите. Пока вы в Иллирии, у вас есть время на то, чтобы принять мое предложение. Вы же не можете всю жизнь жить интригами Оленина и ему подобных, верно? Потому что государство – это машина, которой постоянно нужны свежие силы, и, когда мы уже не так хороши, как прежде, оно отставляет нас в сторону. Протестовать бесполезно, и мы похожи на оловянных солдатиков, забытых в углу и недоумевающих, почему хозяин больше не приходит с нами играть. И разочарование порой бывает ужасным, госпожа баронесса!
– Знаю, – спокойно ответила Амалия. – Но я уже решила, чем займусь, когда окончательно отойду от дел.
– И чем же?
– Буду жить в одном из своих имений, писать мемуары и смотреть, как каждый вечер за реку садится солнце. Мои дети и внуки будут рядом со мной, и я не буду разочарована, поверьте[215].
– Прекрасный план, – одобрил Верчелли. – Будем сидеть и смотреть на закат вместе. – Он поцеловал своей гостье руку. – Нет-нет, позвольте мне тешить себя этой маленькой иллюзией. Я скажу прислуге, чтобы она пускала вас всякий раз, как вам захочется вновь полюбоваться на картины. Когда вы захотите получить в собственность их – и меня – только дайте знать.
И, к совершенному изумлению Амалии, он ей подмигнул.
«Нет, он вовсе не смеялся надо мной, напротив, он был совершенно серьезен, – размышляла моя героиня, возвращаясь в Тиволи. – Графиня Верчелли! – Она покачала головой. – А что? Нашлось бы немало женщин, и молодых, и красивых, которые сочли бы себя польщенными таким предложением. Это, конечно, ко мне не относится, но… Надо быть с графом осторожной, потому что теперь, когда мой план близится к завершению, любая помеха крайне нежелательна».
На следующий день ее навестил Петр Петрович Оленин.
– Как наше дело? – спросила у него Амалия.
Петр Петрович загадочно улыбнулся и ответил:
– Продвигается, Амалия Константиновна. Та восхитительная диадема, которую вы надевали в театр, вызвала у Лотты жгучую зависть. Хотите знать, за сколько король заказал в Париже украшения для балерины, чтобы ее утешить?
– Хочу.
Петр Петрович достал из кармана какую-то бумагу, развернул ее и протянул к Амалии. Та сначала посмотрела на итоговые цифры, приподняла брови и углубилась в чтение.
– Здесь значатся два заказа, – заметила молодая женщина, возвращая бумагу резиденту. – Один с бриллиантами, второй попроще.
– Который попроще – для королевы, – ответил Петр Петрович небрежно. – Она тоже видела вашу диадему и решила, что нечто подобное ей не помешает. Кроме того, теперь каждый раз, когда супруг ее чем-то раздражает, она требует для себя подарок в качестве, так сказать, моральной компенсации, так что эта парюра – только малая часть заказов, посланных в Париж.
– Как вы считаете, никто не догадался о нашей игре?
Петр Петрович задумчиво посмотрел на Амалию.
– Лично я не вижу никаких признаков, которые заставили бы меня так думать. Наш банкир действует как часы: скупает все долговые обязательства короля, а их становится все больше и больше. Казино, скачки, расходы на Лотту, а теперь еще и на королеву, которая раньше не требовала к себе такого внимания…
Амалия раскрыла веер и стала им обмахиваться.
– Нам нужно, чтобы в итоге получилась такая сумма, которую королю никто и ни при каких обстоятельствах в долг не даст. Иначе, когда я заведу с ним разговор о долгах, а он, к примеру, займет деньги у австрийского императора… вы и сами понимаете, что за этим последует.
– Еще немного, и получится как раз такая сумма, которая нам нужна, – улыбнулся Петр Петрович. – А насчет окружающих не беспокойтесь, Амалия Константиновна. Максимум, что они могут себе вообразить, – что вы надеетесь завлечь короля и таким образом добиться договора о Дубровнике.
Собственно говоря, Амалию беспокоили не столько окружающие, сколько сам король. Судя по всему, он тоже решил, что она не прочь его завлечь, и явно был настроен поддержать это намерение. Стефан уже не раз делал намеки, которые любая другая женщина поторопилась бы истолковать в самом выгодном для себя свете. Однако Амалия ничего не могла с собой поделать: иллирийский монарх ей не нравился, и все тут. Она находила, что у него глуповатый вид, и ей претило, что такие люди, как Лотта Рейнлейн, вертят им как хотят. Надо сказать, что Стефан раньше не встречал отказа, и Амалии приходилось использовать все свое искусство, чтобы держать его на расстоянии и в то же время не восстановить против себя. Другой проблемой стал Милорад Войкевич, с которым король привык делиться всем, что было у него на уме. И так как он не скрывал от адъютанта своих намерений по поводу Амалии, Милорад весь кипел. При Стефане он, конечно, сдерживался, но за порогом дворца сдержанности хватало ненадолго. Он ревновал, терзался и ничего не мог с собой поделать. Однажды он напрямик спросил у Амалии:
– Скажи, если бы он предложил подписать договор за ночь с тобой, ты бы согласилась?
Амалия, расчесывавшая волосы, обернулась. На языке у нее вертелся резкий ответ, но она встретила страдающий взгляд любовника – и смягчилась.
– Если бы это был брачный договор и я имела дело не с королем Стефаном, а с императором Наполеоном, я бы еще подумала, – сказала она с улыбкой.
Милорад с досадой стукнул кулаком по подушке.
– Наполеон! Как будто хоть кто-то его любил! Какие же вы, женщины, странные!
Он явно был взвинчен, и Амалия решила не развивать эту тему.
– Ты идешь завтра к Ивановичу на вечер? – спросил он немного погодя.
– Да, меня пригласили.
– У них отвратительно готовят, – пожаловался Войкевич. – И вообще, у тебя самый лучший дом в Любляне. Может быть, откажешься от приглашения, и останемся завтра здесь? Я скажу королю, что заболел, и попрошу кого-нибудь подменить меня.
– Я не могу. Генерал Иванович наш союзник, ты же знаешь.
– У тебя нет сердца, – вздохнул Милорад. – Думаешь, мне легко видеть, как все они на тебя смотрят?
– Кто это – все?
– Все – значит все! И король, и наследник, и Здравко Новакович, и Оленин… Даже Иванович, которому уже пятьдесят… И этот старый мерзавец Верчелли туда же!
Амалия не выдержала и рассмеялась.
– Смейся, смейся, – проворчал Милорад, – колдунья! Не зря ведь меня предупреждали, а я не поверил…
И он надулся, потому что Амалия расхохоталась еще громче.
– Колдунья – это из стихотворения Бреговича? Кто на нее посмотрит, тот и пропал?
– Нет, просто колдунья. – И он добавил несколько слов на диалекте, который Амалия не знала, но по интонации решила, что сказано что-то ласковое.
– Кстати, я давно хотела спросить… А где похоронен Брегович?
– Похоронен?
– Ну да. Он же ваш великий поэт, верно?
– Верно. Просто он еще не умер, насколько мне известно.
Настал черед Амалии удивляться.
– Как так? Он же 1803 года рождения.
– Значит, ему уже девяносто шесть лет, – подытожил Милорад. – Он живет в Любляне, где-то в Старом городе. Насколько я знаю, он почти ослеп, но из гордости отказывается принимать помощь благотворителей. Королева-мать выплачивает ему маленькую пенсию, на нее он и живет.
– И ты так просто об этом говоришь? – рассердилась Амалия. – Вот что! Я хочу его навестить! Так что узнай его точный адрес, хорошо?
– И что ты ему скажешь? – проворчал Войкевич. – Что он гений? Уверяю тебя, он и без тебя прекрасно это знает. Или ты хочешь ослепить его своей красотой? Он и так почти не видит, а ты лишишь его остатков зрения…
– Милорад! Пусти!
Мы должны смиренно сознаться, что на этом обсуждение поэта Бреговича закончилось, но на следующий вечер Амалия вновь заговорила о нем с королевой-матерью, приехавшей на вечер к генералу Ивановичу. Королева Стефания подтвердила, что Брегович действительно жив и, более того, лет пять назад женился на одной из своих преданных поклонниц. Сейчас ей около 70, и она самоотверженно ухаживает за старым поэтом. Он до сих пор пытается ей что-то диктовать, какие-то стихи, но…
– Вы же понимаете, это уже совсем не то…
Королева замолчала, растерянно глядя на Лотту Рейнлейн, прибывшую в немыслимо роскошном платье, расшитом бриллиантами. Как всегда, с ней рядом был генерал Ракитич, который нес Талисмана.
– Должна признаться, – тихо промолвила королева, – порой я не понимаю моего сына. Не понимаю!
И она демонстративно повернулась к фаворитке спиной. Губы Стефании слегка подергивались, и она раскрыла веер, чтобы хоть немного успокоиться.
– О чем мы говорили? Ах да, Брегович… Я распоряжусь, чтобы вам дали его адрес, госпожа баронесса.
Амалия поблагодарила королеву и отошла к Оленину.
– Его величество и ее величество вот-вот прибудут, – сказала она вполголоса. – Должна заметить, со стороны генерала Ивановича было неосмотрительно приглашать сюда мадемуазель Рейнлейн.
– Это желание короля, – спокойно ответил Петр Петрович. – Всем в Любляне известно, что если король почтит своим присутствием какой-то вечер, там должна быть и Лотта, особенно если королева окажется не в состоянии приехать. А королева сейчас утешает наследника, им не до праздников.
Тут Амалия действительно заметила, что Михаила среди гостей нет.
– В чем дело, Петр Петрович? Что-нибудь случилось?
– Да как вам сказать… – задумчиво отвечал Оленин, поигрывая бокалом. – Дело в том, что сумасшедшая жена князя перерезала себе горло, и очень похоже на то, что его высочество вскоре овдовеет, если уже не овдовел. Двор хранит все в строжайшем секрете, потому что, сами понимаете, кому приятно говорить о подобных вещах… Но, разумеется, в городе уже все всё знают, и герр Кислинг наверняка успел отослать депешу в Вену, чтобы наследнику срочно подыскивали невесту. – Он поймал сердитый взгляд своей собеседницы и спокойно пояснил: – Это политика, Амалия Константиновна. Политика, и ничего более.
Глава 22 Поэт
– Проходите, сударыня, прошу вас…
Комната казалось совсем маленькой, потому что вся была заставлена шкафами с книгами. Старые кресла, большой стол, на нем – пустая клетка. На окне – множество горшков с цветами.
– Почему клетка пустая? – шепотом спросила Амалия.
– Клетка? Ах да! У нас жил попугай, потом заболел и умер… Такое горе… Он не захотел, чтобы клетку убирали. Сказал, что она будет напоминать ему о любимой птице…
Старушка, отворившая Амалии дверь, чем-то походила на мышку. Седые, гладко зачесанные волосы, маленькие ручки, суетливые движения… Но глаза были ясные, светящиеся каким-то особым, внутренним светом. И всякий раз, когда она говорила о нем, ее губы трогала влюбленная улыбка.
– Сюда, сударыня. Сейчас тепло, поэтому он сидит на веранде…
Он – это Брегович, великий иллирийский поэт, автор национального гимна (между прочим), один из крупнейших лириков своей эпохи. По взглядам – убежденный монархист, за что пострадал при республике.
– Представляете, у него был домик в деревне… И эти его сожгли!
У жены Бреговича особенная манера подчеркивать некоторые местоимения, заменяющие слова, которые она не хочет произносить – из чрезмерного уважения или, наоборот, из презрения. По выражению ее лица понятно, что эти, конечно, варвары: что они могут понимать в поэзии, в самом деле?
– Вы из России? Я помню, его переводили на русский… Хотя он не верит в переводы. Говорит, стихи могут существовать только на своем родном языке…
Они выходят на веранду, и Амалия сразу видит в кресле согбенную фигурку очень дряхлого, очень уставшего человека. Девяносто шесть лет жизни лежат на плечах и гнетут их к земле. Почти невидящие глаза широко открыты и мигают редко, редко…
– Милый, – тихо и тревожно произносит старушка, – к тебе гостья… Из России.
Амалия потом долго будет вспоминать, как бережно жена дотронулась до руки поэта – сморщенной, некрасивой, со вздувшимися венами.
Старики, как известно, пахнут по-разному. Одни еще при жизни пахнут смертью, другие источают кислую горечь своего существования, третьи имеют запах высохших цветов. От Бреговича пахло лишь пыльными книгами, благородными томами старинной библиотеки, которые много лет бережно хранили и передавали из поколения в поколение. Это поразило Амалию – словно человек, к которому она пришла, должен был вскоре и сам обратиться в книгу.
– Я баронесса Амалия Корф, – представилась гостья, чувствуя некоторую неловкость.
Потому что крошечная квартира, которую она только что видела, не оставляла никаких сомнений: великий поэт жил в обыкновенной бедности. Амалия считала, что в отношениях государства и человека нет ничего более грустного, чем знаменитые некогда люди, брошенные на произвол судьбы и доживающие свой век в нищете. И когда она вспомнила, сколько легкомысленный Стефан тратит на увеселения, ее охватила злость.
– Ах, – вздохнул старик. – Какие прекрасные духи… роза и гвоздика… или не гвоздика? Наверняка вы молоды, сударыня, и прекрасны… И очень добры, если навестили меня в моем уединении.
Он сделал рукой легкий жест, приглашающий ее сесть, и в этом жесте сквозило утонченное изящество, которого она не встречала ни у здешних аристократов, ни у их короля. Старушка засуетилась, пододвинула второе кресло Амалии и отступила к стене, переводя тревожный взгляд с мужа на странную гостью.
Молодая женщина села и заговорила о том, что впервые прочитала стихи Бреговича в переводах поэта Нередина[216], а теперь, когда волею случая оказалась в Любляне, она решила выразить лично восхищение его талантом. Она читала его стихи и в оригинале, хотя не может похвалиться совершенным знанием языка, и они ей очень нравятся.
– Я был прав, вы очень добры, – сказал Брегович со слабой улыбкой. – Мое положение немного странное. Обыкновенно, поэты так долго не живут, не правда ли? Недавно жена прочитала мне одно стихотворение. Я его похвалил, хотя и указал на некоторые ошибки, и тогда она призналась, что это мое стихотворение. Получилось так, что мои стихи ушли от меня очень далеко, и я их больше не чувствую. А ведь что такое автор, сударыня? Автор – это одновременно и отец и мать… хотя, если угодно, можно считать его отцом, а жизнь – матерью, потому что стихи и вообще любые произведения искусства порождает именно жизнь. Не знаю, можно ли считать меня сейчас автором тех стихов, если я их даже не помню.
– Конечно, можно, ведь они все равно ваши, – заметила Амалия.
– О-о, – протянул Брегович. – Видите ли, я считаю, что на самом деле человек проживает не одну жизнь, а несколько. Потому что человек в девять, допустим, лет – не тот же, что в тридцать или в семьдесят. Особенно легко это замечаешь, когда встречаешь кого-то из своего прошлого. Ты-то помнишь этого человека по его прошлой жизни, а он уже изменился и переживает следующую. По природе своей человек – оборотень, но из трусости и упрямства никак не хочет этого признавать. Взгляните хотя бы на меня: я был неважным учеником в школе, потом поэтом, а теперь я – памятник поэту Бреговичу. Если угодно, руины, – добавил он с неожиданно озорной интонацией. – И это обидно, потому что во сне мне порой снятся такие стихи! Но самое ужасное, что когда я просыпаюсь, я не могу вспомнить ни строчки. А ведь это потрясающие стихи, я уверен!
«Нет, человек не так уж меняется, – думала Амалия, глядя на своего собеседника. – Брегович был известным ловеласом, из-за этого, как говорят, он не преуспел ни на какой службе. И у него до сих пор, когда он говорит с женщинами, интонации и мимика ловеласа… пусть даже ему почти сто лет. Уверена, будь я мужчиной, он даже не стал бы тратить на меня время». И у нее снова защемило сердце, когда она подумала, в какой бедности живет этот незаурядный человек.
Однако, стоило Амалии намекнуть, что она хочет сделать для Бреговича что-нибудь, он мягко, но решительно отказался.
– У меня и в мыслях не было вас обидеть, маэстро, – смиренно сказала Амалия. – Может быть, у вас есть какое-нибудь желание, которому я могла бы помочь осуществиться?
– Сударыня, какие в моем возрасте могут быть желания? – пожал плечами старый поэт. – Разве что стать молодым хотя бы на день, но это совершенно невозможно. Или вернуть себе зрение хоть ненадолго, потому что сейчас я едва-едва различаю цвета и формы. На вас ведь синее платье, верно?
– Это костюм, – уточнила Амалия. – Цвета бирюзы.
– Бирюзы! – вздохнул Брегович. – И у вас, конечно, такие же глаза. Вы вошли в эту дверь, словно солнце, и осветили остаток моих дней. Это замечательно. На вас можно смотреть, солнце? – Он сделал вид, что заслоняет глаза рукой.
Амалия метнула взгляд на жену поэта и увидела, что та вся раскраснелась от ревности, хотя и силится делать вид, что все в порядке. Ах, маэстро, маэстро! И вы еще уверяли, что люди меняются!
– Смотрите, конечно, – сказала Амалия с улыбкой. – Но мне бы хотелось все же что-нибудь сделать для вас. Может быть, вы хотите нового попугая?
– Зачем мне новый, когда старый меня порядком утомил? – ворчливо отозвался Брегович. – На нашей улице собирались проложить трамвайные пути, но потом что-то не заладилось. Жена говорит, что так лучше, но я не согласен. Она читает мне газеты, и я вижу, что в мире происходят дивные вещи. Э-лек-три-чес-тво! – выразительно продекламировал он. – А я начинал писать свои стихи при свете лучины. Когда я впервые увидел паровоз, то испугался. А теперь еще появились движущаяся фотография[217] и повозки без лошадей. Без лошадей, вы только подумайте! Чудесная, наверное, вещь! Жаль, что я не могу в такой прокатиться.
– Вы имеете в виду автомобили? – спросила Амалия. – Если хотите, я велю подать свой. Мы доедем до собора и вернемся обратно, это займет всего несколько минут.
Брегович изумился:
– У вас есть автомобиль? Настоящий?
На лице его жены читалась неподдельная мука, словно Амалия явилась со своим автомобилем только для того, чтобы похитить у нее горячо любимого мужа.
– Да, маэстро, – подтвердила молодая женщина.
– Однажды я летал на воздушном шаре, – медленно проговорил Брегович. – Автомобиль в девяносто шесть лет, что может быть лучше? Я согласен!
Предложив старому поэту поездку, Амалия сразу забеспокоилась, выдержит ли он ее, но Брегович был настроен решительно. Жена помогла ему выйти из дома и забраться в автомобиль, и лицо ее выразило настоящее облегчение, когда Амалия тоже пригласила ее садиться.
– Благодарю вас, сударыня… Я еще никогда не каталась на таких штуках!
Шофер завел мотор, автомобиль, фыркая и урча, добрался до собора, объехал его кругом и медленно двинулся обратно. Ветер трепал седые волосы поэта, и он улыбался улыбкой счастливого мальчишки.
– Ох, ох! – говорил Брегович, держась за руку жены. – Однако я давно не совершал такой славной прогулки… Да я вообще из дому почти не выхожу.
– Ему тяжело передвигаться, – пояснила жена. – А нанять карету стоит слишком дорого.
Когда Брегович и его жена вышли возле своего дома, Амалия двинулась следом за ними и, улучив момент, передала жене деньги и свою визитную карточку.
– Это от королевы Шарлотты… По ее поручению, – сказала она шепотом, чтобы жена поэта не вздумала отказываться. – Я живу сейчас в Тиволи. Если вам что-нибудь понадобится, только дайте мне знать.
Она прервала поток благодарностей ошеломленной женщины, пожала ей на прощание руку и, не удержавшись, поцеловала Бреговича в высохшую, сморщенную щеку.
– О, да вы не солнце – вы богиня! – воскликнул тот.
В Тиволи Амалия вернулась в отличном расположении духа, которое случается у людей, когда они знают, что сделали важное и нужное дело – и, хотя оно не принесет им ровным счетом никакой прибыли, оно греет душу больше, чем любая успешная коммерческая операция.
Взяв книгу стихов Бреговича, Амалия уселась на скамье в саду. Тотчас же к ней подошел ее любимец, ручной лебедь, и устроился у ее ног.
– Не помешаю, г-госпожа баронесса?
Перед ней стоял князь Михаил, и вид у него, как сразу же отметила наблюдательная Амалия, был растерянный и какой-то неприкаянный. Впрочем, чего еще было ждать от человека, который только что лишился жены.
– Присаживайтесь, ваше высочество, – сказала Амалия, кивая на свободное место рядом с собой. – Вероятно, тенниса сегодня не будет – у меня до сих пор болит нога.
Эта фраза была данью условностям, Амалия произнесла ее, желая избавить князя от необходимости объяснять, почему он сейчас не может играть. Однако левое колено, несколько дней не напоминавшее о себе, обрадовалось и заныло. Моя героиня отметила это с неудовольствием. По правде говоря, она ни капли не верила в материальность мысли, просто полагала, что некоторые ушибы дают о себе знать еще долгое время.
Михаил сел, покосился на ручного лебедя и пробормотал несколько слов о том, какая прекрасная стоит погода. Впрочем, некоторые утверждают, что такая жара очень вредна для земледелия – может случиться неурожай.
– Да, – вежливо подтвердила Амалия, – это было бы весьма прискорбно.
Она собиралась, никому не мешая, почитать в саду стихи, и обстановка сложилась самая поэтическая – рядом пруд, напротив статуя Персея, возле ног белый лебедь, но вот явился самый непоэтичный на свете человек и разрушил гармонию. Невольно Амалия почувствовала досаду. А Михаил меж тем завел речь о том, как ему нелегко приходится и как сложно встретить женщину, которая согласится разделить раздираемое заботами существование наследника иллирийского престола. Вслед за тем он перешел к морганатическим бракам[218] и объявил, что ничего против них не имеет и даже наоборот, всячески поддерживает. Ибо сердцу не прикажешь, и так далее.
В другое время Амалия без труда сообразила бы, куда клонит ее гость, но сегодня она только улыбалась, вежливо поддакивала и поглядывала на книгу стихов Бреговича, которая занимала все ее мысли. Поэтому для нее было громом среди ясного неба, когда Михаил вдруг ни с того ни с сего объявил, что любит ее и хотел бы на ней жениться.
От неожиданности Амалия уронила книгу. Несколько секунд она выиграла, пока князь с присущей ему учтивостью эту книгу поднимал, но вот Михаил протягивает ей том в переплете с затейливым орнаментом и с надеждой смотрит в глаза, а она ничего, ну ничего не может придумать, чтобы дать ему достойный ответ.
Лебедь сердито тряхнул головой, поднялся и удалился по направлению к пруду, семеня на своих некрасивых лапах. Амалия поймала себя на мысли о том, почему у самых красивых созданий непременно бывает какой-нибудь изъян, потом попыталась вспомнить, кормила ли она вчера птиц и что ей рассказал недавно Петр Петрович о прошлом Лотты Рейнлейн. По совести говоря, сейчас следовало думать вовсе не о фаворитке короля, а о князе Михаиле, но как раз мысли о нем, если можно так выразиться, совершенно не лезли в голову.
А Михаил, истолковав молчание Амалии в самом выгодном для себя смысле, принялся объяснять ей, что ему безразлично мнение семьи, что у них не такая уж большая разница в возрасте и он знает о ней достаточно, чтобы утверждать, что никакая другая женщина не может быть достойна того положения, которое он собирается ей предложить. Он дал понять, что наводил о ней справки и знает, что она по причине бедственного положения семьи когда-то оказалась в особой службе, откуда просто так уйти уже невозможно. Князь так разошелся, что описал, какой он увидел Амалию впервые на балу – она была ослепительна, но с такими грустными глазами, что он сразу же понял: она вовсе не такая, как ему рассказывали. И он очень надеется, что у нее никогда больше не будет повода для грусти, если она согласится принять его предложение.
«Предположим, с глазами все ясно, – думала Амалия, – он не слишком счастлив, поэтому ему кажется, что и я тоже должна быть несчастной. Но что же мне делать? Знай я заранее, что все так обернется… но нет, нет. Уже поздно. И потом, я не создана для замужества. Я это поняла, когда в первый и последний раз вышла замуж, по любви и только по любви, причем взаимной. У нас все должно было сложиться сказочно, а вместо этого… Вместо этого получилось, что муж все время на службе, на смотрах и парадах, а жена дома взаперти. Нет, это слишком сильно сказано, – тотчас же поправилась она, – передо мной были открыты все возможности, но – только как для благовоспитанной жены. Дружить лишь с теми, о ком не подумают ничего дурного, угождать старшим, притворяться, что нравится то, от чего сводит скулы, никогда ничем не выделяться… Стоило мне с Мусей поехать на каток, и свекровь устроила мне сцену. Я уж молчу о том, что она всегда меня ненавидела, как только бывшая красавица может ненавидеть свою молодую и красивую невестку… Каждый мой промах она превращала во вселенскую трагедию. И чем дальше, тем больше я чувствовала контраст со своей семьей, в которой – как оказалось – все меня любили, баловали и защищали, а я этого не понимала да еще возмущалась. Чужие люди не щадят так, как свои, а семья мужа всегда оставалась мне чужой. И когда я поняла, что так мне придется жить еще много-много лет… это было ужасно. Мать схватилась за голову, когда я сказала ей, что мне все надоело и я хочу развода. Она очень переживала, а мне сразу стало легче. Муж меня не простил и не простит никогда, что бы он там ни говорил. Друзья… точнее, те, кто считал себя моими друзьями, всерьез уверяли, что от меня все отвернутся. Когда люди уверяют, что кто-то другой от тебя отвернется, это чаще всего значит, что сами они готовы предать тебя при первой же возможности. Так и получилось, в сущности, но работа меня спасла. А теперь… Что же мне делать теперь?»
Скажем откровенно: Амалия попросту запуталась. Она слушала Михаила, опустив глаза на обложку книги и лишь изредка поднимая их на собеседника, и в глубине души ей было немного совестно и очень досадно. Амалия понимала, что перед ней неплохой человек, не слишком избалованный счастьем, несмотря на свое высокое положение, но в мире чувств такие вещи ничего не значат. Не прикладывая никаких усилий, она подобрала ключ к его сердцу, но ей не нужны были ни ключ, ни сердце, ни он сам.
Конечно, можно сказать, что это был не ключ, а отмычка, однако суть останется прежней.
По траве пробежал ветерок, и Амалия зябко поежилась.
– Вам холодно? – встревожился Михаил.
И он сделал движение, чтобы снять китель и набросить ей на плечи, но Амалия, сама того не сознавая, отстранилась таким резким движением, что у бедного влюбленного потемнело в глазах. В это мгновение он догадался почти обо всем, чего она не хотела ему говорить.
По лицу Михаила Амалия поняла, что допустила оплошность, и поспешно заговорила, чтобы сгладить впечатление. Она очень польщена… никак не ожидала… ей надо подумать… она даже не предполагала, что его высочество питает к ней какие-то чувства, помимо дружеских. Она уже совершенно овладела собой и даже пару раз улыбнулась своей лучистой, ясной улыбкой. Князь заколебался: может быть, ему и впрямь почудилось? В самом деле, такую воспитанную и утонченную особу, как Амалия, должна была не на шутку задеть его торопливость. Он только-только овдовел и уже хочет жениться на другой, как будто умершая ничего для него не значила. («Совершенно ничего», – в порыве откровенности признался себе Михаил.) Конечно, ей нужно все обдумать, и через положенное время она даст свое согласие. В конце концов, наследник престола есть наследник престола, а когда он станет королем, то сделает все, чтобы его морганатическая супруга была наравне с полновластными королевами.
Чувствуя мучительную неловкость, Амалия все же настояла на том, чтобы проводить князя. Вероятно, современный психолог истолковал бы ее порыв как желание видеть уход незваного жениха.
Однако не успели они сделать и несколько шагов, как в воротах показался всадник. Когда он спешился и бросил повод слуге, князь не без удивления узнал Милорада Войкевича.
Широкими пружинистыми шагами полковник подошел к Амалии и князю. Войкевич не сказал и не сделал ничего особенного: поклонился, улыбнулся, произнес несколько общих слов. Но Михаил перехватил взгляд адъютанта, направленный на женщину, которую он уже считал своей; отметил блеск его глаз, совершенно особенный, когда смотришь не просто на собеседницу – а на ту, с которой тебя связывают не только разговоры; от него не укрылось, как Войкевич усмехнулся краями губ, увидев его, Михаила, рядом с Амалией. И в том состоянии, в котором князь находился, он счел эту усмешку крайне дерзкой.
– Мы не играем сегодня в теннис? – спросил Войкевич у Амалии. Князь его стеснял, и никакого другого вопроса полковник не смог придумать.
– Нет, – ответила Амалия спокойно, – у меня болит нога.
У Милорада имелся наготове ответ о том, что он знает верное средство, как избавиться от боли, но Амалия не дала ему договорить и попрощалась с обоими мужчинами. Сегодня ей было интересно только общество Бреговича и его стихов.
Глава 23 Перчатка
– Ваше высочество!
С его высочеством, который всегда ходил легко и неслышно, являл собой образец учтивости и никогда не наступал никому на ногу, творилось что-то неладное. Прежде всего он вихрем влетел в зал, стукнулся локтем о напольные часы, въехал коленом в изящную консоль с инкрустированной перламутром столешницей и вслед за этим выругался, как люблянский возчик. Одна из двух стоявших на консоли ваз затанцевала, опрокинулась и рухнула на пол, превратившись в крошево осколков.
– Ваше высочество! – пролепетал старый слуга, умоляюще складывая руки.
В ответ его высочество вернулся к консоли и пнул ее с такой яростью, что и вторая ваза с грохотом полетела на пол.
Ах, женщины, женщины! Черт знает что у них в голове! И Амалия хороша! Какой-то адъютантишка с разбойничьей рожей… Подхалим! Зарвавшийся хам! Отребье, пригретое дядей Владиславом! Мерзавец!
– Мерзавец! – рявкнул Михаил на оторопевшего слугу.
– Ва… Ва… ваше высочество… – лепетал слуга, ломая голову, какая муха укусила высокородного князя, обычно столь сдержанного и разумного. – Ваше высочество…
Михаил опомнился, поглядел на осколки, вспомнил, что это были две парные вазы, которые покойный король подарил своей жене, и почувствовал укол совести. Однако вслед за этим он вспомнил безмятежное лицо Амалии, ее золотистые глаза и открытую улыбку – и вновь начал закипать.
Обманщица! Предательница! И ладно бы завела роман с кем-то стоящим, это было бы не так обидно; но адъютант! Ничтожество! Чем, ну чем он ее пленил? Неужели тем, что пообещал посодействовать в заключении нужного ей договора? Ах, Амалия, Амалия!
Михаил опомнился. Женщины слабы, это всем известно, а у Войкевича репутация донжуана, вот в чем дело. Наверняка он использовал все имеющиеся в его арсенале уловки, чтобы добиться ее благосклонности. А она, вероятно, уже тяготится этой связью – он ведь почувствовал тогда, в саду, что она была вовсе не рада появлению полковника. Но предпочитает молчать, потому что женщине совестно признаваться в том, что она из-за собственного каприза попала в ловушку.
– Убью м-мерзавца!
Слуга, собиравший осколки, оторопел, однако навострил уши. Кого это, интересно, его высочество собрался убивать?
Нет, подумал с сожалением Михаил, вызывать на дуэль сына слуги – слишком много чести. Надо избавиться от него как-то иначе, только вот как?
Сначала он собирался посоветоваться с королевой Шарлоттой, которая поддерживала его стремление сблизиться с Амалией. Михаилу был неизвестен маленький нюанс этой поддержки: ее величество была вовсе не против того, чтобы князь обзавелся любовницей, но ее сильно удивило бы его решение жениться. Кроме того, Шарлотта никак не могла ему помочь в устранении настырного адъютанта.
И Михаил решил отправиться к Стефану и поговорить с ним по-родственному, начистоту. В конце концов, кузен должен войти в его положение.
Король сидел в своем кабинете и, хмуря брови, читал доклад министра финансов. Доклад был беспросветен, как беззвездная ночь, и содержал в себе, помимо уймы звучных терминов, вывод, что иллирийская казна совершенно пуста и поступлений в ближайшее время не предвидится. Поэтому Стефан искренне обрадовался приходу своего кузена. По крайней мере, с ним можно было побеседовать о вещах более интересных, чем оскудевшие серебряные рудники и грозящий стране неурожай.
– У меня к тебе одна п-просьба, – начал Михаил после того, как мужчины обменялись замечаниями по поводу последнего выступления Лотты и обсудили поведение одного люблянского аристократа, который на старости лет почувствовал вкус к сладкой жизни, пустился во все тяжкие и публично объявил, что намерен спустить в казино и на скачках все свое состояние, чтобы оставить наследников ни с чем. – Я тебя никогда ни о чем не просил, но с-сейчас… – Он запнулся.
Стефан вздохнул и устремил доброжелательный взор на кузена, который почему-то волновался сильнее, чем обычно.
– Если ты снова по поводу этого австрийца, Кислинга… Я не могу его выслать. Во-первых, это произвол, и иностранные газеты наверняка ухватятся за этот случай, чтобы написать о нас гадости. Во-вторых, не знаю, чем он тебе не угодил, но…
Михаил нахмурился. После жалобы Амалии он неоднократно пытался добиться высылки Кислинга, но Стефан демонстративно отстранился от этого дела.
– Я здесь не из-за К-кислинга, – сухо сказал князь, – а из-за твоего адъютанта.
– Да? – удивился Стефан, раскуривая сигару. – Что он натворил?
Михаилу меньше всего на свете хотелось говорить об этом, но король заметил, что кузен смутился, загорелся любопытством и стал допытываться, в чем дело. И, хотя князь выдавил из себя лишь слова о том, что ему кажется, будто Войкевич преследует Амалию, а это неприлично, Стефан без труда догадался обо всем остальном.
– Мало того что Лотта взъелась на бедного Милорада, так теперь еще и ты, – шутливо промолвил король. – Скажи, ну что я буду без него делать?
– Как что? – пожал плечами князь. – Возьмешь другого адъютанта. При дворе подходящих людей, слава богу, хватает.
– Людей-то много, да только никто из них мне не подходит, – серьезно ответил Стефан. – И не надо говорить, что я благоволю к нему потому, что знаю его с детства. Просто он прекрасно справляется со своими обязанностями. К тому же он делает все, чтобы я не пострадал от рук какого-нибудь сумасшедшего. После того как на меня два раза подряд покушались, у меня началась бессонница. – Теперь уже никто не смог бы назвать лицо Стефана добродушным: напротив, оно стало жестким, и слова падали с его пухлых губ, как камни. – Однако Милорад наладил охрану, выгнал нерадивых, привел новых людей, и теперь все спокойно. Я даже могу гулять по городу, не боясь, что мне выстрелят в спину.
– Послушай, но работу Милорада без труда может делать и министр полиции, – возразил Михаил. – Твой адъютант внушил тебе, что он незаменим и что без него ты не сможешь обойтись. Но ведь это же смешно! Как ты можешь терпеть, чтобы какой-то… чтобы этот выскочка навязывал тебе свою волю? Он возомнил о себе бог знает что! Ты знаешь, что он собирается жениться на дочери Рукавины? Ее мать из древнего рода, а отец – богач каких поискать! Он уже отказывал не одному аристократу… а Милорад все равно собирается к ней свататься! И говорят, что он добьется своего!
– Ты так взволновался из-за дочери Рукавины? – осведомился король с легкой иронией. – Или все-таки из-за баронессы Корф?
По его тону Михаил понял, что Стефан не уступит. Князь привел еще несколько доводов, один весомее другого, почему от Войкевича следует избавиться и услать его куда-нибудь, да хотя бы стеречь тот же Дубровник, но король только посмеивался, и наследник вынужден был отступить со скверным чувством, что венценосный кузен ни в грош не ставит его мнение.
А через несколько дней Петр Петрович Оленин явился к Амалии и с порога объявил:
– Слышали новость? Войкевича выгнали.
– Как это? – изумилась его собеседница.
– Обыкновенно, Амалия Константиновна. Король вызвал его к себе и вручил ему приказ в понедельник отправляться в Дубровник и заняться тамошней крепостью и гарнизоном. От своих придворных обязанностей он освобождается, но командование полком в виде исключения пока оставили за ним.
Амалия вспомнила воодушевление, с которым Милорад рассказывал ей о службе, его счастливое лицо, когда он говорил о своем полку, и у нее сжалось сердце. За что же король так наказывает его?
– Да тут нет ничего хитрого, Амалия Константиновна, – объяснил словоохотливый резидент. – Войкевич – парвеню, который держался только за счет личного доверия короля. Все остальные, замечу, адъютанта терпеть не могли. Лотта, граф Верчелли, Старевич, Иванович, генерал Новакович, королева, наследник… перечислять можно долго. Разумеется, по всем люблянским гостиным уже ходит анекдот, что полковника погубила женская перчатка. Вы ведь еще не слышали его, верно?
Амалия покачала головой. Оказалось, что где-то за кулисами Лотта Рейнлейн в присутствии Войкевича уронила на пол перчатку. Полковник ее не поднял, сделав вид, что ничего не заметил. Впрочем, всем было известно, что его отношения с балериной уже давно перешли в открытую вражду. Лотта, как обычно, пожаловалась королю на то, что его адъютант ее оскорбил. Стефан смолчал, но на следующий день секретарь от его имени вручил Войкевичу приказ отправляться в Дубровник и не возвращаться, пока он там все не приведет в порядок.
– Для Милорада это конец, – снисходительно пояснил Петр Петрович. – Не знаю, что было истинной причиной его отставки, постоянные жалобы Лотты или что-то еще. Его высочество тоже недавно был у короля, а королева Шарлотта вообще никогда не жаловала адъютанта. Так или иначе, мы избавились от опасного интригана, который только и делал, что вредил нам.
– А как вы думаете, что было истинной причиной его удаления? – задала Амалия вопрос, который жег ей губы.
– Возможно, он стал слишком много брать на себя, – со смешком ответил резидент. – Я бы сказал, что Войкевич просто зарвался, выражаясь простонародным языком. В какой-то момент он перешел черту, которую нельзя было переходить, именно это его и погубило. Больше вы не будете играть с ним в теннис, Амалия Константиновна, но, я убежден, в этом городе найдется немало куда более достойных людей, которые с удовольствием составят вам компанию.
Говоря о причинах, которые побудили короля столь круто обойтись со своим вчерашним другом, Петр Петрович был прав только отчасти. Раньше Стефан смотрел сквозь пальцы на проделки своего адъютанта, однако его задело, что тот слишком близок с Амалией, с которой сам король собирался познакомиться покороче. Тут весьма кстати подоспела Лотта со своей жалобой – и судьба незадачливого полковника была решена.
В своей жизни Амалия встречала достаточно людей, которых капризная богиня Фортуна сбросила с вершины благополучия на самое дно, и она знала, что немногие выживают в таких обстоятельствах. Обычно эти несчастные превращались в тень себя прежних, в жалкое подобие, которое кое-как влачило существование. Даже внешне они менялись – словно усыхали, становились меньше ростом, и в тоскующих их глазах загорался прежний огонь, лишь когда они вспоминали о прошлом. Впрочем, им и не оставалось ничего, кроме воспоминаний. Люди, которые в былые времена заискивали перед ними, теперь в лучшем случае проходили мимо, а новые баловни судьбы были оскорбительно равнодушны и не желали их знать. Каково же будет Милораду, с его пылким характером и гордым сердцем, чувствовать себя одним из этих изгоев, ловить на себе пренебрежительные взгляды и терпеть, как последнее ничтожество попытается отыграться за мнимые или действительные обиды, которые адъютант нанес ему в прошлом?
«А что, если он застрелится? – со страхом подумала Амалия. – Это вполне в его характере, такая реакция на такую обиду. Нет-нет, этого нельзя допустить!»
Попрощавшись с Олениным, она тотчас же велела заложить карету, чтобы ехать к полковнику.
Амалия впервые оказалась у него дома, и особняк Войкевича, который молва упорно именовала дворцом, не произвел на нее ровным счетом никакого впечатления. Обстановка была красивая, но чувствовалось, что здесь живет человек, не родившийся в уюте и не умеющий его ценить. Слуга, чем-то напоминающий полковника (вероятно, его дальний родственник), попросил Амалию подождать и вышел. Он долго не возвращался, и моя героиня стала терять терпение. Теперь ей представлялось, что идея навестить и успокоить Милорада была не так уж хороша. А если его уже утешили и он сейчас с женщиной, что тогда?
Амалия посмотрела на одну дверь, которая вела из гостиной, на другую и двинулась к той, которая была ближе. Поблуждав по коридорам, она оказалась возле комнаты, из которой доносились взволнованные голоса. Один голос Амалия узнала сразу, это был полковник. Второй принадлежал королевскому секретарю, кузену Войкевича.
– Я убью эту дрянь, клянусь! И проклятый Кислинг… Какая у него была торжествующая морда, когда он смотрел на меня!
«Кого это он опять собирается убить?» – подумала Амалия. Однако из следующих фраз, в которых было много не одобренных этикетом выражений, выяснилось, что Войкевич имел в виду причину своего изгнания, мадемуазель Рейнлейн.
– Милорад… – лепетал секретарь. – Милорад, не сходи с ума!
Ответом ему был яростный взрыв ругательств.
– И он ссылает меня – в Дубровник! На край света! Почему сразу не в Сибирь, Тодор? Почему не туда? Уж верно, русский царь по знакомству подыскал бы там для меня местечко!
– Милорад, тебе нельзя волноваться… Ведь у тебя такие планы! Помнишь, что ты мне говорил?
– А, планы! – с раздражением отмахнулся Войкевич. – О чем ты говоришь? Чтобы осуществить мои планы, надо находиться в столице! Возле короля! А если я буду в Дубровнике, то… даже эта носатая дура, дочка Рукавины, на меня не взглянет! Боже мой…
Он замолчал, и несколько мгновений Амалия слышала только его прерывистое дыхание.
– Милорад, – серьезно сказал Тодор, – тебе нельзя сдаваться. Нельзя! В конце концов, у тебя остается твой полк, твои люди. Конечно, у тебя отобрали звание адъютанта…
– Жизнь у меня отобрали, – уже без особой злобы промолвил Милорад. – Жизнь! Что я буду делать в Дубровнике? Кому я там нужен? А не уехать никак нельзя, иначе будет еще хуже.
– Я думаю, – несмело заметил секретарь, – меня, наверное, тоже того… Попросят. Ведь всем известно, что я твой родственник.
– Король никогда на тебя не жаловался, – тяжелым голосом ответил Войкевич. – Держись за место, Тодор! Для меня сейчас это очень важно.
– Разумеется, я постараюсь замолвить за тебя словечко… – начал его собеседник. Но Милорад перебил его:
– Нет! Ни словечка, ни полсловечка, слышишь? Ты только все испортишь. Пусть все идет как идет!
– Но ты ведь не сдашься? – спросил Тодор после паузы.
– Я никогда не сдаюсь, – отрезал Милорад.
Немного успокоившись относительно того, что Войкевич, хоть и пребывает в состоянии, близком к отчаянию, все же не собирается совершать самоубийство, Амалия вернулась в гостиную. Через несколько минут к ней вышел Милорад. Он силился улыбнуться, но в глазах его застыла мука. Раньше он всегда был одет с иголочки, а теперь ворот его был расстегнут, и одна из манжет некрасиво топорщилась.
– А, сударыня! Пришли взглянуть на поверженного?
Амалия посмотрела на него и, не говоря ни слова, шагнула к выходу. Милорад догнал ее, схватил за руки и стал осыпать их поцелуями.
– Прости меня, прости, прости! Я сам не понимаю, что говорю.
Конечно, она его простила – и даже попыталась утешить, как только женщина может утешить мужчину, но она слишком хорошо понимала, что его не утешит ничто, потому что он пережил такую потерю – потерю власти, хоть и иллюзорной, – которая для многих не менее чувствительна, чем потеря близкого человека. Но, по-видимому, Милорад успел немного успокоиться, потому что даже спросил:
– Ты будешь отвечать на мои письма, если я напишу тебе из Дубровника?
Амалия кивнула. Он серьезно посмотрел на нее и сжал ее руку.
– А твоему царю я Дубровник не отдам, раз уж я там буду главным, – полушутя-полусерьезно сказал он. – Так ему и передай.
Следующим днем было воскресенье, и в Любляне оно оказалось бы таким же, как всегда, если бы не волнующее событие: скачки! Вновь под них в «Люблянском вестнике» зарезервировали целую полосу, но на сей раз фотограф, наученный горьким опытом, потребовал для своего громоздкого аппарата, во-первых, экипаж, который привезет их на ипподром и доставит обратно, и, во-вторых, ассистента, который будет помогать быстро менять пленку.
– Ивица! – простонал редактор. – Ты нас разоришь!
Тогда фотограф с невинным видом предложил другой выход. В самом деле, почему бы редактору в таком случае не делать снимки самому? Пусть идет до ипподрома пешком, настраивает аппарат, выбирает момент и так далее.
– Между прочим, в прошлый раз я ухитрился даже заснять победителя на финише! И что? Мне заплатили как за обычное фото!
Редактор вздохнул, поскреб макушку и смирился, но решил, что стоимость проезда он непременно втихаря вычтет из будущих гонораров пронырливого Ивицы.
Не подозревая о коварной мести, зреющей в недрах редакторской души, фотограф в самом лучшем расположении духа прибыл на ипподром, укрепил аппарат на треноге и начал снимать. В сегодняшней программе было уже не три заезда, а пять, и трибуны заполнились еще за четверть часа до их начала. Сверкали монокли, трепетали веера, пестрели дамские платья. Наконец в ложе появилась Лотта Рейнлейн в сопровождении генерала Ракитича, который смотрелся на ее фоне как дядюшка-сводник при племяннице-миллионщице. Платье Лотты было поэмой из шелка, оборок и вышивки, но сердцем фотографа безраздельно владела баронесса Корф. Она явилась в очень простом светлом наряде, единственной отличительной деталью которого был контрастный пояс, подчеркивавший тонкую талию. Ничего, ну абсолютно ничего – с точки зрения Лотты – не было в этом платье особенного, и вообще выглядело оно совершенно по-мещански (как она громко сказала Ракитичу), но факт остается фактом: не только Верчелли (с некоторых пор полюбивший скачки), но и все трибуны стали выворачивать шеи, чтобы увидеть госпожу баронессу.
– Наверняка она так затягивается в корсет, что ей нечем дышать! – сказала балерина Ракитичу. – И вообще, сколько ей лет?
Генерал, который уже выучил наизусть возраст Амалии, недостатки Амалии (которых у нее набралось, по версии Лотты, с гомеровскую поэму) и слухи о прошлом Амалии, тихо вздохнул и покорился своей участи. По опыту он знал, что Лотта быстро не умолкнет, но на этот раз его спасло появление в королевской ложе Стефана с семьей и наследником.
Монарх поприветствовал публику и приготовился смотреть первый заезд. Фотограф вытер пот. На несколько минут трибуны превратились в живое воплощение страстного азарта, а в перерыве Михаил попросил у короля дозволения пригласить в ложу баронессу Корф.
– Конечно-конечно, дорогой кузен, – сказал Стефан с тонкой улыбкой. – Мы и сами будем рады увидеть столь выдающуюся участницу нашего благотворительного комитета.
– Почему мы не снимаем? – шепотом спросил ассистент у фотографа, кивая на ложу Амалии, в которой только что появился посланный наследником адъютант.
– Потому что в печать снимок все равно не пустят, – ответил фотограф. – Всем известно, что у нее роман с его высочеством, но говорить об этом вслух не рекомендуется.
Никто из них не обратил внимания, что, когда Амалия вошла в ложу Стефана, лицо у нее было не такое безмятежное, как несколько минут тому назад. Дело в том, что в коридоре, ведущем в ложу короля – коридоре, наводненном охранниками, которые сегодня вели себя куда свободнее, чем это было прежде, – она поймала взгляд высокого человека в штатском. Он тотчас же отвернулся, но Амалия мгновенно узнала Войкевича. Она никогда прежде не видела его в штатской одежде, и ей сразу же бросилось в глаза, до чего скованно полковник в ней держится.
«Что он здесь делает?.. Неужели надеется уговорить короля отменить свой приказ? Безумие! Достаточно хоть немного знать Стефана, чтобы понимать, что это совершенно невозможно…»
Маленький коренастый адъютант меж тем, наклонившись к уху Михаила, что-то почтительно докладывал ему.
– Это в-возмутительно! – вырвалось у наследника. Он покраснел и повысил голос: – Угадайте, ваше величество, кого только что мой человек встретил в коридоре? Войкевича! А ведь он уже должен ехать в Дубровник!
Королева Шарлотта опустила глаза. На ее лице было написано самое непритворное негодование.
– Убедитесь сами, ваше величество, как п-полковник выполняет ваши приказы! – продолжал раздраженный Михаил. – Младен, пригласите-ка сюда этого храбреца!
Стефан нахмурился, но адъютант уже отправился за Войкевичем, и через минуту полковник переступил порог королевской ложи. Завидев его, королева отвернулась, раскрыла веер и громко сказала Амалии:
– Сегодня прекрасная погода, не правда ли?
С неудовольствием король понял, что его молчаливо приглашают довершить унижение Войкевича, и хуже всего, что полковник сам подал к этому повод. Однако Стефан вовсе не был жесток и попытался сгладить ситуацию.
– Я рад, полковник, что мы встретились с вами на скачках, которые вы, по-видимому, любите так же, как и я, – сказал он. – Однако обязанности, которые я возложил на вас…
Амалия отвела глаза, и тут словно порыв холодного ветра коснулся ее затылка. У каждого человека есть свое ощущение близкой опасности, и ощущение Амалии – точнее, одно из ощущений – было именно таким.
И тут она увидела его – обыкновенного молодого человека, безусого, с открытым и даже симпатичным лицом; он затесался в толпу агентов в штатском, которые всегда сидели внизу на трибуне, под ложей короля. Губы молодого человека кривила странная улыбка, обнажавшая полоску верхних зубов. Правой рукой он выдернул из кармана шестизарядный револьвер – но еще до того, как дуло взметнулось в воздух, Войкевич уловил опасное движение и отчаянно закричал:
– Государь! У него оружие!
И вслед за тем кинулся на Стефана и сбил его с ног.
Над ипподромом взметнулись истошные женские крики. Первая пуля ударила в поручень ложи и отколола кусок дерева, вторая попала в адъютанта наследника, который стоял недалеко от короля, и он рухнул как подкошенный. Террорист успел выстрелить еще дважды, прежде чем окружающие, стряхнув оцепенение, ринулись на него. Завязалась ожесточенная потасовка, и убийца сумел выстрелить еще раз, попав в живот скрутившему его агенту.
– А-а-а!
Войкевич с совершенно бешеным, перекошенным лицом высунулся из-за барьера ложи и хриплым голосом стал выкрикивать указания. Люди, которые привыкли подчиняться его приказам, тотчас же перестали топтать террориста (когда он упал, у него вырвали оружие и едва не забили насмерть). В нескольких шагах от него, скорчившись на сиденье, стонал смертельно раненный выстрелом агент.
Шарлотта истерически рыдала, заламывая руки, несколько фрейлин упали в обморок. Михаил медленно распрямился, держась за щеку, по которой текла кровь. Одна из пуль оцарапала его лицо, и оно было бледным как смерть. Куда девался гонор, с которым он всего несколько секунд назад распекал полковника?
– Охрана, ко мне! – кричал Войкевич. Поперек его лба вздулась косая жила, он был страшен и прекрасен одновременно. – Доктора сюда! Адъютант Лазович убит, фрейлина Райкович, похоже, легко ранена! Этого, – он повелительно кивнул на террориста, – не трогать, слышите? Я сам с ним разберусь! Государь, – обратился он к Стефану, – вам лучше уйти. Я сам выведу вас отсюда.
– Но… но… – бормотал король. Милорад мотнул головой в сторону схваченного, которого крепко держали агенты.
– Он мог быть не один, – сказал Войкевич. – Он пришел и спокойно сел среди полицейских, и никто ничего не заподозрил, потому что он знал, что говорить и что делать, чтобы сойти за одного из них. Да, он точно был не один. Вы не ранены, госпожа баронесса? – внезапно спросил он у Амалии.
– Нет, – пробормотала молодая женщина. Она наконец-то сумела заставить себя разжать руки и отпустить дочь Стефана, которую закрыла собой, едва началась стрельба.
– Благодарю вас… – прошептала Шарлотта, глядя на дочь, которая до сих пор инстинктивно цеплялась за платье Амалии. – Благодарю вас, сударыня.
Она вытерла слезы и, сделав над собой усилие, добавила:
– И вас, сударь… Вы оба сохранили мне моего мужа и мою дочь.
Глава 24 Возвращение полковника
Они хотели меня убить.
Опять.
Что я сделал? В чем я провинился?
Стефан лежал в постели. Силы совершенно оставили его, одна безрадостная мысль сменяла другую. Тяжелые бархатные портьеры на окнах были плотно задернуты, и казалось, что наступила ночь. На самом деле шел лишь третий час дня.
По натуре король был оптимистом, но в эти мгновения испытывал неподдельное страдание. Его мать сегодня не пришла на скачки, она их не любит, но другие близкие люди находились совсем рядом. Что, если бы террорист убил его жену? Или дочь? Ведь погиб же адъютант кузена Лазович, весельчак, мот и задира. А теперь он мертв, да и сам Стефан тоже был бы мертв, если бы не Войкевич.
И подумать только, что едва убрали адъютанта, который навел порядок в охране, как покушения начались снова.
Постойте-ка… А что, если именно этого Михаил и добивался? Что, если он ради этого желал устранить полковника и сослать его в Дубровник? И ведь какой ловкий предлог придумал, не подкопаешься. А он, Стефан, всему поверил – и повелся как мальчишка! А на самом деле все было куда проще: нет полковника, и охрана сразу же стала относиться к своим обязанностям спустя рукава; нет полковника, и любому террористу куда легче подобраться к нему, Стефану. Конечно! Ну конечно же!
Нет, нет, этого не может быть, князь – его родственник, не может быть…
И наследник, глумливо шепнул внутренний голос. Разве мало наследников отправляют на тот свет раньше срока тех, кому они должны наследовать?
У Стефана заломило виски, он заворочался на постели, комкая одеяло. Как хочется, чтобы пришла любимая женщина, положила на лоб прохладную руку и сказала, что все будет хорошо. Но любимой женщины нет. Есть только жена, которая ему неприятна, и продажная австриячка, которой он платит за ее ласки. Больше – никого.
Пока король все глубже и глубже погружался в пучину меланхолии, в мрачном здании иллирийской тюрьмы старый следователь Обрадович пытался разговорить стрелявшего, однако в ответ услышал лишь заявление, что тот готов пострадать за свои убеждения, но больше не скажет ни слова. Впрочем, через пару часов агенты Войкевича по своим каналам уже разузнали имя и профессию террориста, а случайный снимок фотографа люблянской газеты, который запечатлел стрелявшего за несколько минут до покушения с какой-то барышней, позволил арестовать сообщницу преступника, которая разделяла его взгляды и даже помогла ему купить револьвер. Весьма миловидная барышня оказалась невестой террориста.
Войкевич, куря сигарету за сигаретой, изучал протоколы допроса соседей и родственников арестованных. Невеста, как и ее жених, дала понять, что у нее даже под пыткой не вырвут ни слова, и замкнулась в молчании.
Из своего дворца приехал князь Михаил и, глядя мимо полковника, тусклым голосом осведомился, как продвигается дело.
– Думаем уже сегодня его закончить, – к удивлению Обрадовича, ответил Милорад. – Кстати, ваше высочество, вы нужны нам в качестве председателя. Вы ведь тоже военный, а нам сейчас понадобятся люди.
– П-председателя чего? – нервно осведомился наследник.
– Военно-полевого суда. Согласно законам покушение на убийство члена королевской семьи считается преступлением против государства и приравнивается к измене. Значит, нам надо собрать суд. Требуются пять человек и один секретарь. – Войкевич начал загибать пальцы. – Вы, я, генерал Иванович, генерал Новакович и генерал Ракитич. Итого пять. Вместо секретаря – господин Обрадович. – Он кивком головы указал на следователя, который смотрел на него во все глаза.
Михаил поежился. Мысль о том, что он вновь – и так скоро – увидит человека, который стрелял в кузена и мог убить его самого, была ему не слишком приятна. Однако он посмотрел на волевое, сосредоточенное лицо Войкевича, понял, что тот не примет отказа, и смирился.
– Когда вы предлагаете назначить суд, полковник?
– Прямо сейчас.
– Прямо сейчас? – изумился Михаил.
– А чего нам ждать? Все обстоятельства и так уже известны.
Обрадович открыл было рот, чтобы сказать, что, по его мнению, известны были далеко не все обстоятельства, но встретил предостерегающий взгляд Милорада и стал пристально рассматривать трещину на потолке.
– Вызовите генералов, – распорядился Войкевич, – и немедленно приступим к делу.
«Чего он добивается?» – думал заинтригованный следователь. Он совершенно ничего не понимал.
Через час в мрачном, грязноватом помещении состоялся, вероятно, один из самых коротких военно-полевых судов в истории человечества. Три генерала, полковник и наследник престола судили террориста и его сообщницу, которые стояли в окружении конвоя. Обрадович зачитал обвинительный акт, а затем полковник Войкевич спросил, имеют ли подсудимые сказать что-нибудь.
– Мы уже сказали: вы ничего от нас не добьетесь, – гордо заявил юноша.
– Очень хорошо, – на удивление покладисто согласился Войкевич. – В таком случае, предлагаю голосовать. За совершенное этими людьми преступление предусмотрена только одна мера наказания – смертная казнь через расстрел. Господин председатель, объявите голосование открытым.
Террорист открыл рот. Он явно не ожидал от суда такой скоропалительности. Обрадович, только теперь в полной мере оценивший замысел полковника, тихо наслаждался происходящим. Он всегда был высокого мнения об уме Войкевича, а суждение человека, который при любой власти ухитрялся ловить врагов государства, кое-что да значит.
– Голосую: расстрелять, – сухо сказал Иванович.
– Присоединяюсь, – подал голос полковник.
– И я, – отозвался верзила Новакович.
– П-присоединяюсь. – Это был наследник.
– Расстрелять, чтобы другим было неповадно, – проскрипел Ракитич, сердито шевеля усами.
– Единогласно, – подытожил Войкевич. Никто даже не пытался возразить против того, что полковник фактически стал исполнять роль председателя. – Господин Обрадович, занесите решение суда в протокол и вызовите расстрельную команду. – Он поднялся с места.
– Так скоро? – вырвалось у Михаила.
– Не вижу смысла ждать, – хладнокровно отозвался полковник. – Не пройдет и получаса, как эта парочка нагонит бедного Лазовича, который, как выразился бы старый Брегович, стоит в очереди к ладье Харона.
– Вы не имеете права! – отчаянно выкрикнула женщина. – Это не суд, а издевательство!
– Вам предоставляли возможность говорить, но вы не пожелали ею воспользоваться, – мягко напомнил ей Войкевич. – Очень жаль, потому что, если бы вы рассказали нам всю правду, возможно, приговор был бы другим.
Михаил закусил губу. Ему внезапно почудилось, что его против воли втянули в какое-то представление, в котором полковник является режиссером, а он, Михаил, может играть только подчиненную роль. В самом деле, что это за суд, который не занял даже десяти минут?
Он оглянулся, ища на лицах окружающих неодобрения действий Войкевича, но, судя по всему, не одобряли чрезмерно расторопного полковника только подсудимые. Генералы вели себя так, как будто ничего особенного не произошло.
Финал этой поразительной сцены на следующее утро рассказал Амалии всезнающий Петр Петрович Оленин.
– Словом, не успели они глазом моргнуть, как их приговорили к расстрелу. В зале суда они еще держались, а когда вышли, девушке едва не сделалось дурно. Вскоре их вывели во двор и попросили встать к стенке. Тут оба сильно переменились в лице. Сами понимаете, одно дело – стрелять в безоружных, и совсем другое – когда стрелять будут в тебя самого. Напротив выстроилась дюжина солдат, все рослые, хмурые ребята. Командовал расстрелом лейтенант, забыл его фамилию… да, впрочем, не так она и важна. Глаза осужденным завязывать не стали. И вот, вообразите себе, звучат команды – готовсь, целься, пли. И солдаты дали залп… Когда дым рассеялся, стало видно, что оба приговоренных живы, что вовсе не удивительно, так как было приказано стрелять холостыми. – Петр Петрович сдержанно улыбнулся. – Можете себе представить, Амалия Константиновна, что сделалось с заговорщиками. Сильнейшее нервное потрясение, но, заметьте, юноша первым стал кричать, чтобы его пощадили, что он все расскажет, только пусть больше не стреляют. Весь вечер и всю ночь наши несгибаемые революционеры давали показания, а утром полковник помчался во дворец – делать доклад королю. Помяните мое слово: в Любляне скоро начнутся аресты, потому что уже сейчас говорят, что эти двое – только одно из звеньев заговора против короля.
Амалия нахмурилась.
– Ложный расстрел придумал Войкевич, чтобы заставить задержанных говорить?
– Конечно, Амалия Константиновна. Его высочество, которого он почему-то запамятовал поставить в известность о своем плане, теперь с ним не здоровается, но так как полковника уже восстановили в должности и поездка в Дубровник отменена, то…
Тем временем Милорад Войкевич докладывал во дворце совершенно желтому больному Стефану:
– Эти двое входили в тайную организацию, называвшую себя «Иллирийские валеты». В основном в ней состояли республиканцы и анархисты, но попадались и сторонники свергнутого короля Христиана и его супруги Фредерики. Опознавательным знаком у заговорщиков служили половинки карт, изображающие валетов. Те, что покушались на вас, были, к примеру, валетами треф. В их организации…
Стефан поднял голову.
– Кто их возглавлял? – хрипло спросил он. – Старевич?
– Старевич не имеет к ним никакого отношения. Возглавлял их профессор Люблянского университета, который в свое время написал книгу о монархических мотивах в творчестве Бреговича. Очень положительный и известный человек, в свое время ваш отец наградил его за труды. Правда, наши валеты треф утверждают, что председатель высказывался против цареубийства, просто они сами решили, так сказать, ускорить события. Они были уверены, что ваша гибель станет поводом к началу вооруженного мятежа.
– Мятежа? – Король со стуком поставил чашку, из которой пил кофе, на блюдце, но сделал это так неловко, что напиток выплеснулся через край.
– Да, эта организация активно вербовала сторонников по всей стране. – Войкевич сделал паузу. – И самое скверное, что они собирались поставить во главе мятежа генерала Новаковича.
– Предатель! – вскрикнул Стефан. Его маленькая белая рука сжалась в кулак.
– У нас пока нет данных, что Новакович согласился на их предложение, – поспешно добавил Войкевич. – Следователь Обрадович продолжает работать по этому делу, и…
– Неважно! – отрезал король. – Если Новаковичу стало известно о заговоре против короля, он должен был поставить меня в известность! Или тебя! Ты не хочешь его арестовывать? Боишься его влияния в армии? Ну так вот! Я – верховный главнокомандующий, и я приказываю тебе взять под стражу этого проходимца! Зови секретаря, я сейчас же подпишу ордер на арест Новаковича!
Вскоре по Иллирии прокатилась волна арестов. Сами понимаете, валеты – не самая сильная карта, им не по чину интриговать против короля. Пользуясь терминологией карточной игры, король побил их всех – не сразу, разумеется, но за какие-то несколько недель с ними было покончено. Спаситель Войкевич получил орден и в придачу к нему денежное вознаграждение, – как утверждали злые языки, вполне достаточное, чтобы пленить сердце богатой мадемуазель Рукавины. Звезда полковника сияла ярко, и Кислинг даже стал подумывать о том, что было бы чрезвычайно полезно вновь завести с ним дружбу.
Узнав о планах резидента, Лотта ужасно рассердилась.
– Вы хоть подумали, в каком свете вы меня выставляете? После того, как я делала все, чтобы от него избавиться…
– Дорогая, – снисходительно ответил Кислинг, – вы недооцениваете достоинства гибкости, а ведь это одно из важнейших качеств политика. Хочет этого полковник или нет, но он политик, а значит, с ним можно договориться.
– Не думаю, – с сомнением протянула балерина. – И вообще, гибкость куда нужнее в постели, а в политике без нее вполне можно обойтись.
Кислинг расхохотался и сказал, что непременно вставит ее шутку в свои мемуары, которые когда-нибудь напишет. Но, к сожалению, по независящим от него причинам ему не удалось осуществить свой замысел.
Итак, организация мятежных валетов была разгромлена, а главные заговорщики – арестованы. Войкевич удвоил охрану короля, и Стефан теперь чувствовал себя куда увереннее, чем в дни, последовавшие за последним покушением. Он больше не ходил на скачки, чтобы не искушать судьбу, но побывал на дне рождения Лотты и преподнес ей дорогие подарки, которые призваны были помочь ей затмить баронессу Корф. Словом, жизнь мало-помалу возвращалась в привычную колею, и казалось, что теперь-то уж все точно будет хорошо. Поэтому Стефан не воспринял всерьез доклад встревоженного министра финансов о том, что происходит что-то странное, потому что некто скупил все долговые обязательства иллирийского правительства. Министр долго собирался с духом, прежде чем осмелился сказать монарху то, что стоило сказать уже давно: казна пуста, у них нет денег, они живут в долг, а срок уплаты по многим обязательствам уже подошел, и если кредитор потребует возврата денег (на что он имеет полное право), им будет нечем платить. Позор, позор!
Как принято у королей, Стефан раскричался, обвинил во всем нерадивого министра и пообещал дать ему отставку, но потом, слегка остыв, стал размышлять. Конечно, подарки Лотте, подарки жене, которая под влиянием баронессы Корф пристрастилась к модным платьям и красивым украшениям, игра в казино, строительство ипподрома да еще всякие мелочи вроде единовременной выплаты Войкевичу, Обрадовичу и тем, кто раскрыл заговор валетов, – все это обошлось недешево. К тому же, судя по докладу министра, налогов в этом году собрали мало, а еще впереди маячила угроза неурожая… нерадостная, прямо скажем, перспектива.
Вызвав министра, король извинился перед ним за несдержанность и перешел к делу. Необходимо договориться с кредитором, кем бы он ни был. Может быть, он согласится принять пока в залог серебряные рудники?
И министр отправился на встречу с кредитором, который оказался щеголеватым господином средних лет с почти седыми волосами. Господин этот был тесно связан с парижскими банками и с ходу огорошил министра заявлением, что оскудевшие рудники его не интересуют. Кроме того, он вообще-то выполняет поручение некоего лица, у которого имеются в Иллирии свои интересы. Какие именно, это лицо согласно сообщить только при личной встрече с его величеством.
После того как были оговорены все необходимые условия, встреча состоялась как бы случайно в очаровательной беседке парка Тиволи, напротив фонтана. И хотя уже выбор места говорил о многом, Стефан все же был искренне удивлен, когда увидел Амалию Корф.
Глава 25 Договор
– Прошу вас, присаживайтесь, ваше величество, – сказала Амалия. – Полагаю, вы уже знаете, о чем я намерена с вами говорить, не правда ли?
Стефан не стал возражать и присел на скамью, хмуря брови. Отчего-то ему вдруг стало трудно дышать. И еще – еще он почувствовал себя обманутым.
Вот, значит, для чего она явилась в Любляну, такая очаровательная, такая… такая опасная. Она расставила ему ловушку, и он, считавший себя, по крайней мере, не глупее многих, попался в нее, как неосмотрительная мышь…
– Думаю, мы можем обойтись без лишних слов, сударыня, – холодно ответил он. – У вас мои долговые обязательства, и я намерен их выполнить. Вы получите свои деньги обратно.
– Вы собираетесь занять их у австрийского правительства? – Амалия покачала головой. – Тогда, ваше величество, вместо меня вам придется иметь дело с Кислингом и его начальством, а это куда хуже и опаснее для вашей страны.
Король посмотрел на нее с мрачным вызовом.
– Не продолжайте, я уже понял. Или я уступлю вам Дубровник, или вы опозорите меня перед всей Европой? Так, сударыня?
– Совершенно верно. Договор о Дубровнике в обмен на векселя, которые вы так неосмотрительно выдали. Вам достаточно поставить свою подпись, и все будет кончено.
– А если я не стану этого делать?
– Вы не хуже меня знаете, что тогда все только начнется.
Они сидели на скамье и молчали, но между ними пролегла пропасть враждебности, которую Стефан даже не пытался скрыть.
– Могу спорить, что это было самое дорогое дело вашей особой службы, – проговорил он с жалящей иронией.
И в это мгновение Амалия решила, что пора окончательно сбросить маски.
– Еще ваш отец обещал отдать нам Дубровник и клялся, что для него нет ничего важнее нашей дружбы. Потом он написал завещание, в котором призывал вас держать русских на расстоянии и не пускать в Дубровник ни нас, ни кого-либо еще. – Стефан вспыхнул. – Мы умеем ценить союзников, но знаем также способы, как заставить ненадежных союзников стать надежными. Хотите знать, стыдно ли мне за то, что я сделала? Ни капли, потому что нет удовольствия выше, чем обмануть того, кто сам привык всех обманывать. – Амалия поднялась с места. – Завтра же договор о Дубровнике должен быть подписан. Петр Петрович Оленин уже приготовил текст, и я могу передать его вашему секретарю для ознакомления. – Стефан хотел что-то сказать, но Амалия подняла руку, словно закрывая ему уста. – И я не желаю тратить время на обсуждение договора о нейтралитете и прочем, чему грош цена. Или Дубровник, или завтра же вся Европа узнает, кому и за сколько вы покупали украшения.
Змея, подумал опечаленный король. Змея, но… до чего же привлекательная змея! Даже сейчас, когда она в открытую угрожает ему, у нее такие глаза, ах, такие глаза…
– Вы не оставили мне выбора, сударыня, – промолвил он со вздохом, вставая со скамьи. – Что ж, присылайте ваш договор, я подпишу его. Но у меня есть один вопрос…
– Какой же? – спросила Амалия, предчувствуя подвох.
– Скажите, когда вы закрывали мою дочь от пули террориста, вы делали это только ради договора? Или ради чего-то еще?
Амалия вспыхнула, а король, попрощавшись, удалился с приятным ощущением хотя и маленькой, но победы. Потому что нет такой бочки дегтя, которую не могла бы подсластить самая крошечная ложечка меда.
…Во вторник подписанный договор отбыл с курьером и особой охраной в Петербург. Сложное, даже рискованное дело было завершено блестяще. Больше ничто не держало Амалию в Иллирии, и она принялась собирать вещи.
Стоял ясный, теплый сентябрь. Амалия побывала у Бреговича, передала его жене деньги и пообещала прислать все переводы его стихов на русский, какие только сумеет отыскать. Вернувшись в Тиволи, она неожиданно для себя увидела Мусю, которая дожидалась ее в гостиной.
– Я думала, вы уже давно вернулись в Петербург! – вырвалось у Амалии.
– Наше путешествие затянулось, – засмеялась Муся. – Мы добрались до Голландии и объездили почти всю Германию. В Бельгию тоже заехали… Теперь возвращаемся в Венецию и решили тебя навестить.
Амалия отметила про себя, что навестить ее пришла одна Муся, Андрей же благоразумно воздержался от визита. Впрочем, ее это больше ни капли не волновало. Хотя она не принимала всерьез роман с Войкевичем, он послужил тем самым сердечным клином, которым – по пословице – вышибают другой клин. Амалия была почти уверена, что теперь, если она увидит Андрея, ее сердце будет биться так же ровно, как и за минуту до встречи.
Впоследствии Амалия не раз будет вспоминать этот мирный вечер, совместную прогулку к пруду и любимого лебедя, который бегал за ней как собачка.
– Ой, у тебя тут есть даже теннисный корт! – оживилась Муся.
– Если хочешь, завтра можем сыграть партию-другую, – предложила Амалия. – Сегодня уже поздно.
Сказав это, она вспомнила, что ни Михаил, ни обе королевы, прежде такие сердечные, не давали о себе знать с тех пор, как договор о Дубровнике был подписан. Конечно, Стефан позаботился о том, чтобы члены его семьи больше никогда не имели с ней дела. Зато вчера к ней приезжал граф Верчелли – вновь свататься, и на этот раз она была вынуждена ответить ему окончательным отказом. Амалия предполагала, что в отместку сенатор скажет о ней что-нибудь колкое, и его bon mot[219] будут повторять во всех гостиных, однако старый граф ее удивил. Наутро он прислал картину Боттичелли, которая ей так понравилась, и в записке сообщил, что смиренно принимает ее решение и выбрал этот подарок, чтобы Амалия вспоминала о нем.
Она рассталась с Мусей, предварительно условившись, что часов в одиннадцать они встретятся для игры в теннис. Красное солнце садилось за деревьями парка, и возле статуи Персея порхала большая пестрая бабочка. Наконец она села на нос победителю медузы и затрепетала крылышками.
Амалия предполагала, что Муся, не отличавшаяся особой пунктуальностью, появится только к полудню, но, к ее изумлению, та явилась в Тиволи гораздо раньше назначенного часа. И лицо у нее было настолько растерянное, что моя героиня сразу же встревожилась.
– Амалия, ты слышала, что происходит? В городе восстание!
…Когда мы читаем книги, в которых описывается нечто подобное, каждый тешит себя мыслью, что он бы уж точно не сплоховал и в этой ситуации непременно сказал бы что-нибудь умное. Но Амалия не смогла выдавить из себя ничего, кроме само собой напрашивающегося:
– Какое восстание?
– Самое настоящее, представь себе! Повсюду вооруженные люди… беспорядок! Грабят дома и гостиницы… Нас с Андреем тоже пытались ограбить, и мы… мы…
Тут только Амалия увидела стоящего в дверях Андрея, который неловко переминался с ноги на ногу. Но она даже не успела задуматься, что значит его присутствие здесь, совсем рядом, потому что в это мгновение до нее донесся отдаленный треск выстрелов.
– Мы сразу же приехали к тебе, – пролепетала Муся. У нее дрожали губы, а в глазах стоял страх. – Они ведь не осмелятся ворваться к подданной императора, правда?
Амалия тотчас же вызвала слуг, велела запереть ворота и никого не пускать, на всякий случай спрятала украшения и деньги и забросала вопросами Мусю и Андрея. Что за восстание? Кто его предводители и чего они хотят? Это республиканцы? Сторонники Фредерики? А может быть, военный путч?
– Я не знаю, – твердила совершенно потерявшая голову Муся, – не знаю! Кажется, королевский замок был окружен войсками, но мы проехали мимо очень быстро… В нашу карету стреляли, представляешь? Пуля разбила стекло!
Амалия лихорадочно размышляла. Итак, Стефан утратил контроль над ситуацией, и теперь в столице творится непонятно что. Телефона в Тиволи не было, и Амалия уже решилась послать человека к Оленину, разузнать, что да как, но тут на пороге появилась до смерти испуганная горничная.
– Амалия Константиновна… Они взломали ворота и идут сюда!
– Кто – они? – спросила Амалия, и собственный голос показался ей в это мгновение чужим.
– Не знаю! Но они в военной форме, и у них… У них синие повязки на правом рукаве!
Затрещала выбиваемая дверь, взвизгнула служанка, случайно оказавшаяся на пути ворвавшихся в дом, но ее никто не тронул. Звеня шпорами, стуча каблуками, небольшая группа военных вломилась в гостиную, и вместе с ними туда словно проскользнула тень всего, что обыкновенно сопутствует переворотам – хаоса, грубой силы и попрания всех законов. Бонапарт, стоявший в углу, злобно таращился на незваных гостей, однако Амалия встретила их с поразительным спокойствием.
– Чем могу служить, господа?
– Собирайтесь, – бросил самый старший. – Вас хочет видеть генерал.
Это прозвучало как приказ, да, по сути, и было приказом. Чувствуя, что сейчас в ее жизни может произойти все что угодно, возможно, она вообще больше никогда не вернется сюда – Амалия повернулась к своим друзьям. Муся смотрела на нее расширившимися от ужаса глазами, Андрей побледнел и стиснул челюсти.
– Амалия… Не ходи туда! Кто знает, что у них на уме!
Но она отлично понимала, что у нее нет выбора. Слова в эти мгновения не шли Мусе на язык, и она не нашла ничего лучше, чем протянуть Амалии свою шаль. Та молча поблагодарила ее взглядом и вышла в сопровождении офицеров.
Садясь в экипаж, который стоял у ворот, Амалия машинально отметила про себя, что уже видела его раньше – именно в нем перевозили в тюрьму схваченного на ипподроме террориста. И, хотя она не верила в предзнаменования, но все же упала духом.
Карета в окружении кавалеристов с синими повязками мчалась по узким люблянским улочкам. Амалия заметила, что они проехали дом Бреговича, и подумала, что, наверное, старику в эти мгновения особенно тяжело. Снова он видит мятеж, и снова против дорогих его сердцу королей.
Брегович и в самом деле услышал шум и выстрелы и спросил у жены, что происходит. Она пыталась отвлечь его внимание, но, в конце концов, пришлось сказать правду. Впрочем, стрельбу на улицах даже при всем желании не выдашь за праздничную канонаду.
– Значит, опять они выступили против короля? – вздохнул старый поэт, щурясь на пустую клетку, оставшуюся от попугая. – В прошлую революцию куда-то исчез весь кофе. Я надеюсь, что такого безобразия больше не повторится.
– Ты так спокоен… – пробормотала его жена, теряясь. – Я думала… – Она покраснела.
– Что я, как в прошлый раз, пойду на баррикады сражаться за моего повелителя? – Брегович медленно покачал головой. – За свою жизнь я видел вблизи четырех иллирийских монархов, и ни один из них даже не удосужился прочесть мои стихи. Десятки моих стихов стали народными песнями, а люди, за которых я был готов отдать свою жизнь… – Он вздохнул и, чувствуя, что жена волнуется, стал ее ласково успокаивать: – Не бойся, родная моя. В конце концов, дом наш сожгли еще в первую революцию, так что терять нам нечего. Ты главное, проследи, чтобы у нас был кофе, а то со всеми этими восстаниями немудрено запутаться.
Сидя в карете, Амалия размышляла о том, какому генералу она могла понадобиться и зачем. Вряд ли старый Иванович был замешан в происходящем, или баронесса Корф совершенно не разбирается в людях. Генерал Новакович, тот самый, который подарил ей желтую лошадь, был арестован по делу валетов, но ходили слухи, что доказательств против него не нашлось и его пришлось отпустить. Таким образом, если он действительно жаждал власти, то вполне мог возглавить переворот. Хуже всего, если друг Лотты и Кислинга, генерал Ракитич, поднял мятеж, чтобы подчинить Иллирию Австрии. Вот Ракитич вполне мог отдать приказ доставить к нему Амалию – например, с целью передать через нее российскому правительству, чтобы оно не вмешивалось в здешние дела. Еще имелся Блажевич, генерал в отставке, ныне депутат парламента – совершенно незаметный человек, с которым она за все время перебросилась разве что парой фраз. А так как в жизни именно незаметные люди частенько преподносят самые заметные сюрпризы, то Амалия невольно задалась вопросом, уж не обвел ли он ее вокруг пальца своим обманчиво простым видом. Но тут она поглядела в окно, и мысли о Блажевиче вылетели у нее из головы.
Карета как раз проезжала площадь, на которой стоял особняк, подаренный королем Лотте Рейнлейн. В центре площади высилась величественная конная статуя короля Владислава, но вовсе не она привлекла в эти мгновения внимание Амалии, а расположенные неподалеку от статуи фонари. На одном из этих фонарей висели два тела, первое принадлежало австрийскому резиденту Кислингу, а второе – Лотте Рейнлейн. Это было белое видение в балетном наряде, похожее на отслуживший свое манекен. Руки балерины бессильно повисли вдоль туловища, и она слегка покачивалась на осеннем ветру. Вокруг памятника и вокруг повешенных клубилась густая толпа, и какой-то оратор, взобравшись на постамент и держась для устойчивости за ногу коня, произносил пламенную речь. Маленькая собачка, как две капли воды похожая на Талисмана, металась возле фонаря с повешенными и пронзительно скулила.
«Нет, – сказала себе потрясенная Амалия, – это не Ракитич… Это не он стоит во главе мятежа».
– Выходите, сударыня!
Боже мой, она отлично помнит это место. Дворец князя Михаила, тот самый, в котором она впервые увидела короля. Только теперь двор заполнен людьми с синими повязками на рукавах, среди них не только военные, но и штатские.
Интересно, что стало с князем? Или он успел спастись? А король, а его семья, а Милорад? Если удача неокончательно отвернулась от Стефана, он может быть цел и невредим; но вряд ли заговорщики оставили в живых его главного телохранителя. Бедный Войкевич!
– Сюда, – говорит конвоирующий ее офицер и, встретив королевский взгляд Амалии, добавляет: – Прошу вас, сударыня.
Куда исчезли представительные лакеи, надменные придворные, разряженные иллирийские дамы? Во дворце наследника все вверх дном. Вдохновенные лица, вдохновенная суета. Кто-то тащит охапку винтовок, еще двое несут ящик с гранатами. Бежит курьер с безумными глазами, и Амалия словно кожей ощущает электричество, – иначе и не скажешь – витающее в воздухе.
– Прошу вас, подождите…
Она кутается в шаль Муси, хотя ей вовсе не холодно, а скорее наоборот. Через минуту офицер возвращается.
– Прошу. Генерал вас ждет.
Она вошла, и дверь за ней тотчас же затворилась.
Подняв голову, Амалия встретилась взглядом с человеком, который сидел за столом. Надо сказать, что менее всего она ожидала увидеть тут его.
Глава 26 Неучтенный элемент
– А я и не знала, что ты стал генералом, – сказала она.
Милорад Войкевич улыбнулся одними углами губ. Он понимал, что им предстоит непростой разговор, и в его власти было этого разговора избежать. Но полковник Войкевич, или, как он называл себя сейчас, генерал Войкевич не привык пасовать перед трудностями. Напротив, они его вдохновляли.
– Одно время король хотел произвести меня в генералы за то, что я спас ему жизнь на ипподроме. Нет никакой разницы, дает звание бывший повелитель или народ. Но я полагаю, получить звание от народа почетнее.
И он посмотрел на Амалию своими черными непроницаемыми глазами. И, хотя в его взгляде, в поведении, в словах не было ничего оскорбительного, Амалия так и вспыхнула.
– Это ты велел повесить Лотту и Кислинга? – спросила она, еле сдерживаясь.
– Я уже давно собирался это сделать, – ответил Милорад, словно речь шла о самой обыденной вещи. – Надо было повесить и твоего Оленина…
– Он не мой.
– Но я дал тебе слово, что его не трону.
Амалия смотрела на него – и не верила своим ушам, своим глазам. С ней говорил самый близкий, самый преданный королю человек, глава его охраны, создатель шпионской сети, не подчиняющейся никому, кроме самого Войкевича, и все под предлогом безопасности монарха и его семьи! И ладно Стефан, который не отличался особым умом, не сумел вовремя его раскусить; но она, так гордившаяся своей сообразительностью, – как? Как она не поняла, что положение Войкевича давало ему больше всего преимуществ для осуществления государственного переворота? Все при дворе знали, что Войкевич окружил короля своими людьми, и это касалось не только охраны, он даже в личные секретари продвинул своего родственника – и никто, никто ничего не заподозрил? Почему? Потому что он до поры до времени ловко скрывал от всех свои честолюбивые устремления? Или потому, что он на самом деле был совсем не тем, кем казался, – дамским угодником, взяточником, которого не интересует ничего, кроме денег, и недалеким военным, каким его считал и умнейший Петр Петрович Оленин? Но кем же он был на самом деле? И какие цели он преследует сейчас, когда, по-видимому, так близок к тому, чтобы добиться своего?
А еще Амалия поняла, что ей никогда не нравилось слово «преданный». В русском языке оно, как двуликий Янус, обозначает и того, кто предан сердцем и душой, и того, кого предают. А где-то совсем неподалеку от него и слово «предатель».
Она отвела глаза. Ей совершенно не хотелось с ним говорить, не хотелось его видеть. На маленьком столике в углу была брошена начатая шахматная партия, в комнате находились и другие вещи, принадлежавшие прежнему хозяину, бывшему наследнику престола. Какое скверное слово «бывший», пахнущее забвением и смертью. Уж в Иллирии – почти наверняка.
– Где его высочество? – спросила Амалия вслух.
То, что она в такой момент оказалась способна спрашивать о Михаиле, задело Войкевича куда сильнее, чем если бы она набросилась на него с упреками. Тем не менее он ответил:
– Арестован. Как и все остальные.
– Зачем? – спросила Амалия.
– Что – зачем?
– Зачем все это? Ты обязан всем королю Владиславу, и сам Стефан…
Она поняла, что говорит совсем не то, что нужно. Какая разница, в самом деле, обязан или не обязан – важно, что он сделал то, что сделал.
Вошел какой-то офицер с синей повязкой, покосился на Амалию. Войкевич тотчас же подошел к нему, и они о чем-то заговорили быстрым шепотом. В конце разговора Войкевич, очевидно, отдал какие-то приказания, лицо офицера просияло. Он козырнул и удалился, прикрыв за собой дверь. Милорад собирался вернуться на место, но передумал и сел за столик с шахматами.
– Шах, – сказал он, переставив одну из фигур. – И мат. Люблю шахматы, но плохо то, что они не отражают реальную жизнь. Пешка может превратиться в ферзя, но король никогда не может стать пешкой. А между тем многие короли не заслуживают ничего, кроме этого звания.
И он со значением посмотрел на Амалию.
– Поэтому ты решился поставить Стефана на место? – мрачно спросила она.
– А ты считаешь его достойным правителем? – вопросом на вопрос ответил Милорад.
– Он – законный правитель, – вывернулась Амалия. Однако она понимала, что ее собеседника этот довод не убедит.
– Которого ты с помощью детской уловки заставила подписать выгодный твоей стране договор, который идет вразрез с нашими интересами. Да-да, ты не ослышалась – детской уловки. И если она тебе удалась, то только потому, что я не стал тебе мешать. Я говорил тебе, что я всегда буду на шаг впереди тебя? Мне даже было выгодно то, что ты делаешь. Каждая новая выходка Стефана, каждая его безумная трата приближала меня к цели. Ведь когда король сорит деньгами, сорит бездумно и глупо, все видят, чем он занимается, и начинают роптать. Потому что расходы королевских особ ложатся тяжелым бременем на плечи тех, кто работает и платит налоги. А люди устали содержать свору никчемных бездельников только потому, что они носят корону и называются «ваше величество».
– И давно ты стал таким… республиканцем?
– Я не республиканец, – спокойно ответил Войкевич, – но я люблю мою страну. Я просто патриот, Амалия. Стефан оказался плох не потому, что он король, а потому, что он никчемный правитель. Ты даже не представляешь, сколько усилий я приложил, чтобы он не предавал свою родину. Если бы не я, он бы давным-давно раздарил Иллирию ее врагам. Это человек, у которого нет ни масштабного ума, ни понятия о государственных интересах. Владислав подозревал, что его сын не годится для того, чтобы управлять государством, и поэтому написал подробное завещание. Но даже оно не могло удержать Стефана от глупостей, и незадолго до твоего приезда он едва не отдал Дубровник австрийцам.
Верно, вспомнила Амалия, завещание… Государственный почерк! И ведь интуитивно она тогда поняла, кем Войкевич был на самом деле, – поняла, но не обратила на это внимания.
– И давно ты до этого додумался? – сухо спросила она. – Я имею в виду coup d’Etat[220].
Войкевич с вызовом посмотрел на нее.
– Хочешь знать правду? Я с самого детства во всем был лучше Стефана. Лучше знал латынь и лучше лазал по деревьям, лучше запоминал стихи и лучше фехтовал. Покойный король полагал, что я послужу его сыну хорошим примером и, глядя на меня, он чему-то научится. Но Стефан всегда оставался самим собой, легкомысленным и никчемным. Когда он стал наследником, ничего не изменилось. И ведь не я один видел, что Стефан не годится для того, чтобы управлять страной. На то же самое Владиславу намекали и граф Верчелли, и Иванович… даже Михаил, но это ничего не изменило. Когда Стефан стал королем, я решил оставаться в тени и незаметно осуществлять управление вместо него. Чтобы не возбуждать подозрений, я вел себя как все – брал взятки и делал вид, что участвую в интригах. На самом деле мне ничего не было нужно. Я всегда в глубине души оставался честным человеком, но не имеет смысла быть честным среди подлецов. Когда ты окружен ими, ты должен быть самым подлым и самым изворотливым. Уверен: Оленин говорил тебе обо мне нечто подобное, – добавил он со смешком.
– А если бы Стефан оказался достойным наследником своего отца? – спросила Амалия. – Что тогда?
– Тогда я бы с радостью оставался его адъютантом, только и всего. Но нет никакого смысла в том, чтобы хранить преданность тому, кто в любой момент может предать тебя самого. И когда я понял, что достаточно одного королевского каприза, чтобы меня погубить, и еще одного, чтобы погубить всю страну, я стал задумываться о том, что могу сделать. До Лотты я кое-как справлялся с ситуацией, но когда появилась балерина, мне стало гораздо труднее. Потом ты… И еще Кислинг, который догадался, что по каким-то причинам я играю против него. Когда я тебя увидел, то решил, что ты поможешь мне избавиться от Лотты, постаравшись завоевать короля. Потом мне очень понравилось, что ты не стала этого делать… Я тогда впервые посмотрел на тебя совсем другими глазами, – добавил он как бы про себя.
Ах вот, значит, в чем была истинная причина его интереса к ней…
– Однако ты придумала совсем другой план, очень простой, но изобретательный, и стала претворять его в жизнь. Меня он вполне устраивал, но потом австрийцы все-таки взяли верх, и Стефан лишил меня своего доверия и звания адъютанта.
Верно, вспомнила Амалия. И тот подслушанный обрывок разговора между Милорадом и его кузеном, в котором Войкевич говорил о своих планах… О своих великих планах, которые, казалось, сорвались! В каком отчаянии, наверное, он находился тогда!
– Но ты без труда сумел выпутаться, – язвительно заметила она. – Ты знал о тайной организации и через своих провокаторов подтолкнул одного из ее членов совершить покушение на ипподроме.
Однако Милорад твердо покачал головой.
– Мне было известно немного, но я чувствовал – что-то готовится. Крестьяне в Далмации волновались, на границе едва не вспыхнул бунт… недовольство нарастало, только здесь, в столице, оно куда менее заметно. И меня очень насторожило убийство одного из наших агентов, такие вещи не делаются просто так. – Он посмотрел на напряженное лицо Амалии и улыбнулся. – Ты мне не веришь? По-твоему, я все это подстроил и схватил своих же сообщников, которые обо мне не подозревали? Но это неправда. Все было так, как я тебе рассказываю.
– Зачем ты спас Стефана? – напрямик спросила Амалия. – Потому, что в случае его смерти королем стал бы Михаил, на которого ты не имел никакого влияния?
– Я ничего не имею против Стефана лично, – холодно ответил Милорад. – Я спас его, как спас бы любого другого человека… точно так же, как ты заслонила его дочь, не строя никаких расчетов, не думая о том, что тебя, может быть, убьют. Счастье этого мерзавца, что он в тебя не попал, иначе я не ограничился бы расстрелом холостыми. Но все обошлось, и король вернул меня обратно, что сильно облегчило мою задачу.
Да, подумала Амалия с горечью, он-то не допускал промахов, а если и допускал, то всегда оказывалось так, что они работали на него. А ее собственный блестящий план – втянуть Стефана в расходы, заполучить его долговые расписки и заставить подписать договор о Дубровнике – провалился из-за одного-единственного неучтенного элемента, из-за человека, который стоял теперь напротив нее. В какой-то момент ей показалось, что она добилась своего, и король подписал нужный России договор, но Войкевич теперь просто-напросто откажется его признавать. Она выиграла – и проиграла. Сколько усилий, сколько уловок, сколько денег, в конце концов… и все напрасно, все!
Или не все?
– Почему ты стоишь? – внезапно спросил Милорад. – Садись. Я думаю, нам еще есть о чем поговорить.
Амалия села на первый попавшийся стул и попыталась собраться с мыслями. Войкевич ведет себя очень уверенно, как если бы он полностью владел ситуацией. Предположим, что он прав, армия и народ за него и королевской семье не удастся бежать и сражаться за то, чтобы Стефан оставался на престоле. И что тогда?
Тогда российскому правительству придется иметь дело с новыми властями Иллирии. И тут многое может зависеть от того, сумеет ли Амалия найти с непредсказуемым генералом общий язык.
(Ах, щучья холера, она уже согласна называть его генералом!)
Ну, генерал так генерал, тем лучше для вчерашнего полковника!
– Поговорим о Дубровнике, – предложила Амалия.
От нее не укрылось мелькнувшее на лице ее собеседника разочарование, но она не догадывалась о его причине. На самом деле Войкевич собирался говорить об их отношениях и то, что она начала беседу о политике, ему не понравилось.
– Договор, который подписал Стефан, более недействителен?
– Разумеется. Я не стану действовать против интересов своей страны. Впрочем, могу тебе пообещать, что австрийцев в Дубровник не пущу тем более.
– А что будет с королем и наследником?
Милорад нахмурился. Она снова упоминает наследника – с чего бы это?
– Все зависит от того, насколько разумно они себя поведут. Меня вполне устроит документ об отречении, который будет предан гласности.
– А если Стефан откажется отречься, что тогда?
Милорад пожал плечами.
– Ну, его дядя Христиан не стал долго колебаться. К тому же в следующем году в Париже должна пройти международная выставка, там будет на что поглядеть.
– России это не понравится, – уронила Амалия, зорко наблюдая за ним.
– Что не понравится – выставка? – улыбнулся Войкевич.
– Нет. Низложение законного монарха.
Генерал Войкевич откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Улыбка его сделалась еще шире.
– И что вы сделаете? Пошлете против меня армию? Или натравите на Иллирию Сербское королевство? Давно мечтал присоединить их земли к нашей территории.
– Это не смешно, Милорад.
Войкевич уловил, что она назвала его по имени, и приободрился.
– Конечно, не смешно – если бы мы объединились, мы бы контролировали всю эту часть Европы. Блажевич, помнится, мечтает о чем-то подобном, а у него в Белграде большие связи.
Амалия пристально посмотрела на него.
– Ты проиграешь, – сказала она.
– Разумеется, я не собираюсь присоединять Сербию прямо сейчас, но…
– Нет. Я имею в виду Иллирию, Милорад. Ты проиграешь. Монархии Европы были согласны терпеть твое государство, когда им управлял король, который всем им приходится родственником. Но с тобой они церемониться не будут. Австрийская империя совсем рядом, а ты казнил их агентов. С Россией ты дружить не хочешь, Германия – союзница Австрии, а Англия и Франция далеко. Тебя уничтожат, это всего лишь вопрос времени.
Войкевич перестал улыбаться.
– Не надо меня запугивать, Амалия.
– Я никого не запугиваю. – Амалия поднялась с места. – Сегодня ты властелин Иллирии, не спорю. Но ты сидишь в чужом дворце и доигрываешь партию, которую начали другие.
Она сделала шаг к двери.
– Постой! – крикнул Милорад. Он вскочил с места и догнал ее. – Постой. Ты больше ничего не хочешь мне сказать?
– А что я должна сказать?
– Думаешь, я вызвал тебя, чтобы говорить о Дубровнике, о шахматах, о Российской империи? Нет, черт побери!
– А о чем еще мы можем говорить?
Он взял ее за руки и заглянул в глаза, но пальчики, которые он держал, сразу же попытались выскользнуть из его рук, а глаза были – нет, не сердитые, но как у человека, ушедшего в свои мысли, в которых для него больше нет места. И это его обескуражило.
«Неужели она все-таки была неравнодушна к этому болвану Михаилу? Или тут что-то еще?»
– Послушай, – начал он. – То, что я сделал, я сделал для своей страны, но…
Он собирался сказать, что перемена его положения никак не сказалась на нем самом, что он-то остался прежним, но Амалия не дала ему договорить.
– Ты предатель! – вспылила она. – Ты предал людей, которые тебе доверились! Ты смотрел им в глаза, сидел с ними за одним столом – и предал их!
– Амалия!
– Да, ты предатель! И никакие высокие слова этого уже не изменят!
– Я предатель? – вскипел Войкевич. – А как тогда назвать тебя? Помнишь лейтенанта Галича? Ему было всего 18 лет! Кто подал королю идею устроить скачки, а? И этот молодой лейтенант… он упал с лошади и погиб! А у него остались мать, которая его обожала, и две сестры, которые души в нем не чаяли! Скажи мне честно: по отношению к ним ты сама – кто? Что, ты не разрушила их жизнь? Ну же, скажи, что ты молчишь! Из-за тебя… из-за твоих затей с казино и скачками разорялись люди и распадались семьи! Это хорошо? Посмотри мне в глаза и скажи, что это хорошо!
Но Амалия только молча высвободила свои руки и подошла к выходу. И по ее спине, даже не видя выражения ее лица, Милорад понял, что это конец.
– Если хочешь попросить меня о чем-то… – безнадежно начал он.
Если бы она в это мгновение хоть как-то показала, что простила, или что может простить его, он бы, наверное, упал к ее ногам и по ее первому требованию отдал бы ей и иллирийскую корону с огромным рубином, и даже военно-морскую базу в Дубровнике, из-за которой она приехала сюда. Но Амалии было неуютно находиться с ним в одной комнате, и поэтому она сказала только:
– Петр Петрович рассказывал мне, что, когда в Иллирии произошла первая революция, в Любляне перебили всех лебедей потому, что их особенно любила изгнанная королева Фредерика. – Амалия вздохнула. – Я бы хотела, чтобы лебедей в Тиволи не трогали. Это все.
И, не сказав более ни слова, даже не попрощавшись, она вышла из комнаты и навсегда покинула дворец бывшего наследника.
Вечером Амалия, Муся и Андрей сели на поезд, который должен был увезти их из Любляны. Обычно полупустой в это время года, сейчас он был полон беженцев, которые спешили покинуть столицу. Ехавший в соседнем купе знакомый Амалии – бывший иллирийский придворный – уверял ее, что нынешнее восстание продлится недолго, месяц или два, и все вернется на круги своя. Но Амалия отныне слишком хорошо знала Войкевича и понимала, что свою власть он не отдаст никому.
Они выехали на час с четвертью позже, чем должны были по расписанию. Стоило Амалии сказать, что она хочет пить, как Андрей сразу же побежал за водой. Вообще, Муся и Андрей обращались с ней как с тяжелобольной, между собой переговаривались шепотом и в ее присутствии старались вести себя как можно тише. Им казалось чудом, что она вернулась целой и невредимой – от прислуги они уже знали, что в городе вовсю шли погромы и грабежи. Ночью поезд пересек австрийскую границу, и Иллирия окончательно осталась позади.
Может быть, Амалия оставила там кусочек своего сердца. Но об этом она не сказала никому.
Послесловие автора
Читатель, перевернув последнюю страницу, наверняка пожелает узнать побольше о загадочной стране Иллирии. Поэтому автор хотела бы сразу же объяснить, что такой страны не существует. Точнее, она существует, но только в воображении нескольких поколений сочинителей разных стран.
Придумал Иллирию хороший французский писатель, друг нашего Тургенева Альфонс Доде, и выдумка оказалась настолько удачной, что несколько авторов – в том числе и ваша покорная слуга – подхватили идею и создали свои книги, действие которых также происходит в этой стране. В реальности имелись только Иллирийские провинции – при Наполеоне, тоже, кстати сказать, пробовавшем когда-то свои силы в литературе. Правда, основным его занятием было все же не написание книг, а перекраивание карты Европы так, как ему заблагорассудится.
Тем не менее далеко не все в романе является вымыслом. Конечно, города Любляна и Дубровник, парк и замок Тиволи в Любляне, флаг с драконом, сидящим на башне, упомянутые в книге архитектурные памятники и многое другое существуют в действительности. Политика тогдашней Австро-Венгрии, направленная на подчинение всего региона, – также реальный факт. Что касается Стефана и его падения, то истории известно достаточно королей, которые теряли свои троны, и людей, которые эти троны захватывали и, по сути, становились более могущественными, чем любой из наследных монархов.
Автор надеется, что его Иллирия доставила читателю хотя бы часть того удовольствия, которое дала ему, к примеру, упомянутая у Конан Дойла Богемия («Скандал в Богемии») или придуманная Стендалем Парма («Пармская обитель»). Если эта скромная цель будет достигнута, автор будет считать, что ее задача полностью выполнена.
Валерия Вербинина Одна ночь в Венеции
Роман основан на реальных событиях
Глава 1 Царство кудесника
К дому номер 21 по рю де ля Пэ подъехал большой красный автомобиль и не без труда сумел припарковаться в веренице машин и колясок, стоящих вдоль тротуара в несколько рядов. Из автомобиля вылез грузный господин в очках и помог выбраться своей спутнице – прелестной молодой женщине в каштановых кудрях, выбивавшихся из-под высокой шляпки, украшенной цветами. Ее нежное оживленное личико являло странный контраст с огромными, бездонными, почти черными глазами, которые оставались грустными даже тогда, когда она улыбалась, а ресницы были такие густые и длинные, что любая нынешняя кинозвезда умерла бы от зависти. Светлое платье молодой женщины было того иллюзорно простого фасона, который дается только очень хорошим портным и при неумелой попытке скопировать его тотчас же превращается в тусклую непритязательную тряпочку. На тонких пальчиках незнакомки красовалось несколько дорогих жемчужных колец, которые, однако же, ровным счетом ничего не могли прибавить к цветущей прелести их обладательницы.
Что касается спутника незнакомки, то достаточно будет сказать, что он был раза в два старше сопровождавшей его красавицы и в доме под номером 21 его прекрасно знали. По крайней мере, мадемуазель Беттина, всегда сидевшая на первом этаже возле окна, из которого были прекрасно видны все, кто направлялся к зданию, тотчас же сняла с рычага трубку телефона и позвонила наверх, своему патрону месье Дусе, и доложила:
– Месье, тут турок со своей одалиской. Вы примете их сами или ими займутся продавщицы?
Жак Дусе тихо вздохнул. Он был против того, чтобы в его модном доме – одном из лучших в Европе, кстати сказать, – клиентов награждали кличками, но попробуйте-ка привить уважение к клиентам языкастым продавщицам, которые всех покупательниц видели, можно сказать, без ничего и знали наперечет их недостатки, равно как и мельчайшие подробности их жизни. Так, некая особа королевских кровей, сама того не зная, для служащих дома номер 21 превратилась в «ворону», потому что всем цветам предпочитала черный, русская княгиня, чья худоба могла поспорить только с ее же высокомерием, получила прозвище «драная кошка», а газетный магнат и известный бабник Жозеф Рейнольдс, родившийся в Константинополе, именовался не иначе, как «турок» и «синяя борода». И это, уверяю вас, еще цветочки. Некоторые клички не доходили до ушей хозяина, между собой же служащие и закройщицы давали себе волю и не щадили ни своих родовитых клиенток, ни тех, кто оплачивал их счета. К примеру, в помещениях модного дома можно было услышать такой разговор:
– Лоло, поаккуратнее с платьем мадемуазель Лианы. В этом году она не ездила в Виши и наверняка прибавила в талии.
– Рассказывай! – фыркает Лоло. – Ее бросил граф де Р., так что у нее появился отличный повод похудеть.
Или:
– Франсуаза, что вы столько возитесь со шлейфом для платья герцогини Г.?
– Так у нее зад, как рояль, – ворчит закройщица, – только клавиш не хватает, чтобы давать представления на сцене… полные залы могла бы собирать…
– Ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха!
Родовитая герцогиня вмиг обретает прозвище «рояль», и когда ее автомобиль в следующий раз появится на улице Мира, Беттина будет докладывать о ней патрону или заменяющей его старшей продавщице так:
– К нам пожаловал рояль со своей левреткой.
Кстати, поясним: «левреткой» служащие окрестили секретаря и по совместительству любовника герцогини, который действительно чем-то напоминал эту собачку.
Впрочем, сейчас речь вовсе не о герцогине, а о богаче Рейнольдсе, который завел очередную пассию и привел ее в самый утонченный, самый изысканный, самый роскошный парижский модный дом. Определенно, такой клиент стоил того, чтобы к нему вышел сам хозяин, однако месье Дусе не торопился с ответом.
– Баронесса Корф еще не приехала? – спросил он наконец.
– Нет, месье, она опаздывает.
– Тогда проводите месье Рейнольдса и мадемуазель Лантельм во вторую примерочную, и пусть к ним подойдет мадам Флерон.
– Но мадам Флерон занята в третьей примерочной.
– Тогда мадемуазель Бланш.
– Она помогает мадемуазель д’Арти с платьем к новой пьесе. – Беттина немного поколебалась: – Если вам угодно, я могу…
– Нет, вы мне нужнее на своем месте. Мадемуазель Вионне свободна?
– Да, но… – Беттина распрямилась на стуле, не веря своим ушам. – Вы хотите, чтобы мадемуазель Вионне занялась мадемуазель Лантельм?
– Именно так, моя добрая Беттина.
– Месье, простите, но я не могу согласиться. Это верный способ отпугнуть клиентку! Мадемуазель Вионне и ее наряды…
Месье Дусе добродушно рассмеялся.
– Почему-то никому из вас не нравятся наряды мадемуазель Вионне… Довольно споров. Пошлите ее к мадемуазель Лантельм и предупредите меня, когда появится баронесса Корф.
По тону патрона стало понятно, что возражать бесполезно.
– Хорошо, месье… Конечно, месье.
Беттина послала младшую продавщицу за мадемуазель Вионне и, вопреки распоряжению хозяина, отправилась лично встречать вновь прибывших. Рейнольдс, блестя стеклами очков, улыбался и гордо косился на свою любовницу, не обращая внимания на изумительную мебель XVIII века, изысканные консоли и старинные зеркала, которыми Дусе, поклонник той эпохи, щедро обставил свой модный дом.
– Прошу, мадемуазель, сюда… Ваш портрет на обложке последнего номера «Моды» просто великолепен! А ваша новая пьеса… Я была на представлении, вы так проникновенно играли, просто чудо! – рассыпалась в комплиментах Беттина. – «Париж – Нью-Йорк» в театре Режан, верно? Ну конечно же! Такая забавная комедия!
Мадемуазель Лантельм любезно улыбалась, но по лицу актрисы Беттина поняла, что та ей не верит.
«Мою роль на репетициях сократили до одной-единственной сцены», – усмехнулась про себя красавица Лантельм. Ну да, ведь, не дай бог, она бы затмила стареющую примадонну Режан, которая верховодит в театре… Ох уж эти старухи, которые везде норовят всем заправлять, и эти невыносимые старики! Актриса украдкой метнула взгляд на Рейнольдса. Для своих лет тот выглядит еще прилично, хотя ей отлично известно, что на самом деле ее спутник форменная развалина. Приступы астмы, головокружение, на которое он иногда жалуется, звон в ушах… Если бы не его деньги и связи в театре, которые ей еще нужнее денег… Взгляд упал на зеркало, в котором отражались они оба и рядом тоненькая фигурка что-то щебечущей седовласой мадемуазель Беттины. Но Лантельм смотрела только на себя и своего сопровождающего. Красавица и чудовище, да и только! Но вот позади растворилась дверь, и актриса, инстинктивно обрадовавшись появлению нового лица, поспешно повернулась к нему.
На пороге стояла мадемуазель Вионне, новая служащая Дусе. Простая прическа, простая одежда, никаких украшений. Взгляд умный, пытливый, лицо приветливое, но в то же время какое-то замкнутое.
Занятно, но факт: что Поль Пуаре, что Мадлен Вионне, будущие знаменитые модельеры, оба начинали у Дусе. И обоих старые служащие встретили в штыки. От Пуаре они в конце концов сумели избавиться, но на смену ему явилась эта молодая женщина, которая начала работать в четырнадцать лет и с тех пор успела постичь все тонкости своего ремесла. Хотя она всегда была любезна и в отличие от ершистого Пуаре ни с кем не ссорилась, продавщицы инстинктивно чуяли в ней нечто враждебное, инородное, чуждое модному дому Дусе с его устойчивыми традициями – струящиеся шелковые платья и пастельные полутона. Смелые эскизы Марлен повергали их в трепет, и сейчас Беттина не без злорадства предвкушала, как мадемуазель Лантельм – а продавщица уже успела заметить, что характер у актрисы тот еще! – устроит во второй примерочной маленькую бурю, после которой месье Дусе, пожалуй, будет вынужден дать «этой нахалке Вионне» расчет. Поэтому улыбка мадемуазель Беттины, когда она представляла друг другу новую служащую и актрису, была особенно сладкой.
– Вам угодно туалет для представления, мадемуазель? – спросила Мадлен.
– Нет, я… – Лантельм запнулась. По правде говоря, идея заехать к Дусе принадлежала Рейнольдсу, но ей не хотелось говорить об этом. – А что у вас есть интересного?
– Я могу показать вам эскизы, – оживилась Вионне.
Если бы это зависело только от мадемуазель Беттины, она бы осталась и с удовольствием послушала, как Лантельм поставит на место новую служащую с ее несуразными моделями. Но тут в дверь негромко постучали, и вслед за тем в примерочную просунулась набриолиненная голова месье Поля, одного из служащих. На физиономии его было написано живейшее недовольство.
– Мадемуазель Беттина, там баронесса Корф…
– Ах, боже мой! – тихо вскрикнула Беттина и бросилась к выходу. – Скорее предупредите патрона!
Позже месье Поль уверял, что пятидесятилетняя дама промчалась на каблуках по лестнице, ведущей на первый этаж, так быстро, словно за ней гнались черти, собирающиеся силой надеть на нее одно из платьев мадемуазель Вионне. Впрочем, сбежав с лестницы, мадемуазель Беттина на мгновение остановилась, прижав ладонь к груди, и двинулась дальше уже обычным шагом. Одновременно она поторопилась изобразить на лице самую приветливую из своих улыбок, ибо эта дама в совершенстве владела трудным искусством придавать ему по желанию любое выражение, как бы надевать маску, точно так же, как другая, к примеру, надевает перчатки.
– Госпожа баронесса! Как мы рады вас видеть! И мадемуазель тоже с вами? Надо же, как она повзрослела! Луиза! Луиза!
Госпожа баронесса – красивая блондинка средних лет – только улыбнулась, а девочка семи лет, которую она держала за руку, порозовела и опустила глаза.
На зов Беттины тотчас же явилась Луиза, служащая модного дома, которой вменялось в обязанности заниматься детьми клиентов, коих те приводили с собой. Обычно Луиза мастерила для них из обрезков ткани чудесных тряпичных кукол, но маленькая Ксения была ее любимицей, и специально к сегодняшнему визиту Луиза сшила для нее из разноцветных кусочков бархата ящерицу с глазами-бусинками и хвостом, свернутым спиралью. Ксения приняла подношение с видом благонравной принцессы, у которой и так хватает подарков от признательных подданных, но из учтивости она никогда этого не покажет.
Тем временем из своего кабинета спустился месье Дусе, предупрежденный Полем. Хозяин приветствовал баронессу и, отослав Беттину, лично проводил гостью в первую примерочную. Та, как и все другие примерочные, представляла собой небольшие апартаменты, где имелись собственно кабина для примерки, салон для просмотра моделей и уголок, в котором могли скоротать время спутники клиентки – так как ждать им порой приходилось очень долго.
По размерам каждой из клиенток в модном доме делался специальный манекен, на котором подгоняли платье. Но когда наступало время примерки, вдруг выяснялось, что дама прибавила несколько сантиметров тут или там, либо, наоборот, похудела, либо деталь, которая выглядела красиво на эскизе и манекене, ей самой совершенно не идет. Нередки были и случаи, когда клиентка требовала переделок в последнюю минуту – добавить или убрать шлейф, изменить вышивку, удлинить или укоротить рукава, а уж о бессмысленных женских капризах любой модельер мог бы написать тома воспоминаний. Поэтому, когда Амалия в сопровождении Ксении, хозяина дома и Луизы вошла в первую примерочную, ее там уже ждали младшая продавщица мадемуазель Гренье с платьем и мадемуазель Оберон, в чьи обязанности входили как раз такие переделки.
Ксения уселась в уголке со своей ящерицей, возле нее устроилась мадемуазель Луиза, а Амалия удалилась в примерочную кабину в сопровождении мадемуазель Гренье, которая должна была помочь ей облачиться в новое платье. Месье Дусе и мадемуазель Оберон остались в салоне.
– Думаю, все будет хорошо, – сказала мадемуазель Оберон вполголоса. – Со своего прошлого визита к нам она ни капли не изменилась.
Месье Дусе ничего не ответил и приготовился ждать, когда баронесса выйдет.
Жак Дусе родился в 1853 году, и сейчас, в 1907-м, ему было уже пятьдесят четыре года. Седоволосый, с белоснежной бородой и усами, он выглядел как патриарх, держался с невероятным достоинством и при этом одевался с безупречной элегантностью, оставлявшей далеко позади молодых денди. Еще при Наполеоне, в 1811 году, его предки основали дело, которое Жак с успехом продолжил, но если прежние хозяева занимались в основном кружевами и мужскими сорочками, он куда больше внимания уделял женской одежде и вскоре, благодаря своему вкусу и коммерческому чутью, сумел выдвинуться в первые ряды модельеров прекрасной эпохи. Месье Дусе одевал аристократок и актрис, куртизанок и жен богатых буржуа, и к каждой из дам этих категорий сумел найти свой подход. Созданные им наряды были женственны, восхитительны и элегантны, а его дом стал настолько знаменит, что нынешний его патрон мог себе даже позволить пренебрегать рекламой. Но, потратив массу времени и усилий на то, чтобы занять свое место под солнцем, добившись богатства, процветания, славы и сделав себе имя, он вдруг почувствовал, что ему все опостылело. Проще говоря, месье Дусе разлюбил свое дело.
Да, разлюбил – не моду как таковую, не искусство создавать красоту, но именно то, что приносило ему доход. Потому что достаточно насмотрелся на родовитых герцогинь, которые вели себя с ним, как обыкновенные базарные хамки. И даже хуже. Ведь любая базарная торговка была бы счастлива, получив от него платье, а эти любые усилия принимали как должное и не ценили ничего. Ему опротивели узколобые мещанки, высокомерные иностранные княгини, капризные актрисы, модные парижские потаскушки, их содержатели, мужья, друзья, любовники, альфонсы. Со всей этой шушерой надо было находить общий язык, подлаживаться под их интересы и нравиться, нравиться, нравиться без конца, иначе клиенты переметнутся к Ворту, к Пакэн, к сестрам Калло, к Редферну… да хотя бы к тому же Полю Пуаре, его бывшему служащему. Дусе почувствовал, что устал, что все ему безмерно надоело.
Мало-помалу он переложил свои обязанности на помощников, оставаясь во главе дела и осуществляя общее руководство, и теперь посвятил себя тому, что было намного интереснее – коллекционированию предметов искусства и собиранию книг. Что же до моды, то к ней он почти охладел. Месье Дусе правил эскизы своих помощников, но с клиентками встречался редко, ссылаясь на чрезвычайную занятость. Оставалось, впрочем, несколько исключений – женщины, для которых он по-прежнему создавал платья с удовольствием. Одной из таких женщин была баронесса Амалия Корф.
Амалия всегда интриговала Дусе. За свою карьеру он перевидал немало самых разных людей, но эта блондинка с золотистыми глазами всегда ставила его в тупик. Прежде всего она не принадлежала ни к одной из известных ему категорий. Аристократка по титулу, баронесса не разделяла привычек и убеждений аристократии, и балы, охоты, скачки, званые вечера для нее мало что значили. При всем при этом было известно, к примеру, что она на «ты» не с кем-нибудь, а с вдовствующей императрицей Евгенией – факт, который чрезвычайно удивлял аристократов, знавших жену Наполеона Третьего. Свои платья баронесса Корф всегда оплачивала сама, из чего напрашивался вывод, что она богата. Однако за ней не вырисовывалась тень семейного дела или большого наследства. Злые языки уверяли, что Амалия авантюристка и чуть ли не шпионка, но никто не мог сказать ничего определенного. Женщина явно была умна, и вырывавшиеся у нее замечания показывали, что она хорошо знает жизнь и не обольщается ни на чей счет, но это опять-таки ничего не доказывало.
В конце концов месье Дусе смирился с тем, что какую бы загадку ни таил в себе этот золотоглазый сфинкс, ему не под силу разгадать ее. Хозяин модного дома и его клиентка разговаривали об искусстве, о театре, о моде, он создавал для баронессы изысканные туалеты, демонстрировал ей свои новые приобретения и несколько раз в год получал приглашения отобедать в ее парижских апартаментах – на правах друга семьи, потому что званых обедов Амалия Корф почти не устраивала. Ему импонировали ее независимость и чувство юмора, редкое для женщины. Кроме того, она была хороша собой, прекрасно сложена, и придумывать для нее наряды было удовольствием, тем более что за свои заказы дама всегда платила точно в срок.
Услышав шуршание шелковых оборок, Ксения с любопытством подняла голову. Из кабинки показалась ее мать, за которой следовала мадемуазель Гренье, на ходу поправляя какую-то складку на наряде клиентки. Дусе, прижав к губам палец, задумчиво смотрел на платье.
– Переставьте вот это, – вполголоса велел он мадемуазель Оберон, указывая на одну из вышитых роз, – вот сюда. Здесь надо приподнять… А здесь добавить оборок.
Амалии казалось, что можно обойтись и без переделок, но она привыкла уважать мнение специалистов и воздержалась от возражений. Раз Дусе считает, что платье надо доработать, значит, так и есть. Баронесса прошла вперед несколько шагов, повернулась, проверяя, как сидит платье, приподняла руки, повела плечами. Ксения следила за ней с восхищением.
– По-моему, прекрасно, – обронила наконец Амалия.
В то же время во второй примерочной мадемуазель Лантельм внимательно рассматривала эскизы, которые ей принесла мадемуазель Вионне. Рейнольдс, прекрасно сознавая, что он тут лишний, удалился покурить.
– А кто сейчас в первой примерочной? – внезапно спросила актриса.
Все примерочные модного дома были обставлены почти одинаково, но почему-то клиентки Дусе считали, что первая примерочная – самая лучшая и достается далеко не каждой из них. Разумеется, служащие не слишком стремились разуверять дам, смекнув, какую выгоду можно извлечь из номера первого. Ради того, чтобы попасть в заветное помещение, затевались невероятные интриги, и очень жаль, что история не сохранила подробностей ссоры виконтессы де Р. и герцогини д’О., которая разгорелась как раз из-за первой примерочной. Достоверно, впрочем, известно, что разгневанная виконтесса прозрачно намекнула герцогине на ее возраст, а та в ответ весьма неделикатно проехалась по сомнительному происхождению самой виконтессы, после чего в ход пошли зонтики, а мадемуазель Беттина единственный раз за все время работы у Дусе ощутила желание вызвать полицию. Понадобился весь такт хозяина, чтобы уладить конфликт, но даже патрону не удалось убедить дам, что первая примерочная ничем не лучше остальных. В конце концов он смирился, и со временем прием клиентки в этом помещении действительно стал признаком ее особого статуса в модном доме. Тем и объяснялось любопытство мадемуазель Лантельм, которая одевалась у Дусе и прекрасно знала местные распорядки.
– По правде говоря, я не знаю, кто там сейчас, – смутилась Мадлен Вионне.
– Наверняка какая-нибудь страхолюдная носатая герцогиня, – предположила актриса со смехом. И, не удержавшись, выскользнула в коридор, а затем приоткрыла дверь первой примерочной.
В следующее мгновение она увидела даму в светлом шелковом платье, которая стояла к ней спиной, а в углу за столиком – девочку лет семи, восхищенно глазеющую на нее. Совершенно успокоившись, Лантельм затворила дверь и вернулась к себе. Разумеется, мать такого большого ребенка никак не могла соперничать с ней самой. Эта мысль привела актрису в необыкновенно хорошее настроение, и она объявила Мадлен, что берет все ее модели[221].
А Амалия, которая не обратила никакого внимания ни на приотворенную дверь, ни на мелькнувшие в щели темные глаза, полные жгучего любопытства, уже рассматривала эскизы полосатого платья, которое нарисовал для нее Дусе. Хотя моя героиня была предубеждена против полосок, клетки и прочих геометрических рисунков в одежде, она не могла не признать, что модель получилась на редкость удачной и эффектной, и, конечно, она произведет фурор в любом месте.
– К такому платью нужна отдельная сумочка, – заметила только Амалия. – И веер, также в полоску.
Дусе понял, его модель одобрена, и сказал, что сумочку они, разумеется, сделают, а насчет веера обратятся в фирму Кееса или Дювельруа, где их изготавливают. Одним словом, никакой проблемы.
– В таком случае, – кивнула Амалия, – я рассчитываю на вас, мэтр… Когда мадемуазель Оберон закончит с отделкой сегодняшнего платья, дайте мне знать.
– Разумеется, сударыня, – ответил Дусе, кланяясь.
И он проводил Амалию с Ксенией до выхода, пообещав, что баронессе позвонят, едва наряд будет совершенно готов.
Глава 2 Явление дуэлянта
Стоял восхитительный солнечный день, как раз такой, когда особенно приятно ехать в открытом автомобиле и предаваться рассеянным мечтам. Шофер Антуан уверенно управлял машиной, и Амалия подумала, что через несколько минут они будут дома, а к обеду придет старший сын Михаил, который тоже сейчас находится в Париже. Маленькая ручка Ксении лежала в ее ладони, и Амалия, поймав взгляд дочери, улыбнулась.
– Все хорошо? – спросила она. Просто так, без всякой причины.
Ксения заулыбалась в ответ и тряхнула головой, продолжая рассматривать подаренную ей ящерицу. Мысли Амалии меж тем текли своим чередом. «О портрете я уже договорилась… Может быть, он согласится нарисовать нас с Ксенией вдвоем? Хотя, наверное, ему будет тяжело – она такая непоседа… Или подождать, пока будет готово новое платье, эскизы которого мне показали сегодня? Или…»
Автомобиль подъехал к дому, в котором жила баронесса. Так ли важно платье для нового портрета, который она собиралась заказать у Ренуара? Еще не решив для себя этот вопрос, Амалия увидела, как к машине поспешно подходит ее консьерж, Жан Бле. Мужчина придержал дверцу, помогая хозяйке спуститься на тротуар, и та вдруг ощутила легкое беспокойство: что такое, почему Жан встречает ее здесь?
– Госпожа герцогиня, – почтительно промолвил консьерж, – я полагаю, вы должны знать, – ваш сын только что приехал.
– Михаил?
Хм, тут нет ничего особенного. Совершенно непонятно, отчего Жан так взволновался.
– Нет, госпожа герцогиня. Месье Александр. И из Англии прибыла телеграмма.
Консьерж протянул конвертик.
Между Амалией Корф и Жаном Бле уже несколько лет шла глухая, но тем не менее упорная борьба, в которой она никак не могла одержать верх. Дело в том, что, с точки зрения консьержа, баронский титул могли иметь только немцы и евреи – две категории людей, которых мужчина, как патриот и добрый католик, не слишком жаловал. Уяснив, что хозяйка не принадлежит ни к одной из этих категорий, он решил проблему просто – стал величать ее герцогиней, причем не только обращаясь к ней лично, но и перед третьими лицами. Напрасно Амалия пыталась повлиять на Жана и втолковать ему, что вовсе не является герцогиней и, кстати сказать, не собирается ею быть, консьерж твердо стоял на своем. Более того, даже стал называть ее «ваша светлость». Если бы месье Бле дерзил ей или как-то иначе пытался выразить свое непочтение, его было бы легко поставить на место. Но что, скажите на милость, можно сделать с человеком, который преисполнен искреннего уважения и выражает его столь необычным способом? В конце концов Амалия смирилась и махнула рукой на консьержа, а заодно на почтальона и торговцев по соседству, которым Жан внушил, что его хозяйка герцогиня и требует соответствующего обращения. Впрочем, надо признать, что дело было не только в месье Бле: Амалия Корф держалась так, что ее действительно очень легко было представить герцогиней, а то и принцессой крови.
Хмурясь, Амалия разорвала конверт, пробежала глазами текст телеграммы. И хотя баронесса привыкла владеть собой, на лице ее отразилось недовольство.
– Какие будут приказания, ваша светлость? – благоговейно осведомился консьерж, вытягиваясь в струнку.
– Александр уже наверху? Он приехал с вещами?
Глупый вопрос, тут же рассердилась на себя Амалия. Судя по только что прочитанному, сын должен был явиться с вещами, это уж само собой разумеется.
– У него были только два чемодана, я помог занести их в дом.
– Когда именно Александр приехал?
– Полчаса назад, – сообщил Жан и поторопился объяснить: – Я полагал, что вы его не ждали, ваша светлость, поэтому взял на себя смелость встретить вас у машины, чтобы заодно передать вам телеграмму.
Амалия вздохнула.
– Все в порядке, месье Бле… Спасибо.
Ксения с любопытством смотрела на нее снизу вверх, прижимая к себе ящерицу. Амалия взяла девочку за руку и повела в дом. Заметив, что все еще держит в свободной руке злосчастную телеграмму, скомкала ее и сунула в карман.
Ах, Александр, Александр! Ну что за характер, в самом деле! И что же ей теперь предпринять?
В прихожей навстречу ей поднялся сидевший до этого на чемоданах высокий юноша лет двадцати, и Амалия рассердилась еще больше. Почему не унесли чемоданы? Словно здесь зал ожидания какой-то! Но тут Ксения заметила брата и искренне обрадовалась.
– Здравствуй, здравствуй! – защебетала девочка. – А мы смотрели платья… Гляди, что мне там подарили! Это ящерица, – пояснила Ксения, счастливо улыбаясь.
– Э… – пробормотал Александр, косясь на мать, – не ящерица, а прямо саламандра какая-то!
– А что такое саламандра? – тотчас же заинтересовалась Ксения.
– Это волшебная ящерица, – пояснил Александр серьезно.
– А у тебя есть волшебная ящерица?
– Нет, – сокрушенно ответил брат.
– Хочешь?
И малышка уже протягивала ему свою разноцветную бархатную игрушку с глазами-бусинками, от которой не могла оторваться во время поездки в автомобиле.
– Нет, я не умею обращаться с волшебными ящерицами, – честно признался Александр. – И потом, она все-таки твоя.
Тут, к счастью, в прихожей материализовалась только что вернувшаяся Аделаида Станиславовна, мать Амалии. Женщина тотчас заметила чемоданы, напряженное лицо дочери, сконфуженный вид Александра и немедленно объявила, что чрезвычайно рада его видеть, что он обязательно останется у них, надо выделить ему комнату с витражами. И хотя Александр не любил эти витражи, сделанные по эскизам модного художника, он не стал спорить и покорился.
– Вся семья вместе! Очаровательно! – вскричала экспансивная Аделаида Станиславовна и увлекла за собой Амалию.
Однако, войдя в кабинет баронессы и закрыв дверь, польская дама сразу же отбросила легкомысленный тон:
– В чем дело? Почему Саша здесь, а не в Оксфорде?
– Смотри сама, – сухо сказала Амалия, протягивая ей телеграмму.
Пробежав глазами строки, Аделаида Станиславовна остолбенела, но только на мгновение.
– Бедный мальчик!
– Он уже не мальчик, – стальным голосом возразила дочь. Баронесса опустилась на стул, но сразу встала и принялась мерить шагами комнату. – По крайней мере, в его возрасте пора представлять себе последствия своих поступков! Что еще за дуэль? Почему его исключили?
– Ну ничего же страшного не произошло. Была дуэль, но…
– Тут написано, что он чуть не убил человека! – вспылила Амалия. – А если бы его самого убили? Или хотя бы ранили?
– Ну, дорогая, это же не повод так смотреть на ребенка.
– А как я на него смотрю?
– Коршуном, – не моргнув глазом, сообщила старая дама. – Немудрено, что он растерялся.
Амалия воздела руки к потолку, хотела сказать что-то резкое, но сдержалась.
Хотя многие знакомые баронессы отказывались верить, что ей уже больше тридцати лет, на самом деле Амалия была гораздо старше. Двое ее сыновей были уже взрослыми людьми. Старший, Михаил, пошел по стопам отца и сделался военным, а младший, Александр, собирался получить образование в Англии, и оба стали для матери источником постоянного беспокойства. С Михаилом, похоже, произошло то, что нередко бывает с детьми слишком блестящих родителей: он терялся на их фоне, а его покладистый характер, по мнению матери, не слишком соответствовал карьере, которую он для себя избрал. С Александром все обстояло совсем иначе. Молодой человек носил фамилию Тамарин, и хотя формально Амалия его усыновила, ни для кого не составляло тайны, что он ее родной сын. Если Михаила можно было упрекнуть в излишней мягкости, то Александр из-за своего вспыльчивого характера постоянно ввязывался во всевозможные истории. Он был чудовищно упрям, невероятно злопамятен и обладал совершенно невыносимой, с точки зрения Амалии, способностью раздувать любое мелкое происшествие до вселенских масштабов, причем страдая от этого гораздо больше, чем остальные.
Матери претило отсутствие в младшем сыне легкости и раздражала его вечная поза буки, дующегося на весь мир, который, впрочем, не упускал возможности напомнить ему, что он всего лишь незаконнорожденный, а значит, существо второго сорта. Тщетно Амалия пыталась втолковать Александру, что не это, так другое поставили бы ему в вину те, кому он был не по душе, и что надо научиться отсекать от себя неприятности и тех, кто их причиняет, иначе жизни не хватит сражаться со всеми ветряными мельницами. Баронесса чувствовала, что Александр замыкается в себе, отдаляется от нее и от родных, и ее сердило, что никакими разумными доводами нельзя привести его в чувство. Даже сейчас, при мысли, что сын задержится в ее доме как минимум на несколько недель, она почувствовала приступ недовольства из-за того, что ей постоянно придется видеть перед собой его хмурое, замкнутое лицо.
И дело было вовсе не в том, что Амалия не любила своих детей. Нет, очень любила и честно старалась вникать в их проблемы, быть им другом, уберечь их от непоправимых ошибок. Но при общении с сыновьями ее не покидало ощущение, будто она имеет дело с людьми из другого мира, с какой-то другой планеты. Михаил любил музыку, а отправился в армию… Ей это было непонятно. Как и то, что Александр старательно изводил себя тем, что не такой, как все. И вот, когда все, казалось, устроилось и он поступил в Оксфорд, а неподалеку был его отец, всегда готовый помочь, нате вам – дуэль и отчисление. А в остатке – высокий рыжеватый юноша, виновато сгорбившийся на своих двух чемоданах. Александр изо всех сил пытался держаться независимо, но глаза выдавали его, и там, в передней, он смотрел на нее взглядом побитой собаки. От одного этого у матери все внутри перевернулось. Черт возьми, да когда же сын перестанет вести себя так, словно все, и она в том числе, его враги?
– Как же мне это все надоело! – в сердцах воскликнула Амалия.
Аделаида Станиславовна нахмурилась. Конечно, неприятно, что так получилось с Оксфордом, но есть ведь Сорбонна, Петербург, Гейдельберг, и если Амалия так хочет, чтобы ее сын получил образование, он вполне может окончить курс в другом месте. Все это пожилая дама высказала дочери.
– Дело не в учебе, – устало ответила та. – У меня такое ощущение, что, где бы Саша ни находился, он всегда найдет причину, чтобы быть несчастным. И в конце концов всю жизнь себе испортит, – уже сердито добавила Амалия, поправляя цветы в вазе.
– Это пройдет, – примирительно сказала Аделаида Станиславовна.
Баронесса Корф отвернулась.
– Я очень за него беспокоюсь, – наконец промолвила она. – И как бы я ни пыталась ему помочь…
Амалия оборвала себя и удрученно покачала головой – мол, что все ее усилия ни к чему не приводят. У нее закололо в виске, и она, поморщившись, двинулась к двери, обронив на ходу:
– Миша будет на обеде. Предупреди его и попроси, чтобы воздержался от… от замечаний.
У себя в спальне баронесса прилегла на кушетку, массируя висок, боль в котором из стреляющей превратилась в ноющую. Амалию больше не радовал ни чудесный день, ни платья от Дусе, ни мысль о портрете, который нарисует Ренуар. Будь у нее работа… Но работы, увы, больше не было. Особую службу, специальный отдел секретных государственных поручений, упразднили после ее же, Амалии, провала в Иллирии[222]. Значит, спастись работой ей тоже не удастся. Чувствуя, как от раздражения сводит лицо, баронесса решительно поднялась и с особой тщательностью стала выбирать платье к предстоящему обеду.
Как говорится, если не можешь ничего сделать, сделай хотя бы что-нибудь.
За обеденным столом их собралось шестеро: Амалия, Михаил, Александр, Ксения, Аделаида Станиславовна и ее брат Казимир, вечный холостяк и бонвиван, маленький, радушный и любезный господин, которого при первом знакомстве люди обыкновенно считали недалеким, а при последующих встречах нередко меняли свое мнение на прямо противоположное.
Казимир без всяких предупреждений учуял, что в воздухе пахнет грозой, а гроз чувствительный польский шляхтич не выносил совершенно. Поэтому он вдруг стал чрезвычайно разговорчив, предупредителен и улыбчив, к месту рассказал пару анекдотов, выставил в комическом свете героев последних новостей и добился-таки того, что Амалия снизошла до улыбки, а Аделаида Станиславовна почувствовала, как у нее отлегло от сердца. Хотели мать и дядя того или нет, но жизнь их семьи так или иначе вертелась вокруг Амалии, а они были второстепенными светилами, и когда главная звезда их крохотной галактики была не в духе, это обязательно отражалось на всех.
– Так что ты решила насчет Рафаэля? – спросила у дочери Аделаида Станиславовна. – Будешь покупать его картину или нет?
Оставшись не у дел, Амалия стала гораздо больше, чем раньше, интересоваться искусством, а Дусе, кстати сказать, помог ей познакомиться с рядом художников и с видными торговцами картинами. Однако коллекционером баронесса Корф так и не стала. Да и не стремилась стать. Она приобретала то, что ей нравилось, полагаясь только на свой вкус, который, надо сказать, был чрезвычайно прихотлив, потому что ее одинаково пленяли фантазии Босха и Арчимбольдо, грезы Боттичелли и изящные портреты Виже-Лебрен и Натье. Амалия высоко ставила импрессионистов, но была совершенно равнодушна к авангардистским изысканиям, а из современников более всего ценила Ренуара, который уже несколько раз рисовал ее портреты раньше и которому она собиралась позировать вновь.
– Что за Рафаэль? – заинтересовался Михаил.
– Ничего особенного, – отмахнулась баронесса, – портрет пары итальянских кардиналов с разбойничьими физиономиями. Вид у них такой, будто это простолюдины, которые недавно ограбили настоящих кардиналов и обрядились в их одежду.
Александр, услышав слова матери, фыркнул.
– Честное слово, – добавила хозяйка дома, – им только кинжалов за поясом не хватает.
– Тогда, по-моему, как раз такими кардиналы и были, – заметил Михаил. – Вспомни хотя бы Чезаре Борджиа.
– Вам смешно, а каково мне будет каждый день смотреть на этих уголовников? – проворчала Амалия. – Так что я решила, что обойдусь без Рафаэля.
– Правильно, – тотчас же одобрила мать, – лучше купи еще одного Боттичелли.
– У Боттичелли все женщины на одно лицо, – высказал свое мнение Михаил.
– А мужчины? – подал голос Александр.
– Мужчины ему вообще не удавались. Да и его «Весна» мне не нравится.
– С «Весной» сложно, – согласилась Амалия. – Потому что на самом деле это не одна картина, а пять.
– Ты думаешь? – тотчас же заинтересовалась Аделаида Станиславовна.
– Конечно. Меркурий с левой стороны – одна картина. Три грации – отдельная. Флора – третья. Зефир и нимфа – четвертая. А есть еще таинственная фигура беременной рыжей красавицы в красной мантии, которую почему-то называют Венерой. Она стоит в центре, но удалена от зрителя, и это уже пятая картина. Я думаю, – добавила Амалия, – кто-то очень торопил Боттичелли с работой, и композиция развалилась. Если рассматривать «Весну» как пять отдельных картин, все прекрасно, но когда пытаешься оценить ее как единое целое, взгляд теряется в многообразии фигур.
– Я слышал, ты собираешься заказать свой портрет, – сказал Михаил. – Это правда?
– Да, у Ренуара.
От Амалии не укрылось, что сын слегка поморщился при упоминании этого имени.
– А почему не у какого-нибудь приличного художника? – проворчал сын. – Он уже три раза тебя рисовал… и хоть бы один портрет он закончил.
– Что тебе не нравится в его портретах?
– Все, – честно ответил Михаил. – И ты почему-то всегда у него рыжая… На мой взгляд, Ренуар вообще не умеет рисовать.
– О! – вырвалось у Аделаиды Станиславовны.
– Я живу среди ретроградов, – вздохнула Амалия. – До чего же вы суровы, ваше благородие… Дядя Казимир, будь так добр, передай мне соль.
– Ты знаешь мое мнение: по-моему, импрессионисты не стоят красок, которые перевели, и холстов, которые испортили, – гнул свою линию Михаил. – В конце концов, есть Больдини, есть…
– Когда я только вышла замуж, – промолвила баронесса, – я хотела, чтобы мой портрет написал Мане.
Михаил, слушая мать, застыл на месте.
– Я чувствовала, какой это художник. Но я была очень молода и не умела еще настоять на своем. Над Мане было принято только смеяться, и в конце концов меня отвели к этому… как его… с двойной фамилией. Чрезвычайно модный был тогда портретист, как Больдини сейчас. Вот он и нарисовал мой портрет, совершенно ужасный – я там стою, как манекен.
– Мама, что ты выдумываешь! – возмутился Михаил.
В глубине души молодой человек всегда восхищался портретом, на котором его мать изображена в блеске молодости и красоты, в бальном платье и драгоценностях, в перчатках до локтей, с розой в волосах и веером в руке. Сын даже забрал картину к себе после того, когда мать сослала ее в чулан.
– Правильная, скучная, безжизненная мазня, – твердо сказала Амалия. – А Мане вскоре умер и мой портрет так и не написал… А те же самые критики, которые раньше ругали импрессионизм на чем свет стоит, сегодня уже кричат, что он – самое значительное художественное движение прошлого века. Поэтому я больше никого не слушаю, и если картина мне нравится, просто покупаю ее. Кстати, самый лучший способ защитить себя от подделок и заодно не обогащать спекулянтов – приобретать картины у самих художников. Хотя, конечно, метод работает только с современниками…
– Прости, мама, но мне кажется, что это пустая трата денег, – упрямо проговорил Михаил. – Пройдет лет двадцать, и все забудут и о Ренуаре, и о Мане, и…
Александр не смог удержаться от усмешки. Что за манера у старшего брата – вечно рваться рассуждать о том, в чем совершенно не разбирается. Михаил перехватил его взгляд, без труда угадал мысли младшего брата и нахмурился.
– Я покупаю картины для собственного удовольствия, – улыбнулась Амалия, – и мне все равно, что будут думать об их создателях через двадцать лет и сколько они будут стоить. Если мы говорим о деньгах, то их куда легче сделать на чем-нибудь другом.
– Согласен, – кивнул Михаил. Затем повернулся к брату: – Кстати, а что, в Оксфорде уже наступили каникулы? Я не ждал увидеть тебя так рано.
Звякнула вилка, которую Александр положил на стол. «Вот, начинается», – с досадой подумала Амалия.
– Я больше не буду там учиться, – холодно сообщил Александр.
– Почему? Можно узнать причину?
– Можно. Я повздорил с одним студентом и вызвал его на дуэль. А так как его отец лорд и важная шишка, он добился того, чтобы меня отчислили.
– Я так и не понял, дуэль была или нет? – поинтересовался Михаил.
– Была.
– И что? Чем все закончилось?
– Ничем. Я прострелил ему бедро, так что теперь этот наглец будет хромать до конца своих дней.
Амалия поглядела на непреклонное лицо сына и подумала, что причиной ссоры вряд ли были разногласия по поводу какого-нибудь монолога Шекспира.
– И правильно, – неожиданно одобрил Михаил. – Никогда не следует спускать обиду, когда можно за нее покарать.
– Прекратите эти разговоры в моем доме, – приказала Амалия холодно, хотя внутри ее все кипело. – Вы оба невыносимы! А если бы ногу прострелили тебе, что тогда? А если бы все кончилось гораздо хуже и он тебя убил?
– У него бы ничего не получилось, – уверенно ответил Александр. – Я стреляю лучше, чем он.
– А если бы хорошо стрелял? Если бы ему повезло? Ведь бывает так, что везет даже тем, кто стреляет плохо.
– Значит, ранил бы меня. Или убил.
– Но, слава богу, никто никого не убил, – вмешалась Аделаида Станиславовна, которая видела, что ее дочь готова в сердцах наговорить много лишнего. – Дети, как вам десерт? Его, между прочим, готовила наша новая кухарка.
Казимир тотчас же подхватил тему десерта, развил ее и направил беседу в правильное русло, то есть такое, когда уже никто никого не мог задеть.
После обеда Михаил задержался, чтобы немного помузицировать на пианино для Ксении. Остальные разошлись по комнатам, и в столовой остались только Амалия и Александр.
– Я вас не стесню? – спросил сын.
– Ты же знаешь, что нет. А вообще, что ты собираешься теперь делать?
Молодой человек вздохнул. По правде говоря, Александр принадлежал к таким людям, которые куда лучше представляют, чего они не хотят, чем то, чего, собственно, желают от жизни. Но юноша хорошо знал мать и чувствовал, что с ней можно говорить свободно.
– Пока я об этом не думал. Но вполне могу учиться в Париже.
– А ты хочешь? – проницательно спросила Амалия.
Александр неуклюже повел плечами.
– Не знаю. Я не представляю, для чего все это.
– Что «все это»?
– Учиться, зубрить десятки скучных и ненужных предметов для того, чтобы потом целый день корпеть в конторе и делать вид, что работаешь. Тратить свою жизнь на всякую… на всякие глупости, чтобы потом в один прекрасный день проснуться и понять: пора умирать, а ты так и не сделал ничего стоящего.
Амалия пристально посмотрела на сына. «Хм, что-то новенькое… И напоминает дядюшку Казимира с его упорным нежеланием принимать на себя любые обязательства. Или Саша просто начитался модных книжек и воспринял всерьез то, что там написано?»
– Но ты бы хотел стать кем-то? – настаивала баронесса. – Кем? Согласна, в работе на одном месте нет ничего захватывающего. Но ведь есть же что-то такое, что тебе по душе?
Юноша пожал плечами. Миг – и у матери возникло ощущение, словно перед ней только что захлопнулись створки раковины, в которую спрятался ее сын.
– А знаешь, что самое неприятное? – внезапно выпалил Александр. – Что люди – мерзавцы. Причем все. Из-за этого пропадает охота иметь с ними дело.
Амалия не смогла удержаться от улыбки. Сколько философии! Какие бездны смысла! И все наверняка из-за того, что приятель, с которым он дрался на дуэли, не к месту дал волю языку.
– Бедный мой мизантроп… Что же мне с тобой делать?
Баронесса протянула руку, чтобы пригладить торчащие волосы сына. Александр исподлобья покосился на нее, и она, внезапно рассердившись, взъерошила ему волосы так, что те стали дыбом.
– Мама…
– Да ну тебя!
Амалия поднялась с места.
– У меня есть билеты в театр. Если хочешь, можешь пойти. Хоть развеешься.
– Нет, – твердо ответил Александр, приглаживая волосы. – Прости, не хочу. Французские пьесы глупы до неприличия, во всех на разные лады толкуется об адюльтере, как будто ничего, кроме этого, в жизни не существует. Хуже только русские пьесы, где персонажи истязают друг друга, сами толком не зная для чего.
Амалия пристально посмотрела на сына. Боже мой, до чего же он серьезен, просто оторопь берет! Интересно, когда это у него пройдет? И почему, из-за кого, в какой момент Саша заделался таким мизантропом? «Скорее всего, – смутно помыслила Амалия, – из-за женщины… И, как всегда случается в жизни, из-за такой, которая не стоит и его мизинца».
Баронесса как раз собиралась осторожно навести разговор на данную тему, как вдруг растворилась дверь и горничная доложила, что ее хочет видеть комиссар полиции.
Глава 3 Комиссар Папийон
Амалия хорошо знала этого грузного, широкоплечего человека с пышными усами и добродушной улыбкой, и он не первый раз был у нее дома. Но едва она сейчас увидела выражение его лица – не расслабленно-дружеское, как обычно, а замкнутое и непроницаемо-официальное, душу ее кольнула иголочка нехорошего предчувствия. Что такое, неужели Александр ухитрился опять ввязаться в какую-то историю, на сей раз на французской территории?
– Господин комиссар… Чему обязана честью видеть вас?
Комиссар Папийон весьма непринужденно поцеловал руку хозяйки и сказал, что хотел бы побеседовать с господином бароном. Мол, консьерж в его доме сообщил, что Михаил должен быть здесь.
– Да, он здесь, – подтвердила Амалия, чувствуя невольное облегчение от того, что визит Папийона не связан с ее беспокойным младшим сыном. – А в чем дело, комиссар?
Но полицейский, которого она знала как старого друга – или, во всяком случае, как хорошего знакомого, – уклонился от ответа. И лишь заметил, что желал бы задать господину барону несколько вопросов.
Чувствуя, как в душе ее вновь пробуждается тревога, Амалия проводила комиссара в гостиную, где Михаил с Ксенией, сидя за пианино, разбирали ноты, причем девочка устроилась у брата на коленях и пыталась дотянуться до клавиш.
– Миша, это комиссар Папийон… Он хотел бы побеседовать с тобой.
Гость сел в кресло и достал блокнот для записей и ручку. Увидя блеск глаз господина комиссара, Амалия окончательно убедилась, что произошло нечто скверное, причем каким-то образом связанное с Михаилом. Ее сын снял Ксению с колен, шепнув малышке, что они продолжат музицировать позже. Девочка вышла, в комнате остались трое: Михаил у пианино, Папийон в кресле недалеко от него и за его спиной – Амалия, мучительно гадавшая, что же, собственно, происходит.
– Вы барон Мишель Корф, родились в… – Комиссар сделал крохотную паузу, предоставляя собеседнику право ее заполнить.
– В Петербурге, в 1882 году.
– То есть сейчас вам двадцать пять лет. Можно узнать, чем вы занимаетесь?
– Разумеется. Я офицер армии его императорского величества.
– Приходилось воевать с японцами? Наши газеты столько писали об этой войне…
– Да, я участвовал в боевых действиях и был ранен.
– Поправляете у нас здоровье, господин барон?
– Нет, я получил отпуск и приехал проведать мать.
Чем вежливее становился комиссар, тем резче и отрывистей звучали ответы его собеседника.
– Скажите, сколько времени вы находитесь в Париже?
– Точно не помню. Около месяца, наверное. Могу ли я узнать, господин комиссар, в чем все-таки дело?
– Было совершено преступление, – спокойно промолвил Папийон, – и мы его расследуем. Скажите, господин барон, вам известен ваш соотечественник, граф Ковалевский?
Амалия готова была поклясться, что при упоминании этого имени на лицо ее сына набежало облачко.
– Да, я знаю этого человека.
– Давно?
– Несколько лет. Впрочем, мы никогда не были друзьями.
– Когда вы с ним познакомились?
– Давно, в Петербурге, на вечере у каких-то общих знакомых. Точнее сказать не могу.
Папийон удовлетворенно кивнул, словно его вполне устраивала забывчивость Михаила.
– Вам известно, что последние месяцы граф находился в Париже?
– Да, известно. Я видел его в автомобильном клубе.
– Что вы там делали?
– Ничего особенного, господин комиссар, – с легкой иронией ответил Михаил. – Изредка читал газеты, немного играл в карты.
– С графом Ковалевским?
– И с ним тоже, да. Позволено ли мне узнать…
– Все в свое время, господин барон, – оборвал полицейский. И задал следующий вопрос: – Можете ли вы сказать, когда именно видели графа в последний раз?
Амалия сидела как на иголках. Уже слова «граф находился», то есть глагол, употребленный в прошедшем времени, сказали ей куда больше, чем могли сказать менее наблюдательному человеку, а тут еще это «в последний раз»…
– Я иногда захожу в клуб по вечерам, – спокойно промолвил Михаил. – Кажется, я видел графа в понедельник. Или во вторник.
– Иными словами, позавчера вечером?
– Так точно, месье.
– То есть тогда, когда между вами и графом произошла ссора?
Рот Михаила сжался.
– Вам уже сказали об этом? Впрочем, я, наверное, наделал тогда шуму. – Молодой человек попытался улыбнуться, но глаза оставались настороженными и холодными. – Да, мы с графом обменялись парой резких слов.
– Можно узнать, по какой причине?
– Нет, – отрезал Михаил. – Это касается только меня и графа.
– Вероятно, причина все же была весомой, если вы при свидетелях пообещали его убить? – вкрадчиво осведомился Папийон.
У Амалии упало сердце. Теперь она уже не сомневалась в том, что произошло самое худшее.
– Кажется, я действительно сказал нечто подобное, – помедлив, признался Михаил. – Граф вывел меня из себя, и я, каюсь, повел себя несдержанно. Это все, что вы хотели знать?
– Нет, – ответил Папийон. – Меня интересует, господин барон, где вы были в ночь со вторника на среду.
– У себя, разумеется.
– Всю ночь?
– Всю ночь, да. Я вернулся из клуба и сразу же лег спать. Может быть, вы все-таки объясните нам, в чем дело? Моя мать места себе не находит от беспокойства.
– Боюсь, у меня для вас дурные новости, – сказал Папийон, тщательно подбирая слова. – Граф Павел Ковалевский был убит в ночь со вторника на среду. Получается, вы один из последних видели его в живых.
– Не только я, но и весь автомобильный клуб.
– Разумеется. Есть ли у вас свидетель, который может подтвердить, что вы всю ночь находились дома и никуда не выходили?
Михаил вспыхнул.
– Послушайте, сударь… Это уже переходит всякие границы!
– Я имею в виду слугу, например, – спокойно пояснил комиссар.
– Если вы о слуге… Да, Аркадий был дома. Он подтвердит, что я никуда не выходил.
– Что ж, – сказал комиссар, поднимаясь с места и сердечно улыбаясь, – вот все и разъяснилось.
– Рад, если так, господин комиссар, – искренне промолвил Михаил. – Потому что лично у меня создалось впечатление, будто вы уже готовы были меня подозревать в смерти графа из-за того, что накануне я обменялся с ним парой неосторожных слов.
– В самом деле, – добродушно подхватил Папийон, – в высшей степени неосторожно обещать убить человека… которого через несколько часов и в самом деле найдут убитым. – Полицейский со значением прищурился. – Кстати, господин барон, чуть не забыл: где вы были в ту ночь примерно с одиннадцати вечера до четверти третьего, то есть после того, как покинули клуб и до возвращения домой? Консьерж уверяет, что вы пришли в начале третьего, разбудили его звонком, и ему пришлось отпирать вам дверь. Получается, вы не сразу из клуба направились к себе на квартиру?
– Где бы я ни был, господин комиссар, – промолвил Михаил, еле сдерживаясь, – вас это не касается! Могу лишь сказать, что то, где я провел время, не имеет никакого отношения к графу Ковалевскому!
– Не стоит повышать голос, господин барон, – тихо промолвил Папийон, – я прекрасно все слышу. Могу ли я узнать, каковы ваши планы?
– Что?
– Вы не собираетесь случаем уехать из Парижа?
– Нет, но…
– Я настоятельно рекомендую вам не покидать город, – внушительно проговорил комиссар, глядя собеседнику прямо в глаза. – У нас еще могут появиться другие вопросы к вам. А я, к вашему сведению, привык получать ответы на свои вопросы.
Полицейский учтиво поклонился Амалии.
– Всего доброго, госпожа баронесса.
Не сказав более ни слова, комиссар Папийон прошествовал за дверь.
– Что все это значит? – прошептала Амалия, едва до них перестал доноситься звук шагов неожиданного посетителя. – Кто такой этот граф Ковалевский?
Михаил отвернулся.
– Павел Ковалевский – отъявленный мерзавец, – произнес он, глядя в окно. – Это все, что я могу тебе о нем сказать.
– Из-за чего вы поссорились?
– Неважно.
– Миша, я тебя умоляю! Разве ты не видишь, что происходит? Вы поссорились, ты сгоряча пообещал его убить… И в ту же ночь его действительно убили! Ты что, не понимаешь, что это делает тебя подозреваемым номер один?
– Я его не убивал.
– И ты полагаешь, достаточно сказать, что ты его не убивал, чтобы такой человек, как Папийон, оставил тебя в покое?
– Но я действительно его не убивал, – сказал Михаил, пожимая плечами. – Не имею к его смерти ни малейшего отношения, так что Папийону действительно придется оставить меня в покое.
Но Амалия, куда лучше сына осведомленная о том, как работает система сыска, только покачала головой.
– Ты уверял его, что всю ночь был дома, а между тем полицейский уже установил, что между одиннадцатью вечера и четвертью третьего ночи ты пропадал неизвестно где. Миша, ты можешь хотя бы мне сказать, где ты был?
Сын вспыхнул и поднялся со стула.
– Нет. Прости, это касается меня одного.
И как Амалия ни настаивала, ей больше ничего не удалось добиться. В своем роде ее старший сын был не менее упрям, чем младший. Если Михаил решил, что будет молчать о чем-то, расспрашивать его совершенно бесполезно.
Вконец расстроенная, баронесса вышла из комнаты и отправилась искать утренние газеты. Они лежали на столике в малой гостиной, а рядом в глубоком кресле дремал Казимир Станиславович.
– Вы не читали о том, что произошло с графом Ковалевским?
Дядюшка приоткрыл один глаз.
– Нет. А что с ним могло случиться?
– Его убили.
– Да? – Казимирчик так поразился известию, что проснулся окончательно. – В утренних выпусках ни слова об этом не было. Как же его так угораздило?
– Полиция не знает, – хмуро ответила Амалия. – Беда в том, что незадолго до того он поссорился с Мишей, и Миша в запальчивости обещал его убить.
– Они что, считают, что Миша мог…
– Я не знаю, что считают полицейские, но сам он ведет себя так, словно задался целью оправдать их подозрения. – Амалия села напротив дяди. – Похоже, граф Ковалевский заядлый картежник. Ты его знал?
– Немного, – признался дядюшка, питавший слабость к картам. – Бывало, встречались с ним за игрой.
– Что он был за человек?
– Что за человек? Хм… А ты разве с ним не знакома?
– По-моему, видела однажды на каком-то благотворительном вечере. Но мы никогда не общались, и нас не представляли друг другу. Так что ты о нем думаешь?
– Ну я же не был его приятелем, племянница… Аристократ. Начитан, хорошо образован. В нем чувствовалась порода, и выглядел он всегда по-европейски. Когда выигрывал, держался довольно скромно, да и проигрывал очень учтиво. Мог спустить большую сумму, глазом не моргнув. Правда, имелся у него один недостаток – графу нравилось выводить из себя окружающих, если они чем-то пришлись ему не по душе. Странно, что его убили.
– Почему?
– Я бы не сказал, что у него имелись враги. Кого-то он, может быть, раздражал, но не настолько.
– Он был богат?
– Я же не его поверенный, племянница… Думаю, нет. Конечно, он не бедствовал – имение в Минской губернии, особняк в Париже, яхта… Но граф много играл и не жалел денег, особенно на женщин.
– Ковалевский был женат?
– М-м… Вроде женат, но с женой разошелся.
– Давно?
– Года два назад. По-моему, даже успел с ней развестись.
– А сколько лет ему самому, ты не знаешь?
– Еще молодой человек, меньше сорока, – без колебания ответил дядюшка. – Всегда безупречно одетый, приятной внешности… В голове не укладывается, что с ним произошло такое.
– Ты сказал, что ему нравилось выводить из себя людей. В чем конкретно это выражалось?
– Ковалевский был проницателен и далеко не глуп, но со злым языком. Сама понимаешь, когда умный человек ради красного словца никого не жалеет, это куда хуже, чем когда язык распускает какой-нибудь дурак. Так что граф мог быть очень неприятным… когда того хотел.
– Миша не говорил тебе, из-за чего поссорился с ним?
– Нет. Он вообще не упоминал о графе. Хотя… – Казимир заколебался. – Говоришь, Михаил обещал убить Ковалевского?
– Да. Тебе что-нибудь об этом известно?
Дядюшка в смущении потер подбородок. И обронил наконец:
– Я слышал, балерина Корнелли сейчас в Париже.
Амалия нахмурилась. Эта особа когда-то была любовницей ее сына, и, как считала баронесса Корф, изрядно попортила ему жизнь.
– Она как-то связана с графом?
– Боюсь, да, – медленно ответил Казимир Станиславович. – По-моему, у них что-то было.
– Думаешь, граф Ковалевский мог сказать Мише что-то обидное по поводу… их общей знакомой?
– Насколько я знаю графа, подобное вполне в его духе. То есть он мог как-то сострить… пошутить, что ли… Беда в том, что слова, казавшиеся ему милой шуткой, другими обычно воспринимались как крайне оскорбительные.
– Что ж, тогда понятно, почему Миша так вспылил, – вздохнула Амалия. – Но это не объясняет, где он пропадал в ту ночь с одиннадцати вечера до двух ночи, а сам Михаил упорно не хочет ничего о своем местонахождении в тот промежуток времени говорить.
– Я думаю, в Париже множество мест, где молодой человек может пропадать с одиннадцати вечера до двух ночи, и даже позже, – дипломатично заметил Казимирчик. – Что касается убийства, то на твоем месте я бы не волновался. Конечно, Миша никого не убивал.
– Я тоже так думаю, – кивнула Амалия. – Но, знаешь, буду чувствовать себя куда увереннее, когда комиссар Папийон найдет настоящего убийцу. Очень неприятно состоять под подозрением, особенно когда ты ничего дурного не совершал.
Глава 4 Слуга
– По-моему, все ясно как день, – сказал Бюсси.
Молодой, худощавый, темноволосый Бюсси был полной противоположностью своего немолодого, грузного, седоватого патрона. Впрочем, Папийон не обращал особого внимания на внешность своих помощников, и если выделял среди них Бюсси, так исключительно потому, что тот представлялся ему наиболее сметливым из всех.
– Что именно тебе ясно? – проворчал Папийон.
– Офицер поссорился с графом. Потом тот вернулся домой, а офицер зашел к нему, чтобы довести разговор до конца, оставить, так сказать, последнее слово за собой. Они снова поссорились, нервы у офицера не выдержали, и молодой человек убил Ковалевского. У него же нет алиби, причем как раз на то время, когда, судя по всему, граф и был убит. – Бюсси немного помедлил, но вопрос, который так хотелось задать, жег ему губы, и он решился. – Признайтесь, патрон, если бы вы не были в таких хороших отношениях с его матерью, вы ведь арестовали бы его без всяких проволочек?
– Нет, – сухо ответил Папийон.
– Нет? – искренне изумился Бюсси. – Но ведь все факты сходятся!
– Ни черта не сходится, – отрезал Папийон. – Барон Корф – боевой офицер и, я не спорю, мог убить графа. Но сделал бы это иначе. Понимаешь? Совсем иначе! И потом, о какой новой ссоре между ними может идти речь? Жертва была найдена в своей спальне, в постели. Граф Ковалевский спал и видел десятый сон, когда в дом забрался некто и размозжил ему голову. Ты видел, на что была похожа спальня? Сколько ударов нанес убийца – десять, двадцать, больше?
– Хотите сказать, убийца находился в состоянии аффекта? – спросил Бюсси, в глубине души гордясь возможностью вставить модное слово.
– Нет, – так же сухо возразил комиссар, – это был дурак, который даже не понимал, что достаточно одного удара каминной кочергой, чтобы отправить человека к праотцам. Топорная работа, Бюсси. Топорная и жестокая! И, конечно, отнюдь не дело рук боевого офицера, отлично знающего, как убивать людей.
– Если только, – заметил Бюсси, – так сделано было не нарочно.
– Ты о чем?
– Ну, скажем, офицер совершил убийство, обставив его таким образом, чтобы все указывало на непрофессионала, – объяснил помощник. – Может же быть такое?
Папийон задумался.
– Как хотите, – добавил Бюсси, – но я считаю, у него был более чем весомый мотив. Та балерина танцует стрекозу в какой-то миниатюре, а граф позволил себе замечание насчет стрекоз, порхающих из постели в постель, что, конечно, взбесило офицера, который был когда-то в нее влюблен. И, похоже, «когда-то» еще не кончилось. Иначе он прилюдно не пообещал бы графу его убить. А вы помните, что граф сказал ему после этого? Что на дуэлях не дерется, оставляет сию ребяческую забаву другим. Вот офицер и решил разобраться с ним без всякой дуэли. Годится?
– В газетах еще ничего не писали об убийстве? – внезапно спросил Папийон.
– Пока нет, патрон.
«Почему молодой барон не спросил у меня, как именно убили графа? – думал комиссар. – Если он невиновен и не знал о происшедшем, такой вопрос напрашивается сам собой. Другое дело, когда ты виновен. Все обстоятельства тебе уже и так известны, не о чем и спрашивать…»
– Мне нужны свидетели, – решительно объявил Папийон. – Вот что! Недалеко от особняка графа мостовую топчут «бабочки», за которыми приглядывает Андреа-корсиканец. Бери его за жабры и тряси, пусть скажет, кто из его девиц был на своем посту в ночь со вторника на среду. Хоть одна из них должна была что-нибудь заметить!
– А вы, патрон? Чем вы займетесь?
– Допрошу слугу графа, если тот уже пришел в себя и в состоянии отвечать на вопросы.
Однако, когда Папийон вернулся в управление, ему пришлось сначала ответить на звонок префекта полиции Валадье, которого крайне встревожило происшедшее.
– Русский аристократ убит в Париже, да еще таким зверским образом… Я рассчитываю на вас, Папийон! Только надеюсь, что вы будете вести следствие осторожно, не впадая в крайности. А то за вами такой грешок водится…
Папийон слушал и кивал, а префект, словно шарманка, которую неудачно завели, не успокоился, пока не повторил одно и то же несколько раз.
– Вот осел! – буркнул комиссар, швыряя трубку на рычаг. – Мерлен, как там слуга? Готов для разговора?
– Да, патрон.
– Давай его сюда!
И через минуту в кабинете комиссара нарисовался тщедушный блондин с плешивой головой, с усами неопределенного цвета и умными светлыми глазами. Сейчас, впрочем, в глазах метался страх, рот судорожно кривился на левую сторону, а цвет лица имел нездоровый землистый оттенок.
– Садитесь, месье… Вам что-нибудь нужно? Может быть, воды?
Дрожащим голосом на довольно неплохом французском слуга отказался от воды и объявил, что готов ответить на вопросы. Однако первый вопрос задал сам:
– Вы найдете того, кто это сделал? Вы его найдете?
– Разумеется, не беспокойтесь!
Теперь Папийон прямо-таки источал непоколебимую уверенность. Хотя в глубине души он вовсе не был убежден, что убийца графа будет пойман. Комиссар проработал в полиции уже много лет, и за прошедшие годы его инстинкт сыщика обострился до прямо-таки сверхъестественной степени. Какой-то голос упорно нашептывал Папийону, что с нынешним случаем дело обстоит далеко не так просто, как кажется, а дальше будет еще сложнее. Однако покамест комиссар велел своему внутреннему голосу умолкнуть и вонзил в слугу испытующий взгляд, как раскрытый нож.
Итак, Николай Савельев. Мужчине сорок лет, из которых почти двадцать пять прошли на службе у графа Ковалевского. Тусклая, исполнительная, ничем не примечательная личность. Интересно, знал ли слуга о делишках своего хозяина? В делах следствия осведомленность прислуги частенько оказывается весьма кстати.
– Именно вы сегодня утром вызвали полицию. Верно?
– Да, господин комиссар.
– Однако сегодня уже четверг, а граф был убит в ночь со вторника на среду. Как вы объясняете это обстоятельство?
– Так я отбыл из города утром во вторник по распоряжению графа. – Савельев поторопился объяснить: – Он отправил меня сопровождать его младшего брата в Швейцарию. Тот собирался лечь в санаторий, и…
– Как зовут брата?
– Анатолий Ковалевский. У него чахотка, поэтому мой хозяин пожелал, чтобы я поехал с ним и убедился, что с ним все будет в порядке.
– Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?
– Сам месье Анатоль, – удивленно ответил слуга. – Я могу дать адрес санатория, в котором он сейчас находится. Кроме того, господин граф говорил своему поверенному, господину Урусову, что я буду сопровождать месье Анатоля.
– Диктуйте адрес санатория, – распорядился комиссар. И когда с адресом было покончено, спросил: – А Урусов живет в Париже?
– Да, постоянно.
Затем Савельев объяснил, где можно найти адвоката.
– Ваш паспорт при вас?
– Нет, месье, я… я оставил его в особняке вместе со своим чемоданом. И билеты тоже там…
– У графа были другие слуги, кроме вас?
– Да, месье комиссар. Но… он всех рассчитал, кроме меня.
– Когда?
– С неделю назад.
Папийон нахмурился: очень интересно…
– Ваш хозяин не сказал, зачем это сделал?
– Э… К сожалению, у графа были некоторые финансовые затруднения, – почтительно ответил слуга. – Он также собирался продать яхту и особняк в Париже, намеревался перебраться в более скромное жилище. Помнится, даже попросил господина Урусова подыскать ему квартиру, и тот выполнил его желание. В понедельник они осматривали апартаменты на Елисейских Полях, которые графу понравились. Мы должны были переехать туда на этой неделе… – В глазах слуги показались слезы. – Простите, месье…
– Так граф не был богат?
Папийон сразу же сообразил, что совершил промах. Слуга распрямился на своем стуле и хлестнул собеседника негодующим взглядом.
– Право же, месье… Разумеется, его… его привычки требовали соответствующего образа жизни…
– Договаривайте, сударь, – тихо попросил Папийон. – Полагаю, вас не надо учить, что с полицией лучше быть откровенным… особенно если вы хотите, чтобы мы как можно скорее нашли убийцу.
Николай насупился.
– Полагаю, граф ни в чем не знал бы нужды, – наконец выдавил из себя верный слуга, – но развод обошелся ему очень, очень дорого.
Ага, подумал полицейский, значит, на момент своей смерти граф больше не был женат. Ну, что ж…
– Кто является наследником графа? Он оставил завещание? Вам что-нибудь известно?
– Мой хозяин, – с достоинством ответил Савельев, – не выносил разговоров о завещании. Говорил, что одно это слово несет в себе привкус смерти, и… Словом, завещания граф не оставил. А что касается наследников… Родители графа умерли, а детей у него не было. Есть, конечно, месье Анатоль, но тот, по правде говоря, совсем плох.
– Так, так, – подытожил Папийон, – кое-что проясняется. Совсем недавно граф уволил всех слуг, кроме вас, собирался переехать в другую квартиру, а особняк продать. Во вторник утром вы уехали с его братом, граф Ковалевский остался в доме один… и той же ночью был убит. Вы сопровождали месье Анатоля, вернулись сегодня утром… Давайте теперь поговорим о том, что вы увидели. Вы пришли домой пешком или…
– Нет, на вокзале я взял фиакр.
– Когда вы подъехали к дому, ничего не бросилось вам в глаза? Ничто не показалось подозрительным?
– Абсолютно нет, месье.
– Теперь я прошу вас как можно точнее описать свои действия с момента возвращения.
– Да что тут описывать, месье… У меня имелись ключи от парадного и черного хода. Чемодан был тяжелый, и я отправился прямиком к парадному… Господин граф не рассердился бы, да и потом он уже собирался продавать особняк… Отпер дверь. Внутри было тихо, и я подумал, может быть, господин граф еще спит… Я поставил чемодан в своей комнате и отправился к хозяину, чтобы рассказать ему о месье Анатоле, как он там устроился… Постучал в дверь… Граф не отвечал. Я переоделся, умылся, отправился в кухню, чтобы приготовить завтрак по-английски, как любит господин граф. На минуту выйдя из кухни, я заметил, что порыв ветра приоткрыл дверь черного хода. Мне это показалось странным, потому что мы всегда запираем замки.
– А до того вы не обращали внимания на эту дверь? – спросил комиссар.
– Нет. Видите ли, я совершенно точно помнил, как проверял ее перед отъездом. Она была заперта.
– Рассказывайте, что было дальше.
– Мне стало тревожно. Хотя завтрак еще не был готов, я поднялся наверх и постучал к графу снова. Было уже довольно поздно, и мне начало казаться странным, что хозяин не отвечает. Я постучал еще раз, потом отворил дверь и шагнул в комнату. Спальня большая, с порога не видно, спит граф или уже проснулся, – пояснил слуга. – Но едва я сделал два или три шага, как увидел… все это…
– Подробнее, пожалуйста, – тихо попросил Папийон.
Савельев с ужасом покосился на него.
– Я… я не могу… Помню только кровать… и на ней какое-то месиво, над которым летают мухи… и запах… – Рассказывая, слуга нервно сжимал и разжимал пальцы. – И потом я упал в обморок, хотя никогда не считал себя слабым человеком… Когда пришел в себя, пополз из комнаты на четвереньках, чтобы не видеть все это… И сразу же вызвал полицию.
– Вы хорошо знали, что где лежит у графа? Вы смотрели, может быть, пропало что-нибудь?
– Вы уже задавали мне этот вопрос там, в доме… но мне было слишком тяжело, простите… В гостиной не было на месте каминной кочерги, и вы ответили, что ничего удивительного…
В самом деле, мелькнуло у комиссара. Та ведь валялась на полу в спальне и являлась орудием убийства.
– А из спальни ничего не пропало? Граф что-нибудь там хранил?
– Хранил, да, – пробормотал слуга, – деньги… Но неужели вы хотите сказать, что мне придется снова?.. – Савельев не договорил.
– Теперь, когда вы немного успокоились, именно вам нужно все проверить, – сказал комиссар, поднимаясь с места. – Но не волнуйтесь, вы будете не один.
«Кроме того, – подумал Папийон, – не забыть бы взглянуть на его паспорт. Если там есть отметки о пересечении границы, дело упрощается…»
Возле особняка графа толпились любопытные, засыпая вопросами полицейского, который стоял возле дверей. Папийон неприязненно покосился на зевак, но тотчас же переключился на Савельева.
– Сначала вы покажете мне ваш паспорт, а потом мы проверим, что пропало.
Документ слуги был в образцовом порядке. Во вторник слуга пересек швейцарскую границу, а в четверг вернулся обратно. Однако Папийон, верный своим привычкам, внимательно изучил и билеты. Впрочем, с ними тоже все оказалось в порядке, и он вернул их Савельеву.
– Давайте теперь все внимательно здесь осмотрим, – предложил комиссар.
Щадя нервную систему преданного слуги, полицейский решил начать с гостиной. Однако Савельев подтвердил свои прежние слова, что в комнате все вещи на месте, кроме, разумеется, кочерги.
В библиотеке Николай задержался возле консоли, стоявшей недалеко от дверей.
– Что? – спросил комиссар.
– Одного предмета не хватает, – убитым голосом пояснил слуга. – Фигурки из севрского фарфора. Очень странно…
– Почему?
– Потому что рядом две китайские вазы, которые гораздо дороже, – сухо отозвался Савельев.
– Фигурка была большая? – поинтересовался комиссар, косясь на высокие вазы.
– Нет. Примерно такой высоты… – Слуга широко раздвинул большой и указательный пальцы.
– То есть сантиметров двадцать, – уточнил комиссар, занося данные в записную книжку. – Вот и ответ на ваш вопрос – видно, убийце было легче ее унести. У статуэтки были какие-нибудь особые приметы?
– Приметы? – с недоумением переспросил слуга.
– Я хочу сказать, в ней было что-нибудь особенное, чтобы украденную вещь можно было легко узнать? – поправился комиссар.
– А… Фигурка из фарфора изображает урок музыки: молодая женщина сидит возле арфы, за ней стоит учитель и объясняет ей ноты. Оба, учитель и ученица, в костюмах по моде XVIII века. Платье на женщине желтое. На основании фигурки, если ее повернуть, видна небольшая царапина.
– Заметная?
– Если рассматривать фарфор вблизи, то да. Но она стояла так, что царапины не было видно.
Папийон немного воспрянул духом. Дело оборачивалось банальным ограблением. Если еще что-нибудь пропало, конечно…
Да, но почему грабитель расправился с графом, который, судя по всему, спал и не мог ему помешать? Нет, тут определенно было что-то личное… И еще приотворенная дверь черного хода… Надо будет сказать эксперту, чтобы еще раз как следует осмотрел замок. Если его открывали отмычкой, то целью, скорее всего, было ограбление. Или нет? Черт, какое неприятное, запутанное дело…
– У кого имелись ключи от дома?
– У меня и у господина графа, – немного удивленно ответил слуга.
– Больше ни у кого?
– У слуг были ключи от черного хода. У консьержа Фино, повара Робена и горничной Соланж Грюйер.
– Когда граф Ковалевский их уволил, они отдали ключи?
– Да, разумеется.
Надо будет навести справки о бывших слугах, мысленно сказал себе Папийон. В конце концов, сделать дубликат ключа – несложная задача.
– Слуги сильно расстроились, когда их так внезапно рассчитали?
– Господин граф дал им всем наилучшие рекомендации и щедро заплатил. Нет, никто из них не был расстроен. – Савельев покосился на комиссара и решился на признание: – Знаете, слуги всегда его любили. Он был настоящий… – спохватившись, что во французском нет соответствующего слова, мужчина закончил по-русски: – Барин.
– Как вы думаете, кто мог совершить это убийство?
– Если бы я знал, сразу же сказал бы вам. Но то, что случилось, настолько чудовищно…
– У вашего хозяина имелись враги? Может быть, ему кто-нибудь угрожал?
– Господин граф был не таким человеком, которому можно угрожать безнаказанно, – с достоинством ответил Савельев. – Конечно, я могу допустить, что он кому-то был не по душе, но таких врагов, которые… словом, вы сами понимаете. Нет, таких врагов у него не было.
Они осмотрели еще несколько комнат и оказались в кабинете покойного.
– В нижнем ящике стола господин граф держал деньги, – сообщил слуга. – Не все, основную часть хозяин хранил в спальне.
Комиссар выдвинул ящик бюро, но увидел там только лежащую поверх бумаг фотокарточку молодой красивой женщины в высокой шляпке, украшенной цветами и большим бантом.
– Нижний ящик слева, я хотел сказать, – кашлянул Савельев.
– Что это за дама? – спросил Папийон. – Жена?
– Боюсь, господин граф не хранил карточек своей жены, – ответил слуга извиняющимся тоном. – Госпожа Туманова его… его знакомая.
Папийон вздохнул, задвинул правый ящик, выдвинул левый и промолвил с некоторым разочарованием:
– Здесь довольно много денег. И чековая книжка.
– Да, господин граф много играл, и… Хозяин предпочитал наличные.
– Вы сказали, он также хранил деньги в спальне?
– Да, месье.
– Ну что ж, идем в спальню.
Тело уже увезли в морг, орудие убийства изъяли как вещественное доказательство, но все прочее оставалось как было – постель, заляпанная почерневшими кровавыми разводами, и в помещении стоял тяжелый, удушливый запах, от которого делалось не по себе. Папийон не отрывал от лица слуги пристального взгляда. Савельев был очень бледен и упорно избегал смотреть туда, где утром нашел своего хозяина с размозженной головой.
– Так что? – спросил комиссар. – Может быть, вы проверите, на месте ли вещи?
Слуга поднял на комиссара мученический взор.
– Вроде бы все как было. Кажется… А что касается денег… они должны быть в верхнем ящике столика рядом с кроватью. Во втором, под ним, господин граф держал свои драгоценности. У него были золотые часы, несколько колец…
Савельев с мольбой смотрел на комиссара. Слугу всего трясло, мужчина был близок к обмороку.
– Ладно, – буркнул Папийон и сам подошел к столику.
Денег на месте не оказалось. Украшения и часы из другого ящика также исчезли.
Глава 5 Свидетельница
Когда Папийон вернулся в управление, он первым делом вызвал к себе Бюсси и спросил:
– Ну, что там Андреа?
– Вы же знаете этих корсиканцев, – с раздражением буркнул Бюсси. – Битый час с ним вожусь, а все плетет какую-то чепуху. Ни слова по делу не добился.
– Ладно, – вздохнул комиссар, – веди его ко мне. А тебе новое задание: нужно разыскать бывших слуг графа – консьержа, горничную и повара. Не исключено, что кто-нибудь из них может быть причастен к случившемуся.
Папийон вручил Бюсси листок, на котором значились все данные, которые Савельев сумел сообщить об уволенных Альбере Фино, Филиппе Робене и Соланж Грюйер.
– Что-нибудь прояснилось, шеф?
– Да. Пропали деньги и ценные вещи, так что это не только убийство, но и ограбление. Кстати, заодно объяви в розыск золотые часы. Задействуй осведомителей среди скупщиков и всех наших агентов. Часы не простые, на крышке инициалы П.К. русскими буквами. – Комиссар продемонстрировал рисунок Савельева, как именно выглядит гравировка. – Часы с такой монограммой[223] – редкая штучка. Среди пропавших вещей также золотое кольцо с печаткой, на которой фигурируют те же инициалы с графской короной. Что? – спросил Папийон, заметив разочарование на лице Бюсси.
– Да так, патрон, – усмехнулся молодой человек. – Я-то надеялся, у этого дела будет какая-никакая романтическая подкладка, а по вашим словам выходит, что тут обычное убийство из-за наживы.
– Не забывай, что вещи и деньги могли украсть для отвода глаз, – осадил помощника комиссар. – Теперь тащи сюда корсиканца.
Через минуту черноволосый красавец Андреа был приведен к Папийону и нехотя сел на край стула напротив комиссара. Впрочем, только в первое мгновение казалось, что у этого гибкого, улыбчивого и явно опасного малого внешность разбивателя сердец, во второе у вас уже руки чесались дать ему по физиономии, даже если никакого повода к тому не предвиделось.
– Здорово, красавчик, – сказал Папийон.
Андреа с иронией покосился на него. «А ты обрастаешь жирком, – подумал комиссар. – Вон, у тебя уже намечается второй подбородок. Дела, видно, идут хорошо. Да и почему бы им идти плохо? Любовь – прибыльный бизнес, если к ней относиться только как к бизнесу, конечно».
– Вы притащили меня сюда только для того, чтобы поздороваться со мной? – хладнокровно спросил Андреа. – Убийство русского вы мне не припаяете. Я его пальцем не трогал и не знаю, кто это сделал. Да и знать не хочу.
– Твои девицы метут подолами тротуар недалеко от его особняка, – вернул корсиканца на землю Папийон. – Мне нужны все, кто торчал на площади в ночь со вторника на среду. Ну?
– Почему бы вам самому не поговорить с ними? – предложил Андреа, криво усмехаясь. – Правда, их довольно много, и разговор может затянуться. А если девчонки еще начнут врать и выгораживать друг дружку…
– А почему бы твоему брату не стать библиотекарем? Ему еще долго отбывать каторгу за то, что ухлопал свою подружку, – вроде бы совершенно нелогично заявил Папийон. Затем комиссар подался вперед: – Подумай, я могу попросить, чтобы его перевели в библиотекари. Там ему будет спокойнее, да и жить придется отдельно от остальных, а то ведь у него характер горячий, мало ли во что парень может ввязаться.
Андреа задумался. Потом буркнул, буравя комиссара тяжелым взглядом:
– Вы все обещаете…
– Ты меня знаешь, – веско сказал Папийон. – Если я обещаю, то делаю. Ну так что? Расскажешь, что тебе известно?
В кабинете повисло молчание. Было только слышно, как жужжит возле оконного стекла большая муха.
– У девок у всех язык без костей, – наконец подал голос Андреа. – Как только стало известно, что пришили богатого русского, Роза сразу же сказала, что видела его.
– Убийцу?
– Угу.
– Почему она так уверена?
– Шел дождь, и на площади было мало народу. Роза подумала, что, может быть, подцепит хотя бы его, но он прошел мимо. И девчонка видела, как мужчина подошел к особняку графа.
– Когда это было?
– Около полуночи. Потом у нее наметился клиент. А когда Роза вернулась на площадь, то увидела, как тот же человек идет обратно. Только не просто идет, а почти бежит. Ей уже тогда это показалось странным. Господин приличного вида, с чего бы ему бегать?
– Ну мало ли, – хмыкнул комиссар. – Может, боялся опоздать на последний омнибус?
Андреа с вызовом посмотрел на Папийона и, чеканя слова, веско произнес:
– У того типа была кровь на руке.
– И Роза разглядела ее в свете фонарей?
– Я же говорил вам, девчонка хотела его подцепить, – со смешком ответил Андреа. – Попыталась задержать, но мужчина ее оттолкнул, и у нее на рукаве осталось пятно, комиссар. Это действительно кровь.
– Твой брат будет библиотекарем, – объявил Папийон, снимая трубку. – Мерлен, зайди ко мне. Да поживее!
– Может, вам удастся немного скостить ему срок? – непривычным для него умоляющим тоном проговорил Андреа. – Вы же знаете, мой брат не просто так прикончил ту стерву. У нее случались приступы безумия, и когда она схватилась за нож… У него просто не было другого выхода!
– Красавчик, ну ты же сам прекрасно понимаешь, что четыре пули как-то многовато для самозащиты, – усмехнулся Папийон. Но заметил выражение лица корсиканца и добавил, прогнав улыбку: – Ладно, может, если он будет примерно себя вести, мне и удастся что-нибудь сделать… Давай говори, где искать твою Розу.
После ухода Андреа комиссар сделал два звонка по поводу его брата и, хмурясь, стал просматривать свои записи. Дело двигалось зигзагами, но тем не менее двигалось. Утром звонок по поводу зверского убийства, в доме – слуга, находящийся почти в невменяемом состоянии, допрос которого приходится отложить. Полицейский фотограф, весельчак Гадро, делает снимки при вспышках магния. Ажаны возле дома, весть об убийстве моментально облетает квартал, вскоре, само собой, собираются зеваки… О встрече просит молодой маркиз де Монкур, живущий на той же улице. Он только что узнал о гибели графа и, волнуясь, рассказывает, как во вторник вечером стал свидетелем ссоры между Ковалевским и молодым бароном Корфом, который в запальчивости обещал убить графа. Маркиз добавляет, что во вторник он покинул автомобильный клуб одновременно с бароном, то есть около одиннадцати вечера. Комиссар едет туда, где живет Корф, беседует с консьержем, выясняет, что молодой человек в ночь со вторника на среду вернулся гораздо позже одиннадцати, и отправляется в дом Амалии. Далее – разговор с бароном… возвращение… слуга уже в состоянии говорить… пропавшие деньги и ценности… И, наконец, самое главное – свидетель, который видел убийцу. Все?
Нет, не все, нашептывал Папийону внутренний голос. Что-то с этим делом не так… не так… совсем не так! Хотя при поверхностном взгляде все кажется предельно просто… А, черт побери!
– Я привез ее, патрон, – докладывает молодой Мерлен, многообещающий сотрудник, которого перевели к ним недавно.
Парень не настолько смел, чтобы, как Бюсси, выдвигать свои версии и защищать их. Нет, пока он только впитывает, учится и мотает на ус. Кстати, усы, в подражание Папийону, юноша тоже пытается отрастить, но пока безрезультатно. Мерлен хорошо печатает на машинке, старателен и трудолюбив, но комиссар оберегает его от столкновения с самыми мрачными сторонами человеческой жизни. Пусть пока походит свеженький, всегда одетый с иголочки наивный парнишка, полный надежд. У него впереди вся жизнь, чтобы загрубеть и стать таким, как он, комиссар Папийон.
Вот Мерлен вталкивает в комнату маленькую, узкогрудую рыжеватую женщину с типичным для жрицы любви напряженным выражением лица. На носу у нее несколько веснушек, возраст – выбирайте любой от двадцати до тридцати пяти включительно, глаза смотрят недоверчиво, с профессиональным прищуром.
– Садись, Роза… Андреа тебе уже все сказал?
Красотка бросает на полицейского слегка презрительный взгляд, достает дешевые папиросы и закуривает, даже не спрашивая разрешения. И Папийон не делает ей замечания. Пусть он комиссар, а Роза всего лишь маленькая шлюшка, в данный момент она главнее его. Потому что видела убийцу, и без ее показаний все его умозрительные заключения рухнут как карточный домик, как замок из песка, который съела пенящаяся волна.
– Да чего уж там, задавайте ваши вопросы, – роняет женщина.
Голос у нее хрипловатый, с характерными модуляциями – тоже обычный для жриц любви голос.
– Ты знала графа Ковалевского? – спросил Папийон после того, как стандартные вопросы об имени, возрасте и профессии свидетеля исчерпаны.
– Я с ним не спала, – тотчас перевела Роза разговор в понятную ей плоскость. Ее карие глаза насмешливо блеснули. – Он предпочитал другой тип, ему нравились брюнетки. Хотите подробностей – спросите у Викторины.
Верно, на портрете, что лежал в ящике стола, была изображена брюнетка. Однако сейчас комиссара интересовало совсем другое.
– В ночь со вторника на среду ты работала на площади?
– Да.
– И видела человека, который крутился возле особняка графа Ковалевского?
– Вы же знаете, что видела.
– Опиши, как он выглядел.
– Высокий, симпатичный. Военный.
– С чего ты так решила?
– Выправка, – презрительно бросила Роза, явно не любившая длинных фраз.
– Как он был одет?
– Темный плащ. Воротник поднят. Руки в карманах.
«Черт, отличный свидетель! – подумал комиссар в невольном восхищении. – Не то что некоторые, которые нагородят горы слов, и поди разберись в них. Нет, тут все к месту, и каждое слово на вес золота».
– Головной убор?
– Без шляпы. Блондин.
– Может, ты и цвет его глаз успела запомнить?
– А то! Глаза голубые. Так и запишите.
Одно к одному – молодой барон Корф. О-хо-хо, бедная его мать! Нелегко ей придется, особенно когда в семью вцепятся газетчики…
– Когда это было?
– Около полуночи. Я только вышла на работу.
– Опиши, что именно мужчина делал.
– Подошел к особняку графа. Я уже тогда обратила внимание, что он не звонит, а словно чего-то ждет. Застрял у двери. Но тут меня отвлекли.
«Знамо дело, клиент подвернулся, некогда по сторонам глазеть, пусть даже поблизости режут хоть дюжину графов», – хмыкнул про себя полицейский.
– Когда ты вернулась на площадь?
– Через полчаса, чтобы не соврать. И тут вижу, он бежит обратно.
– Блондин с военной выправкой?
Роза молча кивнула, выпуская кольцо голубоватого дыма.
– Ты видела, как он выходил из особняка?
– Врать не буду, не видела. Но двигался оттуда, факт.
– У него были при себе какие-то вещи? Что-нибудь, чего не было, когда ты видела его в первый раз?
– Вроде нет. По-моему, руки у него были свободные.
– Что дальше?
– Ну, я хотела завести с ним разговор, но мужчина просто меня оттолкнул и побежал дальше. – Роза подняла левую руку. – Видите пятно на рукаве, над манжетой? Это он оставил, когда толкнул меня. Я пыталась стереть, да какое там. Кровь хреново смывается, факт.
– Ты раньше не видела этого человека?
– Нет, никогда.
– А могла бы его опознать?
– Без проблем.
– Больше той ночью не заметила ничего подозрительного? Может быть, кто-нибудь еще подходил к особняку, входил в него, выходил оттуда?
– Нет, ничего такого я не помню.
– Значит, никто, кроме блондина с военной выправкой, поблизости не вертелся?
– Никто.
Комиссар испытующе посмотрел на женщину.
– Ты понимаешь, что этому человеку грозит гильотина и что именно ты способна послать его на эшафот? Кому-нибудь еще, кроме Андреа, ты говорила, что видела его?
– Ну, может, паре девчонок, – фыркнула Роза. – А что? Хотите сказать, что он может кокнуть меня, как того графа?
– Я бы не стал исключать такую возможность, – хмуро ответил комиссар. – Поэтому прошу тебя быть поосторожнее. Может, тебе стоит на время оставить ремесло? И, пожалуй, неплохо будет переехать. Охрану я тебе обеспечу.
– Бросьте, комиссар, – усмехнулась Роза. Поискала глазами пепельницу и, не найдя ее, загасила сигарету прямо о столешницу. – Не на такую напали. Андреа меня в обиду не даст, да я и сама смогу за себя постоять. – Она задрала юбку и продемонстрировала комиссару нож в чехле, пришитом к подвязке. – А в сумочке у меня всегда револьвер.
– Тяжелая у тебя работа, – заметил Папийон не то сочувственно, не то со скрытой иронией. – Подпиши протокол. Вот здесь.
– И не говорите, работенка та еще, – вздохнула Роза. Криво расписалась и поднялась с места. – Круче, чем у вас, это факт.
И, посмеиваясь над собственной шуткой, женщина вышла из кабинета. А на прощание еще и сделала глазки Мерлену, который попался ей в коридоре.
Папийон вызвал двух из четырех своих агентов, считавшихся лучшими специалистами по слежке, и дал им наказ: заняться Розой и по очереди вести ее двадцать четыре часа в сутки. Когда дело было настолько серьезным, комиссар не полагался ни на чьи заверения, предпочитал рассчитывать только на себя и на ближайший круг своих помощников, который не превышал десятка человек. Что касается двух других специалистов по слежке, комиссар уже успел дать им поручение – не выпускать из виду главного подозреваемого, Михаила Корфа.
Глава 6 Версии
– Я принес вечерние выпуски, – доложил Казимир, входя в дом.
На него сразу налетели две взволнованные женщины и отобрали ворох свежих, вкусно пахнущих типографской краской листков. Развернув первую же газету, Амалия увидела на первой полосе, на самом верху, где обычно публиковали только самые громкие, самые важные новости, заголовок:
«Русское дело
Кровавое убийство аристократа в Париже»
Статью сопровождали две фотографии – особняка, в котором произошло преступление, а также господина средних лет с ухоженными усами – жертвы неизвестного убийцы. Лицо как лицо, со слегка прищуренными глазами, черты правильные – не за что зацепиться; увидишь такого месье на улице, и через мгновение его образ выветрится из памяти. Волосы, судя по всему, темно-русые, зачесаны назад, открывая высокий лоб, одежда выглядит безупречно. Жил человек, носил графский титул и сделал этот снимок у модного фотографа, не подозревая о том, что его изображение однажды увидит вся Европа – в сообщении о сенсационном убийстве… Амалия на ходу начала читать текст и едва не налетела на Александра.
– Саша! Ну что ты, честное слово…
Она вернулась в гостиную и села на первый попавшийся стул. Напротив нее устроилась взволнованная Аделаида Станиславовна. Строчки так и прыгали перед ее глазами: «Убит граф Павел Ковалевский, 36 лет от роду… следствие поручено знаменитому комиссару Папийону… деньги и ценные вещи исчезли, что позволяет предположить убийство с целью ограбления…»
– Слава богу, это ограбление! – вскричала старая дама, опуская газету.
– У них есть свидетель, – подала голос Амалия, дочитывавшая свою статью. – Неизвестно, кто именно, но журналисты уверяют, что некто видел человека, который выходил из особняка вскоре после убийства.
Александр, облокотившийся о спинку ее стула, прочитал несколько строк поверх ее плеча и нахмурился.
– Скажи, мама… неужели ты и впрямь думаешь, что он мог сделать это? Множество ударов каминной кочергой… да еще ограбление!
– Саша, в данном случае неважно, что думаю я, да и все мы, – с некоторым раздражением ответила Амалия. – Понимаешь, есть сумма фактов, которая выглядит крайне подозрительно: один человек поссорился с другим и пообещал его убить, а вскоре номер два был убит, у номера же первого нет алиби. – Амалия перевела дыхание. – И почему Миша секретничает? Что ему стоит просто сказать, что он был там-то и там-то? В конце концов, мы все взрослые люди!
– Может быть, боится тебя огорчить? – предположила Аделаида Станиславовна.
– Он должен понимать, что меня куда больше огорчает то, что в данной ситуации мой сын оказывается совершенно беззащитен перед законом, – вздохнула Амалия. – Саша, дай-ка мне телефон.
Сын выполнил ее просьбу. Баронесса сняла трубку и попросила соединить ее с номером Михаила.
– Алло, Миша… Ты видел вечерние газеты?
– Еще нет. А что, в них уже написали, что убийца – я?
– По-твоему, это смешно? – рассердилась Амалия. – Если Папийон тебя арестует, огласки не избежать! Ты хоть понимаешь, что тебе придется уйти из армии?
– С какой стати? Я никого не убивал!
– Мы тебе верим, но следствие не привыкло полагаться на слова. Может быть, ты скажешь наконец, где был с одиннадцати вечера до четверти третьего?
– Гулял.
– Где, по Парижу? Случаем не возле графского особняка, где кто-то той ночью видел убийцу?
– Я – не убийца.
– Кто-нибудь может подтвердить, где ты был и что делал?
– Мама, прости, я не могу продолжать разговор. Это бессмысленно.
Из трубки доносились гудки.
– Что Миша говорит? – взволновалась старая дама.
– Сказал – гулял, – сухо ответила Амалия. – Ему кажется, что все происходящее несерьезно, поскольку сам прекрасно знает, что никого не убивал. Хорошо бы и комиссар Папийон разделял его уверенность… Потому что, если он решит, что Михаил имеет к убийству отношение, нам всем придется очень туго.
– Мне кажется, ты преувеличиваешь, – вздохнула Аделаида Станиславовна. – Прежде всего мы не знаем, кого именно видел свидетель. Да и вообще, может быть, никакого свидетеля нет, а его выдумали газетчики?
– Если бы это было обычное дело, – поморщилась Амалия, – я бы уже сейчас все знала от Папийона. Но теперь, когда он подозревает Мишу, ни слова мне не скажет.
Баронесса взяла другую газету и принялась читать сообщение о гибели графа, которое начиналось заверением, что столь громкое убийство наверняка станет делом века.
– А вот еще подробности, кстати. Убийца прихватил с собой деньги, драгоценности и какую-то фарфоровую фигурку. Зачем?
– Дорогая, не вижу смысла себя изводить, – примирительно сказала мать. – Ты же сама всегда говорила, что Папийон – один из лучших полицейских Франции. Может быть, просто предоставить ему разбираться с этим делом? Уж он-то наверняка рано или поздно все узнает.
– Кажется, месье Дусе интересуется балетом, – невпопад проговорила Амалия.
Ее мать и Александр переглянулись.
– При чем тут… – начал сын.
Но баронесса уже поднялась с места.
– Велите Антуану приготовить машину. Я спущусь через четверть часа.
К счастью, модельер был дома и сумел ее принять. В нескольких словах Амалия дала понять старому денди, что ее сыну угрожает большая опасность, и спросила, знает ли владелец модного дома, где живет мадемуазель Корнелли.
– Она снимает апартаменты на бульваре Османа, – кивнул Дусе и объяснил, где именно поселилась балерина.
– Вы не знаете, сегодня она выступает?
– Сегодня – нет, насколько мне известно. – И модельер добавил, испытующе глядя на баронессу: – Вы уже пытались поговорить с префектом?
– Боюсь, в данных обстоятельствах это будет истолковано не лучшим образом, – честно ответила Амалия. – К тому же я не настолько хорошо знакома с префектом, чтобы узнавать у него детали полицейского расследования.
– Его жена заказывает у меня платья, – задумчиво промолвил мужчина, – и… гм… подруга тоже. Если вам угодно, я мог бы попытаться навести справки через них.
– Вы меня чрезвычайно обяжете, сударь.
И Амалия улыбнулась самой очаровательной улыбкой, на которую была способна в это мгновение, когда ее сердце сжималось от тревоги.
От Дусе она прямиком направилась к балерине, но той не оказалось дома. Консьерж сообщил, что мадемуазель Корнелли встает не раньше одиннадцати утра, а возвращается не раньше часа ночи. Исключением являются только дни, когда объявлены matinées[224].
Вернувшись к себе, Амалия еще раз перечитала все имеющиеся в ее распоряжении газеты и задумалась. Слуга, обнаруживший тело, весь предыдущий день отсутствовал. С утра вторника граф был в доме один. Также в особняке не было никого, кроме него, и в тот момент, когда туда забрался убийца. Совпадение? Или человек, совершивший это преступление, был хорошо осведомлен обо всем, что творилось в доме Ковалевского, и выбрал самое удачное для нападения время? Но если целью было ограбление, почему тогда просто-напросто не дождаться, когда граф отправится в клуб, и не ограбить пустой дом, абсолютно ничем не рискуя? Зачем вору убивать – ведь во Франции за убийство полагается смертная казнь?
Или главной целью злодея было все же убийство языкатого и малоприятного аристократа, а все остальное – только для отвода глаз? Или, допустим, убийца вовсе не собирался грабить свою жертву, а сделал свое черное дело и ушел, деньги же и драгоценности впоследствии присвоил кто-то другой, к примеру, тот же слуга, который обнаружил тело?
Но если речь шла об убийстве, кому оно могло быть выгодно? Наследникам графа? Или тут замешано что-то личное, никак не связанное с деньгами? Кто… да, да, кто совсем недавно говорил при ней, что не следует спускать обиду, когда можно за нее покарать?
И до чего же скверно, что Михаил поссорился с графом и угрожал ему буквально за несколько часов до того, как…
«Стоп!» – сказала себе Амалия. Еще одно совпадение, как и в случае с домом, в котором нет слуг? Нет, господа, если совпадений слишком много, это уже система.
Решившись, баронесса пододвинула к себе громоздкий телефонный аппарат.
– Миша!
– Да?
Боже, какой у сына недовольный голос!
– Я хотела кое-чего спросить. Кто присутствовал при твоей ссоре с графом Ковалевским?
– Несколько членов клуба. А что?
– Назови мне их, пожалуйста.
– М-м… сейчас вспомню… Там был маркиз де Монкур, потом один промышленник, Фуре, и двое наших: Владимир Феоктистов и господин Урусов.
– Феоктистова я знаю, он родственник посла. А Урусов кто такой?
– Поверенный графа. Он пытался вмешаться и прекратить ссору.
– У кого-нибудь из этих людей были… скажем так, разногласия с графом?
– Что ты имеешь в виду?
– В данном случае – причину, по которой можно пожелать прикончить своего ближнего.
– Не думаю, чтобы у кого-то из них имелась такая причина. Урусов – хороший знакомый графа, они давно дружат. Феоктистов не являлся другом Ковалевского, просто изредка общался с ним в клубе, только и всего. Не могу себе представить, чтобы у него появился повод избавиться от графа. Фуре – буржуа до кончиков ногтей, добродушный, спокойный месье. Он сейчас увлечен автомобилями, ничего, кроме них, его не интересует. Как видишь, совсем не такой человек, чтобы кочергой проламывать голову спящему.
– Ты ничего не сказал о маркизе.
– Потому что это просто смешно. Если бы ты знала Монкура, то поняла бы, почему.
– Я его не знаю, так что расскажи мне о нем.
– Хорошо. В общем, он неплохой человек, но у него властная мать, и она испортила ему характер. Маркиз сделался таким суетливым, боязливым… Понимаешь, Монкур из породы людей, которые вечно тревожатся без всякого повода и постоянно пытаются всем угодить. Из-за этого его за глаза называют флюгером, хотя это не вполне справедливо. Просто ему не повезло с семьей, и…
Пауза.
– Что?
– Ты знаешь, я сейчас кое-что вспомнил. Граф недавно выиграл у него пятьдесят тысяч франков.
– Для обычного человека это огромные деньги. А как насчет Монкура?
– По-моему, для него тоже. Маркиз так и не смог выплатить свой долг.
– Теперь граф убит, и Монкур больше ничего ему не должен… – задумчиво промолвила Амалия. – Ты не знаешь, где он живет? Я хотела бы побеседовать с ним.
– Недалеко от графа, буквально через два дома от него живет, в желтом трехэтажном особняке.
А вот это очень и очень интересно. Уж не окажется ли истинная подоплека этой истории банальнее некуда? Монкур проиграл слишком много денег, занервничал, узнал, что граф остался в доме один, а тут еще ссора Ковалевского с Мишей… Одно к одному, и соблазн слишком велик! Всего-навсего и нужно-то, что забраться в дом к соседу и прикончить того, сымитировав ограбление…
– Сколько лет Монкуру?
– Двадцать два, кажется.
– Можно его назвать нервным человеком, склонным к истерике? Может быть, чтобы он, пусть чисто теоретически, в сложной ситуации потерял голову и нанес спящему двадцать ударов вместо одного?
– Мама, ты требуешь от меня слишком многого, – вздохнул Михаил. – Я сказал тебе то, что думаю, и… и я понятия не имею, способен ли маркиз совершить столь гнусное убийство. Конечно, Монкур слабый человек и слишком много проиграл… но, черт возьми, это же не повод, чтобы действовать таким образом!
– К твоему сведению, людей убивали из-за куда меньших сумм, чем пятьдесят тысяч франков, – сказала Амалия. Баронесса поколебалась, но потом все-таки решилась и спросила: – Скажи, ты не хочешь перебраться к нам? Мы выделим тебе комнату, любую, какую хочешь. Просто у меня душа не на месте, когда ты не с нами. К тому же случилось такое…
– Мама, честное слово, ты зря беспокоишься, – проворчал сын, но по его голосу Амалия поняла, что он тронут. – Я не убивал графа, хотя первый готов признать, что тот был мерзавцем. А в ту ночь я просто решил прогуляться. В конце концов, есть у меня такое право?
«Уж не прогулялся ли ты до бульвара Османа?» – подумала Амалия. Но, зная характер сына, остереглась задать этот вопрос вслух.
В любом случае завтра она вплотную займется собственным расследованием. Если Михаил не хочет отвечать на ее вопросы – что ж, придется узнать ответы на них от других.
Глава 7 Запасная связка
– Момент для нападения был выбран очень точно, – сказал Папийон на совещании в пятницу утром. – Готовясь к переезду, граф рассчитал всех слуг, кроме своего личного камердинера. Но его он отправил сопровождать тяжелобольного брата – и таким образом остался в доме один. В четверг слуга должен был вернуться, поэтому убийца, кто бы он ни был, понял, что ему надо действовать быстро. Согласно отчету врача, смерть графа наступила более чем за сутки до того, как было обнаружено тело, что приводит нас к ночи со вторника на среду. Последний раз графа видели живым около одиннадцати вечера во вторник, когда тот вышел из такси возле своего дома и расплатился. Водитель такси запомнил что-нибудь особенное, Мерлен?
– Нет. На всякий случай я спросил его, не видел ли он кого-нибудь возле особняка, не преследовал ли кто-нибудь их машину, но мужчина ответил отрицательно. Однако запомнил, что, когда отъезжал, граф сам отпирал входную дверь ключом.
– Разумеется, ведь в доме никого не было, – усмехнулся комиссар.
– А убийца не мог уже прятаться внутри? – высказал предположение Бюсси. – Допустим, он забрался в пустой дом, тут вернулся граф…
– Тогда изначально это все-таки не убийца, а грабитель, – ответил Папийон. – И к тому же дурак, если у него не хватило ума схватить цацки и затаиться, а потом, не потревожив графа, который вскоре лег спать, сбежать.
– А что, если грабитель произвел какой-то шум, граф прибежал и схватился с ним? Грабитель убил его, а потом перетащил в спальню.
– И где тут смысл? – Папийон пожал плечами. – Зачем терять время и устраивать совершенно бессмысленную инсценировку, когда в случае убийства самое благоразумное поскорее сделать ноги?
Молодые коллеги потупились, признавая правоту шефа.
– Кроме того, наши эксперты категоричны – нигде в доме нет следов убийства, кроме спальни, – добавил Папийон. – Итак, около одиннадцати вечера граф вышел из такси, расплатился, открыл дверь, поднялся к себе, почитал на сон грядущий газету «Фигаро» – ее нашли на столике возле кровати, а может быть, и не стал читать, сразу же лег спать. По словам слуги, его господин не любил ложиться после полуночи. Допустим, около полуночи Ковалевский уже спал. Вскоре в дом забрался некто, убил графа, забрал некоторое количество ценностей и ушел. Причем скрылся, судя по всему, через черный ход, ведь дверь там позже обнаружили открытой. Весьма возможно, что и в дом убийца вошел там же. Наш эксперт Вердаль осмотрел замки парадного и черного хода и высказывается вполне категорично: следов отмычки нет, обе двери открывали только родными ключами. Окна в доме закрыты, и наши эксперты, осмотрев их, опять же заявили единодушно: проникновения через них не было.
Комиссар сделал крохотную паузу.
– Теперь переходим к показаниям Розы Тесье. Около полуночи женщина заметила человека, который вертелся возле особняка графа. Примерно через полчаса она увидела, что мужчина бежит обратно, и на руке у него была кровь. Судя по ее описанию, это вполне может быть русский офицер барон Корф, который поссорился с графом за несколько часов до того. Ну, у кого какие соображения?
– Все сходится, – объявил Бюсси. – Убийца – он.
– У меня есть сомнения, – подал голос Мерлен. – Откуда офицер взял ключ? Зачем ограбление? Как-то все это не вяжется. И потом, если убийца проник в дом через черный ход, то показания Розы не стоят ничего, потому что она видела мужчину возле парадного.
– Ага! – многозначительно молвил Папийон. – Но мы не знаем точно, через какую из двух дверей проник в дом убийца. Это раз. Второе: когда барон, если это и впрямь он, бежал обратно, в руках у него ничего не было. Куда он дел деньги, драгоценности и эту чертову фарфоровую статуэтку высотой сантиметров в двадцать, изображавшую урок музыки?
– Все просто: графа ограбил не он, – сказал Бюсси.
– Поясни, – попросил комиссар.
– Убийца проник в дом, чтобы разделаться с графом. Выполнил задуманное и бежал через черный ход. Дальше, может быть, уже в среду некто заметил, что дверь черного хода приоткрыта, вошел в дом, понял, что в нем нет ни единой живой души, украл деньги и вещи и был таков.
– Тогда у нашего грабителя стальные нервы, – усмехнулся Папийон. – Рыться в столе, когда рядом лежит такой труп… На месте грабителя я бы не стал соваться в спальню, а от греха подальше пошел в кабинет и поискал бы там в ящиках бюро.
– А что, если у грабителя хватило сообразительности украсть только фарфоровую статуэтку? – предположил Бюсси. – Барон же унес деньги и ценности. Для отвода глаз. А спрятал их в карманах, ведь нередко в плащах имеются очень вместительные карманы.
– А ключ? – упрямо спросил Мерлен. – Ключ у него откуда?
– Не знаю. А не мог он случаем украсть его у графа прямо в клубе?
– Это мысль, – одобрил Папийон. – Надо будет попросить слугу проверить, все ли ключи графа на месте. Бюсси, тебе удалось выяснить что-нибудь насчет уволенных слуг Ковалевского?
– Проверяю, патрон, но пока все чисто. Никто из них ни в чем криминальном не замечен.
– Продолжай проверку, – распорядился Папийон. – А ты, Мерлен, дуй-ка в автомобильный клуб. Мне нужно знать, во что барон Корф был одет, когда во вторник вечером уходил оттуда. Особое внимание обрати на головной убор.
– Понял, патрон!
– Если мы припрем его к стенке, нам нужны железные доказательства. На одном свидетельстве Розы далеко не уедешь. Я уж молчу о том, как его воспримут добропорядочные присяжные заседатели, которые будут разбирать дело в суде… Все, вы свободны.
Оставшись один, комиссар достал свои записи и задумался, но буквально через минуту его потревожил телефонный звонок. На связи снова был префект полиции Валадье.
– Комиссар, как русское дело? Продвигается?
– Прогресс есть, – подтвердил Папийон, который отлично знал, что с чиновниками самое лучшее – говорить их же излюбленными штампами.
– Газетчики как с цепи сорвались, – пожаловался префект. – Еще бы, давно ничего похожего на сенсацию не было, а тут такое громкое убийство… Вам известно, что брат покойного уже пообещал через газеты награду тому, кто поможет полиции отыскать убийцу?
Папийон даже поперхнулся от раздражения.
– Господин префект, это же кошмар!
– О чем вы, господин комиссар?
– Теперь все парижские сумасшедшие будут нас осаждать своими сообщениями, что они когда-то что-то видели! До чего же это некстати…
– Комиссар, я вас не узнаю. Лично я вполне понимаю месье Анатоля. Люди опасаются иметь дело с полицией, но когда им дают понять, что они могут немного заработать, тогда может выясниться что-нибудь важное…
– Комиссар! – В дверь просунулась голоса Мерлена. – К вам слуга графа. Впустить?
Не то чтобы Папийон предвкушал особое удовольствие от разговора с Савельевым, но он с радостью ухватился за предлог завершить беседу с префектом. И, буркнув, что у него срочное дело, швырнул трубку на рычаг, скомандовал:
– Давай его сюда.
Николай Савельев вошел и, даже не успев сесть, сказал, что у него есть для комиссара важная новость.
– Я вас слушаю, – кивнул Папийон.
– Мне все не дает покоя дверь черного хода, – признался слуга.
«Не тебе одному», – усмехнулся про себя комиссар.
– Хорошенько все обдумав, я решил, что убийца мог проникнуть в дом этим путем и, вероятно, так же уйти. Поэтому я стал проверять, на месте ли ключи от черного хода.
Мужчина сделал эффектную паузу.
– И? – поторопил его Папийон.
– Всего у нас семь ключей от черного хода: три были у уволенных слуг, один у меня, один у господина графа, и два запасных, которые хранятся в ящике комода. – Савельев вздохнул. – Так вот, господин комиссар, запасные ключи оказались на месте, равно как и полученные от слуг. Мои тоже у меня, и я никому их не давал. А ключа, который был у господина графа, на месте нет.
В доказательство своих слов Савельев извлек из кармана небольшую связку ключей, снабженную щегольским золотым брелоком.
«Так что же, – изумился комиссар, – получается, Бюсси прав?»
Но сначала он решил выяснить кое-какие детали.
– Ваш хозяин носил при себе ключи от черного хода?
– Иногда. Видите ли, у него было две связки. Одна, так сказать, основная, а эта – запасная. Здесь ключи, которыми он пользовался редко или только в определенных случаях. Вот, например, ключ от секретера. Этот – от лакового бюро, но хозяин никогда его не запирал. Дальше – от несгораемого шкафа, который находится в Петербурге, еще эти четыре – от каюты хозяина и других помещений на яхте. Следующий – от нашей петербургской квартиры. Рядом с ним висел ключ от черного хода, но сейчас его нет.
– А этот от чего? – спросил комиссар, показывая на последний ключ на связке.
От него не укрылось, что Савельев слегка замялся.
– Полагаю, графу уже не будет вреда, если я скажу… – пробормотал верный слуга. – От квартиры госпожи Тумановой, с которой хозяин встречался.
– Она была его любовницей?
– Да. Дама жила отдельно, чтобы не афишировать отношения с графом. Дело в том, что госпожа Туманова замужем.
– В каких именно определенных, как вы сказали, случаях месье Ковалевский брал с собой данную связку? – поинтересовался комиссар. – Когда встречался с госпожой Тумановой, например?
– Разумеется. Или когда полагал, что ему может понадобиться по какой-то причине вернуться через черный ход. Например, когда отмечали именины господина Урусова, я видел, как граф взял с собой эту связку.
– Зачем?
– Хозяин сказал, что Урусов не жалеет выпивки, – с видимым отвращением к несообразительности полицейского ответил слуга, – и ему не хотелось, чтобы его видели соседи, если он… э… выпьет больше положенного.
Комиссар задумался.
– Скажите, а во вторник господин Ковалевский мог взять с собой вторую связку ключей?
– Думаю, мог. Граф же знал, что в доме никого не будет. Вдруг ключ от парадного хода сломается, к примеру…
Или если господин граф выпьет больше положенного, докончил про себя Папийон. Машинально он взял связку и стал перебирать ключи. Что-то подспудно беспокоило его, но пока ему не удавалось сообразить, что именно.
– Нет, просто потерять ключ нельзя, – подал голос Савельев, который совсем иначе истолковал манипуляции и задумчивость полицейского. – Видите, какое прочное кольцо, на котором они все держатся? Его могли только украсть.
Ну да, ну да, разумеется… Папийон усмехнулся своим мыслям.
– А скажите-ка мне вот что… Вы знаете барона Корфа? Михаила Корфа?
– Да, мне знакомо это имя.
– Он часто бывал дома у графа?
– В Париже или в Петербурге?
– В Париже, разумеется.
– Никогда.
Хм, любопытно. Хотя, с другой стороны, что мешало барону догадаться, что в особняке графа есть черный ход? Тоже еще невидаль, такие двери есть почти во всех парижских домах…
Итак, Корф повздорил с графом и взбесился, так как тот дал ему понять, что не станет драться на дуэли. Тут барон некстати вспомнил, что его враг сейчас в доме один, ведь граф, возможно, при нем кому-то говорил об этом… Офицер украл в клубе ключ и пошел сводить счеты. Бродил возле особняка, потому что не мог решиться, потом отправился к черному ходу… Убегал в ужасе от совершенного им преступления, оттого и все мысли о двери вылетели у него из головы, вот и не запер ее за собой.
Не запер… Какого черта! Вовсе не дверь важна сейчас, а ключ! Как же он сразу не понял, не додумался, не догадался?
– Скажите, раз уж вы, по-видимому, все знаете о жизни своего хозяина… На том ключе от черного хода была какая-нибудь надпись? Ну, мол, это ключ от черного хода…
– Нет, месье.
– Может быть, он как-то выделялся?
– Я бы не сказал, месье… Ключ как ключ.
Вот так-то. После свидетелей в сыскном деле нет ничего важнее деталей, и всегда прежде всего надо проверять именно их.
Если Корф не дружил с графом и не был знаком с его привычками, откуда ему знать о второй связке? И о том, что граф вообще носит с собой ключ от черного хода? Не всегда носит, кстати сказать! И как он мог распознать на связке почти одинаковых ключей тот, что был ему нужен? Как? Как?
Или комиссар не прав, и барону кто-то успел рассказать о привычках графа и второй связке? Кто именно? При каких обстоятельствах?
– Благодарю вас, – сказал Папийон. – Вы задали мне интересную задачку!
– Я считал, что должен рассказать вам все, что может помочь, – искренне ответил слуга, и комиссар невольно устыдился своего излишне ироничного тона. – Кроме того, я в любом случае собирался идти к вам. Потому что получил телеграмму от месье Анатоля по поводу похорон… Он уполномочил меня распорядиться насчет перевозки в Россию тела. Если мой бедный хозяин… если господин граф вам больше не нужен… – слуга запнулся.
– Я полагаю, вы можете забрать тело, – кивнул Папийон, подумав. – Время смерти и ее причина уже установлены, так что нет нужды в дополнительных изысканиях. – Он немного поколебался. – Скажите, а месье Анатоль не сможет приехать в Париж? Я хотел бы задать ему несколько вопросов о его брате.
– Боюсь, что у месье Анатоля не то здоровье, чтобы сейчас предпринимать путешествие в Париж, – дипломатично ответил слуга. – Он очень болен, и из-за вестей о брате его состояние вовсе не улучшилось. Скажу вам откровенно, если бы это зависело от меня, я бы вообще предпочел его не беспокоить, но он бы и так узнал все из газет…
– Скажите, а братья ладили между собой?
– Вы имеете в виду, были ли между ними дружеские отношения?
– И это в том числе.
– Как вам сказать… – Савельев вздохнул. – Месье Анатоль был в семье любимцем, в отличие от старшего брата. Сами понимаете, что графу такое положение было не очень по душе, и они с братом нередко ссорились. Однако когда месье Анатоль заболел, господин граф забыл все разногласия и принял в нем большое участие. Платил докторам, за пребывание в санаториях… и за все остальное тоже.
– Остальное?
– Карточные долги месье Анатоля. Он ведь тоже был азартный игрок. И… и не пренебрегал другими развлечениями. Их мой хозяин тоже оплачивал.
Однако не слишком веселая жизнь была у погибшего аристократа, подумал Папийон. Жена при разводе чуть не пустила бывшего супруга по миру, младший брат – транжира и туберкулезник… Да еще попался на его пути мстительный барон Корф, с которым он поссорился, переоценив свою безнаказанность, и который, вероятно, убил злоречивого шутника.
Глава 8 Очевидцы ссоры
В пятницу утром Амалия прежде всего отправилась в посольство и попросила встречи с российским послом, князем Д. От нее не укрылось, что ее приняли не сразу, а когда она увидела лицо князя, последние сомнения баронессы развеялись окончательно.
– Чрезвычайно неприятное дело, – промямлил князь, упорно избегая ее взгляда. – Я знал покойного Павла Сергеевича, знал его семью, и кто бы мог подумать…
Посол умолк, скорбно покачав головой, и Амалия поняла, что князь в курсе расследования, которое проводит Папийон, и что ее сына уже считают виновным. Или, по крайней мере, основным подозреваемым. И хотя знала, что ее слова не произведут никакого впечатления, она все же не удержалась – сказала, что Михаил не может быть причастен к этому жуткому преступлению.
Князь покосился на нее, и баронесса чем угодно поклялась бы, что в то мгновение он подумал: «Все матери преступников так говорят».
– Кажется, Михаил Александрович собирается на неделе возвращаться в Петербург? – светским тоном осведомился посол.
Это уже был прямой намек на то, что ее сыну лучше всего уехать, пока подозрения полиции не обратились в уверенность. И на лице князя отразилось неудовольствие, когда Амалия ответила, что Михаил пока не намерен никуда уезжать.
– Разумеется, вы можете рассчитывать на наше содействие в любых обстоятельствах, – добавил посол. – Будем надеяться, что полиция отыщет убийцу и что им окажется какой-нибудь слуга или апаш[225].
Сие означало: а если преступником окажется ваш сын, мы, сударыня, будем вам чрезвычайно признательны, если вы не станете впутывать нас в столь дурно пахнущее дело.
Амалия покинула особняк, кипя от сдерживаемого гнева. Впрочем, это был не последний визит, который она собиралась нанести сегодня, и она призвала себя к порядку, чтобы не терять ясность мысли. А затем самой себе скомандовала: «Теперь – к Феоктистову!»
К счастью, молодой человек не стал испытывать ее терпение и сразу же согласился принять посетительницу. Баронесса окинула его внимательным взглядом. Чистенький, свеженький, приятный брюнет, который постоянно улыбается и которого наверняка обожают его мать, вредная богатая тетка, если таковая имеется, слуги, женщины и собаки. И, хотя Владимир не позволил себе никаких намеков, она почему-то была уверена, что гибель графа только позабавила смешливого юношу с таким положительным лицом.
– Да, – подтвердил Феоктистов, – я видел, как ваш сын поссорился с графом. Барон даже хотел дать ему пощечину, но граф перехватил его руку.
Амалия нахмурилась: о пощечине Миша не упоминал. Значит, ссора была и впрямь серьезной.
– Кто еще слышал их перепалку?
– Георгий Иванович. Он сразу кинулся их разнимать.
– Вы имеете в виду…
– Господина Урусова. Еще неподалеку находился маркиз де Монкур, который таращил глаза и не понимал, что происходит. Я стал ему объяснять, мол, ничего особенного, просто господин барон пообещал убить графа, да вовремя одумался, тем более что Павел Сергеевич объявил, что дуэлей не признает. По-моему, маркиза глубоко возмутила эта ссора, – беспечно прибавил Феоктистов.
– А вас?
– Меня?
– Да, какое впечатление она произвела на вас? Только честно, – добавила баронесса с улыбкой.
Владимир вздохнул.
– Честно? Что ж, хорошо. Так вот, граф умел быть приятнейшим собеседником, когда хотел. Но иногда на него находило, и он становился невыносимым. Однако не могу представить себе, чтобы его убили из-за этого.
«А ты все-таки не ответил на мой вопрос, – подумала Амалия. – С другой стороны, все и так понятно. Граф Ковалевский не нравился людям. Интересно, почему?»
– Кроме вас, Урусова и Монкура, кто-нибудь присутствовал при ссоре?
– М-м… Месье Фуре невдалеке дремал в кресле, делая вид, что читает газету, и перебранка его разбудила. Не думаю, впрочем, что он понял, о чем шла речь, ссорились-то по-русски.
«Монкур тоже не понял, однако ему ты все объяснил, – отметила про себя баронесса. – Любопытно…»
С другой стороны, почему она думает, что графа убил некто, кто слышал ссору и сообразил, как использовать ее в своих целях? Мало ли кому Феоктистов, Урусов и Монкур могли проболтаться о конфликте графа Ковалевского с Михаилом… Да и Фуре тоже, по правде говоря. На каком бы языке ни говорили рядом с вами, вы всегда сумеете понять, что собеседники ссорятся – их выдают интонации, жесты и выражение лица.
– Лично вы кому-нибудь говорили во вторник о ссоре?
– Вы имеете в виду, до того, как убили графа? Нет, никому.
И Амалия поняла, что молодой человек, вроде недалекий с виду, ухватил нить ее рассуждений и прекрасно понимает, в каком направлении она пытается вести следствие. Что было не очень приятно, поскольку Амалия, как и любой другой сыщик, не любила, когда ее планы становились явными. Однако она пересилила себя и улыбнулась.
– Кто, по-вашему, мог это сделать?
– Вы говорите об убийстве? Понятия не имею, госпожа баронесса, – ответил Феоктистов, пожимая плечами и глядя на нее совершенно хрустальными, честными глазами.
– Я спросила, кто мог сделать, а не кто сделал, – тихо напомнила Амалия.
– По-видимому, кто-то небогатый, кто имел к графу личные претензии, причем достаточно серьезные, чтобы убить его и вдобавок ограбить, – без колебания ответил молодой человек. – Скажем, какой-нибудь слуга, у которого он увел женщину. Я, конечно, фантазирую, понимаете? Тот, кому позарез нужны были деньги и кто ненавидел графа. Но, боюсь, никакого конкретного кандидата у меня нет.
– А граф пользовался у женщин большим успехом? – продолжила с любопытством Амалия.
– Как вам сказать, сударыня… – Феоктистов вздохнул. – Я бы сказал, его боготворили прачки, горничные и… всякие такие особы… Я правильно понимаю, что вас интересует все, даже сплетни?
– Сплетни – особенно, – без намека на улыбку откликнулась баронесса. – Сплетни – кривое зеркало, в котором в искаженном виде отражается действительность. Чтобы сплетня была живучей, она должна содержать в себе черты реальности. Нет никакого смысла распространять о человеке слухи, что тот пьяница, если всем известно, что он не пьет.
– В таком случае берегитесь, – оживился Феоктистов, – я расскажу вам все сплетни о покойном графе, которые доходили до моих ушей. Во-первых, его супруга. Графиня Ковалевская обожала мужа, и тот, кажется, тоже был в нее влюблен, но быстро охладел и сделал все, чтобы оттолкнуть от себя. В конце концов они развелись, причем графиня отобрала значительную часть семейного состояния. Забыл, правда, добавить, что в основном это было ее собственное состояние, потому что она принесла мужу богатое приданое. – Владимир улыбнулся озорной мальчишеской улыбкой. – Какая жалость, что преступление случилось не в романе – графиня была бы, наверное, одной из первых подозреваемых. Однако мы имеем дело с жизнью, в которой мадам Ковалевская пребывает в Ницце, слишком далеко от места убийства. Увы!
– Что еще вам известно? – спросила Амалия, зорко наблюдая за собеседником, который, как она уже отлично понимала, оказался вовсе не прост.
– Во-вторых, актрисы и балерины, – продолжал молодой повеса. – Имя им легион, прошу прощения… Их граф даже не считал за значительные… гм… завоевания. О прачках я уже, кажется, говорил. Что касается остальных женщин, то их тоже было немало. Как я понял, отношения развивались всегда одинаково: дама встречает графа, влюбляется в него, иногда чуть ли не до потери рассудка, а расставшись с ним, знать его не хочет.
– Балерина Корнелли тоже не хотела его знать? – спросила баронесса.
– Кажется, она была последним его увлечением. Хотя, может, и предпоследним. Или одной из предпоследних, скажем лучше так. Потому что граф куда охотнее говорил о своих былых победах, чем о нынешних, а ссора произошла как раз из-за нее. Так или иначе, что-то у них было определенно.
– Может быть, вы знаете определенно о ком-нибудь еще?
– Ах, сударыня, сударыня… – проворчал, усмехнувшись, молодой человек. – Ну я же не проводил свои дни, регистрируя увлечения покойного Павла Сергеевича… Ходили слухи, что у него был роман с госпожой Тумановой, к примеру. Одно время говорили даже, что граф затеял на ней жениться, но муж не давал ей развода, а у них двое детей. Сами понимаете, в таких обстоятельствах ждать развода придется очень долго.
– А где живет госпожа Туманова? В России?
– Нет. Ее муж большую часть времени проводит в России, она же предпочитает оставаться в Париже. Граф снял для нее особняк и оплачивал все расходы, пока они не расстались. Сейчас ее расходы оплачивает кто-то другой, хотя дама уверяет, что ее содержит семья.
– Вы знаете госпожу Туманову?
– Да. Очаровательная брюнетка, взбалмошная, капризная… бездна обаяния. Имя ей дали в честь Марии Стюарт, потому что предки дамы были из рода Стюартов – во времена Петра кто-то из них переселился в Россию, вот от него-то и происходит Мария Антоновна. Похоже, по части покорения мужчин она пошла в свою прапра… словом, в королеву. Георгий Иванович как-то сказал, что подобные женщины – гибель для мужчин и их кошелька. Впрочем, Георгий Иванович не слишком жалует мадам Туманову – та своими тратами чуть не разорила его друга Ковалевского, дела которого он ведет.
– Значит, покойный Павел Сергеевич был щедрым человеком?
– Хм… Я бы сказал, он был щедрым только с теми, кто был ему по душе. А вот милостыню нищим не подавал, говорил, что поощрять лень – грех.
– Даже так?
– Да, сударыня. Хотя, вы знаете, я сейчас вспомнил: однажды граф при мне дал большие деньги калеке, который просил подаяние. Но в том случае было совершенно очевидно, что этого человека никто на работу не возьмет, мужчина побирается, потому что у него нет другого выхода.
Выйдя наконец от Феоктистова, который забросал ее всевозможными сведениями, баронесса даже приостановилась, чтобы перевести дух. Женщины, щедрость и мелочность, пощечина, Туманова, Корнелли, графиня в Ницце… Пригодится ли ей хоть что-нибудь из столь разнородной информации?
«Конечно, Феоктистов не считает, что мой сын убил графа, но если Мишу арестуют, он будет воспринимать это как забавный анекдот», – в сердцах помыслила Амалия.
И отправилась с визитом к маркизу де Монкуру.
Худой и бледный молодой человек с узким, маловыразительным лицом принял ее тотчас же. Он с порога принялся заверять гостью, что не верит в виновность ее сына, причем так многословно, с такими комплиментами, что у Амалии немедленно пропала охота расспрашивать его о чем бы то ни было. Сразу было видно – собеседник трусоват и, скорее всего, ненаблюдателен. Тем не менее она все же задала несколько вопросов о ссоре в клубе. И на нее хлынула новая лавина велеречивостей:
– Я был поражен… Господин Корф всегда был столь учтив, казался таким воспитанным молодым человеком…
Возможно, подобным образом мог бы выражаться какой-нибудь старик или человек старшего поколения, но Амалию озадачило, что эти слова принадлежат юноше, который на три года младше ее сына.
– И вдруг ужасная ссора, ни с того ни с сего… Мишель вскочил, стул опрокинулся… Граф перехватил его занесенную явно для пощечины руку… К счастью, месье Урусов сидел за одним столом с ними и кинулся разнимать ссорящихся… Мне показалось, они сейчас раздавят его – ведь и барон, и граф люди высокого роста, а месье Урусов гораздо ниже… Но все же мужчины послушались его и разошлись.
– А где был господин Феоктистов?
– Тоже сидел за столом, но не вмешивался. Потом он мне объяснил, что это была личная ссора, а в России не принято встревать в таких случаях. – В тоне маркиза звучало осуждение.
– Скажите, у графа часто случались конфликты? – спросила Амалия.
Монкур задумался.
– Нет. Он был очень вежливый, прекрасно воспитанный господин. Аристократ до кончиков ногтей.
– То есть человек, с которым вы легко могли бы подружиться?
На худом лице молодого человека отразилось колебание.
– Видите ли, сударыня… Граф был старше меня, а дружба легче складывается между ровесниками. Вы не находите?
– Я спросила, так сказать, в общем смысле, – улыбнулась баронесса. – У графа Ковалевского было много друзей?
– Разумеется! Он со всеми был знаком, бывал в опере, я видел его в театрах…
Амалия тихо вздохнула. Как объяснить застенчивому и, судя по всему, не слишком счастливому юноше, что знакомые – это одно, друзья же – совсем другое?
– А женщины?
– Право же, сударыня… Вы вынуждаете меня вторгаться в такую область…
Просто мучение, а не свидетель, с досадой подумала Амалия. Для того, кто ведет следствие, нет ничего хуже таких вот несообразительных, чрезмерно щепетильных людей, живущих в плену условностей.
– Мне говорили, что граф развелся со своей женой. Он был влюблен в кого-нибудь?
– Нет… Граф был очень одинок…
Юноша запнулся, смущенный тем, что посетительница, золотоглазая и чуждая его миру – он инстинктивно ощущал это – дама, все-таки вынудила его вторгнуться в то, что он считал личной жизнью другого человека, то есть в область совершенно неприкосновенную.
– Скажите, господин маркиз… А правда, что вы проиграли графу Ковалевскому пятьдесят тысяч франков?
Монкур как-то затравленно оглянулся, съежился в кресле и, словно инстинктивно отгораживаясь от собеседницы, скрестил руки на груди.
– Не вижу причин отрицать это… – наконец выдавил он из себя. – Да.
– И вы заплатили? Огромные ведь деньги.
– Мы договорились иначе, я должен был отдать в счет долга мою долю в конном заводе, – устало объяснил молодой человек.
– Сочувствую вам, – серьезно произнесла баронесса. – Скажите, вы успели подписать соответствующие бумаги?
– Нет, не успели. Мы обговаривали детали соглашения, и вдруг граф погиб.
– В последнее время у Павла Сергеевича случались другие крупные выигрыши? Может быть, он выиграл еще у кого-нибудь большую сумму?
– Если и так, мне ничего об этом не известно, – с достоинством откликнулся маркиз.
– Кто, по-вашему, мог убить графа Ковалевского?
Задавая вопрос, Амалия не сомневалась в том, какой последует ответ, и маркиз вполне оправдал ее ожидания.
– Я полагаю, дело полиции разобраться в преступлении.
– И все же? Наверняка ведь у вас есть какие-то собственные соображения?
– Да, конечно. Но я предпочитаю не высказывать их, не имея никаких доказательств. А теперь простите, госпожа баронесса, у меня дела.
Выходя от Монкура, Амалия испытала соблазн заглянуть в особняк графа, расположенный по соседству, но перед ним по-прежнему стояли несколько зевак, и какой-то фотограф, полыхая магнием, делал снимки. «Еще не хватало матери главного подозреваемого попасться в объектив», – невесело подумала Амалия. И, опустив на лицо вуаль, велела Антуану везти себя к промышленнику Фуре.
Глава 9 Тень стрекозы
Господин Фуре поднялся из-за заваленного бумагами стола навстречу гостье и, окинув ту внимательным взглядом, учтиво поцеловал ей руку. Едва увидев лицо почтенного буржуа, баронесса подумала: «О, да вас не проведешь, сударь…»
Из-под лохматых бровей на нее смотрели маленькие, но очень цепкие глаза; объемистое брюшко наводило на мысль о добродушном и сытом господине, а короткие толстые пальцы словно заблаговременно были созданы всеведущей природой, чтобы удобнее было пересчитывать бумажные деньги. Таким образом, у месье Фуре имелось три ипостаси: одна – наблюдатель, примечающий все на свете, другая – благодушный гурман и третья – финансист. В данную минуту Амалию больше всего интересовала первая.
– Автомобильный клуб? Чепуха, хотя повар там отменный. В автомобилях любой шофер разбирается куда лучше всех членов клуба, вместе взятых… Что? Ссора? Конечно, я там был, хоть и мало что понял. Были произнесены какие-то слова, после которых ваш сын взвился, как ужаленный. Я разобрал только слово «дуэль». Глупость несусветная, по моему мнению. Простите меня, но если бы ваш сын – или кто-то другой, неважно – просто надавал графу по физиономии за его выходку, этак, знаете ли, по-простонародному, тот бы сразу же присмирел. Когда человеку все сходит с рук, он наглеет.
– Скажите, месье, а какого вы вообще мнения о графе Ковалевском?
Фуре метнул на посетительницу хмурый взгляд.
– Вы действительно хотите это знать?
– Да. Вы производите впечатление чрезвычайно опытного человека, которого не проведешь.
Амалия произнесла ровно то, что думала, однако делец воспринял ее слова как попытку тонко польстить – и расплылся в обаятельной улыбке, совершенно неожиданной у человека такого склада.
– О! Ну, если вас интересует мое мнение, сударыня, то вот оно: вашей стране не миновать революции.
– Простите? – переспросила озадаченная Амалия.
– История, сударыня, история! Мы своим Ковалевским отрубили головы в 1789-м, а ваши до сих пор ведут себя так, словно им ничто не угрожает, да и угрожать не может. – Фуре вздохнул. – Вы спросили меня, что я думаю о графе. Лично я удивлен, что этот месье еще так долго пробегал. Он уже давно должен был получить свое.
– Граф был настолько неприятной личностью?
– Дело не в том, приятен человек или неприятен, а в его душевном содержании, – веско заявил финансист, наслаждаясь каждым словом.
Судя по всему, в обычной жизни мужчине нечасто доводилось поговорить на подобные темы, а когда к нему явилась баронесса Корф, он инстинктивно почувствовал, что может беседовать с ней о том, о чем не стал бы распространяться с другими.
– Важно, что у человека внутри, понимаете? Манеры, титулы – вздор, чепуха. А внутри у графа была большая гниль. Когда мужчина, посмеиваясь, рассказывает, как из-за него порывалась отравиться некая женщина, и все вокруг слушают с почтительным видом – это симптом. Он обыгрывает дурачка, которому явно нечем платить проигрыш, и когда тот порывается уйти, раз за разом возвращает его на место, не силой, заметьте, а разными замечаньицами, как бы снисходительными, да с ехидной улыбочкой – это еще один симптом. Если человек в холодный день открывает окно возле своего брата, у которого последняя стадия чахотки, и заботливо спрашивает, не дует ли ему, – это такой симптом, что дальше некуда. Можете мне поверить, я долго наблюдал за графом. Он принадлежал к породе людей, уверенных, что им все можно, потому что никто не осмеливался поставить их на место. И ведь нельзя сказать, что месье Ковалевский был как-то особенно жесток – нет, ничего подобного. Граф был всего лишь мелкий, гнусный пакостник, которому нравилось испытывать свою власть над людьми, и при этом мог очень умно рассуждать о свободе, подоходном налоге и о том, как прелестно танцует мадемуазель Павлова. В нем было что-то от маленькой собачки. Знаете, такое вроде милое существо, так и подмывает его погладить… И вот вы гладите, песик виляет хвостом, вы улыбаетесь, весь расчувствовавшись, и вдруг видите, что симпатяга норовит исподтишка тяпнуть вас за палец. Только вот граф не был маленькой собачкой и кусал порой больно.
– Я вижу, Ковалевский когда-то едва вас не провел, – уронила Амалия, глядя собеседнику в глаза.
– Что есть, то есть, вы правы, сударыня, – усмехнулся Фуре. – Если вы его не знали, он вам казался очень обаятельным человеком и поначалу производил весьма выгодное впечатление. Счастье мое, что я крайне недоверчив, и чем любезнее граф становился со мной, тем напряженнее я себя чувствовал в его присутствии. А когда он стал меня расспрашивать – разумеется, намеками, будто в виде шутки, – как бы ему пустить по миру одного бедолагу, подав ему мысль купить не те акции, окончательно решил, что от него лучше держаться подальше.
– Кто же такой этот бедолага? – поинтересовалась Амалия.
– У меня создалось впечатление, что его адвокат.
– Вряд ли. Насколько мне известно, Ковалевский с Урусовым дружили.
– Граф не мог ни с кем дружить, – покачал головой Фуре. – Как говорил мой покойный отец, у свиней не бывает друзей. Простите, сударыня…
– Скажите, дурачок, которому нечем было платить проигрыш, случаем не маркиз де Монкур?
– Он самый.
– А женщина, которая пыталась отравиться, когда граф ее бросил?
– Не знаю. Я услышал только часть истории и сразу же ушел.
– Вам известно что-нибудь о балерине Корнелли и госпоже Тумановой? В каких отношениях они были с графом Ковалевским?
– Понятия не имею. Хотите знать мое мнение, сударыня? – почти весело спросил Фуре. – Женщина, которая связывается с таким типом, немного стоит, поверьте мне!
– И последний вопрос, чтобы больше не отнимать у вас время. Кто, по-вашему, мог убить графа?
Фуре задумался.
– Вот тут, мадам, признаюсь честно, я в тупике. То есть я говорил вам, что граф уже давно мог получить по заслугам, и так далее, но, видите ли, это рассуждая логически. А опыт убедил меня, что на логику можно полагаться только наполовину, если речь идет о людях. Ведь они дьявольски изворотливы именно тогда, когда им надо уходить от, выражаясь языком романов, возмездия. В жизни возмездие всегда выглядит так: положим, вы пустили кого-то по миру, и тот человек повесился; но проходит десять лет, является некто и пускает по миру вас, причем сей «некто» не имеет никакого отношения к тому, кого вы погубили. Поэтому «Графа Монте-Кристо» будут читать всегда – в жизни подобного не бывает!
– Что ж, поверю вам на слово, – сказала Амалия, поднимаясь с места. – Хотя Дюма писал свой роман по мотивам реальной истории… Всего доброго, месье Фуре. Очень рада, что мне удалось побеседовать с вами.
И она отправилась к Георгию Ивановичу Урусову, поверенному графа, надеясь узнать несколько интересующих ее деталей.
Урусов был дома, но, как сообщил слуга, у него находился посетитель. Минут через пять слуга вернулся и сказал, что хозяин будет счастлив принять госпожу баронессу.
Поверенный графа оказался невысоким господином средних лет с ухоженной бородой. Его внешность можно было бы описать черту за чертой, что, впрочем, не избавило бы от необходимости признать в конце концов, что в ней не имелось ровным счетом ничего необыкновенного. Урусов чрезвычайно сердечно приветствовал Амалию (которую видел первый раз в жизни) и спросил, чем может быть ей полезен.
«Интересно, чем объясняется эта любезность? – подумала баронесса. – Уж не рассчитывает ли он записать меня в свои клиентки?» От нее ничто не укрылось – ни то, что квартира Урусова обставлена не слишком богато, ни аромат модных духов «Коррида», витавший в воздухе. Стало быть, до нее у адвоката был не посетитель, а посетительница, и чутье упорно нашептывало Амалии, что та приходила вовсе не по делу, требовавшему юридического вмешательства.
Амалия объяснила Урусову, что знала графиню Ковалевскую, что ее сын был знаком с графом, и вообще это такая трагедия, страшнее которой трудно что-нибудь вообразить. Урусов с умным видом слушал, кивал и вздыхал.
– Скажите, а господин граф не оставил завещания? – перешла наконец баронесса ближе к теме.
– Нет, сударыня. Он очень не любил говорить о том, что будет после его смерти. И вот, видите, как все обернулось…
– Кому же достанутся его богатства?
– Боюсь, слухи о богатстве покойного графа сильно преувеличены, – сдержанно улыбнулся Урусов. – Павел Сергеевич совершил много… гм… необдуманных трат. В любом случае, я полагаю, с этим будет разбираться его брат, Анатолий Сергеевич.
– Тот, который болен чахоткой?
– Увы, да.
– Я совсем не помню Анатолия Сергеевича, – заявила Амалия, говоря, в сущности, чистую правду, так как невозможно помнить того, кого в глаза не видел. – Скажите, а что он за человек?
– Гм… Очень хороший и порядочный человек. К сожалению, он серьезно болен.
– Насколько знаю, граф не очень с ним ладил.
– Да, окружающим иногда так казалось, но на самом деле они души не чаяли друг в друге. Павел Сергеевич очень многое делал для своего брата.
«Ну да, ну да, – усмехнулась про себя Амалия. – К примеру, открывал окно в холодную погоду».
– А графиня Ковалевская может претендовать на имущество своего покойного супруга?
Брови Георгия Ивановича поползли вверх.
– Полагаю… то есть я вполне уверен, что вашей знакомой это совершенно ни к чему, госпожа баронесса. Я вел дела покойного и могу сказать, что там больше долгов, чем… э… доходов.
– Но имение в Минской губернии…
– В плачевном состоянии, сударыня, и к тому же заложено. Впрочем, я думаю, госпоже графине и без меня сие известно.
Адвокат сердечно улыбался, показывая ровные белые зубы, и все же баронессу не оставляло ощущение, что Урусов не то скован, не то чуть более, чем следовало бы, напряжен. И еще Амалия поняла, что он не верит в историю, которую должны были подсказать ее расспросы, – будто посетительница явилась к нему по поручению жены графа. А раз так, то можно сбросить маску…
– Получается, в материальном смысле никто от смерти графа ничего не выиграл?
Урусов перестал улыбаться.
– Должен признаться, такая мысль даже не приходила мне в голову, – помедлив, промолвил он. – Судите сами: граф был разведен, завещания не имелось, все должно отойти брату как ближайшему родственнику… причем неизвестно, сколько еще брат протянет, прошу прощения. – Адвокат с любопытством покосился на собеседницу. – Госпожа баронесса, а что заставило вас заинтересоваться данным делом?
– Жизнь, – серьезно ответила Амалия. – Скажите, раз уж вы хорошо знали покойного графа… У него были враги?
– Такие, которые могли бы желать его смерти? Не думаю.
– И все-таки… Как вы объясняете то, что случилось?
Георгий Иванович вздохнул и развел руками.
– Я объясняю очень просто: это судьба.
– Кто же, по-вашему, помог ей осуществиться?
– Сударыня, – устало улыбнулся адвокат, – я не следователь и не сыщик… Но лично я полагаю, тут замешаны низы общества. Ничто иное просто не приходит мне в голову.
– Хм, любопытная версия… – Баронесса поднялась с места. – Благодарю вас, Георгий Иванович, и прошу извинить, что отняла у вас столько времени.
Она вышла, оставив на столике свой веер. Однако дойдя до первого этажа, сделала вид, будто ищет что-то в своей сумочке, и вернулась.
– Кажется, я забыла в гостиной веер, – с лучезарной улыбкой сообщила Амалия слуге, который открыл ей дверь.
– Я принесу его вам, сударыня, – отвечал тот.
– Нет-нет, не трудитесь, я сама, – быстро возразила баронесса и, пройдя мимо слуги, который не посмел ее задержать, вернулась в гостиную.
Урусов был не один, хотя Амалия могла поклясться, что к нему никто не входил: на лестнице, когда она шла вниз, ей никто не встретился. Рядом с низеньким адвокатом, нежно держа его за руки, стояла дама и, смеясь, говорила:
– Разве я не обещала тебе, что все будет так, как я хочу? А ты придаешь значение таким глупостям!
Тут Георгий Иванович поднял голову, увидел вошедшую и оторопел. Баронесса тоже немного опешила: только что перед ней был счастливый любовник, а остался лишь сконфуженный, застигнутый врасплох бородатый плюгавец.
Что касается дамы, стоявшей к двери спиной, то Амалия не видела ее лица. Но заметила, что та темноволоса и на полголовы выше Урусова. А вдобавок безошибочно узнала исходящую от нее волну «Корриды».
– Ах, я такая неловкая! – воскликнула баронесса. – Я забыла у вас веер! Простите великодушно, Георгий Иванович…
Она забрала свой веер, еще раз попрощалась с адвокатом, который, оправившись, объявил, что всегда рад ее визитам, и удалилась из гостиной.
Не особенно надеясь на удачу, Амалия, сев в автомобиль, велела шоферу ехать на бульвар Османа. Ей, однако, повезло: мадемуазель Корнелли была дома и сразу же согласилась принять посетительницу.
Елизавете Корнелли было двадцать четыре года. С точки зрения баронессы, та не блистала красотой, а талантом обладала разве что чуть выше среднего. С точки же зрения обывателей, которые постоянно видели портреты балерины в иллюстрированных журналах, Корнелли была звездой, а значит, красивой и талантливой.
Вблизи она действительно не производила особого впечатления – лицо с мелкими чертами оживляли лишь большие карие глаза, в углу рта красовалась маленькая родинка. Бесспорно красива была лишь шея – тонкая, изящная, лебединая, как писали рецензенты. Темные волосы Елизаветы были убраны в небрежную прическу, но Амалия, которая кое-что смыслила в небрежности, понимала, что та наверняка стоила парикмахеру больших трудов. И хотя балерина вышла к ней почти не накрашенной, от зоркого взгляда гостьи не укрылось количество роскошных украшений, которые надела на себя хозяйка. На сцене воздушная мадемуазель Корнелли в самом деле напоминала стрекозу или, быть может, бабочку, но сейчас, в темном платье, которое ее старило, со всеми этими тяжелыми браслетами на руках и с бриллиантовым ожерельем на шее, вызывала скорее в памяти образ какой-нибудь дочери ростовщика или разбогатевшего купца.
– Вы, конечно, слышали об убийстве графа Ковалевского, – утвердительно произнесла баронесса.
Елизавета шевельнула бровью и едва заметно поморщилась. «Нет, – подумала Амалия, пристально наблюдавшая за ней, – даже если между нею и графом что-то и было, она никогда его не любила».
– Да, весьма прискорбное происшествие, – сказала балерина.
Голос у нее оказался тусклый и неприятный и еще больше восстановил Амалию против собеседницы.
– Накануне гибели граф был в автомобильном клубе, и там с ним повздорил мой сын. – Баронесса заметила, как блеснули глаза Елизаветы. – В пылу ссоры он пообещал убить графа. Сами понимаете, как выглядит такое заявление в связи с последовавшими затем событиями. Полиция уже допрашивала Михаила, но тот упорно не хочет говорить, где находился во вторник после того, как оставил клуб, и до четверти третьего ночи.
Елизавета подняла голову.
– Да, я знаю, что они поссорились. И я понимаю ваше волнение. Но вам не о чем беспокоиться: в то самое время ваш сын был у меня.
Хотя балерина произнесла эти слова совершенно ровным тоном и в лице ее не дрогнул ни один мускул, Амалия ей не поверила. Не поверила, и все.
– И вы готовы подтвердить полиции…
– Меня уже допрашивали, – сказала Корнелли спокойно. – Со мной говорил комиссар со смешной фамилией… Папийон[226], да? И я сказала ему то же, что и вам. Ваш сын никого не убивал.
– Кто-нибудь видел, как он приходил к вам? Наверняка комиссару захочется проверить его алиби.
– Да, дверь ему открывала моя горничная Настя, которая подтвердила полицейскому, что видела его.
– А консьерж внизу тоже видел Михаила?
– Разумеется. Ведь было уже поздно, и консьержу пришлось отвечать на звонок.
Получается, все устроилось наилучшим образом. Три свидетеля – это уже несокрушимое алиби. Но Амалия посмотрела на лицо балерины и снова почувствовала, что не верит ни единому ее слову. Разве не было у той возможности подкупить девушку и консьержа, чтобы спасти любовника? Но раз так… раз так…
– Вы знали графа Ковалевского, – начала Амалия. – Скажите, Павел Сергеевич не упоминал, что ему кто-то угрожает или что он кого-нибудь опасается?
Елизавета покачала головой.
– Скорее уж граф сам мог представлять опасность для других, поскольку был довольно сложным человеком.
– Значит, вот какое впечатление он на вас производил…
– Какое это имеет значение сейчас? – сверкнула глазами Елизавета.
– Большое, если мы хотим понять, кто его убил. Полиция не удовольствуется тем, что у Миши есть алиби. Ей нужно не только алиби установить, а главное – преступника отыскать. Только когда найдут убийцу, моего сына окончательно оставят в покое.
Елизавета вздохнула, ее плечи поникли.
– Может быть, вы и правы. Но я не могу представить, чтобы преступление совершил кто-то из тех, кого я знаю. – Балерина беспомощно развела изящными руками, ее браслеты скользнули от запястья к локтю. – Как это пишут в книгах… Должен быть мотив, да? Ищи, кому выгодно? Однако мне понятно, кто мог выиграть от убийства графа. Разве только какой-нибудь бандит.
– И все-таки?
– Вы имеете в виду деньги графа, наследство? Не думаю, чтобы он много оставил. Представить в качестве преступника его брата совершенно невозможно, Анатоль даже по лестнице подняться без посторонней помощи не может. Бывшая жена? Супруги давно расстались. Какие-то личные счеты? Но господин Ковалевский ни с кем не был в ссоре… а если и был, все это пустяки.
– Вы знаете маркиза де Монкура? Он проиграл графу пятьдесят тысяч франков. Кроме того, живет на той же улице.
– Нет, только не маркиз, – с некоторым сожалением констатировала балерина. – Жюль де Монкур – большой запуганный ребенок, не способный на такое. Знаете, чем больше я думаю о страшной смерти месье Ковалевского, тем больше верю, что в ту ночь в дом проник совершенно посторонний человек.
…Тот, о котором говорили дамы в эти минуты – совершенно посторонний, как уверяла Елизавета, человек, – только что миновал заставу Пасси и вскоре оказался в Булонском лесу. Причиной его движения был небольшой пакет, который лежал у него во внутреннем кармане. И хотя день выдался на редкость теплый, человек взмок вовсе не от жары.
На повороте его обогнали двое всадников. Мужчина что-то сказал своей спутнице, которая звонко засмеялась и хлестнула лошадь. Человек вздрогнул от неожиданности и проводил парочку неприязненным взглядом.
Он добрался до пруда и, убедившись, что его никто не видит, стал доставать пакет из кармана. Тот, как назло, застрял и не поддавался. Пот заливал человеку глаза, солнце светило с неба так ярко, словно поставило себе целью поглумиться над убийцей. Проклиная все на свете, человек дернул пакет посильнее и вытащил его, разорвав обертку. Затем, воровато оглянувшись, забросил его в пруд. Очевидно, внутри находилось что-то тяжелое, потому что пакет сразу же пошел на дно.
Через минуту после того, как убийца удалился, из-за деревьев выступил неизвестный. Его действия были совершенно противоположны действиям того, кого Корнелли окрестила посторонним. Незнакомец, насвистывая, снял обувь, засучил свои видавшие виды штаны и шагнул в воду. Ему повезло – пакет ушел в ил недалеко от берега, и незнакомцу вскоре удалось найти его. Вернувшись под деревья, он содрал промокшую бумагу, вытер находку и довольно улыбнулся. Все оказалось именно так, как он и предполагал.
Глава 10 Братья
– Что это ты там бросил?
Михаил Корф резко обернулся. Перед ним стоял Александр.
– Ты о чем?
– Я видел, как ты бросил что-то в воду на той стороне пруда, – объяснил младший брат, не сводя со старшего настороженного взгляда.
– Ах, это… – Михаил рассмеялся. – Обыкновенный камень.
В доказательство своих слов он подобрал округлый плоский камешек и ловко швырнул его так, что тот запрыгал по воде.
– А ты что, следишь за мной?
– Нет, просто гуляю. Разве мне нельзя гулять по Булонскому лесу?
Михаил хотел рассердиться, но посмотрел на лицо Александра – и снова засмеялся.
– Мама беспокоится, – обронил младший брат.
Смех тотчас же оборвался.
– Она просила тебя присмотреть за мной?
– Нет. Я сам.
Тут Александр понял, что выдал себя, и покраснел.
– Мама уехала опрашивать свидетелей, – добавил он, чтобы перевести разговор на другую тему.
Михаил нахмурился.
– Ей это не надоело?
– Что – это?
Старший брат отвернулся и медленно двинулся вдоль берега пруда. Младший шагал с ним рядом.
– Я всегда хотел иметь самых обычных родителей, – неожиданно промолвил Михаил, взгляд которого был устремлен куда-то вдаль. – Таких, как все. Есть же счастливые семьи, где отец – просто отец, мать – просто мать, а…
Он запнулся, досадуя на свою несвоевременную откровенность, и замолк.
– Словом, если бы ты мог выбрать родителей, то предпочел бы титулярного советника, тайного пьяницу, и унылую особу, которая придирается к горничным, умиляется от книжек Чарской[227] и способна говорить только о погоде и своей портнихе, – насмешливо произнес младший брат, который не привык щадить ни себя, ни других. – Так, что ли?
– Не все титулярные советники – пьяницы, – сердито ответил старший брат. – И среди их жен бывают порядочные женщины.
– А я бы маму ни на кого не поменял, – объявил Александр. Затем наклонился, подобрал камешек и швырнул его в пруд, но тот сразу же пошел на дно.
– Бессмысленный разговор, – проворчал Михаил. – Скажи мне лучше вот что: какого черта тебя понесло драться на дуэли? Это расстроило мать.
– А ты?
– Что – я?
– Какого черта тебя понесло ссориться с графом? Если уж хочешь подавать мне пример благоразумия, объясни.
Михаил хранил молчание. Однако ему пришлось признать, что в словах брата была своя логика.
– Хочу на войну, – выпалил вдруг он. – Надоело все.
«Да что с ним такое?» – подумал удивленный Александр.
Его брат медленно шел рядом с ним, заложив руки за спину. Лицо у Михаила было хмурое, тонкая жилка на виске нервно подергивалась.
– Что, отец опять собирается тебя женить?
– Не говори глупостей, – попросил старший брат. – И отец тут ни при чем. Если я женюсь, то только на достойной женщине.
«Которая не захочет с тобой разводиться», – мысленно закончил Александр. Он знал, что Михаил до сих пор не простил матери, что та в свое время ушла от мужа.
– Когда почувствую, что это необходимо, – добавил старший брат, косясь на одежду Саши. – Что у тебя в кармане?
– Револьвер.
– Зачем?
– Люблю иногда пострелять, чтобы не утратить сноровку. Мне Уильям посоветовал.
– Мамин знакомый, который учил тебя стрелять?
– Ну да[228].
«Что из него выйдет? – обеспокоился Михаил. – Мама совершенно им не занимается. Да и как заниматься, если он всегда был неуправляемым…»
– Ты не хочешь идти в армию?
– Нет. Ни за что.
– Почему?
– Потому что это чушь, вот и все. Извини, – быстро прибавил Александр.
– А что не чушь?
– Не знаю. Люди занимаются разным вздором, и им кажется, что у них все хорошо. Но я-то вижу, что это вздор.
– Ты случаем анархистом не заделался? – на всякий случай спросил старший брат. – Учти, вот уж что точно матери не понравится.
– Я не анархист. К тому же политика – худшая из глупостей. – Александр подобрал плоский камешек и снова швырнул его в пруд, на сей раз ловчее, камень запрыгал по поверхности. – Если бы у меня был талант, я бы изобретал что-нибудь, или придумывал музыку, или сочинял бы книги. Но я же знаю, что никакого таланта у меня нет.
– Ты мог бы стать рецензентом, если любишь искусство. Или критиком.
– Благодарю покорно, – усмехнулся младший брат. – Сказал тоже, критиком… По-моему, ты обо мне скверного мнения. Если уж можешь что-то делать, так делай. А что делают критики?
– Направляют общественный вкус.
– Как направлять то, чего нет? Одному нравится Боттичелли, другому – открытки Елизаветы Бём, а третий рад любой картинке из «Нивы». Ну и что прикажешь с ними делать? Что бы я ни написал, люди все равно не переменятся. Кроме того, какая по большому счету разница, любить Боттичелли или открытки? Искусство – не спорт, где выигрывает тот, кто прибежал первым. Оно имеет значение только тогда, когда дает тебе что-то, именно тебе, твоим мыслям, твоим ощущениям. Самая плохая картина может в какой-то момент оказаться полезнее фресок из Сикстинской капеллы, потому что ты увидел в ней то, что нужно твоей душе. А критика – всего лишь повод высказать свои пристрастия и предрассудки, выдав их за правила. Только вот гораздо лучше делать то же самое в творческой форме, а не под видом критики.
– У тебя на все готов ответ, – не удержался Михаил.
– Конечно. Я же давно над этим думаю.
– И что надумал?
– Пока ничего. – И без перехода Александр спросил старшего брата: – Как думаешь, кто все-таки его убил?
– Ты о Павле Сергеевиче?
– Ну да.
– Понятия не имею. Он был не из тех, кто якшается с подонками общества. Думаю, кто-то все-таки прознал, что граф остался в доме один, и замыслил его ограбить. Ну… и убил.
– Префект, – говорил в то же самое время баронессе Корф модельер Дусе, который выполнил ее поручение, – склонен считать, что это все-таки ограбление, завершившееся убийством. Но пока у следствия нет никаких доказательств, что это действительно так.
– А комиссар Папийон?
– Утверждает, что расследование продвигается, но никаких подробностей он префекту не сообщил.
– Благодарю вас, месье, – покивала Амалия. – Если вы не возражаете, я хотела бы задать вам еще один вопрос.
– Разумеется, госпожа баронесса. Что именно вы хотите узнать?
– Нет ли среди ваших клиенток некой госпожи Тумановой?
– Туманова, Туманова… – пробормотал Дусе. – Да, была такая дама. Одевалась у меня в прошлом году. Брюнетка, лет двадцати шести, ростом примерно с вас, сударыня. Чрезвычайно капризная особа, нелегко было ей угодить. Даже когда платье переделывали согласно ее желанию, она все равно находила повод для недовольства. – Владелец модного дома секунду молчал и вдруг добавил, проницательно глядя на Амалию: – Ее счета оплачивал покойный граф Ковалевский.
– Но больше она у вас не одевается?
– Нет. Граф к ней охладел, и…
«Похоже, счета больше некому оплачивать», – мелькнуло в голове баронессы.
– Полагаю, я должен рассказать вам кое-что о графе Ковалевском, – продолжил Дусе. – Учтите, меня там не было, всю историю я знаю только со слов мадемуазель Оберон. Она была просто шокирована тем, что произошло. Итак, мадам Туманова приехала на примерку в сопровождении своего родственника.
– Что за родственник?
– Понятия не имею, по правде говоря. То есть дама представила его мадемуазель Оберон как родственника – кузена или что-то в таком роде. Молодой человек лет двадцати или чуть больше, ничем особенно не примечательный. И вот мадам Туманова надела платье, вышла из кабины и заговорила со своим спутником, очевидно, спрашивая его мнения.
– Разговор велся по-русски? – спросила Амалия.
– Да. Они перекидывались репликами, смеялись… словом, вели себя довольно непринужденно. Вдруг дверь распахивается так, что чуть не слетает с петель, и в примерочную с тростью в руке влетает граф Ковалевский. Мадемуазель Оберон поначалу его даже не узнала, настолько лицо у него было искажено яростью. Мои-то служащие привыкли видеть графа спокойным, улыбающимся и слегка ироничным, а тут…
– Понимаю, – кивнула баронесса. – Что было дальше?
– Граф стал кричать, замахнулся тростью на молодого человека, который весь сжался. Вид у кузена мадам был в те мгновения весьма жалкий, как сказала мадемуазель Оберон. Неожиданно между мужчинами встала госпожа Туманова, которая попыталась урезонить своего любовника. Но тот продолжал возмущаться и кричать на юношу. Госпожа Туманова, очевидно, не выдержала и тоже стала на него кричать. И вдруг граф ударил ее по лицу так, что она упала. Мадемуазель Оберон совершенно растерялась и не знала, что предпринять. У нее только в голове мелькнуло, что будет жаль, если платье испачкается, оно было такое красивое…
– Я думаю, реакция вполне естественная, если учесть, как служащая предана вашему дому, – заметила Амалия.
– О да. Словом, сцена вышла крайне некрасивая. Мадам Туманова стала всхлипывать – чрезвычайно трогательно, как уверяет мадемуазель Оберон, так что даже дикарь и тот бы расчувствовался. Граф схватился за голову и выбежал за дверь. Но внизу объявил мадемуазель Беттине, что это последний туалет мадам, который он согласен оплатить, а более отныне не имеет к ней никакого касательства. Как только граф скрылся за дверью, мадам перестала плакать. Юноша и мадемуазель Оберон хотели помочь ей подняться, но она встала самостоятельно, без посторонней помощи, и пошла переодеваться. А когда вернулась из кабинки, на глазах у нее не было даже следа недавних слез. Госпожа Туманова объявила, что берет платье, пусть только заменят оборку, которая порвалась при падении. А затем удалилась в сопровождении своего спутника, из-за которого, судя по всему, все и произошло.
– Мадемуазель Оберон не запомнила его фамилии? Вы говорили, мадам Туманова представила их друг другу.
– Госпожа Туманова сказала просто, что он ее родственник. Сама же обращалась к нему… погодите-ка… Ага, вспомнил! По словам мадемуазель Оберон, клиентка называла его Пьер.
– Значит, Петр… – задумалась на секунду Амалия. – Скажите, месье Дусе, а какое впечатление мадам Туманова производила на вас? Что вы о ней думаете?
Модельер улыбнулся и поправил фарфоровую фигурку, которая стояла на столике.
– Видите ли, госпожа баронесса… Есть женщины, которые уверены, что слабый пол делится на королев и всех прочих. Сама же, конечно, претендовала на место властительницы, но ею точно не была. – Взгляд модельера красноречивее слов добавил: «В отличие от вас».
– А граф Ковалевский тоже претендовал на место короля?
– По правде говоря, не могу сказать, что хорошо его знал, – отвечал Дусе. – Но у меня почему-то сложилось впечатление, что это не тот человек, чьим врагом стоило бы быть. Кроме того, я почти уверен, что он считал себя очень сложной личностью.
– Но…
– Но на самом деле был чрезвычайно примитивен, если вы понимаете, что я имею в виду.
Амалия задумалась.
– Вы бледны, сударыня, – встревожился Дусе, глядя на нее. – Может быть, вы окажете мне честь и останетесь у нас на ужин? Моя жена будет очень рада!
– Увы, мэтр, – вздохнула Амалия, поднимаясь с места, – мне пора.
Она сердечно распрощалась с модельером и удалилась. Однако Антуану велела ехать не домой, а к особняку покойного графа Ковалевского. На сей раз повезло: возле него никого не было. Убедившись, что ее никто не видит, баронесса Корф нажала кнопку звонка.
Глава 11 Любовница
Дверь открыла горничная, которая смерила стоящего на пороге незнакомого человека настороженным взглядом.
– Меня зовут комиссар Папийон, – представился незнакомец. – И я хотел бы побеседовать с вашей хозяйкой, если она дома.
– Да, – кивнула девушка, – дома, только что вернулась. Входите, прошу вас.
Служанка провела полицейского в гостиную и удалилась. Комиссар огляделся. Чистенькая, опрятная квартирка в четвертом этаже, меблированная хозяином, но мелочи – изящные вышитые салфеточки, фотографии детей в красивых рамках – выдавали желание обитающей тут женщины приручить чужое, обезличенное пространство хотя бы на то время, пока живет здесь.
От консьержа Папийон уже знал, что мадам Туманова платит за жилье неаккуратно, и к ней нередко ходят в гости мужчины. Один по описанию походил на адвоката Урусова, а другой – молодой человек, которого она называла Пьером. Последний то и дело выполнял ее поручения. О горничной Элен Папийон тоже успел кое-что разузнать – тихая, скромная, некрасивая девушка, кажется, бельгийка. Консьерж не стал скрывать от комиссара, что раньше госпожа Туманова жила в квартире, занимавшей целый бельэтаж, у нее был свой выезд и куда больше слуг. Однако с тех пор, как граф Ковалевский перестал оплачивать ее счета, даме пришлось умерить свои аппетиты.
– Господин комиссар! Надо же, я так часто видела ваше фото в газетах…
Шуршание шелка, изысканный аромат духов, на устах – любезная улыбка. Очаровательная дама, подумал Папийон, которой приходится жить за счет своего очарования. Он поцеловал Марии Тумановой руку и сел.
Впрочем, как ни был циничен комиссар, ему все-таки пришлось признать, что его собеседница – настоящая красавица. Гордо посаженная головка, тонкие брови, маленький высокомерный рот, великолепные темные волосы, уложенные в сложную прическу. Неудивительно, что граф Ковалевский хранил у себя ее карточку даже после того, как они расстались.
– Я никогда не была знакома ни с одним полицейским, – продолжала хозяйка, кокетливым жестом поставив руку на подлокотник кресла, – но не пропускаю ни одного рассказа о Шерлоке Холмсе. Это так интересно! Скажите, ваша работа действительно настолько захватывающая?
– Боюсь, что нет, – улыбнулся Папийон. – Скорее она полна рутины. К тому же приходится отвлекать людей, чтобы задавать им разные вопросы.
– Да? И о чем же вы хотели спросить у меня?
– О графе Ковалевском.
Улыбка женщины несколько померкла.
– Ах! Я предчувствовала нечто подобное. Обо мне и графе ходили ужасные, чудовищные сплетни!
– В которых, конечно же, нет ни слова правды? – невинным тоном поинтересовался Папийон, зорко наблюдая за собеседницей.
По тому, как на лице Марии Тумановой одно выражение сменяло другое, полицейский убедился, что хозяйка квартиры обдумывает, какой линии поведения ей придерживаться. Конечно, она испытывала сильный – и чисто женский – соблазн все отрицать. Но репутация Папийона, о которой наверняка ей было кое-что известно, и чтение детективов должны были навести даму на мысль, что лгать, да еще в столь серьезном деле, совершенно бесполезно.
– Я надеюсь, наша беседа… – Женщина оглянулась и понизила голос. – Мы с вами говорим неофициально, не так ли, господин комиссар? Я совершенно одна в чужой стране, и мне совсем не на кого рассчитывать…
– Разумеется, – успокоил ее комиссар, – наша беседа строго неофициальна.
«На ее месте Амалия Корф, – мелькнуло у него в голове, – непременно сказала бы, что беседа с представителем полиции по определению не может быть неофициальной».
– То есть то, что я скажу, останется между нами? – настойчиво спросила Туманова.
– Разумеется.
– Боюсь, вы будете меня порицать, – вздохнула Мария. – Я действительно была увлечена графом. Признаюсь, это дурно, я ведь замужняя женщина, и у меня двое детей, но… так все получилось.
– Вы давно знали графа Ковалевского?
– Несколько лет. Мы собирались пожениться… и он женился бы на мне, будь я свободна. Но я не могу получить развод, потому что мой муж против, а у нас, повторяю, двое детей. Жизнь иногда бывает очень нелегкой.
– Скажите, у графа были враги? Кто-нибудь, кого месье Ковалевский опасался, или кто мог что-то выгадать после его смерти…
– Враги? – Мария Туманова повела ослепительно-белыми плечами. – Не думаю. Может быть, появились, когда мы с Полем уже расстались, но прежде я не замечала, чтобы он кого-то опасался. То есть не помню ничего в таком роде.
– А когда вы расстались с графом?
– Несколько месяцев назад. Он приревновал меня к моему кузену… Впрочем, Поль вообще был ревнив, хотя, когда мы с ним познакомились, утверждал, что ревность – та же глупость, только еще хуже. В начале нашего знакомства граф был очень мил, но потом с ним стало весьма… непросто. Он хотел, чтобы я принадлежала только ему. И, думаю, если бы это зависело от него, просто запирал бы меня на ключ и никуда не выпускал. Глупо так себя вести в наше время. И к тому же недостойно. Конечно, я пыталась его убедить, что его подозрения ни на чем не основаны, но положение становилось только хуже. Какое-то время мы продолжали встречаться, однако в конце концов…
– Скажите, сударыня, когда произошел ваш окончательный разрыв?
– После Нового года. В январе… нет, в феврале, кажется. А почему вы интересуетесь?
«Правильно, – сказал себе комиссар, – в марте мадам пришлось отказаться от выезда и перебраться на новую квартиру».
– То есть вы не виделись с ним более двух месяцев?
– Мы больше не встречались, но, разумеется, я изредка видела его в опере или у общих знакомых.
– А ваш муж, сударыня, знал о ваших отношениях с графом?
На лицо Марии Тумановой набежало облачко.
– Конечно, его родственники ему все обо мне доложили, – ответила женщина с отвращением. – Как же иначе!
– Ваш супруг никогда не угрожал графу? Не обещал, к примеру, убить его?
Мария подняла голову и посмотрела на комиссара с нескрываемой иронией.
– Если вы еще не знаете, сударь, мой муж, когда выпьет, грозится убить весь свет. Но стоит ему проспаться, он становится кротким, как ангел. Кроме того, какое отношение мой супруг может иметь к убийству? Его не было во Франции.
– Разве мало на свете случаев, – философски заметил Папийон, – когда люди с безупречным алиби находят исполнителей своей воли, так сказать, со стороны? Вам не приходило в голову, что господин Туманов способен на нечто подобное?
– Вряд ли мой бедный муж додумался бы до такой сложной комбинации, господин комиссар, – усмехнулась Мария. – И потом, вам не приходит в голову, что он поздновато спохватился? Убивать графа имело смысл раньше, но уж никак не после того, как мы с ним расстались.
– Мы обязаны проверить все версии, сударыня, – приветливо улыбнувшись, возразил Папийон. – Не буду от вас скрывать, в этом деле пока много неясного.
– Видит бог, я вовсе не собираюсь выгораживать это ничтожество, моего мужа, – уже утомленно промолвила Мария. – Но умоляю вас, месье! Его просто не было в Париже, и он никак не мог убить бедного Поля. Нет, нет, мой муж тут точно ни при чем!
– Хорошо, если не он, тогда кто? Может быть, вы подозреваете кого-нибудь?
– Никого, даю вам слово! А вы? Может быть, вы подозреваете меня? – лукаво спросила женщина.
– Что вы, сударыня! – Папийон сделал большие глаза.
– О, давайте не будем притворяться, хорошо? Говорю же вам, я читала достаточно детективов и понимаю, как все выглядит со стороны: я жила с графом, потом мы расстались, разумеется, я должна затаить в душе месть… – Мария звонко расхохоталась. – Но ничего такого не было. И я совершенно не жалела о том, что нам пришлось расстаться, потому что Поль вконец измучил меня своей ревностью.
– Раз уж вы, сударыня, вынуждаете меня подозревать вас, то, может быть, вспомните, где были в ночь со вторника на среду? – любезно спросил Папийон.
– А, – встрепенулась Мария, – это называется алиби, да? Ну так я была… Где же я была? Вспомнила! Вам очень не повезло, комиссар, потому что один знакомый месье Урусова, месье Раскатов, как раз праздновал в тот день свои именины и заодно помолвку с очаровательной девушкой. Словом, праздник затянулся до самого утра. Я там и была, меня все видели. Если хотите, могу назвать несколько имен гостей.
– Вы меня чрезвычайно обяжете, сударыня, – с чувством промолвил Папийон, открывая свой потрепанный блокнот. – Увы, у нас такая работа, приходится все проверять, даже когда мы уверены, что человек не имеет никакого отношения к преступлению.
– Жаль, – вздохнула Мария. – Я бы предпочла встретиться с мистером Шерлоком Холмсом, тот сразу бы, как явился, посмотрел на пятно на стене и вывел бы из него какое-нибудь страшно умное заключение, которое помогло бы вскоре найти убийцу. Вы записываете? Тогда я диктую…
Когда с именами было покончено, комиссар поблагодарил Марию Антоновну и спрятал блокнот.
– Скажите, месье… А правда, что барон Корф может быть причастен к убийству? Люди говорят…
– Да? Кто именно из людей?
Ему показалось, что Туманова смутилась.
– Не подумайте ничего дурного, просто до меня дошли кое-какие слухи… Он ведь был ранен в голову, кажется? От этого иногда бывают такие неприятные последствия…
– Вы считаете, молодой барон мог убить графа Ковалевского?
– Некоторые так говорят. Дело в том, что барон Корф был влюблен в одну балерину, Лизу Корнелли. Сейчас она довольно известна, а тогда ничего из себя не представляла. Так вот, у Поля что-то с ней было, а он не умел молчать о своих победах. До меня дошли слухи, будто граф задел барона своим замечанием…
Комиссар молчал, и, видя выражение его лица, Мария поторопилась добавить:
– О, разумеется, это всего лишь слухи, но знаете, как говорят: дыма без огня не бывает.
– Это не барон Корф, – сухо сказал Папийон. – У него, как и у вас, несокрушимое алиби.
– Вот как? – воскликнула Туманова, широко распахивая глаза. – Я очень рада! Понимаете, люди так злы, мне самой не раз довелось испытать на себе…
Радость женщины показалась комиссару наигранной. Подумалось: скорее уж она бы обрадовалась, если бы барон Корф убил Ковалевского из-за нее самой, а вовсе не из-за известной балерины.
– Нет, это не барон Корф, – повторил комиссар, убеждая не то себя, не то собеседницу. – Скажите, сударыня, вам было известно, что граф носил с собой ключ от черного хода?
Мария удивленно приподняла тонкие брови:
– По правде говоря, нет. А что?
– После убийства мы обнаружили, что ключ графа исчез. К тому же дверь черного хода была открыта, когда слуга вернулся в четверг в особняк. – Папийон достал из кармана ключи покойного. – Вы видели когда-нибудь эту связку?
– Нет, – покачала головой Мария, – не припоминаю. Хотя… погодите-ка… – Женщина наклонилась, слегка прищурившись. – Один ключ я узнаю – он от моей прежней квартиры, у меня был такой же. Думаете, ключ от двери черного хода взял тот, кто убил графа?
– Подобный вывод напрашивается сам собой, сударыня.
– Значит, – пожала плечами красавица, откидываясь на спинку кресла, – Поля убил кто-то из слуг.
– У них у всех были свои ключи. Не проще ли в таком случае сделать дубликат своего ключа вместо того, чтобы красть ключ хозяина?
– Хорошо, давайте подумаем, – легко согласилась Мария. – Может быть, ключ потерялся? Но нет, кольцо слишком толстое, он не мог просто взять и соскользнуть. Что еще? Например, ключ сломался, и граф выбросил его, а новый забыл присоединить к остальным. Или… А что, если он сам отдал ключ кому-нибудь?
– Кому?
– Не знаю. В газетах пишут, что граф был в доме один. Вероятно, он собирался с кем-нибудь встретиться?
– Вы имеете в виду женщину?
– Может быть. Беда в том, что я мало знаю о последних месяцах жизни Поля. Если бы знала, то, конечно, сказала бы вам.
Туманова улыбалась и, глядя на комиссара, покачивала кончиком туфли. Тем не менее Папийон спросил:
– Вы упоминали, что покинули свою прежнюю квартиру в феврале. А когда вы виделись там с графом в последний раз?
– Какое это имеет значение? – с неудовольствием нахмурилась Мария.
– Поверьте, имеет, сударыня. Иначе я бы не спрашивал.
– На последней встрече я попросила его вернуть мои письма, – довольно сухо ответила собеседница. – Была зима… то есть то, что вы тут, во Франции, именуете зимой. Думаю, это было в феврале.
– В начале или в конце месяца?
– Не помню. Кажется, в середине. – На сей раз в ответе дамы звучал неприкрытый сарказм.
Папийон поднялся.
– Если вы вспомните еще что-нибудь, сударыня, здесь мой телефон… – Полицейский протянул хозяйке квартиры свою карточку.
Мария равнодушно поглядела на нее и положила на стол.
Комиссар не сомневался, что она порвет карточку, едва он скроется из виду. Слишком много мелких тайн своей собеседницы ему удалось вытащить на поверхность, чтобы дама испытывала к нему теплое чувство.
– Я уже рассказала вам все, что знала, комиссар. – Женщина вздохнула, вставая с кресла. – Странное дело: в романах расследования выглядят так увлекательно, а в жизни…
Комиссар вежливо извинился за то, что разочаровал госпожу Туманову, и ретировался. В передней напротив горничной стоял и мял в руках шляпу неизвестный ему молодой человек – русоволосый, вихрастый, с птичьим носом и близко посаженными глазами. Увидев комиссара, он уронил шляпу. Покраснел, нагнулся за ней, а затем шагнул в гостиную. Прямо с порога спросив:
– Мария Антоновна, это полицейский?
– Ну что вы, Петенька, как маленький, – раздался кокетливый голос красавицы. – Да, знаменитый комиссар Папийон сделал мне честь своим посещением… Знакомьтесь, комиссар: Пьер Нелидов, мой кузен. Собирается поступать в Сорбонну…
– Очень приятно, – вежливо промолвил полицейский. – К сожалению, вынужден идти, дела… Прощайте, сударыня.
Папийон взял из рук Элен свою шляпу и вышел за дверь.
– Что ему было нужно? – проворчал за его спиной молодой человек. – Зачем он приходил?
– Успокойтесь, Петенька, – ласково произнесла Мария. – Ничего страшного не произошло. Месье комиссар считает, что Поля убил мой муж.
– Иван Васильевич? – потрясенно промолвил Нелидов. – Ну… ну… это я уже и не знаю, что такое!
Из-за закрытой створки до комиссара, спускавшегося по ступеням, донесся взрыв звонкого смеха.
Глава 12 Графиня Ковалевская
Дверь растворилась, когда Амалия уже устала ждать и стала подумывать о том, чтобы уехать. На пороге стоял слуга – скорее всего, тот самый, который обнаружил тело.
– Меня зовут баронесса Корф, – представилась она. – Я хотела бы поговорить с вами, если вы не возражаете.
Одновременно с сердечной улыбкой баронесса вложила в руку слуги золотой.
Николай Савельев покосился на монету, и этого было достаточно, чтобы Амалия успела проскользнуть в дом. Волей-неволей слуге пришлось затворить дверь.
– Право, сударыня, даже не знаю, чем могу вам помочь, – пробормотал камердинер покойного графа.
Амалия окинула его быстрым взглядом. Невыразительная внешность. К тому же черты лица словно стерлись от усталости и недавних переживаний. Но взгляд неглупый, может быть, с капелькой настороженности. Еще бы, ведь она явилась незваной гостьей в дом, где произошло ужасное убийство.
– Мой сын был знаком с вашим хозяином, часто общался с ним здесь, в Париже, – сказала баронесса. – И мы оба очень хотим, чтобы преступник, лишивший графа Ковалевского жизни, был найден.
– Дай-то бог! – горячо воскликнул слуга.
– Как вас зовут? – спросила Амалия.
– Николай Савельев.
– А отчество?
– Иванович.
– Так вот, Николай Иванович, прошу вас рассказать мне все, что вам известно. Ничего не опуская! Хорошо?
Ободренный звонкой монетой, слуга повторил то, что уже рассказывал прежде комиссару Папийону. Собеседница внимательно слушала, изредка задавая уточняющие вопросы.
– А скажите, Николай Иванович… Раз уж ваш хозяин остался совсем один в доме, не мог ли он воспользоваться этим обстоятельством, чтобы пригласить к себе кого-нибудь?
– Кого? – искренне удивился слуга.
– Вам лучше знать, я полагаю. Может быть, то была женщина?
– Нет, – решительно покачал головой Савельев. – Насколько я знаю своего хозяина, граф был занят совсем другим. Я вернулся бы в четверг, и мы должны были начать упаковывать вещи, чтобы перебраться на новую квартиру. Не стал бы он ни с кем здесь тайком встречаться, ни к чему ему это было.
– Ну мы же с вами взрослые люди, Николай Иванович, – вздохнула Амалия. – А покойный граф, как я понимаю, пользовался у женщин большим успехом. Взять хотя бы госпожу Туманову…
– Госпожа Туманова, – сухо ответил слуга, – не стоила даже мизинца моего бедного хозяина. Кроме того, вам, наверное, неизвестно, что они расстались.
– Но ведь кто-то же похитил ключ от черного хода! Что, если некто навестил вашего хозяина, украл ключ, а потом ночью забрался в особняк? Или граф сам пригласил кого-нибудь… ненадолго… допустим, какую-нибудь особу, не внушающую особого доверия…
Мысль Амалии следует признать вполне логичной. Неподалеку развеселая площадь Пигаль, где можно найти развлечения на любой вкус. Может, оставшись один, граф решил использовать свою свободу?
– Я понял, что вы имеете в виду, сударыня, – медленно заговорил Савельев. – Но в доме не было женщины, я точно знаю.
– Откуда? – с любопытством спросила баронесса.
– Потому что я бы заметил, будь дело иначе. И сказал бы комиссару. Видите ли, любая женщина оставляет следы. Запах духов, след помады на бокале, какая-нибудь тряпочка…
– Вы совершенно уверены в том, что в ваше отсутствие у графа никого не было? Что он ни с кем не встречался, никого не приглашал…
– О да, сударыня. Я же видел посуду, которой хозяин пользовался, а вся остальная на местах. И в ванной тоже все в порядке. Ну полотенца и все такое… Нет, он был в доме один, и никто его не навещал.
«Любопытно…» – усмехнулась про себя Амалия.
– Вы не возражаете, если я осмотрю дом? Я бы хотела начать с черного хода.
Где-то в одной из комнат зазвонил телефон.
– Газетчики, – пояснил Савельев. – И вчера, и сегодня… Покоя не дают. Сюда, сударыня…
Черный ход выходил в коридор, который вел мимо кухни. «Я иду тем же путем, что и убийца, – подумала баронесса. – Надо попытаться понять ход его мысли. Раз у него был ключ, логично предположить, что он явился отсюда. Ну и что это нам дает? Да ровным счетом ничего! Тоже мне, реконструкция преступления…»
– Где преступник взял орудие убийства?
– В гостиной на первом этаже.
Амалия вошла в гостиную. Моя героиня придерживалась мнения, что обстановка может многое сказать о человеке, но пока ничего особенного о графе Ковалевском она, находясь в его доме, не узнала. Вокруг – красивые вещи: часы, картины, мебель. Но это умеренная, прохладная красота, то, чем принято восхищаться, и только. Никакого модерна, никаких ярких тонов, все выдержанно, воспитанно и благопристойно. Очаровательная картина Больдини, очаровательные консоли, очаровательные часы на камине – подобное можно увидеть в десятках, если не сотнях парижских особняков.
Значит, убийца вошел в эту комнату, взял кочергу и…
Или он вернулся за ней позже?
– Проводите меня в спальню, – попросила баронесса.
Чтобы добраться до спальни, надо было подняться по широкой лестнице на второй этаж и миновать несколько комнат. Слуга с любопытством поглядывал на гостью. Та молчала и хмурилась.
У двери спальни Савельев остановился.
– Вы непременно хотите войти, сударыня?
– А вы считаете, мне предстоит нелегкое зрелище?
– Полагаю, нет. Когда полиция меня отпустила, я вызвал людей, и они за плату все там убрали и вычистили.
– Тогда тем более мне нечего опасаться, – ответила Амалия без улыбки.
Однако в глубине души баронесса была недовольна тем, что не успела застать место преступления в его изначальном виде. «Если бы не Миша, я бы попросила у Папийона полицейские фотографии… А впрочем…»
Огромная кровать с высокой спинкой, до сих пор лежит старый выпуск «Фигаро» на столе у изголовья, на окнах – тяжелые занавеси синего бархата, в углу – ширмы в восточном стиле. Зеркало занавешено.
– Граф лежал в постели? – на всякий случай спросила Амалия.
Кивок.
– Может быть, проснулся, услышав шум?
– Нет, – твердо ответил Савельев. – Я слышал разговоры полицейских. Руки хозяина лежали спокойно, как сказал врач. Он умер во сне, даже не успев понять, что происходит. – В голосе слуги зазвенели слезы, мужчина отвернулся и пробормотал: – Простите…
Итак, некто вошел, взял на первом этаже кочергу и поднялся наверх. «Безусловно тут предумышленное убийство, – сказала себе баронесса. – Преступник с самого начала намеревался убить графа».
– Куда ведет эта дверь? – спросила Амалия, указывая на маленькую створку в глубине комнаты.
– Там ванная комната Павла Сергеевича, сударыня.
– Можно взглянуть?
– Да, если вам угодно. Но ничего особенного в ней нет.
Верная своей привычке осматривать все, Амалия проследовала в ванную. И подумала, машинально отмечая образцовый порядок, в котором были разложены на полках различные предметы: «А покойный граф был педантом. И имел педантичный, недобрый, насмешливый ум».
Судя по всему, ванная была лет тридцать-сорок назад переделана, очевидно, обычная комната – наружу выходило небольшое окно, закрытое ставнями.
– Тут под лоханью вода, – заметила баронесса, указывая на небольшую лужицу, почти незаметную от входа.
– Прошу прощения, недосмотрел, сударыня. Наверное, натекло, когда мыли место преступления. Нанятые мной люди долго тут все убирали…
Амалия вернулась в спальню, думая уже совсем о другом.
– Драгоценности были в спальне?
– Да, вот здесь. – Слуга показал. – Еще пропала фарфоровая фигурка из библиотеки.
– А библиотека…
– Дальше по коридору.
– Ближе к лестнице?
– Точно. А откуда вы знаете?
Ограбление было для отвода глаз, теперь Амалия окончательно убедилась в этом. Некто убил графа, забрал первое, что попалось ему на глаза, прихватил на прощание фигурку и ушел… Скорее даже убежал, забыв запереть за собой дверь.
– Пройдемте в библиотеку, – попросила Амалия.
Ее подозрения оправдались: фигурка ранее стояла на консоли недалеко от входа.
– Дверь библиотеки была открыта, когда вы вернулись, верно? – спросила Амалия.
Савельев приоткрыл рот, но удержался от удивленного возгласа, только кивнул.
«То есть столик был виден из коридора… Все сходится», – мелькнуло в голове баронессы.
На всякий случай она осмотрела остальные комнаты на втором этаже, но не обнаружила в них ничего особенного. Где-то снова затрещал телефон. Кроме того, снизу донесся нетерпеливый звонок в дверь.
– Вы можете идти, – сказала Амалия, – я сейчас спущусь.
Савельев поклонился и поспешил к выходу. Баронесса медленно последовала за ним.
Красивый и холодный дом, сказала она себе. Каков дом – таков и хозяин. В сущности, все сходится. Убийца – импульсивный и не слишком умный человек. Кроме того, раньше он не убивал. Не о чем и волноваться: раз это непрофессионал, Папийон отыщет его в два счета…
Тут ее внимание привлек громкий женский голос:
– Пустите меня! Вы не имеете права меня задерживать!
– Но сударыня… – лепетал слуга. – Сударыня…
– Он мой муж! Я имею право его видеть!
Женщина, стоявшая в дверях, не то что оттолкнула Савельева как досадную помеху, ненужное препятствие – у Амалии создалось впечатление, что она просто прошла сквозь него, как нож проходит сквозь воду. Незнакомка сделала несколько шагов, но увидела на верху лестницы баронессу и застыла на месте.
– Кто вы такая? – хрипло вскричала женщина. – Что вам здесь надо?
Савельев почтительно кашлянул.
– Это госпожа баронесса Корф… Ее сын был знаком с Павлом Сергеевичем.
Миг – и лицо женщины разгладилось. Она явно сделала над собой усилие, пытаясь казаться дружелюбной.
– Прошу простить меня, сударыня… Мне… я… мне столько довелось пережить в эти дни… Я Екатерина Петровна Ковалевская, – поспешно представилась дама. – А этот… – она смерила Николая гневным взглядом, – лакей не хотел впускать меня в дом!
– Я лишь выполняю распоряжение покойного графа, – почтительно, но тем не менее твердо откликнулся слуга.
Екатерина Петровна повернулась к нему, хотела сказать что-то резкое, однако, очевидно, передумала. Графиня Ковалевская была явно моложе Амалии, но казалась старше – в ее темных волосах сверкали седые нити, на лице пролегли ранние морщины. Траурное платье довершало картину, превращая даму почти в старуху.
– Где он? Я хочу его видеть… Вы не имеете права не пускать меня к нему!
– Павел Сергеевич в столовой, – невозмутимо сообщил Савельев, словно речь шла о живом человеке.
– В столовой? – вскипела графиня, смерив его взглядом. – Вы положили тело в столовой? Ну, знаете ли, любезнейший! Мне всегда казалось, что вы преданы графу до… до не знаю чего… и вы распорядились перенести тело в столовую? Стыдитесь!
– Сударыня, – сухо промолвил Савельев, которого, очевидно, уже начал утомлять разговор с бывшей хозяйкой, – тройной гроб весит немало, а стол в столовой вполне подходит по ширине и прочности. Поэтому я…
– Он уже в гробу? – прошептала графиня. – Заколоченном? Боже, я так спешила… И опоздала! Если бы мой брат не спрятал от меня газеты… Если бы…
Плечи женщины задрожали от сдерживаемых слез.
– Хозяин всегда хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями. Поэтому мне пришлось всем заняться, по просьбе Анатолия Сергеевича. За гробом должны прийти сегодня вечером, его погрузят на петербургский поезд. – Слуга машинально бросил взгляд на часы.
– И повезут в вагоне для устриц, – горько усмехнулась Екатерина Петровна. – Как гроб Чехова, да?
– Нет, сударыня. Я заказал отдельный вагон с ледником. У железнодорожной компании есть такой для подобных случаев…
По тону Савельева Амалия поняла, что верный слуга не на шутку задет предположением графини.
– Как это скверно – ужасная смерть вдали от всего, что тебе дорого! – с горечью проговорила Екатерина Петровна. – Боже мой… Я пойду к нему.
И женщина двинулась быстрым шагом вперед – почти побежала. Словно на свидание, мелькнуло в голове у Амалии. На свидание с обезображенным телом, надежно упрятанным в три гроба из ели, свинца и дуба. И еще подумалось: «Почему граф не любил жену? Ведь ясно же, что она-то его любила… И любит до сих пор, несмотря ни на что…»
Следом за Екатериной Петровной баронесса вошла в просторную столовую, обставленную светлой мебелью. Но теперь все здесь казалось мрачным – из-за сверкающего полировкой ящика характерной формы, стоявшего на столе, и наглухо зашторенных окон. Графиня, приникнув к гробу, тихо заплакала. Николай почтительно застыл в дверях. Где-то снова ожил несносный телефон.
– И даже не попрощаться… По-человечески… как должно быть… – бормотала Екатерина Петровна. – Что же они с тобой сделали!
– Скажите, Николай, – шепотом спросила Амалия, – в доме есть водка?
Слуга удивленно воззрился на нее, потом понял, просиял и ответил утвердительно.
После долгих уговоров баронесса повела графиню, осторожно обняв за плечи, прочь из столовой, в маленькую гостиную, где степенно тикали часы, а в книжном шкафу дремали книги в роскошных переплетах. Незаменимый Николай Савельев принес им водки и закусок, чтобы помянуть покойного графа, после чего тактично испарился, словно его тут и не было.
– Скажу вам правду, – начала Амалия после того, как Екатерина Петровна выпила, поплакала и снова выпила, – я здесь главным образом потому, что в убийстве подозревают моего сына.
Графиня энергично тряхнула головой.
– Такого не может быть, Амалия Константиновна! Если полиция посмеет так утверждать, я первая встану на защиту вашего Миши. Я же прекрасно понимаю, что он не мог этого сделать!
– Да? – только и могла вымолвить баронесса, по правде говоря, полагавшая, что ей придется долго убеждать безутешную вдову в непричастности своего сына.
– Разумеется, – кивнула Екатерина Петровна и поправила выбившуюся из прически прядь волос. – Мой племянник воевал вместе с вашим сыном и многое мне рассказывал о том, какой ваш Миша храбрый офицер. И я знаю вашего мужа. – Тут женщина спохватилась, что Корфы разведены, потом вспомнила, что сама тоже разведена, хоть от этого боль утраты не становится менее острой, воинственно закончила: – Я им не позволю!
– Скажите, Екатерина Петровна, – начала Амалия, – вы недавно произнесли фразу: «Что они с ним сделали…» Вы имели в виду кого-нибудь конкретного? У вашего мужа были враги? Кто-нибудь мог желать ему смерти?
– Когда я ехала в поезде, то только о том и думала, – горько усмехнулась графиня. – Конечно же, это она!
– Кто?
– Туманова. Эта… эта…
Екатерина Петровна искала слова, которые могли бы поточнее передать ее отношение к любовнице графа, но не нашла. Или, может быть, те, что приходили на ум, были слишком грубы для уст женщины. Поэтому она махнула рукой и налила себе водки.
– А Туманова это… – осторожно начала Амалия.
– Дрянь! – с отвращением промолвила графиня, откидываясь на спинку дивана, на котором сидела. – Такая же дрянь, как и ее муж. Правда, тот просто ничтожество. Тумановы поженились против воли родителей, когда Марии было семнадцать, кажется. Поначалу все шло гладко, она родила двоих детей… Знаете, – проговорила вдова со страстью, – есть люди, которые все, к чему бы ни притронулись, портят. Вот и у Тумановых все было хорошо, только жить да жить, но обоих потянуло в приключения, которых они вовсе не собирались скрывать. Кончилось тем, что их везде перестали принимать. Тогда мадам уехала в Париж, а муж с детьми остался в имении. Впрочем, по-моему, он там не задерживается, а ездит по окрестным городам в поисках увеселений. Что касается госпожи Тумановой, та жила в свое удовольствие – так, как она его понимала. Несколько раз я видела ее то в театре, то в опере. Ни для кого не было секретом, что она – содержанка, причем самого мерзкого пошиба, и все, что ее интересует, это только деньги. Вы читали «Нана»[229]? Так вот, Нана еще можно понять, потому что бедность толкает на низкие поступки, но Мария Туманова – нечто особенное. Она возомнила, будто мой муж несметно богат, и решила любой ценой его заполучить… Мы в ту пору уже разошлись, но если бы не она, Павел, конечно, вернулся бы ко мне. Ведь раньше-то он возвращался! Однажды чуть не оставил меня из-за… Впрочем, неважно. Я тогда наглоталась опийной настойки, была на волосок от смерти… Глупо, конечно, и унизительно, но мой поступок, похоже, заставил его одуматься.
Баронесса слушала внимательно. Стало быть, женщина, которая пыталась отравиться из-за графа, – его собственная жена. Ну что ж…
– Я была готова на все, чтобы удержать мужа, но эта змея, Туманова, его буквально зачаровала. Я никогда не видела, чтобы Павел был так кем-то увлечен. Еще и сказал мне с насмешкой, что если я покончу с собой, то только избавлю его от необходимости развода. Конечно, я боролась… Только мерзавка на десять лет моложе меня, гораздо красивее и в тысячу раз хитрее. Если бы она попросила его принести ей на подносе мое сердце… я даже не знаю, что бы Павел сделал. Впрочем, у него и так было мое сердце… Даже когда он добился своего и нас развели. Мы перестали быть мужем и женой, но… Но какое это имеет значение, если любишь?
Графиня замолчала.
– И что было потом? – тихо спросила Амалия.
– Я знаю, о Павле говорят разное. – Екатерина Петровна поморщилась. – Верно одно: мой муж никогда не был глуп умом. Конечно, он понял, что Туманова не любит его и никогда не любила. И избавился от нее. А теперь негодяйка избавилась от него – наверняка с помощью кого-нибудь из своих поклонников.
– Да, но какой ей был смысл убивать графа? Если бы женщина что-то выигрывала от его смерти… допустим, имелось бы завещание в ее пользу, или если бы она была его супругой, к примеру…
– Вы не понимаете, – вздохнула графиня. – Мария Туманова – дрянь, которая пойдет на все, лишь бы добиться своего. Я не удивлюсь, если вдруг всплывет завещание, по которому мой муж все оставил ей. Наверняка Урусов поможет его состряпать, если она попросит… Адвокат всегда делал вид, будто терпеть ее не может, но на самом деле достаточно было раз увидеть, как он на нее смотрит, чтобы обо всем догадаться. Нет, я не допущу! – вскинулась графиня. – Я пойду в суд! Не посмотрю, что у него жена и дети, и перед всей Европой покрою его позором!
– Однако Урусов твердо заявил, что никакого завещания нет и в помине, – быстро вмешалась баронесса. – Один вопрос, Екатерина Петровна. Ваш муж знал, что у Тумановой роман с адвокатом? Или их отношения начались уже после того, как граф оставил Марию?
– Она дрянь! – исступленно повторила Ковалевская. – Дрянь! Но как бы она ни была хитра… Мой муж был умнейший человек. Конечно, догадался… Я так думаю…
«Вот, стало быть, почему покойному графу взбрело на ум разорить Урусова, уговорив его купить заведомо убыточные бумаги… – усмехнулась баронесса. – Однако и мстителен был Павел Сергеевич, да-с…» И все же это ничего не давало Амалии, потому что у Марии Тумановой не имелось никакого мотива для того, чтобы избавиться от графа. Разве что уязвленная женская гордость…
– Скажите, у Тумановой есть кузен? Пьер, точнее, Петр…
– Петя Нелидов, – с отвращением ответила графиня, – дальний ее родственник. Влюбленный дурачок, которого мерзавка пришпилила к своей юбке. Мальчик у нее вроде домашней собачки, если не хуже. Только Нелидов беден, а нищие для нее не существуют. Не думаю, чтобы он сумел чего-нибудь от нее добиться. Как же все это гнусно!
Екатерина Петровна горько покачала головой. Амалия стала осторожно расспрашивать ее, не было ли у графа Ковалевского более серьезных врагов, чем содержанка с уязвленным самолюбием, но собеседница отмахнулась от ее расспросов. Поднявшись с места, женщина подошла к комоду и вытащила оттуда альбом с фотографиями.
– Вот Паша в университете… А тут в тот год, когда мы с ним познакомились… Здесь он вместе с братом… Ой, на этом месте была моя карточка, но он ее выбросил…
Графиня заплакала, не скрываясь, и Амалия, чтобы не восстановить ее против себя, стала вместе с ней смотреть фотографии.
Анатолий Ковалевский был похож на брата, только носил очки и ходил без усов. На другом снимке граф и Урусов стояли вместе, и головой адвокат едва доставал приятелю до плеча. Были в альбоме и портреты родителей, и карточка сестры Павла Сергеевича Веры, которая умерла совсем молодой.
– За неделю до свадьбы умерла, – вздохнув, уточнила Екатерина Петровна. – Я хорошо ее помню, мы ведь дружили… Она скончалась совершенно неожиданно, за столом, во время ужина. Врачи разводили руками и говорили что-то невнятное об аневризме. Паша был просто потрясен и все время говорил, что это несправедливо, ужасно, жестоко – умереть во цвете лет, исчезнуть навсегда… Он очень изменился после смерти Веры, особенно когда ее жених через месяц, что ли, нашел себе другую невесту. Муж стал таким злым, таким циничным… Но я все ему прощала, понимая – это все оттого, что он глубоко оскорблен. И ведь Вериному жениху столь поспешное решение о новой женитьбе не принесло счастья – за неделю до свадьбы его нашли в овраге со сломанной шеей. Молодой человек любил кататься на лошади – и вот… Но местные крестьяне решили, что это Вера ему отомстила за то, что он так быстро о ней забыл, и призвала жениха к себе. Я, наверное, уйду в монастырь, – внезапно сменив тему, заявила графиня. – Надо же, чтобы кто-то молился за Павла, чтобы он знал: здесь его не забывают…
И женщина снова расплакалась навзрыд, закрыв руками лицо.
Домой Амалия возвращалась вконец утомленная. Баронесса чувствовала себя старой и несчастной, а в деле, которое она пыталась расследовать, не было видно ни малейшего проблеска. Раньше ей удавалось хладнокровно вести расследование в любых обстоятельствах, однако глубокое горе графини болезненно отозвалось в ней. Да еще оказавшись на месте преступления, она поймала себя на том, что ей крайне тягостно там находиться. Кроме того, Амалия не любила водку, почти никогда не пила ее, и от непривычки у нее разболелась голова.
«Ничего, – подумала баронесса, – скоро я буду дома, и все мои будут рядом… Кто же все-таки убил графа? Точно не бывшая содержанка – эта женщина в глубине души убеждена, что стоит ей только постараться, как тот, кто ее бросил, с радостью к ней вернется… Тогда кто? И самое главное – за что? А кстати, имеет ли вообще смысл мое расследование? У меня на руках нет практически ничего, а в распоряжении Папийона множество помощников, новейшие достижения криминальной науки и наверняка наказ префекта во что бы то ни стало поймать убийцу… Вот открою завтрашнюю газету, и пожалуйста: окажется там пошлейшая история. К примеру, покойный граф зазвал к себе в гости девицу легкого поведения, та поняла, что в особняке только один человек, и навела на дом дружка, который из ревности убил хозяина. А комиссар Папийон, само собой, на высоте, потому что сумел поймать его в два счета. Слуга не заметил признаков чужого присутствия? Так необязательно же было той девице пользоваться ванной и посудой или терять свои вещи…»
– Приехали, сударыня! – доложил шофер, прервав размышления хозяйки.
Едва Амалия вышла из машины, как к ней подскочил какой-то субъект в потрепанной кепке и сделал попытку ее сфотографировать. Антуан ухватил его за ворот, но тут на тротуаре материализовался другой субъект, с блокнотом и ручкой наготове.
– Сударыня, это правда, что ваш сын поссорился с графом Ковалевским незадолго до того, как произошло убийство? Они оба были влюблены в какую-то певицу?
«Начинается…» – с досадой подумала Амалия.
Плечистый Антуан решительно оттеснил мужчину, и баронесса проскользнула в дом, невольно ускорив шаг.
– Сударыня! – кричал ей вслед газетчик. – Люди имеют право знать правду! Помните, вы все равно ее не скроете! Правда все равно настигнет вас!
Антуан высился перед ним, загораживая вход. Вздохнув, корреспондент спрятал блокнот и ручку. Его коллега, отойдя на несколько шагов, за неимением лучшего делал снимки дома.
– Нет, ну каковы нахалы, а? – пожаловался ему второй репортер. – Думают, что им все позволено, раз у них есть деньги! Убивают людей, и ни в одном глазу!
– И не говори, – поддакнул фотограф.
Наверху баронесса велела прислуге включать свет, на всякий случай занавешивая окна. «Как в осаде», – мелькнуло у нее в голове. Она сняла трубку телефона. Квартира Михаила не отвечала.
– Где Саша? – спросила Амалия у матери.
– Ушел несколько часов назад. Сказал, что хочет погулять.
– А Ксения?
– Играет у себя под присмотром мисс Доусон, гувернантки. А что?
– Так, ничего. Пора бы мальчикам уже вернуться, – проворчала Амалия, поглядев на часы.
– Ты обедала?
– Нет. Я не голодна.
– Ужин через час, – сообщила старая дама. – К тому времени все уже будут дома.
– Очень на это надеюсь, – вздохнула баронесса и, взяв телефонную трубку, попросила соединить ее с посольством. Она была намерена употребить все усилия, чтобы имя ее сына никоим образом не попало в газеты в связи с убийством графа Ковалевского.
Глава 13 Часы
– В общем, получается, что никого барон не убивал, – подытожил Папийон на следующее утро.
– Ну да, – кивнул Мерлен. – Когда он уходил в тот вечер из клуба, у него на голове была фуражка.
– Дело даже не в фуражке, – хмыкнул комиссар, – а в том, что три человека засвидетельствовали его алиби. Получается, он чист. Что по поводу уволенных слуг графа?
– Я проверил их прошлое и беседовал с ними со всеми, – доложил Бюсси. – Ни единой зацепки. Все в один голос уверяют, что хозяином Ковалевский был очень хорошим.
– Как по-твоему, врут?
– Непохоже.
– У них есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог его убить?
– Нет.
– И тут, значит, ничего, – буркнул Папийон. – Мерлен, у тебя нет никаких планов на ближайшие дни?
– Нет, господин комиссар. А что?
– Тогда прокатишься в Швейцарию. Отправляйся как можно скорее, потому что действовать надо быстро. В санатории «Клоринда» найдешь Анатоля Ковалевского и разговоришь его, пока тот жив еще. По словам слуги, он жил в особняке брата несколько месяцев и был в курсе всех событий его жизни. Ты, Бюсси, раз покончил со слугами, плотнее займись скупщиками краденого. Где-то ведь пропавшие вещи должны объявиться… В помощники себе возьми Сегена и Мелло. Свободны!
Оставшись один, Папийон, помрачнев, откинулся на спинку стула и задумался. Конечно, было бы куда проще, если бы убийство совершил кто-нибудь из ближнего круга, а так – ищи, кто из парижских головорезов мог прикончить графа. И еще комиссара очень беспокоил пропавший ключ.
– Патрон! – В дверь просунулась голова Бюсси. – Вас хочет видеть мадемуазель Симон. Уверяет, что у нее срочное дело.
Названная посетительница была одной из мелких осведомительниц, которую Папийон знал еще с тех пор, когда числился простым инспектором без особых служебных перспектив.
– Давай ее сюда, – буркнул комиссар.
Искрясь улыбкой, мадемуазель Симон переступила порог. Сия особа всем улыбалась, и всегда – широко и фальшиво. Зубы у нее были безнадежно плохие, но женщину это ни капли не смущало. Кроме этого недостатка, внимательный наблюдатель мог бы отметить увядшую шею сорокапятилетней осведомительницы, вздернутый носик и хитренькие глазки, поблескивающие за стеклышками дешевого пенсне.
– Комиссар! Каждый раз, как я вас вижу, вы все молодеете и молодеете…
– Мадемуазель, – заворчал Папийон, – прошу вас, перейдем к делу! Меня рвут на части, и из-за вас я только что был вынужден отложить разговор с префектом.
Мадемуазель Симон согнала улыбку с лица, села и приосанилась, крепко сжимая сумочку сухонькими пальчиками в кружевных митенках.
– Я слышала, вы ищете часы с монограммой, в которой есть буква К.?
– Совершенно верно.
– Мне кажется, я знаю, где таковые находятся.
– В самом деле? – насторожился комиссар.
– Да. У часовщика Ройзена. Очень красивые золотые часы с крышкой.
– И что они там делают?
– Вероятно, кто-то принес их Ройзену, – хихикнула мадемуазель Симон. – Я, видите ли, заглянула к нему совершенно случайно и заметила, что он возится с золотыми часами. Мне, знаете ли, стало любопытно, потому что обычно Ройзену такие вещи не носят.
– Бюсси! – взревел комиссар.
– Я подошла поближе, желая удостовериться, что не ошибаюсь, – продолжала щебетать мадемуазель Симон, – и сказала Ройзену, что если это наследство его дедушки – а у него недавно умер дедушка, в сто два года, представляете? – то я не откажусь выйти за него замуж. Ройзен, по-моему, немного удивился и сказал, что часы ему принесли чинить, потому что они остановились. А еще добавил, что хозяин – идиот, потому что в часы попала вода. Мол, где ж такое видано, ронять в воду столь дорогую вещь.
– Бюсси! – заорал Папийон еще громче. – Срочно бери мотор[230], а также мадемуазель Симон, и тащи сюда старика Ройзена! Мадемуазель Симон покажет тебе, где его лавочка. Возможно, у него часы убитого графа.
– Слушаюсь, комиссар!
– Месье, – заволновалась мадемуазель Симон, – скажите, а я получу награду?
– Какую еще награду? – изумился Папийон.
Осведомительница широко распахнула глаза, и комиссар впервые обратил внимание на то, что они у нее нежно-голубого цвета.
– Так ведь брат убитого обещал награду за сведения, которые помогут найти убийцу, – тысячу франков. И пять тысяч тому, кто задержит убийцу! Вы ведь подтвердите, если понадобится, что именно я нашла часы? Это же улика, и очень важная! Если бы не я…
Папийон вздохнул и, смирившись, подтвердил, что мадемуазель Симон может на него рассчитывать, что будет горой стоять за то, чтобы она получила вожделенную тысячу франков, и ни за что не допустит, чтобы ее обошли.
– Комиссар, – просияла женщина, увлекаемая прочь Бюсси, – вы просто ангел! Молодой человек, – строго обратилась мадемуазель Симон к молодому инспектору, – не тяните меня так за руку… Люди могут подумать, что вы собрались на мне жениться!
Бедняга Бюсси в ужасе споткнулся и едва не упал. Тут комиссар не выдержал и расхохотался.
Итак, он все-таки недооценил важность объявления, которое сделал Анатолий Ковалевский. Черта с два мадемуазель Симон притащилась бы с утра пораньше в субботу, если бы не предвкушение награды…
Полно, сказал себе полицейский, рано радоваться, ведь может оказаться и так, что часы вовсе не принадлежали графу и вообще происхождения самого законного. Тем не менее он снял трубку телефона и позвонил в особняк графа Ковалевского.
– Месье Савельев? Возможно, нам понадобится ваша помощь. Не исключено, что скоро у нас в руках окажется кое-что из пропавших вещей вашего хозяина. Поэтому прошу вас покамест никуда не отлучаться. Если что-то станет известно точнее, я пришлю за вами своего человека.
В ожидании Бюсси и Ройзена Папийон перечитал свои заметки. Балерина Корнелли… Светские знакомые графа… Адвокат Урусов… Мадам Туманова… Все эти люди, с которыми он беседовал вчера, ровным счетом ничего не могли сообщить следствию – разумеется, кроме балерины, которая заявила об алиби своего любовника.
Урусов, впрочем, довел до сведения комиссара, что незадолго до его визита к адвокату наведалась баронесса Корф.
– Дама уверяла меня, что знакома с графиней, но, по-моему, она пытается вести собственное расследование.
– А где сейчас графиня?
– В Ницце, я полагаю. Живет там постоянно, чтобы не встречаться с мужем.
Слова, слова, слова… Комиссар зевнул и углубился в размышления.
Кто мог взять ключ графа? Кто не просто мог его взять, но и знал, что он от черного хода? Проще всего это сделать было кому-нибудь из прислуги… А, черт! Зачем им красть ключ у хозяина? Ведь имелись же два запасных в комоде, за которыми никто не следил! И потом, что мешало прислуге – если она как-то связана с этим убийством – просто-напросто сделать дубликат своего ключа?
Нет, сказал себе Папийон, прислуга тут явно ни при чем. Убийца не имел доступа в дом, но каким-то образом узнал, что граф иногда носит с собой ключ от черного хода. Например, когда граф навещал госпожу Туманову и брал с собой вторую связку…
Но зачем госпоже Тумановой красть ключ? Дамочка призналась, что они с графом расстались, к тому же несколько месяцев назад. Красотка не была его женой, ничего не наследовала и от смерти бывшего любовника не выигрывала ровным счетом ни-че-го.
И все же комиссара не оставляло ощущение, что если разгадать тайну пропавшего ключа, дело будет раскрыто. Но тут он услышал скрип отворяющейся двери и поднял глаза.
– Вот, патрон, привел…
И Бюсси втолкнул в кабинет сутулого, морщинистого еврея лет пятидесяти, одетого довольно неряшливо и подслеповато мигающего.
– Господин комиссар, – печально заговорил Ройзен, – я протестую против такого обращения. Это же урон моему делу… Я серьезный часовщик, и вдруг за мной является полиция! Что подумают соседи?
– Часы нашли? – спросил комиссар у Бюсси. Тот утвердительно кивнул и протянул начальнику золотые часы на изящной цепочке. – Отлично. Дуй к слуге графа и вези его сюда.
– Я буду жаловаться, – твердил Ройзен, исподлобья косясь на полицейского. – У меня есть знакомые…
– Не сомневаюсь, – усмехнулся комиссар. – Садитесь, Ройзен. И расскажите нам, коим образом вы оказались причастны к зверскому убийству графа Ковалевского.
Часовщик позеленел и скорее рухнул, чем сел на стул.
– О, господин комиссар! Понимаю, вы веселый человек, я и сам люблю иногда пошутить…
Папийон молчал, крепко сжав губы.
– Так вы по поводу этих золотых часов? – догадался Ройзен. – Уверяю вас, я никогда… Я честный человек!
– Ну да, ну да… – хмыкнул Папийон. – А скупка краденого – просто увлечение.
– Да когда это было! – запричитал Ройзен, театрально воздев к потолку руки. – Вы же знаете, я давно не занимаюсь такими делами! У меня часовая мастерская, я чиню часы. Клянусь вам!
– Если тебя давно не ловили, это не значит, что ты перестал заниматься «такими делами», – холодно сказал комиссар. – Короче, ты мне говоришь все, что тебе известно про ходики, без утайки. Если пойму, что ты тут ни при чем, я тебя отпущу. Ну?
Ройзен посмотрел на лицо Папийона, понял, что тот не оставит его в покое, и смирился.
– Утром ко мне пришел один человек…
– Э, нет, так не годится, – перебил его полицейский. – Имя, фамилия, где живет и так далее.
– Тот человек живет в соседнем доме, на последнем этаже, – ответил Ройзен, часто-часто мигая. – Это Гюстав Ансеваль, мелкий чиновник, который, как я думал, никак не связан с… – Часовщик осекся.
– Дальше.
– Мужчина принес мне часы и попросил взглянуть на них, потому что они не шли. Я, само собой, счел нужным поинтересоваться, откуда у простого чиновника такая дорогая вещь. Ансеваль засмеялся и сказал, что вчера вечером нашел их в Булонском лесу, в пруду. Увидел, что у самого берега что-то блестит, ну и…
– В пруду? – озадаченно переспросил комиссар.
– Да, так он и сказал. Я пообещал ему посмотреть, что с часами. – Ройзен глубоко вздохнул. – И самое интересное, комиссар, в них действительно была вода! Хотя, по правде сказать, я ни минуты не поверил в рассказанную Ансевалем историю, – добавил часовщик быстро.
Папийон задумался, барабаня пальцами по столу. Ройзен терпеливо ждал.
– Тот чиновник не упоминал, может быть, он нашел что-то еще в замечательном пруду, где можно выловить часы массивного золота, а? – наконец спросил язвительно комиссар.
– Ничего такого сосед не говорил, – пробурчал Ройзен, искоса глядя на собеседника. – Но на мизинце у него был золотой перстень. Раньше я такого у него не видел.
– Любопытно… – уронил комиссар и снова замолчал.
Потом, уловив за дверями звук шагов, поднял голову. В сопровождении Бюсси в кабинет вошел Николай Савельев.
– Так быстро? – только и мог вымолвить Папийон.
– Я решил, что вы уже что-то нашли, и сразу же после вашего звонка поспешил сюда, а вашего посланца встретил по дороге, – объяснил слуга. – Надеюсь, не расстроил ваши планы?
– Нет, конечно. Прошу вас, месье, посмотрите сюда. Вы узнаете эти часы?
– Да… – едва слышно вымолвил камердинер графа и перевел взгляд на Ройзена.
И, хотя в голове Савельева вроде бы не было никакой угрозы, часовщик на всякий случай отодвинулся подальше.
– Нет, нет, месье Исаак Ройзен не убийца, – отозвался комиссар. – Итак, Бюсси, тебе новое поручение. Отведи обоих к Сегену, пусть запротоколирует их показания по всей форме. Сам вернешься туда, где лавочка нашего свидетеля, и поищешь месье Ансеваля, который живет…
– В доме номер 17, – быстро подсказал Ройзен.
– Вот именно. Если того там нет, что вполне вероятно, отыщешь его где угодно и привезешь ко мне. Кстати, у месье на мизинце любопытное кольцо, проследи, чтобы он не скинул его по дороге. Ступай.
– Так что, часы и в самом деле убитого графа? Вы не лгали мне? – недоверчиво спросил часовщик. Затем украдкой покосился на Савельева, который смотрел в угол и молчал. – Скажите, ведь в газетах напишут, что часы принесли ко мне? Нельзя ли сразу же дать мой адрес? Мол, за умеренную цену… ремонт любой сложности… Спросите кого хотите, я лучший часовщик в округе!
– Мы даем газетчикам только ту информацию, которую считаем необходимой, – сказал Папийон, пряча улыбку. – Но вам ничто не мешает поведать прессе о часах и предложить свои услуги. Чем черт не шутит, может, даже ваше фото опубликуют, прямо на первой полосе. Все-таки вы – свидетель!
– Не нужно на первой, – рассудительно возразил Ройзен. – Вон, портрет господина графа уже опубликовали на первой, много ли ему от того счастья… – Савельев потемнел лицом и сжал губы. – Меня вполне устроит фото на третьей полосе, комиссар, совсем маленькое. Честное слово!
Папийон свирепо глянул на Бюсси, и тот поторопился увести обоих свидетелей. Комиссар погрузился в размышления.
Итак, убийца очень скоро понял, что вещи, которые он похитил в графском доме, прямиком приведут к нему. Поэтому поспешил от них избавиться. Почему бы, в самом деле, не бросить их в пруд? Если так, не исключено, что где-то там по соседству валяется и фарфоровая фигурка, изображающая урок музыки… И ключ от черного хода тоже.
Однако убийца не слишком умен, сказал себе Папийон. Ведь, убив графа, он легко мог вернуть ключ на место, чтобы не возбуждать подозрений. Не так ли?
Кроме того, преступник посообразительнее не стал бы прикасаться к вещам. Взял бы только деньги. Причем не оставил бы без внимания ящики стола в кабинете, где люди нередко хранят наличность…
Через два часа Бюсси вернулся.
– Патрон, я его нашел. Взял прямо в морском министерстве, где господин Ансеваль числится мелким служащим.
– Где он?
– Я оставил Мелло присматривать за ним. Да, и на мизинце у него то самое кольцо. Золотое и очень дорогое.
– Веди его сюда.
Сосед часовщика Ройзена был приведен, но едва увидев его лицо, Папийон сказал себе: «Не он».
Это был тщедушный молодой человек в очках, русоволосый, с длинным носом и той особой печатью уныния на лице, которая безошибочно выдает окружающим слабое существо, которым можно помыкать. Комиссар мог поклясться, что Ансеваля не любят девушки, недодают сдачу торговцы, толкают на улице мальчишки и презирают консьержи. Такие люди трепещут перед властью, даже если не сделали ничего плохого, и Папийон не сомневался, что задержанный в два счета поведает ему все до последней мелочи.
– Имя и фамилия?
– Гюстав Ансеваль. Я…
– Сколько вам лет? Где проживаете?
Ансеваль съежился, едва слышным голосом отвечая на вопросы. Комиссар внимательно посмотрел на золотое кольцо, красовавшееся на мизинце чиновника и явно ему великоватое.
– Вы узнаете эту вещь?
Гюстав покосился на часы, перевел взгляд на лицо комиссара и съежился еще сильнее.
– Так я и знал… – пробормотал он. – Никогда мне не везло! А тут вдруг такая находка… Но я их не крал!
– Вас никто и не обвиняет в краже, – внушительно промолвил Папийон. – Лучше расскажите в подробностях, где вы их нашли.
– Я знал, что все плохо кончится, – заныл Ансеваль. – Как же иначе? Но, господин комиссар, я тут ни при чем! У меня старенькая мать… совсем слепая…
– Сочувствую, – спокойно произнес полицейский. – Но, видите ли, нам очень нужно знать, где именно вы нашли часы, которые отнесли часовщику Ройзену и… и кольцо, которое я вижу на вашем мизинце.
Дрожа всем телом, Ансеваль снял украшение и положил на стол. Комиссар осмотрел перстень – судя по всему, перед ним действительно была печатка покойного графа, та самая, которая исчезла из его спальни.
– Не подумайте ничего дурного… – пробормотал молодой человек едва слышно. – Я нашел эти вещи в Булонском лесу.
– Булонский лес огромен. Где именно вы их нашли?
И Ансеваль рассказал, что вчера он собирался встретиться с девушкой, но та не пришла. Гюстав ждал ее, ходил туда-сюда по берегу пруда и внезапно уловил в воде золотой блеск.
– Мне показалось, в воде находится какой-то предмет… хотя это могла быть и просто рябь от солнечного света. Но тут я увидел нечто вроде цепочки, подумал: была не была… и забрался в пруд. Дно там скользкое, я, со своим везением, сразу же упал в воду и чуть не утонул… Только я способен утонуть на глубине в один метр! Я весь промок, но, раз уж дело зашло так далеко, решил не отступать. И, наклонившись, стал шарить руками по дну. А потом глазам своим не поверил, когда вытащил часы…
– Однако у вас хватило сообразительности наклониться снова и пошарить еще, – со смешком заметил комиссар.
Ансеваль с ужасом покосился на него.
– Нет, что вы! Я сразу же поспешил на берег! Там снял ботинки, вылил из них воду…
– Вы полезли в воду в ботинках? – хмыкнул Папийон.
– Ну… ну да…
Комиссар посмотрел в открытое молодое лицо и тихо вздохнул.
– А вот когда шел обратно, – заторопился Ансеваль, – заметил на дорожке кольцо. Тоже золотое…
Просто день Шлимана[231] какой-то, усмехнулся про себя комиссар.
– Что было дальше?
– Дальше? Я подумал, что часы и кольцо будут искать… Купил утреннюю газету и стал просматривать объявления о потерянных вещах. Но не было ни одного, которое подходило бы к найденным мной. Тогда я отнес часы к часовщику… ведь механизм пострадал от воды…
– Бюсси! – крикнул комиссар.
В дверь тотчас же просунулась темноволосая голова с идеальным боковым пробором.
– Да, патрон?
– Тулонжон уже вернулся?
– Да.
– Давай его сюда! А месье покамест передай Мелло, пусть запишет и его показания.
Бюсси увел Ансеваля, и через минуту перед Папийоном предстал невысокий, ладный, ничем не примечательный человечек в штатском. Это был один из двух агентов, которые посменно следили за передвижениями Михаила Корфа.
– Где барон был вчера?
– У себя. Около трех вышел, купил газету. Прочитал только первую страницу, где сообщалось об убийстве, скомкал и выбросил в урну. Потом сел на омнибус, доехал до Булонского леса…
Карандаш в руках Папийона с хрустом сломался. Так что, юный Шлиман сказал правду? Вся его несуразная история вовсе не ложь?
– Что он делал в Булонском лесу? – каким-то чужим, непохожим на свой голосом спросил комиссар.
– Гулял по берегу пруда. Бросал камешки в воду…
– Камешки? Ну… ну…
Неожиданно Папийон стукнул кулаком по столу и выругался.
Тулонжон выпучил глаза. Агент отлично знал, что комиссару известны все бранные слова французского языка, а также провансальского и бретонского. Но шеф почти никогда не употреблял сильные выражения в присутствии подчиненных, поскольку считал, что грубость разъедает человека, как ржавчина металл. Стоит только начать, и вскоре уже двух слов не сможешь связать без брани, даже если в ней нет никакой нужды.
– Ладно, – проворчал Папийон, немного успокоившись. – Что было потом?
– Потом к нему присоединился его брат. Забыл вам сказать: тот тоже… ну, вроде как следил за ним.
– А после того, как брат подошел к нему, барон уже не бросал камешки, – усмехнулся Папийон. – Верно?
– Вроде бы так, – подумав, ответил агент. – А что?
– Бери Мелло и того свидетеля, который сейчас у него, возьми с собой еще кого-нибудь, если нужно, и езжайте в Булонский лес, – распорядился комиссар. – Пусть Ансеваль, тот самый свидетель, покажет вам, где именно нашел часы и кольцо убитого. Осмотрите там все как следует – в пруду и вокруг пруда. Ищите остальные украшения, фигурку севрского фарфора и ключ. Сдается мне, они должны быть где-то неподалеку.
– Так дело раскрыто, патрон? – почтительно поинтересовался агент. – Преступник – Корф? А как же его алиби?
– С алиби я еще разберусь, – буркнул шеф. – Если что найдете, немедленно дайте мне знать. Ясно? Немедленно!
И он махнул рукой, отпуская Тулонжона.
Как известно, на ловца и зверь бежит. А комиссар Папийон был очень хорошим ловцом. Как раз когда он размышлял, взяться ли ему для начала за горничную балерины или нажать на саму мадемуазель Корнелли, к нему явился Бюсси и доложил, что явился месье Ашиль Гуже, консьерж дома на бульваре Османа.
– Зови, – без колебаний приказал Папийон.
Месье Гуже вошел, расправив хлипкие плечи и нацепив на морщинистую физиономию выражение человека, который решил ничего не скрывать.
– Мы разговаривали с вами вчера, господин комиссар, – робко начал мужчина. – Вы, вероятно, не помните меня? Я работаю консьержем в доме, где живет русская балерина.
– Прекрасно вас помню, – ответил Папийон, ничуть не погрешив против истины.
– Мне чрезвычайно неприятно говорить, но вчера меня убедили вам солгать. – промолвил месье Гуже после паузы. – Речь идет о том, что в ночь со вторника на среду я будто бы открывал дверь барону Корфу.
– Я вас слушаю, продолжайте, пожалуйста.
– У меня очень острое зрение и хорошая память. Госпожа Корнелли пыталась меня убедить, что именно в ту ночь я впустил к ней барона, но это неправда. В ту ночь я открывал дверь только месье Монтё с третьего этажа и гостям актрисы Денеж из бельэтажа. Я имею в виду, она живет в бельэтаже…
– Я вас понял.
– Более того, готов подтвердить на суде, что в ту ночь господин Корф не был на бульваре Османа, по крайней мере, не входил в дом, в котором в настоящее время проживает балерина Корнелли.
И консьерж, откинувшись на спинку стула, победоносно перевел дух после столь длинной и удачно закругленной фразы.
– Сколько вам дала госпожа Корнелли? – напрямик спросил полицейский.
Но месье Гуже был не Ансеваль, и он только тонко улыбнулся.
– Истина превыше всего, господин комиссар. Уверяю вас, госпожа балерина умеет быть очень настойчивой, но по зрелом размышлении я понял, что меня ввели в заблуждение, и поспешил вас об этом известить.
– Полагаю, однако, что сумма была меньше тысячи франков, то есть награды, которую Анатоль Ковалевский собрался вручить тому, кто поможет найти убийцу его брата, – как бы между прочим уронил Папийон.
– Полагаю, я не могу помешать вам думать что угодно, господин комиссар, – в тон ему заметил старый пройдоха.
Папийон не смог удержаться от улыбки. Похоже, он и в самом деле недооценил пользу, которую принесет расследованию щедрое обещание брата убитого. Положим, двух сотрудников, наименее полезных, пришлось переключить на посетителей, приходивших по объявлению, и на телефонные звонки, но это была небольшая потеря по сравнению с тем, что сейчас он точно знал: балерина Корнелли и ее горничная лгали. А раз так, алиби барона Корфа ничего не стоит.
– Мой сотрудник запротоколирует ваши показания, месье, – сказал Папийон. – Думаю, если благодаря им мы и впрямь возьмем убийцу, вы сможете претендовать на тысячу франков вознаграждения.
И он вызвал к себе Бюсси, чтобы дать дальнейшие указания. В глубине души комиссар уже не сомневался, что дело можно считать раскрытым. Очень жаль, конечно, что сын баронессы Корф, такой умной и достойной женщины, оказался психопатом, однако это не его, Папийона, забота. Он должен задержать преступника и упрятать его за решетку, кем бы тот ни был. Вот, собственно, и все.
Глава 14 Опознание
– В газете написано, – сказала Викторина, – что тому, кто поможет отыскать убийцу, дадут тысячу франков. А тому, кто его поймает, – все пять.
– Ну и что? – равнодушно спросила Роза.
Последняя лежала на постели в одежде, отвернувшись лицом к стене. Викторина примостилась на продавленном стуле возле колченогого столика. Вся обстановка комнаты кричала о бедности и заброшенности. Никто не любил заполнявшие помещение вещи, никто не заботился о них. Здесь только спали, занимались любовью, снова спали, опять занимались любовью – и так без конца.
– Ты что, дура совсем? – заворчала Викторина. – Тебе разве не нужна тысяча франков?
Викторина была пухленькая, бойкая брюнетка, считавшая себя чрезвычайно сообразительной. Впрочем, сообразительности ее хватило только на то, чтобы из учениц модистки[232] перебраться на панель. В Па-
риж, как все настоящие парижане, она приехала из провинции, и до сих пор в ее речи слышался мягкий южный акцент.
Роза метнула на собеседницу хмурый взгляд.
– Нужна. Только все богачи горазды обещать, а как дойдет до выплаты – фьюить! Нет их!
– Тут дело другое, – оживилась подруга. – Тут же месть, серьезная штука. Во всех газетах написано, что брат убитого отсыплет тысячу тому, кто поможет полиции раскрыть дело. Видимо, сам он особо полицейским не верит, и правильно делает. А ты у нас главный свидетель! Кто видел убийцу, а?
– Ну, я видела, – вяло ответила Роза. – Много мне от этого толку? Еще и топтуны привязались, ходят, следят, как бы мне башку не расшибли ненароком.
– Тебе что, плохо? Пусть охраняют. – Викторина хихикнула.
– А Андреа перестал пускать меня работать, – пожаловалась Роза. – Вот же сволочь! Ему посулили что-то насчет его брата, так он уже весь готов со всеми лапами сдаться легавым.
– Его брата, который находится в колонии, переведут в библиотекари, – кивнула Викторина. – Папийон уже звонил насчет этого. Андреа обещаниям не верит, ты сама знаешь, но как только узнал, что комиссар слово держит, конечно, стал стараться, чтобы его не подвести.
Девушки помолчали.
– Я только одного не могу понять: чего ты нос от денег воротишь? – опять принялась за свое Викторина.
– Я-то? – усмехнулась Роза. – Я, что мне надо, возьму, вот увидишь. Всему свое время, факт.
Викторина посмотрела на нее с жалостью.
– Ты бы варежку-то лучше не разевала, Розка, на ту жалкую тысячу. Еще, может, тебе ее и не дадут. А могла бы сорвать побольше.
– Ты о чем?
– Да так, – туманно ответила Викторина. – Ходят слухи, этот тип из богатой семьи. Если бы я видела убийцу, то никому бы ни слова не сказала, а сначала разузнала, водятся ли у него денежки. Убийство дорогого стоит, ясно тебе, дурья башка? А дальше уж можно пожить в свое удовольствие.
– Иди ты…
Окончание фразы съел грохот проехавшего по улице грузовика.
– Дура. Как есть дура! – снова завела подруга. – Сама посуди: графу твои показания все равно не помогут. А тебе твои знания очень бы пригодились… если бы ты сумела удержать язык за зубами.
– Может, и так, – вяло откликнулась Роза. – Только какая из меня шантажистка? Он бы сразу меня и прихлопнул. За компанию с графом.
– Ну ты ведь могла бы как-нибудь себя обезопасить… – протянула Викторина. – Все можно сделать, если действовать с умом. А теперь тебе ничего не светит, кроме той тысячи… если тебе вообще что-нибудь дадут.
Дверь без стука открылась, на пороге появился Андреа.
– Викторина, хорош трепаться, иди работать! – с ходу заорал корсиканец.
– Еще чего! Сейчас черед Жермены! – не осталась в долгу девица.
– У Жермены фонарь под глазом, на нее даже пьяный мастеровой не польстится. Кому сказал, ступай работать!
И сутенер прибавил к речи пару крепких итальянских ругательств. Роза села на постели и стала надевать туфли.
– Ты куда? – насторожился Андреа.
– Пойду вместо Викторины, раз она не хочет.
– Сиди! Никуда ты не пойдешь!
– Ты что, рехнулся? – взвилась Роза. – Сегодня суббота, отличный день для заработка, мне деньги заработать надо…
– Не надо, – оборвал ее мужчина. – Я сказал – сиди!
Роза посмотрела ему в лицо и хотела сказать, что он сволочь. И что его брат, за которого Андреа так хлопочет, еще большая сволочь, потому что хладнокровно пристрелил свою подружку – все это знали! – когда та ему наскучила, а после вложил ей в руку нож, чтобы создать впечатление, будто именно она напала на него первой. Но за такие слова можно было нарваться на серьезные неприятности – Андреа умел бить женщин и при случае мог устроить и так, чтобы Роза на всю жизнь осталась калекой. «И кому я тогда буду нужна?» – с горечью подумала девушка, смирившись, снова легла на кровать, на сей раз даже не снимая туфель.
Викторина, хихикнув, вышла вместе с корсиканцем.
Роза лежала в постели, машинально скребя ногтем по несвежей наволочке, потом повернулась лицом к двери, бросила взгляд на часы, висевшие на стене. Какой кошмар, прошло всего семь минут с тех пор, как ушел Андреа. Семь минут! А впереди еще семьдесят, и семьсот, а ей совершенно нечем заняться!
Вынужденное безделье выбивало ее из колеи. Сыщик же, следивший за ней и для виду облюбовавший кафе напротив, выводил из себя. В раздражении Роза стукнула кулачком по подушке, уставилась на покрытый трещинами потолок и мрачно задумалась.
В одном Викторина права: не стоило ей болтать языком. Надо было промолчать о своем открытии – не потому, что так уж улыбалось обогатиться за счет шантажа, а потому, что Роза знала Надин, которую убил брат Андреа. Теперь получается, она только облегчит подонку жизнь, хотя тот заслуживал куда худшего за убийство смирной, доброй, глуповатой девушки.
– А, твою мать! – в сердцах выругалась Роза.
Дверь распахнулась, и опять – без стука.
– Там за тобой пришли, собирайся, – коротко бросил Андреа. – Да веди себя прилично, чтобы меня не опозорить.
– Флики?
– Полицейские, – осадил ее корсиканец. Он терпеть не мог полицию, но частично пересмотрел свои взгляды после того, как пообщался со знаменитым комиссаром.
– Зачем я им?
– Сами скажут. Как я понял, дело серьезное.
Роза догадалась и ощутила под ложечкой ноющий, неприятный холодок.
– Его нашли?
– Передо мной полицейские не отчитываются, – проворчал сутенер. – Рожу умой. И накрась губы. А то ты такая бледная, что на тебя смотреть страшно.
Андреа презрительно фыркнул.
Девушка умылась, вытерлась полотенцем, припудрилась, накрасилась и взяла свою сумочку.
– Стой! – велел корсиканец и, чего за ним раньше никогда не водилось, поправил на ее платье какую-то оборку. – Теперь иди. Они внизу.
Роза спустилась по лестнице и сразу же увидела одного из двух топтунов, которых к ней приставила полиция, а возле него – молодого человека с цепким взглядом и темными волосами, расчесанными на идеальный пробор.
– Инспектор Бюсси, – представился тот. – Я приехал по поручению комиссара Папийона. Нужно ваше присутствие.
– Для чего? – спросила Роза, пытаясь казаться как можно более равнодушной.
– Для опознания. Не волнуйтесь, это ненадолго.
«А я и не волнуюсь», – хотела было сказать Роза, но почувствовала, что у нее вспотели ладони.
– Ты смотри-ка, – сокрушенно заметила стоявшая у окна Викторина сутенеру, – они даже машину за ней прислали. Во дают!
– А чего ты хочешь? Розка же у них главный свидетель, – усмехнулся корсиканец, и Викторина поглядела на него с невольной завистью.
Роза едва заметила автомобиль, как не обратила и внимания на то, что полицейские, оказавшись внутри, почти не разговаривали с ней. По правде говоря, ей хотелось только одного – чтобы все закончилось как можно скорее. Девушку уже стала тяготить роль свидетеля, без которого следствие не могло обойтись.
Они приехали на набережную Орфевр, в главное управление Сюрте, где с прошлого раза почти ничего не изменилось. Все так же заливались на разные голоса многочисленные телефоны, так же сновали служащие с печатью заботы на лицах, кто-то печатал на машинке, какой-то посетитель возмущался, кого-то куда-то вели.
– Сюда, мадемуазель.
Топтун исчез, теперь ее вел только Бюсси. Миновали коридор и оказались в большой, довольно просторной комнате с окном, выходившим во двор. Единственный стол, находившийся здесь, был пуст, а стул – Роза даже не поверила собственным глазам – был точь-в-точь такой же, как в ее комнате: старый, продавленный, с потрепанной обивкой.
– Подождите здесь, пожалуйста, – шепнул Бюсси и исчез.
Девушка села, обеими руками вцепившись в сумочку. Потом ей пришло в голову, что она выглядит так, словно чего-то боится, и появилась злость на себя. Роза машинально залезла в сумочку, ища сигареты, и, само собой, обнаружила, что забыла их в притоне Андреа. Потом понюхала свой рукав и еще больше разозлилась. «Черт! Что за одеколон у этого расфранченного типа? Я вся провоняю легавыми, чтоб им пропасть!»
Желая избавиться от навязчивого запаха, девушка встала и распахнула окно. В следующее мгновение ее, словно ножом по сердцу, полоснул пронзительный детский визг:
– Куда вы его ведете?
Кричала девочка, одетая в прелестное шелковое платье цвета персика со множеством оборок – прямо настоящая принцесса. Но ручки принцессы сжимались в кулачки, а в глазах стояли злые слезы.
– Вы не смеете его забирать! Не трогайте его! Не трогайте!
Ее яростный и совершенно недетский протест был обращен к двум полицейским, увлекающим в сторону управления растерянного молодого человека с военной выправкой. Следом за девочкой бежала длиннолицая гувернантка, явно англичанка, и тщетно пыталась призвать к порядку свою воспитанницу:
– Мисс Ксения… Люди смотрят! Мисс Ксения…
– Не смейте, я не хочу, не смейте! – завизжала девочка еще громче и бросилась к брату.
Люди стали останавливаться, оборачиваться, а Ксения, добежав до Михаила, вцепилась в него так, словно только от нее зависело, уведут ли его в мрачное здание управления или нет.
Полицейские растерялись. Молодой барон Корф наклонился и закусил губу. Как ей объяснить, боже мой, как?
– Куда они тебя ведут? – сквозь слезы спросила девочка.
– Это просто формальность. Я только отвечу на несколько вопросов, и все.
– Неправда! – возмутилась Ксения. – Они тащат тебя, как преступника!
– Нет, нет, нет, – поспешно ответил Михаил и стал осторожно разжимать упрямые пальчики сестренки, которая никак не хотела его отпускать. – Я вернусь к ужину, обещаю! Скажи маме, чтобы приготовили галушки, как у нас дома. Хорошо? Что-то ужасно хочется галушек…
Он говорил глупости, пытаясь успокоить Ксению, хотя у него самого стоял ком в горле.
– Ты должна быть сильной, – совершенно не к месту прибавил молодой человек. – Ты же из нашей семьи! Ничего мне не сделают…
– Правда? – спросила Ксения.
Девочка сомневалась, но ей хотелось верить. Полицейские стояли рядом, старательно пряча глаза.
– Я вернусь к ужину, – повторил Михаил. – Возвращайтесь с мисс Доусон домой. Я скоро буду, слышишь?
Ксения молча бросилась ему на шею.
– Ну, ну, хватит, – пробормотал растроганный брат. – Ничего страшного не происходит, ничего! Возвращайтесь к маме, я позвоню, как только смогу.
Михаил передал Ксению пораженной, смотревшей на него с недоумением мисс Доусон и в сопровождении полицейских поспешил прочь. Ему было очень больно, но он запретил себе оборачиваться.
В управлении его встретил комиссар Папийон и чрезвычайно вежливо спросил, не откажет ли им господин барон в любезности пройти обычную процедуру опознания. Дело в том, что в ту ночь свидетель видел возле особняка графа человека, по описанию похожего на Михаила. Разумеется, словесный портрет одно дело, а опознание – совсем другое. Полиции придется к нему прибегнуть, так как благодаря чистой случайности выяснилось, что алиби господина барона ничего не стоит.
– Я никогда вам и не говорил, что у меня есть алиби, – холодно промолвил Михаил. – Впрочем, будь по-вашему.
Папийон посмотрел ему в лицо и догадался: офицер действительно не знал о том, что бывшая любовница организовала ему алиби. Затем комиссар, усмехнувшись про себя, велел Мелло привести остальных.
– Прошу вас, сюда. Войдя в комнату, становитесь возле стены. Никаких разговоров, прошу вас.
Шестеро светловолосых молодых людей гуськом вошли в комнату, где на единственном стуле сгорбилась маленькая, рыжая, веснушчатая девушка. Глаза ее смотрели настороженно, пальцы вцепились в дешевую сумочку, лежавшую на коленях. Следом за «кандидатами в убийцы графа Ковалевского» вошел комиссар Папийон. Бюсси, сознавая, что вот-вот на его глазах произойдет развязка драмы, остался стоять в дверях – на всякий случай.
– Мадемуазель Тесье, – негромко промолвил Папийон, – прошу вас подойти сюда. Узнаете ли вы кого-либо из людей, которых здесь видите?
Роза метнула на него хмурый взгляд и поднялась с места.
– Вы можете подойти поближе, – подбодрил ее полицейский.
Девушка сделала несколько шагов вперед и медленно двинулась вдоль шеренги подозреваемых, застывших возле стены. Ни один не шелохнулся, ни один не проронил ни слова. Кто-то смотрел перед собой, кто-то косился на потолок, пытаясь придать лицу независимое выражение. У Бюсси отчаянно зачесался нос, он поднял руку – и тотчас же опустил ее, сердясь на неуместность своего жеста в такой момент. Папийон молчал, и в комнате был слышен только легкий шелест платья Розы, когда она переходила от одного подозреваемого к другому. Веснушки на ее носу обозначились еще резче, углы губ были поджаты, и комиссар почти физически чувствовал исходящую от нее волну напряжения.
Дойдя до Корфа, который стоял в шеренге предпоследним, Роза на мгновение задержалась. Ее взгляд и взгляд офицера скрестились.
«Ну же!» – нетерпеливо сказал про себя Папийон.
Но Роза уже двинулась к последнему кандидату. Внимательно осмотрев и его, она обернулась к комиссару. И решительно покачала головой.
– Нет, – промолвила девушка своим обычным хрипловатым голосом. – Того человека тут нет.
Глава 15 Новая клиентка
– Ничего не понимаю, – признался Бюсси. – У него, как мы установили, нет алиби. Барон был в Булонском лесу, что-то бросал в воду пруда, и это что-то издали могло показаться камешками…
– Причем примерно в том месте, где были найдены часы, – добавил Мелло, обследовавший пруд.
– Само собой, это были вовсе не камешки, – усмехнулся Бюсси, – а улики. Вы больше ничего там обнаружили?
– Нет.
– Ни ключа, ни статуэтки…
– Нет. Мы все обшарили. Нашли только пару коряг и голову старой куклы, но эти предметы отношения к делу не имеют.
– Значит, остальные улики убийца выбросил где-то еще, к примеру, швырнул в Сену, – подытожил Бюсси. – Что ж такое? Все сходится, а наш свидетель его не признает!
Папийон молчал и хмурился.
Они разговаривали в кабинете комиссара, которому пришлось после опознания извиняться перед бароном за причиненное беспокойство. Михаил даже не стал говорить, что этого так не оставит – просто смерил полицейского презрительным взглядом и удалился, не попрощавшись.
– Он не мог как-нибудь запугать свидетеля? – безнадежно спросил Бюсси.
– Наши люди не выпускали ее из виду ни днем, ни ночью, да и его тоже, – отозвался комиссар. – Барон даже не приближался к ней.
– А через третье лицо? Мог, к примеру, кого-то подослать и посулить девице денег? – предположил Мелло.
– Теоретически – да, – кивнул комиссар. – Хотя Андреа смекнул, что для его же блага Роза должна находиться под присмотром, и держал ее чуть ли не под замком. Но дело не в том. Думаю, мы слишком полагаемся на показания свидетеля, который видел убийцу лишь пару секунд, да еще ночью.
– Полагаете, это был все-таки Корф, просто при свете дня девица его не узнала? – спросил Бюсси.
– Не исключено. – Папийон устало потер рукой лоб.
– Почему же вы так легко его отпустили?
– Потому что у меня не выходят из головы удары, нанесенные каминной кочергой, – отрезал комиссар. – Что-то тут не сходится. Офицер не стал бы так действовать.
– А Булонский лес?
– Н-да, Булонский лес… – Комиссар задумался. – Тулонжон здесь?
– Нет, вернулся к себе. Сказал, что хочет отдохнуть.
– Тогда вот что, Бюсси… Поезжай к нему и расспроси, не видел ли он возле пруда еще кого-нибудь. Какого-нибудь прохожего, которому тоже взбрело в голову метать камешки.
– Слушаюсь, патрон. За бароном больше не следить?
– Еще как следить! – усмехнулся Папийон. – С него и с Розы глаз не спускать. Если эти двое сговорились, я выведу их на чистую воду. А ты, Мелло, пока можешь отдохнуть. Потом зайдешь ко мне, я дам тебе новые указания.
Инспекторы синхронно кивнули и поднялись с места.
– Что такое, дождь? – недовольно спросил комиссар, глядя за окно. – Черт! Начался настоящий ливень!
– Скоро пройдет, – философски обронил Мелло, бросив взгляд на улицу и радуясь, что дождь хлынул не тогда, когда он с коллегами и жандармами обследовал пруд в Булонском лесу.
…Роза прижалась к стене под небольшим навесом, чтобы спрятаться от струй ливня. Сколько девушка себя помнила, у нее никогда не было зонтика – ни того, под которым можно спрятаться от дождя, ни того, который защищает от солнца. Как и многие ее коллеги, она привыкла не замечать непогоду и, несмотря на это, простужалась очень редко.
Вдруг среди белесых потоков, лившихся с неба, нарисовалась темная фигура с поднятым воротником, и Роза машинально прижала к себе покрепче сумочку, в которой лежал револьвер.
– Мадемуазель!
К ней подошел Михаил Корф. Роза мрачно поглядела на него снизу вверх.
После неудавшегося опознания комиссар отпустил важную свидетельницу не сразу, задавал десятки вопросов. И она отвечала, злясь на себя за то, что из-за собственной глупости и болтливости влипла в неприятную историю. Но на нет и суда нет – в конце концов полицейскому пришлось оставить ее в покое.
– Я думал, Папийон никогда вас не отпустит, – усмехнулся Михаил.
– А вам бы этого хотелось? – прищурилась Роза.
– Конечно же, нет… Я вас ждал.
– Зачем? – спросила девушка, недружелюбно насупившись.
– Не знаю. Хотел вас поблагодарить… за то, что вы сделали.
– А что я такого сделала? – По воинственному тону Розы могло показаться, что она пытается защититься от какого-то обвинения.
– Вы и сами знаете, – снова усмехнулся офицер. – Почему вы не сказали ему, что видели меня в ту ночь?
Действительно, подумала Роза, почему? Потому, что ей не нравилось быть разменной монетой – не хотелось своими показаниями облегчить жизнь человеку, убившему хорошую девушку? Или потому, что у нее в ушах до сих пор звенел пронзительный крик маленькой Ксении? Той было, наверное, столько же, сколько было бы и дочери самой Розы, если бы она дала ей родиться. Отчаяние ребенка поразило ее, и, хотя ночная бабочка в глубине души по-прежнему считала ночного незнакомца мерзавцем, у нее не было уверенности, что его дочь (Роза приняла Ксению за дочь Корфа) должна так страдать. Поэтому, не став ничего объяснять, мадемуазель Тесье лишь протянула насмешливо:
– Так это были вы? Ну надо же!
Михаил густо покраснел.
– По правде говоря, мне все равно, за что вы его ухлопали, – безжалостно добавила Роза. – Не мое дело.
– Я не убивал графа.
Девушка выпрямилась и посмотрела собеседнику в глаза. Как-то уж слишком правдоподобно тот произнес последние слова. Однако кровь на его пальцах в ту ночь не привиделась ей.
– Ясно. Вы просто проходили мимо.
– Нет, я… – Молодой человек поморщился. – Я хотел объясниться с графом и… Впрочем, неважно… Скажите, как вас зовут?
– Роза, – ответила она, буравя своего визави взглядом и ломая голову, что же у него на уме.
– Хорошее имя, – улыбнулся барон.
Увидев его улыбку, она внезапно успокоилась. Это была улыбка грустного, незлобного человека. Уж во всяком случае не убийцы.
– Скажите, Роза, у вас есть какая-нибудь мечта?
– Чего? – Девушка вытаращила глаза.
– Вы когда-нибудь мечтали о чем-нибудь?
– А… Ну да, конечно.
– И о чем же?
– О платье от Дусе. – В ее хрипловатом голосе прозвучал вызов. – И об ужине «У Максима».
– Хорошо. Тогда пошли.
– Куда?
– К Дусе. Закажем вам платье.
У Розы голова пошла кругом.
– А потом к «Максиму»? – осведомилась она, постаравшись вложить в свои интонации побольше язвительности.
– Конечно. Если вы не передумаете.
«Все ясно, – хмыкнула про себя Роза. – Он меня задабривает, морочит мне голову, чтобы заманить куда-нибудь и придушить в уголке. Какого черта я сразу же не сказала комиссару-мотыльку со слоновьей внешностью…»
– Не передумаю! – вырвалось у нее помимо воли. – Вот только у меня нет зонтика.
– Дождь почти кончился. Впрочем, вы правы… Такси! Такси!
«Ни в коем случае нельзя садиться с ним ни в такси, ни в фиакр, – предостерегала себя Роза. – Это же все равно что самой надеть петлю на шею и услужливо позволить убийце выбить из-под ног табуретку. Нет, нет, не настолько я глупа…»
Спасительную мысль девушка додумывала, уже сидя в громадном автомобиле, которым управлял добродушный усатый шофер. Михаил устроился рядом и захлопнул дверцу, бросив водителю:
– Улица Мира, 21.
– Понятно, – кивнул усач. – За обновками, значит…
Мотор заурчал, и машина вырулила на набережную. Не удержавшись, Роза покосилась на своего спутника, но тот хранил молчание. Только сейчас она заметила, что у него усталое лицо, а под глазами синеватые тени. Молодой человек не делал никаких враждебных жестов, его руки спокойно лежали на коленях. И все же мадемуазель Тесье подпрыгнула на месте, когда шофер объявил:
– Приехали! Припарковаться, как всегда, невозможно, так что придется высадить вас здесь. Уж не обессудьте…
Роза вылезла на тротуар, а Михаил, расплатившись, присоединился к ней. По выражению лица шофера девушка догадалась, что ее спутник оставил щедрые чаевые, и это ей понравилось. Прижимистость и скаредность всегда вызывали у нее раздражение.
– Ну и куда теперь, офицер? – игриво спросила она.
Михаил, удивленно посмотрев, сделал широкий жест рукой:
– Сюда, я же вам говорил.
И двинулся к входу в царство моды, возле которого стоял почтительный швейцар.
Полная недобрых предчувствий, Роза шагала возле своего странного сопровождающего, но если раньше предчувствия касались главным образом того, каким образом Михаил Корф ухитрится до срока положить конец ее дням, то теперь их вызвал особняк с вывеской во всю длину этажа: «Дом Дусе». Как-то сразу мадемуазель Тесье ощутила, что ее платье похоже на линялую тряпку, каблуки стоптаны и перекосились, а маленькая шляпка не похожа вообще ни на что, известное моде. Ее ничуть бы не удивило, если бы швейцар остановил их уже на входе и им пришлось бы с позором вернуться восвояси. Однако тот, знавший сына баронессы Корф в лицо, оставил свои соображения по поводу внешнего вида спутницы Михаила при себе и беспрепятственно пропустил обоих внутрь.
И тут Роза оробела окончательно. Впечатления разом навалились на нее – эти огромные потолки, величественная лестница, старинная мебель, цветы, зеркала. Не помня себя, она вцепилась в рукав офицера, но тут из мешанины цветов, зеркал и консолей на нее надвинулась худощавая дама с широкой приветливой улыбкой, словно прилепленной к устам вечным клеем.
– Ах, господин барон! А мы только недавно видели вашу матушку. Как ее здоровье? Мы звонили ей сегодня и сказали, что новое платье совершенно готово…
Мадемуазель Беттина говорила и одновременно посверкивала остреньким взглядом в сторону уличной мамзели, которую молодой барон Корф не понять для чего притащил с собой. Однако Михаил, ничуть не смущаясь, объявил, что его знакомой нужно самое лучшее платье, и как можно скорее.
– Ну, я не знаю, как можно будет это устроить, – протянула мадемуазель Беттина. – У нас ведь не какой-нибудь магазин готовой одежды, слава богу!
Она призвала для консультации мадемуазель Гренье и, пошептавшись с ней, передала Розу в ее руки.
– Семнадцатая примерочная сейчас свободна, – вполголоса сообщила мадемуазель Беттина.
Если первая примерочная по молчаливому уговору считалась зарезервированной для главных и любимых клиентов дома, то семнадцатая слыла одной из худших – возможно, из-за того, что из ее окон открывался не самый лучший вид. Но Роза ничего этого не знала и побрела за мадемуазель Гренье и Михаилом, чувствуя себя невольником, ненароком угодившим в сады Эдема. На столике в коридоре она заметила вазу, в которой стоял букет орхидей. Роза видела их так близко впервые в жизни и, проходя мимо, не удержалась, потрогала цветы, желая убедиться, что те настоящие.
– Прошу вас, сюда, – сказала мадемуазель Гренье. – Прежде всего, какое платье вам угодно: для посещения скачек, для оперы, вечернее, для визитов, повседневное или…
Многоточие подразумевало множество вариантов, еще не названных, но тут вмешался Михаил и сказал, что им нужно вечернее платье, в котором мадемуазель могла бы, к примеру, сверкать на ужине «У Максима» уже сегодня.
– Хм, весьма трудная задача, – заметила мадемуазель Гренье, критически глядя на Розу.
– Вы о чем? – воинственно вскинулась та.
– О том, что сшить платье за несколько часов почти невозможно, – пояснила продавщица. – Хотя… У вас очень удачное сложение, а мы недавно делали съемку одного туалета для журнала «Мода»…
Сердце Розы плавно взмыло вверх: названный журнал был самым дорогим, самым шикарным, самым аристократическим из журналов той эпохи, посвященных моде.
– Подождите, я сейчас вернусь. – Поклонившись, мадемуазель Гренье удалилась, оставив Михаила в примерочной наедине со странной клиенткой.
– Вы и в самом деле собираетесь купить мне платье? – недоверчиво спросила Роза.
– Конечно.
Нет, решила она, этого не может быть, тут обязательно должен таиться какой-нибудь подвох. Михаил, оглядевшись, сел в кресло, а девушка осталась на ногах. Тайком пощупала обивку дивана и убедилась, что та сделана из настоящего шелка. А какие зеркала! Какая позолота! Ах, ах, ах…
Не удержавшись, Роза сделала оборот вокруг себя и испустила радостный визг. Михаил посмотрел на нее с удивлением.
В дверях вновь нарисовалась мадемуазель Гренье, которая несла на плечиках какое-то совершенно умопомрачительное платье.
– Надеюсь, я не заставила вас ждать?
Роза, едва увидев наряд, окончательно убедилась в том, что ее жизнь прожита не зря.
– Это что, мне? – пролепетала она, совершенно растерявшись.
– Вам, мадемуазель, – улыбнулась продавщица и увлекла ее в кабинку.
Оставшись один, Михаил взял газету, лежавшую на столике, и попытался читать, но статья на первой полосе была посвящена убийству графа Ковалевского, и барон отложил листки и отвернулся с гримасой досады.
– Нет, корсет не годится, – донесся до него приглушенный голос мадемуазель Гренье. – Подождите, сейчас я принесу вам другой.
И продавщица выскользнула из примерочной. Затем вернулась и веско объявила, что чулки совершенно не подходят, равно как и туфли.
– Боже, что у вас за подвязки? Нужны совсем другие, эти толстят ногу. Кстати, какой у вас размер обуви?
Таинственно шуршал шелк, сновала туда-сюда мадемуазель Гренье (позже она скажет, что в жизни ей не попадалась такая поразительная клиентка), затем в дверь сунулся какой-то молодой человек с коробками туфель, после придирчивого осмотра которых был изгнан продавщицей и явился снова, уже с другими упаковками. На смену ему пришла какая-то немолодая женщина, тоже служащая, и принесла несколько коробок с веерами, перчатками и митенками.
– Мадам Ролан! К этому платью нужен эгрет[233], распорядитесь, прошу вас… И принесите сюда ящик с косметикой. Мадемуазель слишком бледная, это нехорошо…
Мадемуазель Гренье почувствовала прилив вдохновения – ведь не каждый день попадается клиентка, которая с восторгом принимает все твои идеи и даже не пытается тебе перечить. Продавщица так увлеклась, что даже перестала ломать голову над вопросом, где хорошо воспитанный барон Корф, истинный сын своей матери, мог подцепить такую особу. (Заметим в скобках: Амалия так никогда и не узнала, что в доме Дусе ее за глаза почтительно называли «Герцогиней» – в сущности, так же, как и ее консьерж, с которым она вела нескончаемое сражение.)
Михаил, даже не подозревавший о том, что в нескольких шагах от него творится настоящее священнодействие, нашел в одном из журналов статью о музыке и углубился в чтение. Безымянный молодой человек слетал еще раз – за духами, получив последние наставления от мадемуазель Гренье:
– Герленовских не нужно, они ей не пойдут…
– Может быть, «Энигму»?
– Нет-нет, ни в коем случае! Принесите «Мечту Оссиана».
И Оссиан был доставлен. Оссиан окутал мадемуазель Тесье душистым облаком, и продавщица, придирчиво оглядев свое творение, поняла: оно ей удалось.
– Прошу вас, мадемуазель, – громко промолвила она, отдернув портьеру, закрывавшую вход в кабинку.
Михаил поднял глаза и увидел жар-птицу. Положительно, это была именно жар-птица – с перьями в рыжих волосах, в облаке изумительного золотистого шелка, чьи оборки колыхались вокруг изящной фигурки, на руках – вечерние перчатки до локтей, пальчики сжимают кружевной веер с пайетками, и перламутр планок веера подобран точь-в-точь в тон к платью. А глаза! Ах, какие у нее глаза! И сколько в них чувств – упоение, недоверчивость, изумление… Не то что там, под навесом, где Роза пряталась от дождя, глядя на него совершенно по-волчьи…
«Да она просто красавица! – поразился Михаил. – Вот так преображение…»
Роза смотрела то на него, то на свое отражение в большом зеркале, и веер в ее пальцах начал дрожать. Девушка никак не могла поверить, что все это происходит с ней не во сне. Сделала несколько шагов, повернулась, любуясь собой, но тут увидела довольное лицо мадемуазель Гренье – и, не удержавшись, бросилась ей на шею.
– Осторожнее, осторожнее, вы помнете ваше платье! – вырвалось у продавщицы.
Та была тронута и сконфужена: на ее памяти никто из клиенток не выражал свои эмоции столь открыто.
– Вы просто чудо, чудо, чудо! – твердила Роза, захлебываясь счастьем.
Она обняла бы и Михаила, но это было неудобно – барон сидел в кресле с журналом. Выражение лица офицера было ей непонятно.
Однако ее радость как-то поблекла, едва она услышала практический вопрос феи мадемуазель Гренье, обращенный к Михаилу:
– Кому прислать счет за платье? Вашей матушке?
– Нет, – коротко ответил молодой человек. Затем отложил журнал и достал чековую книжку. – Я заплачу сейчас. Сколько?
Услышав названную сумму, Роза остолбенела. По правде говоря, Михаил тоже был впечатлен, но постарался этого не показать. Просто подписал чек и передал его мадемуазель Гренье, которая напомнила, что для своих клиентов они бесплатно выполняют любую мелкую работу с купленным платьем. Вдруг, допустим, понадобится что-нибудь перешить или оторвется какая-нибудь мелочь…
– Что нам делать с вашей старой одеждой? – почтительно спросила продавщица.
– Можно оставить ее пока у вас? – попросила Роза. – Я… я вернусь за ней потом.
– Хорошо, я предупрежу мадемуазель Беттину, – кивнула продавщица.
Из своих вещей Роза хотела забрать только сумку, но едва мадемуазель Гренье увидела ридикюль, на ее лице отразился искренний ужас.
– Что вы, мадемуазель! Такой аксессуар в ваших руках погубит весь эффект от платья! Ведь нет ничего важнее мелочей… Мадам Ролан! Мадам Ролан! Представьте себе, я забыла о сумочке для мадемуазель…
Пришлось задержаться еще на четверть часа, чтобы подобрать подходящую сумку. Когда выбор наконец был сделан, Роза удалилась в кабину и вдали от чужих глаз переложила все, что лежало в ее старой сумке, в новую. Впрочем, больше всего она хотела скрыть от посторонних глаз не свой тощий кошелек и не коробку дешевой пудры «Манон Леско», а револьвер. Для Розы Тесье, которая ловила клиентов на панели, оружие более чем привычно, но теперь, одетая в завлекательно шуршащее шелковое платье и в вечерних перчатках, понимала, что оно чуждо ей, как никогда, и испытала нечто вроде брезгливости, коснувшись его.
Выйдя из кабинки, девушка улыбнулась и, осмелев, взяла Михаила под руку.
– Ну а теперь – к «Максиму»!
Глава 16 Горничная Соланж
Комиссар Папийон снял трубку с рычага и положил ее на стол. Поразмыслив, попытался для верности отодрать от аппарата телефонный провод, но ему не удалось.
В то же самое мгновение на пороге материализовался Бюсси. Комиссар распрямился и смерил инспектора сердитым взглядом.
– Звонил префект и сказал, что вы не отвечаете, – объяснил молодой человек.
– Я думаю… – хмыкнул Папийон, бросив взгляд на лежащую на столе трубку. – Кроме того, мне нечего ему сказать. Префект горит желанием узнать результаты расследования, а у нас ничего нет. И вообще, – добавил полицейский раздраженно, косясь на телефон, – некоторые изобретения цивилизации должны упрощать жизнь, а не усложнять!
Бюсси не мог удержаться от улыбки.
– Из-за трезвона этой чертовой штуки у меня все мысли разбегаются, – пожаловался Папийон. – Дело никак не складывается, никак!
– Но нам ведь уже многое известно, – заметил Бюсси.
– Например?
– Мы знаем имя убитого, а вы всегда говорили, что личность жертвы – уже половина разгадки. Знаем, где, когда и чем убили жертву. Знаем, что пропал ключ от черного хода, что часы графа были найдены в пруду, а неподалеку видели барона Корфа.
Папийон молчал, сжав губы.
– Кстати, может быть, вам стоит запросить ордер на обыск его квартиры? – предложил Бюсси.
– Его не опознала свидетельница, вот в чем дело, – хмуро буркнул комиссар. – Мало того, я никак, ну никак не могу представить себе, чтобы он мог размозжить голову спящему человеку.
– Но ведь Тулонжон утверждает, что, кроме барона и его брата, никого возле пруда не было. Я говорил с ним, и он категоричен.
– Бюсси, это же Булонский лес, – покачал головой Папийон. – Там в иной день можно застать половину Парижа. То, что Тулонжон видел только барона, ничего не значит. Убийца вполне мог прийти туда в другое время.
– Хорошо, если убийца не барон, то кто? – спросил инспектор после паузы. – Жена графа не простила ему развода? Конечно, она жила в Ницце, но ничто не мешало ей найти кого-нибудь для убийства. Со своей любовницей, мадам Тумановой, граф расстался, судя по всему, обманув ее надежды. Может быть, она пожелала ему отомстить?
– Дорогой Бюсси, – вздохнул комиссар, – выбросьте из головы эти нелепости, которые больше подходят для детективных романов. Когда вы работаете со мной… Нет, не так – когда вы будете работать уже без меня, то есть когда меня вообще не будет на свете, помните одно: что бы вы ни расследовали, какое бы дело ни вели, всегда ищите одно: простую причину. Чем примитивнее, тем лучше. Потому что убийство всегда – тупой, примитивный, жестокий акт, и вызывают его такие же причины: тупые, примитивные и жестокие. Что мы знаем о жене графа? Что она пыталась отравиться, когда муж хотел ее бросить. Ради Кавальери[234], насколько я помню. Заметьте, сама травилась, а не его отравила. Бывшая же любовница принадлежит к категории женщин, которые недолго остаются одни. Плюс к тому у нее алиби: Туманова была на вечере, где ее видела сотня человек. И вообще, молодой человек, не забывайте: мы живем в двадцатом веке. Убийства из мести вышли из моды, как и убийства на почве ревности. Помните мерзавца Лорио, братца Андреа? Тот убил свою любовницу вовсе не потому, что девица ему надоела, а потому, что стала требовать обратно деньги, которые когда-то по глупости ему отдала. Миром движут деньги, дорогой Бюсси, и только деньги! Ищите деньги – и в девяти случаях из десяти вы не прогадаете.
– Хорошо, – вздохнул инспектор, – будь по-вашему. Маркиз де Монкур был должен убитому большую сумму. Так, может быть, это он? Или младший брат графа Ковалевского, который должен все после него унаследовать?
– Месье Анатоль исключается по причине алиби, – ответил Папийон. – Больной был в поезде вместе со слугой, ехал в Швейцарию. Маркиз теоретически мог бы убить графа, но… Понимаете, мне не дает покоя этот чертов исчезнувший ключ. Тот, кто его украл, должен был совершенно точно знать, что берет именно нужный ключ. А маркиз вряд ли в курсе. Нет, убийца стоял к жертве гораздо ближе и досконально знал его привычки.
– Тогда, может, слуга? – Бюсси замялся. – Он не может вводить нас в заблуждение насчет ключа?
Комиссар покачал головой.
– Я говорил о нем с вдовой и с теми, кто знал графа. Все утверждают, что Савельев был безусловно предан своему хозяину.
Телефонный аппарат издал нечто вроде слабого звона, и Папийон дернулся.
– Черт, я же снял трубку… Можешь идти.
– Совсем забыл, зачем шел к вам… – Бюсси остановился на пороге. – Вас опять хочет видеть месье Ансеваль.
– Хм… – Комиссар почесал затылок. – Явился сознаться, что нашел поблизости фигурку и остальные пропавшие вещи, но утаил данную информацию на первом допросе?
– Нет, патрон. По-моему, у него что-то другое.
– Ладно, – кивнул Папийон, – давай его сюда.
Через минуту в кабинет вошел молодой чиновник, который нашел в Булонском лесу часы убитого графа. Гюстав был бледен, но отчаянно храбрился. Судя по его виду, возвращение на набережную Орфевр далось ему нелегко.
– Присаживайтесь, – пригласил комиссар. – Вы хотели что-то еще мне сообщить? Может быть, вспомнили что-нибудь интересное?
– Нет, месье. Я… я к вам с просьбой. Понимаете, у меня слепая мама…
Посетитель принялся долго и занудно излагать свою ситуацию. Папийон слушал и молчал. Молчал совершенно убийственно, как может молчать только скучающий полицейский, которого заставляют выслушивать то, что, с его точки зрения, абсолютно не относится к делу.
– Когда сегодня ваш человек забрал меня с работы, пошли разные слухи… – Ансеваль закусил губу. – Начальник вызвал меня к себе… Месье, если меня уволят, моей семье не на что будет жить! У меня мама старенькая…
– Хорошо, – решился Папийон, – я позвоню вашему начальнику и успокою его. Какой у него номер?
Полицейский придвинул к себе аппарат, взял трубку и назвал телефонистке номер.
– Я думаю, в денежном смысле вам не о чем беспокоиться, – добавил он, прикрывая ладонью микрофон. – Вы нашли часы убитого и вполне можете претендовать на награду в тысячу франков, которую объявил младший Ковалевский.
– Вряд ли из этого что-нибудь выйдет, – с сомнением отозвался молодой человек. – Я хочу сказать, что с моим везением награду получит кто угодно, только не я.
Тут Папийона соединили с начальником Гюстава. Комиссар назвался и объяснил, что месье Ансеваля сегодня вовсе не задержали, он проходит свидетелем по чрезвычайно важному делу, и возможно, именно его показания помогут задержать преступника. Но, даже не видя своего собеседника, Папийон почему-то очень хорошо представлял, что тот ни капли ему не верит. Оно и понятно – когда за твоим служащим на работу является полиция, хорошего не жди!
С некоторым облегчением Папийон закончил разговор и повернулся к Гюставу.
– Я сделал все, что мог, месье. В любом случае у них нет никакого повода для придирок.
Тут из коридора донесся приглушенный вопль Бюсси, и комиссар насторожился.
Дверь распахнулась, и в кабинет влетела Амалия Корф. Вид у нее был такой, что Ансеваль окоченел и вжался в спинку кресла, а Папийон впервые за день забыл о существовании телефона, отравлявшего ему жизнь.
– Сударыня, – простонал комиссар, – я очень занят…
– Чем же? – воинственно осведомилась Амалия. – Тем, что арестовываете невинных людей? Из-за вас моя дочь до сих пор в слезах, а сын…
– Вашего сына здесь нет, – поспешно вставил Папийон, – мы отпустили его.
Баронесса смерила комиссара огненным взглядом, который по касательной опалил и беднягу Гюстава, и села, не обращая на последнего никакого внимания. Впрочем, молодой чиновник уже давно привык к такому обращению.
– Итак…
– Что? – машинально спросил полицейский, жестом отпуская сконфуженного Бюсси, маячившего в дверях.
– Вам удалось найти убийцу?
– Пока нет. Но мы ищем.
– У маркиза де Монкура есть алиби?
– Мы еще этим не занимались.
– Но хоть что-нибудь вы нашли?
– Часы, – подал голос Ансеваль. – И кольцо. Они принадлежали убитому.
Амалия повернулась к Гюставу, и молодой человек, радуясь тому, что его заметили, поспешно представился.
– Этот месье, – объяснил Папийон, – нашел вещи графа в Булонском лесу. Часы бросили в пруд, а кольцо лежало неподалеку на берегу.
– Убийца избавляется от улик?
– Разумеется.
– Очень плохо, – отрывисто бросила Амалия, которая все еще не была готова простить комиссара за то, что считала с его стороны форменным предательством. – Я имею в виду, если улики находят через полгода, еще куда ни шло. Но когда их выбрасывают и находят через день-два – это чересчур.
– Значит, убийца нервничает, – заметил Папийон.
– Или попросту глуп, – подхватила баронесса. – Вы уже опросили знакомых графа, верно? Заметили, в какой они растерянности? Вдова обвиняет любовницу, Монкур моего сына, хоть и не говорит этого вслух, Урусов – низы общества, под которыми, вероятно, подразумеваются какие-нибудь апаши, Феоктистов предполагает личную месть со стороны обиженного бедняка, Фуре вообще не знает, что думать.
– Ваши выводы?
– Слишком много версий, – вздохнула Амалия. – По сути, никто ничего не знает и хватается за первое попавшееся предположение. Убийца допустил массу ошибок, но вы до сих пор так и не напали на его след… Я права? – Баронесса покачала головой. – Что-то с этим делом не так, месье.
– Думаете, убийца действовал не один? – с любопытством спросил Папийон.
– Я бы сказала, что момент для убийства был рассчитан идеально, и доказательством тому служит пропавший ключ, – сказала Амалия. – Но затем убийца потерял голову и стал делать одну глупость за другой. Да, я не исключаю, что убийц как минимум двое.
– Тот, кто задумал, и тот, кто исполнил?
– Именно. Только вот персона графа Ковалевского плохо вяжется с подобным заговором. Слишком мелкая для того, чтобы тратить столько усилий. Значит, мы чего-то не знаем.
Баронесса увидела горящие от любопытства глаза Гюстава и рассердилась на себя.
– Я проверю алиби маркиза, – промолвил Папийон после паузы.
– И хорошо сделаете, – кивнула Амалия, поднимаясь. – Не буду с вами прощаться, потому что понимаю – мы еще не раз увидимся.
Она шагнула к выходу, а следом за ней заторопился и Гюстав Ансеваль.
Когда посетители вышли, комиссар первым делом снова сбросил трубку с рычажка и перевел дух. Некоторое время сидел, наслаждаясь тишиной, после чего поднялся и подошел к окну. Внизу, во дворе, Гюстав что-то горячо рассказывал баронессе Корф. Та едва слушала его, рассеянно кивая. Листва дерева отбрасывала на ее лицо подвижную тень.
Легкий скрип двери заставил комиссара обернуться, однако он с неудовольствием увидел не Бюсси, не кого-нибудь из сотрудников, а пожилую даму с крючковатым носом и в шляпке с пожелтевшими перьями. Серые глаза дамы строго смотрели на него.
– Что вам угодно, сударыня? – промямлил комиссар.
– Я ищу комиссара Папийона, – с достоинством ответила посетительница. – Это вы, я узнала вас по фото в газете. Не предложите мне сесть?
Спохватившись, комиссар указал рукой на стулья. Дама с сомнением оглядела их и, выбрав тот, который внушал ей больше доверия, присела на краешек.
– Я вас слушаю. – Комиссар вернулся на свое место. – Прежде всего, сударыня, по какому вы делу?
– Меня зовут мадам Рамбальди, я живу в Руане, – сообщила дама. – Мой покойный муж был профессором пения… впрочем, это к делу не относится. Пребывая в стесненных обстоятельствах, я увидела объявление в газете и, посоветовавшись с нашим кюре, решилась на путешествие в Париж.
Папийон мысленно застонал. Еще одна ненормальная увидела объявление о награде в тысячу франков и явилась его зарабатывать, а инспекторы ее проворонили и вместо того, чтобы самим выслушать ту чепуху, которую она собиралась изложить, пропустили к нему. Положительно, это было ничуть не лучше, чем все время трезвонящий телефон.
– Я знаю, кто убил русского графа, – многозначительно промолвила мадам Рамбальди, подавшись вперед.
– И кто же? – машинально спросил Папийон.
– Филипп Бонту. Наверняка он, больше некому. – Видя полное непонимание на лице комиссара, мадам Рамбальди поторопилась объяснить: – Видите ли, я прожила в Руане всю жизнь. А когда постоянно живешь в одном и том же месте, поневоле узнаешь людей. Я хочу сказать, тех, кто живет в городе.
– Разумеется, разумеется, – пробормотал комиссар.
– Филипп и его сестра носили фамилию Бонту, но после той истории им, конечно, пришлось несладко. Отец их был пьяница, мать пыталась устроиться то к модистке, то к портнихе, но у нее руки не годились для иглы. – Мадам Рамбальди сделала крохотную паузу. – Люди говорили, что старый Бонту был вовсе не отец Соланж, но сами знаете, в провинции люди любят посплетничать. Во всяком случае, девица не слишком походила на своего брата. Однако она целиком была под его влиянием.
– И что? – промямлил комиссар.
Поглядывая на телефон, полицейский прикидывал, не вернуть ли трубку на рычаг. Авось звон чертова аппарата заставит старушку поторопиться с рассказом. Папийон предвидел, что посетительница не закончит его, пока не ознакомит со всеми достоинствами и недостатками руанских обывателей.
– Про нее я могу вам рассказать очень подробно. Сначала Соланж устроилась ученицей к модистке, – благожелательно улыбаясь, повествовала мадам Рамбальди, – потом стала служить в кафе. Она хорошо считала, и иногда ее ставили на кассу. Так вот, когда девица ушла из кафе, кто-то забрался в него ночью и похитил всю выручку. Тут все вспомнили, что, когда Соланж ушла от модистки, кто-то ограбил ее лавку. Само собой, пошли всякие разговоры…
Решившись, комиссар вернул трубку телефона на место. Он рассчитывал, что аппарат тотчас же начнет трезвонить, но не тут-то было. Тот молчал как убитый.
– Я говорила с нашим инспектором, – продолжала неутомимая мадам Рамбальди. – Разумеется, оказалось, что Соланж ни при чем – когда произошло второе ограбление, все ее видели на танцах. Но инспектор предположил, что сначала девица все узнавала, ну, где лежат деньги и прочее, а потом рассказывала своему брату, и именно он ограбил лавку и кафе. У них дома устроили обыск и нашли кое-что из вещей, украденных у модистки. Не украшения, их успели продать, а какую-то фарфоровую фигурку или что-то в этом роде. Филиппа хотели арестовать, но он скрылся. Мать Соланж валялась у мадам Фреше, модистки, в ногах, умоляя не губить ее дочь. А старик Бонту к тому времени уже умер, да… Жена вскоре последовала за ним, у нее сердце не выдержало. Мадам Фреше не стала преследовать Соланж, хотя всем была ясна ее роль в этом деле. Ограбление кафе девица категорически отрицала, и против нее не было никаких улик, но люди больше не желали иметь с ней дела, и их вполне можно понять. Брат ее, как я уже сказала, исчез, а сама Соланж вскоре перебралась в Париж. Ну, комиссар, вы, конечно, уже поняли, к чему я веду?
– Кажется, да, – медленно проговорил Папийон.
Телефон разразился яростным звоном, но комиссар не обратил на него никакого внимания.
– Грюйер – девичья фамилия ее матери, – радостно осклабилась мадам Рамбальди. – И негодяйка была горничной в доме убитого графа. Ее имя Соланж Грюйер или Соланж Бонту. Уверена, она поддерживала связь с братом. И не удивлюсь, если ее бывшие хозяева не раз страдали от краж – когда она уже перестала у них работать, само собой. Графа Ковалевского ограбили и убили после того, как он рассчитал своих слуг. Конечно, на него напал Филипп, больше просто некому.
– Сударыня, – с чувством проговорил комиссар, сбрасывая трубку телефона на стол, чтобы трезвон не мешал разговору, – не могу выразить, до чего я вам признателен. Один вопрос: вы помните, как выглядел Филипп?
– Высокий молодой человек, – подумав, ответила старушка. – Волосы довольно светлые, лицо приятное. Знаете, во времена моей молодости о таких говорили «все при нем». Мальчиком он был очень мил, но потом его призвали на военную службу, которую Филипп отбывал где-то в колониях. Вернулся сильно переменившимся. Конечно, ему шла военная выправка, но, мне кажется, ему не пошло на пользу, что в полку его учили стрелять и убивать. Еще до того, как он начал грабить, Филипп несколько раз ввязывался в скверные истории. Вспыльчив был невероятно…
«Н-да… – подумал Папийон. – Вот тебе и мотив. И слова Монкура о человеке из низов, и подозрительные ночные прогулки Михаила Корфа, и все остальное. Не стоило поручать проверку бывших слуг Бюсси, ох, не стоило! Это его, Папийона, ошибка. Если бы он сам занялся Соланж Грюйер, то по вздрагиванию ресниц, по еле заметным изменениям цвета лица, по модуляциям голоса сразу же понял бы, что горничная не та, за кого себя выдает. Опыт, господа, опыт! Бесценная, незаменимая вещь!
Итак, в деле намечается новый поворот: горничная устроилась в особняк графа, а когда ее уволили, по наработанной схеме навела сообщника, своего родного – или сводного – братца. Высокий блондин с военной выправкой – именно его Роза Тесье видела в ту ночь возле особняка, а не Михаила Корфа. Только вот непонятно, зачем было ему красть ключ у графа, когда Соланж в любой момент могла сделать дубликат своего? И еще непонятно: зачем понадобилось убивать графа, если в предыдущих случаях целью всегда было только ограбление? Но на то и комиссар Папийон, чтобы разбираться во всех этих хитросплетениях…
Полицейский призвал к себе помощников Бюсси и Мелло, велел последнему запротоколировать показания мадам Рамбальди, а проштрафившемуся инспектору поручил во что бы то ни стало отыскать и доставить на набережную Орфевр уроженку прекрасного города Руана Соланж Грюйер, ранее Соланж Бонту. Что касается ее брата, то Папийон приказал бросить на его поиски все свободные силы. Чутье подсказывало ему, Филипп Бонту вряд ли успел далеко уйти, а раз так, можно надеяться, что тайна гибели графа Ковалевского не сегодня завтра будет раскрыта.
Глава 17 Ночная прогулка
Когда Михаил и его спутница покинули ресторан «У Максима», уже стояла ночь, и парижские фонари отбрасывали в весенний сумрак дрожащий желтоватый свет. Роза одной рукой придерживала шлейф, а другой цеплялась за локоть своего спутника. В знаменитом ресторане она перепробовала множество блюд, выпила вина и шампанского, и теперь у нее слегка кружилась голова. Она чувствовала, что у нее развязался язык и что, может быть, не стоит столько говорить, но остановиться не могла.
– День, когда сбываются мечты… – пробормотала мадемуазель Тесье, смеясь счастливым, пьяным смехом. – А какое у них шампанское! В жизни такого не пила. Ты видел, как другие посетительницы на меня смотрели?
Михаил, который не выносил фамильярности, ничего не ответил. Роза расхохоталась и стиснула его локоть еще крепче.
– Они же там все шлюхи… это ясно, как день! Но у меня было самое красивое платье, и глупые девки так на меня таращились! Одна была совсем старой, с нее так и сыпалась косметика. Да еще фальшивые ресницы, фу! Наверное, ее месье слеп. Хотя он не производил такого впечатления… А ты как думаешь?
– Я на них не смотрел, – ответил Михаил.
Теперь молодой человек немного сожалел, что его желание хоть немного отблагодарить Розу за то, что та сделала – точнее за то, чего не сделала, – привело к столь плачевным результатам. От матери он унаследовал презрение к пьяницам, а девушка явно перебрала, и теперь ему было крайне тягостно находиться в ее обществе. В то же время, как честный человек, он не видел никакого способа от нее избавиться.
Не замечая ничего, Роза снова звонко расхохоталась.
– А я видела, сколько ты заплатил за ужин! Я бы не смогла заработать таких денег, даже если бы месяц работала не покладая рук… Нет, хи-хи, «рук» тут точно не подходит. Не покладая… э…
– Будет тебе, – пробормотал Михаил, испытывая мучительную неловкость из-за того, что спутница говорила слишком громко, отчего на них стали оглядываться прохожие.
– Ну да, – тряхнула головой Роза. – Ты очень-очень мил, правда… В жизни не встречала такого милого парня. Хотя я уверена, это ты графа ухлопал. Ну и поделом ему!
– Я уже говорил тебе, – терпеливо промолвил Михаил, – что не убивал его.
– Ладно-ладно, – миролюбиво согласилась Роза, – не убивал так не убивал. Мне, знаешь ли, все равно. Куда мы теперь идем? К тебе?
– Ко мне? – переспросил пораженный офицер.
– Ну а куда? В гостиницу?
Они остановились под фонарем. Глаза Розы ярко блестели, от вина она вся раскраснелась, и в этом волшебном золотистом платье, переливающемся блестками, с трепещущими перьями в рыжих волосах и со счастливой улыбкой на губах она походила на заблудившуюся фею. Однако Михаил видел вовсе не фею. И в этот момент особенно остро ощутил, что плохо выносит женщин, так сказать, общего пользования. Он был брезглив, и одна мысль о том, что уличная девка может переступить порог его квартиры, где стоял раскрытый рояль, где лежали его любимые ноты вперемежку с сочинениями по военной тактике, где с парадного портрета на стене улыбается мать… Такая мысль была ему невыносима.
Роза увидела выражение его лица, и улыбка померкла на ее губах. Вот, значит, что. Офицер просто решил откупиться от нее. Платьице, ужин, а теперь извольте возвращаться туда, откуда пришли. В кабалу к Андреа… на тротуар… в ад, о существовании которого она почти забыла за последние несколько часов – единственных волшебных часов в ее жизни.
– Ну ты и сволочь, – с горечью проговорила девушка, отстраняясь.
– Роза…
Михаил сделал движение, чтобы удержать ее – не потому, чтобы так уж дорожил ее обществом, а лишь потому, что видел, спутница едва держится на ногах. Однако Роза яростно стукнула его в грудь своим маленьким кулачком.
– Не смей меня трогать, слышишь? Сволочь!
На глазах у нее выступили слезы. Ничего не видя перед собой, она сделала несколько нетвердых шагов, споткнулась и упала – прямо в лужу, оставшуюся от недавнего дождя, в грязь.
– Ох, – простонала Роза, пытаясь подняться.
Она увидела, что подол платья весь мокрый, испачканный, и от этого ей стало еще больнее, чем от недавнего оскорбления. Девушка разрыдалась. Однако в следующее мгновение кто-то крепко взял ее за локоть, поднял на ноги и отвел в сторону. Плача, Роза стала отряхивать платье, но все было бесполезно.
– Пропало платье, – пожаловалась она Михаилу, который помог ей подняться. – Так жалко…
– Ничего, у Дусе его приведут в порядок, – успокоил ее молодой человек. – Завтра принесешь его, они все вычистят и отгладят заново.
– Думаешь?
– Конечно. Но сейчас модный дом уже закрыт.
Роза повернулась и, не попрощавшись, медленно побрела по улице.
– Ты куда? – спросил Михаил, нагнав ее.
– Не знаю. А куда мне идти? – невесело усмехнулась девушка. – Мне даже переодеться не во что, мое старое платье осталось на улице Мира.
Потом она посмотрела на офицера и твердо добавила:
– Я возвращаюсь к себе. Не надо меня провожать.
– Тебе не стоит меня бояться, – неловко проговорил Михаил.
– Я никого не боюсь, – холодно ответила Роза, на всякий случай прижав к себе покрепче сумку с револьвером. – Я-то думала, ты человек, а ты…
«Бесчеловечный» Михаил тихо вздохнул и, сняв с себя короткий плащ, в который был одет, набросил его на голые плечи спутницы, пояснив:
– Уже довольно прохладно.
Тут у Розы пропало всякое желание злиться на него. Потоптавшись на месте, она двинулась вверх по улице, краем глаза не переставая следить за Михаилом, который шел рядом, заложив руки за спину. Идти до заведения Андреа было далековато, но Париж – город компактный, и Роза была уверена, что даже не успеет устать. «Почему барон все время молчит? И до чего же у него твердая рука… – Девушка поежилась, вспомнив, как легко Корф извлек ее из лужи. – Точно он ухлопал графа, больше некому». Но ей никак не удавалось решить для себя, правильно ли сделала, не выдав его Папийону, или нет.
Кончился оживленный бульвар, пара свернула на узкую безлюдную улицу. Роза хотела ускорить шаг, но тут нога ее зацепилась за какой-то камень. Она бы упала, если бы Михаил вовремя не поддержал ее.
– Спасибо, – пробормотала девушка, поправляя сползающий с плеч плащ.
«А завтра, – мелькнуло у нее в голове, – где-нибудь поблизости обнаружат… Как это пишется в газетах?.. Ах, да, мое бездыханное тело, вот». Роза с опаской покосилась на своего спутника, не зная, что о нем думать. Михаил ставил ее в тупик.
– Мы пришли, – сказала она, чтобы нарушить молчание, которое ее тяготило. В сущности, это было не совсем правдой, до заведения Андреа оставалось около сотни метров. – Можете забрать свой плащ.
С некоторым облегчением Роза отметила, что в переулке появился посторонний – какой-то господин с тросточкой. Однако, завидев их, тот повернул обратно и вскоре скрылся из виду.
– Я не хотел вас обидеть, – с усилием сказал Михаил.
– Ладно-ладно, я поняла, – выдавила она из себя улыбку. – Все нормально.
Ускорив шаг, мадемуазель Тесье двинулась к выходу из переулка. Михаил поколебался, но затем двинулся за ней следом. Почему-то его не оставляло ощущение, что, если он не доведет ее до дома, с ней обязательно произойдет что-нибудь скверное.
«Почему барон идет за мной?» – подумала Роза, холодея.
И почти побежала, но когда оказалась уже совсем рядом с заведением, ее настиг истошный женский крик:
– Помогите! Убили! Человека убили! Кто-нибудь!
Вопль всколыхнул улицу, в домах стали зажигаться огни, и тут Розе показалось, что она узнала ту, которая кричала.
Стоя на пороге заведения в юбке и корсете, Дылда Гаранс, любовница Андреа, трясла головой, разевала рот, надрываясь от крика, и в глазах ее стоял ужас.
– На помощь!
– Что случилось? – крикнула Роза, подбегая.
– Андреа зарезали! И еще там… там…
В этот момент Дылда Гаранс увидела платье, в которое была одета Роза, и так поразилась, что на мгновение даже убийство вылетело у нее из головы.
– Не, ну ваще… Где ты так расфуфырилась?
Не отвечая, Роза оттолкнула ее и влетела в дом. Сразу же увидев кровавые следы на ступенях, побежала вверх по лестнице. В коридоре, у стены лежало скрюченное тело Андреа. Роза ужаснулась. Потом пришло изумление: неужели это он? Боже, каким он кажется сейчас маленьким, каким жалким… Услышав голос последовавшего за ней Михаила, подняла глаза.
– Следы ведут вон из той комнаты, – сказал Корф.
– Там комната Викторины, – пробормотала Роза.
Имя ничего не говорило Михаилу, однако он открыл дверь и заглянул внутрь.
Бедная обстановка, большая кровать, на стене – зеркало в красивой двойной раме, потускневшей от времени. На кровати – тело брюнетки в одном нижнем белье. Глаза широко открыты, одна рука касается пола, на который натекла лужа крови. Шкаф распахнут, ящики комода вытащены, все вверх дном… Барон хотел войти, но Роза дернула его за рукав.
– Пошли отсюда! Полицейские уже внизу, я слышу их голоса.
– Как же мы пройдем мимо них?
– Тут есть черный ход. Быстрее, быстрее!
Не раздумывая и не колеблясь, Михаил побежал за Розой. Они выскочили в узенький проулок и со всех ног поспешили прочь.
Глава 18 Горничная Соланж
– Мадемуазель Грюйер? Присаживайтесь, прошу вас.
Пока Михаил и его спутница сидели «У Максима», Папийон и его помощники не тратили время даром. Собственно говоря, комиссар уже собирался уходить домой, когда Бюсси наконец доставил к нему бывшую горничную графа Ковалевского.
– Я надеюсь, это ненадолго? Моя хозяйка… – пробормотала Соланж. Покосилась на стул, который явно не внушал ей доверия, и не окончила фразу.
Комиссар тем временем внимательно разглядывал свою собеседницу. Милое, нежное личико, вздернутый носик, темные локоны свешиваются на чистый высокий лоб. Девушка с открытки, да и только. Одеть бы ее в манто, дать в руки муфту, и она с успехом будет позировать для новогодней картинки с надписью: «С наилучшими пожеланиями». Но глаза – Папийон сразу это почувствовал – с двойным дном. Наверху спокойствие, внизу – скрытая тревога. Ай-ай-ай, Бюсси, Бюсси, как же ты сразу не отметил!
– Где вы сейчас работаете? – спросил полицейский с широкой добродушной улыбкой.
Про такую его улыбку уже ходят легенды, верить ей нельзя. Комиссару вообще палец в рот не клади. Но люди все равно покупаются, думая, что человек, который так улыбается, просто обязан быть простофилей.
– У мадемуазель Сервьер на улице Бланш, – ответила Соланж. – Я у нее не только горничная, но и компаньонка.
– Тяжело вам приходится, наверное?
– Нет, что вы! Конечно, нет. И у нее такой забавный попугай…
«А в заветном шкафчике, – мысленно докончил за нее Папийон, – кое-какие фамильные ценности, на которые ты уже положила глаз. И когда ты уволишься, твой любезный братец позаботится о том, чтобы у мадемуазель Сервьер больше не осталось никаких ценностей, кроме попугая».
– Попугай, значит?
– Ну… да.
Девушка мило улыбнулась, но в красивых двухслойных глазах на мгновение мелькнул страх. Соланж не понравился тон комиссара.
– И когда вы собираетесь брать кубышку?
– Простите?
– Я спрашиваю, когда вы собираетесь увольняться и грабить мадемуазель Сервьер? Только честно, мадемуазель Бонту!
До нее не сразу дошло, что полицейский назвал ее настоящим именем. Нежные щеки залила розовая краска.
– Вы что, месье… Как вы можете так говорить!
– Могу, могу, – усмехнулся Папийон. И открывал блокнот, куда уже успел занести кое-какие ценные записи по поводу горничной и ее братца. – Или, может быть, освежить вам память? Январь 1905 года: ограбление мадам Фурко, у которой вы работали три месяца и уволились. Сентябрь: кража у месье Лангле, у которого вы пробыли полгода. Июнь 1906-го: ограблена мадам Декурсель, и опять после того, как вы от нее ушли. Месье Лангле жил в Медоне, а мадам Фурко – в Версале, и, к сожалению, тамошние полицейские были не настолько расторопны, чтобы связать эти случаи. Тут у меня еще записи за 1904 год…
Соланж съежилась на своем стуле, вид у нее был на редкость затравленный.
– И, наконец, апрель 1907-го: ограбление и убийство графа Ковалевского, у которого вы работали. – Комиссар подался вперед. – Скажите, мадемуазель, неужели вас не учили, что сколько веревочке ни виться, а конец все равно наступит?
Соланж отчаянно замотала головой.
– Нет! Нет! Это не я! Я тут ни при чем…
– Ну, разумеется, ни при чем, – усмехнулся Папийон. Затем добродушная улыбка исчезла с его лица, голос сразу стал жестким: – Ты только служила наводчицей для своего братца, а сама в момент ограбления наверняка обеспечивала себе алиби. Не так ли?
– Это ложь!
Так-так, мы решили все отрицать… Ну что ж…
– Кража, конечно, плохое дело, – продолжил комиссар, – но вот убийство – прямая дорога на эшафот. Ты об этом подумала?
– Я не…
– Ну да, ну да. Ты только сказала Филиппу, где что лежит, и передала ему ключ.
– Неправда! Неправда, слышите? Да, он хотел, чтобы я помогла ему… Но я отказалась!
В глазах девушки появились злые слезы, лицо раскраснелось, и, по правде говоря, теперь ни один человек на свете не смог бы представить себе ее образ на праздничной открытке.
– А теперь давай разберемся поподробнее. Лангле, Фурко и Декурсель – твоих рук дело?
– Даже если так? – воинственно бросила Соланж. – Но у графа мы ничего не брали!
В запальчивости девушка даже не заметила, что выдала с головой и себя, и своего сообщника.
– Почему я должен тебе верить? После того как братец Филипп с твоей помощью обчистил тех, у кого ты работала раньше…
– Это другое дело.
– Почему?
– Я бы не дала ему и пальцем тронуть графа Ковалевского. Я бы не позволила.
– Почему?
– Потому что он всегда относился ко мне как к человеку. Впрочем, господин граф ко всем слугам хорошо относился.
– А говорят, у него был невыносимый характер.
– Кто говорит? Бывшая жена? Ее родственники всю жизнь попрекали его, что он женился на ее деньгах. Как же еще граф должен был относиться к ней?
Ух ты, какие интересные штришки известны мамзели с двойной фамилией… Интересно, что еще она знает?
– А что ты можешь сказать о его брате?
– О месье Анатоле? Очень капризный. Даже скандалист. Полагал, что болезнь дает ему право вести себя, не стесняясь. Постоянно попрекал господина графа, что тот здоров, а он болен. Все время обещал умереть, но никак не торопился выполнить свое обещание. Изводил меня и остальных слуг. Все ему всегда не нравилось… Хотите знать правду? Господин граф был ангелом, что терпел этого типа в своем доме!
Однако, как интересно она расписывает своего хозяина, мелькает в голове у Папийона. Уж не была ли девица часом в него влюблена?
– Почему в таком случае господин граф не снял для брата отдельное жилье?
– Хотел, но Анатоль устроил жуткую сцену. Кричал, что от него все хотят избавиться, что брат только и ждет его смерти. Я же вам говорю, он скандалист. Ему обязательно нужно было прицепиться к кому-нибудь, чтобы все время устраивать сцены, а если бы Анатоль жил отдельно, закатывать их было бы некому. У него имелся слуга, который давно ему служил, так вот тот в конце концов не выдержал и уволился.
– А месье Анатоль серьезно болен?
– Сам месье Анатоль всегда уверял, что ему недолго осталось. Господин граф приглашал к нему лучших врачей, и зиму его брат обычно проводил в Ницце. Но знаете, что я вам скажу? У месье Лангле тоже была родственница, больная чахоткой, кузина, которая много жертвовала церквям и уверяла, что вот-вот отдаст богу душу. А кончилось тем, что она пережила двух своих мужей, похоронила бы и третьего, но погибла в катастрофе на железной дороге.
– По-твоему, месье Анатоль не столь серьезно болен, как считается?
– Ну, врачи-то в один голос говорили, мол, непонятно, как он до сих пор держится. Но если человек настолько болен, откуда тогда у него силы со всеми ругаться и ссориться?
Комиссар в смущении почесал нос.
– Ладно, забудем пока о месье Анатоле. Поговорим-ка лучше о графе Ковалевском. У него были враги?
– Такие, чтобы убить, – нет, насколько мне известно.
– Может быть, жена, с которой у него были сложности?
– Она? Ха! Если бы граф попросил у нее палец, она отдала бы руку, не задумываясь.
– Да ну? Ковалевский настолько нравился женщинам?
Соланж мрачно глянула на комиссара, кусая губы.
– Хозяин выбирал таких, которые не умели его ценить. Вот в чем была его ошибка.
– А конкретнее?
– Ему нравилась балерина Корнелли. Но я помню, как дамочка на него смотрела. Как на столб! Ее интересовали только его деньги и подарки, которые он ей делал.
– Кого еще ты видела?
– Я знала только двух: балерину и мадам Туманову. Последняя держала его крепко. То есть она так думала. – Соланж сжала губы.
– Что было потом?
– Мадам разбила ему сердце, как пишется в романах. А вот в жизни все выглядит вовсе не так возвышенно.
– С чего ты взяла, что она разбила ему сердце?
– Я видела, как господин граф плакал. Это было ужасно! Никогда не думала, что мужчина может плакать. Ему приходилось очень нелегко временами, но он всегда все выносил с улыбкой. А тут…
– Для их разрыва была какая-нибудь конкретная причина?
– Туманова его не любила. Какая еще причина вам нужна?
– А ты, значит, графа утешила?
Серые глаза Соланж потемнели.
– Вас это не касается, – отрезала девица.
– А все-таки? – вкрадчиво спросил комиссар.
– Я ему была не нужна, – устало ответила Соланж. – Просто так получилось. И знаете что? Я ни капли ни о чем не жалею. Господин граф не обманывал меня, ничего мне не обещал, я у него ничего не просила…
В кабинете наступила тишина. Мадемуазель Бонту, глядя перед собой, машинально разглаживала несуществующую складку на юбке.
– Но Филипп настаивал, что вы должны продолжить ваше дело? Так? – наконец нарушил молчание полицейский.
Соланж вздохнула. Плечи ее поникли.
– Все-то вы знаете… Да. Брат хотел, чтобы я сделала дубликат ключа от черного хода, выспрашивал у меня, где что лежит. Но я сразу же дала ему понять, что это бесполезно.
– Ну, наверняка не сразу, – усмехнулся Папийон. – Устраиваясь на работу к графу, ты думала, что все будет так же, как и с остальными. И только потом решила, что не позволишь брату ограбить графа. Так?
– Как хотите. Не буду спорить.
По выражению лица девушки Папийон понял, что прав.
– Филиппу это не понравилось?
– Он был в ярости.
– Ты успела принести ему дубликат ключа?
– Я не делала никакого дубликата. Ясно?
– И что, Филипп смирился с тем, что на сей раз добычи не будет?
– Ну, я сказала ему, что граф разорен. Филипп мне не поверил, а потом узнал от других слуг, что граф готовится переехать в жилье поменьше, что его дела и в самом деле плачевны. А вскоре хозяин рассчитал нас. Я была согласна остаться за половину того, что он мне платил, но граф улыбнулся и сказал, что идет на дно и не хочет, чтобы я тонула с ним вместе. Добавил, что я достойна куда лучшего места. Он мне часы подарил… Неужели вы думаете, что после этого я стала бы его грабить?
Комиссар снова усмехнулся:
– Ограбили же вы пожилую мадам Фурко, которая еле ходит…
– О да! – криво улыбнулась Соланж побелевшими губами. – Такая добрая старушка… Она делала колобки для бродячих животных из остатков фарша и битого стекла, разбрасывала их, а потом наблюдала, как животные умирают в муках. И смеялась. Я только три месяца у нее и продержалась. Иногда меня так и подмывало дать ей самой отведать битого стекла. Но ведь нельзя, это убийство.
– У тебя на все готов ответ, как я погляжу.
– Повторяю: мы не грабили графа Ковалевского. И Филипп его не убивал. Когда я услышала об убийстве, то сильно испугалась и спросила, где он был. Брат ответил, что в ту ночь находился совсем в другом месте.
– Где?
– В Шантийи, со своей невестой.
– Это не алиби.
– Он поклялся мне, что не убивал графа и не забирался в дом. Памятью нашей мамы поклялся. Значит, не мог мне солгать!
В голосе девушки прорезались истерические нотки.
– Ладно, поговорим теперь о деле. Тебе известно, что у графа Ковалевского были две связки ключей?
– Конечно.
– Тебе знакома эта?
Папийон протянул ей связку ключей, снабженную элегантным брелоком.
– Да. Она обычно лежала в ящике его стола. Хозяин не так уж часто брал ее с собой. А тут одного ключа не хватает…
– Да, нет того, что от двери черного хода. Как ты думаешь, кто мог его взять?
– Граф никому не давал свои ключи. А взять – зачем? У слуг были свои ключи.
– Тем не менее один исчез накануне убийства, и именно через черный ход тот, кто убил графа, проник в дом и покинул его. Ты по-прежнему настаиваешь на том, что не знаешь, кто мог взять ключ?
Соланж задумалась.
– Обычно господин граф, когда отправлялся на яхту или на свидание к мадам Тумановой, брал с собой эту связку. Может быть, его убила она?
– Да, но зачем? Разве женщина что-нибудь выигрывала от смерти Ковалевского?
– По-моему, нет. Тогда, может быть, ключ украла Элен?
– Горничная Тумановой? А ей зачем? Она тоже замешана в каких-нибудь ограблениях?
– Не знаю, но девица мерзкая, – выдвинула типично женский довод Соланж. – Из тех пакостных тихонь, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Хотя… – Мадемуазель Бонту мгновение поразмыслила. – Нет, вряд ли. Элен просто тупая бельгийка, которая предана своей хозяйке потому, что та когда-то не дала ей умереть с голоду. Если бы она что-то сделала, то только по просьбе хозяйки.
– А у той нет никакой причины убивать графа, – усмехнулся Папийон. – Если, конечно, не считать того, что тот ее бросил.
– Ей это было все равно. Я же сказала вам: Туманова его не любила.
В дверях, постучав, показался Бюсси и доложил:
– Патрон, мы нашли номера второго.
Номером вторым Папийон и его люди договорились обозначать брата Соланж.
– Да? И как он?
– Все отрицает. К моменту задержания он успел выпить, но говорить с ним можно.
– Ладно. Тогда передай мадемуазель Мелло, чтобы тот записал показания, а номера второго доставь сюда.
Бюсси увел Соланж и вернулся один.
– Где Филипп Бонту? – удивился комиссар.
– Сейчас приведу, патрон. Тут такое дело: звонил Тулонжон.
– И?
– Просил передать, что барон Корф и та девица, Роза Тесье, застряли «У Максима». А до того офицер повел ее в дом моды Дусе и купил для нее дорогое платье.
– Да? – как-то неопределенно хмыкнул Папийон.
– Точно. И еще одно. Вы спрашивали, не видел ли Тулонжон у пруда еще кого-нибудь, кроме Корфа. Так вот, он вспомнил, что приметил издали какого-то типа. Вроде бы тот шел от пруда, то есть теоретически мог бросить… ну, вы сами понимаете.
– Приметы, Бюсси, приметы!
– В том-то и беда, что Тулонжон не обратил на него внимания. Ему только показалось, что мужчина был одет довольно бедно. Наш агент был занят слежкой за Корфом и не хотел отвлекаться.
– Возраст его он не запомнил? Молодой, старый? Хоть что-нибудь!
– Тулонжон сказал, что не станет фантазировать. Ему показалось, самый обыкновенный человек. Вы думаете, это важно? По-моему, поведение Корфа и этой девицы доказывает, что дело нечисто. По-хорошему, их обоих можно было бы и арестовать. Ясно, как день, она его покрывает, а офицер ей платит за молчание.
– Терпение, Бюсси, терпение, всему свое время, – проворчал комиссар. – Давай-ка лучше сюда Филиппа Бонту. Посмотрим, что типчик запоет после того, как я побеседовал с его сестрой.
Глава 19 Беспокойная ночь
Тонк, танк, сказали большие часы. Тонк, танк, тонк, танк… Потом они нежно прозвенели три раза и деловито застучали дальше.
Три часа ночи, подумала Роза. Она застыла на краешке кресла, стиснув в ладонях чашку горячего кофе, который ей принесла молчаливая горничная. На диване напротив дверей сидела светловолосая дама с золотисто-карими глазами и внимательно слушала, что ей говорил Михаил. Разговор велся по-русски.
– Одним словом, – закончил молодой человек, – мы убежали.
Тонк, строго сказали часы. Амалия метнула на сына хмурый взгляд.
– Скверная история. Та особа, которая звала на помощь, тебя видела?
Михаил покраснел.
– Конечно. Я же пробежал мимо нее… Просто, знаешь, я подумал, что ей может понадобиться помощь. – Он взглядом указал на Розу.
Баронесса вздохнула.
– Хорошо. Теперь давай еще раз, с самого начала. Девушка – свидетельница, которая видела кого-то возле особняка в ночь убийства. Сегодня, то есть уже вчера, тебя забрал Папийон, чтобы провести опознание. Свидетельница тебя «не узнала». Ты в порыве благодарности повел ее к мэтру Дусе, купил ей дорогое платье, потом вы сидели «У Максима», а по возвращении мадемуазель в родные пенаты ты зашел вместе с ней и увидел два трупа. Все так? Я ничего не упустила?
– Да, но…
– Вот именно, что «но»! Почему ты повел свидетельницу к Дусе? Ты пытался ее подкупить? Это тебя она видела возле особняка?
Михаил закусил губу и с трудом выдавил из себя:
– Да, я там был.
– Почему девушка не сказала об этом комиссару?
– Не знаю.
– Ты ей что-нибудь обещал?
– Ничего.
– Она что-нибудь просила у тебя? Может быть, денег?
– Нет. После опознания мадемуазель Тесье даже не хотела со мной разговаривать.
Амалия поглядела на Розу, сжавшуюся в уголке кресла. Странное поведение для свидетеля? Конечно, странное. Но баронесса была устроена так, что привыкла находить всем странностям объяснение. Самым простым был бы, конечно, шантаж, но моя героиня не стала торопиться с выводами.
– А теперь давай поговорим о том, что ты делал с одиннадцати вечера до четверти третьего утра со вторника на среду. Итак, ты отправился к особняку графа. Зачем?
– Хотел поставить ему на вид недопустимость его поведения.
– А если по-человечески?
Михаил вскинул на мать разом потемневшие глаза.
– Я и сам не знал, что буду делать. Но меня так и подмывало… – Молодой человек запнулся. – Подмывало врезать ему как следует. Когда я переходил через перекресток, ветер сдул с меня фуражку и швырнул ее под колеса автомобиля. Только тогда я заметил, что накрапывает дождь. Прохожие попрятались, на улицах почти никого не было. Эта девушка пыталась заговорить со мной, но я не стал ее слушать. Вскоре я был возле графского особняка.
– Что дальше?
– Дальше… Я ходил туда-сюда, не решаясь позвонить в дверь. Это было невыносимо…
Мать легонько коснулась руки сына.
– Я знаю.
– К тому же было уже слишком поздно. А потом у меня пошла кровь от волнения.
– Что?
– У меня пошла кровь из носа, – беспомощно проговорил Михаил. – Как у гимназиста, понимаешь? Я был на войне, и даже там со мной такого не случалось!
– И что было дальше?
– Я вытер кровь и поспешил домой. Но на площади опять наткнулся на нее, – молодой Корф снова кивнул на Розу. – А на опознании она так на меня посмотрела, что я сразу же понял: узнала. И был уверен, что девица укажет на меня Папийону. Только она этого не сделала. Отцу бы не понравилось, если бы мне пришлось выйти в отставку из-за того, что оказался в неудачное время не в том месте…
Амалия тихо вздохнула.
– А ты никогда не думал, что тебе надо жить не для твоего отца, а для себя?
– Мама, – с неудовольствием проговорил Михаил, – мы уже много раз это обсуждали. Я делаю то, что должен делать, вот и все.
– Хорошо, оставим неприятную тему. Лучше скажи мне вот что: почему ты молчал? Почему не сказал мне раньше, где был в ту ночь?
– Мама, я взрослый человек, – проворчал сын. – Думаешь, мне приятно признаваться, что у меня пошла кровь из носа, как у какого-то мальчишки? Я выглядел бы просто глупо!
– Мне лезло в голову черт знает что! – рассердилась Амалия. – И не мне одной, кстати сказать! Ты хоть знаешь, что Елизавета Корнелли заявила полиции, будто ты был у нее, чтобы тебя выгородить?
– Нет. Я не знал.
Про себя Михаил машинально отметил, что сейчас мать назвала его бывшую любовницу по имени. Обычно же именовала ее «балерина Корнелли» или «эта балерина».
– Ладно. Раз уж ты являешься свидетелем, у меня есть к тебе несколько вопросов, – продолжала Амалия. – Когда ты ходил туда-сюда возле особняка Ковалевского, ты никого не видел?
– Я уже думал об этом много раз. Нет, там никого не было. Мимо проехали несколько фиакров, пара машин, только и всего.
– Больше ты ничего не заметил?
– Как сказать… Видишь ли, я могу поклясться, что граф был жив, когда я уходил оттуда.
– Почему ты так думаешь?
– Он зажигал свет.
– А его не мог зажигать кто-нибудь другой?
– Нет. Я видел на занавеске его тень. Это был Ковалевский.
– Не можешь сказать, что граф делал? Хотя бы предположительно.
– Я не разобрал. По-моему, ничего особенного он не делал.
– Где именно горел свет?
– На втором этаже, в комнате с синими портьерами. Потом загорелся свет в маленьком окошке рядом. А через некоторое время потух.
– Это спальня, – уверенно сказала Амалия, – только в ней на этаже портьеры синего цвета. А маленькое окошко рядом – ванная. Похоже, граф на сон грядущий умылся, привел себя в порядок, почистил зубы… В общем, ничего необычного.
– Мне показалось, он чистил зубы целую вечность, – усмехнулся Михаил. – Правда, на часы я не смотрел.
– Ну, мужчина мог принять ванну, к примеру. Что-нибудь еще?
– По-моему, граф находился в доме один. По крайней мере, не было такого, чтобы одновременно зажигался свет вверху и внизу, понимаешь?
Баронесса кивнула.
– Когда я уходил, свет наверху погас, и весь дом погрузился во тьму. Очевидно, Ковалевский лег спать.
– Когда это было?
– В первом часу ночи.
– А почему ты вернулся домой только в четверть третьего?
Михаил покраснел.
– Я…
– Ты отправился на бульвар Османа, верно?
– Да.
– Но там тоже не стал звонить в дверь?
Михаил вспыхнул.
– Я понимаю, что выгляжу смешно, но… Да, я не стал ее беспокоить.
– Почему?
– Что я мог ей сказать? Попросить, чтобы она не общалась с графом Ковалевским? У меня нет никакого права так говорить. – Молодой человек запнулся. – По-моему, она стояла около окна и видела меня. Но духу войти так и не хватило.
Слушая сына, Амалия чуть не расплакалась. Неужели Миша не понимает, что если будет вести себя и дальше подобным образом, вся его жизнь пройдет так – между своими и чужими, на нейтральной полосе, где только улица, и дождь, и вечно запертая дверь для того, кто никак не может ни на что решиться? Ах, черт побери!
Однако сейчас главное – помочь сыну выпутаться из истории, в которую он попал.
– Теперь по поводу произошедшего сегодня. Что там за драма под красным фонарем?
– Не знаю, – ответил Михаил, пожимая плечами. – Наверное, правильнее будет спросить у нее.
И Амалия, встав с места, подошла к девушке, которая во время разговора хозяйки с сыном даже не шевельнулась.
– Вы не пьете кофе, – заметила баронесса, присаживаясь возле свидетельницы, которая легко могла погубить Михаила, но почему-то не сделала этого. – Наверное, уже остыл. Давайте я скажу, чтобы принесли горячий?
– Не люблю кофе на ночь. От него мне потом снятся скверные сны… – вяло ответила Роза и быстро добавила: – Извините.
Ей ужасно нравился этот дом – и обстановка, и вазы с цветами, и веер, небрежно брошенный на стол. Однако не столько красота вещей захватывала ее (и даже не стоимость, о которой она могла только догадываться), а уют. Здесь все дышало теплом, и Роза невольно позавидовала Михаилу, который мог видеть эти вещи каждый день и приходить сюда когда вздумается.
– Может быть, вы что-нибудь хотите?
– Нет. Ничего. – Роза покосилась на испачканный шелк платья и решилась: – Как вы думаете, грязь удастся отстирать?
– Несомненно.
– Это я виновата, – шмыгнула девушка носом. – Так неудачно упала.
– Не переживайте. Все наладится. Скажите, почему вы убежали с места преступления? Вам же ничего не грозило.
– Это вам так кажется, – возразила Роза, мгновенно ощетинившись. – А для таких, как я, нет ничего хорошего в том, чтобы лишний раз общаться с фли… с полицейскими. Особенно теперь, когда Андреа убили.
– Так звали того, кто лежал в коридоре?
– Да.
– А женщина кто?
– Викторина. Ее звали Викторина. В голове не укладывается, что ее больше нет. Я же совсем недавно с ней разговаривала.
– О чем?
– Ну… о деньгах. – Роза снова шмыгнула носом. – Она все твердила про то, что брат убитого графа пообещал тысячу человеку, который поможет полиции найти убийцу. Я ей сказала, что богатые не шибко любят раскошеливаться, а Викторина заявила: если действовать с умом, можно и побольше заработать, чем тысячу. Типа видела бы она убийцу, то никому бы ни слова, ни полслова не говорила, сначала бы узнала, есть ли у него деньги. Мол, за убийство надо платить, и всякое такое… – Роза осеклась и виновато покосилась на собеседницу. – Вы только не думайте, что я решила после этого сделаться шантажисткой. Какая из меня шантажистка?
– Очень интересно… – протянула Амалия и задумалась. – Скажите, ваша знакомая часто так изъяснялась, используя сослагательное наклонение? Я имею в виду выражения вроде: «Если бы то или иное, она бы сделала то и это…»
– Да нет, – подумав, призналась мадемуазель Тесье. – Вот вы сейчас сказали, и я тоже удивилась. Вообще-то Викторина была очень практичная, никаких «если бы».
– А ваша знакомая часто с вами обсуждала убийство графа Ковалевского?
– Ну… да. Я же свидетель. – Роза покосилась на Михаила. – Ей интересно было, потому что Викторина… ну… успела пообщаться с графом, пока тот был жив.
– Граф был ее клиентом?
– Да.
– Она вам больше ничего не успела сказать, когда вы с ней разговаривали в последний раз?
– Ничего. То есть… Ну, я сказала ей, что заниматься шантажом не буду, потому что за такие вещи могут и убить. А она мне возразила, что нужно только себя обезопасить. «Если действовать с умом, то много чего можно добиться», – вот ее точные слова.
– Вот, значит, как… – напряженно проговорила Амалия. – Очень любопытно. Роза, у вас есть какие-нибудь соображения насчет того, кто мог убить Викторину и Андреа?
– Какой-нибудь ненормальный. Мало, что ли, к нам ходит извращенцев… – с отвращением ответила Роза и снова быстро добавила: – Извините, мадам.
– Последний вопрос. Где была Викторина в ночь убийства графа?
– Отдыхала, наверное. Тогда ведь не ее смена была. А что?
Амалия покачала головой.
– Нет, Роза, она не отдыхала… Миша, дай-ка мне телефон.
– Зачем вам телефон? – забеспокоилась девушка.
– Великий Папийон ошибся, – обронила баронесса хмуро. – Комиссар с самого начала решил, Роза, что главный свидетель – вы. Но вы видели совсем не того человека.
Мадемуазель Тесье вытаращила глаза.
– Вы хотите сказать…
– Я не знаю точно, где была ваша подруга в ту ночь. Может, любовалась на луну, может, посещала кого-то… Я уверена только в одном: она видела убийцу и каким-то образом поняла, что тот человек сделал. Судя по всему, у убийцы водятся деньги, и Викторина решила, что под страхом разоблачения он раскошелится. Но большинство женщин плохо хранят секреты. Вот и ваша подруга такая. Только она не могла рассказать напрямую, что задумала, поэтому прибегла к сослагательному наклонению. Если мы переведем ее слова в плоскость реальности, получается, что Викторина как-то рассчитывала себя обезопасить. Так что, Роза, прошу вас, вспоминайте все, что вы знали про ее тайники… Нам очень могут понадобиться такие сведения!
Баронесса взяла трубку и попросила соединить ее с квартирой Папийона.
– Алло… Говорит Амалия Корф. Очень рада, комиссар, что застала вас. Вам уже звонили по поводу двойного убийства в доме, где жила ваша главная свидетельница? Ну так приготовьтесь к сюрпризу: свидетельница – не она. Настоящая была убита сегодня. Судя по всему, девушка собиралась шантажировать убийцу графа Ковалевского… Да, приезжайте ко мне, комиссар, и как можно скорее. По-моему, нам есть что обсудить.
Блестя глазами, хозяйка дома положила трубку.
– Мама, – начал Михаил, – так ты думаешь…
– Ты же сам сказал, что все в комнате убитой девушки было вверх дном, – напомнила Амалия. – Там побывал именно убийца графа, который явно искал то, что она спрятала. Вероятно, записанный рассказ о том, что Викторина видела… приметы преступника… может быть, что-то еще более опасное для него…
– Нет! – неожиданно подала голос Роза. – Нет, нет, нет! Викторина вовсе не была настолько глупа, чтобы опрометчиво подпустить убийцу близко.
– Значит, к ней явился сообщник убийцы, о котором девушка не подозревала, – пожала плечами баронесса. – Полиция, как и я, считает, что убийц было как минимум двое.
– О боже… – прошептала Роза. И повернулась к Михаилу: – Помните? Человек в переулке!
– Вы о чем? – заинтересовалась Амалия.
– Незадолго до того, как Дылда Гаранс начала кричать, я видела какого-то человека… он двигался навстречу… Но едва увидел нас, повернул в другую сторону! Как будто боялся чего-то!
– В самом деле, – кивнул Михаил, – когда мы подходили к дому, я заметил какой-то силуэт…
– Мужчины?
– По-моему, да.
– Точно, мужчина с тростью! – заявила Роза.
– А ведь это может оказаться очень важно, – протянула Амалия. – Ну-ка, дети, давайте вспоминайте все, что видели. Как он выглядел? Во что был одет?
Однако ни Роза, ни Михаил не могли вспомнить ничего определенного.
– Там было мало света… Одет был во что-то темное… вроде пальто… Но трость я помню. – Роза беспомощно водила руками в воздухе.
– А как насчет лица? Очки, борода… хоть какие-нибудь приметы…
– То-то и оно, что лица не было видно! – вскрикнула девушка. – Вы думаете, это был убийца?
– Человек, который скрылся, едва завидел вас? Не исключено…
– Если бы я только знала… – прошептала Роза. – Я… я бы пристрелила его!
Мадемуазель Тесье топнула ногой и в отчаянии обхватила руками голову.
– Давайте лучше постараемся вспомнить еще что-нибудь про таинственного незнакомца, – вернула ее на землю Амалия. – Головной убор у него был?
– По-моему, да. Шляпа. Обыкновенная.
– А какого он роста?
Тут мнения свидетелей разошлись. Михаил объявил, что предполагаемый убийца был высоким, а Роза настаивала на том, что маленьким.
– Впрочем, я видел его всего несколько секунд, – добавил офицер.
– А в доме имелись кровавые следы?
– Да. Убив Викторину и обыскивая комнату, преступник наступил в лужу крови…
– Воображаю, что понапишут обо всем этом парижские репортеры, – вздохнула баронесса.
В следующее мгновение до сидящих в гостиной донесся звонок в дверь.
– А вот и комиссар Папийон!
Глава 20 Тайник Викторины
– Нужно опросить всех, – сказал Папийон. – Девиц Андреа, соседей, страдающих бессонницей, собачников, которые живут неподалеку. Если Викторина Менар в ночь со вторника на среду была снаружи и видела убийцу, то хоть кому-нибудь она должна была попасться на глаза… или хоть кто-нибудь должен был заметить, что ее нет в доме.
– Слушаюсь, патрон, – почтительно склонил голову Бюсси. – А вы не думаете, что девушка могла видеть убийцу в окно?
– Нет, не думаю. Сам погляди, ее окно выходит во двор, который слишком далеко от особняка графа. – Комиссар показал на окно комнаты, в которой они находились. Тело убитой уже увезли. – Наверняка в ту ночь девица была неподалеку от графского особняка.
Роза, стоявшая у дверей, шмыгнула носом и сказала:
– Викторина иногда работала втайне от Андреа. Но, конечно, выходить в места рядом с нами не могла и отправлялась на другие улицы.
– Вот вам и объяснение, – кивнул Папийон. – Если верить вам, госпожа баронесса, погибшая девушка надеялась получить большие деньги. Значит, убийца графа Ковалевского вряд ли бедствует. Викторина Менар потребовала у него плату за молчание, но в чем-то совершила ошибку, и преступник заставил ее замолчать.
– Его сообщник, – поправила Амалия. – Мадемуазель Тесье уверена, что ее подруга не могла подпустить к себе убийцу.
– Хорошо, пусть так, – отозвался комиссар. – Ступай, Бюсси, и доложи мне, как только что-нибудь выяснится. А мы пока займемся тайником. Вы знаете, мадемуазель, где он?
– Да, – хрипло ответила Роза. – Вон в том столике.
– В ящике? – Папийон выглядел обескураженным. – В нем только вырезки из журнала «Фемина» и несколько фотокарточек. Убийца уже все там перерыл.
– Не в ящике, а в ножке, – поправила Роза. – Той, которая хромает. Надо ее вытащить, она внутри полая.
Комиссар Папийон крякнул, взял столик и принялся откручивать ножку. Амалия и Роза, стоявшие в дверях, терпеливо ждали.
– Здесь только деньги, – с некоторым разочарованием заметил комиссар, вытряхнув содержимое тайника. – Около пятисот франков купюрами разного достоинства.
Роза глубоко вздохнула.
– Иногда Викторина прятала что-то в матрац, с той стороны, где лежит подушка. Правда, ей однажды влетело за то, что утаила чаевые клиентов, Андреа отобрал у нее заначку. Поэтому не знаю, продолжала ли она что-то там прятать.
Комиссар кивнул, подошел к кровати, дотошно ощупал матрас и подушку и даже вспорол их, чтобы убедиться: внутри ничего нет.
– Пусто, – констатировал полицейский.
Мадемуазель Тесье закусила губу. Взгляд баронессы Корф заскользил по комнате.
– Может, тайник за зеркалом или в его раме?
Папийон внимательнейшим образом осмотрел зеркало, ощупал его раму и простукал обратную сторону. Ничего.
– Вспомнила! – вскрикнула Роза. – Как-то я зашла сюда, а Викторина как раз возилась со своим цветком, который стоит на подоконнике. И мне показалось, она была страшно недовольна моим появлением, хотя для этого не было никакого повода.
Комиссар Папийон глянул на горшок. Из него торчал чахлый стебелек, на котором красовалось несколько поблекших цветов.
– Тайник под фиалкой? – удивилась Амалия.
Папийон тем временем вытащил растение и стал изучать пространство под ним.
– Тут явно не хватает земли, – мрачно сообщил он наконец. – Ближе ко дну что-то лежало, какой-то небольшой предмет. Величиной с медальон или коробочку для пилюль. И кто-то совсем недавно вытаскивал цветок из горшка. Эх, ну что девице стоило спрятать свой секрет в ножку стола, рядом с деньгами?
Роза, не выдержав, заплакала в голос.
– Я полагаю, комиссар, – вмешалась баронесса, – что можно отпустить мадемуазель Тесье. Обещаю вам, она никуда не денется.
Папийон, не сводя с нее взгляда, молча кивнул.
– Роза, мой сын внизу в машине, ступайте к нему. Я скоро спущусь.
– Хорошо, мадам. Я… я только заберу кое-что из своей комнаты, – прошептала девушка, вытирая слезы, и вышла неожиданно быстрым шагом – может быть, опасаясь, как бы полицейский не передумал.
Оставшись наедине с баронессой, Папийон некоторое время буравил ее взглядом. Чем дальше заходило расследование, тем больше дело Ковалевского походило на клубок спутанных ниток. Едва удавалось ухватиться и потянуть за одну нить, думая все распутать, как все запутывалось еще больше.
– Ну и что вы думаете обо всей этой истории, мадам? – спросил комиссар.
– То же, что и вы, – спокойно ответила Амалия. – В ночь убийства бедная девушка, погибшая сегодня, была на улице, где-то недалеко от графского особняка, видела убийцу и поняла, что дело нечисто. Она попыталась его шантажировать, и тогда сообщник преступника явился к ней под видом клиента и зарезал ее. Андреа услышал подозрительный шум, поспешил на помощь своей подопечной и тоже был убит. Кстати, что вам известно об оружии?
– Было использовано нечто вроде длинного ножа, – ответил комиссар. – Точнее наши эксперты пока не выяснили.
– Вот как? – Амалия задумалась. – А не может быть, к примеру, клинок, который прячут в трости?
– Думаете о том месье, которого ваш сын и мадемуазель Тесье видели в переулке? Кстати, кровавые пятна вывели нас именно туда. К несчастью, убийца быстро заметил, что в буквальном смысле слова оставляет за собой след, и вымыл подошву в луже.
– Судя по пятнам, можно что-то о нем сказать?
– К сожалению, след неполный, – вздохнул комиссар, – преступник наступил в лужу крови только носком. Было бы, конечно, куда проще, если бы у нас оказался целый отпечаток его ноги. Хотя, с другой стороны… – Папийон пожал плечами.
– Вам что-то не дает покоя? – с любопытством спросила Амалия.
– Всё! – воскликнул в сердцах комиссар. И, не удержавшись, рассказал о признании Соланж Грюйер и о задержании ее брата.
– Получается, они все-таки ни при чем, – подытожил комиссар. – Во-первых, оба были под замком, когда убили Викторину Менар. Во-вторых, шантажистка, судя по всему, рассчитывала на серьезные деньги, а чем можно поживиться у двух мелких жуликов?
Полицейский вздохнул и беззлобно прибавил:
– Похоже, мне придется всерьез взяться за маркиза де Монкура. Пятьдесят тысяч франков – вполне достаточное основание для того, чтобы проломить кому-нибудь голову. Иного мотива в этом деле я просто не вижу.
– Вы больше не подозреваете моего сына? – спросила баронесса после паузы.
– Вашему сыну чертовски повезло, – ответил комиссар с подобием улыбки. – Нет, я могу, конечно, понять, что вы горой встали на его защиту. Но алиби, которое ему соорудила бывшая любовница… и то, что сделала Роза Тесье… – Папийон с досадой передернул плечами.
– Она же сказала вам, что не была уверена, – напомнила Амалия недавние оправдания девушки.
– Нет, – отмахнулся Папийон. – Хотите, я вам скажу, что думаю обо всем этом? Есть такие дети, за которых все заступаются, когда они еще даже не просят о помощи. Но во взрослой жизни очень мало кто сохраняет это качество. – Комиссар усмехнулся. – Ваш сын как раз из таких. Женщины, даже не зная его, готовы в лепешку из-за него расшибиться. Роза видела барона в ночь убийства недалеко от места преступления с кровью на руке, но стоило ей посмотреть на него еще раз, как она решила промолчать. Почему? Да без всякой видимой причины. Хотя любого другого, я уверен, сдала бы мне легко.
– Надеюсь, – начала баронесса Корф, – вы не собираетесь…
– Нет, конечно, я не собираюсь преследовать ее из-за того, что девица обвела меня вокруг пальца. Тем более если вы правы и настоящий свидетель – убитая. Это все меняет. – Папийон наклонился, подобрал с пола фотографию, на которой были запечатлены две девушки примерно одного возраста, и добавил, глядя на нее: – Эх, мадемуазель Викторина, плохо же вы приняли ваши меры безопасности… Как говорил один шантажист, которого мне в конце концов удалось-таки засадить, шантаж подобен игре на скрипке. Не умеешь – не берись!
– А я не уверена, что убийца Монкур, – внезапно проговорила Амалия. – Кто в таком случае его сообщник? По-моему, если бы маркиз совершил убийство, то только в одиночку. Потом таил бы свой поступок от всех и в конце концов погиб бы под его бременем.
– Это психология, да? – с мягкой иронией заметил полицейский. – Давайте я вам тоже расскажу психологический этюд, который разбирал в начале службы. Итак, жила-была семья, зажиточные крестьяне. Восемь человек в одном доме, три поколения. В воскресенье утром все пошли к мессе, а вечером сын хозяина взял топор и порубал своих родных на куски. Не пьяница, не сумасшедший, заметьте. И что он смог назвать в качестве причины своего дикого поступка? Только то, что маленькие племянники слишком шумели, а жена брата во время обеда нарочно смахивала крошки в его сторону. Кюре, неглупый человек, который хорошо знал ту семью, в разговоре со мной сказал, что не может понять, как убийца решился на такое, и предположил, что в него вселился дьявол. И знаете, по большому счету мне пришлось удовольствоваться объяснением священника.
– Наверняка там были и другие причины, – заметила Амалия.
– Возможно, – не стал спорить Папийон. – У родственников были какие-то трения из-за наследства деда, но давно, те споры быльем поросли. Убийце отказала девушка, за которой он ухаживал, и вышла замуж за другого. И что? Много вы знаете людей, которые по таким вот причинам взялись бы за топор?
– Значит, вы намерены всерьез приняться за маркиза де Монкура?
– Это напрашивается само собой. Если убийцей был он и попался на глаза Викторине, девица почти наверняка его запомнила и потом узнала. Причем она должна была не просто видеть преступника, но еще и каким-то образом понять, кем он является, а заодно сообразить, что из него можно тянуть деньги. Либо Викторина узнала убийцу, либо как-то выследила. Я еще надеюсь, – добавил Папийон, – что брат графа Ковалевского, может быть, подскажет что-нибудь ценное. Я направил к нему инспектора Мерлена. Должны же у месье Анатоля быть хоть какие-то соображения по поводу того, кто убил его брата?
Глава 21 Анатоль
Когда утром следующего дня инспектор Мерлен прибыл в «Клоринду», санаторий для легочных больных, ему сообщили, что Анатолий Ковалевский здесь не живет.
– В самом деле, – добавил служащий, – месье прибыл несколько дней назад. Номер он забронировал письмом заблаговременно, так что для него все было готово. К сожалению, помещение оказалось на втором этаже, а месье не указал в письме, что может жить только на первом, так как ему трудно подниматься по лестнице. Свободных номеров на тот момент больше не было, и…
Клерк сконфуженно пожал плечами.
– Договаривайте, пожалуйста, – попросил Мерлен. Причем в голосе его прозвенели типичные папийоновские интонации, хотя сам инспектор этого, конечно, не заметил.
– Месье Анатоль устроил скандал, потом раскашлялся, так что мы уж стали опасаться, как бы он не умер прямо у нас в холле. Но, к счастью, все обошлось. С большим трудом нам удалось заставить его расплатиться по счету, за бронь. После этого господин Ковалевский сразу уехал.
– У вас нет никаких соображений, где больной может находиться сейчас?
– Нам он ничего не сказал, но я слышал, что месье вроде бы сначала остановился в «Мимозе», а потом переехал в гостиницу «Эдельвейс».
Мерлен поблагодарил портье и отправился в «Эдельвейс». Там ему, едва инспектор сказал, кого ищет, сообщили, что постоялец никуда сегодня не выходил, но уже не раз грозил им скандалом, если к нему пустят представителя прессы. Некоторые журналисты бывают излишне навязчивыми, а служащим гостиницы вовсе не хочется терять клиента, который своим пребыванием сделал их заведению шумную рекламу.
– Я не журналист. Передайте месье Ковалевскому, что его хочет видеть инспектор Мерлен из Парижа. Меня прислал комиссар Папийон, который ведет расследование убийства его брата.
Имя знаменитого комиссара оказалось как нельзя кстати. Портье немедленно отправил одного из своих помощников проведать постояльца, и тот, вернувшись, сообщил, что господин готов принять посетителя.
– Как его здоровье? – спросил инспектор.
Слуга пожал плечами.
– Месье отказывается иметь дело с докторами. Уверяет, что все они жулики и мерзавцы. По его словам, он мечтает только об одном: дожить до той поры, когда схватят убийцу его брата. Все остальное ему совершенно безразлично.
Помощник портье проводил инспектора до дверей номера Анатоля, постучал, громко объявил имя Мерлена и впустил молодого человека внутрь.
– Больному трудно самому открывать дверь, – пояснил слуга. – И вообще трудно ходить, он сразу же начинает задыхаться.
Прикрыв створку, провожатый удалился, а инспектор наугад двинулся через гостиную.
– Я здесь! – долетел до него слабый голос.
Войдя в спальню, Мерлен увидел человека, лежащего в кровати на высоких подушках. Анатоль Ковалевский был на шесть лет младше своего брата, но его явно состарила болезнь. На щеках у него цвел лихорадочный румянец, а тело то и дело сотрясал судорожный кашель. Окна спальни были наглухо зашторены, и, так как из-за этого в комнате царил полумрак, горела электрическая лампа. Ее неяркий свет отбрасывал на большую кровать и на лицо больного желтоватые блики.
Когда Мерлен вошел, Анатоль как раз дрожащей рукой надевал очки. Приладив их, Ковалевский-младший недоверчиво воззрился на инспектора.
– Вы полицейский? Надо же, на вид моложе меня… Но вы точно не из газеты, а?
– Нет, что вы!
– Конечно, убийство русского графа в Париже – настоящая сенсация… – Анатоль злобно скривил рот. – Ваши документы при вас? Давайте их сюда!
Мерлен, про себя дивясь оказанному ему приему, подал графу свои бумаги и документ, которым его снабдил Папийон – на случай, если по какой-либо причине придется просить помощи местных властей. Тяжело дыша, Анатоль изучил представленные ему «верительные грамоты» и наконец соблаговолил вернуть их посетителю.
– Садитесь, прошу вас.
Больной откинулся на подушки. Лицо у него было совершенно измученное.
– О чем вы хотели меня спросить? Должен вас предупредить: еще в Париже доктора запретили мне много разговаривать, так что не тратьте время на ненужные отступления.
– Как вам будет угодно, месье. – Мерлен придвинул свой стул к столу, достал бумагу и ручку. – Должен вас тоже предупредить: разговор у нас официальный, потому что…
Анатоль нетерпеливо мотнул головой.
– Разумеется. Вы ведь приехали сюда не для того, чтобы попробовать швейцарский сыр… – Больной закашлялся и, вытащив платок, прижал его ко рту. – Начинайте!
– Итак, вы – Анатолий Ковалевский, родились в Петербурге в 1877 году, русский подданный, профессии не имеете. Верно?
– Все верно.
– До недавнего времени жили во Франции, лечились от туберкулеза…
– То во Франции, то в Швейцарии, – поправил Анатоль. – А от туберкулеза, к вашему сведению, вылечиться невозможно, если он зашел так далеко. – Граф кашлянул и, скомкав покрасневший платок, спрятал его. – Подайте мне стакан воды, пожалуйста… Вода в графине на столе.
Мерлен с готовностью исполнил его просьбу.
– Вам все же надо лечиться, месье. Я знаю, что с чахоткой трудно справиться, но ведь бывали случаи…
– Я уже лечусь, будьте спокойны, – ответил Анатолий, показывая на коробку пилюль, о которых даже далекому от медицины Мерлену и то было известно, что они – чистое шарлатанство. – И мне гораздо лучше, чем было, когда я только прибыл в Швейцарию. – Больной снова закашлялся.
– Если вам трудно разговаривать…
– Нет, поговорим именно сейчас, – невесело усмехнулся Анатоль, – потому что вовсе не уверен, что доживу до завтра, к примеру. Я, конечно, мечтаю дожить до того момента, чтобы убийце моего брата отрубили голову, но…
Ковалевский-младший пожал плечами. Руки его, лежавшие поверх одеяла, были совсем худые, с проступившими на них синими венами.
– Хорошо. Тогда я постараюсь быть как можно более краток. Вы хорошо знали вашего брата?
– Да.
– У вас были хорошие отношения?
– М-м… Не совсем. Видите ли, мы обыкновенная русская семья. Знаете, что это такое?
– Э… пожалуй, нет.
– Тогда я вам скажу. – Анатоль завозился в постели, поудобнее прилаживая подушку. – Два главных качества, которые характеризуют наши семьи, можно передать так: недружность и вечные раздоры. В сущности, это две стороны одной медали – неумения уживаться. Хуже всего, когда раздоры возникают из-за денег, но чаще свара начинается, что называется, на ровном месте. Из-за какого-нибудь пустяка ведутся целые домашние войны. Теща воюет против зятя, муж против родственников жены, жена против его родичей, старшие воюют с младшими, братья с сестрами или друг с другом. – Граф вздохнул. – Если меня сейчас спросить, из-за чего мы с братом ссорились, я и не вспомню. Но в тот момент был уверен, что совершенно прав, что имею право вести себя так, как веду. Я понятно излагаю?
– В общем, да.
– Иногда Павел казался мне невыносимым. Порой говорил какие-то вещи, которые меня задевали. Но теперь, когда вспоминаю, сколько он для меня сделал… Господи, каким же я был дураком! – тоскливо проговорил Анатоль, качая головой. – Но уже не могу попросить у него прощения за те огорчения, которые ему причинил. Впрочем, – добавил больной совершенно другим тоном, – это тоже наша русская черта. Мы ужасно любим сделать гадость, а потом каяться. Вместо того чтобы, как вы, европейцы, не делать гадостей, чтобы не было причин вымаливать за них прощение.
Мерлен кивнул. В голове у него мелькнуло, что русский характер и в самом деле чертовски запутанная штука.
– В общем, мы еще не отполированы цивилизацией настолько, чтобы понимать границы своего и чужого пространства. Но если кто-то извне вдруг задевает нас, он диву дается, как такие разобщенные и недружелюбные, скажем прямо, люди сразу же оказываются способны сплотиться, чтобы дать отпор. Вот когда на нас нападают – как когда-то ваш Наполеон, к примеру, – тогда мы бьемся до последнего, оставляя после себя буквально выжженную землю. А в обычной жизни мы равнодушные, замкнутые на себе эгоисты. Каждый народ эгоистичен по-своему, но русский эгоизм – нечто совершенно особенное. Выглядит он примерно так: было бы мне хорошо, а весь остальной мир пусть катится к черту. Поэтому в России никого не уважают – ни правительство, ни полицию, ни науку, ни прессу, ни даже графа Толстого. Мы безразличны к любым вопросам, которые не затрагивают напрямую наш маленький мирок. У нас нет гражданского общества, потому что таковое противопоказано нашему национальному характеру. Правда, в последние годы происходят кое-какие сдвиги, но, по-моему, они приведут только к…
Ковалевский заметил выражение лица своего слушателя и оборвал себя на полуслове.
– Впрочем, это ведь к протоколу не относится, верно? Вы хотели знать о моем брате. Так вот, раньше мне казалось, что я терпеть его не могу…
– Например, когда тот открыл окно в вашем присутствии? – спросил Мерлен, радуясь, что разговор вернулся к основной теме.
– Вам и это рассказали? Тогда должны были сказать и то, зачем он так сделал.
– И зачем же?
– Потому что я его попросил.
– Зачем?
– Мне хотелось его позлить. Я был раздражен и подумал, что если умру именно из-за этого открытого окна, брат всю жизнь будет сожалеть.
Нет, положительно, русские – очень странные люди, в изумлении помыслил Мерлен.
– Конечно, глупый и нелепый случай… Но я был в семье младшим, и мне всегда слишком много позволяли. – Анатоль вздохнул. – Может быть, тут и кроется основная причина того, почему мы с братом не могли ужиться. Он просто выводил меня из себя. А сейчас я мечтаю только об одном – найти и уничтожить того, кто лишил Павла жизни.
– У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог его убить?
– Я только и делаю, что ломаю себе над этим голову, – невесело усмехнулся Анатоль. – Но сколько ни перебираю кандидатов, все время ловлю себя на мысли – нет, не то.
– Да? И кто же был вашими кандидатами?
– Маркиз де Монкур, к примеру. Мальчишка был крайне обескуражен своим проигрышем. Но я хорошо знаю Жюля, и мне пришлось отказаться от подозрений в его адрес. Да, да, совершенно точно, убийца не он.
– Может быть, кто-нибудь из бывших слуг?
– С целью ограбления? Нет. Слуги любили моего брата. Когда Павел объявил, что ему придется переехать и сократить штат прислуги, горничная даже предлагала ему остаться на пониженном жалованье. Но он не захотел.
– А что вы скажете о графине Ковалевской?
На лице Анатоля мелькнуло выражение скуки.
– Боже, какая мелодрама… Нет, и не она. Уверяю вас, бедная Катрин отдала бы полжизни, чтобы продлить его дни. Хотя, возможно, мой брат был этого недостоин…
– Почему?
– Павел ее не любил. Она хорошая женщина, верная жена, но… Просто не любил, и все. Брат говорил мне, что ничего не может с собой поделать, но одно ее присутствие нагоняло на него тоску.
– И граф спасался от тоски в обществе других женщин? Балерины Корнелли, к примеру.
– Шило на мыло, – пробормотал Анатолий, закашлявшись.
– Что, простите?
– Есть такая русская поговорка – поменять шило на мыло. Нет, балерина Корнелли ему не подходила. В некотором роде она была еще хуже, чем жена.
– Да? Почему же?
– Потому что Корнелли – холодная, расчетливая особа. В жизни ее волнуют только две вещи: балет и слава. Ради них актриса готова на все. А люди ее интересуют только в том смысле, в котором могут послужить ее целям. Сама она никого не любила и не любит, и мой брат имел для нее значение лишь потому, что Павел был знаком с большинством газетных рецензентов, а их статьи в прессе могли способствовать ее карьере.
– А госпожа Туманова?
– Что – госпожа Туманова?
– По слухам, покойный граф вроде бы собирался на ней жениться.
Анатоль бурно закашлялся.
– Как только вы произносите слово «покойный», мне сразу же становится не по себе, – признался больной, разглядывая пятна на платке. – Но я готов согласиться: мой бедный брат действительно потерял голову, когда встретился с Марией.
– У него действительно были серьезные намерения?
– Более чем.
– Что же заставило его переменить свое мнение?
Ковалевский-младший иронически покосился на собеседника.
– Месье Мерлен, крайне неосмотрительно со стороны женщины желать выйти замуж за одного и в то же время поддерживать отношения с другим. Я ясно выразился?
– Абсолютно. И кто же был тем другим?
– Мой брат не говорил.
– Может быть, адвокат Урусов?
– Хм, об адвокате я как-то не подумал… Нет, я полагал, что тут замешано это ничтожество, ее кузен.
– Пьер Нелидов?
– Ну да. Но Павел был человек гордый и подробностей мне не сообщал. Я только понял, что он охладел к мадам Тумановой. И, разумеется, что та ни при каких обстоятельствах не станет графиней Ковалевской.
– Ее такой поворот, должно быть, огорчил?
– Гм… Ну, если красотка осталась с Нелидовым, то, конечно, огорчил. Мария Туманова из тех женщин, которые не любят ни в чем себе отказывать. А если речь шла об Урусове… Раньше у адвоката водились деньги – когда он вел процессы. Однако когда перебрался в Париж… Да, кое-что, естественно, у него осталось, но…
– А зачем Урусов переехал в Париж, кстати?
– Не знаю. То есть я у него никогда не спрашивал. Юрист упоминал, что всегда восхищался французским искусством, но потом я услышал, будто на самом деле у него нелады в семье. Не знаю, что там произошло, раньше мне всегда казалось, они с женой жили душа в душу. У них четверо детей, я был крестным младшего.
Мерлен задумался. Допустим, Урусов всерьез влюбился в Марию Туманову – настолько серьезно, что ради нее забросил даже карьеру. Теоретически адвокат мог убить соперника, который угрожал его связи с Марией. Но граф и Туманова давно расстались. К чему законнику сейчас-то убивать Павла Ковалевского?
– Скажите, месье, может быть, у вашего брата были враги? Ему кто-нибудь угрожал?
– Нет, нет, нет. Поверьте, если бы что-нибудь такое было, я бы знал.
– И никто ничего не выигрывал от его смерти?
– Вы о том, кому достанется его состояние? Мне. Но я, простите, никак не мог его убить. – Больной закашлялся.
– Нам это известно, – успокоил его Мерлен. – Однако, возможно, граф собирался составить завещание на чье-либо имя… Понимаете, пообещал, а тот человек подумал, что… что после смерти графа получит…
Ковалевский замер.
– Как странно, что вы об этом говорите, – медленно произнес Анатоль. – В самом деле, у нас с Павлом был однажды разговор о… Хотя речь шла вовсе не о завещании. Мой брат не выносил говорить о смерти, о завещании. Нет, он сказал о…
Мерлен весь обратился в слух.
– Да, месье?
– Не думаю, что это имеет отношение к делу, – с сомнением промолвил Анатоль. – Да и упомянуто было вскользь… – Граф пристально посмотрел на собеседника. – Вы уверены, что хотите знать подробности?
– Разумеется! – горячо воскликнул молодой инспектор. – Так о чем же шла речь?
Глава 22 Нить Ариадны
– Амалия Константиновна!
Баронесса Корф подняла голову. Балерина Корнелли, которая держала в руках муфту, несмотря на теплую погоду, подошла к ней с широкой улыбкой на устах и со словами:
– Так вы здесь живете, сударыня? А я просто гуляла неподалеку… Какое поразительное совпадение!
Амалия была вовсе не глупа и отлично понимала, что совпадения чаще всего случаются от того, что им помогают. Получается, Елизавета Корнелли ходила туда-сюда рядом с ее домом, дожидаясь, пока хозяйка выйдет. Интересно, зачем?
– Весьма рада нашей встрече, – проговорила Амалия, которой было очень любопытно, для чего гордая Корнелли (а моя героиня уже успела заметить, что Елизавета по-своему горда) вздумала ее искать. – Я жду мою машину. Может быть, вас подвезти?
– Нет, не стоит, до Оперы не так уж далеко. Амалия Константиновна, я хотела бы с вами поговорить… если вы не возражаете.
– Разумеется, нет. Пожалуй, я немного вас провожу, чтобы вы не теряли время.
– О, так любезно с вашей стороны, госпожа баронесса.
– У вас не было неприятностей с комиссаром Папийоном? – спросила Амалия, когда обе женщины медленным шагом двинулись по улице.
– Неприятностей? – Корнелли вскинула тонкие брови.
– Я имею в виду из-за алиби, – пояснила Амалия.
– Ах, да! Комиссар дал мне понять, что такие вещи недопустимы, и я ответила, что в ту ночь в самом деле видела Мишу… Михаила Александровича под моими окнами. Так ли уж важно, входил он в дом или не входил?
– С точки зрения полиции – да.
– Вы меня удивляете, Амалия Константиновна. Вы ведь тоже, как и я, прекрасно знаете, что барон Корф никого не убивал.
– Знаю. Но полиции нужны доказательства. Иными словами, им нужен другой.
– Убийца?
– Да.
Елизавета зябко поежилась.
– Скажите, а если бы граф Ковалевский составил завещание в мою пользу, меня стали бы подозревать? – внезапно спросила она.
– Вероятно. Но почему вы спрашиваете? У него было такое намерение?
– Никогда, – твердо ответила балерина. – Он был из тех людей, которые живут только для себя. Что будет после их смерти, им в высшей степени безразлично. Нет, я хотела побеседовать с вами вовсе не из-за завещания.
– А из-за чего?
– У меня никак не выходит из головы наш прошлый разговор, – помедлив, призналась Елизавета. – Мы перебрали тогда всех знакомых графа и пришли к выводу, что никто из них не мог его убить. А ведь я хорошо знала Павла Сергеевича, и если бы у кого-то был мотив избавиться от него, мне бы это стало известно.
– Вот как?
Должно быть, в тоне баронессы проскользнуло нечто большее, чем простая вежливость, потому что Елизавета остановилась, вскинув голову.
– Я не знаю, что вы обо мне думаете, Амалия Константиновна, но уверяю вас, вы ошибаетесь.
В данный момент баронесса подумала, что последнее утверждение ее собеседницы крайне нелогично. Но спорить не стала.
– Мне известно, что говорят обо мне и о графе, – продолжала Елизавета, волнуясь все сильнее, – однако во всех этих сплетнях нет ни слова правды. Слышите, ни слова!
– Полагаю, – заметила Амалия с присущим ей хладнокровием, – теперь это уже не имеет значения.
– Имеет, – возразила балерина. – Еще как имеет! Потому что… потому что я никогда не была его любовницей.
Елизавета искоса поглядела на спутницу, словно ожидая возражений, но та молчала, предоставляя ей выговориться.
– Все случилось из-за того, что Мария Туманова оказалась для графа крепким орешком. Как я представляю себе теперь, до нее Павел Сергеевич первым оставлял женщин, которые ему наскучили. В случае же с Марией дело обстояло иначе, хотя внешне все выглядело так, словно он бросил ее. Но это неправда. Туманова водила его за нос, смеялась над ним, обманывала. Павел Сергеевич чувствовал себя уязвленным, и тут ему подвернулась я. Граф решил, что знаменитая балерина, звезда подходит для того, чтобы люди перестали толковать о нем и о Марии Антоновне.
– Толковать?
– Ну, вы знаете, в действительности никому до них дела не было. Но графу казалось, что все о них говорят. В этом смысле он был очень мнителен.
– И что, месье Ковалевский делал вам такие дорогие подарки, о которых шла молва, только из… дружбы?
– Называйте как хотите, – устало промолвила балерина. – Повторяю, я не была его любовницей, однако не мешала ему думать, что в любой момент могу ею стать.
– А не честнее было бы не иметь с ним дела вовсе? – прищурилась Амалия.
– Честнее, – не стала отпираться балерина. Дамы снова медленно шли по улице. – Но я не могла позволить себе иметь такого врага, как граф Ковалевский. Иначе он испортил бы мне жизнь.
– Потому что знаком со многими рецензентами?
– И не только с ними. Если бы в балете в расчет шел только талант, все было бы гораздо проще, Амалия Константиновна. Беда в том, что талант – только малая часть успеха, а любой успех прежде всего создается людьми.
– Вы собирались рассказать мне о своих подозрениях, – напомнила баронесса. – Сказали, что у вас появилась какая-то идея.
– Ах, да… – Елизавета провела рукой по лицу, собираясь с мыслями. – Возможно, мне пришла в голову глупость, но… В романах ведь постоянно пишут – убийства происходят в основном из-за денег, вот я и подумала, что это, вероятно, имеет значение.
– Что именно? – терпеливо спросила Амалия.
– Видите ли, граф Ковалевский застраховал свою жизнь, – объяснила балерина. – Не подумайте, что в мою пользу, вовсе нет! Просто однажды я случайно услышала его беседу по телефону…
– Это и впрямь интересно, – быстро произнесла баронесса. – А с кем он говорил, вы не знаете?
– Нет. Но разговор велся по-французски. Павел Сергеевич сказал, что страховка остается в силе и что он не желает ничего менять в ее условиях.
– А потом?
– Потом повесил трубку, обернулся ко мне и рассмеялся. Вот, мол, приходится отвлекаться на всякие глупости. Мне были безразличны его дела, но я из вежливости спросила, о чем, собственно, речь. Граф, конечно, решил, что я заинтригована, понес всякий вздор, а под конец добавил: «Подумать только, если я завтра попаду под фиакр, один человек получит такие деньги!»
– И о каких же деньгах шла речь?
– Прямо он не сказал, но я поняла, что о больших.
– Ковалевский не упоминал имя того, кто должен будет их получить?
– Нет.
– Даже намека не делал?
– Нет.
– И у вас нет никаких соображений на сей счет?
– Я уже сказала вам: уверена, что не я. Могу также добавить: наверняка и не его жена.
– Может быть, младший брат?
– Я знаю, мне не следует этого говорить, но… Павел Сергеевич был совершенно убежден, что переживет своего брата. Кроме того, у него с Анатолем были довольно напряженные отношения.
– Почему?
Елизавета вздохнула.
– Потому что Анатоль, если говорить откровенно, такая же ехидная гадюка, как и его старший брат. Только тот честнее, потому что никогда не притворялся добродушным. Когда Анатоль заболел, его характер сделался еще хуже… Нет, полагаю, граф не стал бы страховать свою жизнь в его пользу.
– В таком случае кто остается? Мария Туманова?
– Вряд ли, – с сомнением покачала головой Елизавета. – Они плохо расстались, и если бы такая страховка существовала, Павел Сергеевич сразу бы ее аннулировал.
Амалия задумалась. Если граф Ковалевский застраховал свою жизнь, то почти наверняка в пользу женщины. Жена, Мария Туманова и Елизавета Корнелли отпадают. Тогда кто же должен получить деньги? Какая-нибудь из его любовниц? Уж не Соланж ли Грюйер, то есть Бонту, случаем? Ах, как интересно! А может быть, у Ковалевского была вторая семья? И, возможно, даже ребенок на стороне?
– Скажите, – решилась спросить у собеседницы баронесса, – у вас не возникало ощущения, что у графа может быть вторая семья… и, к примеру, ребенок?
Елизавета искренне удивилась.
– Знаете, сударыня, если говорить начистоту, не думаю. Он не любил семейные отношения. По-моему, ему и одной семьи было слишком много.
– И все же? Напрягитесь, вспомните разговоры с графом. Может быть, проскользнул какой-нибудь намек. Это очень важно!
Балерина погрузилась в размышления. Между ее тонкими бровями пролегли морщинки.
– Нет, сударыня… Мне жаль, но ничего подобного не приходит мне в голову.
– Граф вообще был скрытным человеком?
Губы Елизаветы тронула улыбка.
– Скажу вам правду: ему нравилось считать себя скрытным. Но все, что он думал и чувствовал, всегда было написано у него на лице.
– Однако люди, которых мы, казалось бы, хорошо знаем, иногда преподносят нам сюрпризы, – негромко заметила Амалия.
– Только не в случае графа Ковалевского. К примеру, я всегда знала, что он меня не любит, какие бы слова Павел Сергеевич ни говорил. И брата своего не любил, а жена и вовсе была ему антипатична.
– А Мария Туманова?
– О, вот тут была страсть! Но когда дамочка его предала, он ее возненавидел. Мне кажется, если бы граф сумел заставить ее страдать, то был бы счастлив. Беда в том, что ей его чувства были совершенно безразличны.
– Скажите, Елизавета, а вы хорошо знаете Марию Туманову?
– Видела ее несколько раз. Не могу сказать, что пыталась с ней подружиться – у таких женщин, как она, подруг не бывает.
– Зато вокруг них всегда много мужчин, – улыбнулась Амалия.
– Да. Причем всегда больше, чем должно быть, – в тон ей откликнулась балерина. – Что именно вы хотите знать о Тумановой?
– Какое впечатление она на вас произвела? Что она за человек?
– Ей нужно было иметь супруга-банкира, – усмехнулась Елизавета. – Такого, знаете ли, почтенного старичка с бородой, который не слишком бы обременял жену своим присутствием. Который баловал бы ее, оплачивал счета и смотрел сквозь пальцы, как она обманывает его со всеми подряд.
– По-вашему, женщина играет не свою роль? Находится не на своем месте?
– Хотите знать правду? Так вот: по-моему, она просто глупая самка, которая считает себя очень хитрой и изворотливой, – холодно ответила балерина.
Баронесса улыбнулась про себя, поскольку не сомневалась: Елизавета Корнелли обязательно скажет о своей сопернице что-нибудь крайне нелестное, даже при том, что граф Ковалевский был балерине совершенно безразличен. Ах, женщины, женщины! Ни один мужчина не сумеет наговорить о другом мужчине такого количества гадостей, сколько за пять минут скажет женщина о другой женщине, которая по какой-то причине ей не нравится.
– Конечно, она хороша собой и умеет производить впечатление, – продолжала Елизавета. – Кое-что читала и умеет к месту вставить чужую умную мысль, чтобы ее саму сочли умной. Она с умилением будет показывать вам фотографии своих детей и их письма, но попробуйте у нее спросить, где дети теперь, и дамочка сразу же переведет разговор на другую тему. А еще Туманова любит изображать страдалицу, которую обидел весь мир. Только все это ложь, ложь, ложь. Мария законченная эгоистка и всегда делает только то, что ей выгодно. И хотя ее приемы стары, как мир, даже умные мужчины на них покупаются.
– Значит, по-вашему, граф Ковалевский был умен?
– Да, и даже очень, – кивнула балерина. – Я бы сказала, он был самым умным человеком из всех, кого я знала. Но, видите ли, когда говорят чувства, разуму приходится умолкнуть. Уверена, вы и сами прекрасно это знаете.
Корнелли попрощалась с баронессой Амалией и быстрым шагом удалилась в сторону Гранд-опера.
Амалия осталась стоять, немного удивленная. «Хм, «прекрасно знаете»… Вот как! Интересно, что наговорил ей о своей матери Миша, что у нее сложилось обо мне такое мнение?»
Она собиралась вернуться к особняку, но тут на обочине остановился темный автомобиль, за рулем которого сидел Михаил.
– Консьерж сказал, что ты ушла в эту сторону, – объяснил сын. – С кем ты сейчас говорила? Не с мадемуазель Корнелли?
Амалия проигнорировала его вопрос и задала собственный:
– Как ты? Удалось вчера устроить мадемуазель Тесье?
От баронессы не укрылось, что Михаил замялся, прежде чем ответить.
– Да, – сказал наконец сын, – с ней все в порядке.
Вчера ночью они возвращались из заведения Андреа втроем, Роза всю дорогу молчала. Обшарпанный чемоданчик, в котором помещались все ее пожитки, стоял в автомобиле возле ее ног.
Высадив мать возле ее особняка, Михаил отправился искать гостиницу для Розы. Первая, которая им попалась, была заполнена. Во второй, едва бросив взгляд на Розу, зябко ежившуюся в своем хоть и роскошном, однако сильно испачканном платье, портье коротко ответил, что очень сожалеет, но мест нет.
– Ладно-ладно, – оборвала его Роза, – я поняла.
И, не дав Михаилу взять свой чемоданчик, подхватила его сама и понесла к дверям.
– Ты что? – спросил молодой человек, когда они подошли к машине.
– Там полно свободных ключей, – отрезала Роза. – Он просто не захотел меня пускать. Уверена, и в других гостиницах будет то же самое.
– Хорошо, – решился Михаил, – тогда едем ко мне.
– К тебе?
– Да, переночуешь у меня. А утром подумаем, что дальше делать.
Когда Аркадий, денщик Михаила, открыл хозяину дверь, офицер объявил:
– Это мадемуазель Тесье. Постелишь ей в маленькой комнате, ясно?
Аркадий покосился на гостью, отдал честь и молча ретировался.
Это был исполнительный и не слишком разговорчивый малый, но при том – великий книгочей. Он читал подряд все, что ему удавалось достать. С одинаковым интересом денщик молодого Корфа от корки до корки изучал очередной том «Приключений Рокамболя», учебник истории Иловайского или сочинение, посвященное математическим тонкостям, читал романы, стихи, мемуары, биографии, книги, посвященные военным дисциплинам, пособия по садоводству, самоучители иностранных языков, своды правил этикета, уложения о наказаниях Российской империи и железнодорожные справочники. При этом ухитрялся еще и запоминать прочитанное и не раз ошарашивал Михаила знаниями, извлеченными из самых различных пособий. Впрочем, хозяин тоже нередко ставил верного денщика в тупик, хоть и по другим поводам.
Сейчас, наводя порядок в маленькой комнате, Аркадий ворчал себе под нос: «Балерина – еще куда ни шло, но эта… Что Амалия-то Константиновна скажет?»
В гостиной Роза поставила чемоданчик на пол и огляделась. Скользнула взглядом по портрету баронессы на стене, и тут ее внимание привлек рояль. Девушка подошла к нему, осторожно дотронулась до одной из клавиш, словно боясь, что инструмент исчезнет от ее прикосновения, и сказала Михаилу:
– Когда-то я любила музыку…
Тот не знал, что ответить на это. Она как будто говорила о какой-то другой Розе. О Розе, которая давно умерла.
– Что-то Аркашка завозился, – неловко проговорил молодой барон. – Пойду посмотрю, все ли приготовил.
Он вышел, а Роза села на диван, который показался ей на удивление мягким. Усталость неожиданно навалилась на нее, девушка сбросила туфли, смутно подумала: «Подремлю минут пять…» – и провалилась в глубочайший сон. И, конечно, не видела, как вернулся Михаил. А тот, поняв, что гостья вконец утомлена, не стал ее будить, только набросил на нее одеяло и на цыпочках удалился, сделав денщику знак не шуметь.
…Когда Роза проснулась, было уже совсем светло. Она потянулась – и поморщилась, почувствовав, как болят от корсета бока. Внезапно мадемуазель Тесье вспомнила все, что произошло вчера, что было ночью, и, подскочив, села на диване.
Надо же, заснула, как бревно! Свалилась и отключилась! А если бы этот тип, офицер, несмотря на заверения его маменьки, оказался убийцей? Ведь вчера по лицу комиссара ясно было видно, что тот, может быть, и верит баронессе, но не убежден окончательно…
Тут ее взгляд наткнулся на рояль, на ворох исписанных от руки нот – и она успокоилась. «Да нет, Михаил не убийца… Все это вздор».
Роза отряхнула платье, поправила перед зеркалом прическу и отправилась искать хозяина…
– Потом я отвез ее к Дусе. Там пообещали, что платье приведут в порядок, и отдали старую одежду, – сказал Михаил матери, все же сообщив, что после ночных приключений привез девушку к себе на квартиру.
Но не договорил, что из модного дома Роза вернулась к нему домой. Однако Амалия и так все поняла.
– Она тебе нравится?
– Мне?
– Да, тебе.
– Не знаю, – подумав, ответил Михаил. – Но я не могу бросить ее на улице… Мне будет спокойнее, если Аркашка за ней присмотрит. Куда мы едем?
– На бульвар Малерба, к Марии Антоновне Тумановой.
– Бульвар огромный, где именно она живет?
– Я скажу, где остановиться.
Они подъехали к дому, в котором жила Туманова, и баронесса вышла из автомобиля. Точнее, спустилась, потому что сиденья в тогдашних машинах были расположены довольно высоко.
Горничная Элен отправилась доложить о визите хозяйке и вскоре вернулась.
– Госпожа Туманова ждет вас.
Амалия вошла в гостиную. Мария Антоновна, сердечно улыбаясь и протягивая гостье обе руки, поднялась с дивана навстречу. Едва баронесса Корф увидела ее, как сразу же узнала – это была та самая женщина, которая находилась у Урусова и подслушивала ее разговор с адвокатом.
– Кажется, мы встречались, госпожа баронесса… Впрочем, у меня ужасная память. Я так рада, что вы решили нанести мне визит!
Дама прямо-таки излучала довольство, и Амалия невольно насторожилась. «Что такое, чему она так радуется?»
Мария меж тем продолжала оживленно щебетать и сыпать именами, смотря на собеседницу блестящими глазами. У госпожи баронессы имение в Полтавской губернии, не правда ли? Мир так тесен! У ее мужа имение в Черниговской губернии, по соседству, можно сказать… Супруги были в гостях у князя Кочубея… Баронессе он наверняка известен – шутка ли, самый богатый человек в Полтавской губернии! Как-то князь устроил маскарад, и она, Мария, долго ломала голову, что бы надеть такое, оригинальное. Ведь обычные маскарадные костюмы…
– Я хотела бы поговорить с вами о графе Ковалевском, – тихо, но очень твердо промолвила Амалия. И тон ее был таков, что фраза собеседницы оборвалась на полуслове.
– Почему-то все хотят говорить со мной только о графе Ковалевском, – капризно пожаловалась Мария. – И знакомые, и комиссар, и вы…
– И Георгий Иванович, я полагаю?
Только что на устах мадам Тумановой была улыбка, но мгновенно исчезла, а взгляд приобрел настороженное и, прямо скажем, не слишком приятное выражение.
– Ну и что, что Георгий Иванович? – проговорила она. И голос ее тоже стал другим, вовсе не таким беззаботно-щебечущим, как раньше. – Мы все взрослые люди, в конце концов. Если вы явились сюда, чтобы укорять меня…
Теперь весь вид дамы дышал враждебностью, но Амалия почему-то не сомневалась, что собеседница играет, примеряя и меняя разные маски – светской львицы, радушной хозяйки, капризной девочки, высокомерной красавицы. «Кто же ты на самом деле? – с некоторым беспокойством подумала баронесса. – И бываешь ли ты искренней хоть когда-нибудь?»
– Я не жена господина Урусова, чтобы укорять вас, – уронила Амалия. – И в любом случае меня это не касается.
Мгновение Мария буравила гостью взором, однако наготове была уже следующая маска – оскорбленной невинности.
– Право же, сударыня, я не понимаю, о чем вы…
– Меня интересует только граф Ковалевский, – повторила Амалия.
– Почему же? У вас с ним что-нибудь было?
Мария Туманова все-таки выпустила когти. Но она упустила из виду, что с баронессой Корф такие штучки совершенно бесполезны.
– Полагаю, меньше, чем у вас, – усмехнулась Амалия. – Скажите, вам известно, что граф застраховал свою жизнь на крупную сумму?
– Мне? – изумилась Мария. – А почему это должно быть мне известно?
– К примеру, Павел Сергеевич мог застраховать свою жизнь в вашу пользу. Разве нет?
Туманова пожала плечами.
– Я полагаю, об этом лучше спросить у Георгия Ивановича. Он был в курсе всех дел покойного.
– Убитого, – мягко поправила Амалия. – Так вам ничего не известно о страховке?
– Ничего.
– И у вас даже нет никаких соображений по данному поводу?
– Верите ли, сударыня, – ни малейших!
– И, конечно, вы понятия не имеете о том, кто убил Павла Сергеевича?
– Разумеется! Я уже говорила об этом полиции.
– И никого не подозреваете?
Мария Туманова покачала головой.
– Я не настолько подозрительна, госпожа баронесса. Вообще я завидую людям, которые умеют питать подозрения. Должно быть, это очень захватывающе – подозревать, не имея никаких оснований. – В голосе дамочки звенела явная насмешка.
Она больше ничего мне не скажет, мелькнуло в голове Амалии, которая тут же поднялась и стала прощаться.
Хозяйка задержала ее руку в своих и снова начала источать елей:
– Полагаю, когда вся эта злосчастная история закончится, вы зайдете ко мне в гости просто так, по-соседски? Мне было очень приятно поговорить с вами, сударыня!
Амалия молча высвободила руку и удалилась. Спускаясь по лестнице, баронесса поймала себя на том, что недовольна собой и тем, как прошел разговор.
«Но, по крайней мере, Мише не пришлось долго меня ждать…» – успокоила она себя и улыбнулась сыну, садясь в машину.
– А теперь куда?
– На улицу Вожирар. Нанесем визит господину Нелидову.
Однако добраться до нужного адреса оказалось не так-то просто. Во всяком случае, с первого раза это не удалось, потому что на мосту Согласия к машине с криком бросился молодой человек:
– Госпожа баронесса! Госпожа баронесса!
Амалия едва узнала Гюстава Ансеваля, настолько у того был неприкаянный и несчастный вид.
– Месье Ансеваль, вы куда-то спешите? Если нам по пути, я могу подвезти вас. Мы едем на другой берег…
– Вы очень добры ко мне, – со вздохом промолвил Гюстав, – но я никуда не спешу. Сегодня утром мне позвонили по телефону и сообщили, что я уволен. Начальник отдела сказал, что ему не нужны служащие, за которыми является полиция. А у меня больная мама…
Амалия посмотрела на его лицо и открыла дверцу.
– Садитесь!
Удивившись приглашению, Гюстав тем не менее подчинился. И, усевшись на сиденье, продолжил ныть:
– Теперь мне придется искать работу, а найти ее не так-то легко… Конечно, я мог бы пойти бухгалтером, я очень хорошо считаю. Но…
– Значит, вы можете работать бухгалтером?
– Да, сударыня. Но вряд ли я смогу сразу найти хорошее место, и мои сбережения…
– Миша, – негромко сказала Амалия, – поворачивай назад. Мы едем на улицу Мира, 21.
Не задавая лишних вопросов, сын сделал круг по площади и, вернувшись на мост, покатил в обратном направлении.
Баронессе повезло – Жак Дусе оказался в своем кабинете. В нескольких словах она объяснила ему ситуацию:
– Этот молодой человек вбил себе в голову, что ему никогда не везет. Но месье Ансеваль производит впечатление усердного служащего, и к тому же у него слепая мать – вчера он долго мне о ней рассказывал. Если у вас есть какое-нибудь место для него…
– Я полагаю, – улыбнулся Дусе, – мы сможем все устроить. Не беспокойтесь, сударыня.
– Мне бы не хотелось, чтобы злосчастное расследование гибели графа Ковалевского поломало юноше жизнь, – добавила Амалия. – Комиссару Папийону следовало бы проявить больше такта, но он, когда ведет следствие, не думает больше ни о чем.
– Ну что ж, – сказал Дусе, поднимаясь с места, – значит, у меня появился новый служащий.
Модельеру очень понравилось, что баронесса не бросила на произвол судьбы молодого человека, которого видела всего второй или третий раз в жизни. Месье Дусе отлично понимал, что на такой поступок способен далеко не каждый, и если он и раньше был о своей клиентке самого высокого мнения, то теперь в его глазах она вознеслась на недосягаемую высоту.
Уладив судьбу Гюстава Ансеваля, Амалия вернулась к машине.
– Ну а теперь точно едем на улицу Вожирар. Надеюсь, мы застанем Нелидова дома…
– Значит, с Марией Тумановой ничего не вышло? – проницательно спросил Михаил, заводя мотор.
Баронесса улыбнулась.
– Похоже, человек, который назвал ее крепким орешком, был совершенно прав. Надеюсь, Нелидов окажется более разговорчив.
Автомобиль, оставив позади улицу Мира с ее роскошными модными магазинами, покатил обратно к Сене.
Глава 23 Ищите деньги
Петр Нелидов жил в маленькой квартирке, расположенной под самой крышей. Словоохотливая консьержка рассказала Амалии, что молодой человек держится очень скромно, прислуги не имеет, никого к себе не водит и лишь изредка получает письма из России. Впрочем, пару раз консьержка видела, как Нелидова подвозила в экипаже какая-то дама, но это было довольно давно.
– Месье сказал, – добавила консьержка, – что она его родственница.
Поблагодарив женщину, баронесса отправилась на верхний этаж. Лестница оказалась типичной для Парижа – узкой и крутой. И довольно чистой.
На площадке третьего этажа Амалия остановилась. Травмированное давным-давно левое колено решило, что пора напомнить о себе, и заныло. За одной из закрытых дверей кто-то играл на пианино.
«Вот так и подкрадывается старость, – с грустью подумала баронесса. – В молодости ты бежишь вверх, не замечая ступенек, а потом даже небольшой подъем становится тебе не под силу. Скоро я стану совсем развалиной…»
Тряхнув головой, чтобы прогнать мрачные мысли, Амалия двинулась дальше и, не останавливаясь, добралась до пятого этажа, где на каждой двери висела табличка с указанием имени жильца и его профессии. А вот и надпись «Мсье Пьер Нелидов»…
Баронесса снова остановилась, чтобы перевести дух, и решительно постучала. Тотчас же внутри раздались быстрые шаги, и створка распахнулась. На пороге стоял молодой человек со свежим лицом, птичьим носом и довольно близко посаженными глазами. На губах его играла радостная улыбка – которая, впрочем, сразу же померкла, едва он разглядел гостью, стоявшую в полумраке коридора.
«Кажется, юноша ждал вовсе не меня», – с иронией помыслила моя героиня.
– Вы Петр Нелидов? Я баронесса Корф. Мне хотелось бы побеседовать с вами, если вы не против.
– Я… нет, что вы, сударыня… конечно… – забормотал Нелидов. И, вконец смешавшись, пригласил неожиданную посетительницу войти.
Комната как комната, мебель без всяких изысков. Много книг, вообще много вещей, которые громоздились и топорщились во все стороны, отвоевывая пространство у хозяина этой маленькой квартирки. Всюду бумаги, газеты, какие-то тетради. И – смотрите-ка! – карточка Марии Тумановой в дорогой изящной рамке, на самом видном месте стола.
Поймав взгляд Амалии, Нелидов покраснел, карточку отодвинул, скрыв ее за какими-то увесистыми томами. Проделывая эту манипуляцию, он задел стопку газет, лежавшую на краю столешницы, и те посыпались на пол. Молодой человек кинулся подбирать их и едва не опрокинул стул. Наконец юноша распрямился, держа газеты в руках, и, спохватившись, предложил гостье сесть. Однако мебель в комнате не внушала ей особого доверия, и она осталась стоять на ногах.
– Так о чем вы хотели бы поговорить со мной? – проговорил Петр, изо всех сил пытаясь принять независимый вид.
– Об убийстве графа Ковалевского.
– О! – вырвалось у Нелидова. – Но я не знаю… право, не знаю, чем могу вам помочь… Я слишком плохо знал графа… можно сказать, не знал его вообще. Я собираюсь поступить в университет… в прошлом году у меня ничего не вышло, но в нынешнем очень надеюсь… и мои занятия… Граф и я принадлежали к разным кругам, – добавил хозяин квартиры, ободренный молчанием Амалии, – поэтому мне трудно…
– Но вы ведь обсуждали его с мадам Тумановой, верно? И не раз?
Нелидов положил газеты обратно на стол и с явным смущением уставился на баронессу.
– Ну, если вам так угодно… Да, Мария Антоновна иногда говорила о нем. Не то чтобы часто… поскольку он мало что для нее значил…
– Это правда, что граф однажды пытался вас избить? – спросила Амалия, которой успели наскучить увертки собеседника. И напомнила: – В примерочной у Дусе.
Молодой человек побагровел.
– Что ж, если вам угодно говорить об этом… Господин граф повел себя тогда просто низко, да, низко! Накричал на меня, поднял руку на женщину, которая… которая ради него пожертвовала всем… семьей, добрым именем, своими детьми…
«Интересно, это все Мария Антоновна ему внушила? – с усмешкой подумала баронесса. – Но о каких жертвах может идти речь, когда всем отлично известно, что граф был далеко не первым ее любовником?»
– Вы рады, что он умер?
– Я… А почему вы спрашиваете? – с подозрением осведомился Нелидов.
– Правда, что мадам Туманова собирается замуж за Урусова? – наугад пустила стрелу Амалия.
– За Георгия Ивановича? – ужаснулся молодой человек. – Но… но адвокат женат!
– Так кто был причиной выходки графа – вы или Урусов? Павел Сергеевич ревновал? К кому?
– Ко всем! – выпалил Нелидов, выведенный из себя. – Он ни минуты не желал оставить ее в покое!
Баронесса Корф подошла к нему вплотную и остановилась, глядя прямо в глаза.
– Граф Ковалевский застраховал свою жизнь. Вам известно, в чью пользу?
– Застраховал? – искренне изумился молодой человек. – Простите, сударыня, но мне об этом ничего не известно!
– А Марии Антоновне?
– Она никогда не говорила мне ни о чем подобном.
Юноша явно не лгал, почувствовала Амалия. О страховке, если таковая существовала в действительности, а не являлась выдумкой Елизаветы Корнелли, Нелидов не имел ни малейшего понятия.
Тогда кто, кто может знать о ней? Конечно, можно навести справки в страховых компаниях, но это потребует массу усилий, ведь в отличие от Папийона баронесса не являлась официальным лицом.
– Благодарю вас, сударь, – сказала Амалия. – Вы…
И тут ее взгляд, блуждая по комнате, наткнулся на стоявшую на шкафу статуэтку, полускрытую стопками книг. Снизу была видна часть фарфоровой арфы и голова одной из фигур в парике по моде XVIII века. Что статуэтка делает на шкафу? Ведь такие вещицы обычно ставят на самое видное место…
Нелидов, проследив за направлением взора гостьи, покосился на шкаф – и увидел, на что та смотрит. На лице его отразился ужас.
– Мне, пожалуй, пора идти, – сказала баронесса, быстро отступая к двери.
– Куда же вы? – хрипло спросил Нелидов.
Не отвечая, Амалия кинулась к выходу, но Петр Нелидов вдруг бросился на нее – и стал душить.
– На помощь! – закричала баронесса, отчаянно отбиваясь. «Это он… он убил графа… А фигурку забыл… забыл выбросить…» – мелькали в ее мозгу отрывочные мысли.
– Кричите громче, здесь стены толстые… – с ухмылкой посоветовал Нелидов, стискивая пальцы.
И тут же вскрикнул. Получив удар по глазам острыми ногтями, отшатнулся. На мгновение освободившись, Амалия вновь побежала к двери, однако ее противник оказался проворнее. В передней он снова настиг баронессу, вцепился ей в волосы, женщина ударила его первым, что попалось ей под руку, но удар получился недостаточно сильным… Нелидов повалил ее на пол и снова стал душить…
А в это время внизу, возле подъезда, консьержка с любопытством спросила у Михаила, скучавшего внизу возле дома:
– Вы, значит, шофер?
– Нет. Дело в том, что я…
Наверху Амалия вывернулась, укусила противника за руку, но мерзавец опять схватил ее за горло и ударил затылком о пол, чтобы она перестала сопротивляться. Пальцы, показавшиеся железными, сдавили шею, баронесса захрипела. Попыталась вытащить из волос шпильку, чтобы ударить ею убийцу, но в глазах уже начало темнеть…
Неожиданно где-то поблизости раздался грохот, и дверь слетела с петель. Хватка ослабела, потом до Амалии донеслись чьи-то звериные крики… Наконец кто-то, осторожно взяв за локоть, помог ей подняться…
– Госпожа баронесса!
Не отвечая, она прислонилась к стене и, глотая воздух, принялась растирать рукой шею. Возле нее стоял комиссар Папийон – и за одно его присутствие здесь Амалия сразу и навсегда простила ему все, в чем до того дня могла упрекнуть.
– Он чуть не убил вас… Мелло, ступай за врачом! Да поживее, черт возьми!
Нелидов, обмякший между двумя полицейскими, которые крепко держали его, тонко взвизгнул и в беспамятстве повалился на пол.
Подняв голову, баронесса увидела в дверях ошеломленное лицо сына. Михаил поднялся наверх уже после того, как явился Папийон и его сопровождающие, которым тоже был нужен жилец с последнего этажа.
– Мама… Что здесь происходит?
Ах, Миша, Миша! Быстрее надо соображать, в самом деле… Вот как комиссар, который с лестницы услышал хрипы и подозрительную возню в квартире – и приказал без всяких проволочек вышибить дверь…
– Господин комиссар, вы явились как нельзя более вовремя! – воскликнула Амалия в порыве признательности.
На губах Папийона расцвела улыбка. Он молча наклонил голову.
– Почему Нелидов хотел убить вас?
– У него на шкафу фарфоровая статуэтка, и я ее увидела, – пояснила баронесса. – Бьюсь об заклад, именно та, которую он для отвода глаз прихватил из особняка графа Ковалевского… Все уже, очевидно, выбросил, а про нее забыл.
– Ну что ж, – усмехнулся полицейский, – это упростит дело. Скажите, сударыня, вы давно его подозревали?
На лице Амалии появилась слабая улыбка.
– Я была глупа, комиссар… Ломала себе голову, ища мотив, и все, которые появлялись, отбрасывала. Конечно, больше всего я думала о денежном мотиве, но кругом твердили, что граф оставил немного, да и его брат никак не подходил на роль убийцы… Словом, я блуждала в потемках. А когда Елизавета Корнелли сказала мне о страховке…
– О страховке?
– Да. По ее словам, граф застраховал свою жизнь в чью-то пользу, но она не знает, в чью именно. Ей даже не известно, насколько значительна сумма.
– Миллион франков, – нахмурившись, сообщил Папийон.
Амалия застыла в изумлении. (Поясним в скобках: тогдашний миллион был, в сущности, то же, что сегодняшний миллиард.)
– Значит, вы узнали…
– Узнал. Но я тоже оказался глупцом, сударыня. Нутром чуял, что с этим делом что-то не так, однако никак не мог понять, что именно. В одном был уверен: это не ограбление, иначе либо дверь открыли бы отмычкой, либо разбили бы окно… в крайнем случае. У маркиза де Монкура, как оказалось, было алиби, поэтому, каюсь, я до последнего подозревал вашего сына. И только когда мой инспектор прислал срочную телеграмму из Швейцарии…
– Из Швейцарии?
– Да, я послал его допросить Ковалевского-младшего. И тот вспомнил, что его брат застраховал свою жизнь. Месье Анатоль, кстати, не был уверен, что страховка большая, поэтому особого значения этому факту не придавал. Получив телеграмму, я сразу же сел на телефон и стал звонить в страховые компании. В четвертой или пятой служащий подтвердил, что я прав. Да, граф застраховался у них, и на крупную сумму… Причем документ о страховке только что предъявили к оплате.
– Мария Туманова?
– Не совсем так. Адвокат Урусов… Не от ее имени.
Так вот почему женщина казалась сегодня столь оживленной, догадалась Амалия. Еще бы – ведь она находилась буквально в шаге от таких денег!
– Сговор с целью убийства?
– Скорее всего, да. Помните убийство Викторины Менар? Когда я сказал вам, что частичный след убийцы ничего нам не дает, я был не вполне искренен. Дело в том, что даже по такому отпечатку можно сделать далеко идущие выводы. Мы узнали, к примеру, ширину подошвы и поняли, что нога у убийцы небольшая. Это сразу же наводило на мысль о невысоком мужчине… таком, как адвокат Урусов, к примеру. Узнав о страховке, я сложил два и два. Все очень просто, сударыня: Нелидов убил Ковалевского из-за денег, а побудила его к преступлению, конечно, Мария Туманова. Но когда выяснилось, что имеется свидетель убийства, пришлось устранить и его тоже. Нелидову не удалось бы подобраться к ней незаметно, и пришлось потрудиться Урусову. Заодно адвокат убил Андреа, не имевшего к делу никакого отношения, но не вовремя подвернувшегося ему под руку. Ну, тут уж ничего не поделаешь…
– Знаете, – медленно проговорила баронесса Корф, – мне кажется, что Нелидов понятия не имел о страховке. Он искренне удивился, когда я упомянула о ней.
– Понятно, – кивнул Папийон. – Значит, его элементарно уговорили освободить прекрасную даму от дракона… прошу прощения, мадам Туманову от месье Ковалевского. То, что граф и Мария уже расстались, в расчет не шло – ему, конечно, объявили, что бывший любовник преследует ее, жить ей не дает и так далее. – Комиссар вздохнул. – Отвратительная история, по правде говоря. Ну что за особа – натравила одного любовника на другого, чтобы поживиться после его смерти и счастливо жить с третьим… Я, наверное, старомодный человек, но у меня такие вещи плохо укладываются в голове.
– Вы уже арестовали их? – спросила Амалия.
– Да. Урусова, а также его слугу, который может дать ценные показания. И, конечно, мадам Туманову вместе с горничной. Все они жили на другом берегу. Под конец я поехал арестовывать Нелидова, но вы меня опередили.
– Полагаю все же, что как полицейский вы вполне довольны, – усмехнулась Амалия, растирая шею. – Ведь вы взяли его, что называется, с поличным – он же и меня пытался убить. Что ж, вот и конец запутанной истории.
– Ах, сударыня, сударыня, – покачал головой Папийон. – В романах-то все обыкновенно кончается арестом преступника, а в жизни… В жизни наша работа теперь только начинается. Приготовьтесь к тому, что этот молодчик, который хладнокровно душил вас и свалился в обморок от ужаса, едва его взяли, будет начисто все отрицать и уверять, что вам все привиделось. Поэтому, надеюсь, вы не будете возражать, если доктор осмотрит вас и зафиксирует на бумаге все повреждения, которые вы получили.
– Никаких возражений, комиссар, – кивнула баронесса, поправляя прическу. – Потому что я, как и вы, тоже старомодный человек. А преступники должны получить по заслугам. Не правда ли?
Глава 24 Слабое звено
– Как ты мог! – кричал Александр. – В двух шагах от тебя убивали маму, а ты болтал с консьержкой!
Саша хотел добавить что-то еще более резкое, но покосился на присутствующих женщин – маму и бабушку – и вовремя остановился. Михаил стоял в дверях, и лицо у него было сконфуженное. Барон Корф отлично понимал, что младший брат прав, и не искал для себя оправданий.
– Хватит, – вмешалась Амалия, задетая тем, что ее оплошность, ведь она сама велела Михаилу ждать ее внизу, близкие ей люди использовали как предлог для ссоры. – Совершенно ни к чему говорить об этом теперь. Ничего же страшного не произошло!
– А если бы произошло? – снова начал заводиться Александр. – Если бы тот ненормальный убил тебя? Если бы комиссар опоздал хоть на пять минут?
Тут баронесса всерьез рассердилась и попросила Аделаиду Станиславовну увести Мишу, чтобы прекратить разговор на неприятную тему. Потом прикрикнула зачем-то на Казимирчика, который стоял у стены и вообще не проронил ни слова, и велела горничной нести кофе.
– От всех этих треволнений, – пожаловалась она, – у меня ужас разболелась голова!
Но, по правде говоря, у нее не болело ничего, кроме шеи. Амалия посмотрела на себя в зеркало и поморщилась – пожалуй, надо будет купить бархотку, чтобы скрыть синяки.
– Мама, это было безрассудно, – снова подал голос Александр.
– Что?
– Идти к нему одной.
Баронесса не нашлась что ответить. Она была несказанно рада, что все кончилось и что ее старшего сына больше никто не посмеет подозревать, поэтому для других переживаний у нее уже не осталось сил. Горничная принесла кофе и бесшумно удалилась. Над чашкой с напитком курился легкий дымок. Амалия сидела, полузакрыв глаза. Она почти забыла о присутствии сына, когда тот опять заговорил:
– Скажи, мама, ты ведь с самого начала на них думала?
– Нет, конечно, – через силу ответила баронесса. – В одном я была уверена: Миша тут ни при чем.
– Потому что у него не хватило бы духу?
Амалия сердито посмотрела на сына.
– Перестань говорить о старшем брате в таком тоне! Ясно?
Но по упрямому лицу Александра она поняла, что любые слова бесполезны. В сущности, Саша всегда недолюбливал Михаила, который платил ему той же монетой.
«Если бы я умерла, все тут первым бы делом переругались», – мелькнуло в голове баронессы. И эта мысль была настолько ей неприятна, что она встала, забыв о кофе, и ушла в детскую к Ксении, которая всегда была для матери как солнечный лучик и не доставляла никаких хлопот.
Пока Амалия разбиралась со своими домочадцами, комиссар Папийон решал свои собственные задачи, главной из коих было добиться признания хотя бы от одного из обвиняемых. Их, согласно его указанию, развели по разным помещениям, и к каждому приставили охрану. Общее наблюдение за арестованными, пока он ездил брать Нелидова, осуществлял Бюсси, и по возвращении комиссар первым делом вызвал инспектора к себе.
– Ну, что?
Бюсси отлично знал, что с таким человеком, как его начальник, можно говорить откровенно, поэтому не стал колебаться с ответом.
– Плохо, комиссар.
– Насколько? – прищурился Папийон.
– Просто плохо, – усмехнулся молодой человек. – Пресса как с цепи сорвалась, наверняка им кто-то уже сболтнул, что вы раскрыли дело. Я посадил Сегена на телефон, но его буквально рвут на части. Звонки каждую минуту… Префект тоже звонил…
– С ним я поговорю сам. Но позже.
– Я так ему и сказал, патрон. Но это все мелочи, главная проблема – обвиняемые. Урусов юрист, так что сами понимаете, как тяжело будет вытянуть из него показания. Слуга адвоката, который до того говорил по-французски почти без акцента, с момента ареста начисто забыл язык и молчит, словно воды в рот набрал. Мадам Туманова устроила целое представление – закатывала истерики, падала в обморок, требовала врача… Я, конечно, пустил к ней нашего доктора, да только дамочка наотрез отказалась пить успокоительное. Еще она требовала встречи с Урусовым.
– А что служанка Тумановой? Как ее – Элен…
– Элен Ласер. Сидит, трясется и смотрит на всех безумными глазами. Я попытался наладить с ней контакт, а девушка начала рыдать. Мне кажется, она и слуга Урусова в курсе дел своих хозяев, но как заставить их говорить – вот в чем вопрос… У Нелидова вы что-нибудь нашли?
– Конечно! – усмехнулся Папийон. – Фарфоровую фигурку, изображающую урок музыки, с царапиной на основании. Да еще при более тщательном осмотре комнаты обнаружили в столе ключ от черного хода и кольцо – по описанию, одно из тех, которые исчезли из особняка графа. Вызови его слугу, чтобы тот официально опознал украденные предметы. Хотя я не сомневаюсь, что это именно они.
– Слушаюсь, патрон.
– А я пока попытаюсь разговорить задержанных. Кто из наших лучше всего стенографирует?
– Мелло. Прислать его к вам?
– Да, пожалуй.
Единственным делом, которое Папийон категорически терпеть не мог в сыскной работе, была возня с бумагами – заполнение протоколов, отчетов и тому подобных документов.
– Думаете, вам удастся их расколоть? И как же вы собираетесь это сделать?
– Как, как… Да как всегда. Надо найти слабое звено и бить по нему, пока вся цепочка не рассыплется… – проворчал Папийон. И улыбнулся, видя заинтригованное лицо молодого инспектора. – Считайте, я вам подарил мой фирменный секрет. Досадно, что обыск у Урусова ничего не дал. Если бы мы нашли клинок, которым зарезали Викторину и Андреа, было бы гораздо проще.
– Скорее всего, убийца избавился от клинка. И от окровавленной обуви тоже.
– Ботинки, положим, можно сжечь, но с клинком дело обстоит сложнее… тем более что баронесса Корф предполагает, что это был клинок, спрятанный в трости. Вот что: пошли-ка наших людей на поиски. Пусть поминутно установят, где Урусов был и что делал после убийства сутенера и его «бабочки». Если он бросил трость в воду, ее можно найти и поднять. Если зарыл в землю, если спрятал… Все равно надо ее отыскать, понимаешь?
– Вы думаете, это реально? – с сомнением в голосе спросил молодой инспектор.
– Конечно. Мы имеем дело с дилетантами, которые не умеют грамотно заметать следы. Взять хотя бы Нелидова – ведь и младенец бы догадался, что ничего, кроме денег, из особняка брать нельзя. А он похватал что ни попадя.
– Тогда я задействую всех наших людей из квартала Урусова, – проговорил молодой человек. – Может быть, действительно удастся найти трость с клинком, как вы говорите.
Бюсси удалился быстрым шагом, а комиссар отправился проведать адвоката. Не потому, что надеялся – тот окажется тем самым слабым звеном, просто считал его одним из главных зачинщиков совершенного преступления. Вернее, цепи преступлений, если вспомнить убийство Викторины Менар и корсиканца Андреа.
При виде Папийона Урусов вскочил с места. Его холеная борода стояла дыбом.
– Господин комиссар! Я протестую! Я подданный Российской империи… Вы не имеете права меня задерживать!
– Имею, еще как имею, – усмехнулся полицейский. – Ведь речь идет об убийстве, совершенном на территории Французской республики. Сядьте, месье, и потолкуем.
– Мне не о чем с вами толковать, – возразил уязвленный Урусов. – Вы не услышите от меня ни слова!
– Консьерж сообщил нам, что часто видел вас с тростью. В вашей квартире ее не нашли. Может быть, вы скажете, где она?
– Я ничего вам не скажу!
– И алиби на момент убийства Викторины Менар у вас тоже нет, – мягко продолжал Папийон. – А Андреа Беллагамба помните? Корсиканца, которого вы зарезали? Он еще не приходил к вам… во сне?
Урусов побледнел.
– Вы не добьетесь от меня ничего, – каким-то тонким, чужим голосом проговорил адвокат. – И должен вам заметить, месье, что я считаю ваши методы омерзительными!
– Должен заметить вам, месье, – парировал Папийон, – что я нахожу омерзительными убийства. И убийства с целью наживы – в том числе.
Но сломить Урусова оказалось не так-то просто.
– Вы еще пожалеете, что тронули нас, комиссар! То, что граф Ковалевский застраховал свою жизнь в пользу Марии Тумановой, еще ничего не значит! У вас нет никаких доказательств!
– Все доказательства, какие мне нужны, уже нашли у месье Нелидова, – усмехнулся комиссар и шагнул к двери.
– Ну и что? – воинственно выкрикнул Урусов ему вслед. – Что это доказывает? Ничего! Вы сломаете себе шею на этом деле, комиссар! Выйдя отсюда, я сделаю все, чтобы вас отправили в отставку! Вы еще пожалеете, горько пожалеете, что схватили ни в чем не повинных людей!
После Урусова Папийон отправился проведать Марию Туманову. И перед ним предстала измученная царственная особа – допустим, Мария Стюарт после пяти лет заточения в гостях у своей кузины королевы Елизаветы.
– Господин комиссар, – тихим безжизненным голосом проговорила дамочка, комкая кружевной платочек, – могу ли я узнать, в чем меня обвиняют?
– Боюсь, что в убийстве, мадам, – отвечал Папийон.
– В убийстве? – Женщина широко распахнула глаза. – Но ведь это просто смешно!
«Сейчас она зальется слезами», – помыслил «жестокосердный» комиссар, которому за время службы довелось повидать немало актрис разной степени таланта. И в самом деле, Мария Туманова заплакала – беззвучно и очень, надо признать, трогательно, вздрагивая плечиками.
Но едва за Папийоном затворилась дверь, ее плечики перестали вздрагивать, а рука – комкать платок.
Прежде чем отправиться к Нелидову, полицейский взял копию страхового договора, по которому в случае смерти графа Павла Ковалевского Мария Туманова должна была стать богаче на миллион франков золотом.
Нелидов сидел, весь съежившись и обхватив себя руками. На комиссара он взглянул с явной враждебностью.
– Надеюсь, вам уже лучше? – спросил Папийон.
– Да, благодарю вас, – выдавил из себя молодой человек.
– Вам известно, за что вас арестовали?
– Вы уже говорили по дороге сюда, в это ваше омерзительное управление… За убийство графа Ковалевского.
– Вы признаете себя виновным?
– С какой стати? – колюче возразил Нелидов.
– В вашей квартире были найдены вещи, украденные из дома убитого графа: статуэтка севрского фарфора и кольцо, а также ключ, с помощью которого вы проникли в дом. Вам не кажется, что отпираться дальше бесполезно?
Нелидов распрямился и сидел так некоторое время, очень бледный. Наконец довольно напряженно произнес:
– Мне их подбросили.
– Когда баронесса Корф увидела статуэтку, вы попытались ее убить. Нападение на даму вы признаете?
– Я ничего не помню, – промямлил Нелидов, закрывая руками лицо. – Я… у меня случаются провалы в памяти…
«Та-ак, – скучающе помыслил комиссар. – Значит, решил косить под сумасшедшего. Знакомая песня…»
Однако Папийон не стал ничего говорить, а только положил перед Нелидовым копию договора.
– Что это? – спросил тот безучастно.
– Копия договора, доставленная из страхового дома «Бертен, Арнольди и компания». Не хотите взглянуть?
– Для чего она мне?
– Вероятно, вы были не в курсе, что убитый вами граф Ковалевский за несколько месяцев до смерти застраховал свою жизнь на миллион франков. Между прочим, в пользу госпожи Тумановой, вашей… э… родственницы.
Комиссар внимательно следил за лицом молодого человека и сразу убедился, что Амалия Корф права. Нелидов ничего не знал о страховке!
– Не понимаю… – пробормотал убийца. – Вы говорите, миллион? Но…
Нелидов умолк, совершенно растерянный.
Папийон поднялся с места.
– Полагаю, вы захотите изучить документ внимательно. Что ж, предоставляю вам такую возможность.
«Жалкий использованный дурачок, – подумал комиссар, выходя за дверь. – Нет, он мне не подходит… Такой будет упорствовать до конца, защищая даму сердца, а когда наконец одумается и захочет говорить, вряд ли сумеет сообщить что-то для меня новое. Нет, мне нужен другой человек».
Затем он заглянул к слуге Урусова, который сидел, поджав губы, и всем своим видом показывал, что ни слова не сказал и не скажет. В последней комнатке для допросов находилась горничная Тумановой, и едва увидев ее лицо, полицейский понял: это то, что надо.
– Добрый день, мадемуазель. Я комиссар Папийон, со мной инспектор Мелло. Он будет записывать нашу беседу для протокола.
Комиссар сел напротив горничной и принял официальный вид.
– Вы Элен Ласер, родились в Бельгии… Где именно?
– В городе Льеж.
– В каком году?
– В 1880-м.
– Род занятий?
– Я… я работаю горничной у госпожи Тумановой.
– Замужем?
– Нет, – еле слышно ответила Элен.
– Вам известно, почему вас задержали и доставили сюда?
– Я… я догадываюсь. Это как-то связано с убийством графа Ковалевского.
– Совершенно верно.
Папийон пристально посмотрел на собеседницу. Мелло, прилежно стенографировавший в своем углу, затаил дыхание.
– Скажите, именно вы украли у графа ключ от двери черного хода?
На лице Элен появилось затравленное выражение.
– О, боже мой… Боже мой! Я не хотела, месье… Но я всего лишь горничная… Кто станет меня спрашивать, чего я хочу?
– Вы понимаете, что вам может грозить? – продолжал неумолимый Папийон. – Отдаете себе отчет в том, что выступили пособницей убийства?
Элен зарыдала.
– И если вы не хотите для себя самой тяжкой участи, вам лучше во всем добровольно сознаться, – спокойно закончил комиссар. – Такое признание будет учтено присяжными и смягчит вашу вину.
– Я ни в чем не виновата, месье! – простонала его собеседница. – Это все они!
– Кто?
– Моя хозяйка, ее кузен Нелидов и этот… месье Урусов… Это они все спланировали.
– Убийство графа Ковалевского?
– Да.
– Расскажите подробнее то, что вам известно, начиная с самого начала.
Элен всхлипнула. Потом заплакала навзрыд, отчего сделалась еще более некрасивой, чем была. И наконец заговорила сквозь слезы:
– Эта история началась несколько лет назад, месье комиссар, когда моя госпожа познакомилась с графом.
– Вы уже тогда служили у нее, верно?
– Да.
– Как вы к ней попали?
– Моя мать умерла, а отец снова женился, мачеха настояла, чтобы сдали меня в приют. Оттуда я через несколько месяцев бежала. Одна женщина помогла мне, и я стала работать у нее служанкой. Правда, она почти не платила мне, а когда выпивала, еще и поколачивала… Когда я получила паспорт, то сразу же от нее ушла и перебралась во Францию. Мне говорили, что в Париже можно найти работу. Но без рекомендаций нелегко устроиться прислугой… Я была счастлива, когда наконец получила место у мадам Тумановой. Правда, предыдущая горничная предупреждала меня, что с хозяйкой придется нелегко, только я никогда… никогда не думала, что дело дойдет до такого. О, боже мой…
Девушка снова расплакалась, потом принялась долго и обстоятельно сморкаться. Папийон размышлял. Ясно, почему Туманова взяла Элен себе в услужение – некрасивая, без родных и друзей, полностью зависит от нее…
– Мадам знала французский, но предпочитала говорить по-русски, и в конце концов я выучилась понимать этот язык. Платила она не всегда аккуратно, правда, иногда дарила свои вещи, старые платья, шали… Мы жили в основном в Париже, а также приходилось ездить в Россию. Мы несколько раз ездили. Конечно, мне трудно было привыкнуть к ее… к ее мужчинам. Рядом с ней постоянно кто-то был… Только они не задерживались, не знаю почему. Потом в ее жизни появился граф Ковалевский. Мадам решила: это то, что надо, – богат, знатен. Стало быть… нужно его заполучить. И она повела дело так ловко, что в конце концов развела месье Поля с женой. А вот с ее собственным разводом дело обстояло не так безоблачно… Муж мадам требовал денег, больших денег.
– Вот как?
– Да. Когда появлялся у нее, всегда начинал с того, что говорил, как ее любит и как она ему дорога, а потом всегда переводил разговор на деньги… И ведь мадам что-то ему заплатила, но мужчина приходил снова и требовал еще больше. К тому же граф Ковалевский имел несчастье познакомить хозяйку с Урусовым. Я присутствовала при этом и видела, как госпожа на него посмотрела… на Урусова, я хочу сказать. И адвокат почувствовал, что нравится ей, хотя вначале притворялся, что она ему неприятна…
– Что было дальше?
– Дальше? Ну… мадам выведала у Урусова состояние дел графа и поняла, что тот не так богат, как ей думалось… Госпожа была очень разочарована. Она ведь никогда не любила месье Поля и передо мной не считала нужным скрывать это.
– А Урусова любила?
– О, тут совсем другое дело… Адвокат как-то сумел подобрать ключик к ее сердцу. С ним мадам становилась совсем другой. Они дурачились, как дети, Урусов заставлял ее смеяться, говорил, что обожает ее, что ни одна женщина на свете не стоит ее мизинца… Однако беда в том, что у него тоже не было особых денег, и к тому же мужчина не был свободен. В конце концов Урусов расстался с женой и перебрался в Париж, но… Мало того что адвокат больше не мог вести дела, то есть потерял свой источник дохода, так еще и граф стал что-то подозревать. Он ведь умный человек, граф Ковалевский… Был умный, я хочу сказать. Тогда моя госпожа придумала, как ей казалось, ловкий ход: вскружила голову одному своему родственнику, чтобы тот отвлек внимание графа от Урусова. А юноша пылко в нее влюбился…
– Вы говорите о Нелидове, верно?
– Да. Он твердил, что готов ради нее на что угодно, стоит ей только приказать. До поры до времени мадам только смеялась, не принимая его слова всерьез… Ведь у нее был Урусов, которого она любила. Ей казалось, что им для свободной жизни не хватает только денег. Конечно, граф Ковалевский был очень щедр и оплачивал ее счета, но когда не любишь человека, все, что исходит от него, не доставляет радости… Госпожа хотела быть независимой и хотела жить с Урусовым, все остальное ее не интересовало. Раз она не могла выйти за графа замуж, хозяйка стала думать, как бы побудить его составить завещание в ее пользу. В конце концов, его брат болен чахоткой, а ведь не зря же говорят, что болезнь эта заразная, вдруг граф умрет, и тогда она получит все. Мадам поделилась своим планом с Урусовым, но адвокат сказал, что игра не стоит свеч. Во-первых, у графа не такое уж значительное состояние, во-вторых, любое завещание можно опротестовать, тем более что она не жена, а у графа есть родственники. Тогда моя госпожа отказалась от мысли о завещании. Но желание избавиться от Ковалевского и сделать деньги на его смерти осталось.
– И тогда Мария Туманова подумала о страховке, верно?
– Как-то Урусов рассказал ей, как вдова одного его приятеля получила большую страховку за мужа. Тот плохо себя чувствовал, российские врачи считали, что это пустяки, но какой-то врач во Франции поставил диагноз: саркома, который оказался точным. Мужчина никому в России не сказал о диагнозе, кроме жены. Но супруги были небогаты, к тому же имели троих детей… И больной застраховал свою жизнь. Через год он умер, а вдова получила огромные деньги. Моя госпожа, выслушав эту историю, сказала что-то вроде того: бывают же на свете благородные мужчины. А еще, мол, хорошо бы на месте того больного оказался граф Ковалевский… Ведь если завещание можно оспорить, то страховка – совсем другое дело, ее заключают в пользу кого угодно. Потом мадам несколько раз возвращалась к теме страховки, выспрашивала у Урусова разные нюансы… Как бы в шутку, понимаете? Но Урусов, который хорошо знал графа, откровенно сказал моей госпоже, что Ковалевский ни за что не станет страховать свою жизнь, потому что не переносит разговоров о своей смерти.
– И как же госпожа Туманова сумела добиться своего?
– О, очень просто, сударь! Хозяйка притворилась, будто серьезно заболела, больше недели пролежала в постели. А когда «выздоровела», заявила, что хочет застраховать свою жизнь в пользу графа. Мол, она так его любит… пусть, если она умрет, месье Поль будет помнить о ней… И они поехали в страховой дом. Мадам застраховала свою жизнь, а господин Ковалевский, расчувствовавшись, согласился застраховать свою в ее пользу. И она так ловко все провернула, что именно граф оплатил оформление обеих страховок, моя госпожа ни гроша не потратила.
– Скажите, Элен, раз уж вы были настолько в курсе дел своей хозяйки… Она уже тогда замышляла убить графа?
– Да. То есть напрямую об убийстве не упоминала, но все и так было ясно. Когда она снова увиделась с Урусовым, мадам сказала, что граф через некоторое время должен умереть. Мол, у нее нет сил ждать, когда за него примется чахотка или когда с ним произойдет какой-нибудь несчастный случай. Кроме того, ее отношения с графом стали ухудшаться, а вскоре месье Поль убедился, что она обманывает его, и в конце концов оставил ее. Но адвокату удалось не утратить доверие графа, он по-прежнему был в курсе всех дел Ковалевского, знал его домашний распорядок и прочее. Моя госпожа и Урусов обсуждали, как лучше все осуществить, чтобы на них не пала даже тень подозрения. Решили, что обеспечат себе алиби, а исполнителем будет Нелидов. Юноше они наговорили всяких ужасов о графе, и тот буквально рвался отомстить за мадам. Проще было обставить все так, будто графа хотели ограбить. Но заговорщики не знали, как пробраться в дом, им нужен был ключ. В конце концов моя госпожа вымолила у Ковалевского последнее свидание, попросила, чтобы граф вернул ей письма. Когда месье Поль пришел, она отвлекла его… то есть я хочу сказать – увлекла в спальню, а я по ее приказу выкрала у него ключ от черного хода.
– Тот висел на связке, на которой было несколько ключей, – кивнул комиссар. – Как вы поняли, что нашли нужный вам ключ?
– Я однажды видела похожий ключ у Соланж… Соланж Грюйер. Поверьте, месье, я надеялась, что они откажутся от своего плана… Но моя госпожа все время говорила о миллионе, как будто деньги уже были у нее в кармане. Мадам увлекла и Урусова, который поначалу не очень верил в затею – говорил, что забраться просто так в дом не удастся, там много слуг… выдвигал еще какие-то возражения… И тут граф решил продать особняк и перебраться на квартиру. Уволил всю прислугу, а камердинер, который остался, должен был сопровождать его брата в санаторий. Такой случай нельзя упускать, заволновались мадам и Урусов. Тем более что за день до того, в понедельник, Ковалевский сказал адвокату, что вспомнил про дурацкую страховку и собирался ее аннулировать…
– Дальше, прошу вас, – негромко промолвил Папийон, когда Элен замолчала.
– Дальше? Но мне не так уж много известно, месье… В ночь со вторника на среду хозяйка вернулась поздно – обеспечивала себе алиби, отправилась на какой-то смертельно скучный, по ее выражению, вечер… И она была сильно раздражена.
– Почему?
– Я так поняла, что, когда все разъезжались после вечера, к ней подошел Нелидов, которому хотелось поделиться, рассказать о том, что сделал… Мадам отчитала его, сказала, что тот ведет себя, как ребенок, что если их увидят, могут возникнуть подозрения… А потом пришло письмо.
– Что за письмо?
– У моей госпожи случилась истерика, когда она его прочитала. Это было письмо от какого-то шантажиста, довольно безграмотное… Там говорилось, что Нелидов убил графа и потом прямиком отправился к мадам. У нее наверняка есть деньги, и она должна заплатить, чтобы эти сведения не попали к…
Элен запнулась.
– К кому?
– К вам, месье. Там прямо так и было сказано: к комиссару Папийону.
– Что произошло дальше?
– Хозяйка вызвала Урусова, вызвала Нелидова… Стали совещаться, кто мог молодого человека видеть. И тут Нелидов вспомнил, что, когда покинул особняк, за ним некоторое время шла накрашенная девица… Он, мол, подумал, та просто ищет клиента… Мадам с адвокатом накинулись на него и стали осыпать ругательствами… я даже не подозревала, что моя госпожа знает такие слова… Но Урусов заявил, что все можно устроить.
– Это он убил ту девицу?
– Ох, месье… В самом деле? Простите, не знала… Последнее время мадам стала отсылать меня, когда к ней являлись гости. А я… я не осмеливалась ослушаться, потому что очень боялась ее, месье…
– Когда Урусов приходил к Тумановой в последний раз, в его облике не было ничего необычного?
– При нем не было трости, которую адвокат обычно носил с собой… Это не простая трость, а с клинком. Помню, он говорил, что если вдруг на него нападут, то сумеет защититься. И еще… – Элен немного поколебалась. – Мне показалось, Урусов был рад и подавлен одновременно. Я услышала только одну фразу из его разговора с мадам – что теперь все будет в порядке, он уничтожил доказательство из горшка. Не знаю, при чем тут какой-то горшок, я, наверное, не так поняла…
«Что ж, зато мне теперь ясно все, – подумал Папийон. – Урусов был подавлен, потому что совершил два убийства, а рад – потому что нашел записку Викторины, в которой изобличались Туманова и Нелидов».
– Скажите, Элен… Вы ведь сообразительная девушка, так почему вы не обратились в полицию? Ведь знали же, что ваша хозяйка и ее любовник готовятся убить графа. А позже понимали, что для шантажиста дело добром тоже не кончится.
– Все так, месье, но посудите сами… Я всего лишь бедная горничная. К тому же бельгийка, и над моим произношением не смеется только ленивый. Кто бы мне поверил? Убийцы ведь не какие-нибудь апаши – месье Урусов довольно известный адвокат, а мадам дворянка, причем, как она говорит, королевских кровей.
Папийон вздохнул. Эта девушка с некрасивым лицом права. Кто бы ей поверил, явись она в полицию с несообразной историей: трое дворян хладнокровно собираются убить четвертого? Кто бы поверил ему самому, если бы в начале расследования он заявил, что намерен искать убийц среди великосветских знакомых графа, а вовсе не среди парижской шпаны?
Комиссар сказал Элен, что протокол отпечатают на машинке, а потом принесут ей на подпись, и поднялся. В коридоре к нему подошел взволнованный Бюсси.
– Патрон… Приехала кузина Викторины Менар. Незадолго до своей гибели та отправила ей письмо.
– Пошли! – отрывисто бросил комиссар.
В кабинете навстречу ему поднялась веснушчатая девушка с простым, даже глуповатым лицом. Папийон сразу же вспомнил, где раньше его видел: несомненно, эта девушка была запечатлена рядом с Викториной на фотографической карточке, той самой, которую Урусов выбросил из стола, роясь в вещах убитой.
– Вы комиссар Папийон? А я Франсуаза, кузина Викторины… Она написала мне такое странное письмо! Наказала принести его вам, если с ней что-нибудь случится… И вот… ее убили… а я тут… как она просила… – заплакала девушка. – Она была так добра ко мне… деньги присылала…
Пробежав глазами первые строки письма, комиссар сразу же повеселел. Дело складывалось гораздо удачнее, чем он предполагал. Вина Нелидова будет доказана однозначно, убийца графа Ковалевского, скорее всего, кончит свои дни на эшафоте. Урусов тоже понесет наказание. Но какое, это уж смотря как повернут дело прокурор и адвокаты: все-таки его жертвы не графья, всего лишь проститутка и сутенер. А Мария Туманова… Да, конечно, дамочка играла в этой истории самую омерзительную роль – подстрекала к убийству. Но формально на ее руках нет крови. «К сожалению, – сказал себе Папийон, – она отделается несколькими годами тюрьмы, не более».
Глава 25 Признание Нелидова
Министр внутренних дел блаженствовал. Или, выражаясь газетным языком, почивал на лаврах. Сейчас он походил на человека, на которого вылили из окна какую-то дрянь, и тот в отчаянии побежал в ближайший магазин, чтобы купить новую одежду, а она оказалась в сто раз лучше прежней: прохожие провожают его восхищенными взорами, и мир снова окрашивается в радужные тона.
Таким ушатом с дрянью, по мысли министра, явилось для него убийство графа Ковалевского. Погиб аристократ, да еще русский, представитель страны-союзницы – что может быть хуже? В глубине души министр возблагодарил французскую аристократию, что уж она-то по крайней мере умеет себя вести, а если и умирает, то вовсе не при таких драматических обстоятельствах, которые могут дать пищу для пересудов.
На всем протяжении расследования газетчики, обрадованные тем, что им наконец-то подвернулся хороший, лакомый, стоящий скандал, судили, рядили, зубоскалили, строили предположения одно хлеще другого, захлебывались желчью. И будь министр мишенью, на нем не осталось бы живого места – столько критических стрел было выпущено в его адрес. Репортеры дружно осуждали отсутствие безопасности на парижских улицах (хотя граф был убит в собственном доме), бездействие полиции (хотя все отлично знали, что Папийон не из тех полицейских, которые позволяют себе сидеть сложа руки), ругали правительство (как будто оно имело какое-то отношение к гибели Ковалевского), а в конце концов сошлись на том, что мир вообще, и Франция в частности, катится в тартарары.
Само собой, оживились и представители самых различных социальных групп и профессий, которые наперебой стремились высказать свое отношение к делу Ковалевского – без которого, прямо скажем, их персоны никого бы не заинтересовали. Покрытые пылью истории роялисты громогласно утверждали, что будь Франция королевством, а не республикой, с графом Ковалевским не случилось бы то, что с ним случилось – как будто государственный строй хоть кому-то когда-то мешал прикончить своего ближнего. Гадалки, предсказатели, экстрасенсы и просто шарлатаны всех мастей наперебой раздавали интервью, уверяя, что им удалось разгадать личность убийцы, но давали его описание в таких туманных выражениях, которые могли бы подойти любому прохожему.
Вообще заурядное, по сути дела, происшествие, которое присутствует в уголовной хронике с тех времен, когда некий Каин повздорил с неким Авелем, раздулось до масштабов современной легенды. Да что там легенды – в сознании обывателя оно обрело контуры мифа, которые только стали четче, когда стала известна истинная подоплека этой малоаппетитной истории. Подумать только, мадам подстрекнула одного любовника убить другого, чтобы получить колоссальную страховку и наслаждаться жизнью с третьим! И когда малоизвестный фотограф Орельен, у которого как-то снималась Мария Туманова, достал из архива негативы той съемки и отпечатал карточки на продажу, к его маленькому ателье вмиг потянулась толпа любопытных.
Возле витрины то и дело раздавались реплики:
– Однако! А дамочка-то недурна!
– Какая посадка головы, какие глаза! Дайте-ка мне эту карточку… Сколько она стоит?
– Дорогой, зачем тебе тратиться? Все равно ее фото есть в газетах…
– Ну да, только на тех фото ничего толком не различишь… Сколько с меня?
– А вы пойдете смотреть на процесс?
– Говорят, туда будет не так просто попасть…
– Так это она побудила своего родственника убить графа? А по виду и не скажешь… Месье! Дайте-ка мне тоже фотографию… как сувенир.
Еще один господин мрачно покусывал усы, косясь на карточку. Ему показалось, что изображенная на ней дама отдаленно смахивает на его любовницу, и в глубине души он возблагодарил бога, что не заключал никакой страховки в ее пользу. (Вскоре мужчина бросил нынешнюю любовницу и, к удивлению своей жены, вернулся в лоно семьи.)
Словом, прав был многоопытный префект полиции Валадье, когда в частном разговоре сказал министру:
– Публика взбудоражена. В этом преступлении присутствует некий оттенок… нечто, знаете ли, чрезвычайно циничное… Люди не могут толком объяснить, что именно, но оно их задело за живое.
– Пф, – пожал плечами министр, – если бы завтра Сара Бернар вышла замуж за Коклена[235], уверяю вас, все бы вмиг забыли о графе Ковалевском, об этой даме, его бывшей любовнице, и о его убийцах. Все дело в том, что прессе не о чем писать.
Однако, когда вскоре после разоблачения преступников у него попросил конфиденциальной аудиенции российский посол, министр убедился, что все обстоит не так безоблачно, как он думал.
Князь Д. выразил благодарность за оперативное раскрытие преступления, однако тон его был сух, как прилетающий из Сахары сирокко, и многоопытный министр, привыкший ловить намеки не то что с полуслова, а с полувзгляда, мысленно приготовился к худшему.
– Разумеется, комиссар Папийон заслуживает всяческих похвал, – продолжил князь. – Факт, что в убийстве российского подданного оказались замешаны его соотечественники, чрезвычайно прискорбен. Но газеты всей Европы только и делают, что пишут об этом, как они его назвали, «русском деле». – Посол неприязненно подчеркнул голосом последние слова.
Министр заверил князя, что никто, разумеется, не станет считать из-за злосчастного происшествия, будто все русские питают склонность к убийству, и он не думает, что произошедшее каким-то образом повлияет на имидж страны, которая является другом Франции и одной из ведущих европейских держав.
Плотно сжатые губы князя тронула улыбка.
– Хотел бы я разделять ваш оптимизм, милостивый государь… Но оборот, который приняло это дело… то, что его обсуждают в таком ключе…
Министр пристально посмотрел на собеседника. «Черт возьми! Да он, кажется, предпочел бы, чтобы Папийон обвинил какого-нибудь французского грабителя, которого в тот момент даже не было поблизости… Неужели мне придется объяснять, что за преступление должны отвечать только те, кто его совершил?»
– Словом, вся эта история крайне для нас неприятна, – добавил князь. – В Петербурге ею чрезвычайно недовольны.
Как истому французу, министру было совершенно безразлично, кто и чем недоволен в Петербурге, Токио или на Суматре. Однако он поторопился сделать понимающее лицо.
Увы, даже ресурсов понимания этого чрезвычайно изворотливого господина не хватило, когда посол – обиняками, разумеется, – попытался узнать у него, нельзя ли как-нибудь… в самом деле, вы же понимаете… дать делу задний ход. Тут уж выражение лица министра сделалось крайне озадаченным, а брови стремительно поползли вверх.
– Поскольку убийство произошло на территории Франции…
– Но обвиняемые являются подданными России!
– Это не имеет никакого значения, – твердо заявил министр. – Существуют определенные законы, которые необходимо исполнять.
Но князь был типичным русским, хоть и татарско-литовского происхождения, поэтому от законов он отмахнулся, как от надоедливой мухи.
– Я обсуждал дело с нашими юристами. По их мнению, процесс во Франции может принять крайне нежелательный характер.
– Что именно вы именуете нежелательным характером? – с любопытством спросил министр.
– Я хочу сказать, что к нашим подданным может быть применено чрезмерно суровое наказание… которого они, может быть, и заслуживают… но в данное время, уверяю вас, это будет воспринято… гм… без понимания. Российско-французские отношения…
Министр почувствовал, что ему хотят прочитать лекцию о том, что он и так прекрасно знает, а посему быстро проговорил:
– Но, полагаю, было бы также нежелательно, чтобы людей, которые спланировали и осуществили столь хладнокровное и жестокое убийство, просто отпустили. Не так ли?
Князь нахмурился.
– Я полагаю, что можно было бы как-то… э… все уладить, не впадая в крайности, – довольно сдержанно ответил посол. – Если наказание ограничится небольшим сроком заключения, к примеру…
Министр вздохнул. По правде говоря, разговор уже начал его утомлять.
– Боюсь, дорогой князь, что вы просите невозможного. Наш суд присяжных может отнестись снисходительно к crime passionel, к преступлению на почве страсти, но здесь налицо корыстный мотив. Убийство планировалось долго, готовилось тщательно… Разумеется, хороший адвокат сумеет как-то сгладить это впечатление, но вряд ли заставит присяжных забыть о сути дела.
– Тем не менее я все же прошу вас принять меры, чтобы не доводить дело до крайности, – настойчиво промолвил посол, подавшись вперед. – В России нет смертной казни, и общество не поймет, если мы отдадим наших подданных на милость вашего палача. Я уж не говорю о том, какое впечатление это произведет при дворе…
«Князь говорит так, – кисло помыслил министр, – словно речь идет о трех невинных овечках, а не о злодеях в самом точном смысле данного слова, которые убили несколько человек».
Однако он пересилил себя и пообещал сделать все от него зависящее.
Вскоре к нему пожаловал министр иностранных дел, у которого посол также успел побывать, хотя уголовные дела вроде бы не имеют к внешней политике никакого отношения.
– Мы в ловушке, – констатировал министр иностранных дел.
– Увы, – печально подтвердил министр внутренних дел.
– Я бы дорого дал, чтобы это оказался наш грабитель. Нам совершенно не нужны сейчас осложнения с Россией. Особенно после того, как мы не оказали им никакой поддержки в войне с Японией…
– Я все же думаю, – медленно проговорил министр внутренних дел, – что выход есть.
– Да? И какой же?
– Отпустить мы их, разумеется, не можем. Передать в руки русских – тем более. Что остается? – Хозяин кабинета выдержал эффектную паузу. – Положим, если бы надо было утихомирить общественное мнение и все же осудить преступников, мы бы натравили на них Волкодава.
– Прокурора Жемье? Его называют Волкодавом? А я думал, прозвище у него «Голова с плеч». – Министр иностранных дел с тревогой поглядел на своего коллегу. – Послушайте, но его ни в коем случае нельзя назначать на этот процесс! Он даже для младенца способен добиться смертного приговора, что для него дело принципа!
– Разумеется, разумеется. Я упомянул о нем в том смысле, что нам нужен вовсе не Жемье.
И министры обменялись многозначительными взглядами…
Пока фотограф Орельен наживал состояние на портретах Марии Тумановой, а государственные деятели обсуждали, как им с наименьшими потерями выбраться из сложившейся деликатной ситуации, комиссар Папийон методично довершал свое расследование.
Один из парижских бродяг выудил из Сены трость Урусова с его инициалами и клинком внутри, которым адвокат зарезал Викторину Менар и Андреа Беллагамба. Нашлись и свидетели, в ночь убийства Ковалевского видевшие, как Викторина ускользнула из своего дома. Ценные показания дали консьержи тех домов, где проживали участники драмы. И, наконец, Нелидов согласился говорить. Урусов же по-прежнему все отрицал и сыпал угрозами, а мадам Туманова плакала и заявляла, что она тут ни при чем, на нее возводят ужасную клевету. Но эта парочка для Папийона уже не имела значения, главное, что ему, кажется, удастся выжать из Нелидова подробное признание…
Давая показания, молодой человек был бледен и расстроен.
– Поймите, – горячо говорил он, – я понятия не имел о деньгах… ничего не знал о страховке… Мария Антоновна уверяла, что граф преследует ее… что она не может от него избавиться, этот ужасный человек сломал ее жизнь…
«Вероятно, оплачивая ее траты и наряды от Дусе», – хмыкнул про себя комиссар.
– Вы не догадывались об отношениях мадам Тумановой с Урусовым? – на всякий случай спросил полицейский.
– Нет… Мария Антоновна говорила, что адвокат пытается защитить ее от графа… что она дружит с его женой, и поэтому Урусов принимает в ней участие… Боже, до чего я был глуп!
– Когда и от кого вы впервые услышали, что графу Ковалевскому лучше умереть?
– От госпожи Тумановой. Несколько недель назад. Я мало общался с Урусовым. В основном с ней. Но мы не были близки. То, что о нас пишут, неправда!
– Однако вы любили ее? Да или нет?
– Да, я любил ее. Не вижу смысла отрицать.
– Она попросила вас избавить ее от графа?
– Да. То есть не напрямую… Сказала, что только смерть этого чудовища избавит ее от него. Я сказал, что готов убить его, когда ей будет угодно…
– Вы понимали, на что идете?
– Мне было все равно. Я не считал его достойным жизни… тогда.
– А теперь?
– Теперь я понимаю, что госпожа Туманова предала его и предала меня. Но не могу перестать любить ее. Это просто наваждение какое-то!
– Итак, вы сказали, что готовы убить графа. Какова была реакция мадам Тумановой?
– Мария Антоновна заметила, мол, нельзя произносить вслух такие слова, иначе она может воспринять их всерьез. Я повторил, что готов уничтожить графа, если она хочет. Сказал, что вызову его на дуэль…
– Дальше, пожалуйста.
– Госпожа Туманова засмеялась и заметила: граф – один из лучших стрелков в России. А потом добавила, что не желает меня терять… Конечно, последние ее слова окрылили меня, после них я был уже готов на все…
– Дальше?
– Урусов подтвердил мне, что граф серьезно осложняет Марии Антоновне жизнь, и только если Ковалевский умрет, она освободится от его власти… Еще сказал, что лучше, если его смерть будет выглядеть как убийство с целью ограбления, тогда нас никто не станет подозревать… Но графа трудно было подстеречь где-то, а в его доме имелось слишком много слуг. И тут стало известно, что он переезжает, а в доме только он, его брат и один слуга. Вскоре брат поехал в Швейцарию вместе со слугой. Это был наш шанс – на короткое время Ковалевский оставался один… не ждал нападения… Я подтвердил Марии Антоновне, что готов убить его, и получил ключ от двери черного хода… Вечером во вторник она и Урусов были куда-то приглашены, у них складывалось отличное алиби. Как выразился адвокат, на всякий случай…
Нелидов помолчал минуту, потом попросил:
– Можно воды? Мне… мне очень нелегко рассказывать…
Ему принесли воды, и молодой человек жадно осушил целый стакан.
– Знаете, – беспомощно проговорил он, – я не могу поверить, что решился на это. Ведь я не выношу вида крови. Я вообще человек мирный… спросите кого хотите… А между тем… между тем…
Папийон не проронил ни слова, предоставляя убийце выговориться.
– Вечером во вторник Урусов пришел веселый, сказал, что граф поссорился с бароном Корфом и тот угрожал его убить. Все складывалось как нельзя лучше.
– Нам стало известно, что в среду граф собирался ехать в страховое общество, – подал голос Папийон. – Ковалевский хотел аннулировать страховку, так что неудивительно, что вас торопили с убийством.
– Да, теперь я понимаю… Вечером во вторник я вышел из дома и направился к особняку графа.
– Консьержка уверяет, что не видела, как вы выходили.
– Я выбрался в окно.
– Четвертого этажа?
– Нет, конечно. На площадке второго окно выходит прямиком на пожарную лестницу, вот я и воспользовался ею. Урусов сказал мне, что нежелательно, чтобы меня кто-то видел…
– Дальше.
– Мне не очень хотелось идти к графу… Я кружил, петлял… но в конце концов оказался в районе Пигаль, откуда было рукой подать до его особняка. Света в окнах не было, я направился к черному ходу… Никогда не забуду, как скрипнула дверь, когда я ее открывал! Видно, мне было плохо. Я все время боялся, что появится кто-то и схватит меня за воротник…
– Вы знали, куда идти?
– Да. Урусов нарисовал мне план дома. Внизу я взял кочергу. Вначале я хотел застрелить Ковалевского, так было бы честнее, но мне сказали, что оружие оставляет следы… Я поднялся наверх, вошел в спальню. Было очень тихо, я слышал только мерное дыхание спящего графа. И я ударил его… наугад… кочергой.
– Сколько раз?
– Простите, не помню… Три, по-моему. Когда ударил первый раз, раздался какой-то булькающий звук… или хрип… Потом он уже не хрипел. Я зажег свет, чтобы убедиться, что граф умер, и… и мне стало плохо. Я потерял сознание…
– Вы ударили не три раза, а гораздо больше.
– Да? Может быть, не помню. Просто бил, бил… Да, наверное, я ударил его раз двадцать…
Нелидов говорил без всяких эмоций, сидел сгорбившись. Лицо у него было измученное, постаревшее.
– Когда я пришел в себя, то не сразу вспомнил, где нахожусь. Меня охватил ужас. Я забрал деньги из стола, еще какие-то вещи, потушил свет и поспешил прочь. Дверь одной из комнат была приоткрыта, я увидел на столе красивую фарфоровую фигурку и решил, что надо взять и ее… для правдоподобия. Подумал, что бы еще взять, но карманы и так были набиты… Мне все время казалось, что меня вот-вот увидят, поймают… Не знаю, кто, может быть, мертвец встанет и погонится за мной… И я побежал прочь.
– Не затворив дверь черного хода, верно?
– Мне было не до того… Мне казалось, на моем лице написано, что я только что убил человека… казалось, что первый встречный полицейский схватит меня… Хотел только оказаться как можно дальше… Недалеко от особняка я налетел на какую-то девицу, та ойкнула. Я побежал дальше, совершенно о ней забыв…
– Вы при столкновении уронили пачку денег и даже не заметили этого, – сказал Папийон.
– Правда?
– Так Викторина Менар написала в своем письме. Ей стало любопытно, почему месье, у которого такой безумный вид, разбрасывается деньгами, и она последовала за вами.
– Боже мой… И я привел ее к…
– Куда?
– К Марии… Я не мог вернуться домой. Консьержка заметила бы меня… а залезть в темноте обратно по пожарной лестнице я бы не сумел. Я подошел к мадам Тумановой…
– Викторина Менар увидела вас с хорошо одетой, богатой, как ей показалось, дамой и решилась на шантаж.
– Я просто хотел сказать Марии, что все прошло удачно… Она рассердилась и прогнала меня. Сказала, что мое появление неосмотрительно… Позже ко мне пришел Урусов. Спросил, что я взял из особняка. Я показал ему деньги, вещи… Адвокат напомнил, что велел вещей не брать, это улики… Я спросил, что мне делать. Он ответил: выбросить. Потом подумал и сказал: не надо, вдруг пригодятся…
– В каком смысле? Урусов хотел их продать?
– Нет, тогда ведь шло следствие… Урусов через своих знакомых в посольстве узнал, что барон Корф… что его судьба висит на волоске – его считали убийцей. И у адвоката возникла мысль подбросить ему что-нибудь из вещей, чтобы их нашли при обыске…
Комиссар поморщился, однако ничего не сказал.
– Но оказалось, что внизу в доме сидит консьерж, а в квартире постоянно находится денщик, и незаметно проникнуть в нее не получится. Тогда Урусов решил, что подбрасывать улики слишком опасно, а раз так, вещи больше не нужны, и велел мне от них избавиться.
– Но вы забыли это сделать, верно?
– Нет, – с раздражением ответил Нелидов. – Я выбросил все в пруд в Булонском лесу. И фарфор, и кольца, и часы, и ключ… Слышите? Все! А также сжег план особняка, который нарисовал Урусов. А деньги… Часть денег я отдал Марии, себе оставил немного. Деньги никак не могли привести ко мне… на них же не было написано, что я взял их у графа…
– Если вы, как говорите, выбросили фигурку, каким же образом она к вам вернулась? И кольцо, и ключ тоже.
Нелидов усмехнулся.
– Это дело рук Урусова, уверен. Понимал, что я его соперник, и хотел погубить. Наверняка адвокат выследил меня, когда я бросал вещи в пруд, достал кое-что и подбросил в мою квартиру. Несколько раз он приходил ко мне, а я выходил за чаем, оставлял его в комнате одного, вот и воспользовался моментом. Урусов всегда меня недолюбливал, относился с иронией, разговаривал, как с ребенком…
– Простите за откровенность, он был уверен, что вы у его любовницы на коротком поводке.
– Да, теперь я это понимаю… И ведь при мне они даже не обмолвились об этой страховке… Если бы я знал! Мария ведь все время твердила о деньгах… Никогда не говорила о книгах, о статуях, о художниках… Мечтала о собственной вилле в Италии, о доме в Венеции… Ее интересовали только деньги. Если платье было красиво, обязательно упоминала, во сколько оно обошлось… Автомобили тоже имели значение. И украшения, вещи… А я не думал о деньгах. И понятия не имел, что смерть графа была ей нужна, чтобы стать богатой…
В голосе Нелидова звенела детская обида.
– Итак, граф был мертв, вас никто не подозревал, вы втроем считали себя в безопасности. И вдруг…
– Да, как гром среди ясного неба. Как сейчас вижу – входит Элен с распечатанным письмом…
– Элен?
– Мария поручала ей просматривать почту за нее. Она не любила писем и редко писала ответы.
– Что было в письме?
– Ужасные вещи… От мадам Тумановой требовали больших денег, иначе грозили рассказать обо всем полиции. Тут-то я и вспомнил о той девице…
– И рассказали остальным?
– Ну да. Урусов сразу же сказал: надо избавиться от свидетельницы. В письме говорилось, что она приняла все меры и если с ней что-то случится, мы пожалеем. Девица решила, что я любовник Марии и убил графа по ее наущению… Об Урусове она не знала, поэтому адвокат вызвался ее найти.
– И это ему удалось.
– Знаете, я сначала думал, что со смертью графа все закончится, но куда там… Прочитав о двух убийствах в газете, я почувствовал ужас. Мне все время казалось, что долго так продолжаться не может, все обязательно плохо кончится… И тут в моей квартире появилась баронесса Корф. Урусов предупреждал, что она проныра…
– Вот как?
– Да, о ней ходят разные слухи. Мол, она авантюристка, однако ее принимают при дворе, у нее есть награды за благотворительность… Баронесса, словно нарочно, задавала свои вопросы так, что я начал думать – ей все известно. Когда дама собралась уходить, я перевел дух, понял, что на самом деле ей ничего не известно. И тут она увидела фигурку… Я растерялся. Что делать? Нельзя же дать баронессе уйти… Я боялся не за себя, а за Марию… А через минуту появились вы, и я понял, что все кончено. Все…
Нелидов умолк, повесив голову на грудь. Но вдруг поднял и посмотрел комиссару в глаза.
– Знаете, мне раньше было очень смешно читать романы про человеческие бездны, разные там злодейства… А теперь я думаю, что бездна дремлет в каждом из нас. И если ее разбудить…
– Да, – согласился Папийон, поднимаясь с места, – бездну лучше не будить. Никогда.
Глава 26 Процесс
Гюстав Ансеваль, которого Амалия устроила младшим бухгалтером к Жаку Дусе, боялся даже поверить в свое счастье.
Ему нравилась атмосфера модного дома, нравились продавщицы, сновавшие туда-сюда с озабоченным видом, роскошные платья, переливы дорогих тканей, облака кружев. С первого взгляда он влюбился в дом номер 21 на рю де ля Пэ (она же улица Мира). В стародавние времена Гюстав присягнул бы на верность королю этого маленького царства – кудеснику Дусе, всегда безупречно элегантному, всегда деликатному, но твердо управляющему своим королевством. Однако времена паладинов и королей канули в прошлое, и молодой человек довольствовался тем, что поклонялся своему кумиру издали.
Впрочем, однажды он решил, что настала пора попросить аудиенции, и, набравшись смелости, получил ее при помощи баронессы Корф, которая явилась к Дусе примерять новое платье.
Дав возможность мэтру и его любимой клиентке обсудить эскизы грядущих творений, Гюстав почтительно, но твердо промолвил:
– Месье Дусе, я не обратился бы к вам, если бы не необходимость… Я долго сомневался, но… теперь я вполне уверен. Дело в том, что ваш главный бухгалтер ворует.
– О! – только и сказал месье Дусе. – И сколько же?
– В месяц что-то около пяти тысяч франков, месье. Лично я нахожу это недопустимым! – в порыве негодования прибавил молодой человек. – У вас такой замечательный дом… и вы такой чудесный хозяин…
Дусе, знавший жизнь гораздо лучше своего подчиненного, улыбнулся.
– Я очень ценю вашу откровенность, месье Ансеваль, и также буду откровенен с вами. Пять тысяч в месяц – не так уж много. Когда вы заметите, что бухгалтер прикарманивает тысяч по двадцать, доложите мне, и я приму меры.
Гюстав остолбенел.
– Но, месье…
– Скажу вам больше, друг мой: во всех модных домах бухгалтеры нечисты на руку. Не знаю уж, почему так повелось… У нас большие доходы, но расходы тоже немалые, деньги текут потоком то туда, то сюда, поэтому мало кто может устоять перед искушением. Менять же одного бухгалтера на другого – все равно что менять одного жулика на другого. Вы не находите?
– Простите, месье, не нахожу, – твердо ответил Гюстав. – Все не могут быть жуликами. Должен же хоть кто-нибудь быть честным…
– Разумеется. Но я не могу тратить время, отыскивая такого человека… Тем более что через полгода он разберется, что к чему, и, не исключено, поставит свое «дело» на еще более широкую ногу, чем предшественник. Месье Фур знает свои границы, и слава богу. Кроме того, если вы не в курсе, он – настоящий клад, когда надо стребовать долги с особенно трудных клиенток. Помнится, была у нас одна итальянская принцесса, за которой он даже ездил в Рим, настолько дама не хотела нам платить. Так что, пока этот человек более полезен мне, чем вреден, и я не вижу особых причин указывать ему на дверь.
Гюстав явно был обескуражен таким ответом. Дусе поглядел на его молодое, честное лицо и повернулся к баронессе Корф:
– Как вам платье цвета лаванды, сударыня?
– Сударь, – с улыбкой ответила Амалия, – мне уже не двадцать лет… и даже не тридцать, если быть откровенной.
– Однако, я полагаю, это все же не повод одеваться в черное, – учтиво заметил мэтр. – Кстати, вы слышали, кого назначили прокурором на процесс Тумановой? Некоего Фернана Левассёра, который до того не выигрывал ни одного дела.
– До сих пор у него было только два процесса, – рассеянно ответила Амалия, рассматривая эскиз платья. – Жена убила мужа, который угрожал задушить ее и ребенка. Говорят, Левассёр выглядел совершенно беспомощно. Другой процесс – убийство по неосторожности, и там прокурор тоже не произвел впечатления.
– Газеты полагают, что так было сделано нарочно, – заметил Дусе. – Знаменитый прокурор Жемье негодует, что его обошли. Он без труда добился бы для обвиняемых смертной казни. Уж для двух из трех – совершенно точно.
– Думаю, вряд ли Жемье обошли случайно. С самого начала дать защите такой козырь…
– Если их оправдают, это вызовет взрыв возмущения.
– Нет, конечно, оправдывать убийц никто не собирается – слишком многое говорит против них. Уверена, они отделаются наказанием, которое на бумаге будет выглядеть грозно. А затем его без лишнего шума смягчат и в конце концов выдворят их из страны.
– Насколько я помню наши законы, преднамеренное убийство со сговором заинтересованных лиц никак не тянет на мягкое наказание, – усмехнулся Дусе. – Впрочем, иногда адвокаты творят чудеса… В данном же деле, как назло, один из обвиняемых юрист. А вы что думаете, месье Ансеваль? – обратился модельер к молчавшему Гюставу. – Ведь вас же расследование убийства графа Ковалевского затронуло, можно сказать, напрямую.
– Да, и мне уже сообщили, что я должен буду выступить свидетелем, – ответил молодой бухгалтер, волнуясь. – Но больше всего меня удивляет, что Фернан Левассёр проиграл те два дела.
– Вы о чем?
– Понимаете, мы ведь с ним учились вместе. Какое-то время даже сидели за одной партой. Он из очень религиозной семьи, и его воспитали в том духе, что справедливость и кара за грехи – не простые слова, а реальность. Когда в школе были какие-то соревнования, его без колебаний ставили судьей, потому что знали: Фернан будет судить честно и не допустит никаких поблажек даже лучшим друзьям. Правда, из-за такого его характера у него было немного друзей… именно из-за того, что он стремился всегда быть объективным. Мне кажется, в тех делах Левассёр просто обязан был добиться казни для подсудимых. Но они убили и ушли от наказания… Вот меня и удивляет, что Фернан допустил такое, хотя раньше и меньшие промахи не прощал.
– Вероятно, прокурор еще слишком молод, чтобы научиться противостоять опытным адвокатам, – высказал предположение Дусе. – Не забывайте, что желание – это одно, а реальность – совсем другое.
А баронесса Корф подумала, что даже если одноклассник Гюстава вздумает отличиться на процессе над убийцами графа Ковалевского и станет добиваться серьезного наказания для фигурантов, на него сумеют оказать давление. Для нее не было секретом, что наверху уже решили как-то по-тихому замять дело (выражаясь современным языком, спустить на тормозах). Фернан Левассёр всего лишь пешка, которой предназначается совершенно определенная роль, и никто не позволит ему выйти за пределы уготовленной роли.
Процесс начался в сентябре, когда сезон отпусков закончился. Но еще загодя имел место эпизод, который комиссар Папийон до конца своих дней вспоминал с неудовольствием.
Однажды прислуга доложила ему, что его желает видеть русская дама. Ею оказалась госпожа Урусова, супруга адвоката. Женщина примчалась из Петербурга узнать, что можно сделать для ее непутевого мужа.
– Сударь, он ни в чем не виноват! Это все Мария Туманова, только она всему виной! – чуть не с порога закричала Урусова и зарыдала.
У нее было некрасивое лошадиное лицо и вытянутый нос с черными точками. Глядя на него, комиссар подумал, что на месте мужа он бы тоже не выдержал и сбежал от нее куда-нибудь подальше.
– Сударыня… – начал он, испытывая мучительную неловкость.
– Я готова на все, чтобы уладить дело! У меня есть земли, драгоценности… Скажите, комиссар, сколько вы хотите?
Поняв, что его хотят подкупить, Папийон выпучил глаза. Еще никогда в жизни его так не оскорбляли!
– Я все заложу, все продам… – твердила совершенно потерявшая голову женщина. – Ах, мой бедный муж… Просто ужас! Меня перестали принимать знакомые, моих детей обзывают висельниками… Умоляю вас, комиссар!
– Сударыня, – сухо заговорил Папийон, чувствуя сильнейшее желание сбежать от этой, как он считал, ненормальной, – ваши деньги мне ни к чему, оставьте их себе. Правосудие должно свершиться.
– Но, комиссар…
Посетительница сделала попытку упасть ему в ноги, однако Папийон проворно отскочил назад. Тогда Урусова стала предлагать ему какие-то фантастические суммы, лишь бы он снял обвинение с ее мужа. Но менталитет жительницы страны, где за деньги можно «обтяпать» практически все, натолкнулся на менталитет француза, который кое-что – и даже многое! – ставил выше денег. В конце концов Папийон ретировался в другую комнату, а Урусову вывела прислуга. На прощание дама выкрикнула в адрес полицейского несколько пылких оскорблений.
– Скажите, неужели женщина всерьез думала, что даст мне денег, и это все решит? – с недоумением спросил Папийон у баронессы Корф, когда увидел ее в следующий раз.
Его собеседница не стала кривить душой.
– Вы, наверное, удивитесь, комиссар, но именно так она и считала.
– Просто дикость какая-то!
– Зато очень по-русски, – пожала плечами Амалия.
Саму ее в те дни куда больше занимал не процесс, а Михаил. Тот увлекся Розой, которую замыслил спасти от жизни, которую та вела, и строил, с точки зрения матери, совершенно несуразные планы. Баронесса не любила вмешиваться в жизнь своих детей, но однажды все же решилась на разговор со старшим сыном.
– Скажи мне вот что, Миша. Как ты думаешь, трамвай может стать поездом?
– Нет.
– А поезд трамваем?
– К чему ты клонишь, мама?
– К тому, что люди устроены точно так же. Каждый может катиться только по своим рельсам.
– Ты меня не убедила, – промолвил Михаил после паузы.
– Оставь эту женщину в покое, – не выдержала баронесса. – Ты все равно ничем ей не поможешь. Что бы ты для нее ни сделал, она все равно рано или поздно вернется на свои «рельсы».
– Роза хороший человек. И она не выдала меня, хоть и имела на это полное право.
У Амалии вертелся на языке резкий ответ, что мадемуазель Тесье достаточно уже получила за свое молчание, но она сдержалась. Хотя знала, что сын не жалеет на новую любовницу денег и одевает ее у Дусе, который, впрочем, с присущим ему тактом сделал так, чтобы та и баронесса никогда не встречались в его доме моды.
«Чем же все это кончится?» – с беспокойством спрашивала себя Амалия – и не находила ответа. То балерина, то девица с панели… Положительно, у сына талант влюбляться в девушек, которые никак ему не подходят.
Однажды она все же облегчила душу и рассказала модельеру о том, что ее тревожит.
– Это пройдет, – примирительно сказал Дусе.
– Вы говорите совсем как мой дядя, – не удержалась баронесса. – Казимир тоже считает, что никаких поводов для беспокойства нет, потому что сам влюблялся чуть ли не тысячу раз.
Дусе вздохнул, глядя на портрет Марии-Антуанетты, висевший на стене.
– Человеку надо в своей жизни пройти через череду влюбленностей, будь то влюбленность в других людей или влюбленность в вещи. Впрочем, я говорю банальности.
– Ну я-то знаю, во что вы влюблены, – заметила Амалия с улыбкой. – В восемнадцатый век.
– Уже нет, – серьезно ответил Дусе. – В сущности, вы правы: я всю жизнь восхищался тем временем… точнее, моим идеализированным представлением о нем. А теперь думаю: может быть, настоящий восемнадцатый век рядом, а я его не замечаю?
Баронесса Корф слышала, что Дусе с недавних пор стал интересоваться современным искусством, но ей это представлялось скорее прихотью. Но она была поражена, когда через некоторое время узнала, что модельер распродает свою коллекцию XVIII века – все то, что так долго и так любовно собирал.
Сама Амалия вскоре уехала позировать для портрета к Ренуару, а когда вернулась, процесс уже начался. Всем бросилось в глаза, что прокурор Левассёр держится очень сдержанно, зато защитники подсудимых чувствуют себя вполне вольготно и время от времени позволяют себе довольно рискованные выпады. Линия их защиты напрашивалась сама собой: во что бы то ни стало надо выставить графа Ковалевского чудовищем и подвести присяжных к мнению, что его убийство было чуть ли не самообороной.
Александр, один раз побывавший на заседании, вернулся оттуда раздраженный.
– Такое впечатление, что суд превратился в зрелище, – пожаловался он матери. – А ведь обсуждается хладнокровное убийство! Туманова рисуется, ощущая себя звездой, Урусов откровенно направляет адвокатов, которые придираются к каждому слову свидетелей и высмеивают их… Меня не удивит, если обвиняемых освободят прямо в зале суда, и Папийону придется принести им извинения!
– Полно тебе, – примирительно сказала Амалия, – до такого, конечно, не дойдет.
– Я вполне допускаю, что граф Ковалевский не был ангелом, – в запальчивости прибавил Александр, – но то, что защитники делают из него монстра, ни в какие ворота не лезет!
Сама баронесса побывала на двух заседаниях, на которые ее вызывали свидетельницей. Перед ней допрашивали Нелидова, которого адвокаты стремились выставить чуть ли не умалишенным. Звучало нечто вроде: госпожа Туманова никогда не подстрекала его к убийству, ему все привиделось; и никогда, слышите, никогда господин Урусов не советовался с ним по поводу того, как бы подбросить улики барону Корфу, чтобы того осудили за преступление, которого офицер не совершал…
Отдавая себе отчет в том, какое направление делу стремятся придать адвокаты, Амалия заблаговременно приготовилась к худшему – и была права. Когда ее вызвали для допроса, защитник начал с намека, уж не явилась ли она в гости к Нелидову потому, что питала к нему нежные чувства.
– Не более нежные, чем те, которые вы питаете к господину Левассёру, здесь присутствующему, – парировала баронесса Корф.
Зал всколыхнулся смешком, и Амалия почувствовала, что возьмет верх над своим оппонентом, что бы тот ни утверждал. Потому что любую аудиторию надо захватывать с самого начала – тогда она не обратит внимания на мелкие промахи в дальнейшем.
Защитник пробовал подступиться к ней и так, и этак, но баронесса всякий раз твердо ставила его на место. Однако, когда допрос закончился, она ощутила нечто вроде неудовлетворенности. Ни Туманова, ни Урусов, главные зачинщики преступления, не выглядели так, словно им что-то грозит. Что касается Нелидова, который целиком признал свою вину, то он тоже мог рассчитывать на смягчение участи.
Амалия оглянулась на Левассёра, который делал какие-то пометки в своей записной книжке. Молодой прокурор держался, на ее взгляд, слишком скромно. Однако не упускал случая привести доказательства того, что защитники искажают факты. А когда адвокаты в очередной раз завели речь о том, что граф притеснял мадам Туманову и вообще всячески обижал ее, предъявил солидную пачку счетов от Дусе и других поставщиков, которые Ковалевский оплачивал.
– Я согласен, что граф притеснял подсудимую, – язвительно закончил выступление молодой прокурор. – И делал он это в особо извращенной форме – большими деньгами.
В зале засмеялись, а Мария Антоновна порозовела и метнула на Левассёра ненавидящий взгляд. Впрочем, уже в следующее мгновение она опомнилась и приняла привычный для нее вид оскорбленной невинности.
Расходясь после заседания, репортеры судачили:
– Прокурор еще держится, но защитники его жмут и, конечно, дожмут.
– Слишком он молод для такого процесса, это точно.
– Полно вам, еще горничная Тумановой не давала показания… А она – один из ключевых свидетелей.
– Бьюсь об заклад, адвокаты вывернут ее наизнанку.
Однако на следующий день Элен выступила крайне успешно. Бельгийка рассказала о хозяйке множество неприглядных подробностей и среди прочего поведала, что та давно мечтала о смерти Ковалевского, лишь бы это позволило ей обогатиться и позволило безбедно жить с Урусовым.
– Домыслы! Домыслы! – кричал защитник.
Но по лицам присяжных было видно, что они не принимают его слова всерьез. Тогда защитник пошел на довольно грубый шаг – стал издеваться над бельгийским акцентом Элен, то и дело переспрашивая, что именно та имеет в виду, так как он ее не понимает.
– Я не стану оправдываться перед вами, что говорю так, а не иначе, – возразила девушка, гордо вскинув голову. – Ни один человек не волен выбирать свою родину, а моей я ничуть не стыжусь!
И французская публика устроила ей овацию.
«Интересно, через какое время троица преступников окажется на свободе? – подумала Амалия, выходя из зала суда. – Конечно, есть улики, есть показания Нелидова, горничной… данные экспертов… Но Левассёр – не тот человек, который сможет добиться строгого приговора. Он явно трудолюбив, старателен… – ей вспомнилось сосредоточенное лицо прокурора, блеск его глаз, то, как он заносил что-то своим бисерным почерком в записную книжку, – но всего этого слишком мало. На стороне защитников их опыт, а еще упорное желание властей свести все к формальному наказанию и как можно скорее заставить людей забыть о данном деле. Не стоит обманывать себя: правосудие на сей раз будет только вывеской».
Баронесса села в машину и велела Антуану везти себя домой. Но на набережной ее внимание привлекли двое: мужчина и рыжая женщина в бальном платье. Дама явно была навеселе, и спутник пытался ее увести, но без особого успеха.
– Что ты себе позволяешь? – хриплым голосом говорила женщина. – Думаешь, ты меня купил, да? Оставь меня в покое! Я сказала, что хочу веселиться и буду веселиться… Без тебя, понял? Отвяжись!
Она вырвала руку и направилась к компании каких-то хлыщей, которые ожидали ее неподалеку. Амалия отвернулась.
– Мы можем забрать месье Мишеля, – нерешительно подал голос шофер.
– Нет, – отрезала Амалия. – Не надо вообще говорить ему, что мы видели его с этой… особой.
Баронесса приехала домой и заперлась, чувствуя непреодолимую горечь и желание плакать. Оскорбление, нанесенное Михаилу, задело ее так, как будто было направлено против нее лично.
Через некоторое время она услышала за стеной, в гостиной, шаги старшего сына. Амалия вышла из спальни, на ходу глянув в зеркало, чтобы проверить, что глаза у нее не опухли от слез.
– Все кончено, – вяло промолвил Михаил, который сидел, свесив руки между колен. Вся его фигура выражала обреченность. – Роза ушла.
– Ты забрал ее с панели, а она ушла на другую панель, побогаче? – не удержалась Амалия.
– Я хотел ей помочь, – вздохнул Михаил. – Только и всего.
– Ты ни в чем не виноват. Это был ее выбор.
– Да, я понимаю. Но все равно мне кажется, что… что все могло быть совсем иначе.
– Вряд ли. Ты не из ее мира, пойми. Ей нужна обстановка, к которой она привыкла… Ну и тысяча других причин.
– Нет, – ответил Михаил, подумав. – Просто ты была права – поезд не может стать трамваем. – Молодой человек поднялся с места. – Кстати, насчет поезда. Думаю, мне пора домой. Да и вообще, я давно должен был уехать. Как Александр? Хорошо учится?
Его младший брат недавно поступил в университет, но матери с трудом верилось, что ершистый юноша когда-нибудь остепенится.
– Да. У него теперь свое жилье, хотя мне не нравится тот район… Но он говорит, что его все устраивает.
– Пожалуйста, забери к себе свой портрет, раз уж я уезжаю… – попросил Михаил. – Я бы хотел взять его с собой, но он слишком большой, жизнь в армии не позволит везде возить с собой такую громоздкую вещь.
Амалия улыбнулась.
– Хорошо. Повешу его на стену, и он будет тебя ждать… Хотя я все равно думаю, что портрет никуда не годится, – добавила баронесса со смехом.
Ее сейчас куда больше занимал тот портрет, который писал Ренуар. Но художник жаловался, что его не устраивает, как продвигается работа:
– У вас такое выражение лица, которое очень трудно передать… Год от года все труднее и труднее!
Живописца мучил тяжелейший артрит, из-за которого он был частично парализован. Когда Ренуар рисовал, кисть привязывали к руке, чтобы не падала из пальцев, но художник не бросал работу и часто шутил над собственной немощью. Амалия видела его последние полотна – полные солнца и света, часто изображающие жизнерадостных женщин в рубенсовском стиле. И он никогда не жаловался, не расписывал свои страдания, даже не говорил о них, словно их и не было. В этом немощном, полупарализованном старике было что-то титаническое, и баронессе становилось даже немного стыдно, что тот занимается таким пустяком, как ее портрет.
Она полагала, что Ренуар смотрит на нее только как на капризную светскую даму, а живописец жаловался, когда Амалии не было поблизости.
– Не понимаю я ее. Эта женщина похожа на красивую шкатулку, внутри которой может быть что угодно – драгоценный камень или какая-нибудь дрянь, которой вообще нет названия…
После множества пробных вариантов (которые художник добродушно называл мазней, потому что они его не устроили) Ренуар изобразил баронессу сидящей в кресле – голова повернута вбок, лица почти не видно, в руке красный веер с красными же маками в оправе из эбенового дерева. И это сочное черно-алое пятно придавало всей картине совершенно особое настроение.
– Портрет веера, – объявил дядя Казимир, как только увидел картину.
Аделаида Станиславовна сделала страшные глаза, но Амалия только рассмеялась. Если художник увидел ее именно такой, ускользающей и загадочной, если веер казался ему чем-то более определенным, чем сама модель… что ж, она ничего не имеет против. В конце концов, будь ей нужен всего лишь портрет, можно было бы обратиться к Больдини или Грюну.
– Ты уже видела газеты? – спросила пожилая дама. – Просто поразительно, как он сумел этого добиться.
– Чего? – рассеянно, не ожидая подвоха, отозвалась Амалия, отходя в сторону, чтобы посмотреть, какое впечатление производит картина с другой точки.
– Приговора, – ответил за сестру Казимир. – Даже газетчики, и те в полном остолбенении. Никто не ожидал от прокурора такой прыти… Разве ты еще не знаешь? Левассёр добился смертной казни для всех троих.
Глава 27 Опаловое небо
– Как же такое могло случиться? – вырвалось у Амалии.
– Вот это-то и есть самое удивительное, – отвечал дядюшка. – Насколько я понял, поначалу прокурор вел себя тише воды, ниже травы, и никто его по-настоящему не опасался. Но в последние несколько дней он повел на защиту атаку, разбил в пух и прах все их доводы, а в конце еще и обнародовал несколько писем Ковалевского к подсудимой. Если хочешь их почитать, в статье одно из писем приведено целиком. Конечно, его напечатали в переводе на французский, но суть мало изменилась.
– Похоже, именно письма решили все, – подтвердила Аделаида Станиславовна. – Защита столько времени потратила на доказательство того, что граф был изверг и негодяй, а тут появились такие документы…
Забыв о картине, Амалия схватила газету, взгляд побежал по строчкам:
«Блестящая речь прокурора Левассёра, которого сейчас называют одним из самых многообещающих юристов Франции… Письма, которые произвели на публику ошеломляющее впечатление…»
– Да… – медленно проговорила Амалия, прочитав статью и текст письма. – Это послание безумно влюбленного человека, вовсе не негодяя. В других письмах наверняка говорилось и о погоде, о знакомых и прочих пустяках, но Левассёр не стал зачитывать пустяки. Прокурор тщательно отобрал только то, что было пригодно для его целей.
В глаза снова бросились строки из письма графа, написанного около года назад: «Когда я думаю, что мы опять будем в Париже вместе, и я увижу твое бесконечно милое лицо… и мы будем гулять вдвоем под опаловым небом, которое здесь всегда принимает самые разные оттенки, особенно на закате… только ты и я, моя любовь, и никого больше…»
Амалия отложила газету и села, чтобы собраться с мыслями. Ах, господин граф! Вы носили в свете язвительную маску, а в душе, оказывается, были поэт… Опаловое небо, надо же!
– Одним словом, прокурор наблюдал, копил силы, а в последние дни процесса, когда никто уже от него ничего не ждал, нанес решающий удар… – Баронесса покачала головой. – Если приговор не отменят, процесс Тумановой окажется одним из тех редких случаев, когда жертва даже из-за гроба ухитряется отомстить своим убийцам.
– Ну, там были не только письма, – напомнил Казимир. – Были же еще показания Нелидова и горничной. Правда, юноше его признание вины не пошло на пользу, потому что его все равно осудили. Но горничную отпустили – все-таки подневольный человек.
– Интересно, что теперь будет с Левассёром? – машинально спросила Амалия. В глубине души она была немного рассержена, что недооценила этого малого с худым невыразительным лицом.
– О, прокурор наверняка станет звездой! – отозвался неугомонный дядюшка. – Уже сейчас все забыли о Тумановой и говорят только о нем. Ты же сама знаешь, племянница, что никто не любит проигравших…
Пока Амалия в кругу семьи обсуждала процесс, закончившийся сенсацией, министр внутренних дел довольно кисло размышлял о том, что ему придется вскоре отправиться в отставку, раз он не сумел добиться такого пустяка, как мягкое наказание для русских. Но кто мог ожидать, что этот недотепа Левассёр проявит такое рвение, а присяжные покорно пойдут у него на поводу?
– Вы далеко пойдете, молодой человек, – сказал прокурору после процесса расстроенный министр. И не удержался от чисто человеческого желания подпустить шпильку: – Может быть, даже дальше, чем стоило бы…
Замкнутый и непроницаемый, как сфинкс, прокурор спокойно посмотрел на министра своими серыми холодноватыми глазами и заметил:
– Тем не менее нам удалось показать всей Европе, что мы не оказываем снисхождения преступникам только потому, что те приехали из другой страны. И, я уверен, нас будут уважать еще больше.
«Гм… а у этого малого политический склад ума… – помыслил заинтригованный министр. – В какой-то степени он, конечно, прав. И вообще, нечего было убивать графа у нас. Убили бы где-нибудь в своей России, если уж им так приспичило… Да, надо напирать на то, что мы обязаны быть беспристрастными. Возможно, так мне и отставки удастся избежать…»
И, вмиг сделавшись чрезвычайно обходительным, министр пригласил многообещающего прокурора к себе на обед.
Разумеется, Урусов вовсе не собирался сдаваться. Защита обвиняемых предприняла шаги для пересмотра приговора, пытаясь смягчить его, но все они разбились о письменное интервью брата убитого, которое тот дал прессе. Кашляя кровью и находясь при последнем издыхании, Анатолий Ковалевский заявил, что считает приговор справедливым, а позицию русских властей, которые всячески пытались вызволить своих подданных, – отвратительной. «Если бы наше правительство заботилось о приличных людях так, как оно заботится об убийцах, то в России уже давно наступил бы золотой век!» – патетически восклицал Ковалевский-младший.
Итак, незадолго до Нового года стало окончательно ясно, что приговор не подлежит пересмотру и вскоре будет приведен в исполнение.
За неделю до Рождества один из знакомых Амалии устроил званый вечер, и на нем баронесса Корф столкнулась с двумя людьми, которые имели отношение к делу Тумановой, – с бывшей женой убитого, одетой в глухое черное платье, и с месье Фернаном Левассёром, который казался невозмутимым, как обычно. Сейчас прокурор был занят уже другим шумным процессом, и, судя по тому, как он повел дело, подсудимому тоже грозило самое серьезное наказание.
– Вероятно, вас можно уже поздравить? – полушутя-полусерьезно спросил молодого законника хозяин дома.
Левассёр слегка поморщился.
– На мой взгляд, гибель человека, пусть даже отъявленного негодяя, не является поводом для поздравлений. Кроме того, я всего лишь делаю свое дело.
Тут хозяин отвлекся на другого гостя, а Амалия получила возможность вставить:
– Однако вам не всегда сопутствовала удача, насколько мне известно.
Прокурор обернулся, смерил холодным взглядом красивую даму неопределенного (как он сказал себе) возраста и позволил себе скупое подобие улыбки.
– Я не признаю удачу как таковую, сударыня. Есть только упорный труд – либо стечение обстоятельств. Но последнее случается слишком редко, и глуп будет тот, кто станет на него рассчитывать.
– Однако вы все же проиграли в свое время два процесса. Или, может быть, вы хотели их проиграть? Например, потому, что не были уверены в виновности подсудимых?
Левассёр еще не вполне научился владеть собой, и по тому, как сверкнули его стальные глаза, баронесса поняла, что попала в точку.
– Я так и думала, – сказала она после паузы. – Один ваш знакомый дал мне понять, что вы человек с идеями.
– Кто же это? – быстро спросил Левассёр.
– Гюстав Ансеваль.
– Да, помню, он был в числе свидетелей. Гюстав ничуть не изменился, по-прежнему плывет по течению, приноравливаясь к обстоятельствам. Иногда барахтается, но чаще всего выплывает.
Даже тон молодого человека был типичным тоном прокурора. Он не обвинял своего бывшего одноклассника, но у собеседника поневоле складывалось именно такое впечатление.
– А вы предпочитаете направлять поток, верно? – спросила Амалия.
– Насколько это в моих силах. Я с детства усвоил, что правосудие – нечто не абстрактное, а вполне конкретное. Но у разных дел – разные обстоятельства. Человек может убить, защищая свою жизнь, или убить из-за денег, а то и вообще просто так. Самое главное – быть справедливым, иначе правосудие теряет всякий смысл. Женщина, которая убивает, защищая жизнь ребенка, не должна наказываться так же, как Мария Туманова. Когда я добился смертной казни для последней и ее сообщников, пресса решила, что я просто увидел прекрасный повод отличиться, а предыдущие незначительные процессы мне его не давали. Вздор! Я отправил бы эту мадам на плаху, будь даже она простой белошвейкой, которая решила поживиться на убийстве своего любовника.
Действительно, молодой, бесцветный с виду прокурор, на которого в толпе никто не обратил бы внимания, был человеком идеи. И Амалия не могла не признаться себе, что рядом с ним ей стало вдруг малость неуютно.
– Полагаю, в деле Тумановой вам непросто было добиться своей цели, – сказала баронесса. – Очень многое было против вас, не говоря уже о том, что один из обвиняемых сам прекрасно разбирается в юриспруденции.
– Нет, уверяю вас, все прошло как по маслу, – покачал головой прокурор. И снизошел до небольшого признания: – Публика до сих пор не удосужилась заметить, что самые важные – дни непосредственно перед вынесением приговора. Когда процесс тянется долго, присяжные забывают, что было в начале. Запоминаются только последние впечатления, и они же оказывают влияние на приговор. Как только в моем распоряжении оказались письма Ковалевского, я сразу понял, что подсудимым не уйти от возмездия. Защитники лгали и изворачивались, изображая жертву исчадием ада, но любой, прослушав его письма, понял бы: тот был самым обыкновенным человеком, который имел несчастье влюбиться в ужасную женщину. И все сразу же становилось на свои места. Если Туманова тяготилась его любовью, ей следовало просто перестать с ним встречаться. Но вместо этого мадам разработала хладнокровный план, разыграла комедию, чтобы убедить его застраховать свою жизнь в ее пользу, и подговорила ненужного ей дурачка убить графа.
Тут в их беседу вмешалась хозяйка дома, и разговор зашел совсем о другом.
В конце вечера Амалия предложила графине Ковалевской подвезти ее на своем автомобиле, так как женщина поселилась недалеко от особняка баронессы Корф. Екатерина Петровна ответила согласием. В машине между попутчиками завязался разговор.
– Видите, я все-таки была права тогда, а вы мне не поверили, – сказала графиня. – Я сразу почувствовала, что именно Мария убила моего мужа. Впрочем, уже через несколько дней я увижу, как на нее опустится нож возмездия.
– О чем вы, Екатерина Петровна?
– Я решила присутствовать на казни. Собственно говоря, на такие события публику не допускают… то есть официально… но так как я была женой убитого, мне сообщили, что я могу находиться там, если захочу.
Амалия поморщилась. По правде говоря, она не ожидала от Екатерины Петровны такой кровожадности.
– Не уверена, что вам понравится это зрелище, – довольно сухо сказала баронесса Корф.
– Вот и у меня тоже дрожат поджилки, – с неожиданной прямотой призналась графиня. – И все же я пойду.
– Голубушка, зачем?
– Вам меня не понять, Амалия Константиновна. Вы, наверное, уже забыли, что говорили свидетели на процессе. Пока Нелидов убивал моего мужа, Туманова с Урусовым веселились на празднике, пили шампанское. И наверняка говорили тосты вроде: «За нашу удачу», «За избавление от всех неприятностей». За избавление от Паши, стало быть, который столько сделал для нее и для адвоката тоже… – У графини на глазах выступили злые слезы. – Ну так вот, теперь я хочу лично увидеть, как их самих окончательно избавят от всех неприятностей… связанных с пребыванием в этой жизни. И не говорите мне, умоляю, что я должна простить… что религия предписывает… Ничто не мешает мне простить их – когда они умрут!
Баронесса вернулась домой удрученная. Ночью она несколько раз просыпалась с ощущением смутного беспокойства, но вскоре вновь проваливалась в сон.
Однако на этом ее испытания вовсе не кончились, потому что вскоре после Рождества к ней наведался комиссар Папийон, и вид у него был весьма смущенный.
– Я вовсе не хотел вас беспокоить, сударыня, потому что прекрасно понимаю – воспоминания об убийстве графа Ковалевского должны быть вам неприятны. Однако согласно закону мы не имеем права препятствовать…
– О чем вы, комиссар?
– Мария Туманова изъявила желание встретиться с вами. Перед тем, как ее казнят.
– Когда казнь?
– Послезавтра.
«Умно, – подумала Амалия. – Все заняты только Рождеством и Новым годом, и никому больше нет дела до троицы приговоренных…»
– Должна признаться вам, месье, что у меня нет никакого желания встречаться с… с этой женщиной.
– Таково ваше окончательное решение?
Баронесса закусила губу.
– Она сказала, зачем я ей понадобилась?
– Насколько я понял, Туманова хотела бы попросить у вас прощения. Впрочем, это только мое предположение.
Амалия представила себе четыре тюремных стены, окна с решетками и женщину, которая в свои последние на земле часы не видит ничего, кроме них. Потом осужденную выведут во двор, и…
– Хорошо, – решилась баронесса, – я поговорю с ней.
И на следующий день она оказалась в комнате для свиданий – особом помещении, предназначенном только для тех, кто дожидается смертной казни, и их посетителей.
Когда лязгнула дверь и в сопровождении охранника вошла Мария Туманова, кутаясь в шаль, Амалия даже не нашла в себе сил подняться ей навстречу – настолько была поражена. Волосы женщины были коротко острижены, черты бледно-желтого лица заострились, губы стянулись в тонкую ниточку. Теперь ничто в ее внешности не напоминало ту очаровательную оживленную даму, которая не столь давно уверяла в разговоре с Амалией, что понятия не имеет о том, кто убил графа Ковалевского.
– Вы посылали за мной, – сказала баронесса, – и я здесь.
Мария села напротив, и теперь их разделял только грубый деревянный стол. Охранник отошел и стал у дверей. Все движения Тумановой были немного замедленными, она двигалась, как во сне.
– Я очень рада, что вы пришли, – заговорила осужденная. – Мне… мне очень жаль, что все так получилось. Я имею в виду вашего сына, что его подозревали…
«Не стоило мне сюда приходить», – мелькнуло в голове Амалии. В глубине души она не сомневалась, что Мария с легкостью послала бы Михаила на эшафот, если бы это помогло уйти от наказания ей самой.
И тут коварная память устроила сюрприз – Амалия словно «провалилась» в уютную квартирку на бульваре Малерба, услышала щебечущий голос, который говорил что-то вроде:
– Полагаю, когда вся эта история закончится, вы зайдете ко мне в гости… Мне было очень приятно поговорить с вами…
Баронесса встряхнула головой и пристально посмотрела на свою визави. Что за вздор, в самом деле? И о чем им вообще можно говорить?
– Как только вы спросили тогда, во время своего визита ко мне, о страховке, у меня мелькнуло предчувствие, что все пропало, – устало промолвила Мария. – А потом пришел он…
Женщина не назвала имени, но Амалия и так поняла, что речь идет о Папийоне.
– Зачем вы хотели видеть меня? – чуть резче, чем следовало бы, спросила баронесса.
– Вы куда-то спешите?
– Я? Нет. Просто…
«Просто я не умею беседовать с людьми, которым завтра отрубят голову», – с досадой подумала Амалия. Но как сказать такое вслух?
– Одна газета написала, что зря мне дали имя в честь Марии Стюарт, мол, это меня и погубило. Ей ведь тоже отрубили голову… – Туманова слабо усмехнулась. – Но на самом деле меня назвали вовсе не в ее честь, а в честь бабушки по другой линии. В детстве меня все баловали, а я все думала, как бы мне поскорее вырасти. А теперь думаю, лучше бы я тогда умерла и никогда не стала взрослой. Я плохая мать, но когда думаю о своих детях… и их отце… А ведь вначале все казалось так просто!
– Вначале?
– Да. Я на процессе сказала много лишнего, но меня можно извинить: я защищала свою жизнь… Хотите знать правду? Я никогда, ни единого мгновения не любила графа. И с первых дней знакомства понимала, что никогда не полюблю. Он был мне неприятен – с этим своим ехидным нравом, с ухоженными руками, английским парфюмом, от которого у меня болела голова… И чем больше граф делал для меня, тем сильнее я чувствовала, что он невыносим. Не знаю, почему… Граф раздражал меня каждым словом, каждым жестом – всем. А его письма, когда ему приходилось куда-то уезжать, всякие там опаловые небеса, мечты о совместной жизни… Скажу вам правду – я их даже не читала. Только из материалов о процессе узнала содержание. Ковалевский садился в поезд, и я думала – как здорово, ведь состав может потерпеть крушение… Когда я была маленькой, наша семья жила почти в бедности, но потом умерла одна противная богатая тетка, и все сразу переменилось. Вот для меня и граф Ковалевский был чем-то вроде той противной тетки, которую стоит терпеть только из-за денег… Я ужасна, да?
Амалия предпочла воздержаться от ответа. В голове у нее мелькнуло, что маркиз де Монкур оказался прав, когда говорил о графе: тот был одиноким человеком. Одинокий человек всегда чувствует одиночество других, а у графа не было никого – близкие люди отдалились, любимая женщина презирала, и друг увел ее у него…
– В сущности, у меня была очень скучная жизнь. Но потом появился Георгий. Граф считал себя его другом, но это не мешало ему называть Урусова карликом и давать другие обидные прозвища. А Георгий так переживал по поводу своей внешности… Но все это глупости. Мужчины этого не понимают, а ведь женщина видит недостатки мужчины ровно одну минуту, потом же, если человек ей нравится, просто их забывает.
– Значит, Георгий Иванович вам понравился?
– Он был совсем другой. В каком-то из журналов напечатали опрос – с кем бы вы могли остаться на необитаемом острове. Так вот, я могла бы остаться с ним где угодно. На него можно было положиться. Да, Георгий не говорил про опаловые небеса и прочие глупости, не был в состоянии делать мне дорогие подарки, потому что его жена забрала все финансы в свои цепкие ручки… Словом, с моей стороны было крайне нерасчетливо с ним связаться. Но я его полюбила, хотя к тому моменту уже перестала верить в любовь. И он меня тоже полюбил – без мелодраматических поз и нелепых жестов. С ним у меня было ощущение, как в детстве, – будто я лежу в высокой траве, которая так чудесно пахнет… ромашки, колокольчики… кузнечики стрекочут… Вот что и называется счастьем, хотя ты этого вовсе не осознаешь. Но рядом все время был граф Ковалевский, и… и с ним приходилось считаться. Раньше он был мне просто неприятен, но когда я поняла, что из-за него не могу быть с Георгием, то просто его возненавидела.
– И тогда вы решили убить графа.
Мария задумчиво улыбнулась, ее глаза затуманились.
– Да. Мы долго обсуждали с Георгием, как нам быть… Страховка казалась самым лучшим вариантом. Мысль изобразить болезнь и застраховать себя, чтобы заставить его пойти на ответный шаг, подала мне Элен. Потом мы с Георгием стали обсуждать разные способы – яды… несчастный случай на охоте… Но граф не охотится, а яд обнаружили бы. Элен как раз рассказала про один такой случай у нее в Бельгии… И потом, я не хотела, чтобы Георгий убивал. Боялась, что его арестуют, несмотря на все наши предосторожности. Нужен был человек со стороны, который бы согласился устранить графа и ничего бы не потребовал взамен. Петя Нелидов давно мне надоедал, и я решила – пусть он, сгодится хоть тут…
– Вы использовали его как ширму, которая прикрывает ваши отношения с Урусовым, верно? В случае чего, всегда могли сказать, что Нелидов – ваш родственник…
– Да, но графа нелегко было провести. Он подозревал Георгия, подозревал меня, подозревал Нелидова. Потом устроил совершенно чудовищную сцену в примерочной Дусе, поднял на меня руку, накричал на Петю. Именно в тот день я окончательно решила, что убью его. План был в общих чертах готов, надо было только продумать детали.
– Вроде ключа от черного хода.
– Да. До сих пор не могу поверить, что Элен меня предала… Я взяла ее в свой дом с улицы, платила ей, хорошо к ней относилась – а она сразу же все рассказала комиссару, как только тот начал ее допрашивать.
– Девушка не хотела, чтобы на суде ее выставили сообщницей, и ее вполне можно понять.
– Впрочем, женщинам вообще нельзя доверять, – усмехнулась Туманова. – А Петя? Разве благородно то, что он сделал? После стольких заверений в любви и верности… Хотя еще до того, как его схватили, я поняла, что на него нельзя полагаться. Когда шантажистка прислала письмо, совершенно безграмотное, видели бы вы его лицо! А Георгий сохранил присутствие духа и сразу сказал, что это какая-то ночная бабочка, надо найти ее и раздавить. Петя же стал лепетать, что дело оборачивается плохо… Но Георгий посмотрел на него так, что мальчишка замолчал.
– Зачем вы подбросили ему статуэтку, ключ и кольцо?
– Я этого не делала, уверяю вас. Георгий тоже отрицает. По-моему, Петя сам забыл от них избавиться и придумывает всякие глупости, чтобы прослыть умнее, чем он есть. Его же предупредили: вещей из особняка не брать, они – возможные улики. А Нелидов что натворил? Ключ велели вернуть на место, чтобы лишить полицию этого следа, но забыл. Зато побежал ко мне, чтобы доложить, какой он молодец. Прямиком навел на меня девицу, которая за ним следовала. Конечно, Георгий обещал все уладить, но только ухудшил наше положение…
Женщина помолчала.
– Я до самого конца надеялась, что нам дадут только несколько лет тюрьмы. Но прокурор понял, что может сделать карьеру, так сказать, на наших костях, и расстарался. Если бы не он… Ах, до чего я жалею, что вообще встретила графа! Мы встретились на любительском спектакле. Его брат играл главную роль, граф был режиссером и тоже пытался что-то изобразить на сцене… И ведь главное, я отчетливо помню, что не хотела ехать смотреть спектакль. Это судьба, да?
– Вы жалеете, что встретили его? Или жалеете, что вам пришлось убить его? А может быть, лишь о том, что вам не удалось уйти от наказания?
– О, от вас ничего не скроешь, – усмехнулась Мария. – Когда-то мне цыганка нагадала, что я и человек, которого я полюблю, умрем в один день. Я тогда подумала: вот и прекрасно! А теперь видите, как все оборачивается. – Женщина удрученно покачала головой. Затем проговорила изменившимся голосом: – Жалею ли я о графе? – Нет, ни капли. Можете всем так и сказать. Единственное, чего мне жаль – что меня не похоронят рядом с Георгием. Я слышала, его несносная жена уже заказала самый дорогой гроб, чтобы везти останки мужа на родину. Очень мило с ее стороны… Впрочем, она всегда была такой. Скажите, я очень плохо выгляжу?
Амалия молча покачала головой. К чему говорить ей правду, в самом деле?
– Волосы отрезали, говорят, будут мешать… – пробормотала Мария, ощупывая то, что еще у нее осталось на голове. – Был у меня наш священник, потом принесли какие-то книги. Открываю один том – и нате вам, первое, что вижу, гравюру, а на ней Мария-Антуанетта… Некрасиво с их стороны так поступать, по-моему.
– Просто совпадение, я уверена.
– Наверное. В стопке еще были «Три мушкетера»… Я подумала: Дюма куда ни шло. А потом вспомнила, что миледи ведь тоже отрубили голову. – Туманова поморщилась. – Говорят, есть люди, которые подкупают стражей и платят им огромные деньги за то, чтобы тайком присутствовать при казни. Это как-то… – Женщина беспомощно повела плечами. – Я же не актриса в спектакле, в конце концов!
Амалия вспомнила, что графиня Ковалевская собралась идти на казнь, и не нашлась что сказать.
– Хотела вас попросить об услуге… – внезапно сказала Мария. – Помните, это моя последняя просьба, в ней отказывать грешно.
Стоит заметить, баронесса почти не сомневалась, что дело закончится чем-то подобным.
– Я вас слушаю, – промолвила она, но все же слегка напряглась.
– На оставшиеся у меня деньги я заказала платье у Дусе, чтобы выглядеть хорошо в мой предсмертный час. Но его еще не привезли, а между тем время не терпит… – Туманова умоляюще поглядела на Амалию. – Вы не согласитесь поехать в модный дом и поторопить их с работой? Мне очень нужно… к завтрашнему утру…
Амалия на мгновение утратила дар речи. Она многое предполагала, но это…
– Хорошо, – кивнула баронесса, поднимаясь с места. – Разумеется, я сейчас же поеду туда.
– Спасибо. Я знала, что вы женщина и меня поймете…
Выйдя из тюрьмы, Амалия велела Антуану немедленно везти ее на улицу Мира.
Продавщица, занимавшаяся заказом (который, прямо скажем, не вызвал в знаменитом доме моды особого восторга), объяснила ей, что денег, которые заплатила мадам, слишком мало, чтобы сшить пристойный наряд, и вообще…
– Хорошо, – раздраженно проговорила баронесса Корф, – я доплачу сколько нужно. Но платье должно быть самым лучшим. И должно быть готово сегодня же вечером.
Продавщица поглядела на нее, открыла рот, собираясь что-то сказать, но передумала и срочно послала за мадемуазель Оберон.
Так как в доме Дусе привыкли к срочным заказам – иногда перед днем скачек нашивали рюши и кружева прямо на парижских модницах, каждая из которых требовала для себя неповторимый наряд[236], —
просьбу постоянной клиентки выполнили достаточно быстро, и к девяти часам вечера она с большим свертком вернулась в тюрьму. Сначала ее отказались пускать, и пришлось звонить Папийону, который, в свою очередь, связался с кем-то еще. Потом Амалию все-таки пропустили внутрь, но платье тщательно осмотрели и придирчиво изучили каждый шов, прежде чем отдать его Марии Тумановой. Вновь увидеться с осужденной баронессе не дали. Охранник, вернувшись, сказал:
– Дама очень довольна платьем, просила передать вам свою благодарность.
И Амалия смогла удалиться с чувством выполненного долга – и легким удивлением от того, что Мария пожелала оставаться женщиной до конца.
Проснувшись на следующее утро, баронесса машинально поглядела на часы и подумала: все уже кончилось. Тех, кто лишил жизни Павла Сергеевича Ковалевского, больше нет.
В спальню заглянула встревоженная горничная.
– Амалия Константиновна, к вам графиня Ковалевская. Я оставила ее в гостиной…
Баронесса скрипнула зубами, но все же встала и, наскоро одевшись, вышла к непрошеной гостье. Графиня сидела на диване, сморкаясь в платочек.
– Вы были правы, – проговорила она плаксивым голосом, – мне не стоило туда ходить… Это было просто ужасно!
Амалию так и подмывало сказать прокурорским тоном (наподобие того, которым говорил Левассёр): «Я же вас предупреждала», но неожиданно у нее пропала охота заниматься морализаторством. По правде говоря, в то мгновение она мечтала об одном – чтобы ее оставили в покое. Однако воспитание мешало послать посетительницу к черту.
А графиня, словно ее просили, описала, как первым казнили Нелидова, за ним – Урусова, а последней отрубили голову Марии Тумановой.
– Она надела какое-то совершенно умопомрачительное платье, но как-то странно было видеть ее со стриженой головой, у нее же были роскошные волосы… Все шло гладко до того момента, когда настал ее черед подойти к гильотине. Мария стала кричать и вырываться… Кричала и кричала… посольский священник Обухов, вы его, наверное, помните, не знал, куда девать глаза… Потом улучили момент, когда она почти потеряла сознание, и быстренько привязали ее к доске. Через секунду все было кончено.
Графиня расплакалась.
– Все платье было в крови, светлый шелк вмиг стал алым… Я, наверное, до конца дней не забуду этого ужаса.
«Большое спасибо, Екатерина Петровна, – мрачно помыслила Амалия. – Все-таки вы ухитрились испортить мне день…»
Баронесса почувствовала себя лучше, лишь когда ей удалось – не без труда! – выпроводить гостью за дверь.
Пришедший на ужин Александр спросил, отчего мать так задумчива.
– А я задумчива?
– Словно тебе что-то не дает покоя, мама… Я прав? – испытующе поглядел сын. – Скажи, случаем, дело не в Тумановой? В газетах написали, что приговор приведен в исполнение…
– Утром у меня была графиня Ковалевская, которая присутствовала на казни, и не знамо отчего вообразила, что мне интересны подробности, – с отвращением пояснила Амалия.
– Захотелось своими глазами увидеть, как карает закон? По-моему, она просто неумна.
– Нет, она просто очень несчастна. Вероятно, женщина надеялась почувствовать облегчение, когда их казнят, но ей стало только хуже.
– Ты так говоришь, будто тебе жаль преступников, – заметил Александр. – То, что они сделали, – отвратительно! Я уж не говорю о том, что они пытались убить тебя. Так что я скорее доволен приговором. Вообще все прошло как по маслу: преступники найдены в короткий срок, осуждены и…
– Что? – переспросила озадаченная баронесса.
Ее сын нахмурился.
– Тебе кажется, что я чересчур кровожаден?
– Нет. Просто ты сказал… сказал очень странную вещь.
Александр с удивлением посмотрел на мать, не в силах взять в толк, что именно показалось ей странным. Та сидела с отсутствующим выражением лица и наконец отставила тарелку.
– Ах, пустяки… Как проходят твои занятия?
Но на следующее утро Амалия поймала себя на том, что думает о странности, которую заметила вчера. Она ходила по спальне, покусывая губы, – толстый ковер заглушал ее шаги, – и думала: «Прошло как по маслу… как по маслу… А ведь я и раньше инстинктивно чувствовала: что-то тут не так, но отмахнулась от своего ощущения… Стоп! Дело окончено и закрыто, осужденные казнены. Точка. Финал. Или нет? Почему Нелидов не выбросил фарфоровую фигурку? Говорил, что ее подбросил Урусов. Но какой тому смысл делать это? Чтобы добиться ареста юноши? Но ведь любому ясно, что такой человек, как Нелидов, не устоит перед напором квалифицированного полицейского и расскажет о своих сообщниках. Тогда зачем? Влюбленная парочка рассчитывала его убить? К примеру, подстроить какой-нибудь несчастный случай, приходит полиция, находит в квартире неопровержимые улики, убийство графа списывают на мертвого… Что, в сущности, соответствует действительности. Ведь собирались же адвокат с Марией подбросить улики Мише, чтобы его погубить… Поступок вполне в их характере. Правда, Урусов отрицал… Но что значит слово такого человека, как он? А если…»
И тут впереди забрезжил свет. Баронесса поняла, как ей показалось, все, что раньше было от нее скрыто… Положительно, привычка размышлять на ходу, пусть даже расхаживая в четырех стенах, оказалась чрезвычайно плодотворной.
– Алло… Страховой дом «Бертен, Арнольди и компания»? Я бы хотела задать вам несколько вопросов…
Амалия вооружилась ручкой и на поля журнала мод, который выписывала Аделаида Станиславовна, стала заносить вкратце ответы, которые давал ей служащий.
– Значит, можно предъявить страховой полис в любом из ваших филиалов? Благодарю вас. Теперь такой вопрос: у вас есть филиалы за границей, к примеру, в Швейцарии? Нет? А вблизи от нее? Нет, только не во Франции, в Германии и Австрии, скажем. Что? Ни одного филиала? А как насчет Италии? Филиалы в Риме и Венеции? А в Милане нет? Очень жаль… Ничего особенного, простое любопытство. Спасибо, месье, вы мне очень помогли.
Положив трубку на рычаг, баронесса сидела несколько минут, напряженно о чем-то размышляя. Потом вскочила.
– Антуан! Съездите на вокзал и возьмите мне билет на ближайший поезд до Венеции. Да, я знаю, что прямого сообщения из Парижа нет, но мне очень туда нужно. И чтобы я уехала не позже, чем сегодня вечером. В общем, устройте как-нибудь, чтобы поменьше пересадок.
Через час Аделаида Станиславовна заглянула к дочери и с изумлением обнаружила, что та собирает чемодан. Вообще-то баронесса Корф принадлежала к тем людям, которые возят с собой либо много багажа, либо почти ничего. На сей раз она решила ограничиться необходимым минимумом.
– Куда это ты собралась? – в удивлении спросила старая дама.
– В Венецию.
– А как же Новый год? Мы ведь собирались отмечать его вместе! Ты, я, Казимир, Ксения, Саша…
– До русского Нового года еще далеко, – отмахнулась Амалия. – Не волнуйся, я быстро вернусь.
– Из Венеции? Да туда добираться с тремя пересадками, не меньше! Девочка моя, что ты задумала?
– Ничего. Просто мне нужно побывать в Венеции, только и всего.
Аделаида Станиславовна всплеснула руками, но от дальнейших расспросов удержалась, по опыту зная: если дочь что-то решила, отговаривать ее бесполезно.
Это длительное и непростое путешествие осталось в памяти Амалии как один короткий миг. На самом же деле она прибыла в Венецию совершенно измотанная и сразу отправилась в знакомый отель.
Так как традиция отмечать Новый год за границей обрела на тот момент не слишком много поклонников, ее любимый номер оказался свободен, и баронесса смогла без помех его занять.
– Джулиано, я бы хотела навести кое-какие справки, строго неофициально. Понимаете, дело в том, что я ищу одного человека…
Портье выслушал ее и обещал все разузнать как можно скорее.
Вечером Амалия вышла на улицу, если можно так назвать небольшую полоску тротуара вдоль канала, и отправилась на стоянку гондол. С моря дул холодный ветер, и вообще волшебный город казался неуютным, а также – по правде говоря – чрезвычайно грязным. Но вот на соседнем канале кто-то запел, протяжно и печально, и наша путешественница вмиг позабыла про все на свете – точнее, про все, кроме того, что привело ее сюда.
– Синьора, мы прибыли…
– Вот, возьмите. Сдачу оставьте себе.
– Благодарю вас, синьора, вы очень щедры!
Гондольер высадил пассажирку недалеко от нужной ей гостиницы и уплыл, ритмично подгребая веслом. Вновь подул ветер, и баронесса поежилась.
«Как же здесь сыро и мрачно зимой… брр! Совсем не похоже на Париж, хотя там тоже холодно. Впрочем, Париж я люблю в любое время года. Что есть, то есть».
Из гостиницы вышла парочка, переговариваясь с типично итальянской живостью. Потом появился хорошо одетый господин с тростью, уверенно помахивая ею при ходьбе. Сердце у Амалии екнуло.
«Он? В потемках очень похож на брата… Но как проверить?»
И баронесса последовала за мужчиной.
Незнакомец не садился в гондолу, предпочитая двигаться по суше, идти по набережным и узеньким мостам, нависающим над черной водой. Судя по всему, господин давно не был в Венеции и не знал, что многие сухопутные улицы здесь заканчиваются тупиками, а по воде добраться из одной точки в другую гораздо проще и быстрее. Как раз в то мгновение, когда мужчина уперся в один из таких тупиков и озадаченно нахмурился, соображая, что делать дальше, Амалия и решилась подать голос.
– Анатолий Сергеевич?
Незнакомец живо обернулся.
Это был граф Павел Ковалевский.
Глава 28 Последние штрихи к портрету
Баронесса узнала его сразу, хотя он сделал все, чтобы походить на своего младшего брата: сбрил усы, надел очки и изменил прическу. Граф легко мог обмануть молодого инспектора Мерлена, но не Амалию, пусть даже до сей поры видевшую его всего лишь раз в жизни и то мельком.
– Надо же, какой сюрприз, Павел Сергеевич, – проговорила она, оправившись от изумления. – А ведь мы все считали вас умершим… зверски убитым, если быть точной. Вы не узнаете меня? Я баронесса Корф. Мы встречались с вами когда-то на благотворительном вечере у князя Кочубея.
Граф молчал, но по его лицу Амалия видела, что тот лихорадочно соображает, как ему поступить. Теперь, когда его узнали, отпираться вообще-то не имело смысла.
Баронесса рассчитывала получить от него кое-какие объяснения. Ведь этот человек провел всех: Папийона, Левассёра, даже ее саму. Пока ехала в Венецию, она была убеждена, что за всем случившимся стоит Анатолий Ковалевский, который вовсе не так серьезно болен, как думают окружающие. Но теперь, в венецианском тупике, слабо освещенном светом единственного покосившегося фонаря, Амалия поняла, что с самого начала была не права.
Как, ну вот как она могла упустить из виду то, что ей повторяли почти все, – что граф Ковалевский умен и мстителен и вовсе не принадлежал к числу людей, которые дают себя провести? Павел Сергеевич абсолютно не подходил для роли жертвы, это прямо-таки бросалось в глаза!
– Да, я помню, – только и сказал граф, кивнув. А затем рассмеялся, показав зубы, мелкие и ровные. Но в смехе его сквозило беспокойство. – И что же вы намерены делать теперь, сударыня?
– Для начала – выслушать ваш рассказ.
– О чем?
– О том, как вы поняли, что Мария Туманова не любит вас и никогда не полюбит, что бы вы для нее ни делали. О том, как замыслили ее погубить – с ее же помощью, хотя женщина вовсе не подозревала об этом. Кстати, вы уже наведались в филиал?
– В какой филиал? О чем вы?
– Я говорю о филиале страховой фирмы «Бертен, Арнольди и компания». Ведь вам же известно, что страховку можно предъявить к оплате в любом филиале фирмы, не так ли? Газеты уже сообщили о казни Марии Тумановой, а для вас смерть бывшей любовницы означала миллион франков. Потому что все помнили про то, что вы застраховали жизнь в ее пользу, но никто даже не вспомнил о второй страховке, а она действительна. И если бы граф Ковалевский не смог получить деньги, за ней смогли бы явиться его наследники… а в качестве преданного брата Анатолия вы и являетесь таким наследником.
Амалия с расстановкой хлопнула в ладоши несколько раз.
– Браво. Ваш случай достоин того, чтобы войти во все учебники по криминалистике или стать романом, настолько он превосходит все, на что способно обычное воображение.
Глаза графа сверкнули.
– Я пошел на это вовсе не из-за денег, что бы вы там ни говорили.
– Но тем не менее не собирались от них отказываться, верно?
– Не вижу причин отказываться, – опять со смешком ответил Ковалевский. – Мария собиралась нажить состояние на моей смерти, и, по-моему, только справедливо, если бы я обошелся с ней точно так же.
– Вы настолько ее ненавидели?
– Нет. Я ее любил. И отдал бы за нее жизнь, не задумываясь. Но ей не нужна была моя любовь. Ей был нужен глупец Урусов, будь он трижды неладен! Что, ну что она могла в нем найти? Георгий был скучен, как… как фонарный столб. И все же я готов был терпеть. Я бы простил ее… Но тут Мария стала строить планы, как было бы хорошо, если бы я умер и оставил завещание в ее пользу. Или страховку, которую никто не станет оспаривать, в отличие от завещания. Я дал ей все, готов был жениться на ней, а она мечтала только о моей смерти. Я чуть с ума не сошел, поймите!
– И вы решили отомстить ей. Так?
– Да. Но если бы я отнял у нее все, то она все равно осталась бы с Урусовым и была счастлива. Я хотел наказать ее иначе… совсем иначе. Чтобы каждый прожитый миг стал для нее пыткой.
– А вы обидчивы… Как я поняла, с женихом своей сестры Веры вы не стали особенно церемониться.
– О, Вера… Вы и тут догадались? Верно, я его убил. Не потому, что он не имел права жениться после ее смерти – имел, но не так, как собирался. Негодяй растоптал ее память, посватавшись тотчас же после похорон к какой-то глупой тыкве женского пола, но с десятком винокуренных заводов. Уничтожив его, я почувствовал: сделано как раз то, что и нужно было сделать.
– А вы легко уничтожаете людей, как я погляжу.
– Вот тут вы не правы. Положим, моя жена давно мне надоела, но у меня и в мыслях не было избавляться от нее столь радикальным способом. Иное дело – Мария. Но я не представлял, что делать, в голову лезли всякие чудовищные мысли. И только когда понял, что она не отказалась от желания застраховать меня и убить, решил использовать ее же план против нее. Хочешь моей смерти? Хорошо, ты ее получишь… Но ты еще пожалеешь о том, что твое желание сбылось!
– Однако при этом вы вовсе не собирались умирать.
– Разумеется, нет! Поначалу я думал подкупить какого-нибудь сторожа морга и достать подходящий труп, который занял бы мое место, как бы сыграл мою роль. Но тут выяснилось, что Толе осталось жить совсем немного. Брат порядочно меня изводил в последние месяцы, насмехался над тем, что Мария бросила меня, и мне на ум пришла идея: пусть он тоже послужит моим замыслам. В ожидании его смерти я объявил, что готовлюсь к переезду, и выгнал почти всех слуг. Мои убийцы тоже готовились…
– Дайте-ка я предположу, что было дальше. В понедельник Анатолий Сергеевич умер. Верно?
– Да. Скончался во сне.
– Вы перенесли его труп в ванную, смежную со спальней, и обложили пакетами со льдом. Так?
– Однако! Вы что же, подсматривали за мной?
– Нет. Просто я обратила внимание на воду, что под ванной. Конечно, вы могли там мыться во вторник вечером, но на самом деле это лед растаял и потек. Когда вы пришли из клуба, вам пришлось повозиться, чтобы перетащить тело в свою кровать и, очевидно, загримировать его, чтобы он больше походил на вас. Свет в вашем окне горел долго…
– Браво! – отозвался Ковалевский и, подражая Амалии, захлопал в ладоши. – Зачем вы задаете мне вопросы, если и сами все знаете?
– Не все, поверьте. Вы были режиссером и играли в любительских спектаклях. Ваш брат тоже играл, но я ошиблась, подумав на него. Именно рука умелого режиссера направляла события так, чтобы все шло как по маслу. «Убийство» должно было произойти во вторник, и вы подтолкнули своих убийц, объявив, что в среду отправитесь аннулировать страховку. И сделали все, чтобы те нанесли свой смертельный, как они считали, удар в точно рассчитанный вами момент.
– Верно. Это было нелегко, поверьте, но я справился.
– И у вас был сообщник – ваш слуга, который беззаветно предан вам. Вы заблаговременно отправили его в Швейцарию, чтобы Савельев обеспечил алиби Анатолия Ковалевского и заодно ваше собственное. Я права?
– Да.
– Камердинер поехал один и, прибыв в санаторий, представился Анатолием Ковалевским. А чтобы там не раскусили, что гость абсолютно здоров, сразу же устроил под надуманным предлогом скандал. Позже слуга вернулся во Францию, и как раз вовремя – чтобы обнаружить остывший труп своего хозяина. К сожалению, современное состояние науки не позволяет точно определить время смерти, если она произошла больше суток назад… И Савельев же по распоряжению «брата» вскоре забрал тело для похорон – дабы доктора не вздумали делать полное вскрытие, которое бы неминуемо показало, что у убитого были пораженные туберкулезом легкие, а стало быть, убит вовсе не граф Ковалевский. Но так как способ убийства был налицо и все выглядело крайне убедительно, никто не стал настаивать. Слуга допустил только одну крошечную ошибку – когда поставил гроб в столовой. Помню, ваша бывшая жена, явившись в особняк, сразу сказала, что такой преданный слуга не стал бы оставлять тело хозяина в столовой, это нехорошо. Но в остальном ваш сообщник действовал безупречно… хотя, конечно, ему далеко до вас.
– Рад, что вы так думаете, сударыня.
– Вы спрятались в спальне, ожидая появления своего убийцы. Когда Нелидов вошел, он слышал ваше дыхание, но думал, что дышит тот, кто лежит в постели. Петр нанес два или три удара, зажег свет и упал в обморок. Тогда вы нанесли еще несколько ударов по трупу, чтобы уже никто не мог признать в нем Анатолия Ковалевского, и, как я полагаю, облили место преступления заранее заготовленной свежей кровью. Ведь собственная кровь вашего умершего брата должна была к тому времени уже свернуться.
– Да, мой слуга купил перед отъездом ведро крови на бойне. Я только разбавил ее водой, потому что она тоже начала сворачиваться.
– Когда Нелидов пришел в себя, его единственной мыслью было поскорее скрыться. Но даже в том взвинченном состоянии, в котором юноша находился, его не покидало ощущение, что кто-то смотрит на него… кто-то словно следит за ним.
– Да, если бы он заглянул за ширмы в углу, получилось бы неловко, – с очередным смешком признался граф. – Но Нелидов выгреб наугад несколько вещей из ящиков, схватил деньги и выскочил за дверь, завывая от ужаса.
– Вещи, захваченные с собой, он вскоре выбросил. Это вы сумели вернуть в его квартиру некоторые из них?
– Нет, что вы! Я к тому времени уже поселился в Швейцарии как Анатолий Ковалевский и сменил несколько гостиниц, чтобы полиция не заметила расхождения во времени между появлением первого месье Анатоля в «Клоринде» и второго – в последующих местах. Но в Париже оставался мой слуга. Николай достал вещи, которые глупец Нелидов бросил в пруд у самого берега, кое-какие раскидал рядом, чтобы их как можно скорее нашли, часы бросил в воду, чтобы поддержать видимость уничтожения улик, а ключ, кольцо и фарфоровую статуэтку вернул тому, кто их похитил.
– После чего вы с сообщником стали ждать, когда ваших убийц арестуют. Но, несмотря на то, что вы в свое время дали кое-кому понять, например, балерине Корнелли, что застрахованы на большую сумму, следствие топталось на месте.
– О да, сударыня. И все из-за вашего сына, который решил со мной поссориться как раз в тот момент, когда делать этого не стоило. Да еще и пообещал меня убить, причем прилюдно. Я был раздосадован, потому что он мог спутать все карты. Но, к счастью, вскоре в Швейцарию, где я скучал, изображая чахоточного больного, явился инспектор, и я рассказал ему – как бы между прочим, само собой, – что мой бедный брат Павел застраховал свою жизнь, вероятно, на большую сумму.
– И судьба Марии Тумановой была решена.
– Не совсем. Я не был до конца уверен, что ей отрубят голову. Конечно, мне очень хотелось этого, но в случае, если бы эта мерзавка отделалась тюремным сроком, я бы все равно нашел способ избавиться от нее. К счастью, молодой прокурор на суде пошел на принцип и добился смертного приговора для нее и ее жалких сообщников. Ну а я за небольшую мзду купил право смотреть, как ей отрубают голову. Правда, чуть не попался – Мария увидела меня и узнала даже в гриме.
– Ах, вот оно что… – медленно проговорила Амалия. – Поэтому на нее словно нашло безумие, и женщина стала кричать и вырываться…
– Именно так. Но ее, конечно, никто не стал слушать. Сейчас, наверное, она вдвоем с Урусовым гуляет по опаловому небу, а за ними бледной тенью следует Нелидов – в качестве вечного наказания, я полагаю.
Амалию передернуло.
– Вы омерзительны. Теперь я понимаю, почему Туманова вас не любила и понимала, что никогда не сможет полюбить.
Глаза графа сверкнули.
– Вот как? Это она сама вам сказала?
И по его тону баронесса догадалась, что Ковалевский до последнего надеялся на обратное.
– Да, – ответила Амалия с вызовом. – А еще сказала, что ни о чем не жалеет, потому что умрет с Урусовым в один день.
Цитата была не совсем точной, но она осталась довольна тем, что ее слова явно сумели задеть графа.
– Боюсь, что вы не правы, сударыня. Конечно, Мария жалела, и еще как… Ведь ей пришлось жизнью заплатить за свою мечту – застраховать меня, затем убить и наслаждаться с Урусовым, став наконец богатой. Если бы вы видели ее там, в тюремном дворе, в шелковом платье, с безумными глазами, вы бы поняли, как ей хотелось повернуть все обратно и отказаться от своего детского плана. Потому что о страховке все равно стало бы известно, рано или поздно. И любой полицейский, не только великий Папийон, начал бы задавать себе вопросы и искать на них ответы. Тогда все, ее песенка была бы спета.
Где-то позади заурчали бродячие коты, и чуткое ухо Амалии уловило чужие шаги. Она зябко поежилась и сунула руку в сумочку.
– Вы считаете меня чудовищем? – с любопытством спросил граф.
– Не совсем. Вы скорее напоминаете паука, который расставил сети и поймал других пауков, которые верили, что поймают вас.
– Как вы нашли меня? Вы знали, что я приеду в Венецию?
– Нет. Но навела справки и узнала, что у страховой компании «Бертен и Арнольди» нет филиалов в Швейцарии. В тот момент я думала, что за всем этим стоит ваш брат Анатолий, изображающий больного, каковым не является. Мне казалось, что Ковалевский-младший вряд ли поедет во Францию, где его появление в отнюдь не умирающем виде может вызвать ненужные расспросы. Ну и где бы он решил получить деньги по страховке? Недалеко от Швейцарии, в Италии, например. У компании есть филиалы в Венеции и Риме, а Венеция ближе к швейцарской границе. Как видите, все очень просто… Стойте там, где стоите, милостивый государь.
И Амалия без всяких околичностей достала из сумочки револьвер.
– И вы тоже, уважаемый, – добавила баронесса, отступая в сторону.
У нее за спиной в нескольких шагах стоял Николай Савельев, и Амалия передвинулась так, чтобы держать обоих сообщников в поле зрения.
– Бросьте оружие, сударыня! – раздался чей-то звонкий голос.
И из тени выступила женщина. Револьвер ходуном ходил в ее руках, но держала она его крепко.
– Элен? – вырвалось у Амалии. Мысли в ее голове понеслись как сумасшедшие.
«Ах, боже мой! Ну просто театральная симметрия – трое против троих… Что там мне говорили? Граф всегда был неотразим для горничных… показания Элен решили судьбу ее хозяйки… Элен отсоветовала использовать против жертвы яд… Элен подсказала, как именно надо побудить Ковалевского заключить страховку, то есть незаметно подтолкнула хозяйку к тому, чтобы та застраховала свою жизнь в пользу графа… Ну, конечно! Каким бы хитроумным ни был Павел Сергеевич Ковалевский, он бы ни за что не справился с ситуацией, не будь у него сообщницы в стане врага. Да что там, наверняка именно горничная Тумановой предупредила его о том, что ее госпожа собирается его убить. Горничная, прислуга… Человек-невидимка, на которого никто, по большому счету, не обращает внимания и который все слышит, все знает. Естественно, Элен ненавидела свою хозяйку так, как только некрасивая женщина может ненавидеть красивую. Ах, черт побери!»
Итак, с одной стороны – Мария Туманова, Георгий Урусов и Петр Нелидов, а с другой – Павел Сергеевич Ковалевский и его маленькая армия: преданный слуга Николай и влюбленная в графа дурнушка-горничная. Любовь и коварство, коварство и любовь… Понятное дело, граф был куда искушеннее в коварстве, лучше умел вербовать сторонников, поэтому и выиграл.
– Ты как раз вовремя, дорогая, – иронично заметил Ковалевский, глядя на Элен. – Я уже порядком замерз тут, на ветру.
Надо было стрелять сразу же, не раздумывая, но Амалия упустила момент – и Николай, подскочив мгновенно, заломил ей руку, вырвал оружие.
– Мы должны ее убить, – объявила горничная. – Она все знает и, конечно, вовсе не собирается молчать…
– Похоже, ситуация складывается не в вашу пользу, баронесса, – учтиво заметил Ковалевский, который, похоже, в глубине души искренне забавлялся. – В свое время я прочитал немало детективных романов и вынес из них только одно суждение: все сыщики непроходимо глупы.
– Как видите, не все, – смело парировала Амалия, хотя ей было не по себе.
– Пусть так, но это мало что меняет. – Граф прищурился. – Вы ведь не учли Элен, не так ли? Были уверены, что у меня только один сообщник? А ведь именно Элен предупредила меня о планах Марии, а потом о том, куда именно Павел Нелидов собирается выбросить улики. Именно Элен пришла к нему, якобы с поручением от хозяйки, и подбросила их обратно. Да что там – если я буду перечислять, что девушка для меня сделала, мы будем стоять тут до самого утра.
– Кажется, я знаю, что еще она сделала, – медленно проговорила Амалия. – Никакого письма об опаловом небе не было, верно? Вы написали его потом, а горничная подбросила листок в бумаги хозяйки, которая не читала ваших эпистол и не могла вас изобличить.
– Чрезвычайно трогательное послание, – безмятежно подтвердил Ковалевский. – Конечно, я специально написал его так, чтобы оно произвело самое выгодное впечатление, попав в руки обвинения. Ведь должен же был прокурор доказывать, что я оказался невинной жертвой, так почему бы ему для этой цели не изучить мои письма? Надо было помочь ему, и я помог – по мере сил. Впрочем, это все уже дела прошлые, а теперь нам придется подумать о будущем. – Граф вздохнул, покачал головой и ехидно улыбнулся: – Похоже, завтра в газетах появится сообщение, что из канала выловили русскую баронессу, которая неосторожно отправилась ночью прогуляться и упала в воду. Я полагаю, такой поворот решит все наши проблемы. Николай, ты сумеешь доставить даму до ближайшего канала?
И вдруг грянули два выстрела. В следующее мгновение слуга повалился как подкошенный, а Элен стала медленно оседать на землю. На ее груди растекалось кровавое пятно.
Венецианские коты, учуяв, что в тупике творится что-то неладное, с душераздирающими воплями кинулись в разные стороны, а в неровный круг, отбрасываемый светом фонаря, вступил Александр с револьвером в руке. И лицо у него было такое, что граф невольно попятился.
– Ты? – вырвалось у Амалии.
– Бабушка беспокоилась из-за твоего спешного отъезда и позвонила мне, – объяснил молодой человек. – Я всегда знал, что не стоит оставлять тебя одну. Михаил один раз уже совершил ошибку, которая могла дорого нам всем обойтись… Так это граф Павел Ковалевский?
– Именно так.
– Он подстроил все, чтобы убить Марию Туманову и получить деньги по страховке? Получается, Михаил был прав. Брат постоянно твердил, что граф Ковалевский мерзавец. – Александр возвысил голос. – Что там вы говорили насчет канала и сообщений в газете? Может, там будет история об одном неизвестном господине, который неосторожно отправился ночью прогуляться, а на него напали грабители и застрелили? Все-таки Венеция – не самый спокойный город на свете!
– Прошу вас… – пробормотал граф.
Амалия тем временем подобрала свое оружие, убрала его в сумочку и, поглядев на сына, выразительно покачала головой.
– Саша, не надо… Не опускайся до уровня этих людей! Разве ты не понимаешь, как опасно стать такими, как они?
– Я понимаю, что вижу мертвеца, который уже давно похоронен в своем родовом имении, – парировал Александр. – Какая ему разница, умереть один раз или два?
И тон молодого человека был таким решительным, что коварный, ироничный, мстительный граф Ковалевский испугался. Его глаза забегали, на лице появилось жалкое, умоляющее выражение… Амалия с презрением посмотрела на него и повернулась к сыну.
– Саша, уже поздно, проводи меня в гостиницу.
– А он?
Баронесса Корф вздохнула.
– Утром я дам телеграмму Папийону. Конечно, комиссар будет в ярости, но тут уж ничего не поделаешь.
– Утром? – вырвалось у графа.
– Да. Так что у вас еще есть время, чтобы исчезнуть навсегда. Но само собой разумеется, что о получении страховки не может быть и речи.
– Вы… вы губите меня, – пробормотал граф. – Я все растратил… у меня почти ничего не осталось… Я выплатил по тысяче франков всем, кто содействовал расследованию… а жилье в гостиницах… переезды…
– Нет, – твердо сказала Амалия, – я не дам вам обменять кровь несчастной женщины на золотые монеты. Выбирайте: или вы исчезаете, или – до ближайшего канала рукой подать. Во втором случае точно завтра в газетах появится сообщение о том, как русский дворянин ночью отправился гулять по городу и неосторожно упал в воду. Тогда тайна братьев Ковалевских будет похоронена вместе с ними. Однако Папийон все равно узнает правду, об этом я позабочусь.
– Вы не оставляете мне выбора, – прошептал граф, смертельно бледный.
– Как вы не оставили его Марии Тумановой. Вам надо было просто исчезнуть из ее жизни и никогда с ней не встречаться. Она бы оставила свою нелепую затею и вскоре думать бы о вас забыла. Но вы вообразили себя ловцом душ, которому все позволено. За что вы решили наказать ее? За то, что женщина никогда вас не любила? Как такой умный человек, как вы, не мог понять, что если любовь есть, она есть, а если нет, то все бесполезно?
Граф опустил голову и ничего не ответил. А Амалия взяла сына под руку и вместе с ним поспешила прочь из тупика.
По воде бежала лунная рябь, силуэты домов казались почти черными, и над каналами горбились узкие мосты. Безымянный кот с разодранным ухом караулил на набережной мышь, топорща усы. Проплыла одинокая гондола, рассекая мрак, – и долго, долго еще ее фонарь горел в ночи. А над куполом Сан-Марко набухала туча, похожая на распоротую подушку, и когда Амалия с Александром вошли в гостиницу, упали первые капли дождя.
1
Для сравнения: рабочий или гувернантка получали в описанное время 20 рублей в месяц. (Здесь и далее – примечания автора)
(обратно)2
Начало знаменитого стихотворения Афанасия Фета.
(обратно)3
Намек на слова книгопродавца из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»: «Что слава? – Яркая заплата // На ветхом рубище певца».
(обратно)4
Герой вспоминает известное стихотворение Лермонтова и начало стихотворения Пушкина «Прощай, свободная стихия».
(обратно)5
Месье великий князь (франц.).
(обратно)6
Это не шутка: в точности такое же мнение о Толстом высказала в своем дневнике и русская художница Мария Башкирцева, постоянно жившая во Франции (см. «Дневник» М. Башкирцевой).
(обратно)7
Ничего, мадемуазель (франц.).
(обратно)8
Речь Бисмарка в рейхстаге 11 января 1887 года.
(обратно)9
Великий – Наполеон I; малый – Наполеон III (прозвище ему дал Виктор Гюго); претендент – граф Шамбор, так называемый Генрих V, который был в шаге от занятия престола, но никогда не правил.
(обратно)10
Одно из заблуждений тогдашней медицины, которое стоило жизни многим пациенткам.
(обратно)11
Начало стихотворения А. К. Толстого.
(обратно)12
Начало стихотворения В. С. Соловьева.
(обратно)13
Когда началась Французская революция, сын короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты был еще мальчиком. Вскоре его родителей казнили, а сам он умер при невыясненных обстоятельствах. Отсутствие точных данных о его смерти привело к тому, что в последующие годы несколько самозванцев выдавали себя за него.
(обратно)14
Ничего (итал.).
(обратно)15
Историю знакомства Амалии с герцогом Олдкаслом прочитайте в романе В. Вербининой «На службе Его величества» (издательство «Эксмо»).
(обратно)16
Долгое время Ницца была итальянской территорией, и поэтому там сохранилось много жителей итальянского происхождения.
(обратно)17
Об этой истории читайте в романе В. Вербининой «В поисках Леонардо», издательство «Эксмо».
(обратно)18
То есть член Французской академии, одного из самых престижных учреждений Франции; в ней состоят только сорок человек, причем каждый из них является академиком пожизненно.
(обратно)19
Каролина Павлова – известная поэтесса и переводчица того времени.
(обратно)20
Подстрочный перевод на французский: «Когда сидишь ты ночью у камина и вспоминаешь умерших друзей, золу воспоминаний кто незримый всех чаще ворошит в душе твоей?»
(обратно)21
Болезнь сердца (выражение эпохи). – Здесь и далее примечания автора.
(обратно)22
Здесь: пассия (выражение эпохи, франц.).
(обратно)23
Кстати (франц.).
(обратно)24
В 80-е годы Европа несколько раз была на грани кризисов (из-за Болгарии, германских провокаций и др.), которые в любой момент могли вылиться в общеевропейскую войну. В конечном итоге такая война действительно случилась, но несколько позже, и получила название Первой мировой.
(обратно)25
Костюм (выражение эпохи).
(обратно)26
Тетушка (франц.).
(обратно)27
«Прекрасный вид» (от франц. belle vue).
(обратно)28
Имеется в виду крестьянская реформа, повлекшая за собой разорение многих помещиков.
(обратно)29
29 июня – дата, после которой официально было разрешено охотиться.
(обратно)30
8 июня 1845 (франц.).
(обратно)31
Этикетка лекарства (выражение эпохи).
(обратно)32
119-я статья «Устава уголовного судопроизводства» фактически оставляла мировому судье право выносить любой приговор на свое усмотрение.
(обратно)33
В реалиях сегодняшнего дня – трудовая книжка.
(обратно)34
Одно из мест тогдашней ссылки за не самые тяжкие правонарушения.
(обратно)35
Бракоразводные дела в то время проводились через консистории, члены которых, бывало, брали за ускорение процедуры развода большие взятки.
(обратно)36
Званые вечера (от франц. soirées fixes)
(обратно)37
54 статья X тома Гражданского судопроизводства Российской империи.
(обратно)38
Мужик (франц.).
(обратно)39
Роковая женщина (франц.).
(обратно)40
Перчатка без пальцев, обычно из ткани или кружев.
(обратно)41
Конечно, он хотел бы ее поцеловать, но согласно правилам этикета руку в перчатке не целуют.
(обратно)42
В имперской России дворник был примерно то же, что консьерж во Франции: он знал всех жильцов в доме и обязан был вести регистрационную книгу, в которую заносились данные о них. Если надо было получить о ком-то сведения, то, как правило, прежде всего обращались именно к дворнику.
(обратно)43
Содержанкой (разумеется, выражение происходит от знаменитой «Дамы с камелиями» Дюма-сына).
(обратно)44
О начале этого знакомства, а также о знакомстве Амалии с Зимородковым читатель может узнать из романа «Отравленная маска», издательство «Эксмо».
(обратно)45
В имперской России вагоны помимо классов делились на вагоны для курящих и на вагоны для некурящих.
(обратно)46
Герой приключенческих романов французского писателя Понсона дю Террайля, которые пользовались фантастическим успехом.
(обратно)47
Сторублевая ассигнация.
(обратно)48
Начальник отделения в каком-либо учреждении.
(обратно)49
Его императорскому величеству (традиционное сокращение).
(обратно)50
Герой детективных рассказов Эдгара Аллана По.
(обратно)51
Имеется в виду Петр III, муж Екатерины Великой.
(обратно)52
Геморроя (старинное выражение).
(обратно)53
Фидлер, Феррер, Фармер, Фешер, Фелье, Ферье, Фодье, Финье, Фесье, Фурье (европейские фамилии).
(обратно)54
Польша, равно как и Финляндия, была в описанное время частью Российской империи.
(обратно)55
Репродукция картины, написанной маслом; олеографии были особенно распространены во второй половине XIX века.
(обратно)56
Страшная железнодорожная катастрофа на Московско-Курской ж. д., которая произошла 30 июня 1882 года возле деревни Кукуевка; тогда погибли и получили увечья более 100 человек.
(обратно)57
Знаменитый беллетрист того времени, автор детективных повестей.
(обратно)58
Тогдашние лотерейные билеты были наподобие советских облигаций: их можно было в случае необходимости продать или заложить, и они участвовали во всех розыгрышах Государственного банка.
(обратно)59
Курьерский поезд – так назывался в те времена поезд-экспресс.
(обратно)60
Старое название Хельсинки, когда он был еще частью Российской империи.
(обратно)61
Comme il faut (франц.) — здесь: приличные люди, полностью соответствующие требованиям общества.
(обратно)62
Н.П. Ланин был редактором «Русского курьера». Помимо того, он владел заводом, который производил фруктовые воды, а также недорогое шампанское.
(обратно)63
В 80-е годы XIX века это вино считалось эталоном, но — эталоном крайне низкого качества.
(обратно)64
Сиреневый (франц.).
(обратно)65
Званый вечер (франц.).
(обратно)66
Роковая женщина (франц.).
(обратно)67
Тайный советник — чин 3-го класса, соответствовал генерал-лейтенанту в армии; статский советник — чин 5-го класса.
(обратно)68
Это наш сын Дмитрий, он счастлив видеть вас (франц.).
(обратно)69
Ах, синьора, благодарю вас! Сударь! Сударыня, какая красавица! (франц., итал.)
(обратно)70
Дорогая (франц.).
(обратно)71
Какой скандал! (франц.)
(обратно)72
Офицер (франц.).
(обратно)73
Александр, это невежливо (франц.).
(обратно)74
Женщина, свободная от предрассудков.
(обратно)75
Это просто потрясающе! (франц.)
(обратно)76
Подробнее о взаимоотношениях Амалии и Александра Корф читайте в романе Валерии Вербининой «Отравленная маска», издательство «Эксмо».
(обратно)77
В конце XIX века так назывались детективные романы. (Прим. автора.)
(обратно)78
Амалия имеет в виду пожар, который случился в Гродно 30 мая 1885 года, когда сгорело больше половины города. (Прим. автора.)
(обратно)79
Слишком взволнован (франц.).
(обратно)80
В частности, когда в пьесе Мольера «Мизантроп» главный герой предлагает бездарному поэту отправиться со своими стихами «в кабинет», это значит вовсе не то, что перевел наш переводчик. (Прим. авт.)
(обратно)81
Популярный в то время автор детективных произведений. (Прим. автора.)
(обратно)82
Самоубийство (франц.).
(обратно)83
Это не было самоубийство, это было убийство (франц.).
(обратно)84
Брак (франц.).
(обратно)85
Убийство, жестокое убийство, убить (франц.).
(обратно)86
От французского objet — дама сердца (выражение конца XIX века).
(обратно)87
Ребенок, сын (франц.).
(обратно)88
Гений (франц.).
(обратно)89
Это неслыханно! (франц.)
(обратно)90
Что за манеры! (франц.)
(обратно)91
Подробнее об этом читайте в романе Валерии Вербининой «Леди и одинокий стрелок», издательство «Эксмо».
(обратно)92
О знакомстве Амалии с Марсильяком, которое случилось при довольно примечательных обстоятельствах, читайте в романе Валерии Вербининой «Путешественник из ниоткуда», издательство «Эксмо».
(обратно)93
Человеку свойственно ошибаться (лат.).
(обратно)94
Имеется в виду Нечаев, чей нашумевший процесс послужил отправной точкой для написания романа «Бесы». (Прим. автора.)
(обратно)95
Тайны прошлого (франц.).
(обратно)96
Sachet — пакетик (франц.).
(обратно)97
Убийство на любовной почве (франц.).
(обратно)98
О том, почему Амалия так болезненно восприняла появление Мельникова, прочитайте в романе Валерии Вербининой «На службе Его величества», издательство «Эксмо».
(обратно)99
«О музыке мира» (лат.).
(обратно)100
Об Алексее Нередине подробнее можно прочитать в романе «Похититель звезд».
(обратно)101
Германский император Вильгельм II отправил Бисмарка в отставку в марте 1890 года.
(обратно)102
Студентам в Российской империи жениться запрещалось.
(обратно)103
Пляска смерти, путешествие трупа (фр.). Средневековая аллегория (обычно в живописи и скульптуре), когда процессия мертвецов (символизирующая смерть) увлекает за собой живых.
(обратно)104
Дворник во времена Российской империи нередко был лицом, тесно связанным с полицией, и следил за общим порядком в доме.
(обратно)105
Первая встреча этих героев описана в романе «Отравленная маска».
(обратно)106
Телефон был изобретен в 1876 году. В России первые городские телефонные станции начали действовать в 1882 году.
(обратно)107
Мародерство, габеж (фр.).
(обратно)108
Полуперчатки без пальцев.
(обратно)109
Негодяй (польск.).
(обратно)110
Какой ужас! (фр.)
(обратно)111
Прыжок в воздух (балетный термин).
(обратно)112
Веревка (канат), на которую крепится люстра (театральное выражение).
(обратно)113
Ну конечно (франц.).
(обратно)114
Польша в описанное время входила в состав Российской империи. (Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)115
Набор украшений, созданных в одном стиле (выражение XIX века).
(обратно)116
Александр Валевский – сын Наполеона и польской аристократки Марии Валевской, французский сенатор. Леоном звали другого сына Наполеона – от Элеоноры Денюэль де ла Плэнь.
(обратно)117
Польское ругательство.
(обратно)118
Laidak – мерзавец (польск.).
(обратно)119
Простак (польск.).
(обратно)120
Об этом читайте в рассказе Валерии Вербининой «Сокровище короны».
(обратно)121
«Первый любовник», здесь – молодой красавец (театральное амплуа в XIX веке).
(обратно)122
То есть орден Анны.
(обратно)123
Такая цитата действительно имеет место быть в письмах Александра Сергеевича.
(обратно)124
То есть поезд-экспресс.
(обратно)125
Как мило! (франц.).
(обратно)126
Сто рублей. Заработок рабочего или гувернантки был, к примеру, двадцать рублей в месяц, следователя – двести рублей.
(обратно)127
Подробнее читайте в романе Валерии Вербининой «На службе его величества», издательство «Эксмо».
(обратно)128
О поэте Нередине (кстати, близком знакомом баронессы Корф) подробнее читайте в романе Валерии Вербининой «Похититель звезд», издательство «Эксмо».
(обратно)129
Южное ругательство.
(обратно)130
À la russe – в русском духе (франц.).
(обратно)131
Кое-что о господине Верещагине можно узнать из романа Валерии Вербининой «Отравленная маска», издательство «Эксмо».
(обратно)132
Мой дорогой (франц.).
(обратно)133
Подробнее об этом читайте в романе Валерии Вербининой «Путешественник из ниоткуда», издательство «Эксмо».
(обратно)134
Дворники в императорской России занимались также регистрацией жильцов, проживающих в доме, и в случае чего полиция всегда обращалась к ним за сведениями.
(обратно)135
Из письма А.К. Толстого Б.М. Маркевичу от 26 апреля 1869 года; опубликовано (как и указал библиотекарь) в сборнике «Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и друг.», СПб., 1888.
(обратно)136
Рак? (лат.)
(обратно)137
Шарабан – разновидность открытой повозки с сиденьями, используемой для поездок, прогулок и т. п.
(обратно)138
Персонаж комедии Козьмы Пруткова «Любовь и Силин».
(обратно)139
Препараты с бромом применялись в то время как успокоительное средство. Позже почти все они были выведены из области медицины из-за токсичного характера брома.
(обратно)140
Доктор Жан-Мартен Шарко (1825–1893) – французский врач-психиатр, автор трудов по неврологии.
(обратно)141
Поэт Алексей Нередин – персонаж романов Валерии Вербининой «Похититель звезд» и «Заблудившаяся муза».
(обратно)142
То есть детективных романах.
(обратно)143
Импотент (франц.).
(обратно)144
Имеется в виду «Остров Сахалин», который А. П. Чехов написал на основе своих личных впечатлений от поездки туда.
(обратно)145
Аналогично; то же самое (лат).
(обратно)146
Конец (франц.).
(обратно)147
Из стихотворения «Зимнее утро». Лидочка цитирует не совсем точно: у Пушкина «сквозь тучи мрачные желтела».
(обратно)148
Ревель – город Российской империи (сейчас – Таллин).
(обратно)149
Ни дня без строчки (лат.).
(обратно)150
Званый вечер (франц.).
(обратно)151
Свистунов цитирует стихотворение «Виноград».
(обратно)152
Театральные амплуа: «кокетт» – красавица героиня, «гранд-кокетт» – красавица более зрелого возраста.
(обратно)153
О драматурге Щукине можно подробнее прочитать в романе «Заблудившаяся муза».
(обратно)154
Театр в Петербурге, в котором до революции нередко гастролировали французские труппы.
(обратно)155
Товарищ прокурора – как мы сказали бы сейчас, заместитель прокурора.
(обратно)156
Простите, сударыня, я не говорю по-английски (франц.).
(обратно)157
Первый класс (франц.).
(обратно)158
По вагонам (франц.).
(обратно)159
Скажите, сударыня, это купе номер семь? (франц.).
(обратно)160
Жюль Ренар.
(обратно)161
Здесь: в наилучшем исполнении (франц.).
(обратно)162
«Houbigant» – одна из крупнейших французских парфюмерных фирм XVIII–XIX веков, официальный поставщик большинства королевских дворов того времени.
(обратно)163
О том, что было причиной этой двусмысленности, можно подробнее прочитать в романе «На службе его величества», издательство «Эксмо».
(обратно)164
Время Наполеона III.
(обратно)165
Подарок (франц.).
(обратно)166
Жанна Пакэн – знаменитая французская модистка.
(обратно)167
Автомобильные марки 90-х годов XIX века, большинство из которых осталось в истории.
(обратно)168
«Королевский папоротник» – одни из самых известных духов той эпохи. Были любимым ароматом Мопассана.
(обратно)169
По-английски May – май, майский.
(обратно)170
Французский писатель, самая знаменитая его книга – роман «Сафо» о любви к куртизанке.
(обратно)171
То есть Вторая империя (Наполеона III) хуже империи его дяди, Наполеона Великого.
(обратно)172
Знаменитые модельеры той эпохи.
(обратно)173
Чарльз Фредерик Ворт, законодатель мод второй половины XIX века, изобретатель турнюра.
(обратно)174
О Шарле де Вермоне можно подробнее прочитать в романе «Похититель звезд», издательство «Эксмо».
(обратно)175
«Английское кафе» (франц.).
(обратно)176
Знать (франц.).
(обратно)177
Делайте ставки (франц.).
(обратно)178
Ставки сделаны (франц.).
(обратно)179
«Парижская парфюмерия» (франц.).
(обратно)180
Что угодно мадемуазель? (франц.).
(обратно)181
Мадлен – имеется в виду Мадлен Жербер, главный дизайнер модного дома сестер Калло.
(обратно)182
Козла отпущения (франц.).
(обратно)183
Представление окончено (итал.).
(обратно)184
Французский писатель, один из основоположников детективного жанра.
(обратно)185
В больших количествах (франц.).
(обратно)186
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)187
Знаменитый итальянский художник, большую часть жизни проработавший в Париже.
(обратно)188
В августе 1897 года президент Франции Феликс Фор ездил в Россию с целью укрепления отношений между двумя странами. За год до того во Франции побывал Николай II.
(обратно)189
Около 8 миллионов современных евро.
(обратно)190
Жорж Фуке, Анри Вевер – знаменитые владельцы ювелирных фирм того времени.
(обратно)191
Об этом подробно рассказывается в романе французского писателя Альфонса Доде «Короли в изгнании».
(обратно)192
О начале этой дружбы можно прочитать в романе «Отравленная маска».
(обратно)193
Обо всем этом рассказывается в романе Доде «Короли в изгнании».
(обратно)194
Жак Дусе (1853–1929) – знаменитый французский модельер.
(обратно)195
Набор украшений в одном стиле.
(обратно)196
Морис Лелуар (1851–1940) – французский художник; более всего знаменит своими иллюстрациями к классическим произведениям мировой литературы («Три мушкетера», «Манон Леско» и др.)
(обратно)197
Подробнее прочитать об этом можно в романе «На службе его величества».
(обратно)198
Спасибо, сударь (франц.).
(обратно)199
Руку в перчатке (не бальной) согласно тогдашнему этикету целовать было не принято.
(обратно)200
Роза (лат.).
(обратно)201
Об истории этого камня и о том, как он оказался у Амалии, можно прочитать в романе «На службе его величества».
(обратно)202
Река, на которой стоит Любляна.
(обратно)203
Цареубийца (франц.).
(обратно)204
«Убиган» – одна из старейших парфюмерных фирм, просуществовавшая несколько веков.
(обратно)205
Французские городки, в которых происходили самые известные скачки того времени.
(обратно)206
То есть фонаря, который обыкновенно вешали на публичный дом.
(обратно)207
Да здравствует король! (франц.)
(обратно)208
Красное и невидимое (франц.).
(обратно)209
Красное выигрывает (франц.).
(обратно)210
Жанна Пакэн (1869–1936) – французская законодательница моды рубежа столетий.
(обратно)211
Англичанин, основатель одноименного дома моды с европейской известностью.
(обратно)212
Сын и продолжатель дела Чарльза Фредерика Ворта, основателя Высокой моды и самого знаменитого кутюрье XIX века.
(обратно)213
Луиза де Лавальер – одна из фавориток французского короля Людовика XIV (короля-солнце).
(обратно)214
Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным – правитель Флорентийского государства (конец XV века).
(обратно)215
О том, сбылись ли надежды Амалии, можно узнать из романа «Девушка с синими гортензиями».
(обратно)216
О Нередине подробнее рассказывается в романе «Похититель звезд».
(обратно)217
Кино.
(обратно)218
Морганатический брак – брак члена царствующего дома (короля, принца и т. д.) с особой ниже его по происхождению. В этом случае супруга остается в тени своего мужа и не приобретает его титул, а дети не наследуют престол.
(обратно)219
Словцо, острота (франц.).
(обратно)220
Государственный переворот (франц.).
(обратно)221
О дальнейшей судьбе мадемуазель Лантельм можно прочитать в романе «Девушка с синими гортензиями», издательство «Эксмо».
(обратно)222
Эту историю прочитайте в романе «Золотая всадница», издательство «Эксмо».
(обратно)223
Отметим, что во французском языке буква «K» встречается крайне редко. – Здесь и далее примечания автора.
(обратно)224
Утренние представления в театре (франц.).
(обратно)225
Прозвище парижских бандитов.
(обратно)226
По-французски фамилия комиссара означает «бабочка».
(обратно)227
Популярная в те годы писательница, автор сентиментальных романов.
(обратно)228
Подробнее об этом таинственном знакомом Амалии можно прочитать в романе «Леди и одинокий стрелок», издательство «Эксмо».
(обратно)229
Роман Эмиля Золя о судьбе куртизанки.
(обратно)230
Машину (выражение эпохи).
(обратно)231
Знаменитый археолог, откопавший руины Трои и нашедший многочисленные золотые предметы (так называемое «золото Шлимана»).
(обратно)232
Создательница дамских шляпок, которые в ту эпоху пользовались особенным спросом.
(обратно)233
Украшение для волос из перьев.
(обратно)234
Лина Кавальери – итальянка, знаменитая певица и признанная красавица той эпохи, в одном из браков – княгиня Барятинская.
(обратно)235
Знаменитые французские актеры.
(обратно)236
Этот факт приведен в воспоминаниях Поля Пуаре «Одевая эпоху».
(обратно)


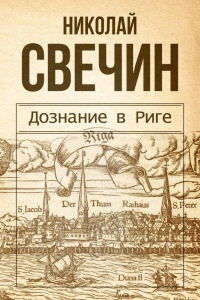

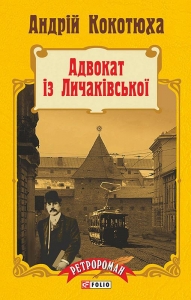

Комментарии к книге «Амалия. Книги 12-21», Валерия Вербинина
Всего 0 комментариев