Данил Корецкий Усмешка Люцифера
Часть первая Научный сотрудник Трофимов
Глава 1 Пропавший перстень
Ленинград, 1961 год
Сторож Сергеич, убитый точным ударом колющего предмета в область сердца, теперь взирал на мир из траурной рамки на специальном столике в вестибюле отдела Западноевропейского прикладного искусства и оружия Государственного Эрмитажа. На расплывчатой карточке, переснятой с его паспортной фотографии, Сергеич был как стекло трезв, непривычно строг, чисто выбрит и выглядел гораздо моложе, чем его запомнили сотрудники отдела. Но и в тогдашних его глазах таилась тоска, будто знал наперед Сергеич, что суждено стоять ему в почетном карауле по случаю собственной кончины.
Семь дней простояла в вестибюле фотография в компании двух пыльных искусственных гвоздик и таблички с надписью «Митрохин Виктор Сергеевич, 1898–1961 гг., погиб при защите социалистической собственности». Сотрудники проходили мимо по своим делам, нет-нет да спотыкаясь иногда взглядами о покойного Сергеича.
— Митрохин, хм… Оказывается, и фамилия была у человека, и имя…
— Был бы жив, так и не узнали бы… А он героизм проявил…
— И все-таки ужасная смерть… С открытыми глазами умер, и не просто открытыми, а будто увидел что-то такое, ужасное… Говорят, такой силы и точности был удар, как профессиональный хирург сработал…
— Хирург с заточкой, ага, конечно… Может, черт с вилами?
— А кто сказал, что заточка? Не факт. Узкий колющий предмет, а это все что угодно может быть. Может, каким-нибудь старинным стилетом и укокошили, не удивлюсь… Он же все болтал про каких-то призраков в Рыцарском зале. Вот и доболтался…
— Пил человек как лошадь, это каждому известно. В белой горячке чего только не привидится. Только ведь из оружия на том стенде ничего не пропало, перстень один и унесли…
— Так вот в нем-то все и дело. Нехороший это перстень, все так говорят. Киндяеву нашему вон руку едва не прожег. А одной сотруднице в 38-м чуть палец отпиливать не пришлось, когда она его надела…
— Нечего было надевать музейный экспонат, за то и поплатилась…
— А завотделом тогдашняя, она за что? У нее мужа арестовали сразу после того, как этот перстень у нас появился. А потом и ее саму сослали в степи, и где она теперь — неизвестно. Получается, кто к нему ни прикоснется, всем так или иначе платить приходится…
— Как же тогда Трофимов, эмэнэс наш молодой? Он этим перстнем занимался в последнее время, к Сомову за заключением бегал, он его и в экспозицию протолкнул — и ничего, жив-здоров…
— Все это до поры до времени, попомни мое слово. Трофимов тоже в последнее время какой-то стукнутый ходит…
Разговоры, разговорчики, перешептывания, сплетни, слухи поползли, побежали по отделу, как тараканы. Сергеича в конце концов похоронили, фото вместе со столиком из вестибюля убрали, нового сторожа наняли (язвенник, непьющий, это был принципиальный момент). Сигнализацию заменили на какой-то усовершенствованный вариант. Витрину, где находился злосчастный перстень, отремонтировали, вставили новое, бронированное стекло, а место пропавшего экспоната заняла французская золотая вошеловка второй четверти XVI века с соответствующей подписью.
Но болезненное мельтешение в умах не прекратилось. Казалось, уже весь Эрмитаж, не только Западноевропейский отдел, вдруг заговорил об этом злосчастном перстне и связанном с ним убийстве — первом, кстати, в этих стенах за всю их более чем 100-летнюю историю. Образованные интеллигентные люди шепотом, вполголоса и строго между своими начали нести всякую мистическую дичь. Про эманации, трансцендентное, инферно и астрал. Слухи быстро выплеснулись в город и поползли по улицам, гостиным и кухням Ленинграда в уже упрощенном, понятном для народных масс виде. Кто-то из посетителей, оказывается, тоже наблюдал некие призрачные фигуры в Рыцарском зале и тоже, кстати, едва не был убит; кто-то потерял сознание у витрины с перстнем, кто-то потерял зрение, кто-то вообще сошел с ума… И свет там якобы отключался сам собой, и двери сами собой захлопывались, и так далее. В конце концов появились сведения, будто бы уже бродит по залу призрак самого сторожа Сергеича с торчащим из груди обломком древнего кинжала и сшибает у посетителей мелочь на опохмел. В Рыцарский хлынули любопытные посетители, как будто там выставили новый редкий экспонат, что само по себе было неплохо, если бы не множество глупых вопросов, на которые приходилось отвечать смотрительницам зала.
Завотделом Наталья Ивановна Силуанова по прозвищу Железная Ната была вынуждена провести специальное собрание, где потребовала от сотрудников пресекать любые слухи, связанные с перстнем и вообще последними трагическими событиями, а также пригрозила самыми суровыми карами любому, кто будет уличен в обсуждении данной темы. При этом она пристально смотрела в сторону младшего научного сотрудника Трофимова, которого, видимо, считала главным источником неприятностей.
И зря. Трофимов, конечно, в последнее время уделял перстню много внимания, это был, что называется, «его» экспонат — выстраданный, выделенный им из множества других, его стараниями определенный в постоянную экспозицию. Пропажа перстня здорово огорчила Трофимова, оглушила, осиротила даже. Несколько дней он ходил будто с похмелья — руки дрожали, голова болела, еда в горло не лезла. Пока однажды кондуктор в автобусе, отрывая ему талончик, не произнесла вдруг густым мужским басом:
— Да хватит так убиваться, Ваня. Натешишься еще колечком своим… И оно тобой натешится. Всему свое время. Не горюй — и готовься!
С тех пор как перстень вошел в его жизнь, такие случаи «непроизвольного чревовещания» Трофимов наблюдал уже неоднократно. Однажды про перстень заговорила старушка, продававшая семечки, потом алкаш в парке завел сложный философский разговор… Потом они как будто выходили из гипнотического транса и не помнили, что говорили только что. Поэтому он не стал гадать, послышалось ему или не послышалось, а прямо спросил:
— Что значит — готовься?
Вместо ответа кондуктор вдруг встряхнула головой, заморгала часто, испуганно, и пропищала, почти проголосила тонким голоском:
— Кто не оплатил, граждане, а-апла-а-ачиваем!
Об этих случаях Иван никому не рассказывал. Как не рассказывал и о других необычных свойствах пропавшего перстня, о которых знал не с чьих-то слов, а из собственного опыта. Можно сказать, в этом смысле он был самым сдержанным и дисциплинированным сотрудником Эрмитажа, что бы там ни думала его начальница Наталья Ивановна.
* * *
«Не горюй и готовься». И в самом деле, ему ведь просто некогда горевать — он ведь кандидатскую диссертацию собирался писать об этом перстне! Профессор Сомов тему придумал: «Артефакты мировой религии — мифы и реальность», обещал даже научного руководителя подыскать! Кто за него, Ивана, будет заниматься этой работой?
Следующие несколько вечеров младший научный сотрудник Иван Трофимов провел в архиве Эрмитажа, где в конце концов нашел то, что искал, — сопроводительную записку к экспонату «Перстень базилевса» под инвентарным номером 6254875-ВТ. Записка гласила: «Кольцо, изъятое у врага народа Визжалова А. С. (уголовное дело № такой-то) и, предположительно, имеющее историко-культурную ценность, направляется в Наркомпрос с целью его дальнейшего изучения. Особый Отдел ГУГБ НКВД, г. Москва, 12 августа 1937 г.». Ниже стояла написанная от руки резолюция: «В Госэрмитаж, на доп. исследования!» — и необычайно размашистая, в пол-листа подпись, которая, как решил Трофимов, могла принадлежать только наркому просвещения.
Кто такой Визжалов А. С.? Как у него оказался перстень? Может, это какой-нибудь известный человек? Князь, белый генерал? Английский шпион? Трофимов расспрашивал родителей, теток и дядьев — никому эта фамилия ни о чем не говорила. Поделился как-то за обедом с Киндяевым.
— Понятия не имею, что за шиш такой. Зачем он тебе? — спросил Киндяев.
— У этого Визжалова наш перстень изъяли, как у врага народа, в тридцать седьмом. Я в нашем архиве сопроводительную читал…
— Я с врагами народа не ручкался, — буркнул тот. — А ты все никак не успокоишься с этим чертовым перстнем?
Киндяев невольно скосил взгляд на свою правую ладонь, где до сих пор красовался след от ожога.
— Своровали его, Ваня, тю-тю, до свиданья. Теперь пусть тот, кому он достался, и ломает голову, откуда он, и зачем, и какой враг его нам подкинул…
— Я решил кандидатскую писать по этому перстню.
Киндяев чуть не подавился котлетой.
— Та-ак… А ты представляешь, какого штыка тебе забьет наша Железная Ната?
— Не важно. Профессор Сомов меня поддержит, если что, он мне сам эту тему и посоветовал. Вы скажите, как с этим Визжаловым дальше быть? Куда идти, с кем разговаривать? Вы ведь сами кандидатскую когда-то защищали, проходили через все это, а?
— Через что? Я, Ванечка, по истории хазар больше специализировался, а не по врагам народа и всяким криминальным артефактам. — Киндяев проглотил котлету, запил компотом, отставил тарелку. — Но если по уму, то в архив НКВД тебе надо, писать запрос на допуск к уголовному делу. Там все и прояснится. Если, конечно, допуск дадут. А чтобы дали, надо будет доказать, что ты не просто Ваня Трофимов, у которого случился острый приступ любопытства, а молодой перспективный ученый, работающий над серьезной научной проблемой. Здесь без Сомова твоего тебе не обойтись, и без Железной Наты, кстати, тоже. Потому что Ната — это Госэрмитаж, солидное государственное учреждение, для которого ты как бы и стараешься…
— Я не как бы, я в самом деле стараюсь! — вставил Иван.
— Вот и старайся, — буркнул Киндяев. — Хотя мой тебе совет: плюнь ты на этот перстень. Не потому, что чертовщина всякая и прочее… Пустое это, вот и все. Не наука, а дрянь какая-то. Даже сам не знаю…
Он сердито посмотрел на свою пустую тарелку с остатками горчицы.
— Вот представь, нашли какую-то рукопись на неизвестном языке. Как будто бы. Нашли и стали ломать голову, что там написано. Лучшие умы бились, бились над этой загадкой, сто лет бились, двести, триста. Наконец кто-то, светлая голова, сумел подобрать шифр… И оказалось, что там какие-то похабные анекдоты записаны. Причем не смешные, а именно что похабные. Можешь себе такое представить?
Иван подумал, покрутил головой.
— Нет, Николай Петрович, не могу. Если есть загадка, так надо ее решать, так уж человек устроен. Что будет в ответе, наперед никто ведь не знает. А пока не узнает, так и покоя не будет.
— Да какой ответ, Ваня? Вот тебе ответ, любуйся.
Киндяев протянул ему свою правую ладонь, чуть ли не под самый нос ткнул. В середине ладони алел круглый шрам от ожога. Никому его Киндяев раньше не показывал, да и что там смотреть — шрам и шрам. Но сейчас Иван сразу понял, в чем дело: на коже из красных линий и точек проступала оскаленная львиная морда, точный отпечаток перстня.
— Похабно и не смешно, Ваня. Только что с этим ответом делать, решай сам, — сказал Киндяев, убирая руку.
* * *
Оформление всех необходимых бумаг заняло месяца полтора. За это время Иван Трофимов из рядового сотрудника Эрмитажа превратился в соискателя ученой степени кандидата исторических наук, молодого ученого, работающего над серьезной, перспективной и крайне важной для диалектического познания мира темой. Профессор Сомов, как и обещал, подобрал ему научного руководителя — завкафедрой истории Ленинградского университета Михаила Юрьевича Живицкого, специалиста союзного уровня по раннехристианской культуре Ближнего Востока. Полный, пропахший душистым трубочным табаком и похожий на веселого медведя, Михаил Юрьевич благословил Ивана в его научных изысканиях, утвердил план работы на ближайшее время, пообещал всяческое содействие…
И — о чудо из чудес! — Железная Ната, суровая пуленепробиваемая начальница Трофимова, неожиданно благосклонно отреагировала на его решение заняться судьбой перстня. Даже загорелась, вспыхнула, можно сказать.
— «Мифы и реальность» — вот что важно, Трофимов! Вот! — горячо заявила она, нацелив куда-то в окно ручку-самописку. — Это вы с Сомовым правильно уловили! Потому что объективная реальность не оставляет от мифов камня на камне, проходя по ним диалектическим бульдозером! Вот и займись этим, и чем скорее, тем лучше! Надоели уже эти кликуши с их призраками и ритуальными убийствами музейных сторожей! Скоро про Эрмитаж фельетоны писать начнут, как о главном музее мракобесия!.. Давай, Трофимов, вперед!
Ивану даже почудились в ее голосе знакомые басовитые нотки, как в случае с кондуктором. Но в свете все той же объективной реальности следовало признать, что голос Натальи Ивановны и раньше не отличался женственностью.
…В положенный срок пришел ответ из Учетно-архивного отдела КГБ, где Трофимову предлагалось явиться по адресу Москва, Измайлово, Серебряный остров, д. 1, стр.1 для ознакомления с интересующими его материалами.
Ясным октябрьским утром он прибыл в столицу — холщовый чемоданчик, плащ через руку, пятнадцать рублей командировочных в кармане. С ним приехал и Киндяев: он находился в отпуске и хотел проведать свою альма-матер — исторический факультет МГУ, да навестить сестру, с которой изредка переписывался, но не встречался уже несколько лет.
Первое, что они увидели, выйдя из здания вокзала на Комсомольскую площадь, была афишная тумба с изображением львиной морды с широко открытой пастью. Сразу трое элегантных молодых людей с прическами в стиле «бомонд» и жизнерадостными улыбками на лицах просунули свои головы в эту пасть, причем там легко поместилась бы еще и четвертая голова. «Московский цирк на Цветном бульваре! Сегодня и ежедневно! Берберские львы братьев Хатежных!» — гласил текст афиши.
И от этого на душе у Трофимова почему-то стало легко и приятно. Словно увидел, как отсюда и до немыслимой дали и выси, где сияет-переливается его готовая, в коленкоровом переплете, оформленная по всем правилам, с отзывами, заверенными необходимыми подписями и печатями, кандидатская работа, кто-то заботливо расстелил красную ковровую дорожку: иди, мол, не бойся! Как ни странно, но на Киндяева афиша тоже подействовала: он остановился, завороженно открыв рот, и радостно выдохнул:
— Поеду посмотрю представление — сто лет в цирке не был!
Это было настолько не похоже на аскетично-сдержанного старшего научного сотрудника, который никогда не говорил ни о чем, кроме работы, ни к чему, кроме нее, не проявлял интереса и откровенно чурался развлечений, что Трофимов только головой покрутил.
— Конечно, развлекитесь, Николай Петрович, это московский воздух на вас хорошо действует! До встречи в Эрмитаже!
Архив НКВД находился в бывшей церкви на окруженном водой острове на окраине Москвы, к нему вела единственная дорога со шлагбаумом и КПП. Пропуск уже был готов. Трофимова проводили в кабинет к дежурному по отделу, который, не отрывая взгляда от бумаг на своем столе, расспросил, что именно его интересует в деле Визжалова. А через десять минут Иван сидел за столом в маленькой подвальной комнате — наверное, бывшей монашеской келье, — разделенной надвое стеклянной перегородкой, по другую сторону которой находился какой-то рыжеволосый тип в штатском. Положив голову на согнутую в локте руку, он молча смотрел на Трофимова. Может, спал с открытыми глазами, кто его знает.
Перед Иваном лежала тоненькая папка с несколькими пожелтевшими от времени листками с машинописным текстом. Он прочел все от корки до корки. Ничего не понял. Прочел еще раз. Вдруг резко разболелась голова. Тяжелый сводчатый потолок над головой стал давить и, казалось, вот-вот обрушится на него. Захотелось в туалет — так сильно и внезапно, будто он не то что застудил, а отморозил себе мочевой. Трофимов поднял голову, чтобы спросить рыжеволосого, где тут уборная… И увидел, что тот целится в него из пистолета. Прищурив один глаз и приоткрыв рот в пренебрежительном, брезгливом оскале, он водил вверх-вниз вороненым стволом, выбирая, очевидно, какую часть головы Трофимова разнести на куски…
— Что случилось, гражданин?
Иван моргнул. Все прошло так же внезапно, как и началось. Ни оскала, ни ствола. Рыжеволосый сидел как сидел, уронив голову на руку, и с ленивым любопытством разглядывал его.
— Хотели что-то спросить?
— Я…
И в туалет тоже расхотелось. И голова прошла. Только в горле пересохло.
— Здесь попить где-нибудь можно? — охрипшим голосом спросил Иван.
— На выходе попьете, — безразлично бросил рыжеволосый.
Ладно. На выходе, так на выходе. Иван перечитал текст третий раз. Это был протокол допроса. Комиссар госбезопасности третьего ранга Визжалов Аристарх Сидорович (в скобках сверху почему-то написано «Выезжалов» и зачеркнуто) обвинялся в госизмене, подрывной деятельности и создании преступной религиозно-террористической организации под названием «Черная гвардия», главным магистром которой являлся сам нарком внутренних дел Ягода Генрих Григорьевич…
«…В 1925 году я служил старшим сотрудником по особым поручениям оперативного отдела ОГПУ г. Ростова-на-Дону. Моя девушка, Котик Татьяна, журналист местной газеты, однажды познакомила меня с Петром Дороховым по кличке Седой…
…да, я знал, что Дорохов был бандитом и налетчиком, а также что гражданка Котик была его любовницей, но это меня не смущало…
…неоднократно помогал Дорохову скрываться от справедливого возмездия, используя свое служебное положение. За это он делился со мной деньгами, нажитыми грабежами и убийствами…
…говорили, что этот «львиный» перстень с черным камнем, который он всегда носил на пальце, обладает сверхъестественной силой, благодаря чему Дорохову всегда и во всем сопутствует удача…
…решил завладеть перстнем и деньгами Дорохова. Для этого я сдал его органам ОГПУ и организовал его задержание, в ходе которого застрелил Дорохова. Перстень я сразу забрал себе. Вскоре я женился на его бывшей любовнице Котик Татьяне…
…перевели в Москву, и там я начал быстрое продвижение по службе, что подтверждало мысль о сверхъестественных свойствах перстня. Во время кадровой аттестации я познакомился с Генрихом Ягодой, который в то время возглавлял НКВД. Он проявил интерес к этому перстню, высказал несколько суждений о том, что все мы на самом деле служим не партии и народу, а Люциферу и что давно пора это признать…
…каждую пятницу. Кровь потом смывали. Как правило, в жертву приносили людей рабоче-крестьянского происхождения, морально устойчивых и идеологически подкованных, т. к., по циничному утверждению Ягоды, наш хозяин предпочитает мясо «с легким марксистско-ленинским душком»…
…на которых мы с врагом народа Ягодой Г. Г. и другими членами «Черной гвардии» планировали убийство товарищей Сталина и Ежова, введение на территорию СССР интервентских сил и захват власти. Заседания обычно заканчивались оргиями, в которых участвовали как законные супруги членов организации, так и женщины легкого поведения, которых специально доставляли на дачу Ягоды Г.Г…»
«Вот это дичь! Фантастическая дичь!» — едва не произнес Трофимов вслух. Нарком Ягода — главный магистр ордена дьяволопоклонников? Взрослые советские люди, комиссары госбезопасности, на полном серьезе проводили «черные мессы», совершали обряд жертвоприношения? Бр-р, просто не укладывалось в голове. Может, это какой-то идиотский розыгрыш и ему вместо выдержек из уголовного дела подсунули фрагмент антисоветской пьесы?
Иван посмотрел на своего рыжеволосого визави. Нет, такие люди шутить не станут.
Да и справка, завершающая дело, не располагала к шуткам: «Приговор приведен в исполнение 17 августа 1937 года в 22 часа 55 минут»…
Трофимов вздохнул и сделал пометку в блокноте: «Петр Дорохов, бандит-налетчик, г. Ростов-на-Дону, 1925 г.».
* * *
Его поезд уходил в 23.40. Иван успел побывать в ГУМе, на Красной площади, больше часа отстоял в очереди в Мавзолей, пока в голове вдруг не всплыл образ врага народа Ягоды в черной мантии, с гитлеровскими усиками и улыбочкой на выпачканном кровью лице. Идти в Мавзолей почему-то расхотелось. Он отправился бродить по городу, думая о своем, пока опять не увидел афишную тумбу со львом и футбольным мячом. А в самом деле, почему бы ему не сходить в цирк? Заодно расскажет Николаю Петровичу про дикий бред, официально задокументированный органами и положенный в основу расстрельного приговора! Спустился в метро, через четверть часа был на месте.
До начала вечернего представления оставалось еще много времени, поэтому Иван удивился, обнаружив толпу возле знакомого ему по открыткам и почтовым маркам здания с круглым куполом. Неужели все пришли за лишним билетиком?..
Потом заметил карету скорой помощи с включенным синим маяком. И два милицейских «козлика». Еще одна «скорая», ревя сиреной и сигналя, вдруг выскочила из ворот цирка и на бешеной скорости умчалась в сторону Садового кольца. Иван подошел поближе, и до него вдруг дошло, что люди здесь какие-то не такие, не похожи они на ту празднично разодетую толпу, что ломится вечером в цирк. Хмурые, встревоженные лица.
— Что случилось? — он тронул за плечо какого-то парня.
— Зрителя порвали на дневном представлении, — ответил тот с легким грузинским акцентом. — Схватил за голову, та как орех лопнула…
Иван остолбенел.
— Кто порвал? Кто схватил?
— Лев, как кто. Люди так говорят. Ограду плохо установили, он выскочил и напал на какого-то музейщика… Тот только сегодня приехал из Ленинграда, представляешь?!
Парень вдруг всплеснул руками, воздел их вверх, сложив пальцы в щепоти в типично восточном жесте.
— Это ж лев, понимать надо! Это ж не овца! А берберский лев — самый злой из всех, настоящий дьявол!.. Разве можно так ограду свинчивать?! И я мог на месте этого бедняги оказаться, и ты…
У Трофимова закружилась голова. На негнущихся ногах он подошел к милицейскому оцеплению и спросил у худощавого лейтенанта:
— Можно мне пройти? Я ищу своего коллегу, мы в Эрмитаже работаем, утром вместе из Ленинграда приехали…
Лейтенант оживился и, обернувшись, крикнул кому-то:
— Васильев, тут свидетель объявился! Он потерпевшего знает!
Потом сказал Трофимову:
— Хорошо, что вы с ним не пошли… Проходите, следователь с вас показания снимет! — и добавил: — И зачем вы в цирк ломитесь? Разве вам Эрмитажа мало?
Вынырнувший из дверей молодой человек в штатском взял оцепеневшего Ивана за рукав и провел в кабинет дирекции, где он под протокол подробно рассказал, как и зачем они приехали в Москву и как Киндяеву внезапно пришла мысль посетить цирковое представление. Про перстень с головой льва, в котором покойный Николай Петрович видел сатану, он не упоминал, чтобы не попасть в психиатрический стационар.
А в вестибюле Эрмитажа выставили в траурной рамке портрет старшего научного сотрудника Николая Петровича Киндяева. Его смерть широко не обсуждалась, но по углам сотрудники шептались:
— Сначала Сергеич, теперь Петрович…
— Двое, один за другим, это неспроста…
— И совпадение странное: лев с перстня его обжег, и лев же разорвал…
— Там полный зал народу, а зверь именно его выбрал…
Железная Ната не могла пресечь эти разговоры, но постепенно они сами собой сошли на нет, хотя ни один человек не забыл этих трагических совпадений, а несколько молодых сотрудников срочно уволились без объяснения причин.
* * *
— Это, конечно, трагический случай, но случай, — сказал профессор Сомов. — Лев может вырваться из клетки и загрызть зрителя, но при чем здесь перстень? Не впадай в мистику — советский ученый должен на все смотреть с позиций материалистической диалектики! Лучше расскажи, что ты раскопал в архивах.
— Да там просто бред какой-то! — Трофимов, то и дело заглядывая в свои записи, но все равно торопясь и сбиваясь, принялся пересказывать изученные документы.
Сомов слушал, сосредоточенно массируя подбородок узловатыми пальцами в старческих пигментных пятнах. Глаза за толстыми линзами смотрели спокойно и отрешенно, словно молодой человек зачитывал скучный доклад по архивоведению.
— Что ж, понятно, — негромко сказал он, когда Иван закончил. — Люди и не такое говорили под пытками… Или чтобы избежать пыток. Так что самые цветистые пассажи из этой истории можешь спокойно забыть.
— Вы хотите сказать, что его пытали? Наши, советские люди, чекисты?
Сомов наклонился вперед, посмотрел на него поверх очков.
— Ты уже большой мальчик, Трофимов. Наверняка читал материалы XX съезда партии, знаешь о перегибах и прочем. Но нас ведь интересует не это, верно?.. — Профессор подождал, словно давая возможность Ивану оспорить его точку зрения. Но спорить здесь было не о чем. — Ты занимаешься научной работой по конкретному артефакту, проводишь историческое исследование, а не анализируешь методы работы судебных «троек» или, скажем, природу психических фантомов. Улавливаешь разницу?
— Конечно, Порфирий Степанович.
— Поэтому отправляйся в архивы, Иван, в обычные наши скучные исторические архивы, где никто никого не пытает и не рассказывает побасенок. Копай, ищи там следы этого перстня, тереби специалистов в области предметов религиозного культа, расспрашивай, читай, общайся с коллегами. В общем, занимайся наукой. Фактами. А дешевыми сенсациями пусть занимаются журналисты.
— Но мне интересно узнать про этого Дорохова, Порфирий Степанович! Как у него оказался этот перстень, откуда и что это означает — «ему всегда сопутствовала удача»? Ведь посмотрите, в самом деле — Визжалов заполучил перстень и за десять лет из провинциального оперативника дослужился до заместителя начальника всей Государственной безопасности страны! Это ведь факт, согласны? Может, у Дорохова была похожая история?
— У твоего Дорохова по определению не может быть ничего похожего, Иван. Потому что он умер обычным бандитом, подонком общества. А не генералом, не знаменитым оперным тенором и не ученым с мировым именем…
И все-таки этот обычный бандит и подонок общества очень заинтересовал Трофимова. Он знал, что в Публичной библиотеке есть читальный зал региональной периодики, куда поступают газеты со всего Союза чуть ли не с 17-го года. Заказал подшивку ростовских газет за 1925 год, но оказалось, что библиотечный фонд сильно пострадал во время войны и за данный период у них ничего нет. Можно было, конечно, съездить самому в Ростов, что-то попробовать разузнать… Можно, в конце концов, написать еще один запрос — в архив Ростовского управления КГБ… Хотя вряд ли без специальной протекции его туда пустят.
И тут Ивана осенило. Он подошел к окошечку с надписью «Услуги абонентам».
— Скажите, вы делаете тематические подборки по периодике?
— Это платная услуга, молодой человек, — ответила девушка-библиотекарь.
— Понимаете, мне нужно найти сведения об одном человеке, он жил в Ростове-на-Дону. Я знаю только фамилию и имя. Мне нужны любые упоминания о нем, все, что угодно. Хотя бы по парочке ростовских газет пройтись, а?
— Вам за какой период?
— Я не знаю. Мне сказали, что довоенных ростовских газет у вас нет… Наверное, с 45-го… Ну и по сегодняшний день. Это будет сложно?
— Скажем так, это будет не скоро.
Девушка протянула ему бланк.
— В строчке «Тема» напишите интересующую вас фамилию. И телефон оставьте, вам позвонят, когда что-то найдется.
Позвонили через две недели. Единственное упоминание о Петре Дорохове содержалось в главной партийной газете Ростова-на-Дону «Серп» в статье под бодрым заголовком «Помнить героев!». Очень неожиданное упоминание. И опубликована статья недавно: воспоминания некой Светланы Дороховой о создании первой партийной ячейки в станице Нижне-Гниловская. В основном все события вертелись вокруг фигуры Архипа Кузьмича Терехова, занимающего в данный момент пост третьего секретаря обкома. В декабре 1917 года вместе с тремя односельчанами он вступил в перестрелку с белогвардейцами, засевшими в местной бане. Офицеры были уничтожены, а сражавшиеся с ними станичники составили костяк будущего ревкома. Одним из них был отец Светланы Дороховой, который позже создавал в Нижне-Гниловской колхоз и боролся с кулаками. Но упоминается также и брат Светланы — Петр Дорохов.
«…Батя Петра на учебу в Ростов отправил. Денег на дорогу дал и перстень, который он у беляка отнял. С мордой такой страшной. А Петро быстро в гору пошел. Он нам деньги из города передавать стал. Как-то приезжал на пролетке… Помню, рассказывал, что буржуев наказывает. А уж как именно, про то не знаю. Скорее всего, в органах работал. А через несколько лет погиб от руки бандитов…»
Перстень. С мордой страшной. Ну конечно, тот самый! Откуда следует, что якобы работавший «в органах» Петр Дорохов на самом деле был налетчиком по кличке Седой.
И еще, пожалуй, главное: среди прочих трофеев у белогвардейцев была изъята планшетка с рукописью о «каком-то мистическом перстне», которая сейчас находится в Ростовском музее краеведения.
«Никакой мистики нет! — уверяла Светлана Дорохова, сестра ростовского налетчика. — Есть исторический материализм, который еще в то нелегкое время предсказал неотвратимое наступление коммунизма!» Впрочем, эти правильные слова, скорей всего, вписал редактор, чтобы выдержать идеологическую линию.
Иван поднял голову от газеты, посмотрел на окошко услуг. Вместо девушки, которая оформляла заказ, сегодня там сидела пожилая женщина в косынке. А жаль. Он бы ее расцеловал, наверное.
Теперь стало совершенно ясно, где надо продолжать дальнейший поиск!
Глава 2 Поездка в Ростов
— Опять командировка, Трофимов? Ах, Ростов-на-Дону? А почему сразу не Сочи, не Ялта?
Железная Ната взирала на него с этакой брюзгливой помещицкой миной: ох уж мне эти крепостные, так и норовят свалить куда-нибудь, только бы барщину не отрабатывать!
— А знаете, Наталья Ивановна, я бы и в Сочи скатался с удовольствием! Да хоть на Золотые Пески, ха-ха! Но там, к сожалению, ничего нет по моей диссертационной теме!
У Трофимова даже дух захватило, настолько нахально, панибратски прозвучал его голос. Честное слово, он понятия не имел, откуда взялся этот тон, эта улыбочка, которая наползла на лицо, как упавший с люстры паук, растянула его, сделала каким-то чужим, неприятным самому себе.
— Да, очень жаль, очень жаль, Трофимов… Золотые Пески, хм, в самом деле… А как же непосредственные обязанности?
— Именно что непосредственные, Наталья Ивановна! Вы же сами сказали: диалектическим бульдозером — по мифам и слухам! И чем скорее, тем лучше! Я себе в блокнот так и записал! Вот и тороплюсь, стараюсь, воплощаю, так сказать!.. А донского рыбца, кстати, никогда не пробовали?
Она смотрела на улыбающийся рот Трофимова, на отполированные с утра мятным порошком зубы, и с лицом ее тоже что-то делалось. Оно теплело, расплывалось вширь. И, кажется, глупело.
— Кого, кого?
— Рыбца донского, Наталья Ивановна! Рыба такая! Говорят, умопомрачительная вещь! Обязательно привезу! Вручу лично!
— Ой, это лишнее, не стоит… Впрочем…
Она вдруг словно что-то вспомнила, коснулась рукой лба, застыла на минуту. Затем взяла ручку, поставила подпись под заявлением о командировке, передала ему.
— Это в бухгалтерию. Задурил ты мне совсем голову, Трофимов. Езжай в свой Ростов, копай… Бульдозерист ты наш диалектический…
Она улыбалась. Она шутила. Она даже не поинтересовалась, за каким таким ценным материалом ему понадобилось ехать за тысячи километров. Между тем всего несколько минут назад — Трофимов это знал точно — Железная Ната даже мысли не допускала ни о какой командировке, потому что из Калининграда прибыл контейнер с экспонатами по Пруссии эпохи герцога Альберта, нуждающимися в срочной паспортизации. Да и сам он еще сегодня утром не собирался никуда ехать, понимая безнадежность затеи и… тем более что на место Киндяева взяли новичка, которого надо было вводить в курс дела. И вдруг — словно молния сверкнула — решился, набрался наглости. А Железная Ната тоже вдруг взяла и подмахнула его командировку, практически не глядя… Чудеса, чудеса. Вот только улыбочка эта дурацкая (в коридоре Трофимов пальцами потрогал щеки, проверяя, сползла ли она, отклеилась ли)… Откуда?.. И вел он себя похабно, будто прохиндей из водевиля…
«Ладно. Чего не сделаешь ради науки, — сказал он себе. — Надо будет, и соловьем запоешь, и козлом поскачешь…»
И тут же неожиданно, экспромтом: «…А возьму-ка я себе купе люкс! Научный эксперимент: убьет меня Ната или не убьет?»
* * *
Ровно через двое суток диссертанта Трофимова — бодрого, свежего, отлично выспавшегося в комфортабельном люксе — встречал на перроне вокзала сам Синицын, директор Ростовского музея краеведения. Иван даже не удивился, чего-то такого и ожидал. Открывая перед гостем дверцу своей старенькой «эмки», Синицын извиняющимся тоном пробормотал:
— Была бы в нашем хозяйстве соответствующая машина, кхе-кхе, сами понимаете, обязательно бы… Для такого гостя… Кхе-кхе.
— Не стоит беспокоиться, Семен Лукич! — Трофимов благосклонно кивнул.
— Ну, как же не беспокоиться… Не каждый ведь день к нам из самого Эрмитажа ученые приезжают!..
Музей располагался в центре, в глубине зеленого двора. Знакомство с сотрудниками, чай с бутербродами, помесь рабочего завтрака с торжественным приемом. Такая почтительная сдержанность. Иван обратил внимание, что с подчиненными Синицын далеко не так любезен, как с ним. Через десять минут он громко скомандовал: «Хватит рассиживаться! Всем за работу!», хлопнул в ладоши — и все эти музейные матроны и сребровласые старушки, побросав недопитый чай, живо рассыпались по местам.
Небольшая экскурсия по музею. Вот сокровища Донских курганов, две тысячи единиц: сплошь золото и серебро. Вот клады боспорские. Вот каменные бабы половецкие. Чучело белуги, самой крупной в мире. Шарманки авторские. Сабли и шашки казачьи…
— Погодите, а где же стенд героев Донской революции? — спросил Трофимов. — Собственно, из-за него я сюда и приехал.
— Вот как?
Синицын растерялся.
— Мне очень жаль, Иван Родионович… Этот стенд, его, простите, разобрали… — На круглом, как блин, лице директора музея нарисовалось нешуточное страдание. Он отвел глаза в сторону и стал глотать фразы. — Там такая история неприятная… Терехов, секретарь обкома, который на стенде… Он на охоте погиб, вместе с подчиненным… Сейчас проверка, следствие, а пока все не выяснится, это, вот… Разобрать велели стенд, до дальнейших, как говорится, кхе-кхе…
— Вот тебе раз! Терехов погиб?
Ивану отчего-то вдруг представился дикий берберский лев, раздирающий на части упитанное тело в сером двубортном костюме с депутатским значком на лацкане.
— Его лев, что ли задрал?.. Тьфу, то есть медведь?
— Какой медведь, Иван Родионович? Эх, если бы медведь, не было бы никаких… — Синицын осекся. — Простите, я хотел сказать — застрелили Архипа Кузьмича, по случайности застрелили. И Бузякина, зама его, тоже… Очень неприятная история вышла, кхе-кхе…
— А где экспонаты со стенда? Не выбросили же их?
— Зачем же выбрасывать? Указаний таких не было… Вот, кое-что в этнографическую коллекцию перенесли…
Синицын показал на стеклянную витрину.
— Фуражка эта, Дорохов ее носил… А вот шашка Ивана Кротова… Рукоятка у нее резная, типичный донской мотив… Мы тут никаких имен не подписывали пока, сами понимаете…
— Там еще планшетка с рукописью была. Где она?
Синицын молча проводил его к военной экспозиции. Открытая планшетка лежала под стеклом рядом с оружием времен Гражданской войны. Она была пуста.
— А рукопись ту я чуть было не того… Ни в одну экспозицию тематически не лезет: не народное творчество, не литературный, так сказать, шедевр, вообще не пойми что… Перстень там какой-то описывается… Причем ладно бы скифской работы или половецкой… Да и расплывчато все как-то, не по-научному… Мистика сплошная, убийства…
— Где рукопись? — спросил Иван чуть резче, чем хотел.
— Да в столе она у меня, ничего с ней не стало! — поспешно заверил его Синицын, даже пальцами что-то такое изобразил, словно дирижер при исполнении бравурного марша.
Закончив осмотр музея, приземлились в директорском кабинете. Синицын надел резиновые медицинские перчатки и достал из ящика стола пухлый пакет желтой бумаги — замызганный, мятый, в бурых пятнах и отпечатках грязных пальцев.
— Привычка, кхе-кхе, старого музейщика, — он помахал рукой в перчатке. — Вам тоже могу одолжить пару…
— Спасибо, зачем? Это ведь не экспонат из чумного могильника, — сказал Трофимов.
— Ну… Как скажете.
Иван осторожно извлек из пачки исписанные листки, жадно впился в них глазами.
«Размышления и наблюдения о некоторых удивительных явлениях, а также событиях, связанных с так называемым «иудиным перстнем», записанные дипломированным каллиграфом Георгием Карловичем Рутке в осень 1859 г…»
Так начиналась рукопись. Если бы это оказался чудом уцелевший папирус из Александрийской библиотеки, или неизвестный автограф Пушкина, или даже заверенное печатью небесной канцелярии подробное изложение его, Ивана, собственной дальнейшей судьбы — вряд ли интерес оказался бы сильнее. Сильнее было просто некуда. Он принялся глотать текст, забыв обо всем на свете, не обращая внимания на Синицына, который бесшумной тенью перемещался по кабинету, уходил куда-то, возвращался и опять исчезал.
— Иван Родионович, простите покорно…
— А?
Трофимов поднял голову. На улице за окнами кабинета уже горели фонари, и дождь тихонько барабанил по карнизам. Поперек директорского стола лежал белоснежный рушник, на нем графин с прозрачной жидкостью, две рюмки и блюдо с какими-то разносолами.
— Что ж вы, Иван Родионович? — Синицын впервые оставил свой извиняющийся тон, он упрекал и даже немного сердился. — Вечер уже, смотрите-ка, а вы с утра на одной, простите, бумаге… Это не в донских привычках, чтобы гость вот так впроголодь сидел! Ну-ка, прошу к столу, немедленно!
Трофимов потер уставшие глаза и вдруг почувствовал острый, дразнящий запах. В животе сразу заворочалось, заурчало.
— А с рукописью что? — спросил он. — Я и трети пока не одолел, как быть?
Взмах руки Синицына был по-казацки, по донски решительным.
— Под расписку отдам! От нашего фонда, так сказать, вашему фонду! Мне, поверите ли, даже спокойнее станет…
Балык, черная икра, холодные щучьи котлеты с хреном, мягкая, невероятно вкусная водка («На домашнем укропе! Сам, кхе-кхе, настаиваю!») в простых граненых стограммовиках. И все так ладно, так хорошо складывается одно к одному, и собой Трофимов чрезвычайно доволен. Ведь не зря же он выбил эту командировку, ох не зря! Через месяц-другой, глядишь, списали бы рукопись, перечеркнули крест-накрест шпагатом — и на макулатуру! Все концы бы оборвались, страшно подумать!
— Я вас отлично понимаю, Иван Родионович! — энергично клюет носом Синицын. — Хуже нет, чем вот оно, почти в руках держишь, и вдруг щелк по носу, и нету! И все же, все же, кхе-кхе… — Он сморщил лицо, остро взглянул из-под бровей. — Я ведь перчатки эти надевал, как бы вам сказать… не только чтобы рукопись сохранить. Да плевать я на нее хотел, простите. Противно мне, Иван Родионович, гадко от этой бумаги. Будто зараза там липкая, тысячелетняя! Поймите только правильно… Я ведь и на курганах поработать успел, с трухлявых скелетов пылинки сдувал, в гробницах ночевать доводилось… Эх, всяко повидал… Не брезгливый я человек, вот чего нет, того нет. А тут словно, кхе-кхе… Не хочу за столом, простите.
— Странно, очень странно! Мне, наоборот…
— Еще бы не странно, Иван Родионыч! — перебил его охмелевший Синицын. — Два раза собирался… не в архив, нет, не во вторсырье — на помойку хотел выбросить! В кучу с листьями во дворике — сжечь! Уж простите великодушно… И — не смог! Испугался! Каждый раз как решусь, храбрости наберусь… выдвину этот ящик, а вместо пакета там — черный маузер! Знаете, как тот, из которого Терехов застрелился… Ну, настоящий маузер, десятизарядный, все как полагается… насечки на рукоятке, ствол лоснится, я даже запах слышал, перегаром пороховым тянет оттуда! И трезвый ведь был, и чувствовал себя нормально…
— Постойте, как это Терехов застрелился? — уставился на него Трофимов. — Его же на охоте убили, вы сами мне говорили!
Еще один отчаянный казацкий взмах, от которого едва не падает бутылка.
— Какая охота, Иван Родионович, дорогой вы мой!!. — Лицо директора сморщилось, вдавилось внутрь, как резиновая груша. — Не было никакой охоты!.. Сняли Терехова с должности, со скандалом сняли… Так он после этого вызвал к себе Бузякина… Эх!.. Не знаю уж, что там меж ними произошло… Спор какой-то был, говорят, кричал сильно. А потом за маузер схватился, он у него в сейфе лежал, и порешил — сперва его, потом себя!..
Синицын резко, с грохотом, выдернул ящик стола, где лежала рукопись Рутке, словно хотел поймать там притаившуюся мышь. Заглянул внутрь, хмыкнул довольно.
— Нет ничего! Пусто! — приподнял ящик над головой, зачем-то демонстрируя Трофимову. Оттуда посыпались какие-то крошки, обрывки бумаг, Синицын не обращал на них внимания. — А вы копайте там у себя, в Эрмитаже, изучайте, коли вам нравится!
Он больше не лебезил, не суетился, на Трофимова смотрел в упор, тяжело, не прячась. И хоть был пьян, держаться стал прямее. Совсем другой человек сидел сейчас перед Трофимовым.
— Дикая какая-то история вышла, — сказал Иван, чувствуя себя неловко. — Секретарь обкома, маузер, убийство…
— Вот-вот. А тут вы приезжаете, Иван Родионович… С чего бы это? — Не отрывая от собеседника взгляда, Синицын наклонился, поддел вилкой ломтик балыка, снова откинулся на спинку стула. — Столько лет валялось все это добро по чердакам станичным, никому не нужное, никто его не трогал, не вспоминал… И вдруг все как с цепи сорвались: то оформлять этот стенд срочно, то снимать, то сам Эрмитаж интерес к нам проявил…
— Это тема моей кандидатской, только и всего. «Артефакты мировой религии — мифы и реальность». Ничего загадочного… А перстень у нас в постоянной экспозиции выставлялся…
— Пока не украли, — веско вставил Синицын.
— Да. Вы слышали об этом?
— Музейщики — одна большая семья, — криво усмехнулся Синицын. — И у вас тоже без убийств не обошлось. Знаю, знаю… Так, значит, вы, Иван Родионович, у нас будущий кандидат. Будущий, — повторил он со значением.
Плеснул в рюмки, выпил сразу, выдохнул громко.
— А пока что вы обычный эмэнэс… Мелкий, то есть простите — младший научный сотрудник… Н-да…
Теперь опьяневший Синицын смотрел на гостя уже с явной издевкой. Если не злобой.
— Хоть убей, не понимаю, чего я так испугался-то… — проговорил он медленно, сквозь зубы, словно сам с собой. — Если бы ты с Лубянки был, так не прятался бы, сразу удостоверением в морду ткнул… А чего я тогда на вокзал поперся, лебезил, ляжками тут перед тобой дрыгал? А? Не знаешь?
Трофимов понял, что надо сворачиваться.
— Никто ни перед кем не лебезил, вы ошибаетесь, Семен Лукич. Спасибо вам большое за прием, за помощь. Мне пора.
Он поднялся из-за стола, затолкал пакет с рукописью в саквояж.
— А я тебе скажу чего, — Синицын его будто не услышал. — Из-за бумажек этих чертовых… Не зря я перчатки надевал-то. И сердце тряслось как студень все эти дни, и гнусь всякая мерещилась. Давило, давило…
Он расстегнул пиджак, потер рукой грудь через рубашку.
— А все чтоб я, значит, костерок вдруг не разложил во дворике музейном…
— Ну при чем тут костерок, Семен Лукич? — Трофимов уже стоял возле двери, обернулся. — Это уже, простите, из области мифов. Так вы все тезисы моей кандидатской на корню загубите! — Он выдавил смешок. — Наш девиз: никакой мистики нет!
Синицын застегнул пиджак, поправил галстук, выпрямился на стуле.
— Может, и так, Иван Родионович. Пусть будут мифы, я согласен, — пробормотал он устало. — Только мне от этих твоих мифов гадко и тяжело, а тебе, Трофимов, я вижу — сладко… Вижу, вижу, не отпирайся. Про бездну у Ницше слыхал? Он хоть и вражеской идеологии был человек, а сказал не в бровь, а в глаз: «Если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя». Вот так-то, Трофимов.
Обратно в Ленинград Иван тоже ехал в люксе. Попутчиков не было, всю дорогу читал рукопись, даже спать не хотелось. На работе первым делом отправился в бухгалтерию, вручил командировочное, чеки за питание и билеты на поезд. Главбух ознакомилась, даже не пикнула. И Железная Ната тоже. Так что научный эксперимент, можно сказать, удался.
А донского рыбца он, кстати, все-таки привез, на вокзале купил. Вручил начальнице в нарядном бумажном пакете — была довольна, зарделась даже.
Глава 3 Путь перстня Иуды
СССР, г. Ленинград, 12 июля 1963 г.
Уважаемый г-н Таубер!
Меня зовут Иван Трофимов, я — молодой ученый, сотрудник ленинградского музея «Эрмитаж». Занимаюсь научно-исследовательской работой, посвященной артефактам мировой религии. Как мне стало известно, Вы являетесь единственным потомком семейства фон Браун, его «потсдамской» ветви. Ваша бабушка, Ева Таубер, урожденная фон Браун, была дочерью основателя концерна ДФА — «Дойче Флюгцайг унд Аутоверк» Фридриха фон Брауна. Поэтому считаю своим долгом сообщить Вам, что в ходе моих исследований были обнаружены некоторые свидетельства о кончине Вашего двоюродного дедушки Германа фон Брауна, погибшего в декабре 1917 г. на территории России.
Как следует из документов, которые оказались в моем распоряжении, он был военным летчиком, считался одним из лучших на Восточном фронте. Во время разведывательного полета в районе г. Двинска мотор его аэроплана внезапно отказал, и Герман фон Браун произвел вынужденную посадку, которая закончилась для него трагически. Его тело обнаружили русские солдаты и похоронили на месте катастрофы. К сожалению, точное место захоронения мне неизвестно.
На пальце Германа фон Брауна в момент гибели был перстень из серебристого металла с черным камнем овальной формы. Некоторое время перстень хранился у офицера русской армии Латышева, который рассчитывал вернуть его родственникам г-на фон Брауна после окончания военных действий. Но Латышев погиб, не успев осуществить задуманное. Перстень сменил еще несколько хозяев, после чего след его потерялся.
Как Вы, наверное, догадались, г-н Таубер, моя научная работа непосредственно связана с перстнем Германа фон Брауна, который имеет отношение к религиозному культу и, следовательно, к интересующей меня проблеме. Буду очень признателен, если Вы сообщите мне, как он попал к представителям Вашего семейства и какую роль сыграл в жизни Вашей бабушки и ее родственников. Меня интересуют любые, пусть даже малозначительные подробности.
Заранее Вам признателен. С уважением,
Трофимов И. Р.
Рано или поздно подступаешь к этой черте. Прочитанное, впитанное, освобожденное из скорлупы тайны, вспышки озарений, ночные раздумья, еще черт-те что — весь этот великолепный хаос должен упорядочиться, найти свое место в отбитых на старенькой печатной машинке строчках. Грамотных, внятных, идеологически и стилистически выверенных, с правильно расставленными знаками препинания.
Оттягиваешь этот момент, придумываешь какие-то отговорки, погружаешься в материал, прячешься в нем. Страшно. Такая глыба перед тобой тысячетонная. Но уже теребит научный руководитель профессор Живицкий: «Когда думаешь заканчивать? Не страдай аспирантской болезнью — делать из диссертации конфетку! Написал — и защищай! Потом исследуй дальше, пиши докторскую, но это уже будет вторая серия!»
Конечно, легко так говорить, когда являешься признанным авторитетом в научном мире, корифеем, каждое слово которого — истина в последней инстанции… Ну, или в предпоследней…
Железная Ната жаловалась: отдел опять не выполняет план по публикациям. «Трофимов, где там твой знаменитый труд про перстень? Выдерни оттуда страниц десять и тисни в «Музейных ведомостях»! Мы же тебя в командировки посылали, в архив органов письма писали, поддерживали во всем. Да тебе самому лишняя статья не помешает!»
Хорошо хоть про купе люкс не вспомнила.
Трубы трубят, колокола звонят — пришла пора садиться и писать. Выстраивать.
Начать решил с малого: написал Карлу Тауберу в Ганновер. Отыскать единственного живого отпрыска клана фон Браунов ему помог Живицкий, у которого есть связи в научных кругах ФРГ. В общем-то, это было нетрудно.
Гораздо сложнее оказалось с самим письмом. Трофимов решил отправить его на официальном бланке, сказал Железной Нате — та пришла в ужас. Младший научный сотрудник Эрмитажа пишет послание представителю капиталистической державы, наследнику одиозной фамилии, в течение десятилетий угнетавшей немецких пролетариев, запятнавшей себя сотрудничеством с фашистами… Или не запятнавшей? Подожди, Трофимов, здесь надо семь раз отмерить, десять раз отмерить… Все-таки заграница есть заграница!
Она несколько раз правила его текст, так что русский офицер Латышев стал у нее сперва «белогвардейским», потом «вражеским», на каком-то этапе появился даже эпитет «бесчеловечный». Сам Трофимов перестал быть просто молодым ученым, превратившись в «советского комсомольца, антифашиста, приверженца марксистско-ленинской идеологии»…
— Пока не забыла, Трофимов: надо еще добавить, что ты осуждаешь политику НАТО! — сказала она как-то за обедом в столовой.
— Решительно осуждаю! — поддакнул ей Трофимов.
Письмо он втихую отправил в первоначальном виде, без всяких правок. Ничего страшного не случилось, его не арестовали, даже не вызвали на допрос. Железную Нату, правда, с тех пор стали называть Железной НАТО, но исключительно за глаза, да и на слух это изменение было почти неуловимо — знали и посмеивались только свои.
Спустя полтора месяца пришел ответ от Таубера. Он работает простым электриком на частном предприятии, любит спортивные передачи, особенно футбол.
«…О бабушке Еве почти ничего не знаю, т. к. ее отдали в психическую больницу, я ее там не навещал, а потом она умерла. Говорить о фон Браунах в нашей семье вообще не принято, мать всегда твердила, что это «проклятое отродье» и «дурная кровь». Может, оно и так. О судьбе дедушки Генриха и дедушки Вильгельма я узнал из старых газетных сообщений, которые нашел в шкатулке покойной бабки. Дедушка Герман считался пропавшим без вести, о нем ходили нехорошие слухи, будто он сотрудничал с красными и помогал им делать революцию, убивая женщин и младенцев. Но теперь ясно, что хотя бы один из этих Браунов умер приличной смертью. Это хорошо, спасибо за известие. А насчет кольца я думал, что это просто семейная сказка такая. Если найдете, можете оставить его себе, а стоимость просьба перевести на счет такой-то в «Дойчефолькебанк» в марках или долларах, только не в советских рублях. А за какую футбольную команду болеете вы, г-н Трофимов?..»
К письму прилагалось несколько превосходно откопированных на неведомом Ивану импортном аппарате газетных вырезок:
Ноябрь 1915 г. «Авиационный завод Браунов получил правительственный заказ на 22 миллиона марок»…
Март 1916 г. «Концерн ДФА поглотил автопромышленные предприятия Хамельна и Нинбурга»…
Июль 1916 г. «Знаменитый летчик-ас Герман фон Браун появился на благотворительном светском рауте в перстне, о котором ходит множество слухов»…
Январь 1917 г. «Тайны и загадки одного из самых влиятельных семейств Германии. Могло ли кольцо Браунов принадлежать когда-то библейскому Иуде?»…
Ноябрь 1917 г. «Глава концерна ДФА Генрих фон Браун: «Секрет нашего успеха — в каждодневной напряженной работе на благо Германии. А так называемый «перстень Браунов» — это просто семейная реликвия, наш талисман»…
Июль 1918 г. «Черный месяц Рейха. Крах промышленной империи ДФА совпал по времени с поражением германской армии в битве при Марне»…
Апрель 1920 г. «Разорившийся миллионер вскрыл себе вены в номере отеля»…
Август 1922 г. «Наследница империи Браунов помещена в психиатрическую клинику после попытки суицида»…
Октябрь 1922 г. «Автокатастрофа под Нюрнбергом: в сгоревшем авто марки «ДФА-Рокет» находилось семейство Вильгельма фон Брауна, производившего эти автомобили в 1916–1918 годах. Выживших в катастрофе нет»…
* * *
И как-то само собой все закрутилось, понеслось. С утра — работа, вечером — архив или библиотека. Все уверенней и звонче стучала в спальне Трофимова старенькая «Москва» в облупленной краске, доводя до белого каления соседей. Жаловались ли они в ЖЭК, молились ли они на спрятанные в кладовой бабушкины иконы, стучали ли неистово по батареям — о том неизвестно, но было им, соседям, небольшое послабление. В жизни Трофимова появилась та самая девушка из окошка услуг в Публичной библиотеке, что помогла ему когда-то с поиском ростовских газет. Звали ее Ирина, найти ее оказалось куда проще, чем благодарно расцеловать, как изначально мечталось Трофимову. Так что пришлось поводить сперва в кино и кафе, давая отдых себе и соседским нервам.
Но вот и первый поцелуй, и объятия, и признание, и, было дело, в один прекрасный майский вечер едва не пронзил тонкие кирпичные перегородки безудержный, похотливый скрип трофимовской пружинной кровати, который мог бы стать новой головной болью для соседей… Не случилось. То ли сильны оказались моральные устои молодого советского библиотекаря, то ли слишком уж щедрым показался ей этот аванс для пока еще не состоявшегося кандидата исторических наук. «Нет, Ваня, извини. Я считаю, сперва надо как-то устояться в жизни, а потом уже…»
А может, какая-то таинственная и могучая третья сила, опекавшая с некоторых пор Ивана Трофимова, убрала на время из его жизни помеху для научных поисков? Кто знает.
И опять застучала по вечерам машинка. Опять знакомый маршрут «работа — архив». Рукопись Рутке однозначно указывала направление дальнейших поисков. Иван поднял архивы Третьего отделения и Департамента криминальных дел Российской империи, где обнаружил протоколы следствия по «делу Боярова» за 1834 год…
Итак, ничем не примечательный рязанский провинциал Бояров прибывает в Петербург к дядюшке графу Опалову, владельцу «иудина» перстня и солидного состояния. Завладев дядюшкиным кольцом, юноша стремительно преображается: затевает кутежи, играет, активно приобщается к светской жизни. Звезда провинциала горит недолго: проигравшись однажды в карты, Бояров закладывает перстень князю Юздовскому, известному собирателю живописи и антиквариата. Наутро он является к князю с деньгами (дядюшка скоропостижно скончался — как вовремя! — и Бояров вот-вот унаследует его состояние), но тот возвращать перстень отказывается. Взбешенный Бояров вызывает его на дуэль. В последний момент Юздовского неожиданно настигают муки совести, он возвращает перстень и предлагает мировую. Но Бояров не соглашается и убивает своего обидчика метким выстрелом в горло. Боярова арестовывают, судят и ссылают на солдатскую службу на Кавказ, где следы его теряются…
Удивительный зигзаг судьбы обычного рязанского дворянчика! И знакомая уже по истории писаря Рутке схема: серая унылая личность заполучает перстень, стремительно распускается цветами зла, творит какое-нибудь непотребство и… Рутке умер от сифилиса, Бояров лишился дворянства и стал каторжником (вряд ли он жил долго и счастливо). Наверное, это можно назвать неизбежной расплатой.
* * *
В январе 1965 года в журнале «Вопросы истории» вышла статья Ивана Трофимова «Революционер-одиночка Павел Бояров: отголосок декабризма или предтеча анархии?».
«…Итак, почему же Боярову не давало покоя это кольцо? Примитивная жажда обладания? Желание утвердить себя с помощью этого так называемого «символа удачи»? Не первое, не второе и не третье! Напротив: убив на дуэли известного реакционера князя Юздовского, личного друга Николая Первого, Павел Бояров сознательно отказался как от владения кольцом, так и от владения огромным наследством графа Опалова. Он бросил вызов не только институту самодержавия, институту самодовольного мещанства, но и (что требовало не меньшей смелости) институту мракобесия, взлелеянному царизмом и процветавшему под его опекой. Павел Бояров пожертвовал собой, чтобы продемонстрировать торжество человеческой воли над первобытными инстинктами. Увы, поступок настолько же благородный, насколько недальновидный с точки зрения революционной борьбы…»
И так далее. Конечно, это была натяжка — мягко говоря. Дикая, нелепая, стыдная, но совершенно необходимая идеологическая натяжка.
«Бояров — революционер?! Да это голимое вранье!» — орал первое время Трофимову внутренний голос, ломкий и неуверенный голос студента-первокурсника. Но Трофимов давно уже не был студентом. Голос вскоре утих.
Статья вызвала некоторое оживление в академической среде, которое можно описать фразой: «Ах, сколько еще незаслуженно забытых имен в истории русской революции!»
Это можно было считать успехом.
* * *
И вдруг как гром среди ясного неба: профессор Сомов серьезно болен, лежит в Академичке, прогноз неблагоприятный. Трофимов приехал в больницу с коробкой шоколадных конфет и апельсинами, конфеты отдал сестре на посту — пустила ровно на пять минут.
Профессор его не узнал, напряженно смотрел мимо, беззвучно шевелил губами. Лицо пожелтело, высохло, спряталось за тяжелыми очками. Похож на инопланетянина, подумал Иван. Так и просидел все пять минут, пока не пришла медсестра. И только когда он встал, собираясь уйти, заметил, что Сомов держит его скрюченным пальцем за пуговицу на пиджаке, будто зацепился. Иван наклонился, осторожно взял его руку, легкую, холодную, хрупкую. И услышал тихое, как шорох бумаги:
— Мне уже не до идеологии, могу откровенно говорить… Ты теперь ищейка у него… Брось, брось… Берегись…
Трофимов долго потом думал над смыслом этой фразы. Если он здесь был, конечно, смысл. Первая реакция: Сомов бредит. Ищейка… При чем тут ищейка? И у кого это — у «него»? Но слова не давали ему покоя, и особенно последний жест профессора, когда он ухватился за пуговицу, словно утопающий за соломинку.
Сомов умер через день после визита Ивана. Хоронили на Новодевичьем кладбище. Старые университетские «тузы», многие из которых и сами приближались к последней черте, говорили прочувствованные речи, кто-то прочел стихи, написанные в молодости покойным (ого, Порфирий Степанович, браво!). Трофимов стоял в сторонке, среди студентов. Когда к гробу подошел очередной оратор — импозантный, сравнительно молодой еще мужчина с крючковатым носом и цепкими, пронзительными глазами, Трофимов услышал позади шепот:
— Дра-ась, сам Афористов пожаловал! Фу-ты, ну-ты!
— Это которого из Москвы поперли?
— Насчет поперли не знаю, но место Сомова на кафедре он займет, это сто процентов! Теперь не соскучимся, будь спок!
Изогнутая, бормочущая очередь прощающихся, стук сухой земли о крышку гроба, сумбур в голове. Отряхнув руки, Трофимов поспешил к выходу. Нельзя сказать, что смерть Сомова как-то особенно поразила его, но гнетущее чувство потери, которую ему еще предстоит осознать в будущем, имело место. Хотелось побыть одному.
За воротами кладбища он заметил огромный, сверкающий хромом и черным лаком автомобиль, по всей видимости, американского производства. Сперва подумал даже, что это катафалк. Хотя нет, слишком пижонский вид для катафалка. К тому же водительская дверца открылась, из машины вышел… Как его, Амфоров?.. Афористов, вспомнил Иван.
— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ диссертант!
Афористов вышел ему наперерез, протянул руку, как старому знакомому. Трофимов обалдело пожал ее.
— Можете не представляться, Иван Родионович, я знаю, кто вы. Наслышан и даже немного, как бы это сказать, начитан…
Не отпуская руку, Афористов откровенно разглядывал его, даже голову немного назад откинул. Кажется, вот-вот выдаст что-нибудь вроде: «Теперь немного развернитесь к свету… Еще на пару градусов, если можно…»
— Интересная тема, интересный подход… Рвение присутствует, что в наше время большая редкость… Я доволен. Главное, не расслабляйтесь, Иван Родионович. Очень не люблю, когда расслабляются. — Он отпустил руку, сделал шаг назад, прищурился, как художник, разглядывающий свежий мазок на полотне. — А теперь можете идти. Ищите, торопитесь. Работайте, Иван Родионович.
Не оглядываясь, Афористов сел в машину и уехал. И подвезти не предложил. Иван, не моргая, смотрел на удаляющуюся корму лимузина. Что это было? К чему? Откуда этот Афористов его вообще знает?
Когда машина скрылась из виду, он наконец смог пошевелиться. Побрел к остановке. Сел в подошедший автобус, поехал домой. Постепенно до него дошло: а ведь знакомый голос у этого Афористова — густой сочный бас… Как у той кондукторши. Стало быть, очередной сеанс чревовещания?
Но кто стоит за этим? Он отогнал дурные мысли, которые не могут прийти в голову советскому ученому-атеисту, исповедующему диалектический материализм.
* * *
У соседки, которая больше всех возмущалась стуком его печатной машинки, незаметно подросла дочь, поступила в музыкальную школу. Купили ей старенькое немецкое фортепиано, гулкое и дребезжащее… Гаммы и этюды, менуэты и сонатины с семи до десяти вечера, включая выходные.
Теперь на Трофимова никто не жалуется. Он больше не дятел и не долбо…б. Он нормальный мужик. Звук его машинки — как мелодия из старых добрых времен, когда все были моложе, добрее, а водка была дешевле. Вздумай он вдруг постучать среди ночи — в ответ из соседских комнат и квартир раздадутся восторженные аплодисменты. Впору устраивать концерты по заявкам.
Мораль: «стук-стук-стук» народу нравится больше, чем менуэт соль-минор И. С. Баха.
…В первые дни нового, 1967 года в «Историко-философском ежегоднике» вышел очерк «Опаловщина. История одной секретной аудиенции Наполеона».
Делать из графа Опалова революционера было бы совсем уж глупо. Да и нужды нет. С графом все предельно ясно: уважаемый, казалось бы, человек, москвич, в то же время типичный чиновник царской администрации (реакционер? Конечно, реакционер!), он доносит французским оккупантам на группу русских патриотов, готовящих поджоги в захваченной врагом Москве. Патриотов расстреливают, графа принимает сам Наполеон, благодарит за службу, в знак благодарности преподносит ему «иудин» перстень, сняв его с руки одного из своих генералов. Опалов, седой вдовец с одышкой, вдруг преображается, проделывая знакомый путь через безудержные кутежи, скандалы и славу первейшего развратника — к смертному одру. Мораль: вот она, гнилая сущность царского чиновничества.
Изюминка в том, что Опалов никогда и никому не сознавался в своем предательстве. Встреча с Наполеоном в его собственной версии выглядела как приглашение к сотрудничеству (со стороны Наполеона) — и исполненный негодования решительный отказ (со стороны Опалова). Якобы разъяренный император уже готов был собственноручно расправиться с «упрямым русским канальей», но мужество графа настолько поразило его, что он отпустил его на все четыре стороны и даже преподнес подарок en souvenir… Как ни печально, эта версия обрела официальный статус. А граф Опалов, несмотря на свою дурную репутацию, заработанную позже, считался чуть ли не героем Отечественной войны. В дореволюционной географии Петербурга значились Опаловский переулок и сквер имени Опалова, в Петербургском университете была учреждена Опаловская стипендия для иногородних студентов, финансируемая из графского наследства… Царизм, что с него возьмешь!
Чтобы докопаться до сути, Трофимову пришлось изрядно потрудиться. Мемуары, частная переписка, показания свидетелей по делам о государственной измене (в Москве после оккупации 1812 г. таких дел были тысячи), а также некоторые французские источники. И вот тут профессор Живицкий в очередной раз включил свои международные супервозможности и помог раздобыть копию очень редкой книги воспоминаний французского полкового лекаря Жака Моро, единственный уцелевший экземпляр которой хранился в городском архиве Сен-Дени под Парижем.
Это было чудо из чудес. Лекарь Моро водил личное знакомство с наполеоновским генералом Годе, с чьей руки был снят подаренный Опалову перстень. То есть не снят, если быть точнее, а — содран вместе с мясом, что привело к воспалению и смерти. Впрочем, по словам Моро: «…члены генерала уже были поражены неведомой мне инфекцией, и пальцы сильно распухли, от коей инфекции он впоследствии и скончался…»
* * *
Еще через два года, в 1969-м, в «Академическом обзоре новой и новейшей истории» вышел его «Тоннельный метод погружения в исторический процесс. Один артефакт, один миф, три эпохи». Краткая выжимка из первых двух публикаций плюс более развернутое исследование на основе воспоминаний Жака Моро… Плюс заключительная часть, которую сам Трофимов считал программной для своей диссертации. Перстень — как тоннель, как колодец, через который исследователь глубже и глубже погружается во тьму веков.
Статья подверглась жесткой критике. За попытку подмены марксистского научного подхода «дешевой майнридовщиной». За «подмену истории историйками». Ну и за «подмигивание западным историческим практикам» — на закуску.
В «Вестнике Ленинградского отделения АН СССР» был опубликован фельетон «Историк без головы». Трофимов долго не мог заставить себя прочесть его. А когда прочел, у него волосы зашевелились на голове. Он был уверен, что… Нет, о защите диссертации теперь речи вообще быть не могло. Речь, насколько он понимал, шла о его дальнейшем нахождении в рядах работников научно-исторического учреждения. Вообще — в рядах. О его свободе.
Пошли слухи, что будут снимать редактора «Академического обзора».
Железная Ната рвала на себе волосы, что не уволила Ивана сразу после письма Тауберу… «Но, может, еще не поздно!»
И вдруг все прекратилось. Профессор Афористов, мировое светило, лауреат всего на свете (включая Сталинскую премию и премию Бальцана), ныне завкафедрой истории ЛГУ, выступая на симпозиуме в Лозанне, упомянул в своей речи «тоннельный метод Трофимова». Упомянул в деловом, так сказать, ключе. Как устоявшийся научный термин. И всего один раз.
Этого оказалось достаточно.
Редактора «Академического обзора» сразу оставили в покое. Зато сняли редактора «Вестника». Автора фельетона перевели в заводскую многотиражку. Западноевропейскому отделу Эрмитажа выписали премию за перевыполнение плана по публикациям. И, как апофеоз, Трофимов однажды поймал на себе странно влажный (влажно-горячий, если быть точнее) взгляд Железной Наты…
В общем, можно было продолжать работать.
Глава 4 Защита диссертации
«Время разбрасывать камни и время собирать камни…» Нет, эта фраза из Библии, она не приветствуется в обществе атеистической идеологии, и употреблять ее нельзя. Просто: «Всему свое время». И ему пора становиться кандидатом наук, матереть, набирать научный вес и авторитет. Невольно подводишь итоги предыдущей жизни.
Итак, в октябре ему стукнет тридцатник. Семь лет он отдал работе над диссертацией. Пропавшему экспонату № 6254875-ВТ, который так и не найден за это время. Кажется, его уже перестали искать. Что было за эти семь лет, кроме работы?
Появились залысины, довольно глубокие. Очки. Он носит их с собой в кармане пиджака, надевает во время работы. Пока еще так. Набрал килограммов пятнадцать весу. Он уже не тот худощавый «эмэнэс», каким был когда-то. Погрузнел. Кстати, молодое поколение, к которому он, кстати, уже не принадлежит, вместо «эмэнэс» употребляет другой, более короткий и звучный жаргонизм — «мэнс». С точки зрения русского языка вульгарно, зато с точки зрения английского — великолепно (то есть — клево, искьюз ми!). Но нынешний Трофимов — не «мэнс» и не «эмэнэс», он перешагнул на следующую должностную ступеньку и теперь зовется не младшим, а просто научным сотрудником. «Наус», по новой терминологии.
Что еще? Посолиднел, бреется дважды в день, носит костюм и галстук.
Ах да. Женился. Конечно, на Ирочке. После полутора лет молчания и полной заморозки отношений — позвонила сама.
«Но у меня еще не все устоялось в жизни», — честно предупредил он.
«Главное, чтобы не перестоялось, — заявила она. — У тебя квартира сегодня вечером свободна?»
Что с ней случилось? Может быть, претендентов на руку и сердце оказалось меньше, чем она ожидала? Или… или вмешалась таинственная «третья сила», решившая, что женитьба на сотруднице Публичной библиотеки пойдет на пользу работе… В том, что эта неведомая сила существует, он был уверен, хотя никому о ней, точнее, о своих догадках не рассказывал.
А польза работе несомненная! Ирка — русалочка в бумажном море. А он — ее сухопутный принц. Пожелтевшая, ломкая, обугленная временем архивная бумага — ее стихия, ее дом. Вся чопорная библиотечно-архивная фауна, все эти книжные черви, моллюски и прочие троглодиты приходятся ей если не родней, то знакомыми или знакомыми подруг. Она ныряет в самые бездны и появляется на поверхности с какой-нибудь драгоценной жемчужиной в зубах. Именно Ирка собрала по крупицам бесценный архив по Москве 1812 года, который позволил ему вывести на чистую воду графа Опалова…
Детей нет. Снимают однокомнатную квартиру в районе площади Восстания, стоят в очереди на жилье, их номер три тысячи какой-то там.
Нравится ему семейная жизнь?
Можно сказать, да. Жить можно. Главное, что Ирка никогда не устраивает скандалов, это не в характере отважной, но хрупкой бумажной русалочки…
Трофимов с изумлением обнаружил, что, несмотря на залысины и обозначившийся животик, он вдруг стал пользоваться успехом у женщин. Ни с того ни с сего. А ведь ему и в самом деле иногда необходима разрядка, не столько физиологическая, сколько эмоциональная. Чтобы не чувствовать себя тоже каким-нибудь бумажным червем…
Но — твердый принцип: «поиграл, положи на место». Легкая интрижка, не более. Вечер, другой, месяц от силы. Бабы бабами, а Ирка Иркой. Это святое. Обижать ее, а тем более отправлять в отставку он не собирается.
И «третья сила», кажется, с ним полностью согласна. Женщины, которые ему попадаются, — исключительно легкие, милые существа, которые отлично танцуют твист и шейк, восхитительно раскованы в постели, всегда в курсе последних модных тенденций, включая кино и театр… Но никогда ни на что не претендуют. Просто в силу своих возможностей и функций тоже по-своему помогают ему в работе.
Он что-то еще забыл?
Кажется, нет. Если и забыл, значит, не важно.
Истина в том, что на самом-то деле ничего значительного в его жизни за эти семь лет и не было… Кроме перстня. Он смысл всего, стержень всего. Он, один-единственный. Все остальное лишь зыбкий размытый фон.
Даже жутко немного.
* * *
И вот наконец наступил день защиты диссертации.
Выступление давалось легко. Буквально пару раз заглянул в текст, да и то чтобы скрыть вдруг напавшую нервную зевоту. Слова представлялись ему звеньями якорной цепи, намотанной на брашпиль, закрепленный где-то у него внутри. (В области мозга, надо полагать, хотя ему почему-то представлялся желудок. Наверное, потому, что не успел позавтракать.)
Итак, якорь сброшен, цепь разматывается, брашпиль вращается. Все происходит само собой. Его задача лишь в том, чтобы не свалить ненароком кафедру, за которой он стоит, не сутулиться и широко открывать рот, не мешая прохождению цепи.
Ощущение бездонной глубины под ногами — единственное, что напрягает.
Дна нет. По крайней мере, он не чувствует его. Не может представить.
Цепь закончится, вал брашпиля дернется, качнется и замрет. Якорь беспомощно повиснет в глубине.
Он смог отследить путь перстня до 1799 года… Египетский поход Наполеона. Люсьен Годе, тогда еще поручик, а не генерал, получил из рук еврея-менялы серебристый перстень с овальным черным камнем необычной огранки…
И на этом все.
Под якорем остается девять десятых глубины. Тысяча семьсот девяносто девять лет.
Или больше? Перстень звался «иудиным», это верно, но… что, если он существовал еще до Иуды?
Брут.
Диктатор Луций Сулла.
Заговорщик Катилина.
Герострат.
Какой-нибудь Аммуна, вероломный хеттский царь.
Неолитический земледелец Каин.
Большой взрыв, в конце концов?..
На улице пошел ливень. Трофимов стоял спиной к окну, он только слышал, как вода яростно забарабанила по крышам и асфальту, как внезапно потемнело в аудитории. Профессор Сивой, официальный оппонент, сидел ближе всех к выключателю. Протянул руку, не вставая, и не дотянулся. С хмурым видом Сивой поднялся, под потолком буднично вспыхнули плафоны.
«Пора закругляться», — подумал Трофимов.
Аудитория была набита битком. Члены Совета, оппоненты, Живицкий с какой-то древнегреческой богиней под ручку, все остальные — студенты, преподаватели, какие-то трудно идентифицируемые личности с портативными магнитофонами и микрофонами… КГБ, что ли? Трофимов надеялся, что нет.
Насчитал семь довольно симпатичных студенток. К концу доклада пришел к выводу, что все-таки пять. Но пять — это железно. Все что-то записывают в блокноты. Одна, худенькая брюнетка, стенографирует, не отрывая от него огромных, как у Одри Хепберн, удивленных глаз. Хотя, казалось бы, смысл? И текст диссертации, и автореферат есть в университетской библиотеке. Но все равно приятно. Хотя, говорят, они ходят на защиты не из интереса к науке, а в поисках семейной половины среди перспективных ученых.
Трофимов посмотрел на часы, закончил фразу и замолчал. Налил воды из графина, отпил.
Цепь звякнула и застыла. Якорь болтался над бездной.
Рука симпатичной брюнетки послушно замерла над блокнотом.
— Конечно, я мог бы во всех подробностях пересказать содержание своей работы. С огромным удовольствием, — Трофимов сдержанно улыбнулся. — И столько же рассуждать о ее значении для исторической науки. Поверьте, и то и другое — темы бесконечные. Но нас впереди еще ждет, как я надеюсь, интересная дискуссия.
При этих словах Сивой оскалился, как настоящий кинозлодей.
— Поэтому, если позволите, у меня все.
Он повернулся к председателю Совета Вышеградскому. Профессор Вышеградский в это время шептался о чем-то с оппонентом Рынкевичем. Закончив (далеко не сразу), он поднял голову, посмотрел поверх очков на Трофимова, посмотрел в зал, словно вспоминая, какое сегодня число и где он находится.
— Хорошо, спасибо, — провозгласил он громко. — Прошу задавать вопросы.
Вопросы задавали вяло.
— Почему избрана столь странная тема?
— Где этот мифический перстень? Изучала ли его современная наука?
— Действительно ли Бояров похож на революционера?
Ну, и так далее. Трофимов отвечал быстро, не задумываясь, аж от зубов отскакивало. Слабый ручеек вопросов быстро иссяк.
— Теперь прошу высказаться официальных оппонентов, — предложил председатель.
«Ну вот, — сказал себе Трофимов. — Началось…»
Первым выступал Рынкевич.
— …Нельзя не признать, что соискателем проделана большая исследовательская работа…
…на примере Павла Боярова внимательно, сосредоточенно всматривается в славное революционное прошлое нашей страны…
…автор беспощаден к порокам царского строя…
…однако сам по себе легкий, детективный стиль подачи материала настораживает. Какие огрехи пытается скрыть автор, подбрасывая читателю в качестве приманки лихо закрученный сюжет?
…всеядность как следствие отсутствия опыта. А также отсутствие концептуального каркаса, который объединил бы таких разных персонажей, как благородный революционер-одиночка Бояров и символ развращенности граф Опалов…
…поэтому считаю, что надо хорошо обдумать — можно ли соискателю присудить ученую степень кандидата наук, если в пересчете на школьные баллы — да будет мне позволено такое упрощение — диссертационная работа Трофимова заслуживает оценки «удовлетворительно». Спасибо за внимание.
Несколько жидких хлопков. Рынкевич сел на место, бросил вопросительный взгляд на Вышеградского. Тот медленно прикрыл тяжелые веки. Что именно означал этот молчаливый диалог, Иван не понял. Наверное, ничего хорошего.
— Мужайтесь, Иван. Еще не все потеряно, — процедил сидящий рядом Живицкий. — У них так принято — холоду нагонять…
Трофимов невесело кивнул.
К трибуне выходил второй оппонент — главный злодей спектакля под названием «Защита диссертации». Профессор Сивой, до прошлого года возглавлявший редакцию «Вестника Ленинградского отделения АН СССР» и смещенный с этой должности после скандала с Трофимовым, никогда не скрывал своего отношения к его научному труду. И к нему лично.
Полный, благообразный, с чрезвычайно здоровым цветом лица и пустыми глазами игрушечной мартышки, он некоторое время молча взирал на аудиторию с высоты кафедры. Предвкушал торжество расправы?
— Итак, работа, которую мне сегодня предстоит оценить перед уважаемым диссертационным Советом и представительной аудиторией, носит название «Артефакты мировой религии. Мифы и реальность», — приятно пробаритонил он, артикулируя каждое слово. — И первый вопрос, который возникает при прочтении… Мифы — да, пожалуй. Вернее — миф, один миф, в единственном числе. Миф о некоем «иудином» перстне. Который, кстати, находится неизвестно где, так что проверить экспериментальным путем его чудодейственные свойства мы не можем.
Сивой открыл рот… и улыбнулся, словно что-то вспомнил. Поднял руку, неопределенно взмахнул указательным пальцем, прислонил его к верхней губе в задумчивом жесте. Так рассказчик дает понять, что сейчас выдаст нечто забавное, возможно, парадоксальное. Возможно, для кого-то не очень приятное. Он еще раздумывает, как точнее выразить мысль, кокетливо мучает публику.
— Итак, миф есть, — промурлыкал наконец Сивой, оторвав палец от губы. — А где же реальность, товарищи?
«Вот козел!» — подумал Трофимов.
Следующие полчаса Сивой топил его — сладострастно, жестко, умело, давая иногда вздохнуть, чтобы продлить агонию.
В общем-то, недостаток у данной работы всего один. Она просто никуда не годится. От начала и до конца. Поскольку научной работой, в строгом смысле этого слова, не является. Наука основывается на фактах. Товарищ Трофимов же апеллирует к свидетельствам людей малообразованных, к рассказам, домыслам, признаниям, мемуарной литературе, протоколам царской охранки. И пытается выстроить на этом зыбком фундаменте… Что?
Собственный миф, товарищи. О якобы инфернальной природе исследуемого артефакта, его пагубном влиянии на человеческие души… Я хорошо умею читать между строк, товарищ Трофимов, и я расшифровал ваше скрытое послание. Есть дьявол, значит, есть Бог. Дьявол — зло, значит, Бог — добро. А если так, значит, идите, товарищи в церковь, дружно в ногу…
И здесь я должен вас огорчить, товарищ Трофимов: вы далеко не первый, кто проповедует богоискательство. Личности куда более крупные, заметные, чем вы, уже застолбили этот островок бесплодной земли. Здесь и Мережковский, и Минский, и Бердяев, и Зинаида Гиппиус… Боюсь, вам на этом островке места уже не осталось, разве что на верхушке какой-нибудь пальмы… Так что даже в этом, весьма спорном, контексте вами не сказано ничего нового…
Иван слышал все это как сквозь вату. Сердце тревожно колотилось.
Весь доклад он просидел, уткнувшись взглядом в пол, бледный, застывший, взбешенный. Члены диссертационного Совета, напротив, реагировали оживленно. Кивали, улыбались, иногда кто-то даже всхохатывал негромко — видимо представив себе Трофимова в набедренной повязке папуаса, взбирающегося на одинокую пальму…
— Секундочку! А вы сам, товарищ Сивой, собственно, за какую команду болеете — за Бога или за дьявола?
Он сперва даже не понял, что к чему. Последние полчаса голос доцента Сивого уверенно трубил победный марш, трубил, трубил — и вдруг кто-то швырнул картофелину прямо в сверкающий медный раструб…
Пф, пф, пф… Труба заглохла.
Гробовая тишина.
Сивой сжал рот и запунцовел, как узбекская черешня. Аудитория с шумом развернулась в сторону, откуда прилетел вопрос. И замерла.
Это был профессор Сергей Ильич Афористов собственной персоной. В летнем кремовом костюме, легкомысленной синей рубашке в белую полоску, из-под которой выглядывал еще более легкомысленный яркий шейный платок — цветная фреска на серой бетонной стене. Никто не заметил, как он появился в зале.
— Простите… Видимо, вы плохо меня расслышали, товарищ Сивой? — Афористов легко взмахнул рукой, словно по-приятельски приветствуя оратора. И повторил нарочито громко, как слабослышащему: — За какую команду болеете?
Сивой с достоинством прокашлялся, буркнул:
— Спасибо, я здоров! Чего и вам желаю!
— То есть ни вашим, ни нашим! Браво!
Афористов картинно зааплодировал, высоко подняв руки. Обалдевший зал замер, переваривая сказанное, помедлил секунду-другую… и вдруг сорвался в овацию — неожиданно бурную, истеричную, даже пугающую своей спонтанностью. Будто здоровенный кусок Дворцовой набережной со всеми постройками и прогуливающимися по ней гражданами ни с того ни с сего рухнул в Неву…
И громом прокатился над этой стихией густой бас Афористова:
— Работник советского вуза, профессор, доктор философских наук товарищ Сивой начисто отрицает категории добра и зла!
— Я убежденный марксист! — выкрикнул Сивой каким-то ломающимся, мальчишеским фальцетом. — Я мыслю категориями классовой борьбы! А не всякими фантиками!
— Фантики, вот как! То есть вам все равно — Альенде или Пиночет, Кастро или Батиста, Ленин или Ницше, истина или ложь?
— При чем тут это?
Сивой растерялся, пригнул голову, словно хотел спрятаться за кафедрой.
Поднялся Вышеградский, тоже посеревший, напуганный, постучал карандашом по графину с водой: «Товарищи, товарищи!..»
— При том, товарищ Сивой, что истина — добро, а ложь — это зло! — пророкотал Афористов.
Кто-то тронул Ивана за плечо, он вздрогнул, оглянулся. Живицкий смотрел на него удивленно, кивнул на Афористова: что тут вообще происходит? Откуда такая поддержка? Иван пожал плечами. Он ничего не понимал. Как будто на окружающую вражескую пехоту вдруг выкатился тяжелый танк. Собственно, так оно и было: Афористов мог считаться танком.
…Его боялись и уважали. Уважали безмерно. Преклонялись и поклонялись. Историк планетарного масштаба с абсолютной интуицией, фантастической памятью, безграничными знаниями, который, казалось, не столько изучает историю, сколько припоминает ее, как собственное детство или юность… Автор ставших уже классическими трудов по Древнему Египту, Палестине и Междуречью…
И так же безмерно его боялись. Трепетали. Афористов был знаменит не только своими трудами и открытиями, но и тем, что добился лишения всех ученых степеней для нескольких известных московских академиков, уличив их в еретическом противоречии постулатам исторического материализма. При этом сам никогда не скрывал своего… прохладного, скажем так, отношения к марксизму как научной дисциплине. Что непостижимым образом сходило ему с рук.
Он зарубил десятки, если не сотни диссертаций. Уволил с формулировкой «за идеологическую незрелость» целый отдел Института истории во главе с заведующим. Ходили слухи, будто именно Афористов, как лицо, приближенное к Сталину, являлся одним из идейных вдохновителей кампании «по борьбе с космополитизмом» — за что позже якобы и поплатился, будучи низвергнут со всех административных постов и сослан в Ленинградский университет…
Афористов — Великий и Ужасный.
Гений и злодей.
Так что реакция зала на его появление объяснима. Масштаб этой личности, ореол ученой славы и скандальности, окружающий ее, просто несовместимы с масштабом проходящего здесь мероприятия. Ах, ну да — когда-то он косвенно вступился за Трофимова в связи с публикацией «Тоннельного метода»… Но вряд ли это было сделано осознанно, с упором на личность Трофимова. Почему? С какой стати? Этого просто не может быть.
— …Вот как раз об истине как категории добра я и хотел поговорить с вами, товарищи в ходе научной дискуссии!
Афористов широким шагом спустился к кафедре, с вежливым «простите» невежливо отодвинул в сторону оторопело собирающего свои бумаги Сивого.
— А истина, товарищи, состоит в том, что перстень, о котором написал наш диссертант, и в самом деле принадлежал историческому Иуде! — объявил он, сверкнув ослепительной улыбкой. — Не библейскому Иуде, подчеркну, поскольку я выступаю здесь не как богослов, а как историк. Именно историческому Иуде Искариоту, уроженцу иудейского города Кириафа, чьи жизненные рамки можно обозначить, не углубляясь сейчас в ненужные подробности, первыми тремя десятками лет нашей эры… «Иудин» перстень — подлинный предмет той эпохи, который молодой ученый Трофимов открыл для мировой науки. Нисколько не сомневаюсь, что этому открытию будут посвящены публикации в ближайших номерах таких авторитетных изданий, как «Nature» и «Science». Однако никто из наших уважаемых оппонентов почему-то даже не обратил внимания на такую, простите, мелочь!
Он наклонился к Сивому — все вдруг с удивлением обнаружили, что второй оппонент — настоящий коротышка, — с издевательской и даже страшной гримасой ухмыльнулся ему прямо в лицо, отчего тот вздрогнул и попятился.
— Среди собравшихся нет специалистов по ювелирному делу, потому я не хочу сейчас обсуждать особенности гравировки и уникальную «чешуйчатую» огранку камня… Которые, впрочем, ясно и однозначно указывают даже не на эпоху, а на конкретного мастера, жившего в Иудее в период прокураторства Понтия Пилата… Но, думаю, для собравшихся куда убедительней будут показания научных приборов. К примеру, газового хроматографа Ленинградского института физики АН СССР, на котором перстень был исследован под руководством профессора Козицына. Согласно его заключению, перстень датируется первым веком нашей эры.
Афористов извлек из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист бумаги, развернул и выставил перед собой в вытянутой руке. Словно голову казненного.
— А почему тогда заключение не упоминается в диссертации Трофимова? — крикнул с места Рынкевич.
Иван вскочил с места, не успев даже понять, что собирается говорить. Совершенно не представляя, откуда Афористову может быть известно о том его давнем походе в Институт физики, не говоря уже о результатах спектрального анализа… Но тут он услышал собственный голос, спокойный, даже въедливый немного, будто записанный на магнитофонную пленку когда-то ранее, в совершенно другой обстановке:
— Очевидно, потому, товарищ Рынкевич, что в данной работе я решал задачи иного плана… Историко-философского, скажем так. Что же касается вопроса о происхождении перстня и судьбы Иуды Искариота, то он заслуживает отдельного исследования…
Это было нарушение регламента — ему следовало ждать заключительного слова. Но в следующий момент он совершенно изумил себя и аудиторию, выдав:
— Возможно, это будет темой моей докторской диссертации.
Между членами Совета пробежал легкий шумок: такое заявление соискателя кандидатской степени, присуждение которой и так под вопросом, рассматривается как беспардонная наглость и увеличивает количество «черных шаров» при голосовании. И зачем он это брякнул?
Трофимов тоже это осознавал и тоже не понимал, зачем он вылез с этой дерзкой репликой. Как будто кто-то произнес вызывающую фразу вместо него!
В последующей дискуссии выступил научный руководитель, предложивший поддержать соискателя, и несколько членов Совета, которые занимали неопределенную позицию: с одной стороны — да, многое диссертантом сделано, но с другой — осталось и немало пробелов, так что каждый пусть голосует по своей оценке и собственной совести… Это был плохой признак. И то, что остальные члены Совета не высказывались, а рисовали что-то в своих блокнотах, возможно, чтобы не встречаться ни с кем глазами, тоже являлось плохим признаком.
Председатель объявил перерыв для тайного голосования и попросил всех, кроме членов Совета, покинуть зал. Публика вышла в коридор. Судя по звучавшим репликам, никто из научной братии не ждал благополучного исхода голосования.
— Прокатят, сто процентов прокатят!
— Зачем он про докторскую сказал? Это же вызов! Все только обозлились…
— Хорошо, если хоть половина проголосует «за»… Надо две трети, но хоть не с «сухим» счетом…
— А если ни одного «белого» шара не окажется? Тогда научному руководителю от позора не отмыться…
Трофимов нервно ходил взад-вперед, как сдавший партию гроссмейстер. При его приближении разговоры замолкали. Как-то боком подошел озабоченный Живицкий:
— И черт тебя дернул ляпнуть про докторскую! — процедил он. Потом взял под локоть: — Успокойся, на этом жизнь не заканчивается. В крайнем случае через год выйдешь на повторную защиту…
Через пятнадцать минут секретарь пригласила всех в зал, и председатель счетной комиссии профессор Целков объявил результаты тайного голосования:
— Девятнадцать — «за», против — нет, воздержавшихся нет. Товарищу Трофимову единогласно присуждена ученая степень кандидата исторических наук! — Целков ошалело потряс головой и снова заглянул в протокол, будто не веря тому, что сам произнес. — Да, единогласно…
Наступила гнетущая тишина. Члены Совета склоняли головы друг к другу и бесшумно перешептывались.
— …Уррра-а-а!!!
Это закричали неискушенные студенты, которые не понимали подтекста происходящего, а просто ставили на место диссертанта себя при защите дипломной работы.
Трофимов улыбался во весь рот, это было похоже на лицевую судорогу, он не мог произнести ни слова и только бесконечно поправлял и протирал запотевающие очки.
— Заседание Совета объявляется закрытым! — хриплым голосом объявил Вышеградский.
Пространство аудитории сразу раздвинулось. Студенты и зрители со стороны покидали зал, у выхода топтались черно-белой пингвиньей стайкой члены Совета в темных костюмах, белых сорочках и черных галстуках. Гудят, бурчат вполголоса, в глаза друг другу стараются не смотреть. Явно растеряны. Чуть в стороне Целков, подняв плечи и разведя руки, оправдывается в чем-то перед Вышеградским. Сивого и след простыл. Широко улыбаясь, подошел Живицкий, зашептал горячо в ухо:
— Не знаю, что у них случилось, но это просто чудо! Дело шло к полному, разгромному провалу! В моей практике такой поворот впервые!
Научный руководитель исчез, несколько студентов и двое незнакомых солидных мужчин подошли с поздравлениями. Какие-то личности с портативными магнитофонами. Пять заслуженных красавиц томно улыбались. Ага, вот и девочка с удивленными глазами. Трофимов впился в нее взглядом, ожидая, что сейчас она почувствует и…
Его толкают в плечо.
— Иван Родионыч, где посуда?!
Живицкий, словно булавой, размахивал над головой бутылкой шампанского. Его древнегреческая богиня, скосив глаза к переносице, сосредоточенно прикуривала сигарету, заправленную в длинный мундштук.
«Здесь курить нельзя, — растерянно подумал Иван. И тут же, без всякого перехода: — Я защитился!!! Братцы, семь лет!!! Я сделал это!!!»
Ирка, запыхавшаяся, только что прилетевшая с работы с двумя спортивными сумками («Ой, у нас переаттестация, никак не могла раньше!»), радостно загромыхала бокалами и стаканами.
— За нового кандидата! За Ивана-победителя!
От волнения он осушил свой бокал залпом. Шампанское как-то странно обожгло горло и сразу ударило в голову. Иван открыл рот, выпучил глаза, закашлялся. Похоже, это было не шампанское.
— Нет, а что вы хотели, молодой человек? Глушить сладкую шипучку после такой победы?!
Где-то рядом испуганно хлопотала Ирка:
— Ой, Ванечка, Ванечка, ты как, в порядке?
А прямо перед ним расплывалось, ускользая из фокуса, довольное, похохатывающее лицо Афористова.
— До дна выпил? Пр-р-равильно! Напиток победителей!
Заливисто хохочет Железная Ната. Откуда взялась? Когда Трофимов приглашал ее на защиту, отказалась под благовидным предлогом — видно, кто-то шепнул, что будут проблемы. Сейчас вдруг примчалась, видно, опять шепнули (кто же это такой осведомленный шепчущий?) С Натой Петро и Николай.
— Ну что, старик, теперь в нашем подвале опять кандидат сидеть будет, а?!
Намек на Киндяева — тот был кандидатом. Неуместно как-то, нехорошо, после того как беднягу разорвал лев…
Петро подмигивает: наливай!
Трофимову кажется, что зал по-прежнему полон, как во время защиты. Никто не расходится. Все словно чего-то ждут.
А он даже не готовился. Вообще никак. В кармане двадцать пять рублей. Домой, что ли, вести эту ораву? Так ведь и дома шаром покати… Сам Живицкий, каналья, говорил ему: никаких ресторанов, никаких банкетов, плохая примета, не защитишься!..
А сейчас размахивает уже пустой бутылкой. Куда-то зовет.
— Ирка, что делать будем?
— Как что? Идем в факультетскую столовку. Афористов уже распорядился, там столы накрывают…
— Как Афористов? Почему Афористов?
— Как почему? — Ирка удивленно смотрит на него. — Он ведь завкафедрой, его все слушаются!..
И вот они уже спускаются по темной лестнице, большая шумная компания. Впереди громыхает голос Афористова:
— А как же без банкета? Это совсем неприлично, без банкета! Насколько помнится, в Болонье еще в XII веке… Да, да, еще при светлой памяти ректоре Вернерии новоиспеченных докторов права обязательно чествовали праздничным обедом! Мортаделла, «венерины пупки» и непременно — старая граппа-стравеккья!
Глава 5 Банкет
В столовой вспыхивают, мигают полусонно люминесцентные лампы, столы с алюминиевыми ножками сдвинуты буквой «П», скрипят и визжат стулья, гулко перекрикиваются голоса на кухне. Гости рассаживаются. Донельзя вельможный Афористов, похожий на заезжую оперную знаменитость, втолковывает что-то огромной поварихе. Такое впечатление, что говорит по-французски. Бешамель, беарнез, рататуй. На лице у поварихи испуг, паника, однако кивает согласно: все будет сделано.
На столах мясная, рыбная и сырная нарезка, пиво, водка. Незнакомый мужчина с кавказскими усиками, по виду таксист, занес ящик коньяка. Столовая взрывается дружными аплодисментами. Из портативного магнитофона, стоящего у окошка раздачи, льется негромкая музыка. Трофимов стоит навытяжку, с отвращением вдыхая коньячные пары из чашеобразного сосуда, который он держит на уровне груди. Сосуд удивительным образом напоминает древнегреческий скифос, хотя совершенно непонятно, откуда он тут взялся.
А по другую сторону стола Афористов уже говорит тост:
— …«Иудин» перстень интересовал меня давно. Какие-то намеки в апокрифической литературе, в персидских хрониках, в староанглийской народной поэзии… И — в городских легендах нового времени. Даже в современном блатном фольклоре. Очень, очень любопытно. Только все как-то не было времени взяться за это дело всерьез… И вдруг до меня доходят слухи, будто некий сотрудник Эрмитажа, вчерашний студент, зацепился за мой перстень и уже вовсю роет, как молодой терьер, только комья в стороны летят! Вот, думаю, сгною нахала. Изничтожу. Как он посмел замахнуться на мою добычу, я ведь первый на нее лапу наложил!.. А потом, знаете, даже интересно стало. Смотрю: получается у него. В самом деле что-то нарыл. От ростовского бандита Седого протянул ниточку к офицерику-белогвардейцу, к фон Брауну этому несчастному… Так, думаю, наш Трофимов, чего доброго, и к аламутским фидаинам дотянется, и к лекарю иерусалимскому, и дальше копать пойдет!
Афористов пробуравил Ивана черными глазами, улыбнулся.
— Давайте выпьем за молодого ученого, перед которым открылась бесконечная бездна… Бездна человеческой истории. За его долгий, полный приключений и открытий путь вниз, к истокам!
Трофимов едва не перебивает его:
— Погодите, о каких фидаинах вы говорите, Сергей Ильич? О каком лекаре?
— Ну а как, по-вашему, перстень попал к наполеоновскому поручику Годе? — смеется Афористов. — Не от самого же Иуды Искариота?
Ивану все равно ничего не понятно. Он хочет спросить еще, но в руку вцепляется Железная Ната, уволакивает в сторону.
— Откуда ты его знаешь? Вы что, родственники? Он тебе помогал, да? Ну ты, Трофимов, вообще! То Сомов, то Афористов! Откуда такие знакомства, признавайся!
— Да мы едва знакомы, Наталья Ивановна! — Он пытается вырвать руку, но Ната впилась в него, как клещ. — Однажды встретились случайно на Новодевичьем, когда Сомова хоронили… Глупая какая-то, непонятная встреча… И до сегодняшнего дня больше не виделись и не разговаривали ни разу!
Раскрасневшаяся Ната грозит ему пальчиком:
— Ой, темнишь ты, Трофимов…
И чувственно поглаживает его запястье, отчего у Ивана начинается приступ паники.
А вокруг все бурлит. В углу возле раздаточной молодежь ломает шейк. В центре стола скворчат на блюде зажаренные целиком молочные поросята с пучками петрушки во рту… Какая-то рыбина вроде осетра выгнула шипастую спину… Целая батарея высоких бутылок в пыли и паутине, словно только что из винного погреба … Откуда все это?!
Трофимов взглянул на сосуд, который до сих пор сжимал в руке. Чернофигурная роспись в тоненькой сетке трещин, отколотый край и инвентарный номер на сколе. Подлинный древнегреческий скифос, мама родная…
Ему показалось, что он сходит с ума.
— Старая граппа, Иван Родионыч! Пейте, вам положено! — хором кричат студентки, окружив их с Железной Натой.
Вот уж нет, хватит, больше ни капли, говорит он себе и пьет до дна.
Происходит небольшое столкновение — танцующая пара врезается в него (кажется, это Живицкий со своей богиней), Нату куда-то уносит. В тот же момент в него впиваются огромные удивленные глаза и уже не отпускают, пока Трофимов не уединяется с их обладательницей где-то в темном коридоре… Девочка, на вид такая хрупкая и тоненькая, набрасывается на него, как изголодавшийся прапорщик, решительно вталкивает свой язык ему в гортань, а грудью прижимается так, что он чувствует каждый шов на ее бюстгальтере.
Но и тут ему не дают покоя.
Потный, красный как помидор профессор Вышеградский в обнимку с Рынкевичем влетают в коридор, лихо вскидывая ноги в канкане. Увидев Трофимова с девочкой, они почтительно застывают, восклицают хором: «О!» И уволакивают Трофимова в зал, ко всей честной компании…
А там горят фейерверки. С гулом вращается огненное колесо, разбрасывая вокруг искры. Стриженные под горшок музыканты в алых и желтых трико, в башмаках с длиннющими носами дуют в рожки и бьют в барабаны.
Пьяненькая Ирка отчаянно твистует в паре со златокудрым римским воином-преторианцем, увешанным наградными фалерами. На Иркиной голове, грозя вот-вот свалиться на пол, болтается его огромный стальной шлем с гребнем.
Восточного вида дамы в полупрозрачных шароварах водят хоровод вокруг неведомо как образовавшегося посреди столовой бассейна с фонтаном. В бассейне, хохоча и отплевываясь, как тюлени, плещутся стариканы из диссертационного Совета и пытаются стащить восточных дам в воду.
Визжат студентки, окружив кольцом двух воинов с выкрашенными синей краской лицами, рубящихся на коротких мечах.
Смуглый бородач в иудейской кипе и богато украшенном вышивкой хитоне самозабвенно топчется в медленном танце, обняв подругу профессора Живицкого… На него недобро смотрит пират с бородкой клинышком и шпагой с эфесом в дырочках на боку.
А в дальнем углу на возвышении стоит резное ложе, на котором с бокалом в руке возлежит Сергей Ильич Афористов. Он в белой тоге и с лавровым венком на голове, как древний римлянин на симпозиуме. Кстати, этим словом тогда называли не научную конференцию, как сейчас, а пиршество, попойку. Впрочем, и сегодня конференции заканчиваются именно этим!
— Что-то не пошла мне ваша граппа, — пожаловался ему Иван.
— Такое возможно, — согласился Афористов. — Восемьсот лет напитку, как-никак. Могла, знаете, набраться всякой дури за это время… Попробуйте лучше вот это.
— Я все равно ничего не понимаю! — Иван взял из рук профессора бокал, послушно отпил, не почувствовав вкуса. — Вы говорили про этих фидаинов…
Он запнулся, не в силах сформулировать мысль. Тупо уставился в зал столовой, где закручивался чудовищный галлюциногенный ураган. Средневековые музыканты выводили битловский «Hey, Jude». Появились какие-то новые люди в древних тогах и туниках, в кольчужных доспехах и ужатых по талии сюртуках. Кто-то пил, танцевал и смеялся, кто-то собирался драться на дуэльных пистолетах. Огромная повариха показала в окошке раздаточной распаренное лицо, крикнула повелительно: «Посуду не бить, кому сказала!»
— Откуда все это, Сергей Ильич?.. Как?.. Почему? — наконец проговорил Трофимов.
Афористов невозмутимо пожал плечами.
— Ты же сам все видишь. Вот они все перед тобой… Эй, Иуда! — позвал он.
Бородач в кипе оглянулся в их сторону, что-то торопливо прошептал своей партнерше, и, приподнимая полы хитона, засеменил к Афористову.
— Тут есть люди, которые сомневаются, носил ли ты тот самый перстень, — бросил ему профессор.
— Но как же, Сергей Ильич! — с легким одесским акцентом воскликнул бородач. — Тому есть множество свидетелей! Это, простите, смешно: чтобы сам Иуда Искариот не носил «иудин» перстень! Ха-ха! Вот, взгляните!
Он протянул левую руку, и Трофимов увидел, что у основания безымянного пальца отсутствует мясо и видна голая почерневшая кость.
— Простите, а как вы… — произнес Иван, но бородач уже умчался в объятия спутницы Живицкого.
— Ни стыда, ни совести, — сказал Афористов непонятно к чему, но с явным удовольствием.
— А потом был этот доблестный красавец-блондин… — Сергей Ильич громко хлопнул в ладоши. — Эй, Марк, хватит охмурять чужих жен!
Златокудрый преторианец тут же застыл на месте, развернулся к ним и энергично вскинул руку в римском приветствии.
— Зиги бросает, подлец, а? — Афористов расхохотался. — Смотри, Иван, чтобы супругу твою не уволили потом из Публички за порочащие связи!
Похоже, Ирку порочащие связи нисколько не беспокоили. Она дернула преторианца за руку, что-то крикнула ему требовательным тоном. Бросив в сторону Афористова извиняющийся взгляд, златокудрый Марк продолжил твистовать.
— А после Марка был Кфир, лекарь иерусалимский… Кфир, ты где, душегуб?
Из раскачивающейся под музыку толпы показалась мощная волосатая рука, приветственно помахала им. Затем рука поднялась выше — оказалось, что никакого продолжения в виде туловища у нее нет и заканчивается она похожей на куцее крыло лопаткой. Рука взлетела, словно резвясь, под самый потолок и вдруг оказалась рядом с Трофимовым, легонько ткнув его растопыренной для рукопожатия ладонью.
— Поздоровайся, Иван, а то обидится… Сперва доведут людей, понимаешь, что те их четвертуют, а потом обижаются.
Трофимов пожал руку. Один из пальцев, он успел заметить, тоже торчал на голой кости, будто эскимо на палочке.
— А это Модус, сын Готрига Корнуоллского, со своим лучшим другом… Эй, вы, два кельтских болвана! Я к вам обращаюсь!
Синелицые воины тут же прекратили поединок, согнулись в почтительном поклоне. Иван только сейчас заметил, что у одного из них на плечах, словно мохнатые серые эполеты, сидят две огромные крысы (они невозмутимо перебрались на спину во время поклона и вернулись на место, когда воин выпрямился), а у другого на шее болтается веревочная петля.
— Запомни, Трофимов, эти рожи. Особенно ту, что слева. Когда-нибудь докопаешься и до них, если хорошо будешь стараться…
Воин с крысами вдруг сделал быстрое движение и воткнул свой меч в спину противника. Под испуганный визг студенток-болельщиц тот рухнул на пол, корчась в судорогах и поливая кровью цементный пол столовой. Афористов с ухмылкой покосился на онемевшего от ужаса Ивана.
— Ты бы лучше иногда за спину поглядывал, Иван Родионыч. Смерть, она такая, отвлечет какой-нибудь ерундой, а сама подкрадется незаметно, и — ком цу мир…
Трофимов обернулся и вскрикнул. Прямо перед ним застыла зловещая фигура в белом стеганом халате с замотанным куском ткани лицом. В руках у нее, словно два сверкающих пропеллера, вращались сабли.
— А ну, остынь, Фарид! — прикрикнул Сергей Ильич. — Этому товарищу еще докторскую диссертацию о тебе писать! Вряд ли он сможет это сделать, если ты изрубишь его в куски!
В узкой щели над тканью сверкнули глаза. Сабли тут же прекратили свое вращение. Фарид скрестил клинки на своей груди («…персидский шемшир, XII век, дамасская сталь», — автоматически отметил про себя Трофимов) и, чуть согнув колени, вдруг оттолкнулся от пола и нырнул спиной вперед, словно прыгун, выполняющий упражнение из задней стойки. Но вместо того, чтобы врезаться головой в пол, он пролетел сквозь него и исчез.
— Слава ибн Саббаху! — донесся откуда-то слабый удаляющийся голос.
А Иван вдруг обнаружил, что никакого пола-то и нет. Это только видимость, пелена тумана над бездонной пропастью. И они вместе с Афористовым висят над бездной, и даже сквозь подошвы ботинок он чувствует сырой пронизывающий холод, идущий снизу. Больше нет никого и ничего. Факультетская столовая со всей обстановкой и веселящимися гостями в одно мгновение обесцветилась, растаяла в полумраке, как причудливые завитки тумана под порывом ветра.
— Ну что, Иван, понравилось? — пророкотал рядом голос Афористова.
Ложе с резной спинкой, на котором он возлежал с самым невозмутимым видом, слегка покачивалось в воздухе. Деревянные ножки покрылись обильной росой, и капли время от времени срывались вниз.
— Увидеть их, живых… Услышать, как дышат, как говорят, а? Почувствовать тепло и запах их тел. Роскошная возможность для историка, я считаю…
— Да, — только и проговорил Иван. Его очень беспокоило чувство подвешенности. Волосы, мокрые от тумана, хоть выжимай, тем не менее стояли дыбом. Может, он висит вниз головой? Вестибулярный аппарат, потерявший ориентацию, посылал тревожные сигналы. Его тошнило.
— Ты делаешь очень нужную работу. Все уже забыли и про перстень, и про то, что с ним связано. Сотни и тысячи эпизодов раскинуты во времени и в нем же затерялись. А ты собираешь их вместе и документируешь в статьях, монографиях, своей диссертации, наконец! Сейчас их интерпретируют убого, подстраивая под идеологию, но через несколько лет подходы изменятся, а твои труды останутся и приобретут совсем иное звучание. И оценку совсем другую!
— А кому это все нужно? — поинтересовался Иван, преодолевая тошноту.
— Кому, кому… Не понимаешь? — Афористов хищно улыбнулся, но видя, что понимание к Ивану не пришло, устало махнул рукой. — Да тебе самому в первую очередь. Скоро придет признание. Международные симпозиумы, премии, поездки… Ты в Сиднее, например, был?
Иван молча покрутил головой.
— Значит, будешь. Ну и деньги появятся. Квартиру четырехкомнатную на Арсенальной набережной получишь… Или тебе на Смольной?
В данный момент Ивану было все равно.
— Ну и бабы, естественно. Тут уж я не хочу перегибать палку, ты сам смотри. Ирка все-таки какая-никакая опора, залог стабильности, уюта. Для серьезного ученого это тоже важно. Завтрак там приготовить, суета-беготня всякая. А ты сиди, исследуй…
Лицо Афористова надвинулось на него, приблизилось настолько, что сперва заслонило все, а потом распалось на мелкие фрагменты.
— Но главное, никаких правил. Главное — работа, перстень. Если от Ирки не будет толку, можешь вышвырнуть ее в окно, на здоровье. Хотя я обычно рекомендую синтетический тетродотоксин…
Фрагменты. Это была бесконечная туча саранчи, которая, обтекая Ивана, летела куда-то с гулом, напоминающим человеческий голос, разложенный на атомы. У насекомых были по-босховски уродливые, страшные морды. Некоторые из них словно нарочно метили Ивану в лицо, заставляя его испуганно вскрикивать и закрывать глаза, но в самую последнюю секунду, видимо, изменяли курс, потому что он чувствовал на лбу и щеках только вибрирующие потоки воздуха от крыльев.
— Главное — работа! — гудела стая.
— Главное — перстень!
— Перстень!
— Перстень!
Его все-таки вытошнило. Со страшной силой. И то, что вылетело из Ивана, устремилось не вниз, как положено по законам физики, и не вверх, как если бы он и в самом деле висел в положении «оверкиль», — нет, вылетело вперед. Прямо по курсу. Как пламя из пасти Змея Горыныча.
В туче саранчи тотчас образовалась круглая пробоина, которая постепенно вытянулась в стороны наподобие улыбки. А потом все стало как-то странно прыгать и дрожать. И грохотать. Грохот шел отовсюду: и снаружи — с неба и земли, — и изнутри. Это был чей-то смех. Гомерический, раскатистый, безудержный смех. Как будто Иван только что отмочил очень удачную шутку… Или, наоборот, очень крупно опозорился.
* * *
У соседей что-то сверлили. Звук дрели терзал мозг, даже когда Иван накрылся одеялом с головой. И заткнул уши.
Потом появилась Ирка в халате, с мокрыми волосами. Из душа. Дрели не было слышно. Иван уже почему-то стоял посреди комнаты и пытался удержать равновесие.
— Живой хоть? — спросила она.
— Угу, — сказал он и сразу вспомнил, зачем встал.
По замысловатой извилистой траектории, догоняя свою тяжелую голову, он протопал на кухню, напился прямо из-под крана.
Постоял, вздрагивая, как лошадь.
— Ирка! — позвал он громко.
— Ну чего кричишь?
Ирка, как оказалось, стояла рядом и жарила оладьи. Уже целую тарелку нажарила.
— У тебя с ним что-то было? — спросил он, еле ворочая языком.
— С кем?
— Со злато… кудрым. С Марком. Претори… анцем.
Очень трудно говорить.
Ирка этого не понимала. Смотрела с таким прищуром. Улыбалась неопределенно.
— Ты про Марка Анатольевича, что ли, из Совета? Но ему ведь скоро семьдесят, Ванюш…
— Нет. Я про другого Марка. Про древне… римского.
Она приставила палец ко рту, как ученица у доски.
— Подожди… Древний Рим… Ты про Марка Антония, что ли? Из Шекспира? Который любовник Клеопатры?
Иван насторожился.
— А что, он тоже там был?
Ирка хохотала, роняя металлическую лопатку, перегибаясь надвое, садясь сперва на корточки, потом сползая на пол. Пока на сковородке не задымились оладьи. Сгребая кремированные остатки в мусорное ведро, она сказала:
— Иван, предполагаю, вчера ты напился впервые в жизни.
— И что? — сказал он по возможности твердо.
— Тебе лучше принять ванну.
Она посмотрела на него с сочувствием. И с легким испугом.
— Скажи честно, Ирка. Ты танцевала вчера на банкете с римским преторианцем?
— Нет, Ванюша. Танцев вчера вообще не было.
— А что было?
— Был коньяк, были столовские котлеты и салат. Ты махнул целый бокал на голодный желудок, а спустя какое-то время уснул. Живицкий усадил тебя в углу под вешалкой. Потом он вызвал такси и мы поехали домой.
Иван подождал еще какое-то время.
— И все?
— И все, — сказала она.
— А Афористов был?
— Был.
— И что говорил?
— Речи толкал. Про перстень, про твой талант и все такое.
Иван опять подождал.
— И никаких преторианцев не было? — осторожно спросил он. — Никаких фидаинов? И этих, с синими мордами?
— Ну какие еще преторианцы, Ванюша? — заныла Ирка. Брови у нее сделались домиком, но тут же выстроились в решительную прямую линию. — Ты вот что, уважаемый кандидат наук. Ты у меня смотри не свихни мозги с этой своей наукой. Ты понял меня?
Она пошла в ванную, зашуршала щеткой. Потом загудели краны, зашумела, заплескалась вода.
— Может, тебе валерьянки дать? — крикнула она.
— Нет, лучше пива, — сказал Иван. — Холодного.
Ирка выглянула из ванной, посмотрела удивленно.
— Ты что, серьезно?
— Да. И принеси мне в ванную, когда я там буду отмокать.
Она пожала плечами, быстро оделась и вышла в магазин.
Иван пошел к себе в комнату, достал с полки университетский справочник. Нашел телефон кафедры истории. Долго стоял, вспоминая, какой сегодня день — обычный или выходной. Пришел к выводу, что все-таки обычный.
— Здравствуйте, я могу услышать Сергея Ильича?
— Кто его спрашивает? — спросили в трубке.
— Это Трофимов. Сергей Ильич вчера был у меня на защите…
— А-а, Иван Родионович! Очень приятно! Как выспались?
Иван только сейчас узнал голос Афористова.
— Нормально, спасибо. Я хотел… — Он опять затормозил, вспоминая, чего же он хотел. — Э-э… Хотел поблагодарить вас, Сергей Ильич. За поддержку…
Возникла пауза. Афористов молчал на том конце провода, будто ждал продолжения благодарственного списка. Но Иван почему-то ничего больше придумать не мог, как ни старался.
— Ну и вообще! Спасибо вам, Сергей Ильич! — закончил он с несколько преувеличенным воодушевлением.
— Что ж, пожалуйста, — сказал Афористов. — Вчера я вас выручил, а завтра, глядишь, вы меня выручите… Люди меняются, правда, не всегда в лучшую сторону… Знаете историю про картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»?
— Честно говоря, нет…
— Он долго искал натурщика, чтобы нарисовать лицо Христа. И, наконец, нашел певчего в храме. Но потом надо было найти лицо Иуды. Ему это не удавалось очень долго. Через год он нашел спящего в канаве пьяницу, привел в мастерскую, стал рисовать. Протрезвев и придя в себя, пьяница вдруг узнал художника и сказал, что тот его уже рисовал один раз! И картину узнал — оказалось, что да Винчи рисовал с него Христа! Так на полотне остались запечатленными два лика, отражающие пропасть внутренних миров их носителей, но принадлежащие одному и тому же человеку. Правда, в разное время…
— Да, интересно, — ошарашенно молвил Трофимов.
— Надеюсь, с вами такой метаморфозы не произойдет, — Афористов рассыпался необычным для него тоненьким сухим смешком. Иван подумал: а вдруг это не Афористов? Вдруг кто-то на кафедре решил его разыграть?
— Я… ну… Я всегда пожалуйста, помогу, чем смогу… — промямлил он. — Буду рад…
— Вот и замечательно, Иван Родионыч!
Последнюю фразу Афористов произнес уже обычным своим голосом, правда, слегка растягивая слова, будто там, у себя в кабинете, заполнял как раз в это время какой-то формуляр, прижав телефонную трубку к уху плечом.
— До свидания, Сергей Ильич, — сказал Трофимов после еще одной небольшой и неловкой паузы.
— А, конечно! Всех благ! — сразу отозвался Сергей Ильич. — Кстати, секундочку, секундочку… — Он пошелестел какими-то бумагами. — Да, хотелось бы уточнить: так все-таки Арсенальная набережная или лучше Смольная? А, Иван Родионович?
Часть вторая Пират Дрейк
Глава 1 Каждый хочет богатства
Англия, 1548 год
… — А ну-ка, быстро выйди за дверь! — прикрикнула Нэнси — опытная повитуха, известная не только в Кроундейле, но, может, и во всем Девоншире. — Нечего тебе здесь делать. Иди гуляй, пока не позовут…
Накинув на плечи основательно залатанную куртку, и нахлобучив картуз, Френсис вышел во двор, провожаемый душераздирающим криком матери. Было сыро, холодно и ветрено. Он знал, что когда ему будет позволено вернуться в дом, число его братьев и сестер пополнится еще одним визгливым младенцем, от которого будет вечно вонять нечистотами. Ему было восемь лет, и он был старшим среди еще семерых своих братьев и сестер. Их число неуклонно увеличивалось ежегодно, и юному Френсису казалось, что мать его с кем-то соревнуется в плодовитости. А отец, Эдмунд Дрейк, небогатый сельский священник, каждый раз смотрел на новое пополнение с таким искренним удивлением, словно не понимал, как такое вновь могло произойти, и будто он не имел к этому событию никакого отношения.
Френсис стал подниматься на высокий холм, покрытый розовым ковром вечнозеленого вереска. Сверху хорошо просматривался не только их дом с подворьем, но и весь Кроундейл с редкими прохожими, неторопливо бредущим стадом и стремительно носящимися собаками. Это захолустье наводило на него уныние. Приход был маленьким и бедным, священник еле сводил концы с концами. Иногда отец затевал разговоры о переезде в поисках лучшей жизни, но они так и оставались разговорами.
«Интересно, как выглядит Лондон, — подумал мальчик. — Отец рассказывал, что там тысячи людей, сотни повозок, а вечерами улицы освещают светильники… Это настоящее чудо! Удастся ли когда самому посмотреть или так и буду прозябать в этой деревне? Хоть в Тейвисток перебрались бы!..» Туда отец брал его пару раз, когда ездил за свечами в окружной приход, и этот городишко произвел на Френсиса сильное впечатление. Но он чувствовал, что и Тейвисток не то место, где ему хотелось бы провести всю жизнь.
Френсис замерз и стал спускаться вниз, надеясь, что мать уже разрешилась от бремени и его могут пустить в дом. «Нет, — бормотал он себе под нос, — я никогда не останусь в этом Богом забытом месте. Отец рассказывал, что есть немало славных городов и помимо Лондона — Ливерпуль, Глазго… А еще за морем столько разных стран!.. Я непременно увижу их. Нужно только немного подрасти и уехать отсюда куда подальше…»
Через семь лет, когда в семье Дрейка была уже полная дюжина ребятишек, а они наконец переехали в оживленный портовый Плимут, где жизнь стала постепенно налаживаться, отец спохватился и решил, что время плодить ребятишек закончилось, пора выводить их «в люди». Священник начал со старшего, Френсиса. Благо представилась возможность: Эдмунда навестил старший двоюродный брат — капитан торгового барка «Посейдон» Джером Саймон, который согласился взять юнгой крепкого пятнадцатилетнего юношу, который к тому же показался ему смышленым.
Старенький «Посейдон», скрипя корпусом и хлопая многократно штопанными парусами, все же исправно бороздил Северное, Средиземное и Аравийское моря, перевозя шерсть, табак, корицу, кофе, чай и пряности. Старый моряк не ошибся: Френсис быстро постигал морское дело и к семнадцати годам стал уже помощником капитана. Пятидесятипятилетний Саймон, проведший всю свою жизнь в скитаньях по морям и океанам, своих детей не имел, а потому к юному Дрейку привязался, как к родному.
Однажды в порту Портленда «Посейдон» пришвартовался рядом с галеоном «Русалка» под командованием Джона Ролингса, который являлся родственником Саймону: они были женаты на сестрах. Ролингс пригласил свояка на борт, тот взял с собой Френсиса. Так молодой человек оказался в просторной, отделанной красным деревом и богато обставленной каюте на корме галеона, с большим окном, из которого открывался панорамный вид на море. Ролингс оказался дородным мужчиной с грубым красным лицом и жесткими глазами. Пышные, с сединой бакенбарды переходили в усы, длинные, до плеч, волосы были тщательно вымыты и блестели. Ему было тоже пятьдесят пять, но выглядел он гораздо моложе, чем Саймон, наверное потому, что тщательно следил за собой, да и одет был гораздо богаче. К тому же у Саймона было морщинистое лицо потрепанного жизнью человека, а волосы полностью седые.
За уставленным яствами и изысканными закусками столом хозяин демонстрировал чудеса гостеприимства и доброжелательности, хотя Френсиса что-то в нем настораживало. За этой трапезой Дрейк впервые пил тягучее и сладкое португальское вино, старшие пили выдержанный ямайский ром.
— Тебе давно пора поменять корабль, Джерри, — говорил Ролингс. — «Посейдону» уже лет двадцать, он может в любой момент развалиться…
— Торговля шерстью не приносит достаточных доходов, — ответил Саймон. Он явно неловко себя чувствовал, наверное оттого, что молодой Дрейк мог сравнивать его со свояком и сравнение это было явно не в его пользу.
— Я же не раз предлагал тебе войти в мою флотилию и торговать черным деревом! — воскликнул Джон. — У меня уже шесть кораблей, и дела идут очень неплохо!
— А я отвечал, что мне это занятие не по сердцу…
— Ну и зря! А что думает о нем молодой моряк?
— А что такое «черное дерево»? — поинтересовался Френсис.
— Африканские рабы! Мы забиваем ими свои трюмы и за один рейс можем окупить новый корабль!
Идея Френсису не понравилась, но виду он не подал.
— Честно говоря, я об этом не задумывался, — скромно, как и подобает его возрасту и положению, отозвался он. — К тому же я служу у дядюшки Джерри и делаю то, что он велит.
— Но скоро тебе надо будет начинать собственное дело, — со смехом сказал Ролингс. — Если надумаешь — обращайся ко мне, и я тебе помогу!
«Вряд ли это случится», — подумал Френсис, но вслух поблагодарил нового знакомого.
Они засиделись в гостях допоздна, и опьяневшего Саймона пришлось, как товар, грузить в шлюпку. А утром «Посейдон» ушел в очередной рейс. Одновременно из порта выходила и «Русалка», но дальше их пути разошлись в разные стороны.
Средиземное море, борт барка «Посейдон», 1560 год
…Дверь капитанской каюты была приоткрыта, и Френсис не удосужился постучать, а просто вошел, чтобы доложить о сдаче вахты и сказать, что волнение моря несколько утихает, а ветер весело дует им в паруса. Переступив порог, юноша сразу остановился, напоровшись на холодный колючий взгляд.
— Юноша, — раздраженно проскрипел Саймон. — Ты входишь ко мне так, будто не я капитан, а ты!
Любимец капитана никак не ожидал такой реакции. В каюте было темно. Свет трех свечей бросал неверный призрачный отблеск на лицо Саймона. На столе был развернут какой-то свиток, а сверху лежали морщинистые руки дядюшки Джерри, препятствуя увидеть то, что на нем изображено.
— Простите, сэр! — Френсис сделал шаг назад. — Дверь была приоткрыта, и я подумал, что вы отдыхаете… Не хотел вас тревожить… Еще раз простите!..
Он заметил, что после посещения «Русалки» дядюшка Джерри изменился: помрачнел и все время находился в плохом настроении.
— Ладно, полноте, мой мальчик, — Саймон быстро сменил гнев на милость. Как, впрочем, и всегда. — Что там, у тебя? Говори.
— Я хотел доложить, что сдал дежурство. «Посейдон» следует заданным курсом. Море успокаивается, а ветер — в наших парусах.
— Хорошо, можешь быть свободным.
Когда молодой моряк уже прикрыл за собой дверь, он услышал за спиной хриплый голос:
— Френсис! Френсис, иди сюда!
Молодой человек вернулся. Он молча смотрел на капитана, а тот на него. На этот раз взгляд Саймона был слишком пристальным, как будто он изучал племянника и хотел заглянуть прямо ему в душу. Френсис отвел глаза и принялся рассматривать достаточно тесную каюту. Она мало чем отличалась от других помещений барка, только дощатые стены были оструганы и покрыты лаком. По сравнению с каютой Джона Ролингса она выглядела не просто скромной, но откровенно бедной.
Оба какое-то время молчали. Потом капитан произнес уже знакомым тоном, каким обычно разговаривал с Френсисом:
— Малыш, выгляни — не стоит ли кто поблизости, да прикрой плотнее дверь…
Удивленный Френсис выполнил указание.
— Никого нет.
— Подсаживайся к столу. Есть важный разговор…
Молодой моряк опустился на табурет, стоявший у крошечного круглого столика, на котором был развернут уже замеченный им ранее свиток и стоял тяжелый подсвечник с тремя свечами. Саймон стал молча раскуривать свою трубку, и процесс этот затянулся. Племянник успел рассмотреть, что перед капитаном лежит нечто, похожее на карту.
Наконец Джерри выпустил большой клуб дыма, а вместе с ним и первую фразу:
— Детей у меня, ты знаешь, нет. Жена моя не только не научилась сносно готовить, но и рожать… А я стар становлюсь. Скоро ты мое бренное тело спустишь за борт на корм рыбам. — Предвосхищая вежливые возражения молодого моряка, Саймон поднял руку, как бы прикрывая тому рот своей огромной пятерней. — Я хотел, чтоб у меня сейчас был такой же, как ты, сын. Но Бог решил иначе. Видно, за грехи мои… К тебе отношусь как к сыну, а потому хочу открыть одну тайну. Из тех, которые надо хранить очень строго и держать язык за зубами, даже если напился рому. Знаешь восточную поговорку: «Длинный язык может перерезать собственное горло»?
Френсис неопределенно пожал плечами — он заинтригованно смотрел на дядю, а тот замолк надолго, будто позабыв о нем. В конце концов он молча придвинул к юноше карту.
— Смотри. Узнаешь море и этот остров? — капитан ткнул заскорузлым пальцем в какую-то точку.
Дрейк молча разгладил края старого свитка. Это был пергамент. Причем в его ветхости и древности сомневаться не приходилось. Также без сомнения перед молодым моряком лежала карта. Только сделана она была человеком, который, казалось, никогда этой работой не занимался. В тусклом свете от дрожащего пламени свечей были видны извилистые линии, изображающие волны. Слева наверху по-латыни написано: «Эгейское море». Среди волн нарисованы несколько островов. Название имел лишь самый большой — Крит. В некотором отдалении от него имелись три маленьких островка, названия которых вообще отсутствовали. На южной стороне одного из них схематически было изображено какое-то строение, остроконечную вершину которого венчал крест. Чуть ниже островка шел более мелкий шрифт латиницей. Капитан, внимательно следивший за Френсисом, пояснил:
— Здесь написано: «сто сорок пять футов».
— И что это значит?
— Я так понимаю, что это расстояние до клада.
— Клада? — переспросил Дрейк, и глаза его расширились. — А откуда у вас этот свиток?
— Он попал ко мне после смерти старого монаха. Мы отбили его от разбойников в Александрии и взяли на борт, накормили, напоили, переодели, ибо его одежда превратилась в лохмотья. Старик направлялся в Геную, но помер, бедняга, на четвертый день пути, и мы, по морскому обычаю, предали его тело пучине. Только перед смертью он шепнул мне: «В дорожной сумке карта. Возьми ее, и да вознаградит тебя Господь за твою доброту…» Так вот, в его аккуратно сложенных небогатых пожитках я и обнаружил этот свиток. На нем действительно старинная карта. Только составил ее человек, не привыкший к такой работе…
— Но почему вы решили, что речь идет о кладе? Может, это чье-то захоронение или что-то еще…
— А вот текст видишь? Мне пришлось переводить его с латыни по частям, чтобы никто из переводчиков не мог догадаться о его смысле.
Справа внизу, прямо по карте, шли несколько строк, написанные каллиграфическим почерком. Буквы выцвели и частично стерлись, но даже если бы они сохранились в первозданном виде, Френсису они бы ничего не сказали. Он опять вопросительно посмотрел на Саймона.
— Да, мы с тобой плохие грамотеи! А вот знающие люди мне все эти слова перевели порознь, а я их потом составил вместе. Слушай, что получилось: «Оставлен безвременно усопшим Великим магистром Ордена сэром Томасом Курляндским, действовавшим по поручению Его Величества Ричарда. Сие есть собственность Господа Бога нашего Всемогущего. Да хранит Господь клад сей от лихих людей. Да будет употреблен он во благо Отца Небесного. В год 1191 от Рождества Христова. Аминь».
— Да, речь действительно идет о кладе! — воскликнул Френсис. — Но может, это чья-то дурацкая шутка?!
— Не похоже, мой мальчик, не похоже… Я специально ездил в Лондонскую библиотеку и поговорил с иссушенными книжными червями, которые изучают историю и знают о чужом прошлом больше, чем о своем настоящем. Король Ричард I по прозвищу Львиное Сердце командовал Третьим крестовым походом, он завоевал и Крит, и все окрестности! А барон Томас Курляндский заведовал казной его войска! Так что все совпадает…
— Неужели действительно к этому свитку прикасались сам король и его главный финансист? — Френсис с благоговением потрогал старинный пергамент.
— Именно так, мой мальчик! Но нас должен больше интересовать сам клад, а не те, кто его схоронили. И пусть тебя не смущает, что он принадлежит Богу. Если мы до него доберемся, значит, Бог это позволил, — Саймон взглянул на своего юного собеседника. — Эк как у тебя глаза-то блестят! Без вопроса вижу, что и ты загорелся мыслью отыскать сокровища!
Френсис молча кивнул. Сердце его учащенно колотилось. Саймон покачал седой головой.
— Только это дело непростое. Помнишь, прошлым летом мы ходили на Крит, а потом стояли у каждого из трех безымянных островов? Ты еще недоумевал, что мы там делали почти месяц… А я объяснял всем, что ищу источники пресной воды и подыскиваю место, чтобы построить склад для хранения товаров. И команда удивлялась, хотя в конце концов все поверили. Ну, или сделали вид, что поверили. Им было не на что жаловаться: на островах хорошая охота, рыбалка, отмели с прогретой водой, а жалованье идет, и кому какое дело, чего их капитан лазит по скалам…
— Я понял! — воскликнул Френсис. — Вы искали тот самый остров!
— Да. И я его нашел! Обнаружил и место, где стоял монастырь, — все как на карте указано. Только сейчас от него уцелели лишь остатки стен да гора камней и щебня. На Крите же знающие люди говорили, что когда-то это была обитель крестоносцев. Про Орден госпитальеров слышал?
Молодой человек покачал головой.
— Это рыцари, которые огнем и мечом насаждали веру в сарацинских землях, отвоевывали христианские святыни. Вот монахи — это их потомки. Они обитали там много лет, но потом повымерли, должно быть…
— Так получается, что монахи и охраняли этот клад?
— Вряд ли крестоносцы доверили бы кому-то тайну своих сокровищ. Хранители, скорей всего, не подозревали, что хранят!
— А вы искали? Нашли хоть какие-то следы клада?
— Нет. Что я мог один сделать? Работать киркой и лопатой не привык, да и стар уже… К тому же точные координаты неизвестны. В какую сторону следует отсчитывать эти сто сорок пять футов? От какой точки?.. А главное другое — золото и бриллианты всегда мутят разум людям, из-за них много крови пролито. Если бы матросы прознали про клад, могли бы вонзить стилет мне под лопатку — и дело с концом!
— Да-а-а, — Френсис задумчиво покачал головой. Задачка была явно не для его ума. — И что же вы решили, дядя Джерри?
Старик опять принялся раскуривать свою трубку и лишь после этого ответил:
— Теперь у меня есть ты — человек, которому я доверяю. Поэтому я решил отправиться на безымянный и найти этот клад! Правда, мы вдвоем не сможем все вокруг перекопать, но я отобрал пятерых матросов. Люди вроде бы надежные, но ухо и с ними надо держать востро. Ты умеешь пользоваться оружием?
Френсис пожал плечами.
— В Кроундейле мы с мальчишками фехтовали на деревянных мечах да стреляли из лука. Нас учил дядя Том — он всю жизнь был солдатом. Не думаю, что я научился сражаться…
— Наш боцман Боб Акула большой мастер в этом деле, я попрошу его позаниматься с тобой.
Разговор был окончен, и Френсис отправился спать в свой гамак. Впрочем, заснуть ему так и не удалось: он мысленно уже был на таинственном острове крестоносцев.
Глава 2 В поисках клада
…Френсис опустился на тщательно отесанный камень обвалившейся стены и шейным платком стал вытирать обильно струившийся по лицу пот. Вот уже вторую неделю он и пятеро матросов во главе с Бобом Акулой кирками и лопатами ковыряют скалистый грунт безымянного островка вокруг развалин древнего монастыря, возвышавшегося некогда на самой вершине торчащей из моря и обильно заросшей лесом скалы. Теперь от него остались только толстенные стены с потайными ходами и винтовыми лестницами внутри. Казалось невероятным, что такое мощное сооружение могло разрушиться само по себе… Может, его обстреляли из пушек? Хотя прошло несколько столетий, не всякое творение человеческих рук может выдержать столь долгий срок на перекрестных ветрах, напоенных солью и влагой…
Сто сорок пять футов на север, сто сорок пять на юг, на запад, на восток… Все это происходит под неусыпным присмотром Джерома Саймона, который вооружен до зубов — фитильной аркебузой, двумя пистолетами с колесцовыми замками и абордажным кортиком. Два пистолета есть и у Френсиса, но они спрятаны в дорожном мешке, где хранится фляга с водой, небольшой запас еды и запасная рубаха. Такие мешки имеются и у остальных матросов, а потому не привлекают внимания. Вооруженность капитана вначале вызывала удивление и зубоскальство, но Саймон пояснил, что опасается нападения пиратов; это было вполне правдоподобное объяснение, и смешки прекратились. Сам Френсис мало рассчитывал на пистолеты: занятия с Акулой не дали заметных результатов: стреляя в поставленные на фальшборт[1] бутылки, он разбивал лишь каждую третью, а в поединке на абордажных кортиках Боб каждый раз обезоруживал его в первые же минуты. И все же лучше иметь пистолет, хотя он и не пригодится, чем не иметь, когда он понадобится!
Звенели кирки, вгрызались в каменистую землю лопаты. И чем больше грунта появлялось вокруг вырытых ям, тем призрачнее становилась надежда на успех кладоискателей, а вопросов накапливалось все больше. А тот ли это остров? А не был ли клад выкопан еще несколько столетий назад? А не фальшивка ли попала в руки старого капитана?..
— Нет, — уверенно ответил на последний вопрос Саймон, когда Френсис вечером задал его, почти валясь с ног от усталости. — Монах производил впечатление образованного и богобоязненного человека. Он был аккуратен и точен в словах и поступках. И, конечно, не стал бы обманывать меня на смертном одре!
Они вдвоем стояли на краю скального обрыва, глядя с высоты на яркое синее море и «Посейдон», который отсюда казался игрушечным и золотился в лучах заходящего солнца. Матросы спустились вниз и ждали их на узком галечном пляже у шлюпки. Вдали шла какая-то шхуна, на палубе что-то блеснуло.
— Что там сверкает? — поинтересовался Френсис.
Саймон махнул рукой.
— Бездельники рассматривают нас в подзорную трубу, — безразлично сказал он, явно думая о чем-то другом. — А солнце отражается в линзах.
— Вы чем-то озабочены, дядя? О чем задумались?
Капитан тяжело вздохнул.
— Боюсь, малыш, нам придется сворачивать работы. Не оставаться же на этом чертовом камне остаток жизни. Видно, не судьба мне разбогатеть в одночасье, — Саймон продолжал смотреть на корабли. — Мы не только не знаем, в какую сторону отсчитывать эти футы, но и на какую глубину копать.
— А дайте-ка мне еще раз посмотреть карту! — неожиданно попросил Френсис.
Получив пергамент, он разложил его на камне и принялся рассматривать через увеличительное стекло, которым пользовались, чтобы добыть огонь. Солнце ярко освещало старинный рисунок, увеличительное стекло делало четкими полустершиеся линии. Острый глаз молодого человека рассмотрел прерывистые штрихи, ведущие от изображения монастыря к крестику, который, судя по всему, обозначал местонахождение клада.
— Знаете, дядя Джерри, а ведь похоже, что клад скрыт под землей! — внезапно объявил он, возбужденно тыча пальцем в проявившиеся штрихи. — Тут есть потайной ход! Недаром у них в стенах тайные переходы! Должен быть и запасной выход, чтобы уйти в случае опасности! Именно там спрятаны сокровища! Тогда эти сто сорок пять футов придется просто пройти… Но надо отыскать вход в туннель!
Саймон, щуря начавшие слезиться глаза, всматривался в карту, но ничего не увидел. С досадой отвернулся.
— Ладно, Френсис, даю тебе еще неделю. Можешь искать где хочешь, — он вытер глаза заскорузлым пальцем. — Может, тебе повезет, хотя я не очень в это верю…
В последующие дни Френсис лазил по узким проходам, открывшимся в остатках разрушенных стен, а матросы расчищали пол бывшего монастыря, вынося каменные обломки на специально сколоченных носилках. Настроены они были довольно скептически.
— Никаким кладом здесь и не пахнет, — бурчал худой мосластый матрос, прозванный за длинную шею Жирафом. — Тут десятки лет вообще никого не было. А может, и сотни…
— Значит, обещанного вознаграждения нам не видать, — поддержал товарища угрюмый здоровяк Борец.
— Тогда какого черта мы тут торчим? — присоединился к ним широкоплечий низкорослый Гном.
— Молчать! — рявкнул наконец боцман. — Капитан не бросает слов на ветер! Кто не хочет постараться ради хороших денег, может убираться — на корабле найдутся желающие занять его место!
Авторитет Акулы был высок, и роптание прекратилось, хотя лица у незадачливых кладоискателей по-прежнему оставались мрачными.
Обойдя открытые проходы и не обнаружив ничего интересного, Френсис опустлся на нижний ярус — здесь царил мрак, камни были холодными, как будто за толстыми стенами стояла алеутская зима. Освещая путь факелом, он боком протискивался все дальше и дальше, еще раз спустился по винтовой лестнице и оказался перед нагромождением камней, заваливших проход. Тупик? Тогда можно поворачивать назад… Но тут он заметил, что пламя факела колеблется, как будто от сквозняка… Поднес огонь к завалу и убедился, что действительно из щелей тянет легкий ветерок. Значит, впереди есть выход!
Воткнув факел в щель между камнями, он принялся разбирать завал, с трудом бросая камни под ноги и назад. Из образовавшегося наконец черного отверстия потянуло тленом и сыростью, но факел чуть не задуло — подозрения юноши начинали сбываться: впереди тоннель на случай бегства обитателей монастыря! А значит, через сто сорок пять футов, возможно, его ждет клад!
Оступаясь на им же набросанных камнях, Френсис с трудом вернулся назад, поднялся на второй ярус, где обрушившаяся стена обнажила тайные ходы, зажмурился от яркого солнца и тут же услышал возбужденные крики матросов: у северной стены они, поддевая кирками и лопатами, поднимали из пола большую каменную плиту, украшенную какой-то надписью. Неужели без него нашли клад?!
Но нет: под плитой оказалась могила, в которой лежал закованный в латы рыцарь. Опущенное забрало закрывало лицо, золоченые доспехи с голубой эмалью тронуты ржавчиной, железные перчатки скрещены на груди и покоятся на рукояти длинного, почти с его рост меча, клинок которого хотя и потускнел, но не поддался коррозии… Стоящие вокруг кладоискатели замерли.
— Это важная птица! — воскликнул Жираф. — Глядите, какие доспехи! Давайте достанем его, может, найдем что-то ценное! — Жираф нагнулся и несколько раз ударил лопатой по забралу снизу вверх. Оно со скрипом поднялось, открыв череп скелета. Зияющие глазницы грозно уставились на тех, кто так грубо и бесцеремонно нарушил его покой. Матросы попятились.
— Ничего не трогай, осел! — прикрикнул Саймон. — Так можно выпустить на волю чуму или холеру!
— Нельзя нарушать покой мертвых! Зароем его, пусть покоится с миром! — воскликнул Гном.
— Это дурное предзнаменование. Надо убираться отсюда, — как всегда тихо сказал Рассудительный Джек.
Все выжидающе смотрели на капитана.
— Ставьте плиту на место! — приказал Саймон. — Мы не за этим сюда пришли!
Матросы принялись устанавливать тяжелую плиту обратно, а Френсис подошел к дяде.
— Это наверняка останки сэра Томаса Курляндского! А за заваленным тоннелем я нашел потайной ход и готов поставить голову, что там и спрятан клад! — взволнованно выпалил он. — Все сходится, и у меня нет никаких сомнений!
— Пошли туда людей, пусть расчистят проход, — рассеянно ответил Саймон, глядя в подзорную трубу на голубую поверхность моря. Он явно был озабочен, хотя причина этого была Френсису непонятна. Неподалеку от берега медленно шла шхуна, похоже та самая, которую они видели накануне. Судно миновало «Посейдон» и скрылось из виду за выступающей скалой острова.
Капитан взмахом руки подозвал Боба Акулу, протянул ему трубу.
— Обойди остров и осмотри окрестности. Мне кажется, эти парни собираются бросить якорь неподалеку, а с восточной стороны есть очень удобная бухта. В общем, разнюхай все, что сможешь. Ты же знаешь: когда ищешь клад, любые соседи — враги! А они крутятся тут уже несколько дней, что-то высматривают и вынюхивают…
— Я все разведаю, капитан! — боцман кивнул и скрылся в окружающем скальную площадку лесу.
* * *
Матросы без энтузиазма отправились расчищать проход в тайный тоннель: Жираф бурчал, что никакого запасного выхода в монастыре быть не может, рассудительный Джек не скрывал желания как можно скорей покинуть остров, пока не исполнилось зловещее предзнаменование, Гном с Борцом хотя и не высказывали своего настроя, но явно соглашались с товарищами. Впрочем, работу они выполнили, открыв вырубленный в скале узкий — не больше метра — и низкий — чуть выше человеческого роста — коридор с неровными стенами. Из прохода достаточно сильно дуло свежим ветерком с явным запахом моря.
Френсис и Борец, запалив факелы, двинулись по скальному коридору, остальные не захотели туда идти и поднялись наверх, чтобы спокойно отдохнуть в тени. Тоннель оказался длинным и закончился овальным отверстием, сквозь которое через зелень кустарника было видно море. Отверстие выходило в скальную расщелину, заросшую чертополохом, и обнаружить его было довольно сложно. Зато, привязав к предусмотрительно вбитым в скальную твердь кольцам веревку, обитатели монастыря могли незаметно выбраться на волю и спуститься к морю.
Френсис оказался прав в своих предположениях, но ничего похожего на клад на их пути не встретилось — тоннель был пуст! И отчаяние холодной змеей стало вползать в сердце молодого моряка. Ведь он уже видел себя богатым морским волком, стоящим на палубе собственного большого галеона. В мечтах его манжеты и воротник были украшены дорогими кружевами, ножны кортика инкрустированы драгоценными камнями. А рядом стояла она. Стройная брюнетка с аккуратно уложенными волосами, также облаченная в дорогое платье, с тонкими нервными пальцами, унизанными кольцами… Неужели с этими надеждами придется распрощаться?!
Борец тоже не скрывал своего разочарования, которого, впрочем, не выказывал, чтобы не нарушать субординацию. Они выбрались наверх. Ничего не говоря Саймону и развалившимся на камнях усталым матросам, Френсис смастерил новый факел и, прихватив кирку, вновь спустился в черное жерло подземного хода. На этот раз Борец с ним не пошел, присоединившись к отдыхающим товарищам.
Пройдя примерно сто сорок футов[2], он стал выстукивать каменные стены тоннеля, пытаясь определить возможные пустоты. И его отчаянная настойчивость вскоре была вознаграждена. После очередного удара он услышал глухое, чуть раскатистое эхо. Кое-как закрепив факел, он аккуратно, боясь обвала, стал выбивать большой плоский камень, который почти до верха прохода прикрывал справа стену подземелья.
Наконец камень поддался и отвалился. Френсис едва успел отпрянуть в сторону. Но камень упал на факел и погасил его. В кромешной темноте, стоя на коленях, Дрейк просунулся в образовавшуюся брешь, и тотчас же руки его нащупали металлическую стенку. Это был сундук! Дрожащими руками кладоискатель стал ощупывать его. Сундук оказался большим и тяжелым, он понял, что извлечь его на свет Божий будет делом непростым.
Спотыкаясь, руками нащупывая дорогу, Френсис наконец выбрался на свет, увидел безразличные лица капитана и матросов. На них не было ни томительного ожидания, ни вопроса: в благоприятный исход экспедиции уже никто не верил. Но чем больше они всматривались в молодого человека — возбужденного, сияющего, окрыленного, — тем отчетливее понимали, что ему, а значит, и всем им, наконец повезло!
— Ну, что там? — спросил капитан.
Френсис еще какое-то время, как рыба, выброшенная на берег, беззвучно шевелил губами, а затем произнес:
— Я нашел клад, разрази меня гром!
— Сядь, отдохни и расскажи все по порядку! — сказал Саймон.
Рассказ Френсиса подходил к концу, когда из зеленых зарослей вынырнул исцарапанный Боб Акула. Он тоже был возбужден, но, увы, не хорошими вестями.
— Шхуна называется «Морская звезда», на ней Дик Скелет со своими головорезами! — выпалил боцман. Наступила зловещая тишина. Скелет был пиратом, известным своей жестокостью и беспощадностью. Встреча с ним не сулила ничего хорошего.
— Но у Скелета была бригантина «Черный дьявол»! — не согласился Саймон.
— Да, судно другое, но я узнал самого Скелета и двух его ближайших помощников! И они готовятся атаковать «Посейдон» — разложили абордажные крючья, проверяют оружие!
— Вот и предзнаменование! — Рассудительный Джек перекрестился. — Мы совершили святотатство и отрыли скелет неизвестного рыцаря, и Провидение тут же послало нам самого жестокого пирата этих краев по прозвищу Скелет!
— Думаю, он появился бы и без этого, мы еще раньше видели эту шхуну, — задумчиво произнес капитан. — Да и зачем ему «Посейдон»? Он же понимает, что у нас нечем поживиться! Скорей всего, он просто готовит очередной набег на богатое судно…
— Никаких других судов я не вижу, — возразил Акула. — А если у нас на борту нет золота и серебра, то его вполне устроит сам корабль!
— Кстати, насчет золота, — начал капитан и осекся. — Жираф и Рассудительный, берите шлюпку и мигом на корабль! Раздать экипажу все оружие, зарядить пушки, приготовиться к поднятию якоря! И прислать за нами парусный бот…
Остающиеся на острове тревожно переглянулись, и Френсис понял, что существует реальная возможность того, что «Посейдон» просто уйдет от надвигающейся опасности, оставив их на произвол судьбы.
— …чтобы поместился сундук с золотом, из которого каждый член команды получит вознаграждение! — закончил Саймон.
Он тоже предусматривал возможность бегства экипажа, но пресек ее своим обещанием: ради золота любой моряк готов рисковать жизнью! И, конечно, никто не уйдет от найденных сокровищ!
Глава 3 Сундук мертвеца
Окованный медью сундук удалось извлечь с большими трудностями и после долгой возни: он просто не проходил в проход в стене! Пришлось спускать его из тайного выхода на веревках — очевидно, таким же путем он и оказался в тоннеле. Наконец изнурительная работа закончена, и вот пятерка вконец измученных и обессилевших людей сидит на выступе скалы, у самой кромки воды, футах в двухстах[3] от места высадки. Здесь нет пляжа, а сразу под скальным выступом начинается глубина, в прозрачной голубоватой воде плавают рыбы, солнечные зайчики бликуют на поверхности и высвечивают неровности каменистого дна. Так даже лучше: лодка сможет подойти вплотную, и погрузить сундук будет легче.
На «Посейдоне» заметна какая-то суета, но как правильно рассчитал капитан, якорь не поднимали и не ставили паруса — наоборот, спускали вместительный бот, чтобы забрать удачливых кладоискателей. А те, забыв про пиратов, молча, почти не мигая, смотрели на тяжелый сундук.
Первым очнулся Саймон.
— Вот что, ребята, — произнес он осипшим голосом. — Попробуйте открыть этот ящик. Как жениху в первую брачную ночь хочется поскорее взглянуть на голую невесту, так и мне не терпится узнать, что там под крышкой!
Для Боба Акулы это оказалось по плечу, хотя и ему пришлось повозиться, орудуя киркой и большим складным ножом. И вот со скрипом поднялась крышка, сорвана полуистлевшая ткань сарацинского флага, прикрывавшая драгоценное содержимое… Пять пар глаз впились в сверкающие на солнце россыпи камней, ниток жемчуга, драгоценной утвари… Взгляды не могли остановиться на какой-то конкретной вещи, все воспринималось вместе, как бесценная куча богатств. Борец, не совладав со своими эмоциями, быстро по локоть сунул руку в золотые побрякушки, а когда вытащил ее, то в ладони оказалась жменя золотых монет, которые Дрейк никогда ранее не видел.
— Там внизу сплошные золотые, — прохрипел матрос. — Я всегда чувствую золото на расстоянии!
— Положи на место! — приказал капитан, и после некоторой паузы монеты высыпались обратно в сундук.
Никто из собравшихся не мог сказать, как долго длилось созерцание драгоценностей. Глаза матросов загорелись нехорошим блеском. Первым опять же очнулся капитан.
— Эй, парни! — крикнул он нарочито грубо и резко, поднимаясь и опуская руки на торчащие за поясом пистолеты. — Хватит пялиться. Сразу скажу для тех, кто излишне самонадеян и глуп. Выкиньте из головы все дерзкие мысли. Этот ящик принадлежит мне и только мне. Тот, кто захочет позариться на все эти побрякушки, либо получит пулю в лоб, либо повиснет в петле на рее!
Френсис тоже достал пистолеты и стал рядом с дядей. Матросы ошеломленно смотрели на вооруженных капитана с помощником и постепенно приходили в себя. Опасный блеск в глазах погас так же быстро, как и появился.
— Но знайте, что Джером Саймонс не жмот, — продолжил капитан. — Все получат награду, как я и обещал. Причем прямо сейчас! И все будет честно. Френсис, отвернись! Я не глядя вынимаю что попадется под руку, а ты говоришь, кому это отдать!
Френсис выполнил команду и отвернулся, глядя на море, «Посейдон» и спускаемый бот.
— Кому? — раздался за спиной хриплый голос дяди.
— Борцу!
— Держи!
Борец получил жемчужное ожерелье и со смехом надел на шею:
— Огромные жемчужины и высшего качества! Никогда у меня не было такой дорогой цацки!
— Кому?
— Гному!
— Держи!
Гном схватил серебряный кувшин и прижал к груди.
— Неужели настала моя очередь есть и пить из серебра?!
— Кому?
— Акуле!
Боцману достался золотой кубок с гравировкой сцен охоты.
— Теперь я буду пить ром как король! — воскликнул он, восхищенно любуясь тонкой резьбой.
— Кому?
— Мне! — Френсис повернулся и с некоторым разочарованием увидел, что капитан протягивает ему маленький невзрачный перстень. Но все было по-честному, и он надел его на палец, отодвинув руку, посмотрел на львиную морду, сжимающую в зубах черный, играющий на солнце камень. Казалось, что лев довольно улыбается, радуясь, что выбрался из темной и сырой пещеры. И он тут же изменил свое мнение: перстень был красив, хорошо сидел на руке и излучал спокойствие и уверенность. По телу пробежали мурашки, плечи словно расширились и распрямились, усталость как рукой сняло. Какая-то энергия наполнила тело, мышцы стали сильней и крепче, душу наполнила радость.
Радовались и другие матросы — они никогда не обладали такими дорогими вещами.
— Капитану — ура! — выкрикнул Акула, и все трое громко трижды прокричали:
— Ура! Ура! Ура!
Зато, когда бот причалил к скале и Жираф с Рассудительным увидели у товарищей обновки, у них испортилось настроение.
— А где наше вознаграждение? — недовольно спросил Жираф. — Или мы его не заслужили?
— Заслужили, парни, — успокоил их Саймон. — На «Посейдоне» все получите!
Сундук взгромоздили на бот, поставили парус и очень быстро подошли к барку. Деревянный Посейдон на носу одобрительно смотрел на удачливых подданных. В левой руке он держал трезубец, а правой указывал вперед — и это был путь в новую, обеспеченную жизнь. Вся команда в радостном оживлении сгрудилась у борта, вниз спустили крепкие веревки, переброшенные через блоки, нетерпеливые возгласы торопили привязать к ним драгоценную находку. Но вначале Саймон и Френсис по веревочной лестнице вскарабкались на палубу, и только после капитан скомандовал:
— Поднимайте!
Веревки привязали к железным кольцам-ручкам, и сундук, слегка раскачиваясь, стал медленно подниматься вверх. Пятеро оставшихся в боте матросов, задрав головы, смотрели, как над их головами проплывает драгоценная находка. Поскольку внимание всех было сконцентрировано на подъеме клада, выход из-за скалы «Морской звезды» остался незамеченным, а пушечно-аркебузный залп стал полной неожиданностью. Одно ядро просвистело над головами, вокруг барка фонтанчиками вскипела вода от пуль и недолетевших ядер, но второе ядро угодило в фальшборт, за которым столпился экипаж «Посейдона». Окровавленные тела разбросало в стороны, тяжелый кованый сундук с высоты двенадцати футов рухнул вниз и, взметнув очередной фонтан, камнем ушел на дно.
Но сожалеть о нем было некому: Рассудительный Джек и не успевший нарадоваться драгоценному жемчугу Борец были убиты очередным ядром, бот с разбитой в щепки кормой тонул, чудом спасшиеся Акула, Гном и Жираф торопливо поднимались на борт, где царила паника: трое убитых, пятеро раненых, а «Морская звезда» под черным флагом быстро приближалась… Вдоль бортов нетерпеливо скалились готовые к бою пираты в завязанных сзади косынках, приготовившие абордажные крючья, сабли, рапиры и пистолеты.
— К пушкам, огонь! — Стоящий в стороне и потому уцелевший Саймон отделался контузией и, лежа на палубе, лихорадочно чиркал кресалом, чтобы зажечь фитиль аркебузы. Наконец это ему удалось.
— Дайте мне, дядя! — Неожиданно для себя, Френсис забрал тяжелое ружье, положил на фальшборт и стал целиться. Мишенью он выбрал рулевого и, хотя никогда не стрелял из аркебузы, тем более по движущейся цели и с дальнего расстояния, был уверен, что большая круглая пуля пробьет ему сердце. Нажав курок, он опустил тлеющий фитиль к полке, с треском вспыхнул порох, раздался грохот выстрела, и сильная отдача ушибла плечо. Рулевой опрокинулся на спину и исчез из поля зрения, а «Морская звезда» рыскнула, сбиваясь с курса, и развернулась бортом.
В этот момент раздался нестройный залп четырех пушек «Посейдона». На торговых судах обычно не бывает орудий — только несколько ружей на всякий случай да холодное оружие. Но у Джерома Саймона были свои правила, и сейчас они полностью себя оправдали. Потому что, несмотря на неопытность пушкарей, ядро угодило в мачту, она затрещала, накренилась и начала падать, обрывая такелаж и накрывая парусом палубу. «Морская звезда» сильно накренилась на левый борт, часть пиратов посыпалась в воду, часть барахталась под парусом, немногие бросились рубить тросы и канаты, чтобы сбросить мачту за борт. Но стало ясно, что атака на беззащитное торговое судно окончилась не легкой победой, а сокрушительным поражением!
«Посейдон» выбрал якорь, поднял паруса и стал уходить от щедрого, но опасного острова. Пушкари дали еще несколько залпов, Боб Акула и три опытных в боевых делах матроса стреляли из аркебуз, «Морская звезда» вяло отвечала огнем. Но одна из вражеских пуль все же настигла капитана Саймона.
Море за кормой было пустынным, их никто не преследовал. Хотя «Морская звезда» была более быстроходной, полученные повреждения вывели ее из строя надолго. На второй день пути Саймон позвал к себе племянника, боцмана Боба и штурмана по прозвищу Мореход. Бледный и осунувшийся капитан лежал на своей постели, грудь перевязана, под глазами черные круги.
— Пришла пора нам прощаться, малыш! — с трудом произнес он. Френсис хотел возразить, но старый моряк только слабо покачал головой. — Не нужно. Я готов умереть. Хочу, чтобы ты и вся команда знали: «Посейдон» теперь принадлежит тебе… У портового нотариуса Плимута я давно составил завещание… Вы, ребята, — он перевел взгляд на Акулу и Морехода, — расскажете об этом всему экипажу. И поддержите нового капитана… А сейчас уходите, я хочу отдохнуть…
К вечеру Джером Саймон отдал Богу свою грешную душу и, по морскому обычаю, был похоронен в пучине моря, которому посвятил всю жизнь.
* * *
Ночью погода испортилась. Пошел дождь, началась гроза, гремел гром и сверкали молнии, поднялась качка. «Посейдон» бросало как скорлупку на волнах. Это продолжалось не меньше суток. Казалось, что морской бог недоволен смертью одного из самых преданных своих подданных. Мрачной погоде соответствовали и мрачные лица экипажа. Френсис заметил: матросы избегают встречаться с ним взглядами, уходят от разговоров, иногда собираются по двое, по трое и о чем-то шушукаются, а при его приближении замолкают и поспешно расходятся. Раньше он не придал бы всему этому значения, но сейчас чувствовал: это неспроста, надвигается какая-то опасность. Так и оказалось.
Глава 4 Поединок на палубе
Улучив момент, в каюту Дрейка — а теперь он занимал жилище покойного Саймона — проскользнул Боб Акула.
— Плохо дело, капитан, — с порога сказал он. — Команда недовольна. Они считают, что ты получил больше, чем заслуживаешь. А им не дал даже того, что положено…
— Чего я не дал им? — переспросил Френсис. Он сидел за столом, пытаясь разобраться с многочисленными бумагами, оставленными Саймоном. Дело шло туго, и он был не в настроении.
— Обещанное вознаграждение за найденный клад.
— Но клад-то утонул!
— Их это не интересует, — Боцман помял кулаки, будто разминаясь перед дракой. — Закоперщиком там Жираф. Он оказался отпетым мерзавцем. До меня даже дошли слухи, что он раньше был пиратом. Не знаю, насколько это достоверно, но, судя по его замашкам, вполне может быть…
— Вот тебе раз… — развел руками Френсис. — Почему же дядя взял его на остров? Значит, доверял?
— Мерзавец умело маскировался. К тому же он очень хитер. Во всяком случае, именно он мутит воду. И я думаю, что в ближайшее время вспыхнет бунт!
— Ну что ж… — Френсис задумчиво постучал пальцами по столу. — Тебе известно, как поступают с бунтовщиками. У нас есть веревки и есть реи. Сколько их?
— Активных человек двенадцать. Мы с Мореходом поддерживаем тебя, за нами пойдут еще человек пять. А остальной десяток — это болото. Они присоединятся к победителю.
— Ну что ж, — спокойно сказал Френсис. — Каждый получает то, что хочет. И Жираф получит свое.
— Дело в том, что, по морским обычаям, ты должен будешь сразиться с тем, кто поставит под сомнение твое старшинство! И победить, чтобы подтвердить звание капитана! Боюсь, что ты вряд ли выстоишь против любого из них. Конечно, ты мастерски застрелил рулевого «Морской звезды», но думаю, что это была случайность. Поэтому поединка надо избежать. Может быть, переговорить с командой и перетянуть колеблющихся на нашу сторону?
Френсис покачал головой и хищно улыбнулся. Раньше у него не было такой улыбки.
— Разве волк отвечает рычанием на лай собак? — спросил он. — Нет, он молча разрывает их в клочья. Жираф получит то, что заслужил, — пусть только попробует гавкнуть на меня. Спасибо, что предупредил: предупрежден — значит, вооружен!
Френсис вынул из ящика стола пистолет и сунул за пояс, пристегнул к поясу тяжелый абордажный кортик. Потом обошел стол, ободряюще похлопал Боба по плечу.
— Что ж, будем ждать, — спокойно сказал он.
Боцман пожал плечами — мол, тебе видней, — и молча вышел из каюты.
Ждать пришлось недолго. Уже утром следующего дня его вызвали на палубу. Там собралась почти вся команда кроме рулевого и впередсмотрящего. Слева стояли Боб Акула и Джим Мореход, справа — Жираф и его команда, посередине — колеблющиеся.
— Вот что, Френсис, — начал Жираф, но Дрейк резко перебил его:
— Матрос, изволь обращаться ко мне так, как положено по судовому уставу, — «капитан»!
— Мы не признаем тебя капитаном, — продолжил Жираф и оглянулся на стоящих за спиной матросов, как бы ища у них поддержки.
Те одобрительно загудели.
— То, что тебе передан корабль, еще не значит, что ты стал капитаном! Судовладелец сидит на берегу и считает деньги: либо прибыль, либо убытки. А капитан — это тот, кто ведет корабль, кто отвечает за судно и экипаж, кто не дает в обиду своих моряков и не позволяет обмануть их!
— Тебя разве обманули? — спросил Френсис.
— Конечно, — Жираф зловеще усмехнулся. — Я не получил ничего, а Боб и остальные уже полакомились содержимым сундука. Почему никто из команды не дождался обещанного? Саймон обещал: когда мы поднимем клад, каждый получит свою долю!
— Во-первых, речь шла не о доле, а о вознаграждении. Это разные вещи, матрос, и ты должен это знать! — сурово нахмурился Френсис. — А во-вторых, ты разве не видел, как сундук ушел на дно моря?
— Мне плевать, куда делся сундук. Я и мои друзья хотим получить то, что нам было обещано. И мы хотим заменить капитана, поставив на это место настоящего моряка, а не сопляка, у которого еще мокреют штанишки, когда начинается шторм!
— Ну что ж, это разумное решение, — кивнул Френсис. — И кого вы хотите поставить на мое место?
— Ребята выбрали меня, — сказал Жираф и опять обернулся. — Так, парни?
— Так, так! Жирафа в капитаны! — послышались громкие голоса его сторонников.
— Ну что ж, — повторил Френсис. — Тогда мы должны прибегнуть к старинному способу разрешения таких споров!
Он положил руку на рукоять абордажного кортика.
— Попробуй отобрать мое место!
Дерзкое предложение явно удивило Жирафа, не ожидавшего столь активного сопротивления и такой уверенности в поведении молодого капитана.
— Я готов, — после мгновенного замешательства сказал он, и в его руке тоже оказался абордажный кортик — короткая сабля, широкая и изогнутая, такой удобно действовать в коридорах корабля, в каютах, в трюме — везде, где мало места, чтобы пользоваться рапирой, шпагой или мечом. — Хотя если бы ты добровольно ушел из капитанов, то остался бы жив!
Выпятив нижнюю челюсть, Жираф бросился вперед. Френсис тоже выдернул кортик. Они сошлись в центре круга, образованного матросами, которые с интересом следили за разыгрывающимся спектаклем. С лязгом сшиблись клинки. Жираф шагнул назад.
— Черт побери, не думал, что этот сопляк так силен!
— Держи! — Френсис ударил сверху.
Жираф едва успел заслониться и попытался нанести колющий удар, но Френсис легко отвел его и ушел в сторону с контратакой, его клинок, нацеленный в шею, просвистел над головой успевшего присесть Жирафа. Противники обменивались ударами, при этом каждый раз Френсис рубил с такой силой, что Жираф с трудом удерживал оружие. Он даже переложил кортик в левую руку, а правой, шевеля пальцами, потряс в воздухе и воскликнул:
— Тут что-то нечисто! Сам дьявол водит его рукой! Он бьет с такой силой, что «отсушил» мне кисть!
По его лицу было видно: он уже жалеет о том, что затеял эту бучу. Но теперь деваться некуда: назад у поединщика, как у любого парусника, хода нет!
Вновь перекинув кортик в правую руку, Жираф продолжил бой. По лицу катились крупные капли пота, он тяжело дышал и явно устал, в то время как Френсис был свеж, легко двигался и демонстрировал хорошее знание приемов фехтования. Акула Боб с изумлением наблюдал на поединком. Он не мог понять, как его незадачливый ученик вдруг оказался таким умелым рубакой, демонстрирующим удары и защиту, которых не знал он сам. Остальные зрители тоже были удивлены. Настроения менялись, и нейтральные матросы как-то незаметно стали приближаться к тем, кто поддерживал капитана.
Собственно, исход схватки был уже ясен и стремительно приближался. Внезапно хитрым приемом Френсис выбил оружие из рук противника. Кортик отлетел в сторону, и косо воткнулся в палубу, задрожав, как будто выплескивал избыток энергии удара. Жираф бросился к нему и наклонился, чтобы выдернуть из толстых дубовых досок, но Френсис не собирался давать ему второй шанс. Шагнув вперед, он взмахнул клинком, и голова Жирафа покатилась по палубе. Матросы ахнули. Френсис неспешно подошел, поднял голову с широко открытыми глазами за волосы, поднес к своему лицу.
— Ну что, Жираф, ты еще слышишь меня? Ты хочешь быть капитаном?
Глаза головы закрылись. Это можно было расценить двояко, но когда Френсис подошел к сторонникам смены капитана и поднес голову Жирафа по очереди к лицу каждого, те поняли ситуацию однозначно.
— Все, все, ты наш капитан, — сказал один.
— Да, Френсис Дрейк — наш капитан! — сказал второй.
За ним последовали третий, четвертый, пятый…
— Ура капитану! — крикнул Боб Акула.
И все подхватили:
— Ура! Ура! Ура!
Фоном этих выкриков неожиданно стал грозный рык, напоминающий рычание льва. Откуда в открытом море мог взяться лев, никто не знал, но у матросов от страха встали волосы дыбом и они поспешно разошлись, расценив это как знак свыше. Теперь вряд ли кто-то осмелился бы ставить под сомнение авторитет нового капитана.
Глава 5 Ожившая статуя
— Должен сказать, что за последние дни Френсис Дрейк изменился, — с трудом ворочая языком, сказал Боб Акула. — И вообще, у нас стали происходить чудеса… Предлагаю выпить за капитана!
Он уже изрядно опьянел и с трудом удерживал недавно полученный золотой кубок с ромом.
— За капитана! — поддержали боцмана сидящие за столом четыре моряка. Они находились в капитанской каюте Френсиса Дрейка. Джим Мореход, Гном, Длинный Том, Голландец и Акула были его приближенными, на которых он мог рассчитывать.
— Так вот, в последние дни случилось много странного, — сказал боцман, вытирая рот тыльной стороной ладони. На кисти была вытатуирована акула с разинутой пастью, которая и дала ему прозвище. Некоторые считали, что его прозвали именно из-за татуировки, но другие говорили, что Акула так же опасен, как и самый грозный морской хищник, поэтому татуировка нанесена позже, чем появилось прозвище.
— Очень много, — повторил Акула. — Убить рулевого с расстояния в двести ярдов не под силу и опытному стрелку, но даже если это случайность, то как мог неопытный пушкарь одним выстрелом перебить мачту «Морской звезды»?! Такие вещи случаются очень редко и тоже, как правило, случайно. Ни один прицельный пушечный выстрел не собьет мачту. Тем более из трехфунтовой пушки. Это слишком малый калибр для того, чтобы свалить толстую мачту. Опять совпадение? Двух совпадений в одном бою многовато. Но потом вы все видели, как капитан разделался с Жирафом. Но ведь еще недавно он не мог толком удержать в руке кортик!
Френсис усмехнулся.
— И как ты это все объяснишь?
— Не знаю, — сказал Акула, — но чувствую, что-то здесь нечисто. За тобой стоит какая-то могущественная темная сила!
Он уронил голову на руки и захрапел. Остальные тоже изрядно набрались и постепенно разошлись по каютам. Френсис приказал унести боцмана и уложить в кубрике, а потом вышел на палубу. То ли хотелось подышать свежим морским воздухом, то ли какое-то смутное чувство вывело его сюда.
Шторм уже закончился, погода наладилась, ярко светила луна, и крупные звезды на небосклоне с любопытством рассматривали идущий в родной порт «Посейдон». Френсис подошел к борту, любуясь лунной дорожкой и флюоресцирующей поверхностью моря. И вдруг он услышал тяжелые шаги, раздающиеся сзади. Слишком тяжелые для человека. Он резко обернулся, нащупывая за поясом пистолет, с которым теперь никогда не расставался. И тут же замер. Пистолет сейчас ничем не мог помочь. На него надвигалась огромная, в два человеческих роста, фигура с трезубцем в руке. Вторая была вытянута вперед. Это был Посейдон с носа корабля!
Надо сказать, что ожившая деревянная статуя не вызвала у Дрейка ужаса, как, собственно, и должно было быть. Он несколько удивился, но, в принципе, воспринял это как факт. А факты, как известно, нет смысла обсуждать, к ним надо приспосабливаться. И он чувствовал, что смелость придает ему перстень на безымянном пальце левой руки. Именно от него исходило приятное тепло, спокойствие и уверенность. Появилась мысль, что именно благодаря перстню случились те благоприятные совпадения, которые позволили «Посейдону» избежать гибели.
Фигура приближалась, доски палубы прогибались с жалобным скрипом. На миг появилась мысль, что она может раздавить, задушить его или выбросить за борт, но это опасение тут же исчезло. Дрейк твердо знал, что оживший монстр не причинит ему вреда. И что он, так же как и удача, сопутствующая Френсису в последнее время, связан с перстнем.
— Приветствую тебя, о Посейдон! — Френсис учтиво склонился в поклоне.
Фигура остановилась.
— Вижу, ты понял то, что я хотел тебе рассказать, — раздался трубный голос сверху. — Ты сообразительный юноша. Посмотрим, насколько твоя сообразительность поможет тебе в дальнейшей жизни.
— Кто ты? — спросил Френсис. — Это ты помогаешь мне или он? — юноша поднял руку с перстнем.
Ему показалось, что в свете луны лев довольно улыбается.
— А разве ты не догадываешься, кто наш хозяин? — тем же голосом спросила деревянная статуя. — Мы — только его слуги…
Френсис задумался. Не похоже, что за колдовской штучкой стоят силы Света и Добра.
— Неужели это…
— Не произноси имени, — предостерег Посейдон. — Во всяком случае, ты понял, кто обеспечил случайные совпадения.
— Но если ты помогаешь мне, то почему мы утратили клад? — спросил Френсис, подняв голову и всматриваясь в грубые черты деревянного лица.
— Что такое клад? Ничто, — презрительно сказал Посейдон, причем деревянные губы не шевелились и лицо оставалось бесстрастным ликом неодушевленной статуи. — Золотые монеты, жемчуг, украшения, серебро — это мусор жизни, который валяется под ногами и который нетрудно поднять. И твой клад не пропал. Найди в Портленде Марио Лацци, и он достанет тебе сундук за двадцать золотых монет!
— Спасибо, — сказал Френсис.
— Но это еще не все, — трубно сказал Посейдон. — Скелет тоже хочет достать сундук. И если ты не покончишь с ним тогда, когда он этого не ждет, то он покончит с тобой независимо от того, ждешь ты этого или нет…
— Но как я покончу с ним? — удивился Френсис. — У Скелета около пятидесяти головорезов, у него корабль, у него оружие, он имеет навык сражений, и его люди тоже много раз бывали в переделках… С кем я выйду против него? К тому же «Морская звезда» гораздо быстроходней моего корабля. Я никогда не смогу взять его на абордаж…
— Его надо взять на абордаж в таверне Плимута, — сказал Посейдон. — Это его любимое место, и там он отмечает каждое возвращение из похода. А с ним десять его самых приближенных помощников. Это головы гидры, отрубить их — и туловище будет беспомощно извиваться в агонии.
— Но я не справлюсь и с десятерыми, — возразил Френсис.
— Отбери отчаянных парней из своей команды, найми видавших виды молодцов в портовых тавернах. Их там много, и за золотую монету каждый согласится рискнуть жизнью. Скелета и его приближенных ты найдешь в таверне «Веселая Кэт» в Плимуте. Надо неожиданно напасть и покончить с ними, а потом напасть на корабль. Они не ожидают этого. Все матросы будут пьяны. К тому же основная масса их похожа на баранов — они идут за вожаком. И если ты окажешься победителем, то они так же беспрекословно пойдут за тобой. Можешь забрать их себе вместе с кораблем. Хотя я бы не стал этого делать: предавший однажды будет предавать всегда, а настоящий экипаж «Морской звезды» скормлен рыбам, и недалек тот день, когда это выплывет наружу…
— Я понял тебя, — сказал Френсис.
— Ну, раз так, мне здесь больше нечего делать. — Посейдон приподнял трезубец и три раза ударил им о палубу, так что корабль содрогнулся. Затем деревянная фигура повернулась и тяжело пошла обратно на нос. Доски палубы со скрипом прогибались под огромными ступнями.
Френсис вернулся в каюту и лег спать. Когда он утром проснулся, то подумал, что все происходящее ему приснилось. Но оказалось, что нет. Вся команда слышала три громких удара, которые буквально потрясли корпус судна, а на палубе обнаружились грубые следы, которые могли принадлежать только великану. Все обсуждали странные события, и только Френсис никакого участия в этом обсуждении не принимал.
* * *
Таверна «Веселая Кэт» располагалась в полуподвале на одной из прилегающих к порту трущобных улиц. Достопочтенные джентльмены, отцы семейств и уважаемые горожане сюда редко заходили. Если говорить точнее, то не заходили совсем. А если быть еще более точным, то добропорядочные люди обходили «Веселую Кэт» далекой стороной.
Здесь собирались воры, мошенники, профессиональные игроки в кости, проститутки и прочий сброд. Заходили отметить свои темные дела и пираты, гордо именующие себя джентльменами удачи и обособленно держащиеся от прочей уголовной мелочи. Разыскиваемые короной преступники тоже любили проводить здесь время. Стражники иногда устраивали облавы, но особо не усердствовали, потому что никому не хочется получить нож в бок, живот или другое уязвимое место. Поэтому наиболее опасные посетители обычно успевали скрыться через черный ход или через разветвленные подвалы, выходы из которых находились в лачугах на соседних улицах и переулках.
По вечерам в «Веселой Кэт» было многолюдно. Вино и ром лились рекой, полуголые женщины танцевали чувственные танцы. Некоторые при этом залазили на столы и бесстыдно задирали юбки, открывая то, что они были призваны скрывать, многие садились на колени к посетителям, если те, конечно, против этого не возражали — в противном случае можно было получить сокрушительную затрещину. Здесь бросали кости, играли в карты, часто вспыхивали скандалы и драки, случались и поножовщины, но за пределы таверны это не выходило. Посетители не были заинтересованы в том, чтобы привлекать внимание к себе и своим делам, поэтому раненых лечили в тайных притонах, а трупы выносили на задворки или сбрасывали в море.
Френсис Дрейк готовился к решающей акции достаточно долго. Он поручил Бобу Акуле подобрать подходящих людей, и опытный не только в морском деле боцман выполнил поручение. Человек семь он набрал в своей команде и десяток подобрал в портовых кабачках из числа бывших солдат, арестантов либо просто тех, кто имел склонность к насилию и отличался бесшабашностью и наплевательским отношением к собственной жизни.
Френсис думал, что самым сложным будет узнать, когда Скелет со своими людьми посетит излюбленное заведение. Сомневался он и насчет того, сможет ли составить грамотный план для непривычного кровавого дела. Но опасения оказались напрасными. Во-первых, он почувствовал, что тот, кто ему нужен, придет в таверну в следующий четверг вечером. Откуда взялось это чувство, сказать он не мог, но он уже начинал привыкать к тому, что мысли, которые внезапно приходят к нему в голову, оказываются правильными и действительно сбываются в реальной жизни.
План тоже появился в голове сам собой, и он даже удивился — настолько он был необычным и, как ему показалось, сулящим обязательный успех.
В четверг, когда только начинало смеркаться, в «Веселую Кэт» зашли семь человек, которых раньше здесь никто не видел. Но, судя по их суровым лицам, по внимательным холодным глазам, по кортикам, выглядывавшим из-под черных плащей, можно было судить, что они мало отличаются от завсегдатаев заведения. И вели они себя так, как ведут обычные посетители: пили вино и ром, хлопали по задам подходящих к ним развязных женщин, громко смеялись. Словом, ничем не отличались от остальных и не привлекали к себе внимания. Это были Френсис Дрейк, Гном, Боб Акула и матросы из его экипажа. Остальные ждали на улице, прячась в подворотнях и густой тени домов.
Около девяти вечера в таверне появился высокий худой человек с туго обтянутым кожей костистым лицом и глубоко посаженными недобрыми глазами, а с ним еще восемь спутников. Это и был Скелет со своей компанией. Они уселись за соседний столик, не обращая внимания на то, что следом за ними зашли еще десять человек, которые по-хозяйски расселись вокруг. Командовал ими Джим Мореход.
Заказав себе выпивку и закуску, пираты начали веселиться. Но веселье не достигло нужного градуса, ибо этому помешали. Френсис Дрейк первым подошел к столу, встал напротив главаря и громко сказал:
— Скелет, ты убил моего дядю — Джерома Саймона!
Тот презрительно расхохотался:
— Я многих убил! И что из этого?!
— То, что теперь, подлый пес, умрешь ты!
Такая дерзость вызвала у пирата приступ ярости. Он вскочил, выхватывая абордажный кортик, с которым никогда не расставался, но Дрейк вынул из-под плаща руки, в каждой из которых был пистолет, и одновременно выстрелил в него и сидящего рядом помощника. Головы пиратов разлетелись как спелые тыквы после удара палкой. Их спутники попытались схватиться за оружие, но у них не было никаких шансов: вдвое превосходящие их числом противники налетели со всех сторон — спереди, сзади, с боков… Вмиг пираты были изрублены в капусту, а новые посетители неспешно и с достоинством покинули заведение.
Надо сказать, что такого в «Веселой Кэт» не случалось никогда. Да и вообще, подобная акция устрашения была не характерна для того времени. Это не обычная драка или сведение счетов, это было нечто новое и неизвестное, которым трагический вечер не закончился, потому что через час группа неизвестных напала на стоящую в порту шхуну «Морская звезда». Ей предстоял ремонт, потому что корабль лишился средней мачты. Матросы на борту отдыхали и, как было предсказано Дрейку, почти все были пьяны и не проявляли никакой бдительности. Поэтому все они были сброшены за борт, а шхуна загорелась. Вскоре горящий остов «Морской звезды», шипя и разбрасывая искры, пошел ко дну.
Уцелевшие матросы не могли ничего сказать о нападавших, но с этого дня про Скелета и его команду никто ничего не слышал.
* * *
В море не остается следов — это известная истина. О битве у безымянного острова уже ничего не напоминало: такая же чистая и прозрачная голубая вода, те же радостные солнечные блики, как будто не свистели здесь ядра и пули, не падали за борт убитые моряки, с телами которых уже расправились рыбы, морские раки, крабы и прочие обитатели глубин… Косые плавники, бороздящие бухту в различных направлениях, показывали, что акулам, собравшимся со всей округи, до сих пор есть чем поживиться или, во всяком случае, они надеются найти поживу.
По видимой конфигурации скал штурман определил место прошлой стоянки, и «Посейдон» бросил якорь. Лотом измерили расстояние до дна — почти сорок футов[4]! Никто не смог бы нырнуть на такую глубину, разве что охотники за жемчугом из далеких экзотических стран…
Впрочем, в команду Марио Лацци — полного темпераментного итальянца с круглым лицом, пухлыми губами и по-детски ясными глазами — входили два индейца-ныряльщика. Худые, с развитыми грудными клетками и невозмутимыми лицами, они целые дни сидели в тени на палубе, не вступая ни с кем в разговоры. Не вызывало сомнений, что доставать сундук будут именно они, а не их словоохотливый хозяин. Так и получилось.
— Спустите несколько шлюпок, пусть матросы отгоняют этих тварей, — попросил итальянец, и Френсис отдал соответствующую команду.
— Но на глубине они не смогут никого защитить, — предупредил он. Итальянец махнул рукой.
— Мои парни сами о себе позаботятся! Доставайте колокол!
То, что он называл колоколом, представляло собой огромную, открытую снизу бочку, тщательно просмоленную и обтянутую кожей. К нижней части цепями были прикованы пушечные ядра. Френсис понял: это для того, чтобы она не перевернулась. А находящийся внутри воздух поможет ныряльщикам некоторое время находиться на глубине.
Индейцы привычно надели облегающие шерстяные штаны и рубахи, пристегнули к ноге длинные обоюдоострые кинжалы.
— Зачем они одеваются? — удивился Дрейк.
— Внизу холодно, — коротко пояснил Лацци.
На толстом канате бочку опустили за борт, индейцы поднырнули под нее, и бочка исчезла под водой. Некоторое время ее было видно, потом преломление света в водной толще размыло черное пятно, и рассмотреть его уже не удавалось. Зато черные плавники, напоминающие пиратские паруса, со всех сторон устремились к «Посейдону» — акулы, очевидно, почувствовали добычу и принялись кружить вокруг корабля. Матросы били по воде веслами и стреляли в воду, но хищники, не обращая на это внимания, продолжали нарезать круги и один за другим ныряли в глубину.
Эта карусель очень не нравилась Дрейку, тем более что время шло, а результатов поиска видно не было. Он подозвал к себе итальянца, державшего в руках сигнальную веревку, уходившую к колоколу.
— А ты сам умеешь погружаться в этой штуке?
— Я не ныряльщик, — растерянно отозвался тот. — Я только сделал колокол…
— Тогда, если твоих ныряльщиков сожрут акулы, я брошу тебя им на закуску! — пригрозил Дрейк, и было видно, что он не шутит.
— Не волнуйтесь, мои ребята уже бывали в таких переделках, — напряженным тоном ответил Лацци. И, чтобы сгладить неловкость ситуации, спросил: — Как вы узнали обо мне? Я только неделю как приехал и еще не работал здесь…
— Думай лучше о том, как поднять сундук, — бросил Дрейк, не сводя глаз с водной глади. Из глубины поднималось какое-то темное облако, превратившееся на поверхности в расплывающееся красное пятно. А вскоре всплыла бьющаяся в агонии двухметровая акула с распоротым брюхом, на которую тут же набросились ее собратья и стали рвать в клочья.
— Смотри, у людей все точно так, — услышал Дрейк чей-то незнакомый насмешливый голос. — Стоит тебе потерять силу, и твои товарищи добьют тебя и ограбят до нитки!
Он обернулся, но рядом никого не было.
— Кто это? — недоуменно спросил Френсис и осекся. Он понял. Посмотрел на руку. Лев с перстня многозначительно улыбался.
— Тогда не будем нарушать традиций! — Дрейк извлек пистолеты и выстрелил в терзающих своего собрата акул.
Матросы со шлюпок и с борта судна тоже открыли огонь — теперь оружие имелось у каждого члена команды, и вода буквально вскипела от града пуль. Число раненых и убитых акул росло — только что они рвали добычу, а теперь их самих разрывали на части пока еще невредимые сородичи. Красное пятно расплывалось все шире, серые тела хищников сбились в кучу, мелькали хвосты, плавники, страшные пасти с клинообразными зубами… Вода бурлила и кипела от стремительных атак и агоний…
Наконец веревка в руках итальянца задергалась.
— Поднимайте! — крикнул он, и Гном с Сильвером принялись крутить лебедку. Блоки заскрипели. Через некоторое время колокол показался на поверхности. Акулы крутились в кровавом водовороте, полностью занятые своими делами, поэтому индейцы беспрепятственно вынырнули из-под колокола и быстро вскарабкались в ближайшую шлюпку. С гортанным криком победителя один из них поднял руки с зажатыми в них веревками.
— Они заарканили ваш сундук! — с явным облегчением сказал Марио Лацци.
Через полчаса сундук с сокровищами действительно стоял на палубе. Команда получила долгожданное вознаграждение, а вечером каждому выдали по стакану рома. И все были довольны молодым капитаном.
А через неделю, в Плимуте, «Посейдон» снова оказался пришвартованным неподалеку от «Русалки», и Френсис Дрейк отправился на галеон с визитом вежливости. На этот раз Ролингс принимал его еще более щедро, чем в прошлый раз. Они выпили рому за упокой души Джерома Саймона, за морскую удачу, за благоволение морского бога. Было видно, что Ролингс хочет что-то сказать, но сдерживается до поры. Однако пары рома разъедают любую сдержанность.
— Ты стал известен среди моряков. Про тебя ходят разные слухи, — понизив голос и многозначительно прищурившись, произнес наконец хозяин. — Хотя, конечно, они не для чужих ушей, а потому их лучше не повторять. Но тебя уважают и побаиваются. Говорят, что ты не из трусливого десятка, что ты, держишь слово и заботишься о команде и что лучше не становиться у тебя на пути. Словом, ты мне подходишь. А потому я повторю свое предложение примкнуть к моей флотилии. Начнем с торговли «черным деревом», а потом…
Он осекся, глянул искоса.
— А потом будет видно…
До Дрейка доходили приглушенные разговоры, что Ролингс, кроме торговли живым товаром, занимается и морским разбоем. Поэтому он сразу понял, что тот имеет в виду. Но сейчас сомнительные предложения не вызывали у него протеста.
— Так что, согласен?
— Согласен!
— Тогда по рукам?
Старый морской волк и молодой моряк крепко пожали друг другу руки.
Глава 6 Есть повесить на рее!
Открытое море, борт галеона «Золотая лань», 1575 год
…Галеон «Золотая лань» стремительно несся к берегам Англии. Как старый конь спешит в любимое стойло, зная, что его там ждет тепло и клок сена, так пятипалубный корабль длиной 170 футов[5] и водоизмещением около тысячи тонн мчался к родным берегам, надеясь отдохнуть в своей гавани. Паруса всех четырех мачт и блинд[6] на длинном бушприте туго надувал попутный ветер. На двух батарейных палубах располагались 80 пушек, а в галереях носовой и кормовой надстроек торчали из бойниц 60 мушкетонов, позволяющих создавать плотную огневую завесу по ходу корабля и отстреливаться от преследователей. Но сейчас орудийные порты были закрыты — у пушек, потопивших десятки испанских кораблей и приводящих в трепет испанские эскадры, наступило время недолгого отдыха. Отдыхали и полторы сотни солдат, разоривших и разграбивших десятки испанских городов и поселений в Вест-Индии. Около ста человек экипажа несли, как обычно, посменные вахты, группа из особо приближенных и доверенных охраняла в трюме носовой отсек грузовой палубы, забитый сундуками и корзинами с золотом, серебром, жемчугом и другими ценностями. Несколько десятков пассажиров в комфортабельных каютах кормовой надстройки предавались вынужденному, но от этого не менее приятному праздному безделью с ежедневными отменными обедами и игрой в карты по вечерам.
Хозяин корабля, богатый и могущественный морской волк, имя которого внушало ужас испанским армадам, стоял на палубе, вглядываясь в морскую даль. Испанцы прозвали его Драконом — может, из-за того, что он всегда появлялся неожиданно, или потому, что он первым, ухватившись за привязанный к рее канат, перелетал на палубу вражеского корабля и полы черного плаща развевались, как крылья огнедышащего чудовища… А может, оттого, что он был неуязвим и выходил невредимым из самых крутых переделок… Сейчас Дракон полной грудью вдыхал просоленный морской воздух, чувствовал, как туго надутые паруса слегка вибрируют и гудят от постоянного напряжения, и ему нравилось ощущать их внутреннюю силу. Ему было тридцать пять лет. Высокий, широкоплечий, с четким профилем, волевым взглядом и длинным прямым, как бушприт, носом, аккуратными усами и рыжеватой бородкой клинышком, он был красив и нравился женщинам, хотя в силу рода занятий не часто мог наслаждаться их обществом.
Черная шляпа куплена в Италии, черный плащ и бархатный камзол пошиты лучшими портными Франции, манжеты и воротник белой рубахи украшены дорогими голландскими кружевами, золотые пряжки ботфортов и пуговицы камзола сделаны на заказ — на них изображена застывшая в стремительном прыжке лань, ножны трофейного толедского кинжала инкрустированы драгоценными камнями, на безымянном пальце лежащей на фальшборте руки многозначительно блестит загадочный черный камень, зажатый во рту какого-то существа, на первый взгляд похожего на льва. А рядом стояла она. Стройная брюнетка с аккуратно уложенными волосами под широкополой шляпой, также облаченная в дорогое платье, с тонкими нервными пальцами, унизанными кольцами…
Мечты Френсиса Дрейка исполнились, только брюнетка не принадлежала ему — это была пассажирка из кормовой каюты первого яруса, которая сама подошла, когда он на миг остановился у борта. Причем подошла неожиданно и незаметно.
— Сэр, — услышал он за своей спиной приятное контральто. — Простите нескромность, которая не должна быть присущей моему полу и которая, уверяю, обычно мне несвойственна… Я могу к вам обратиться?
Дрейк резко обернулся. Перед ним стояла явно благородная дама, совсем молодая — даже не дама, а юная прекрасная девушка. Тонкие брови вразлет, бездонные серые глаза, маленький греческий нос, чуть припухшие губы, напоминающие лук Амура, подбородок с ямочкой… Красавица смотрела в упор, и не было в этом взгляде ни тени свойственной неопытной девушки смущения или неуверенности.
«Матерь Божья, а это еще кто? — пронеслось в голове. — Ах да! Пассажирка из Барселоны… Ее сопровождает строгая толстая матрона… Но при посадке она не привлекла внимания — наверное, оттого, что в капоре казалась невзрачной девочкой-подростком…»
— Да мисс, конечно. Могу я быть вам чем-то полезен? — он любезно улыбнулся и в ответ получил такую же улыбку.
— Я просто хотела узнать, когда мы придем в Англию.
Френсис уловил легкий иностранный акцент, скорее всего, незнакомка была испанкой. Впрочем, его ненависть к испанцам не распространялась на женщин.
— На флоте, мисс, не любят загадывать. Дурная примета. Но вам мне трудно отказать: не позднее послезавтрашнего дня мы войдем в устье Темзы. А значит, достигнем конечной цели нашего путешествия.
Он помолчал, потом поспешил спросить, боясь, что эта юная особа отойдет в сторону:
— А вы раньше бывали в Лондоне?
— Нет, к сожалению… А может быть, к счастью. Я много слышала о мрачном Тауэре, кишащем бандитами Ист-Энде…
Дрейк едва заметно улыбнулся.
— Думаю, в Барселоне не меньше мрачных замков и бандитов. Лондон большой и шумный, у него много лиц, и они вовсе не такие страшные, как вам представляется. Я не первый год брожу по его улицам, но так и не изучил до конца. Завидую — вам только предстоит его постичь…
— Не надо мне завидовать, — произнесла девушка, и глаза ее потемнели. — Ничего хорошего меня в этом городе не ждет!
Дрейк даже растерялся:
— Вот так? Мне бы не хотелось показаться бестактным, но могу ли я узнать, чем вызвано такое мрачное настроение?
— Я еду к своему жениху.
— Тогда еще более непонятно! Ведь это же замечательно!.. Я завидую своему соотечественнику, который вскоре станет мужем такой очаровательной дамы!
— Он не ваш соотечественник. Он, как и я, испанец.
— Испанец? — нахмурился Дрейк.
Девушка кивнула.
— Гм…
Дрейк убил столько испанцев, потопил столько их кораблей и сжег столько поселений, что сейчас даже не знал, как себя вести. На какое-то время он замолк, судорожно подбирая слова.
— Но почему вас не радует предстоящая встреча? Вас ждет любимый человек…
— Я не люблю его, — последовал быстрый и категоричный ответ.
— Но зачем же тогда едете?..
— Такова воля моего отца.
«Что же ей ответить в таком случае? — думал Дрейк, но мысли путались. — Святой Боже, как она хороша! И привлекает не только внешней красотой, а внутренней загадкой, откровенными флюидами, раскованностью и пренебрежением приличиями… Одновременно вызывающе решительна, раскрепощена и в то же время трогательно беспомощна… Ее жениху и в самом деле впору позавидовать. Впрочем, может, и нет… Этот блеск в глазах способен доставить немало неприятностей… Возможно, ему придется обзавестись большими рогами…»
— Простите меня, сеньорита, я не представился, — он стащил с головы шляпу. — Дрейк, Френсис Дрейк, капитан «Золотой лани». Могу ли я узнать ваше имя?..
Девушка замешкалась. В этом знакомстве нарушались все правила приличия. Но все же решилась, наверное, потому, что сильно этого хотела.
— Абигайл. Мой отец дон Карлос де Родригес. В барселонском порту его все знают, у него большие склады.
— В Барселоне был всего два или три раза… Я возвращаюсь из дальнего похода. Право, мне очень жаль, сеньорита, что ваш отец… Я все же надеюсь, будущий муж станет любить вас, добьется высокого положения…
— Куда же выше?! Это Рэйнальдо де Гальвес — посол Испании в вашей стране! Его прекрасно знает и любит наш король Филипп II, да и ваша королева часто приглашает его ко двору!
— Абигайл, Абигайл! — раздалось сзади. К ним быстро приближалась пожилая матрона, отчаянно борясь со своими многочисленными юбками. Она шла, придерживаясь одной рукой за фальшборт, а другой прикрывала платком рот. Было ясно, что она плохо переносит качку.
Подойдя ближе, матрона что-то раздраженно стала выговаривать по-испански будущей жене посла. Но та слушала ее без особого внимания и, когда раздраженная тирада была завершена, ничего не ответила в свое оправдание, а вместо этого обратилась к Френсису:
— Это моя опекунша — тетя Брунильда, ее замучила морская болезнь, но из-за моего отсутствия она была вынуждена подняться с постели и очень этим недовольна. А еще больше она недовольна, что я разговариваю с незнакомым мужчиной, не представленным ей. Я покидаю вас, капитан. Но… Но когда солнце будет садиться, непременно выйду подышать воздухом…
Последняя фраза прозвучала многозначительно и даже обещающе. Возможно, Дрейку это показалось, но бес похоти вселился в его душу! Проводив взглядом стройную фигурку Абигайл, он, как раненый зверь, начал метаться по судну. Устроил беспричинный разнос рулевому, придравшись к мелочам, наорал на боцмана, задал выволочку юнге, который недостаточно усердно драил палубу. В конце концов он поднялся на третий ярус кормовой надстройки, вломился в свою просторную двухкомнатную каюту с умывальником, гальюном и просторным балконом, прошел в спальню, упал на широкую кровать и уставился в панорамное окно на синее море и белую кильватерную струю, остающуюся за судном. Перед глазами стояла фигурка Абигайл, только без твердого лифа и раздутых колоколом юбок, а вообще без одежды… Прекрасное белое тело с волнующими изгибами, впадинами и выпуклостями… Ее каюта располагалась внизу, и он мог легко спуститься на ее балкон по канату. Впрочем, капитан «Золотой лани» мог делать у себя на судне что захочет — даже просто выбить дверь в каюту испанки…
Галеон плавно и ритмично вздымался и опускался на волнах. Ветер крепчал, но Френсис Дрейк не боялся шторма, ибо привык, что всегда выходит победителем из любых передряг. Так было в 1567 году, когда Дрейк, еще на «Посейдоне», во главе флотилии из судов, с хищными названиями «Осьминог», «Рыба-меч» и «Мурена», капитанами которых стали его старые друзья Длинный Том, Голландец и Гном, вошел в десятивымпеловую эскадру под командованием Ролингса. Они прибыли к берегам Гвинеи и принимали самое активное участие в сражениях на суше и море. Победа всегда была на их стороне, и им удалось захватить около полутысячи рабов, которых выгодно продали на островах Карибского бассейна.
Страшный шторм, нередкий в этих широтах, вынудил участников экспедиции в течение нескольких дней бороться со стихией и разбросал суда так, что судьба четырех кораблей осталась неизвестной. В их числе оказалась и вся «хищная флотилия» Дрейка: «Осьминог», «Рыба-меч» и «Мурена» пропали бесследно!
— Ребята поторопились, не следовало уходить из-под крыла нашего капитана, — прозорливо заметил по этому поводу Боб Акула. — Ведь именно его удача спасает всех нас!
Они с Джимом Мореходом не захотели отделяться и остались на «Посейдоне». На «Золотой лани» Мореход стал первым помощником капитана, а Акула вначале командовал абордажным отрядом, но, получив несколько ранений, стал командиром бортовой артиллерии и начальником его личной охраны.
Карибский шторм нанес существенный ущерб эскадре Ролингса, но ему все же удалось сохранить и большую часть флотилии, и людей. А когда стихия успокоилась и они, найдя подходящую бухту вблизи испанского форта, кое-как подлатали свои суда и чуть-чуть отдохнули, появилась испанская эскадра из тринадцати кораблей!
Конечно, если бы не потери, они приняли бы бой, но теперь, при двукратном перевесе, силы были настолько неравны, что пришлось вступить в переговоры. И англичане, и испанцы вели дипломатические игры, обещая, уступая и приходя к компромиссам. Дрейк зарекомендовал себя весьма искусным переговорщиком, и ему удалось договориться с адмиралом доном Диего Флоресом де Вальдесом о мирном расхождении…
Но договор оказался хитрой уловкой: испанцы атаковали англичан вероломно и внезапно — тринадцать боевых кораблей полукругом принялись теснить их к берегу, а с берега ударили все стянутые туда орудия форта. Бой должен был закончиться полным разгромом, но «Посейдону» и «Русалке» каким-то чудом удалось пройти между вражескими кораблями и вырваться из окружения. Однако все равно произошедшее трудно назвать чем-нибудь иным, а не разгромом: из шести оставшихся судов в Англию вернулось лишь два, из пятисот подготовленных моряков на родную землю ступили менее сотни! Слезы ярости душили молодого, но быстро возмужавшего капитана, когда они приближались к туманному Альбиону.
— Я никогда не прощу этого подлого предательства! — шептал он, кусая обветренные губы. — Клянусь, что отомщу, и месть моя будет страшной!
С этого момента он возненавидел испанцев и неукоснительно выполнял свою клятву.
Но Абигайл — совсем другое дело! Сейчас он безумно хотел эту юную особу с загадочным взглядом. И животная страсть превращала его в зверя, нетерпеливо ждущего заката. Все-таки хорошо, что они взяли пассажиров!
Сделано это было не для заработка, а для маскировки. Пиратские разборки закончились десять дней назад, на траверсе Канарских островов, когда решали вопрос о разделе добычи и капитан всех удивил — многих неприятно, а одного — до смерти.
Вначале ничто не сулило неожиданностей: как всегда в конце плавания, Дрейк с верными Бобом Акулой и Мореходом Джимом отправились к корабельному казначею Томасу Честняге. Прозвище действительно отражало репутацию казначея. Иногда его еще звали Пять Долей. И это тоже было правдой — он получал не одну долю добычи, как простой палубный матрос, и даже не две, как повар, и не три, как опытные пушкари, даже не четыре, как доктор, который зашивал рваные раны и ампутировал конечности тем, кому не повезло в схватках с противником. Честняга Томас получал целых пять долей, как бойцы абордажного отряда, первыми бросающиеся в пекло. Нынешний командир абордажников Великан Джон, который выпрыгивал на вражеские корабли и опрокидывал первую линию обороны, смеялся: «У нас руки в крови, а у Честняги — в чернилах, зато получаем одинаково!»
Но это была неправда: во-первых, Томас был очень аккуратен — одежда и руки у него были всегда чистыми, а во-вторых, Великан получал семь долей, хотя ему никто не завидовал — в каждой атаке жизнь Джона висела на волоске. А в-третьих, казначей — очень важная фигура на корабле: от его точности и справедливости зависит, чтобы все были довольны, не завидовали друг другу, не бросали ненавидящих взглядов, от которых до удара ножом из-за угла — один шаг! Он даже обедал за одним столом с капитаном и его ближайшими помощниками и жил в отдельной, пусть и неказистой каюте — это была роскошь при корабельной скученности…
Когда капитан с помощниками пришел в каморку к Томасу, тот, как всегда, работал с толстой амбарной книгой, в которую аккуратно вписывал захваченную в каждом походе добычу, а потом постоянно проверял и уточнял записи, многократно сверяя их с сокровищами, хранившимися под замком, от которого только у него и были ключи. Увлеченный расчетами, он даже не обратил внимания на вошедших. Дрейк заглянул через острое плечо и прочел: «Серебряный кувшин высотой полфута, золотой слоник весом один фунт, золотая цепочка витая длиной полтора фута, сабля в золотых ножнах с рубинами и изумрудами…» — все это было написано аккуратным почерком, со старательно выведенными каллиграфическими буквами. Пять Долей действительно был честным, педантичным и аккуратным, да и как иначе: отсутствие или недостаточность этих качеств легко принять за своекорыстный умысел или мошеннический расчет, а такие подозрения способны привести пиратского казначея на эшафот быстрее, чем свирепый ирландец приводит к алтарю соблазнителя своей дочери.
Томас отличался от других матросов и внешним видом, и манерами, и одеждой: худощавый, со сдержанными манерами, он был одет так же, как и много лет назад, когда служил счетоводом в страховой компании Ллойда: длинный коричневый сюртук, белая рубашка со стоячим воротником и широкополая шляпа, которую он никогда не снимал. Под рукой у него всегда была надежно закрывающаяся, прикрепленная к столу бронзовая чернильница и тщательно заточенные гусиные перья. Оружия он не носил, по крайней мере на виду. Но жизнь изменила привычки счетовода, и Дрейк знал, что он не расстается со спрятанным под сюртуком маленьким двуствольным пистолетом.
Подбив итоги, Томас поднял голову и едва заметно скривил губы, что должно было изображать улыбку.
— Очень хорошая добыча вышла, — сообщил он. — Одна доля — почти полведра золота!
— Дай мне книгу! — Дрейк развернул к себе толстый фолиант.
Перечень добычи занимал не меньше двадцати листов. Капитан взял перо и провел черту на шестой странице.
— Пересчитай доли до сих пор! — приказал он. — Это и пойдет в общий котел!
— Только досюда?! — удивился Томас.
Мореход непонимающе поднял брови.
— А остальное? — спросил менее сдержанный Акула.
Дрейк нарисовал на полях корону.
— Остальное отправится сюда, в королевскую казну!
— С чего это вдруг?! — оскалился Акула. — Разве мы работаем на корону? Разве она нам помогает? Зачем отдавать наше богатство?
— Затем, что мне надоело стоять под английской петлей! — раздраженно ответил Дрейк. — Будет очень противно, если нас повесят соотечественники!
— Повешение противно независимо от того, кто накинет веревку на шею! — философски сказал Джим.
Акула усмехнулся и похлопал первого помощника по плечу. Вспышка гнева у него прошла.
— Мореход говорит дело! И потом, ты уверен, что взнос в казну избавит нас от петли?
— Думаю, хороший подарок может привлечь к нам внимание королевы… Хотя гарантий у меня нет…
Первый помощник и командир артиллерии переглянулись.
— Дрейк никогда не ошибается, и я ему верю, — сказал Мореход. — За вниманием следует благосклонность!
— Я тоже верю капитану! — подтвердил Акула. — Только что скажут ребята?
— Им надо все объяснить, — кивнул Дрейк. — Чтобы поняли: нынешняя жертва стократ окупится!
— Ну-ну, — сказал Боб. — Посмотрим, как ты объяснишь, что добытое потом и кровью богатство надо отдать в королевские закрома!
— Увидишь, — кивнул капитан. — Только не надо торопиться. Придем в Англию и там разберемся.
Однако слухи распространяются по судну так же быстро, как забравшиеся на борт портовые крысы. Матросы стали собираться кучками, перешептываться, и лица их не выражали ничего хорошего. Дело шло к тому, что Дрейку вручат черную метку — знак недоверия капитану, за которым обычно следует его свержение и убийство. Но Френсис всегда действовал на опережение и, когда «Золотая лань» проходила мимо Канарских островов, объявил большой сбор.
— Почти два года мы болтались по морям и океанам, неоднократно вступали в битвы с врагами, но почти все остались живы, и мы взяли невиданно большую добычу, с которой возвращаемся домой, — начал он уверенным, спокойным голосом. — Но что нас ждет в Англии? Почет и уважение? Нет! В лучшем случае безразличие, а если наша пиратская слава докатилась до родных берегов, то возможен арест, конфискация корабля и всей добычи и каторга, а может быть, и виселица!
Матросы, понурившись, молчали. Такой вариант был вполне вероятен.
— И я решил отдать часть наших трофеев в государственную казну! — продолжил он. — Доля каждого из вас не уменьшится по сравнению с прошлыми походами, она даже вырастет: ведь такую богатую добычу мы еще никогда не собирали! Да я и не слышал, чтобы хоть кому-нибудь это удавалось! Разве не так?
— Так, так! — матросы приободрились: ходили слухи о том, что их совсем лишат вознаграждения…
— Зато мы станем уважаемыми слугами короны, нам не надо будет бояться кораблей под английским флагом, и мы еще не раз и не два соберем богатые урожаи!
Матросы оживленно переговаривались, было видно, что их настроение резко изменилось к лучшему.
Но не у всех.
— С каких это пор джентльмены удачи превратились в чьих-то слуг?! — выкрикнул скрипучим голосом Лысый Попугай. — И почему мы должны чего-то ждать?!
Его и еще четверых морских разбойников выловили на месте взрыва шхуны «Черный кальмар» после того, как вражеское ядро угодило ей в крюйт-камеру. Дрейк обычно не принимал в команду чужаков — высаживал в ближайшем порту или на каком-нибудь пиратском острове, чтобы те нашли себе подходящий корабль, на который их согласятся принять. Но на этот раз плавание было долгим, подходящие острова на пути не попадались, новички задержались, и к ним постепенно привыкли. Вели они себя нормально, не выделяясь среди остальных, правда, держались особняком и даже на корабле не расставались с оружием, а Лысый Попугай был у них за главного. Сейчас Дрейк понял, что напрасно нарушил собственные правила.
— Чем ты недоволен? — спросил Дрейк, в упор рассматривая крикуна. Тот и в самом деле был похож на толстого лысого попугая с большим загнутым клювом. — Разве ты получал когда-нибудь на «Черном кальмаре» такие доли? Насколько я знаю, капитан Рябой Ричард был не очень везучим и вам еле-еле хватало на еду!
— Неважно, что я получал на «Кальмаре», он утонул! — проскрипел Попугай. — И Рябой утонул вместе с ним. Это вчерашний день, а я не собираюсь вечно ждать манны небесной и хочу получить то, что мне причитается сейчас и здесь, на «Золотой лани»! И я не желаю быть чьим-то слугой! Отдай нашу долю полностью, и мы в Лондоне найдем другой корабль!
У команды «Черного кальмара» была дурная слава, и сейчас Дрейк понял почему: они не понимали ничего, кроме своей выгоды. Даже его взгляд, не сулящий ничего хорошего, не остудил их пыла. Так быки несутся на красную тряпку, не глядя по сторонам и не разбирая дороги. Но Дрейк знал лекарство от этой болезни.
— Значит, хочешь свою долю полностью? — криво улыбнулся Френсис. — И вы тоже?
Четверка с «Кальмара» поддержала своего вожака требовательными возгласами:
— Таков закон джентльменов удачи! И если ты его нарушишь, об этом узнает все морское братство!
— Я никогда не нарушаю наши законы! — спокойно произнес Дрейк. — Но и другим не позволяю. Скажи, Попугай, почему ты не высадился вовремя со своей абордажной группой на «Северную звезду»? Из-за твоей задержки погибли двое наших!
— Это верно, черт побери! — взревел Джон Великан.
Попугай растерялся.
— Просто так вышло… Абордажный крюк соскользнул, борта разошлись, и мы потеряли несколько минут…
— Врешь! Ты решил не лезть в самое пекло и выждал, пока наши парни сломят сопротивление португальцев! Чертополох и Колченогий сделали это ценой своих жизней! Кстати, ты сам из Порту, хотя выдавал себя за англичанина! Может, не хотел идти против своих земляков?!
— Похоже на то! — снова рявкнул Великан.
Лысый Попугай попятился, указывая дрожащим пальцем на капитана.
— Не зря болтают — он действительно дьявол! Он читает мысли!
— Нельзя прочесть того, чего нет в голове, — удовлетворенно кивнул Дрейк. — Ты сам признался в трусости и измене! Что положено за это по нашему закону?
— Смерть! Петля! — заорал командир абордажного отряда.
— Вздернуть его на фок-мачте! — заревели матросы «Золотой лани».
— Да, таков закон, — сказал капитан. И, не поворачивая головы, приказал: — Повесить изменника на рее!
— Есть повесить на рее! — Боб Акула и двое его подручных бросились вперед.
Попугай пытался схватиться за оружие, но не успел — Великан сбил его на палубу, матросы сноровисто связали веревкой руки и потащили к мачте. Четверо сотоварищей если и хотели помочь главарю, то под дулами десятка пистолетов отказались от этой мысли и не двинулись с места: численный перевес команды «Золотой лани» был слишком очевиден. Впрочем, их занимали совсем другие мысли:
— Тогда его долю отдайте нам!
— Справедливое требование, — кивнул Дрейк. — Томас, приготовь им все сполна!
Через несколько минут тело Лысого Попугая билось в петле, а несколько матросов под руководством Честняги Томаса вынесли на палубу два деревянных ведра, доверху наполненных золотыми монетами.
— Ну что, все по справедливости? — спросил Дрейк.
— Да, конечно, — четверка чужаков завороженно не сводила загоревшихся глаз с золота, двое, не удержавшись, принялись набирать в горсти тяжелые желтые кружочки и высыпать их обратно…
— Тогда разбирайте свои деньги. Ведра я вам отдавать не собираюсь…
— Мы разложим по мешкам и вернем ведра…
Дрейк покачал головой.
— Нет, забирайте свою долю сейчас. Времени у вас нет: мы прощаемся.
— Как прощаемся?!
— Очень просто. Мы в расчете, как требует закон. Но закон не обязывает меня возить неблагодарных ослов на моем корабле. Я взял вас в воде и сейчас верну вас туда, откуда взял!
— Как?! Ты что, шутишь?! — возмутилась дикая четверка. — В порту мы сами уйдем!
— Нет, шутки кончились! — Дрейк презрительно улыбнулся. — Ребята, отдайте им деньги и бросьте за борт!
Пираты с «Кальмара» схватились за кортики и пистолеты, но на них навалились, отобрали оружие и принялись насыпать золотые монеты куда удавалось: за пазухи, в карманы, в ботфорты, в разодранные яростным криком рты…
— Ну, дайте хотя бы шлюпку! — орали чужаки, безуспешно пытаясь освободиться. Золото сыпалось за пазуху, монеты раскатывались вокруг, но это их уже не интересовало.
— Шлюпку! Дайте шлюпку!
— А разве у вас была шлюпка, когда мы вас нашли? — невозмутимо спросил Дрейк. — Нет. Так что и сейчас она вам не положена!
Несмотря на сопротивление и крики, всех четверых раскачали и швырнули за борт. Рассыпая золотые монеты, они плюхнулись в воду, на радость акулам, следовавшим за «Золотой ланью» в поисках легкой поживы. Большая часть вознаграждения смутьянов осталась на палубе, здесь же стоял соскочивший с чьей-то ноги набитый монетами сапог.
— Убрать этот мусор! — небрежно махнул рукой капитан и ушел к себе, уверенный, что приказание будет точно выполнено. Джим Мореход и Акула остались. Под их хмурыми взглядами матросы быстро разошлись, тогда и Джим с Бобом отправились восвояси.
Чернокожий юнга Джим сноровисто подмел палубу. Может, у него в душе и шевелился соблазн присвоить одну-две монеты, но Лысый Попугай смотрел вытаращенными глазами с высоты, как назидание всем, кто решится выступать против приказа капитана. Поэтому Джим бестрепетно смел все золото сквозь шпигаты[7] в неспокойные волны. Потом бросил следом драгоценный сапог. И плюнул вслед.
А Попугай провисел на рее до вечера; когда смеркалось, его отправили вслед за сотоварищами: акулы уже успели проголодаться.
После этого пиратское судно стало преображаться. Когда прошли остров Мадейра, Веселый Роджер сняли с мачты и запрятали в дальний угол трюма, а его место занял государственный флаг Британской империи. В Гибралтарский пролив они зашли уже респектабельным торгово-пассажирским судном, мирный вид и купеческое занятие которого должны были развеять те темные слухи, которые просачивались с далеких морей и окружали «Золотую лань». Но слухи есть всего-навсего слухи, они остаются пустой болтовней до тех пор, пока им не находится подтверждение. А как их подтвердить, если «Золотая лань» в Барселонском порту продала китайские шелка и индийские специи, загрузилась водой, птицей, свиньями и телятами, чтобы скрасить питание свежим мясом вместо надоевшей солонины? И взяла на борт пассажиров до Франции и Британии, то есть сделала именно то, что делают все торговые суда, возвращаясь из далеких рейсов!
Глава 7 Абордаж в постели
С трудом дождавшись времени заката, Дрейк вышел на пустынную палубу и остановился там, где встретил Абигайл. Волнение усиливалось, как в душе, так и на море. Порывистый ветер крепчал, срывая белые гребни с растущих на глазах волн и обдавая капитана дождем брызг. Огромный галеон стал заметно раскачиваться. Погода явно не подходила для свиданий.
«Неужели она не выйдет? — спрашивал себя Френсис раз за разом. — Нет, не может быть, непременно придет! Иначе я просто войду к ней и возьму силой на глазах этой чопорной толстухи! Да и тетку отдам изголодавшимся матросам, пусть порадуются…»
И Абигайл действительно пришла. Покачиваясь, держась за перила фальшборта, с трудом удерживаясь на ногах. Широкий кринолин сметал воду с палубы, на миг за ней оставался сухой след, но его тут же вновь покрывала влага. Она была бледна, волосы, накануне аккуратно собранные под шляпкой, небрежно спадали на плечи. Дрейк шагнул навстречу и, взяв под локоть, слегка привлек к себе, будто имел на это право.
— Что с вами, Абигайл?
— Качка… Она изматывает и отнимает все силы… Наверное, я просто не доберусь до берега. А тетя не в состоянии даже оторвать голову от подушки…
— Я, кажется, смогу вам помочь, — проговорил Френсис. — У меня в каюте есть склянка со специальной настойкой. Я, правда, никогда не прибегал к ее помощи, но некоторым пассажирам она неплохо помогала. Пойдемте — выпьете, и вам полегчает!
Не дожидаясь ответа, он решительно повлек девушку по лестницам к своей каюте и сразу провел в спальню, где предварительно зажег два фонаря на четыре свечи в каждом. В прикроватном шкафчике действительно стоял четырехугольный графинчик с темно-коричневой, сладковато пахнущей жидкостью. Это был настоящий ямайский ром, иногда Дрейк пил его на ночь, чтобы быстрей заснуть. Помогал ли он от качки, Дрейк не знал, но опыт подсказывал, что, во всяком случае, он никому еще не повредил.
Отлив огненную жидкость в серебряный кубок, Френсис протянул его девушке, которая зачарованно смотрела в большое окно на бушующую за кормой стихию. Абигайл отхлебнула, поморщилась, но, к его удивлению, допила до дна.
— Это же ром! — откашлявшись, произнесла она.
— Конечно! — согласился капитан. — Универсальное средство от всех болезней и неприятностей!
Ударившая в борт волна основательно качнула парусник, и капитан с пассажиркой упали на широкую кровать. Френсис обвил рукой ее стан и с силой прижал к себе гибкое тело…
— Абигайл, Абигайл… — горячечно шептал он. Капитан не знал, что надо говорить в подобных случаях приличной девушке: в портовых притонах разговоры не требуются, да и шлюхи понимают на всех языках только одно слово — «деньги».
— Неужели вы хотите воспользоваться моей беспомощностью? — почти простонала Абигайл. — Принесет ли вам лавры такая победа?
Но эти слова звучали не очень убедительно, тем более что она даже не предприняла хотя бы самой робкой попытки освободиться из мужских объятий. Или была не в состоянии, или не хотела. Все происходящее казалось необычным и странным, но Дрейк не задумывался над нюансами: он просто рвался вперед, как будто под выстрелами брал на абордаж вражеский корабль. Но сейчас в него не стреляли.
Он понимал, что Абигайл полностью находится в его власти, это кружило голову и возбуждало, хотя оправдывая сам себя, он считал, что ей тоже нравится его власть и она не хочет выходить из-под нее.
— Абигайл, Абигайл, — повторял он, подминая под себя хрупкое беспомощное тело. Потом впился губами в ее губы, ощутив пьяняще горьковатый вкус. И трудно было понять, был ли это вкус крови или только что выпитого рома. Девушка отвернула лицо, и он увидел на левой стороне тонкой шеи три родинки, расположенные как звезды Большой Медведицы в месте перехода от ковша в рукоятку. Белая кожа и эти родинки сулили новые открытия и распалили его еще больше.
Пальцы, путаясь в застежках, лентах и крючках, пытались добраться до нежного тела, но черт бы побрал эти запутанные преграды! Дрейку еще никогда не приходилось разбираться в подобных хитросплетениях: женщины, с которыми ему доводилось иметь дело, раздевались сами, и, как правило, вся инициатива исходила от них, да и с пленницами церемониться не приходилось. Но сейчас все было по-другому…
Он выхватил из ножен кинжал и принялся освобождать Абигайл от одежды с тем любопытством и горячечным нетерпением, с каким вскрывал этим самым клинком только что извлеченную ныряльщиком из моря раковину-жемчужницу… Дело сразу пошло на лад: лопались завязанные ленты, хрустя отлетали крючки, с треском поддавалась острому лезвию дорогая ткань… Мгновенье — и раковина раскрылась, открывая алчущему взору самую прекрасную из виденных Дрейком жемчужин… Хрупкое белое тело раскинулось на его холостяцкой кровати, тонкие руки закрывали лицо, маленькая грудь нервно вздымалась, сдвинутые ноги дрожали от напряжения, густой треугольник волос обреченно ждал, когда его сомнут…
Только теперь он сообразил, что ему самому следует раздеться, хотя бы скинуть ботфорты. Но сделать это в судорожной любовной лихорадке было не так просто. Проклиная все на свете, Дрейк выпустил из цепких объятий свою добычу, вскочив и прыгая на одной ноге, принялся срывать с себя штаны с сапогами. Должно быть, эта сцена, наблюдай он ее со стороны, вызвала бы взрыв веселого смеха, но сейчас ему было не до веселья. Наконец он освободился и вновь бросился на абордаж.
Завязалась схватка с криками, стонами, неразборчивыми возгласами и кровью. Ее пират пролил немало — на палубах, городских мостовых, песках Карибских островов и в портовых тавернах. Но впервые капли крови юной девушки оросили простыню его кровати.
Когда все закончилось, он бессильно отвалился в сторону, против обыкновения не испытывая желания немедленно отделаться от партнерши, как насытившийся человек без сожаления уходит от стола. Напротив, ему хотелось обнимать девушку, гладить ее волосы, целовать гладкую кожу, повторять и повторять то, что только закончилось… Абигайл лежала, безучастно отвернув голову, как пленница, которую он взял силой прямо на палубе.
— Что-то не так, малышка? — хрипло спросил он.
Она пожала плечами:
— Я думала, все это будет иначе…
— Как именно?
— Торжественно, нежно и романтично… А так… Однажды я видела на конюшне отца, как случали молодую кобылицу… Ее привязали за узду в узком стойле, так что деваться было некуда, а жеребец взгромоздился сзади и, сделав свое дело, побежал пастись на лугу. Не думала, что мой первый раз будет точно таким!
Пожалуй, впервые Дрейк ощутил себя столь оскорбленным. Единственная женщина, удостоившаяся чести побывать в его кровати, сравнивает его с жеребцом! Что бы она запела, если бы он взял ее на жестких нарах кубрика с толпящимися за дверью матросами, ждущими своей очереди? Первым порывом было немедленно выставить вон эту зарвавшуюся испанку. Но вспыхнувшая ярость мгновенно прошла. Самое ужасное заключалось в том, что в словах Абигайл была правда! А еще более ужасно, что он стыдился этой правды! И виной тому были зародившиеся в душе новые, неизвестные ранее чувства…
— Гм… Ты должна простить моряка, который большую часть жизни проводит вдали от женщин, — извиняющимся тоном произнес он. — Я не хотел, чтобы это было так грубо и быстро… Но…
— Но?
Он все же не смог удержаться от язвительности.
— Но должен сказать, что торжественности и нежности логичней ожидать после свадьбы, во время первой брачной ночи, а не от случайного знакомства с неизвестным…
— Почему же «с неизвестным»? — возразила девушка. — Тетушка рассказала, что ты Дракон — злейший враг Испании, которого все считают настоящим чудовищем…
— Зачем же ты пришла?!
— Потому и пришла. Наверное, хотела приручить чудовище, которого боятся все мои земляки…
— Гм… Но я первым открыл твои ворота… Как ты выйдешь замуж со сломанным замком?
— Ничего, у женщин много хитрых уловок против мужчин…
— Однако! Откуда у столь юной девушки такие познания?
— Не знаю… Впрочем, сейчас меня больше заботит другое…
— Что же?
— Брунильда! Она никогда не любила меня и еще в детстве измучила своими придирками! И сегодня из-за нашего невинного разговора упрекнула в недостойном поведении и сказала, что я позорю семью! А что будет, когда я приду утром, в разорванной одежде?! Она все поймет и не станет хранить в тайне! Такие слухи быстро разносятся, и свадьба вряд ли состоится… А после такого позора мне останется только наложить на себя руки… Возможно, я брошусь за борт еще до прихода в Лондон!
— Ну, ну… Что за глупые мысли? И почему они раньше не пришли тебе в голову?
— Я не знаю, что произошло. Словно какая-то сила руководила мной, я только подчинялась…
«Вот оно что!» — Френсис поднес к глазам перстень и впервые обратил внимание, что у льва странный профиль и остроконечные уши, похожие на человеческие… Вид у зверя был лукавый, а в камне играл тусклый огонь.
— Ладно, отдохни пока, я скоро вернусь!
Быстро одевшись, он вышел в кабинет и трижды дернул за веревку, проходящую сквозь переборку к колокольчику в соседней каюте. Потом открыл дверь и столкнулся нос к носу с взъерошенным Бобом Акулой. Тот был бос, в одной нижней рубахе с болтающимися тесемками на запястьях, но с пистолетом в одной руке и кинжалом в другой.
— Что случилось, капитан? — тревожно спросил он.
— Ничего особенного. Спустись в каюту первого яруса, где живет толстая тетка со своей племянницей…
— Той самой, что сейчас гостит в твоей спальне? — усмехнулся Акула, но Дрейк пропустил его слова мимо ушей.
— Выбрось ее за борт, только без шума.
У Боба Акулы отвисла челюсть.
— Что?! Кого выбросить за борт?!
— Тетку Брунильду! Что тут непонятного?
Акула растерянно потряс головой.
— Да нет, все понятно… Просто как-то неожиданно — девчонка лежит в твоей постели, а ее тетушку бросать за борт…
— Не твоего ума дело! Выполняй, потом сразу доложишь! И перестань за мной шпионить! Не суй нос в мою личную жизнь и в мою постель! — так грубо капитан обычно не разговаривал со своим верным соратником.
— Как скажешь, — обиженно пожав плечами, Акула исчез.
Френсис вернулся в свою спальню и наткнулся на выжидающий взгляд Абигайл.
— Что там? — тревожно спросила она. — Где ты был?
— Ничего. Не забывай, мне надо командовать кораблем! Давай лучше выпьем еще рому…
— Давай! — неожиданно согласилась девушка.
Опустошив очередной кубок, Дрейк вновь пошел на абордаж…
Утро наступило незаметно. Френсис очнулся от короткого сна, с силой провел ладонью по лицу, стряхивая давешнее опьянение и возвращаясь к сегодняшней реальности. Рядом, на смятой и окровавленной простыне, мирно посапывала голая девушка с распущенными волосами. Он все вспомнил.
«Где Акула?» — было первое, о чем подумал Френсис. Вышел в кабинет, дернул за веревку вызова, открыл дверь. Акула появился, как всегда, мгновенно. И как всегда, с оружием на изготовку.
— Ты выполнил мой приказ? — тихо спросил Дрейк.
— В точности. Сбросил с балкона без лишнего шума, — ответил тот.
— Почему не доложил сразу?
— Так у тебя перед каютой лев сидел огроменный! — Боб вытаращил глаза. Он нервно озирался по сторонам и явно был не в своей тарелке. — Голова выше моей, глаза горят… Я и не сунулся…
— Какой лев?! Ты, видно, перепил рому!
— Вот какой! Вот! — Боб попятился и указал пальцем вниз.
На палубе были отчетливо видны отпечатки огромных звериных лап. В лучах восходящего солнца они отливали красным и постепенно бледнели, будто высыхали. Через минуту от следов ничего не осталось.
— Примерещилось! — сухо сказал Дрейк и вернулся в каюту.
* * *
Известие о том, что тетушку Брунильду во время шторма смыло за борт, произвело на Абигайл удручающее впечатление. Дрейк думал, что она обрадуется, но девушка плакала и причитала: «Это все из-за меня! Из-за меня! Не надо было мне уходить и оставлять ее одну!»
Френсис не знал, чем ее успокоить, в его распоряжении было для этого только два лекарства: ром и постельные «абордажи». И оба он использовал в полной мере.
Тем временем родные берега приближались. У входа в территориальные воды Британии им наперерез вышел двадцатипушечный пограничный корвет под английским флагом и поднял на мачте желтый и красный шары — приказ лечь в дрейф под угрозой открытия огня. Это означало только одно: слухи об их «подвигах» дошли до властей, и их считают пиратами, со всеми вытекающими из этого последствиями.
В подзорную трубу Дрейк рассмотрел командира корвета — молодого офицера с волевым лицом и жесткой линией рта. Он был настроен решительно и явно собирался применить силу. Только силы у него было маловато…
— Открыть орудийные порты! — скомандовал Дрейк, и его команда быстро донеслась до артиллерийских палуб. Со скрипом поднялись люки. То ли этот скрип донесся до пограничного корабля, то ли, что более вероятно, произвели впечатление сорок пушек левого борта, которые выразительно глянули на неожиданное препятствие по пути к родному порту. Несмотря на молодость, офицер умел быстро оценивать обстановку — с досадой махнув рукой, он выкрикнул очередную команду. Корвет сбавил ход и отвалил в сторону. Путь домой был свободен.
— Однако нас не слишком приветливо встречают! — сказал Боб Акула. — Как бы не повесили сгоряча…
— Нет, ведь мы не для себя старались, — ответил капитан. — И думаю, отношение к нам очень скоро изменится!
Их не преследовали. Только чайки сопровождали галеон, с громкими криками пикируя на палубу в поисках корма. На борту царило оживление: истосковавшиеся по родному дому моряки с нетерпением ждали встречи с землей. А Дрейк и Абигайл готовились к расставанию.
— Возьми, это тебе, — девушка сняла с шеи и протянула медальон на золотой цепочке. Дрейк открыл его — внутри находилась художественная миниатюра: портрет юной Абигайл с распущенными по обнаженным плечам волосами.
Он оторвал пуговицу с рукава камзола.
— Портрета у меня нет, возьми вот это…
Наконец корабль вошел в устье Темзы и вскоре причалил в шумном и грязном Лондонском порту. Абигайл спустилась по шаткому трапу. Два матроса несли ее вещи, Дрейк наблюдал с капитанского мостика. Прежде чем сесть в кеб, она обернулась, и Дрейку показалось, что в ее взгляде была мольба, тоска и отчаяние. Капитан готов был поклясться, что позови он, и она не раздумывая бросилась бы обратно. Поднять паруса, отчалить, выйти в открытый океан… А там перед ними открылся бы весь мир…
Дрейк развернулся спиной к порту. Это была иллюзия. Причем опасная иллюзия.
— Начинаем разгрузку! — скомандовал он.
Часть третья Налетчик Голован
Глава 1 В поисках лютого
Ленинград, 1961 год
В Ленинграде Голован объявился месяца через два. Огромный, костистый, большеногий, широкогрудый, с длинными руками-ковшами. Выскочил на перрон из общего вагона поезда «Москва — Ленинград», пригнув похожую на шишковатый куб голову, фанерный чемоданчик держал не всей ладонью, а только последними фалангами пальцев — остальное просто не пролезало в чемоданную ручку. Для лица с крупными, грубыми чертами почему-то не хватало места на огромной, как самовар, голове, и оно расползалось в стороны, куда придется. Нижняя челюсть упиралась в грудь, переносица задралась к линии редких седоватых волос, практически не оставив места для лба. Зато между носом и верхней губой осталось огромное пустое пространство, которое придавало ему удивительное сходство с гориллой. А близко посаженные глаза и нечистая рябая кожа это сходство только усиливали. Хотя определить его возраст было трудно, но судя по морщинам и тусклым глазам — лет за сорок, а может, и под пятьдесят.
Где он мотался эти месяцы, уехав из Ростова, осталось загадкой. Знающие его люди могли сказать, что он слегка уменьшился в размерах. А может, просто исхудал, обтрепался, да сжигала его внутренняя злоба, ненависть и жажда мести. Коротковатые штаны с пузырями на коленях, пиджачишко засаленный, грязная щетина на морде — на тюремных харчах да в казенном обмундировании Голован выглядел куда лучше.
Носился он по Северной столице туда-сюда как паровоз с дымящей трубой и открытым свистком — будто хотел кого-то переехать, размазать по рельсам. От одного блатного к другому, от «малины» к «малине», теребил, допытывался, угрожал. Кто такой Лютый, что за фраер? Где обретается? Как найти? Кто ему дал право вершить кровавый разбор в Ростове, в сходку вмешиваться, своего парня в смотрящие проталкивать?
Извини, братан, нет никого в Северной столице с таким погонялом. Лютик есть в Лисьем Носу — старый вор, годов под девяносто, ничего не соображает, под себя ходит. Пидор Лифчик есть на Лиговке, но это точно не он, у него кишка тонка на такие дела. Не знаем, короче.
Как нет?! Как не знаете?! У вас же сходняк был, ростовских на разбор вызывали, а потом этот Лютый в Ростов прикатил, на ваше и московское общество ссылался! В Москве я уже искал, там его не знают, значит, он из ваших!
Разбор был, но Лютого не знаем, на кого кто ссылался, нам тоже не ведомо, хватит порожняки гонять, чего ты от нас хочешь?!
Все правильно, в принципе…
Голована осенило: может, он, гад, здесь под другим погонялом промышляет?
Пытался объяснить, какой Лютый с виду. Сам-то ведь в глаза не видел, только по рассказам… Ну, наколотый весь такой, аж синий. Главное, понимаете, всю ростовскую общину, весь сход вокруг пальца обвел, как детей. У них до сих пор мозги перегоревшие. Ну такой, гипнотизер, короче…
Показали ему Гришу Пепперштейна по кличке Змей, афериста «на доверии». Голован взглянул, плюнул. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Совсем не то. И наколок нет…
Проболтавшись без толку неделю, Голован отыскал карманника Люшу с Лиговки, а еще литовца по национальности — Людас Шикалис его звать, он же Шакал, мелкий карточный шулер. Шакал этот вроде как даже походил немного на образ, который Голован нарисовал у себя в воображении: высокий, крепкий, темноволосый. Только по «мокрому» он не работал, сильно заикался при разговоре, да и ссыковатый оказался в итоге. Точно не Лютый.
Мотаясь по столицам, Голован совсем издержался. Вдобавок что-то с головой у него случилось — спать перестал, левый глаз задергался. Однажды вечером стоял он на Сенном мосту, плевал в воду и увидел, как выплыл тихо из-под моста раздувшийся труп. Кожа будто синей краской облита, узоры какие-то непонятные по ней идут, и руки торчат из воды, приподняты, словно у куклы. Выплыл и тут же застрял, зацепился за что-то, наверное, — как раз напротив Голована, лицо в лицо. Вернее, от лица там почти ничего не осталось: голые зубы скалятся, в пустых глазницах ошметки какие-то плавают. Жуть, короче. А Голован не выдержал и плюнул прямо в него. Прямо в эту рожу… Труп дернулся, как живой, синие пальцы схватили воздух, вода вокруг всколыхнулась волнами… И в глазницах заплескалось, будто бензину налили и подожгли: сперва это были точки-дырочки, потом закрутилось, забурлило, разрослось, и вот два огненных глаза уставились на Голована.
— Искал меня, братское сердце? — послышался низкий клокочущий голос, будто из какого-то вулкана.
У Голована язык отнялся.
— Чего молчишь? Иди ко мне, прыгай, потолкуем. Про Матроса, про Студента, про все дела… Ты же сам хотел, ну?
— Ага, щас, — сказал Голован. Скорее всего, даже не вслух, а про себя.
И все же он перекинул ногу через перила, перекинул вторую. Невидимая сила двигала им, как взрослые руки подхватывают и несут грудного ребенка, куда им хочется. Он почувствовал, что этой силе ничего не стоит свернуть ему шею или поднять и шмякнуть об асфальт, чтобы мозги брызнули в стороны. А сейчас она просто забавлялась с ним, пальчиком играла. Голован луком выгнулся на мосту, изо всех сил вцепился в ограду — затрещали кости, заскрипело железо в бетонной оболочке.
— Эй, мужик! Ты в своем уме?.. Смотри, что делает-то!
На мосту появилась компания молодых людей. Пиво, гитара-семиструнка, трень-брень. Подбежали к Головану, окружили, схватили за руки.
— Отойди! Стремайся! Там мертвяк плавает! — дико заорал он, вытаращив глаза и брызжа слюной. — Схватит, утащит, хана вам!
— Где? Ты чего? Нет никакого мертвяка! Ну ты, дядя, и нажрался!
Оглянулся Голован: точно, в темной воде лишь окурки колышутся. Лютый исчез, и невидимая сила пропала, развеялась. Его оттащили от моста, вывели на Сенную площадь, усадили на скамейку.
— Будь здоров, не кашляй! В следующий раз смотри: тебе, такому громиле, не в канале топиться, тебе в Финский залив надо! Чтоб наверняка!
Посмеялись и ушли. А Голован просидел на скамейке до самой ночи, колотясь, как в лихорадке. Не то чтобы он просто испугался. Испугался до усрачки, это ясно, тут иначе не скажешь. Но в то же время и дикая злоба его душила, неизвестно откуда взявшаяся — на Лютого этого, на Студента, на… Вообще на все и всех. Чем сильнее был страх, тем сильнее злоба.
Ночевать он отправился в Стрельну, к старому корешу Круглому. Поговорил с ним, расспросил про обстановку, про воров питерских, про местный зажиточный контингент. Уже через день они совершили налет на квартиру шофера-дальнобойщика из «Совтрансавто». Сработали быстро, нагло, жестко. Хозяин был в рейсе, жену и тещу Голован задушил, чуть головы им не оторвал. Вынесли богатый хабар и денег три тысячи рублей.
Через Круглого он сошелся с Химиком, специалистом по замкам и сейфам, потом с Сычом, который добывал для них необходимую информацию и прикрывал за делом. Вчетвером «подняли» квартиру капитана торгового флота. Потом главного инженера судостроительного завода. Бабла теперь было столько, что целую пятилетку можно пить и гулять, ни о чем не думая. Но тут Сыч прослышал об одном покойном блокаднике-спекулянте, который оставил сыну трехкомнатную квартиру на Мойке, под завязку набитую антикварным барахлом, драгоценностями и прочими радостями…
Глава 2 Налет
До наступления темноты оставалось больше часа. Дело сделано, но уходить решили затемно, а пока — ждать.
Химик и Круглый убивали время, расписывая «тысячу» за ломберным столиком, помнящим, наверное, времена шпаг, дуэлей и белых панталон. Круглый курил сигару, найденную в ящике письменного стола. Сыч, как самый младший, суетился вокруг дорожных чемоданов, впихивая туда сваленное на пол добро: серебряную посуду, каминные часы, статуэтки, подсвечники, иконы…
— Слушай, Голован, а на фига нам столько шахмат? — он показал на стопку из клетчатых досок на полу. — Мы что, гроссмейстерам каким-нибудь собираемся их впаривать?
— На фига, на фига. Там слоновая кость, балда, — буркнул Круглый, забирая прикуп. — И у коней в глазах какие-то камешки я видел — может, бриллианты… Грузи давай, не ной.
— Так, может, я только фигурки и заберу, на фига нам сами доски-то? А, пацаны? Места и так нет уже!
Голован пересчитал упакованные чемоданы. Приподнял один — тяжеленный. Взял шахматную доску, которая лежала сверху, повертел в руках, понюхал даже. Дерево и дерево.
— Ладно, бери одни фигурки. Только тихо, не греми, — сказал он.
Он еще раз прошелся по квартире, проверяя, все ли они уцепили, не проглядели ли чего. Полки, стеллажи… Резная, в завитушках, мебель. Люстра богатая, наверняка хрусталь… Нужен им хрусталь? Не унести. А жаль.
Стены Голован деликатно обстукивал карандашом, чтобы не тревожить соседей. Стоял, прислушивался. Шел дальше.
В коридоре подсыхает темная лужа, из нее тянется в ванную широкая липкая полоса. Там, на полу, разведя в беспомощном жесте руки, запрокинув голову через край ванны невероятным кульбитом сломанной шеи, сидит хозяин квартиры. Из дыры в темени сочится кровь по белой импортной эмали. Рядом лежит его жена в одних изодранных чулках.
Голован встал рядом над унитазом, помочился, равнодушно косясь на мертвые тела.
Можно было, конечно, обойтись без лишней суеты. Всю необходимую информацию муж выдал сразу, как только Круглый сломал ему первый палец. Мизинец. Как только Сыч с радостной улыбкой воткнул женщину лицом в подушку и оседлал дергающееся в конвульсиях тело, словно лихой ковбой.
Но остановиться было уже нельзя, они вошли во вкус.
«Сколько тебе было в 42-м, сука, когда твой батя за пайку хлеба скупал фамильное серебро у голодных, а? Отвечай, сука! Двенадцать? Небось шоколад жрал, пока другие дохли?..»
Да, повеселились, ничего не скажешь.
Голован вернулся в коридор, собираясь пройти дальше в спальню. И вдруг заметил широкую двустворчатую дверь, как в парадном какого-нибудь министерства… Откуда она взялась? Он ведь только что проходил здесь, обстукивал эту стену, двери никакой не было. И быть не могло, поскольку… Ну да, за стеной должна находиться лестничная площадка.
Он мрачно уставился на темное отполированное дерево, на тусклую латунь мощной, в виде скобы из переплетенных прутьев, дверной ручки. Из гостиной раздавались приглушенные голоса подельников: Круглый объявил пики, темно как в жопе, масть не видно, скоро будем сваливать, пацаны…
Может, это встроенный шкаф какой-нибудь?
Голован взялся за ручку (холодная, как мороженая рыба), потянул на себя. Дверь отошла тяжело, с усилием. За ней была глухая черная стена. Ну точно, шкаф, подумал он. Протянул руку, а рука неожиданно прошла сквозь черноту, словно там ничего и не было, словно сунул ее в пустой морозильник. Он отдернул руку. На ладони таял иней.
— Не понял, — пробормотал он.
Открыл дверь шире, подумал еще секунду. Почему-то ярко представилась ему пещера, заваленная золотыми монетами и слитками, бриллиантами, жемчугами, а также пачками сторублевок. Он решительно шагнул вперед, прямо в эту черную стену, в последнюю секунду невольно зажмурив глаза. Его обдало жутким холодом. Где-то за спиной, неожиданно далеко, словно на соседней улице, раздался отчетливый звук захлопнувшейся двери.
Голован открыл глаза. Он стоял посреди огромной залы. Покрытые инеем мощные каменные колонны уходили вверх и терялись в темноте, убегали вдаль и тоже терялись в темноте. Сыпал мелкий тихий снег, как будто… Черт, да какая разница. Снег в октябре, ледяной зал с колоннами в кирпичной пятиэтажке на Мойке, одно другого не лучше… Он повернул голову вправо, на свет. Там горел камин размером со сцену какого-нибудь театра, внутри трещали толстенные бревна. Перед камином стояло кресло с высокой спинкой, вырисовываясь на фоне огня четким готическим силуэтом.
Он поежился, пошел к камину, вытянув перед собой окоченевшие руки.
— Вот и хорошо. Здесь нам с тобой никто не помешает, братское сердце.
Голован чуть не подскочил. В кресле, небрежно закинув одну костяную ногу на другую, расположился человеческий скелет. Он выглядел так, словно покрывавшая его плоть не истлела от времени, а была срезана, как у туши на мясокомбинате. На красновато-мраморных костях кое-где болтались остатки мышц и сухожилий, череп венчала форменная фуражка с черным бархатным околышем и звездой посередине. Скрипнули позвонки, на Голована уставились наполненные огнем глазницы.
— Не признал меня? — эхом прокатилось по залу.
Голован дернул глазом, выдавил полувопросительно:
— Лютый?..
— Молодца! Говорящих скелетов огэпэушников не боишься? — Лютый рассмеялся. Из клетки ребер брызнули в стороны какие-то мокрицы. — Хотя таким, как ты, все по барабану. Расстрельные статьи, вечные муки… Чего хотел от меня, убогий? Чего искал-то?
Спина Голована совсем застыла, зато лицо, казалось, вот-вот треснет от жара.
— Поговорить хотел… — Он с трудом разлепил спекшиеся губы. — За Матроса, за Студента…
— Первому ты ничем не поможешь, а второму ничем не помешаешь. Оба они мои! — отрезал Лютый. — Что-нибудь еще?
Голован качнулся вперед, к огню, будто его толкнули в спину. Выбросил вперед ногу, удержался. Но назад отступить уже не мог, не пускали. Даже лицо отвернуть не получалось.
— Я не знаю, — прохрипел он. — Отпусти меня.
— Вот так просто? А с этим как быть?
Из тени бесшумно выступили две фигуры. Хозяин квартиры на Мойке, перекинув пробитую голову за спину, как капюшон, мелкими шажками вальсировал в обнимку со своей мертвой женой. Его переломанные пальцы торчали в стороны, как у пугала, жена то и дело поправляла рукой порванные чулки. Они прокружились в каком-то шаге от Голована, обдав его сырым запахом крови — он видел, как скручивались и дымились их волосы от жара камина, как плясали отблески огня в мертвых глазах, — и растворились в темноте.
— Меня то и дело попрекают вашей бессмысленной жестокостью, — прогремел голос Лютого. — Всеми этими жуткими подробностями. Одно дело, когда кого-то убили и ограбили… Люди ведь тоже не дураки, с пониманием относятся порой. Папаша и сам грабил несчастных полуживых блокадников, сынок за это поплатился, как бы все ясно… Но совсем другое дело, когда они узнают про сломанные пальцы, выбитые зубы, отбитую печень… Ах да, еще про изнасилованную жену. Вот и говорят, что вы мое отродье, мое семя… А почему я за вас должен отвечать?!
Лютый с раздражением оторвал болтавшийся на берцовой кости обрывок мяса, швырнул в огонь.
— Что за бредовые фантазии? А ведь я тут совершенно не при делах! Я не занимаюсь такими мелочами! Эпидемии, катастрофы, кривая преступности — это сколько угодно, это мой уровень! Я специалист по вселенскому злу, а не по… Тьфу! — Он плюнул в камин, там что-то с грохотом взорвалось. — Не по сломанным пальцам!
«Ого, мне бы так плеваться», — автоматически, без смысла подумал Голован.
Горящие глазницы впились в него, словно прочитав мысли.
— Вижу, толковать бесполезно. Пора закругляться, — прошипел Лютый.
Лязгнуло железо. Откуда-то сверху в пасть камина спустились, как декорации, четыре цепи с огромными крючьями на концах. На трех из них дергались, извивались и орали благим матом Круглый, Химик и Сыч, продетые за ребра и спины, словно рыболовная наживка. Но крики быстро стихли. Одежда вспыхнула в раскаленном воздухе, тела судорожно скрючились и потемнели. Через несколько секунд только огненные дорожки пробегали по обугленным, страшно усохшим остовам.
— Теперь твоя очередь, Голован. Ступай.
Он ничего не мог поделать. Левая нога тяжело оторвалась от пола, сделала шаг. Правая нога. Левая. Зубы заломило от жара, запахло паленым волосом. Воздух вокруг сгустился, и Голован понял, что сейчас прыгнет прямо на свободный крюк, насадится горлом на раскаленное добела острие.
Он растянул почерневшие губы и завыл.
— Ага, перессал, братское сердце? Очко заиграло?
Голован замер перед самым камином, подавшись вперед. От бровей остались темные точки, на лбу и щеках вздувались пузыри. Даже сквозь плотно закрытые веки он видел красное гудящее пламя перед собой.
— Ладно. На первый раз хватит, — сказал Лютый.
Голована отшвырнуло прочь. Он неуклюже перекувырнулся через голову и рухнул на каменные плиты у ног Лютого. Только скелет странным образом преломился в пространстве, умножился сам на себя, раздался в стороны, вверх, и теперь перед скорчившимся Голованом высилась исполинская мраморная статуя — мифическое чудовище, восседающее на троне, головой уходящее в темноту, неохватное для человеческого глаза и разума, как параноидальный морок.
— Делай, что я говорю, и будешь жив, — прогрохотало из темной выси. — Хватит ковыряться по-мелкому, как навозный жук. Собирай бригады, как у Студента, только не утырков спитых, а людей серьезных, деловых, жестких. Подомни под себя один квартал, второй, район, город. Постепенно, день за днем, ночь за ночью, методично, непрерывно, как смертельная зараза. Назначай дань барыгам, цеховикам, проституткам, «гастролерам», торговцам наркотой. Не прощай ни копейки. Качай, качай деньги, они основа всего. За деньги ты купишь весь Питер. Не ухарством своим, не звериной жестокостью, а деньгами и слабостью человеческой. Тебе понятно?
Голован усердно закивал, завороженно разглядывая дышащую, пульсирующую гору из грязно-белого мрамора с кровавыми прожилками.
— Начнешь с одного человека, фамилия Юздовский, кличка — Граф, живет на Васильевском острове. Сдай ему награбленное барахло с Мойки, там есть несколько вещиц, за которые он отвалит хорошие деньги. И вообще присмотрись к этому хлыщу, он тебе еще пригодится… Но не вздумай его трогать!
Слова еще гремели и перекатывались в воздухе, но зал с камином исчезли, исчезла и мраморная статуя. Голован опять стоял в коридоре ограбленной квартиры, уставившись в стену, где была дубовая дверь. Сейчас двери никакой не было, ни малейших следов, только обои в зеленую полоску. Что, впрочем, Голована уже нисколько не удивило.
Он услышал стук в гостиной. Комната была пуста, по полу каталась шахматная фигура, словно ее только что уронили. На ковре у ломберного столика дымилась сигара, ворс еще не успел даже обуглиться. Голован подошел, поднял окурок, плюнул на горящий кончик и спрятал в карман. Такое впечатление, что его подельники буквально секунду назад растворились в воздухе, стерлись из жизни. Даже тепло их тел не успело окончательно раствориться в воздухе. Значит, и сам он провел в каминном зале не больше секунды?..
Он опять нисколько не удивился. Посмотрел на темнеющие окна и принялся заталкивать в чемодан оставшееся добро.
Глава 3 Бригада голована
Морда в пузырях от ожогов, ни бровей, ни ресниц. И два тяжеленных чемодана с хабаром. В гостиницу в таком виде не попрешься, сразу заметут. И на улице не заночуешь. Выход один — надо искать человека и угол.
И поехал Голован в Стрельну, к Карлуше. Даже не сразу вспомнил, как его зовут, всю дорогу вспоминал. Если бы не крайний случай, никогда бы туда не сунулся, конечно. Но тут не до жиру. Покойному Круглому этот Карлуша приходился то ли двоюродным, то ли троюродным братом, жил в домике-развалюхе на окраине, бодяжил какую-то бурду из тормозной жидкости и столярного клея, по жизни был убежденный и конченый алконавт. В ту пору, когда Голован с Круглым начинали дела в Питере, погреб Карлуши (глубокий, просторный, крышка спрятана под колодой в дровяном сарае) они использовали для хранения краденых вещей.
К счастью, дома у Карлуши никого из друзей-алкоголиков не оказалось. Хозяин был один, дрожал и икал с похмелья. Голован закинул чемоданы в погреб, сходил в магазин, купил водки.
— Я поживу тут какое-то время, усек?
Услышав звон стекла из авоськи, Карлуша чуть не расплакался.
— Да хоть на всю жизнь оставайся! Вся хата твоя! Я в сени переберусь, на сундуке спать буду!
Он даже не спросил, почему Голован один и что приключилось с его дальним родичем Круглым.
— Барахло я в погреб скинул до поры до времени, — сказал ему Голован. — А ты в дом никого не води. Увижу, прикончу на месте всех.
Он сунул Карлуше двадцать пять рублей. Потом прогулялся на мусорку, приволок тяжеленный бетонный блок, придавил им крышку погреба. И отправился на боковую. Спал отлично, скелеты и вальсирующие мертвецы не снились…
День, три дня, неделя.
Месяц.
Он наведывался на Уделку, терся среди торговцев фарцой и антиквариатом. Видел там Графа-Юздовского, о котором говорил Лютый. Пару раз, незамеченный, прокатился за ним до самого его дома на Васильевском острове. Лощеный, чистенький, с нервным лицом, Юздовский ему сперва не понравился. Он показался Головану слабаком, а слабаки рано или поздно ссучиваются, есть у них такое свойство. Но, рассудил он, не станет же Лютый рекомендовать ему ссученого?
В конце концов свел знакомство через одного барыгу. Голован принес каминные часы в бронзовой оправе и серебряное блюдо из квартиры на Мойке — первое, что под руку попалось. Увидев товар, Юздовский заметно поменялся в лице. Долго приглядывался, водил по тарелке какой-то специальной щеточкой, сверял что-то по каталогу на иностранном языке. После тщательного осмотра назвал неожиданно хорошую цену… И попросил еще что-нибудь из «этой коллекции». А ведь понял, откуда хабар, сученыш!
Он купил в общей сложности около десятка вещей с Мойки, остальное Голован сдал знакомому перекупщику, с которым работал еще вместе с Круглым. Закорешиться с Графом-Юздовским у него не получилось — слишком они разные люди, но немного все же сошлись… Пару вечеров скоротали за коньяком, говорили в основном про всякий антиквариат, картины, иконы и прочее. Точнее, говорил Юздовский, Голован в этих делах ничего не смыслит. Да и замах у Графа был совсем другой: он на миллионы нацеливался, на контрабанду мировых ценностей, на «окно» в границе… Но несколько фамилий и кличек из сферы «коляшей» Голован накрепко запомнил. Даже записал в блокнот. Теперь он знал, кого начнет доить, когда сколотит себе бригаду.
* * *
Какое-то время все складывалось лучше некуда. Барыга, который свел его с Юздовским, оказался мужиком смышленым. Однажды в пивнухе он сам осторожно, издалека завел речь о том, что неплохо бы пощипать всю эту зажиревшую антикварную шваль… Ну, понимаешь, да? С умом пощипать, без фанатизма — и себя не обидеть, и на развод оставить.
Его, барыгу, так и звали — Барик. Барыга Барик. Голован обстоятельно, без спешки, растолковал ему, что к чему: почему отморозков и наркоманов на такие дела лучше не подписывать и почему люди нужны сугубо исполнительные и жесткие. Чтобы в команде работали. Желательно с мозгами, хотя бы на десертную ложку. И чтобы с антикварами до этого не терлись, чтобы совершенно новые, незнакомые для них морды были. Есть такие на примете?
Барик обещал найти.
Врал он или нет, но по его словам выходило, что Барика знают в Питере, знают в Москве, Минске, Киеве и Одессе. Его знают даже в Череповце. В любом городе, где есть серьезные коллекционеры, Барик имеет знакомства и авторитет. И не только среди коллекционеров — «коляшей». В уголовной среде он считается специалистом-универсалом высшего класса, поскольку может аккуратно толкнуть любой товар, от ношеной шубы до тронного кресла царицы Елизаветы.
— Я ведь сам по жизни не «коляш», ты понимаешь? — В переполненной шумной пивнухе, где посетители стоят спина в спину, плечо в плечо, вокруг Барика очерчен невидимый круг, за который никто заходить не смеет, даже самые отпитые бухари. Но речь свою он все равно ведет тихо, не разжимая губ, звук словно по экранированному проводу идет от него прямо в уши Голована. — С этими обсосами у меня вообще ничего общего, кроме дел! Я по жизни чистокровный барыга! Я не могу, как они, по полгода вздыхать над какой-нибудь гребаной сигаретницей! Меня прет от реальных дел, понимаешь? Взял товар, извернулся, толкнул, и всем красиво!
Договорились. Раскопал Барик двоих здоровяков-близнецов с Витебского вокзала — Серпа и Молотка, — специалистов по командировочным и всяким приезжим. Реальные такие вышибалы под метр девяносто. Отправился Голован с ними в гости к одному из питерских коллекционеров русской живописи. Поговорили полчасика. Выпили по стакану коньяка, отжали тысячу за знакомство и две тысячи в счет ежемесячной платы за «крышу».
Завертелся непыльный веселый бизнес. Живопись, иконы, серебро, японская пластика малых форм (есть и такие коллекционеры, оказывается)…
Антиквары — народ непуганый, трепетный. На Голована и сопровождающих его вышибал они смотрели широко открытыми глазами, как на пришельцев с альфа Кентавра. Живущие в своем уютном обособленном мире, они никогда не сталкивались раньше с особями таких чудовищных габаритов и с такой злобной, прямо-таки искрящей от бешеной злобы аурой. С деньгами расставались легко, даже с каким-то облегчением.
И это было только начало. Самые матерые «коляши», самые большие деньги только ждали своей очереди. И жирные питерские цеховики, и стада портовой фарцы…
Все рухнуло так же легко, как и начиналось.
Однажды ночью Голован вдруг проснулся, словно от толчка. В первую минуту ему показалось, что он снова оказался в бесконечном каминном зале, среди уходящих в небо колонн. Но нет, он был там, где и положено, — в Карлушиной халупе, свежий, бодрый и напряженный, как бегун на старте. А сон ушел. Голован прислушался: сухо щелкали ходики на стене, в сенях посапывал Карлуша. Потом еле слышно скрипнула калитка во дворе.
Он поднялся, взял лежавший у печки топорик для колки лучины, положил под одеяло и лег.
Звякнула щеколда на входной двери. Карлуша перестал сопеть, потом как-то удивленно замычал, осекся… И затих.
В комнату вошли люди. Голован видел их, словно в свете синей лампы. Будто их кто-то облил специальным подсвечивающим составом, пометил специально для него.
Незнакомые люди. Четверо. Точнее, пятеро — кто-то остался в сенях на стреме. Три финки, одна еще горячая от Карлушиной крови, у кого-то на руку намотан капроновый шнурок. Ступают тихо, уверенно. Пришли за его, Голована, жизнью.
Он все про них знал, непонятно откуда. И это его не удивляло. Молча сел в кровати.
— Кто такие и чего надо? — гаркнул изо всей мочи.
Дернулись. Замерли.
— Мое погоняло Миша Чех, в Стрельне я за Смотрящего, — сказал тот, что со шнурком. — Пришел за Круглого спросить, с которым у тебя были дела.
— А чего Круглый? Жалуется на меня, что ли?
— Жалуется. На свалке у Петрозаводской трассы нашли его обгорелый труп. И еще двоих — Сыча и Химика.
Голован вспомнил болтающиеся на крюках обугленные тела в огромной пасти камина. Фиг его знает, какая связь имеется между этим местом и загородной свалкой. Но, видимо, имеется все-таки, раз они там оказались…
— Сгорели и сгорели, — сказал он раздраженно. — Я что, папа им родной? Приглядывать должен?
— Вы вместе подняли одну богатую хату на Мойке. Это я знаю точно. Там сейчас лягаши работают: из квартиры хабару на сто тысяч вынесли, хозяева трупы. Есть у меня подозрение, что ты, сучья морда, не только хозяев грохнул, но и корешей своих тоже, чтобы не делиться. Я не знаю, как у вас в Ростове, но у нас, питерских, за такие дела положено однозначно пика в бочину.
— Ага, пика… Может, тебе просто мое бабло покоя не дает?
Чех — крепкая коренастая фигура, подсвеченная кисло-синеватым, — равнодушно пожал плечами. Вряд ли он догадывался, что Голован видит его так же отчетливо, как если бы он выступал в ярком свете прожекторов на цирковой арене.
— А тебе какая разница, Голован? Мертвому ведь однохерственно, за что его грохнули. Скажешь, нет?
Пока он произносил эту фразу, три синие тени нырнули к кровати. Финские ножи светились в темноте, как осколки неоновой вывески.
Голован выдернул топорик из-под одеяла, вскочил на ноги. Топорик показался ему неожиданно увесистым… Каким-то не таким.
Никакого топорика. В руках Голован держал тяжелый двуручный меч с удлиненной рукоятью и клинком под полтора метра. Когда он взмахнул им перед собой, воздух низко загудел, а голова одного из наступавших бандитов вдруг отделилась от тела и со стуком упала на пол. При этом никакого сопротивления, никакого удара Голован даже не почувствовал — меч прошил шею, словно она была из бумаги.
Неплохо. Он заметил суженный и обмотанный кожаными ремнями участок ближе к середине клинка — вроде второй рукояти, переместил туда левую руку — стало гораздо удобнее. Взмах, выпад. Отлетела в сторону рука с зажатым ножом, клинок вошел в живот следующего бандита, попутно располовинив металлическую пряжку ремня. Тот только сейчас понял, что происходит, и заорал благим матом. Голован надавил на рукоять, дернул меч вверх — синяя тень развалилась надвое буквой «Y», крик оборвался.
Третий успел подобраться слишком быстро, Головану пришлось вскочить на кровать. Взмахнул слишком широко — срезал верхнюю часть туловища вместе с головой, а заодно развалил печь-голландку.
Чеха он догнал у самой двери.
— Чего ж ты про шнурок свой забыл? Давай, уделай меня этим шнурком, как собирался!
Чех успел только вскинуть руки. Клинок рассек его вместе с дверью и дверной коробкой. Вверху треснули, заскрипели бревна, с потолка посыпалась труха. Головану показалось, что халупа Карлуши вот-вот развалится. Переступив через корчащийся обрубок Чеха, он вышел в сени. В тот же миг что-то ткнулось ему в живот, отвратительно и резко проскрежетало.
Поджидавший за дверью пятый бандит ударил его ножом. Врезал со всей дури, Голован даже отступил на шаг. И ничего не почувствовал. Его тело, весь он с головы до ног закован в тяжелые латы, а из-под пластинчатой юбки железной фигой торчит гульфик.
Пятый побелел, выронил бесполезный нож. Глаза по пять копеек и разинутый рот — больше ничего на лице не осталось. Голован ткнул в него рукояткой меча.
— Отойди-ка…
Опустил клинок острием на пол между его ног, резко махнул вверх. Кровь фонтаном ударила в потолок, меч вошел в деревянную балку и застрял. Голован оставил его там торчать, поднял к глазам руки в железных перчатках, пошевелил пальцами. Снял рогатый шлем. Железная «морда» с пустыми глазницами напоминала оскаленный звериный череп. Он долго, внимательно рассматривал его, таращился на залитый кровью панцирь, постукивал по нему рукой, трогал крючки и хитрые соединения на коленях и локтях. Потом увидел в углу старое трюмо с зеркалом, подошел. Здесь было слишком темно, в зеркале отразилась лишь его огромная, почти бесформенная тень. Протянул руку к выключателю, включил свет…
И все вернулось на свои места. Он стоял в самых обычных тренировочных штанах и растянутой майке, в которых накануне отправился спать. В балке торчал обычный топорик для колки лучины. Правда, и одежда, и топорик, и все вокруг было заляпано кровью, словно пролился кровавый дождь. На кровати у стены лежал Карлуша с перерезанным горлом, а на полу в темной луже плавал разделанный на две части — правую и левую — труп. Вывалившийся наружу обрубок сердца еще продолжал сокращаться, надувая на поверхности лужи бордовые пузыри.
— Фофаны дешевые, — проговорил Голован.
Он снова выключил свет и пошел переодеваться.
* * *
— А с какого испугу ты так резко решил валить?
Барик поднял воротник пиджака, спрятал голову в плечи и зябко оскалил зубы. Было четыре утра, со стороны залива на Стрельну наползал похожий на взбитые сливки туман.
— В самом деле хочешь знать? — посмотрел на него Голован.
Если Барику и хотелось, то сразу перехотелось. Что-то неладное приключилось с Голованом. Хоть и был он на вид спокоен, но взгляд такой, будто за неправильный ответ мог запросто взять и раздавить ему голову. Или даже откусить.
— Я вот думаю, как-то это… Жалко, конечно, — выдавил Барик, с тоской поглядывая на подъезд родного дома. — Жалко, что ты валишь, Голован… Тема у нас такая красивая нарисовалась…
— А ты не жалуйся. Мы ее в Москве продолжим.
— Кого?
— Тему, кого…
— В смысле? — Барик удивился.
— Собирай барахло, — сказал Голован. — Поедешь со мной.
Он почесал небритую щеку, и Барик увидел красные струпья засохшей крови на запястье. И под ногтями тоже кровь.
— Тебе тут все равно никакой жизни не будет, — зевнув, сказал Голован. — Так что шустрей. Серп уже выехал.
Все равно жизни не будет. Барик понял. В такое холодное хмурое утро очень ясно представляешь, каково это — лежать трупом в какой-нибудь яме, постепенно остывая до температуры окружающей среды.
Через десять минут приехали Серп с Молотком на старой «эмке».
Еще через десять минут они были на Ленинградском шоссе, проезжали мост через Жуковку. Слева, в сторону моря, из тумана торчали крыши и трубы частного сектора. Одна из крыш горела открытым пламенем, огонь рвался в небо тысячей красных пальцев, и даже в гремящем салоне «эмки» было слышно, как стреляет раскаленный шифер.
— Пацаны, это ж Карлухина хата горит! Чего делается-то! — заорал Молоток, завертел головой.
Он сбросил газ, оглянулся назад.
— Карлушу спасать надо, что ли! А?!
И наткнулся на колючий, как проволока, взгляд Голована.
— Некого там спасать. Жми, не останавливайся! — сквозь зубы скомандовал Голован.
Вопросы излишни. Любопытство наказуемо. Язык мой — враг мой. Молоток, никогда не отличавшийся сообразительностью, сразу это просек, без лишних разъяснений. Он вдавил голову в плечи и утопил педаль газа в пол.
* * *
Москва бешеная, Москва ненавистная, Москва бесприютная! Здравствуй, Москва!
Никогда бы Голован не сунулся сюда, стопудово не сунулся, будь в Эсэсэсэре другой такой же большой сытый город-миллионник, город-спрут, другой такой же полигон для его планов.
Придется терпеть, приспосабливаться, мутировать. А что делать? Чтоб потом их всех заглотнуть и переварить.
Но проходит время, и ловишь в холодных лужах знакомые отражения, угадываешь в домах и людях родной, привычный ростовский мотив: ум-ца, ум-ца, ум-ца-ца… Только немного переиначенный, немного не так перепетый. Вместо двух блатных куплетов — пышная оратория, вместо четырехполосной улицы Энгельса — шестиполосная Горького, вместо Буденновского проспекта — Кутузовский, вместо Музтеатра — Большой. Это просто разъевшийся, раздавшийся вширь и ввысь Ростов-на-Дону!.. Ничего, жить можно!
И Барика в Белокаменной знали хорошо, тут никакого вранья. И, что важно, он тоже всех знал. Клички, адреса так и сыпались из него. Переночевали на Арбатской, пообедали на Чистых Прудах, потом завалились в Черемушки, отметили переезд, да так и зависли на неделю…
Свел его Барик с Чингизом. Чингиз — старый «коронованный» вор, сам из бывших ростовчан, осел в Москве еще в 30-х.
— Я как бы не против. Живи, радуйся, мне-то что… — прохрипел Чингиз, пригубив стакан с водкой. — А что касается разных дел, то тут все просто. Будет выгода, поддержу земляка, как смогу. А коли ничего не будет, то и разговору нет. Катись тогда обратно в эту свою… Богатяновку, да. Шустри там на здоровье, кур воруй…
Подслеповатый Чингиз видел перед собой в тумане человека не человека, лицо не лицо, а словно ведро железное, мятое, расплывчатое, с пустыми глазницами и рогами. Призрак, а не человек. Половину своего зрения и половину правого легкого Чингиз давно оставил на Соль-Илецкой зоне, а взамен насмотрелся там такого, что видеть человеку немыслимо, невыносимо. Да и не положено. Дышал он с тех пор через раз, вместо одного пальца видел то три, то десять, и говорить с призраками он привык, не кипишил по этому поводу.
…Голован сколотил небольшую бригаду, куда, кроме Барика и Серпа с Молотком, вошли еще три вора с Басманки, хорошо знакомых с местным контингентом. Разложили перед собой список фамилий, составили план. И начали действовать.
Через неделю Голован пришел к Чингизу, положил перед ним бумажный сверток с десятью тысячами.
— Есть выгода?
Сумма изрядная, а сколько бумажек увидел перед собой старый Чингиз — неизвестно. Но благословение свое дал, с кем надо переговорил. И сразу пошла у Голована в Москве роскошная пруха, будто открылись перед ним золотые ворота, за которыми шуршание сторублевок, таинственный блеск бриллиантов, пьяный ресторанный гул, покорный шепот «цеховиков» и «коляшей»…
Бригада постепенно обрастала новыми нужными людьми, профессионалами своего дела. Савелий Клинок, сам некогда дневавший и ночевавший в интуристских гостиницах, отвечал за доход с валютчиков и проституток. Отсидевший пять лет за хищение соцсобственности, Банкир держал в узде «цеховиков». Шулер из Тропарева по кличке Хваленый крышевал «малины» и притоны. Для разговора с особо упертыми клиентами и конкурентами у Голована имелось особое подразделение — разборная бригада… Бизнес налаживался.
И поползли невероятные слухи по Москве. Будто завелась в Белокаменной новая банда: то ли «Ракеты» называется, то ли «Ракетчики», то ли фиг поймешь. Одни говорят, будто это такие современные робин гуды, другие говорят: нет, это обычные вымогатели новой формации. Дерут они якобы по семь шкур со всех богатеньких и неправедных… А тех, кто делиться не хочет, пытают каленым железом и ледяной водой. Есть мнение, что добытые таким образом деньги «ракетчики» раздают потом бабушкам в Нескучном саду и алконавтам у гастрономов. Суют прямо в руки по сторублевке и — фыр! — исчезают с первой космической скоростью. Хотя другие полагают, что это всего-навсего наивный миф. Ведь бандиты — это в первую и последнюю очередь уголовники, шпана. Хищники. Если и бывает им какое дело до бабушек, сидящих на скамеечках в Нескучном саду, так это только чтобы своровать у них кошелек с пенсией. И ничего больше.
Часть четвертая Адмирал сэр Френсис Дрейк
Глава 1 Королевский пират
Британия, королевский дворец
Елизавета I любила напоминающий сказки дворец Берли-хаус — его затейливые башенки, старые толстые стены, узкие, но высокие окна, окружающую зелень лугов… После коронации она бывала здесь очень часто и почти всегда проводила тайные переговоры и дипломатические приемы именно под этими сводами. Вот и сейчас она переходила от окна к окну, созерцая окружающий ландшафт, не спеша принять тех, кто терпеливо дожидался приема. Это не была ее прихоть. Еще в детстве ей, возможной королеве Англии, учителя внушали мысль, что со всеми, даже самыми близкими ей людьми она должна уметь держать определенную дистанцию. Излишний демократизм монарха роняет его авторитет, и каждый удостоенный приема у королевы должен воспринимать эту возможность как великую честь. Конечно, министр внутренних дел и государственный казначей общались со своей государыней достаточно часто, и эта ее особенность им хорошо была известна, но… Привычка — вторая натура.
Наконец Елизавета отошла от окна и взяла в руки маленький серебряный колокольчик. На мелодичный звон немедленно явился заведующий службой протокола сэр Мортимер, на лету поймал кивок Ее Величества, кланяясь, попятился и задом вышел в высокую двустворчатую дверь.
Через пару минут в большом, хорошо протопленном зале с полами, выложенными огромными каменными плитами, и тяжелой дубовой мебелью появились два уже не молодых, строго одетых джентльмена — государственный секретарь Уильям Персил и казначей двора Томас Беркли. Они остановились на почтительном расстоянии от своей королевы и церемонно раскланялись. Елизавета ласково улыбнулась. Это были проверенные слуги, поддерживающие ее в дни изгнания.
— Слушаю вас, джентльмены!
— Ваше Величество, — начал лорд Беркли, — мы попросили аудиенции для дела государственной важности.
Елизавета молча кивнула головой.
— Имя Френсиса Дрейка вам уже известно. Мы докладывали Вашему Величеству, что он только что вернулся из долгого похода…
— Но этот поход, насколько мне известно, связан с грабежами и разбоем, — перебила королева.
— Вы правы, Ваше Величество. Но капитан Дрейк показал себя с наилучшей стороны. Он молод, амбициозен, бесстрашен, опытный мореход… Наконец, он бесконечно предан Вашему Величеству…
— Не слишком ли много достоинств для одного человека?
— Он действительно ими обладает, — вступил в разговор Уильям Персил. — Моральную сторону его вылазок мы оставляем за скобками, понимая, что ремесло это не делается в белых перчатках. Но он выразил желание существенно пополнить нашу казну…
— Состояние которой переживает далеко не лучшие времена, — вставил казначей.
Госсекретарь кивнул и продолжил:
— Мы уже перевезли доставленные им сокровища в хранилища. И решили, что Дрейк именно тот человек, который мог бы возглавить экспедицию в Вест-Индию… С целью поиска новых земель к югу от владения Испании. К тому же, может быть, он сумеет перехватить испанский галеон, везущий серебро из рудников в Акапулько. Мы, если помнит Ваше Величество, обсуждали целесообразность этой акции.
Королева задумчиво прошлась по высокому залу, выглянула в окно, не оборачиваясь, спросила:
— Что собой представляет этот капитан?..
— Дрейк, Ваше Величество. Он из небогатой семьи, но отец его не простолюдин, к тому же, состоит в родстве с несколькими достойными семьями. Умен, удачлив…
— Хватит достоинств! Надеюсь, что эта кандидатура достаточно вами взвешена. Я не возражаю против нее. Однако мне кажется, что сейчас его не стоит мне представлять. В определенных ситуациях ему лучше вообще не знать, что я благословила его экспедицию.
— Разумеется, Ваше Величество, — согласился лорд Персил, продолжая, тем не менее, гнуть свою линию. — И все же ему было бы легче заниматься своим делом, если бы он получил официальный статус и мог не опасаться британских военных кораблей. И его дух укрепит любой знак вашей благосклонности к нему…
— Что, по-вашему, я должна для этого сделать?
— Подписать патент о присвоении Дрейку звания офицера Королевского флота. Ну, и какой-нибудь личный сувенир, жест монаршей любезности…
— Хорошо! Готовьте патент! А сувенир…
Елизавета молча подошла к столику, на котором стояла большая резная шкатулка, открыв ее, извлекла несколько разноцветных шарфов с исполненными ею собственноручно вышивками. Это были специальные подарки, которыми королева отмечала людей достойных, но недостаточно знатных. Она выбрала зеленый, тонкого шелка, на котором золотом было вышито: «Пусть всегда хранит тебя Судьба и направляет Удача!» Потом капнула на него какими-то благовониями из флакона, находящегося тут же.
— Этого будет достаточно?
— Да, Ваше Величество! Мы присовокупим к патенту и вашему замечательному подарку несколько добрых слов и обещаний. Уверены, что этого капитану Дрейку будет вполне достаточно!
— Если не считать флотилии, которую вы собираетесь ему вручить! Не так ли? — усмехнулась Елизавета.
— Вы, как всегда, правы, Ваше Величество! Но это необходимое условие, и средства на ее снаряжение у нас теперь имеются. По существу, он сам себя финансирует!
— В этом мои министры могли бы взять с него пример! У вас все, джентльмены?
— Не смеем более задерживать внимание Вашего Величества, — стали расшаркиваться визитеры. — Надо готовить дальний поход Дрейка. На это уйдет не меньше полутора лет…
— Благословляю вас на эту работу во славу Великобритании!
Атлантический океан, 1577 год
Испанцев «Золотая лань» встретила на второй день после того, как вышла в Атлантику. Два шустрых корвета и шхуна появились неожиданно и внезапно, будто акулы, вынырнувшие из-под серых волн. Они разделились, слаженно выполнили маневр и хищно устремились с трех сторон на одинокое судно, два других, менее быстроходных корабля экспедиции — «Тайфун» и «Девятый вал», отстали и находились в половине суток пути. Дрейк не хотел вступать в бой, но деваться было некуда: если повернуться бортом или кормой, то подставишь себя под безответный, а потому губительный огонь — этого, естественно, делать было нельзя. Поэтому он повел галеон на сближение и, не успел противник опомниться, дал артиллеристам команду «Пли!».
Первый же залп полностью уничтожил оснастку вражеской шхуны. Это достиглось благодаря изобретенным Дрейком «цепным ядрам» — в его пушки заряжали по два ядра, соединенных цепью. Теперь они не просто проделывали дырки в парусах, а рвали их в клочья, проламывали огромные бреши в бортах, сбивали реи и ломали мачты. Испанская шхуна полностью потеряла рангоут и утратила способность двигаться. И хотя она огрызалась вялым и безрезультативным огнем, Дрейк, не обращая на нее внимания, направил «Золотую лань» между корветами. Этот маневр тоже придумал он: вражеские корабли, опасаясь попасть друг в друга, снижали интенсивность огня, а иногда и вообще прекращали его. Зато когда он оказывался между ними, то залп с двух бортов выводил оба вражеских судна из строя.
Так получилось и на этот раз — раздался грохот всех орудий, «Золотая лань» содрогнулась, окуталась облаками едкого порохового дыма, корвет справа, накренившись, начал тонуть, корвет слева загорелся. Дрейк не стал разбираться с поверженными судами: он скомандовал «Полный вперед!», и «Золотая лань», набирая скорость, направилась к Вест-Индии.
— Слушай, капитан, как ты это придумал? — спросил Джим Мореход, когда дым горящего корвета остался далеко позади.
— Что именно? — поинтересовался Дрейк.
— Связать ядра цепью, или этот маневр между вражескими кораблями… Ты же нигде не учился военному делу!
Дрейк пожал плечами:
— Не знаю. Как-то само в голову пришло…
Он непроизвольно бросил взгляд на перстень. Лев многозначительно улыбался.
— Матросы спрашивали, почему мы не захватили эти суда, — понизив голос, сказал Мореход. — Говорят, там можно было хорошо поживиться…
— Объясни им, что у нас будет совсем другая пожива — золото и серебро! — раздраженно бросил Дрейк.
— Но многие предпочитают синицу в руках журавлю в небе…
— Когда зайдем на Карибы, такие ослы могут нас покинуть. Там много пиратских кораблей, промышляющих мелким разбоем, и они легко найдут себе место!
Атлантический океан величаво перекатывал серые волны, свежий ветер надувал паруса. «Золотая лань» ходко шла к новому континенту, от которого, даже при попутном ветре, ее отделяли несколько месяцев пути.
Карибское море, 1577 год
Мелкий золотой песок острова Тортуга мягко подавался под ботфортами, почти засыпая ступни и сливаясь с пряжками, изображающими скачущую золотую лань. В бухте Спокойствия стояло свыше десяти судов — на большинстве развевались черные флаги, на некоторых они были спущены, но это вряд ли могло ввести кого-нибудь в заблуждение: все знали, что здесь собираются пираты со всего Карибского бассейна.
«Золотая лань» бросила якорь вчера вечером: после перехода через Атлантику следовало запастись провиантом и пресной водой, дождаться «Тайфун» и «Девятый вал», к тому же экипажу совсем не помешает отдохнуть от бесконечного океана с его качкой и безлюдьем хотя бы неделю! Новости разносятся здесь быстро, и когда утром шлюпка с Дрейком пристала к берегу, вся пиратская республика уже знала, кто к ним пожаловал.
На береговой полосе было многолюдно: истосковавшиеся по твердой земле пираты отдыхали — пили ром, играли в кости, совершали сделки, некоторые забавлялись с животными, которых многие любили приручать, возможно для того, чтобы скрасить одиночество в море. На плечах у таких любителей живности сидели попугаи или обезьяны, иногда они обвивали себя ленивыми от сытости удавами.
Почти все сбрасывали свои лохмотья, оставаясь раздетыми до пояса или до нижнего белья. Многие снимали повязки, закрывающие выбитые глаза, отстегивали крюки, заменяющие утраченные руки, или деревянные чурбаны, приспособленные вместо потерянной ноги, и грелись под теплым солнцем, потеряв свой грозный воинственный вид и напоминая обычных инвалидов, которые побираются возле порта в Лондоне или у собора Нотр-Дам в Париже, выставив напоказ свои культи, чтобы вызвать жалость прохожих. Но вряд ли у кого-то здесь они могли вызвать жалость: все хорошо знали, что лежит на темных душах этой покалеченной братии. Впрочем, и осуждения они не вызывали, ибо все вокруг были такими же, как они.
Конечно, уважающие себя авторитетные капитаны не позволяли себе опускаться до уровня отбросов общества. Они были всегда одеты как подобает джентльменам удачи, даже если те находятся на жарком тропическом острове. И держались соответственно. Френсис Дрейк шел в отглаженном камзоле, накрахмаленной белой рубашке с кружевами, до блеска начищенных ботфортах, на шее у него завязан шелковый зеленый платок с какой-то надписью, причем все морское братство уже знало, что это подарок самой английской королевы. Некоторые, правда, не верили, но у них хватало осмотрительности не высказывать свои сомнения вслух. Тем более что большинство склонялось к мысли о том, что так оно и есть.
Дрейк шел небрежной, чуть раскачивающейся походкой, придерживая висящую на боку испанскую шпагу с большой чашеобразный гардой, испещренной отверстиями, в которые можно было поймать и резким движением сломать острие шпаги противника. Его, как всегда, сопровождал Боб Акула и двое охранников. Они шли мимо устроившихся на отдых пиратов, которые провожали их взглядами и шепотом: «Дракон… Глядите, Дракон…»
Королевский пират не обращал внимания на взгляды и перешептывания, он вообще не смотрел по сторонам, будто берег был пустынным. Если кто-то здоровался, он отвечал без высокомерия и зазнайства, но сам, первым, ни к кому не обращался.
Они прошли сквозь береговую линию, миновали пальмовую рощу и вышли к подножию горбатых скал, которые занимали весь центр острова, делая его похожим на панцирь черепахи и определяя его название[8]. У входа в ущелье раскинулся жилой поселок, где и жил китаец Ли, снабжавший джентльменов удачи всем необходимым. Пожалуй, он был единственным человеком, который не платил пиратам, напротив — они ему платили. Возможно, этому способствовала полезность Ли для всего морского братства или то, что в пиратской республике он играл роль официального должностного лица, вроде губернатора, а может, хорошая охрана. Впрочем, скорей всего играли роль все три фактора, вместе взятые.
Сложенный из тщательно подогнанных каменных глыб двухэтажный дом китайца Ли был окружен высоким прочным забором с бойницами и двумя пушками, хотя и небольшого калибра, но заряженными шрапнелью и способными вмиг выкосить экипаж целого корабля, если он вдруг пойдет в пешую атаку. Впрочем, Ли уже давно имел дело с пиратами, и ни одна из сотрудничающих сторон повода для столь крайних действий, как атаки и артиллерийские защиты, не давала. Хотя дом круглосуточно охраняли стражники в кирасах и железных шлемах, с алебардами, арбалетами или аркебузами в руках.
Сейчас во дворе находились около десятка пиратов, которые сидели в тени и явно кого-то ожидали. Так и оказалось: стражники на крыльце раздвинули скрещенные алебарды, освобождая проход, и из дома вышел капитан галеона «Ветер морей» по прозвищу Шотландец. Высокий, худощавый, в отглаженной белой рубашке без воротника, черной кожаной жилетке, черных штанах до колена, белых чулках и башмаках из грубой кожи с широкими квадратными носами, он выглядел так же нарядно, как и Френсис Дрейк. Только вместо солидной шляпы Шотландец надел на голову обычную черную косынку, завязанную узлом на затылке — обычно так ходили на кораблях в открытом море. Зато на поясе у него висела точно такая же шпага, как у Дрейка, — изящное дорогое оружие для поединков, крайне редкое в той среде, где пользуются грубыми абордажными кортиками, тяжелыми топорами или дубинами с острыми шипами. Такими шпагами не отрубают конечности, не разбивают головы, а плетут тонкие кружева атак и защит, чтобы в конце концов точным уколом завершить схватку. И если Дрейк носил свою в основном из франтовства, то у Шотландца была репутация хорошего фехтовальщика.
Коротко оглядев друг друга и обменявшись короткими кивками, они разминулись на пороге, и Дрейк в сопровождении Боба Акулы вошел в богато обставленный дом: резная мебель из черного дерева, венецианские зеркала, персидские ковры. В углах комнат и у дверей неподвижно, как изваяния, стояли стражники с приставленными к ноге алебардами.
Китаец Ли сидел в кабинете за полированным столом, аккуратно сложив перед собой ладони и широко улыбался своей знаменитой улыбкой, про которую все в Карибском бассейне знали, что ей нельзя верить.
Любезно поздоровавшись, Дрейк положил перед хозяином клочок исписанной бумаги.
— Хочу запастись провиантом и водой. Людям надоела солонина, нужны свежие продукты, у меня есть только неделя… Вот список!
Китаец просмотрел записи и, не переставая улыбаться, покачал головой.
— Ничего не получится, друг. Я только что принял заказ. И за неделю не смогу снабдить сразу два больших корабля.
— Постарайся, Ли. Мы хорошо заплатим.
Ли скорбно кивнул.
— Все платят. Но источник не даст больше воды даже за большие деньги. Муку я уже продал Шотландцу. А за курами и свиньями мне придется посылать шхуну на Эспаньолу. Хотя это и недалеко, но там тоже не найдешь сразу столь много живности.
— Так что же мне делать? — Дрейк машинально положил ладонь на эфес шпаги. Стражник за спиной китайца напрягся и переступил с ноги на ногу. Пират тут же убрал руку, понимая двусмысленность жеста. Но хозяин не обратил на это внимания.
— Договоритесь с Шотландцем. Если каждый из вас возьмет половину необходимого, то через месяц сможете добрать остальное…
— Гм… Мне бы не понравилось такое предложение!
— А ему, может, понравится! — китаец улыбался.
— И я бы не согласился!
— А он, может, согласится, — Ли улыбнулся еще шире, хотя это было невозможно.
Больше говорить было не о чем. Дрейк, круто развернувшись, направился к выходу. В глубине двора несколько слуг перетаскивали мешки с мукой из амбара в запряженную мулом повозку. Шотландец наблюдал за процессом и с любопытством повернулся к подходящему Дрейку. Тот изложил предложение китайца, хотя мало рассчитывал на успех.
— Ничего не получится, Дракон, — сказал Шотландец. — У меня нет времени ждать.
В ухе у него сверкала необычная серьга — золотой кружок на цепочке. Когда он качал головой, кружок раскачивался и блестел на солнце.
— Но может, уступишь половину муки? Я заплачу вдвое больше, чем взял китаец!
— Мы же не торговцы, друг! — капитан «Морского ветра» отвернулся, давая понять, что разговор окончен. И тут Дрейк рассмотрел его серьгу. Кровь ударила в голову.
— Да, не торговцы, это верно, — спокойно сказал он. — И это украшение в ухе ты не купил на рынке в Порт-Ройале…
Шотландец развернулся к нему всем телом.
— Да, это память о пленнице, которую я захватил месяц назад на испанском корвете. Кстати, она жена наместника испанского короля в Акапулько…
— И что ты с ней сделал? — сдерживая нарастающую ярость, спросил Дрейк.
— То, что обычно. Но она мне начинает надоедать, так что я отдам ее матросам.
— Неужели ты не собираешься получить выкуп?
— Собираюсь. Но то, что мы с ней делаем, этому не мешает. И почему ты интересуешься моими делами? Уж не хочешь ли ты учить меня, как распоряжаться моей добычей? — Шотландец недобро усмехнулся.
Дрейк ответил ему такой же усмешкой.
— Нет. Но я хочу, чтобы ты не считал добычей то, что принадлежит мне!
— Что это значит?! — удивленно воскликнул Шотландец.
— У тебя в ухе моя вещь! — Дрейк поднес к лицу соперника рукав, на котором блестели пуговицы с золотой ланью. — Видишь, одной не хватает! Уже много лет я приказываю портным не пришивать другую пуговицу на новый камзол, чтобы помнить о той, кому я ее подарил! А теперь моя пуговица у тебя в ухе. Получается, что ты ограбил меня!
— Что за ерунда! — Шотландец растерянно огляделся. Вокруг них собрались матросы, привлеченные накалом разговора. Дрейк выдвинул серьезное обвинение, и все могли убедиться, что пуговица действительно принадлежит ему. — Я забрал ее у пленницы, это моя добыча!
— Мои вещи не могут быть твоей добычей, и ты это знаешь — таковы законы морского братства! Тебе придется отдать мою вещь!
— Что за бред?! — лицо Шотландца налилось кровью. — Когда я ее забирал, тебя рядом не было! А сейчас ты хочешь вынуть мой трофей из моего уха?!
Дрейк невозмутимо кивнул.
— Да. Или я заберу его вместе с ухом!
Матросы с «Морского ветра» заворчали. Их было больше, и они понимали, что речь идет не о пуговице, а о чести и достоинстве капитана. И Шотландец понимал это лучше других.
— Когда ты убил Черепа и сжег его шхуну, то не думал о законах братства! — взревел он. — Недаром про тебя ходят дурные слухи! И недаром на твоих судах нет капеллана!
Об этом действительно шептались многие в морском братстве, но бросать подобное обвинение в глаза Дракону никто не решался. Шотландец стал первым. И всем стало ясно, что Дракон постарается сделать так, чтобы и последним.
— Оставим глупые разговоры и разрешим спор, как полагается джентльменам! — Дрейк взялся за шпагу.
— Они не глупые! Все знают, что ты побеждаешь в поединках! Но я учился у самого Джузеппе Скараманги и почти год жил у него во Флоренции! — воскликнул Шотландец. — А у кого учился ты?
— У Боба Акулы!
— Кто знает твоего Акулу? Нет, ты продал душу и…
Его перебил елейный голос китайца Ли:
— О мои добрые друзья, те дела, которыми вы собираетесь заняться, лучше перенести за пределы моего дома! — Со своей неизменной улыбкой Ли расставил руки, как бы подталкивая спорщиков к воротам.
За его спиной, уже без улыбок, стояли шестеро стражников, обводя собравшихся взведенными арбалетами. Готовые сорваться с зацепов короткие толстые стрелы, пробивающие человека насквозь, хищно переводили острый взгляд с одного живота на другой и не располагали к дискуссиям. Тем более что с окружающего второй этаж балкона за происходящим внимательно наблюдали три аркебузера и фитили их оружия уже были зажжены.
— Да, выйдем на улицу, там просторней! — кивнул Дрейк.
На улице, окруженные все разрастающейся толпой зевак, капитаны обнажили шпаги. Шотландец принял фехтовальную стойку, выставив вперед правую ногу и откинув назад согнутую в локте левую руку. Клинок его шпаги был на десять дюймов длиннее обычного — это в сочетании с высоким ростом давало ему значительное преимущество над противником. Но не в данном случае. Сейчас даже его мастерство фехтовальщика было бессильным. Топая ногой, он сделал три выпада, но все они не достигли цели, зато удар противника был столь неожиданным, что он едва сумел его отразить. Дрейк пошел в наступление, но Шотландец легко развернулся вокруг оси, уходя с линии атаки, и, перекинув шпагу в другую руку, нанес неожиданный удар уже из левосторонней стойки. Эта хитрость не раз приносила ему победу, но казавшийся неуклюжим Дрейк, который так и не принял изящную позицию дуэлянта, а просто стоял вполоборота, легко парировал изощренный выпад и перешел в контратаку.
Сталь ударяла о сталь с такой силой, будто кузнец бил молотом по наковальне, Шотландец пятился назад. Он попытался тщательно отработанным приемом выбить оружие из рук противника, но это ему не удалось. Секретные выпады, которым он научился у знаменитого Скараманги, тоже не достигали цели — казалось, что Дракон брал уроки у того же учителя!
Шпага Дрейка вдруг закрутилась вокруг клинка противника с такой скоростью, что превратилась в блестящий на солнце конус — удлиненное оружие вдруг вылетело из руки Шотландца и, кувыркаясь, взлетело высоко вверх. Обезоруженный пират замер в нелепой позе фехтовальщика без шпаги. Зрители замерли. Но в честном поединке джентльмены не убивают безоружного противника. Даже если это джентльмены удачи, которые на палубах чужих кораблей, увы, далеко не всегда соблюдают правила дуэльного кодекса. Дракон, опустив клинок, замер, дожидаясь, пока длинная шпага завершит свой полет и вернется на землю пиратской республики, воткнувшись глубоко в песок.
Шотландец схватил шпагу и стал в стойку, клинки снова скрестились. Но перевес Дрейка был настолько очевиден, что исход поединка стал уже всем ясен. Правда, никто не предполагал, что он сделает в следующую секунду: клинок Дракона сверкнул, как молния, и отрубил противнику ухо со злополучной серьгой. Хлынула кровь. Окровавленный кусок мяса упал на песок. Зрители негодующе закричали: такие вещи среди джентльменов не приняты, даже если это джентльмены удачи! Но с другой стороны, дуэльный кодекс этого не запрещает…
Зажав рану, Шотландец сделал обманный финт и всем телом нанес удар, которым обычно пронизывал противника насквозь. Но сейчас все вышло наоборот: его шпага проткнула воздух, а острие клинка Дрейка выскочило из спины Шотландца, оставив на белой рубашке медленно расплывающееся красное пятно. Пират, выронив оружие, рухнул на землю.
Зрители, а здесь в основном были матросы с «Морского ветра», негодующе закричали.
— Нечестно! Ему помогает дьявол! Бей Дракона!
Кольцо пиратов стало угрожающе сужаться. Дрейк и трое его спутников стали спина к спине и выставили клинки, хотя понимали, что шансов у них нет — слишком велико было численное превосходство нападающих.
— А ну назад, шакалы! — внезапно раздался угрожающий крик. Круг пиратов Шотландца смяли и разорвали неизвестные люди во главе с невысоким седоголовым крепышом, которые стали на защиту четверки с «Золотой лани».
— Разойдитесь! Все было по правилам! — громко крикнул седой главарь, размахивая абордажным кортиком. — Первому, кто сделает шаг, я отрублю голову!
Неожиданная помощь вызвала замешательство среди пиратов с «Морского ветра». Теперь силы стали равны, а вступать в кровопролитную схватку — это совсем не то, что просто зарубить четверых конкурентов. Агрессивность толпы мгновенно исчезла, пираты стали медленно расходиться.
— Забери мою пуговицу, Боб! — приказал Дрейк, направляясь к седоголовому крепышу и внимательно всматриваясь в будто бы знакомое лицо. Тот стоял молча и улыбался.
— Гном?! Ты, что ли?! Разрази меня молния!
— Я!
Они обнялись.
— Тебя не узнать!
— За десять лет люди меняются, — ответил Гном. — Хотя ты мало изменился.
— А какова судьба остальных ребят?
— Обломки «Осьминога» после того шторма видели в океане, «Рыбу-меч» сожгли испанцы, но Голландец жив, он у меня, на «Мурене»…
— Пойдешь со мной в поход?
Гном кивнул.
— Конечно!
— Отлично! Я сейчас вернусь на «Лань», а ты возьми людей и привези мне с «Девятого вала» пленницу Шотландца, ее зовут Абигайл. На всякий случай мы будем держать их под прицелом!
Гном кивнул.
* * *
За прошедшие десять лет Абигайл значительно изменилась: фигура угловатой девушки-подростка приобрела пышные формы — на палубу «Золотой лани» ступила статная дама, правда, испуганная, с похудевшим лицом и тусклыми глазами. Но Дрейк почувствовал, что его влечет к ней так же, как и прежде, а может быть, еще сильнее. Она же смотрела на него без всяких эмоций. Неужели не узнала?!
— Я Френсис Дрейк. Капитан той посудины, что доставила тебя из Испании в Англию. Ты не признаешь меня? А вот я тебя сразу узнал, потому что всегда помнил. Видно, это судьба, коль скоро мы вновь с тобой встретились на моем корабле…
— Судьба моя слишком печальна, — тихо ответила она. — Я была пленницей пиратов, и этот месяц был для меня просто адом…
— Шотландец получил по заслугам, — Дрейк вынул из кармана свернутый платок, развернул. Золотая пуговица была запачкана запекшейся кровью. — Возьми обратно мой подарок. Только надо его вымыть.
Абигайл безразлично протянула руку.
— Пойдем ко мне в каюту. Тебе надо отдохнуть.
— Будешь опять поить меня ромом?
— Ром — универсальное лекарство!
— Да, он говорил мне то же самое…
Дрейку стало неприятно. Получалось, что Абигайл не видит разницы между ним и Шотландцем. Впрочем, а есть ли она, эта разница?
— Что ты думаешь со мной делать? — спросила она в каюте, пригубив рома. — Мой муж теперь наместник короля, он заплатит хороший выкуп…
— Меня интересует другое! — Дрейк осушил свой стакан. — Когда и каким маршрутом уходит из Акапулько галеон с серебром? Ты должна это знать!
— Я это знаю, — кивнула она, без принуждения допивая свой ром. Похоже, что привыкла к обжигающему напитку… — Раз в три месяца муж отправляет в Испанию «Морского орла» или «Русалку». Если нам нужно домой, на них плывем и мы — эти корабли хорошо охраняются.
— Есть график выхода их из порта?
— Специального графика нет. Просто в конце месяца. Ты отпустишь меня?
— Конечно!
— И, надеюсь, не воспользуешься моим положением пленницы?
— Вот этого обещать не могу, сеньора! Ведь я пират. Прошу в спальню, она вам уже знакома…
Абигайл обреченно выполнила приказ.
Глава 2 Серебряный галеон с приятным сюрпризом
Тихий океан, Западное побережье Американского континента, 1578 год
Весной 1578 года англичане как гнев Божий обрушились на побережье Вест-Индии. Они нападали на ничего не подозревавшие испанские суда в тихих гаванях, кровавой волной прокатывались по городкам и поселениям испанских колонистов, вырезая целые гарнизоны и расхищая все, что могло представлять какую-то ценность. Четыре корабля Дрейка прошлись по испанским островам и поселениям на берегу Тихого океана, словно пожар по сухой траве. Горели дома, гремели выстрелы, лязгала сталь, лилась кровь, кричали женщины… Слитки золота и серебра, восточные шелка и драгоценная посуда, ювелирные украшения и какие-то таинственные безделушки туземцев из драгоценных металлов и камней — все неиссякаемым потоком текло и оседало в трюмах «Золотой лани», «Тайфуна», «Девятого вала» и «Медузы». Над отбитыми островами вместо испанских водружались английские флаги — Дрейк оставлял на них своих людей с вооруженными отрядами. Гном стал алькадом на острове Десаласьон, Голландец возглавил английскую колонию на острове Санта-Инес…
Все сполна испил Дрейк за это время: азарт, риск и радость побед, кровь поверженных врагов и слезы заложников, огонь пожарищ и жаркие абордажные поединки, жестоко подавленный им бунт команды на «Медузе», пьянки и любовные утехи с Абигайл… Камень его перстня странно светился изнутри страшноватым огнем преисподней, но он предпочитал не задумываться о его природе, как будто это был огонь маяка в темной ночи судьбы. Зачем задумываться, куда приведет обозначаемый им путь? Иногда ему казалось, что путеводный огонь тускнеет, — это был плохой знак, и он не задумываясь отказывался от планов, которые на первый взгляд сулили выгоду. И оказывалось, что правильно поступил…
Настала ночь, когда Абигайл высадили с парусного баркаса на берегу Акапулько. За время плаванья Дрейк привязался к ней, и теперь ему не хватало женщины, которая постоянно ждет его в каюте. И плевать, что это ожидание пленницы, не имеющей права выбора, плевать, что она много пила, чтобы забыться и убежать от действительности, что она была словно неживая, когда он ласкал ее тело… Сейчас он представлял, как она отходит от пережитого в объятиях своего мужа, распаленное воображение рисовало мельчайшие подробности, и он рычал от неутоленной страсти и ярости.
Впрочем, вскоре острота разлуки притупилась: в боях и схватках некогда было предаваться воспоминаниям. Тем более что наступало время отправки в Испанию ценностей, добытых в рудниках Акапулько: «Золотая лань», «Тайфун» и «Девятый вал» несли вахту в прилегающих водах в ожидании серебряного галеона. «Медузу» Гном оставил на Десаласьоне, но Дрейк не сомневался, что они и своими силами выполнят задачу.
И вот долгожданный день наступил: на горизонте показалась небольшая эскадра: галеон, корвет и две шхуны. Дрейк двинулся наперерез. Когда расстояние сократилось и он прочел в подзорную трубу название галеона — «Морской орел», — то понял, что они на верном пути. Испанская эскадра, заметив неприятеля, стала уходить. Началась погоня.
Капитан неотрывно смотрел в подзорную трубу. На преследуемых судах царил аврал: поднимались все паруса, открывались люки орудийных портов, команда, приготовив оружие, выстраивалась вдоль бортов… Но, несмотря на все усилия испанцев, расстояние неумолимо сокращалось. Целью «Золотой лани» стал «Морской орел», остальные корабли Дрейка нацелились на конвой. Пираты готовились к атаке. На марсах[9] стояли аркебузеры, дожидаясь своего часа. Остальные, в живописных лохмотьях, косынках, удерживающих волосы, чтобы не лезли в глаза, вооруженные абордажными кортиками и боевыми топорами, некоторые с пистолетами, нетерпеливо переминались с ноги на ногу у борта, ругались и размахивали оружием. Глаза горели животным огнем: все понимали, что сейчас будет кровь, много крови, но каждый надеялся, что не он обагрит палубу испанского судна, на которой ожидали испанские солдаты — в кирасах, железных шлемах, с алебардами, палашами, аркебузами…
Наконец заговорили пушки. Первые два залпа уничтожили такелаж, и «Морской орел» резко сбавил ход. Два ответных залпа почти не причинили серьезного урона «Золотой лани», впрочем, как всегда. Когда борта парусников отделяло всего двадцать ярдов, соперники обменялись выстрелами из ручного оружия, пролилась первая кровь. Рядом с Френсисом упал матрос, хрипя в предсмертной агонии.
Галеон англичан стремительно надвигался. После привычного, многократно отработанного маневра сильный толчок возвестил о том, что корабли сошлись для смертельного поединка. Десяток абордажных кошек и скоб, абордажных багров вонзились в тело испанца, парусники накрепко прижались друг к другу.
— На аборда-а-аж! — заорал Дрейк, пьянея от предвкушения страшного боя.
Мельком бросив взгляд на руку, он с затаенным восторгом отметил, что камень перстня горит, как спасительный огонь маяка в темной штормовой ночи. Значит, все будет хорошо! И не только благодаря помощи неизвестного (он не хотел признавать, что знает его имя) покровителя — он, как капитан, сделал все, чтобы обеспечить успех боя. Над палубой «Золотой лани» натянута прочная веревочная сеть для защиты от падающих обломков такелажа, марсовые стрелки, отстрелявшись, спускаются по вантам, чтобы присоединиться к атакующим, абордажные мостки наведены, их сорокафутовые стрелы зависли над палубой неприятеля, и первые бойцы абордажной команды уже спрыгнули с них в самую гущу врага, вступив в кровавую мясорубку.
Пираты пестрой волной сыпались навстречу пулям и клинкам, сминая защитников «Морского орла». Крики, выстрелы, звон металла, стоны раненых — все эти звуки смешались в привычную какофонию боя. Палубу усеяли трупы защитников. Хотя потери несли и атакующие, преимущество было на их стороне. Пора было и капитану вступать в бой.
По узкой доске Дрейк перебрался на палубу неприятеля и, озираясь, стал высматривать достойного противника. В толпе сгрудившихся вокруг мачты и отчаянно сражающихся офицеров он сразу увидел такого. Это был высокий мужчина с усами и эспаньолкой, в дорогой одежде, безусловно идальго, возглавляющий сопротивление команды «Морского орла» и укладывающий пиратов одного за другим. Но нападающих было больше, и они теснили защитников к двери, за которой располагались каюты высокопоставленных пассажиров. Френсис бросился туда.
— Я капитан Дрейк! — крикнул он, размахивая шпагой. — Извольте скрестить со мной оружие!
Несмотря на шум боя, идальго его услышал и рванулся навстречу.
— Значит, ты и есть тот разбойник, который дважды мучил мою жену! — крикнул он на хорошем английском. Со звоном сшиблись клинки.
— Какую жену?! — не понял Дрейк.
Противник был лет на десять старше его, но сохранил силу и быстроту. Залитое потом лицо, перепачканный своей или чужой кровью нагрудник, закушенная губа, полный ненависти и ярости взгляд. Он не ответил, зато нанес каскад рубящих и колющих ударов, причем Дрейк не сумел отразить их с обычной легкостью. Больше того, он почувствовал, что преимущество на стороне идальго — впервые за много лет перстень не оказывал ему помощи! Шпага противника рассекла Френсису щеку, оцарапала плечо, ему с трудом удалось парировать удар, нацеленный в сердце… Хорошо, что подоспевший Боб Акула отвлек врага на себя и капитан смог перевести дух.
Бросив взгляд на перстень, Дрейк обнаружил, что камень во рту льва не испускает обычного ободряющего свечения — значит, худшие подозрения оправдались! Он растерялся и не знал, что делать: как будто шел по канату между грот- и фок-мачтой и внезапно обнаружил, что страховочную сетку убрали и падение приведет к неминуемой смерти… В сердце зародился страх…
Тем временем защитников корабля почти полностью перебили, а высокопоставленного испанца Акула оттеснил в пассажирский отсек и нырнул за ним. Дрейк бросился следом. В узкий коридор выходили четыре двери. Прижавшись к одной из них, идальго застучал в нее свободной рукой, не переставая орудовать шпагой. Наседающий на него Боб Акула вдруг отшатнулся и опрокинулся, зажимая колотую рану под левой ключицей. Дверь открылась, и испанец скользнул в каюту. Однако Френсис перескочил через Боба и в последний миг успел ткнуть шпагой в щель закрывающейся двери. Клинок вошел во что-то мягкое, раздался стон, послышался характерный звук падающего тела, и почти сразу же до его ушей долетел истерический женский крик.
«А я-таки, судя по всему, заработал себе приз! — пронеслось у него в голове. — Ладно, с призами разберемся позднее!»
Он снова выскочил на палубу, чтобы присоединиться к сражавшимся. Но все уже закончилось! Палубу покрывали тела убитых испанцев, а около десятка окруженных матросов бросили оружие и понуро стояли, подняв руки.
— Цел, капитан? — подбежал запыхавшийся Джим Мореход с окровавленным абордажным кортиком. — Ты весь в крови!
— Царапины, — Дрейк провел по лицу и взглянул на окровавленную ладонь. Перстень успокаивающе светился изнутри красно-желтым светом. И действительно, страх исчез неизвестно куда. — Там Акула ранен, — тяжело дыша, проговорил он. — Позови доктора!
Акулу вынесли на палубу, доктор наклонился над ним, осматривая рану.
— Повезло! — наконец сказал он. — Если бы немного ниже — и в сердце!
— Ладно, несите его на «Лань», — скомандовал Дрейк, осматриваясь вокруг.
Испанский корвет тонул, «Тайфун» и «Девятый вал» взяли на абордаж обе шхуны, похоже, бои на них тоже закончились.
«Что ж, — подумал Френсис. — Пора забрать свой приз!»
Ворвавшись в пассажирский отсек, он толкнул уже знакомую дверь и в богато убранной каюте увидел два распростертых на полу тела. Одно принадлежало его недавнему сопернику, другое — молодой женщине. Идальго был мертв — шпага вошла под мышку, в вырез кирасы. Дрейк наклонился и сорвал с шеи медальон, богато инкрустированный алмазами. Затем склонился над лежащей вниз лицом женщиной, прижал пальцы к шейной артерии. Сердце билось ровно — значит, это просто глубокий обморок. Но что это?! Вздрогнув, он отдернул руку. Знакомые три родинки, образующие треугольник! Неужели?! Он перевернул ее на спину. Точно — это была Абигайл! Так вот о какой жене говорил убитый идальго! Он подхватил бездыханное тело на руки и вынес на палубу.
Его парни уже навели порядок: тела убитых сброшены в океан, и лишь пятна крови напоминали о том, что здесь только что произошло. Не видно и пленных: Френсис знал, что они разделили судьбу своих соотечественников. Может, это и жестоко, но вполне естественно — куда девать врагов в дальнем походе? Зачем кормить их, охранять и постоянно опасаться бунта? Так поступали с пленными все пираты до него, так будут поступать и после…
По шаткому абордажному мостику Дрейк перенес трофей на свой корабль. Проходя мимо Джима Морехода, он бросил:
— Захваченные суда — приз! Подготовь призовую команду, и пусть Честняга Томас опишет всю добычу!
Эти слова были встречены приветственными возгласами. Пираты завистливо смотрели на обмякшую в руках капитана женщину, но никому не приходило в голову отпустить скабрезную шутку или даже криво улыбнуться: все знали, что за неуважение к Дракону можно поплатиться жизнью.
В своей каюте Дрейк аккуратно опустил Абигайл на кровать и присел рядом, внимательно разглядывая черты мертвенно-бледного лица. Вон как все переплелось в их жизни: встретились, когда она против своей воли готовилась к замужеству, а теперь он заколол ее мужа… И чем дольше он смотрел, тем сильнее в нем разыгрывалась страсть, он с нетерпением ждал, когда добыча придет в себя. Или она уже очнулась и притворяется, чтобы оттянуть момент неизбежного?
Дрейк брызнул водой в лицо пленнице, та вздрогнула и открыла глаза.
— Чудовище! Так это ты убил моего мужа?..
— Это был честный поединок…
Капитан осекся. Честностью здесь и не пахло. Если бы не подоспел Акула, то исход схватки был бы совсем другим… Но почему перстень не стал ему помогать?!
— Да, честный… Если б не я его поразил, то он меня… Это воля судьбы. Ты никогда его не любила…
— Будь ты проклят! — воскликнула женщина, и глаза ее блеснули яростью. — Ты когда-то погубил мою честь, а теперь исковеркал жизнь! Гори в аду! Где тело моего мужа?!
Дрейку с трудом удалось погасить бешенство.
— Сеньора, вижу, вы здорово изменились, — холодно процедил он сквозь зубы. — Похоже, вы исполнили мое давнее пожелание полюбить будущего супруга! Но теперь он мертв, и рок свел нас вновь. И вы для меня более ценны, чем захваченные богатства, ибо я с вами в то время, когда вся команда шарит в каютах и трюмах «Морского орла». По- этому…
Он стал бесцеремонно срывать с пленницы платье. Та отчаянно вырывалась.
— Негодяй! Кровь моего мужа еще не высохла на твоей шпаге!
Но сопротивление беспомощной жертвы только раззадорило его, вызывая то ли бешенство, то ли экстаз.
— Для тебя у меня есть другая шпага! — засмеялся он, разрезая ее платье кинжалом, тем же самым, которым делал это много лет назад.
Абигайл плакала и сопротивлялась, но силы были неравны, и вскоре на ней остался лишь один нательный крестик. Едва сдерживая порывы вожделения, Френсис наслаждался созерцанием наготы бьющейся в его руках пленницы. Так кот играет с мышью, перед тем как насытиться ею. И пират вскоре набросился на свою жертву…
Его забавы продолжались долго, в перерывах он пил ром и пытался силой напоить Абигайл, но та сжимала зубы, и огненный напиток стекал по ее подбородку на небольшую белую грудь, испачканную кровью Дрейка, сочившейся из поверхностных ран. Наконец утомленный Дракон ослабил свою железную хватку и незаметно впал в дрему. Но тут же вынырнул из нее, как будто услышал колокол тревоги. И вовремя: обнаженная Абигайл с искаженным лицом занесла над ним обоюдоострый толедский кинжал! Он едва успел подставить руку и отразить удар. Абигайл отскочила назад, выставив перед собой оказавшийся бесполезным клинок.
— Ты что?! — в ярости рявкнул он. — За это я отдам тебя матросам!
Женщина улыбнулась страшной улыбкой.
— И ты, и твои матросы скоро окажетесь в геенне огненной! Вас не выпустят в Европу с сокровищами Испании! Будете болтаться в петлях!
Дрейк расхохотался.
— Откуда и кто узнает, что мы захватили ваш груз?
— Если «Морской орел» не зайдет в Манагуа, то на выходе из пролива вас встретит наша эскадра!
— Но тебе от этого легче не будет! — он вскочил.
— Я знаю…
Она развернула кинжал острием к себе и вонзила под левую грудь, испачканную чужой кровью и облитую ямайским ромом. Обмякшее тело рухнуло на замызганный пол каюты, дернулось несколько раз и застыло.
— Проклятье! — Дрейк вскочил.
Такого оборота он не ожидал. Оделся, выпил рома, с силой провел рукой по лицу, будто стирая отразившиеся на нем страсти… Потом взял тело непокоренной пленницы на руки, вынес на балкон и сбросил в белую кильватерную струю.
Почти сразу послышался стук в дверь каюты. Это был Честняга Томас.
— Капитан, такой добычи у нас еще не было! Там столько золота, серебра, драгоценных камней…
Томас с удивлением осматривал опустевшую каюту и явно хотел что-то спросить, но сдерживал опасное любопытство.
Дрейк махнул рукой.
— Перегружайте все. Да составь подробную опись! И пусть Мореход соберет команды, которые мы поставим на испанские посудины…
К вечеру погрузка закончилась. Под тяжестью богатства «Золотая лань» изрядно осела.
— Пора домой! — подвел итог Дрейк.
Увеличившаяся на три захваченных корабля эскадра направилась в обратный путь.
* * *
Богатство портит людей, даже джентльменов. Тем более если это джентльмены удачи. В одну из ночей захваченные испанские шхуны бесследно исчезли — очевидно, высаженные на них команды решили самостоятельно распорядиться добычей. Искать их в океане не стали — легче найти иголку в стоге сена, к тому же тяжело груженные суда эскадры потеряли скорость хода. Да и набитые ценностями трюмы не располагают к поискам и погоням — голодный волк гораздо резвее сытого. Но безнаказанность дает дурной пример — через несколько дней так же бесследно растворился в ночи «Тайфун».
Дрейк был в ярости и изрыгал проклятья, обещая повесить на реях всех отступников. Капитаном «Девятого вала» он поставил Джима Морехода, «Морского орла» поручил постепенно оправляющемуся от раны Бобу Акуле. Этим людям можно было доверять, хотя несметное богатство способно вскружить голову любому.
Эскадра из трех судов шла медленно: сказывался перегруз, к тому же в спешке починенный такелаж «Морского орла» вынуждал избегать больших нагрузок. Только через месяц они приблизились к Магелланову проливу, через который предстояло пройти в Атлантический океан.
И тут Дрейк вспомнил о предостережении Абигайл: испанцам действительно легко перекрыть выход из узкого пролива и сжечь его потерявшую маневренность эскадру на входе в Атлантику!
Он положил «Золотую лань» в дрейф и собрал совет капитанов. Джим Мореход и Боб Акула прибыли на парусных вельботах, причем Акула уже довольно бодро вскарабкался по веревочному трапу. Кроме капитанов на совещании присутствовали их помощники и штурманы всех трех кораблей.
Дрейк высказал свои опасения, сославшись на полученную от пленного испанского офицера информацию о контрольном заходе в Манагуа. И хотя присутствующие понимали, от кого он на самом деле получил эти сведения, уточнять ничего не стали. Всех волновало другое.
— Как они известят свою эскадру? — озабоченно спросил Хендрикс — помощник Джима Морехода на «Девятом вале». И когда успеют ее собрать?
— Очень просто — пошлют курьеров из Манагуа, — мрачно сказал Акула. — Мы шли больше месяца, а всадники пересекут континент за несколько недель! Так что если все так, как узнал Дракон, то нас уже поджидают на выходе из пролива!
— И что делать? — снова спросил Хендрикс.
Ответом стало молчание. Все знали, что Магелланов пролив является не только ближайшей, но и реально единственной дорогой домой. Это самый короткий и известный путь через Атлантический океан в Европу. Если обходить Американский континент с Севера или идти в Англию через Тихий океан кругосветкой, то придется затратить больше года, а то и несколько лет. Этого не выдержат ни усталые матросы, ни изрядно потрепанные за долгое путешествие корабли. К тому же драгоценности, которыми набиты трюмы, не заменят запасов провианта и воды…
Стало темно, и шустрый юнга зажег свечи. Бликующий свет выхватывал из мрака лица участников совещания, которые из-за игры теней напоминали черепа с «Веселого Роджера»[10]. Четверо сосредоточенно курили трубки, трое советовались с ромом, то и дело прикладываясь к стаканам, Хендрикс нервно бросал кости, надеясь на подсказку судьбы, Дрейк в тех же целях поглядывал на перстень Но судьба никаких знаков не подавала.
— Выбирать не из чего! — наконец нарушил молчание Боб Акула. — Пойдем через Магелланов пролив. Если придется драться — нам не впервой!
— Да, это единственный путь! — кивнул Джим Мореход.
С ними мрачно согласились и остальные. Все понимали, что хотя этот путь единственный, но далеко не лучший. И Френсис Дрейк понимал это наиболее отчетливо. Но другого выхода не было. Поэтому проголосовали единогласно.
— Тогда все по своим местам! — скомандовал Дрейк. Капитаны поднялись и направились к выходу из кают-компании. В это время снаружи раздался шум и какие-то выкрики. На палубе толпились взволнованные матросы, задрав головы и тыча пальцами вверх: на верхушках мачт, на концах рей, на бушприте и стеньгах — всюду ярко горели огни святого Эльма.
— Дурное предзнаменование! Быть беде! — тревожно выкрикивали моряки.
— Однажды, после вот такой иллюминации, мы встретились с Летучим голландцем и едва спаслись, — возбужденно рассказывал одноногий бородач, а собравшиеся вокруг сотоварищи слушали открыв рты. Вообще, люди верят в дурные вести охотней, чем в хорошие, особенно когда обстановка этому способствует. А когда атмосфера накалится, достаточно одной искры, чтобы вспыхнул бунт…
— Хватит болтать ерунду! — громовым голосом пресек панические разговоры Дрейк. — Наоборот, это знак удачи! Расходитесь!
Вряд ли он сумел переубедить команду, но люди предпочли не спорить и нехотя стали расходиться.
— Вообще странно, — сказал Хендрикс. — Обычно такое бывает перед бурей, а сейчас ею и не пахнет! И знаете… Мне как-то не по себе…
Акула кивнул.
— Я тоже кожей чую опасность… Как будто нас окружает отборная испанская эскадра…
— Это оттого, что на «Лани» много золота! — не очень естественно усмехнулся Мореход. — На наших судах нет этих огней…
Действительно, на силуэтах дрейфующих неподалеку кораблей горели только обычные навигационные фонари.
— На «Морском орле» и «Девятом вале» не меньше золота, — заметил Дрейк, кривя губы в показной улыбке.
— Пусть так! Но мы вернемся к себе и спокойно выпьем рома, а ты должен успокаивать команду! — сказал Боб Акула и по веревочной лестнице начал спускаться на свой вельбот.
Проводив гостей, Френсис направился к себе. Палуба почти опустела, но огни на рангоуте продолжали гореть ярче, чем звезды на небе. И в воздухе было разлито тревожное напряжение. Владевшее им беспокойство усилилось, даже волосы на голове зашевелились… Дрейк был уверен, что его бесстрашные товарищи тоже были выбиты из колеи, хотя и пытались скрыть неприятные чувства за напускной бравадой!
Через несколько минут Френсис открыл дверь своей каюты. И сразу почувствовал, что в ней кто-то есть! Во-первых, здесь стоял тяжелый запах, обычный в трюмах для скота или невольников, но невозможный в апартаментах капитана богатого галеона. Во-вторых, обостренная годами авантюрных приключений интуиция подсказывала присутствие чужого человека или… Или не человека… В общем, подсказывала присутствие другого живого (или неживого?) существа… У него пробежали мурашки по спине, рука выхватила кинжал, который всегда висел на поясе.
— Это лишнее! — раздался со стороны стола знакомый голос, и кинжал со звоном упал на пол, будто кто-то выбил его из рук. И тут же по углам каюты вспыхнули призрачные огни, точно такие, как на мачтах. Их мерцающий свет развеял тьму, и Френсис увидел, что за капитанским столом, в капитанском кресле сидит… Не может быть! За столом сидел он сам, в своей одежде, своей шляпе и даже со своей трубкой во рту! И он улыбался сам себе, причем улыбкой явного превосходства.
Дрейк начал что-то понимать.
— Это ты? — хрипло спросил он.
— Глупый вопрос. Конечно я! Кто бы еще это мог быть?
Двойник с грохотом отодвинул кресло и положил ноги на стол. Если верхняя часть его тела была облачена в камзол, рубаху и шляпу, то ноги были голые и явно не человеческие: волосатые, с вывернутыми назад суставами, они заканчивались копытами.
Дрейк прокашлялся.
— Зачем ты пришел? — Хрипотца в голосе не прошла. — Хочешь забрать мою душу?
— Ты сам отдал свою душу. И уже давно, — зловеще рассмеялся двойник. У него было злое и надменное выражение лица, холодный пронизывающий взгляд. — Думаешь, если не соблюдены формальности и не подписан договор, то душа все еще при тебе? Как те дурни, которые расписались кровью петуха и решили, что перехитрили меня? Нет, договоры тут ни при чем! Вы сами губите свою душу и сами отдаете ее мне без всякого договора!
Двойник вытянул черные руки вперед. Вначале Дрейк подумал, что он в перчатках, но тут же понял, что это грубая черная кожа с шерстью и звериными когтями на пальцах.
— Когда ты приказал задушить и утопить Брунильду, ты думал, что душа осталась чистой и незамутненной? Когда ты вырезал экипажи и топил корабли, когда выжигал и грабил испанские селения, ты надеялся, что с твоей душой все в порядке? А когда жестоко расправился с Абигайл и ее мужем, то считал, что душа останется при тебе?
На черной ладони ворохнулся неизвестно откуда взявшийся белый голубь, огляделся, пытаясь вырваться, в панике забил крыльями, но вторая черная рука прихлопнула птицу сверху, а страшные когти вмиг обезглавили ее.
— Держи, вот твоя душа! — двойник швырнул оторванную голубиную головку в Дрейка, капли теплой крови забрызгали ему лицо и рубашку.
Пират стоял как парализованный, не в силах пошевелиться или отвести взгляд от ужасного гостя. А тот в несколько движений ощипал еще бьющуюся тушку, выставил вперед ладонь, на которой вспыхнуло красно-желтое пламя, и стал жарить свою добычу. Запахло серой и горелым мясом.
— Ты продал ее тогда, когда надел мой перстень! — продолжил страшный визитер. — И когда понял, что он такое! Когда почувствовал, как меняешься ты сам, и когда принял эти изменения! Где сейчас тот мальчик из Кроундейла? Где его желание повторить честную жизнь своих предков и сделать мир лучше и добрее, чем он есть? Он умер! Его место занял Дракон — необузданно жестокий, фантастично жадный и непомерно честолюбивый… Да еще эта непомерная и глупая заносчивость! Неужели ты и взаправду решил, что самостоятельно захватишь «Морского орла»? Глупец! Ты победил отличного фехтовальщика Шотландца и принял это как должное! В бою со славным кабальеро де Гальвесом я на миг оставил тебя без поддержки, и что же? Ты оказался беспомощным, как спившийся бродяга из ист-эндских трущоб! Если бы не твой помощник, тебя бы уже съели рыбы! А как ты думаешь — кто подослал его в нужную минуту?
Дрейк стоял молча, опустив голову. Его двойник был прав.
— Надеюсь, ты все понял и смиришь свою гордыню…
— Помню, про необходимость обуздывать гордыню мне всегда говорил отец, — усмехнулся Дрейк. — Ты ведь знаешь, кем он был и чьи наказы выполнял? Получается, что вы с ним ратуете за одно и то же! Как такое может быть?
Двойник улыбнулся, но так, что губы разошлись до ушей, открывая зубастую пасть и острые, как у волка, клыки. Впрочем, это длилось мгновенье — улыбка тут же стала обычной.
— Да, иногда мы с моим антиподом говорим похожие слова, но по разным причинам…
— Но зачем все это? — с трудом выговорил Дрейк. — Зачем ты сделал из меня того, кем я стал? Зачем это тебе?
Голубь наполовину обгорел, двойник понюхал его и недовольно покачал головой.
— Пережарил! Кому бы отдать… Ты не хочешь?
— Нет.
— Странно. Ну ладно…
Пламя на ладони погасло. Краем глаза Дрейк заметил какое-то движение слева. Он резко повернулся. Крысы! Огромные и жирные трюмные крысы вылезали из норы в углу и, как поступающая в пробоину вода, растекались по каюте. Весь пол был покрыт серой колышущейся массой, только небольшой круг вокруг его ног, будто заколдованный, оставался незанятым. Зато крысы залезли на стол, на плечи его двойника, они принюхивались, вытягивали шеи и будто улыбались, показывая мелкие острые зубы.
— Знаешь, за сколько времени эти твари обглодают тебя до костей? — двойник улыбнулся ужасной улыбкой. Круг вокруг ног Дрейка стал сужаться. — За десять минут. Да-да, я проверял! — двойник швырнул обгоревшего голубя на пол. — Жрите!
Отталкивая друг друга, крысы сомкнулись вокруг неожиданной добычи, раздался хруст, писк, возня…
— Но не бойся — сегодня я не скормлю тебя им. Хотя сам я слегка проголодался! — Резким движением двойник поймал сразу двух серых тварей, сидевших у него на плече, и забросил себе в рот. Дрейка передернуло от отвращения. — Никому не рассказывай, чтобы не портить впечатление обо мне. — Похоже, он проглотил крыс не разжевывая. — Обычно, когда меня видят, я ем изысканные блюда и пью отменнейшие вина. Хотя мне все равно, чем утолять голод…
— Зачем это тебе? — повторил свой вопрос Дрейк.
— Зачем алхимик ищет философский камень? Зачем врач тайно вскрывает трупы? Зачем зоолог скрещивает коня с ослицей? Это опыты естествоиспытателей. Мной тоже руководит любопытство, и я произвожу эксперимент над животными, которые зовутся людьми и которых создал мой извечный антипод. Он, кстати, в отличие от меня, не считает вас животными. Хотя мои опыты показывают, что скорее прав я, а не он… Ни один из вас не отказался от перстня, более того, все с большими или меньшими колебаниями, но выполняли мои условия. И не ради великой цели, не ради прогресса, не ради возвышенных идей! Нет, ради жратвы, вина, золота, власти, женщин! Словом, вы ничем не лучше этих тварей!
Страшный черный палец со звериным когтем указал на пол.
От голубя уже не осталось даже костей, и крысы переключили внимание на Дрейка — запретный круг перестал существовать, они уже терлись о его ботфорты, пытались вскарабкаться по грубой коже, соскальзывали, пищали и кусали за голенища.
— Убирайтесь! — по-медвежьи рыкнул двойник и махнул рукой, будто смахивал крошки со стола. — Все за борт!
С недовольным писком серая масса рванулась в дверь, и через минуту в каюте не осталось ни одной крысы. Дрейк перевел дух.
— И все-таки, зачем ты испортил того мальчика из Кроундейла?
— Отнюдь не я, — жутким звериным голосом сказал двойник. — Я только предложил дорогу, а ты сам ее выбрал. И уже не свернешь с нее. По колено в крови, ты придешь к богатству, чинам и почестям, навеки войдешь в историю. Я делаю это не для тебя — ты безразличен мне так же, как камешек с пляжа Тортуги безразличен вечности. Я хочу, чтобы весь ваш род понял: не только благочестие и добрые дела приносят славу и признание. Зло и жестокость востребованы не меньше, если не больше, и они тоже могут прославить их носителя в веках!
Дрейк стоял молча. Ему казалось, что все происходит во сне.
— Тебе нельзя идти в Магелланов пролив: в Атлантике вас ждет испанская эскадра, — двойник снова заговорил голосом Френсиса.
— Но другого пути для меня нет, — возразил капитан.
— Есть. Пройди на юг и обогни Огненную Землю, — двойник наклонился вперед, впившись в Дрейка взглядом пришедшей за ним Смерти.
Френсис сделал шаг назад.
— Огненная Земля смыкается со Страной Ледяной Мглы… В ней живут людоеды в перьях и с крыльями, — возразил он.
— Глупости! Во-первых, это никакие не людоеды, а необычные птицы, они называются пингвины. А во-вторых, между Огненной Землей и Страной Льда есть широкий пролив, который впоследствии назовут твоим именем!
Двойник протянул руку в сторону, и в ней, откуда ни возьмись, прямо из воздуха, появился свиток тонкой кожи.
— Это тебе пригодится. — Незваный гость раскатал свиток по столу, и Дрейк заметил, что у него теперь самые обычные человеческие руки. — Посмотри сюда!
Френсис на негнущихся ногах шагнул к столу, наклонился и посмотрел на тщательно вырисованную карту, особенно в то место, куда указывал самый обычный человеческий палец с самым обычным человеческим, ровно подстриженным ногтем.
— Вот пролив, через который ты легко выйдешь в Атлантику!
Карта была составлена очень подробно, явно сведущим в картографии специалистом. Но чтобы нанести эти четкие линии, надо было побывать там, где ни один человек никогда не был!
— Откуда эта карта? — не выдержал Дрейк: любопытство пересилило страх.
— Неважно, — отозвался двойник. — Бери, теперь она твоя!
— Но кто мог нарисовать ее? Ведь нога человека не ступала по Стране Ледяной Мглы!
— Человека — возможно. Но мне приходилось там бывать. И не один раз! Впрочем, пора заканчивать нашу ученую беседу!
Визитер встал. Оказалось, что теперь он одет полностью — и штаны, и ботфорты были на месте.
— А что будет со мной? — вырвалось у Дрейка.
— Опять глупый вопрос! Ну да ладно…
Двойник щелкнул пальцами — огни погасли. Судя по свалившейся темноте — не только в каюте, но и на всем судне. Но вдруг впереди слабым светом забрезжило что-то вроде окошка. В нем обрюзгший и поседевший, зато облаченный в адмиральский мундир Дрейк сидел за своим столом и что-то писал, обмакивая гусиное перо в затейливую бронзовую чернильницу. Рядом в почтительном полупоклоне замер вышколенный слуга из тех, что всегда прислуживают в родовых замках знатных особ, но никогда не встречаются на кораблях, особенно на пиратских. Дрейк подписал бумагу, слуга присыпал подпись песком и быстро унес документ. А постаревший адмирал Дрейк из светового окошка посмотрел на стоящего у стола еще молодого капитана Дрейка, подмигнул ему и, криво улыбнувшись, сказал:
— Но за все приходится платить!
Окошко погасло. В каюте больше никого не было. Дрейк на ощупь нашел в шкафчике графин с ромом и жадно прильнул к горлышку.
Он проснулся в полной темноте, еще не понимая, пробуждение это или страшный сон продолжается. Ему было тяжело дышать, он задыхался. Кое-как выполз из койки и отдернул плотную штору иллюминатора. Каюту наполнил золотистый свет выползавшего из моря ослепительно-белого солнца.
«Неужели это все мне примерещилось?» — с облегчением подумал Френсис. Но тут же облегчение словно смыло холодной водой: на столе лежала раскатанная карта из тонкой кожи!
В дверь постучали. Это был Честняга Томас. В последнее время они сблизились, и счетовод стал советником и помощником капитана.
— Удивительное дело, кэп! Вчера вдруг одновременно погасли все эти огни! — возбужденно доложил он.
— Так и должно быть, — пожал плечами Дракон. — Они всегда пропадают так же неожиданно, как и появились!
— И все крысы исчезли! — выпалил Томас. — Все-все! На корабле нет ни одной крысы! Ребята говорят, что видели, как они прыгали за борт! Но ведь мы не тонем…
— И такое бывает, — сказал капитан как можно равнодушней. — Думаю, мы не станем о них жалеть…
— Конечно, нет, но…
— Ты лучше собери всех на совет, как вчера! — перебил его Дрейк. — Я нашел старую карту, которую по случаю купил лет десять назад у старого моряка на Ямайке. И оказывается, у нас есть еще один путь домой. Причем нравится он мне гораздо больше!
— Старую карту? — с сомнением переспросил Честняга Томас. Но тут же тряхнул головой. — Сейчас соберу, кэп! — кивнул он.
Глава 3 Все получают по заслугам
Англия, сентябрь 1580 года
Конечно, летом дворец Берли-хаус выглядит более живописно: аккуратные зеленые лужайки, идеально ровные аллеи шарообразно подстриженных лип, взращенные искусными садовниками разноцветные клумбы, упруго бьющие фонтаны и пруды, зарыбленные зеркальными карпами, — все это сказочное великолепие веселит сердце и улучшает настроение. Сейчас порывистый ветер срывает остатки пожелтевшей листвы, голые ветки деревьев напоминают руки с судорожно сжатыми пальцами, розарии осыпались, опустели пруды… Осень. Какое настроение может она навевать, кроме осеннего?
День клонился к вечеру, и Ее Величество уже два часа, сидя в каминном зале у большого окна, вышивала золотыми нитями добрые пожелания на тонких разноцветных шарфиках — знаменитых королевских подарках, вполуха слушая чтение самой артистичной из своих придворных дам. Еще две дамы сидели неподалеку и также занимались рукоделием, причем тем же самым, что было совершенно необычно.
Дверь в соседнюю залу была открыта, и оттуда доносились звуки лютни. Со стороны вся эта умиротворяющая сцена могла показаться настоящей идиллией. Но сама Елизавета была далеко не так спокойна. Ковыряя иглой тонкую ткань и прислушиваясь к монотонным звукам, она никак не могла отделаться от какого-то сосуще-тревожного чувства. Источник ее тревог, и она это понимала, происходил от постоянных раздумий о делах государственных. Ее беспокоило многое: и то, что парламент в любой момент может выйти из повиновения и вступить в противостояние с властью короны, и что рыцарство стало торговать шерстью, родниться с богатыми городскими фамилиями — на глазах нарождался новый класс, от которого неизвестно чего ожидать, и вялотекущая необъявленная война с Испанией, которая неизбежно перерастет в открытое военное противостояние… Беспокоили и сплетни о ее недавнем заболевании — «водянке», которое, как шептались в коридорах королевского дворца и в замках вассалов, окончилось благополучными родами…
Королева тяжело вздохнула. Знаменитые королевские подарки предназначались наиболее влиятельным пэрам Палаты лордов, причем в таком количестве, что она уже не успевала вышивать их собственными руками. Но вряд ли можно рассчитывать, что эти знаки королевской благосклонности сыграют серьезную роль… А уж отношения с Испанией тем более не наладят даже ее собственноручные поделки… Могущество короны — в ее финансовом фундаменте, а казна государства переживает далеко не лучшие времена!
Высокие двустворчатые двери раскрылись.
— Ваше Величество, к вам лорд Беркли с сопровождающими! — объявил появившийся на пороге заведующий службой протокола сэр Мортимер.
— С какими сопровождающими? — вскинулась королева. В последнее время ее стали пугать незапланированные визиты, которые почти всегда означали дурные вести.
— С лордом Персилом и сэром Ланкастером, — пояснил Мортимер.
«Предчувствия оправдываются, — подумала Елизавета. — Казначей сообщит о бедственном состоянии казны, морской министр попросит денег на новые корабли, а государственный секретарь подтвердит и необходимость усиления флота, и скудость финансового запаса, предоставив мне разрешать эту коллизию…»
Но в отличие от нежелательных посетителей не пустить в покои дурные вести нельзя: дворцовая охрана тут бессильна — они все равно просочатся внутрь или будут вредоносно действовать, даже не достигнув королевских ушей.
Елизавета отложила шитье и сделала знак придворным дамам. Те положили разноцветные шарфики в общую кучу и поспешно вышли туда, где играла лютня. Чтица закрыла книгу и последовала за ними.
— Пусть зайдут, — устало сказала Елизавета и повернулась к окну, разглядывая осенний парк, который в сгущающихся сумерках выглядел еще более тоскливо. Сзади послышались осторожные шаги верноподданных, но королева не повернулась.
— Ваше Величество, — раздался за спиной голос казначея. — Ваше Величество, он прибыл… Капитан Дрейк, которого мы три года назад отправляли к берегам Вест-Индии, вернулся!
— Это столь значимое событие, что вы решили сообщить мне, не дожидаясь утреннего доклада? — раздраженно бросила повелительница Англии, вглядываясь в унылую расплывчатую хмарь за окном.
— Да, Ваше Величество! Дрейк превзошел все наши ожидания! Его возвращение кардинально меняет финансовое положение Англии…
— Неужели?! — королева повернулась. Подданные склонились в поклоне. А лорд Беркли взволнованно продолжил свою речь:
— Да, Ваше Величество! Он привез золота и серебра на баснословную сумму…
— И сколь велика она? — заинтересованно перебила Елизавета.
— Почти шестьсот тысяч фунтов стерлингов! Если Ваше Величество помнит, то годовой доход нашей казны составляет всего 300 тысяч фунтов. Я уже не говорю о богатствах иного рода, которые нашли место в трюмах его кораблей…
— К тому же, Ваше Величество, Дрейк захватил ряд испанских территорий, установив над ними вашу власть, — вмешался госсекретарь Уильям Персил.
— А еще Френсис Дрейк сделал великое географическое открытие: пролив, который назовут его именем во славу Британской короны! — поспешил внести свою лепту в победоносный доклад морской министр.
Королева молча поднялась, оглядела сэра Ланкастера просветленными глазами, потом перевела взгляд на госсекретаря и казначея. Они явно ожидали похвал и наград.
— Спасибо за благие вести и за славные дела, мои верные подданные. Вы заслужили благодарность.
Она повязала на шею каждому разноцветный шарфик с добрым пожеланием от королевы.
— Но главный герой в этой истории — наш славный капитан. — Она сделала многозначительную паузу. — На днях я лично посещу Дрейка на его корабле! Сэр Ланкастер, сделайте соответствующие распоряжения, чтобы подготовить мой визит…
Вельможи раскланялись и, пятясь, как положено по этикету, вышли. Королева вновь повернулась к окну. И хотя тьма за ним окончательно сгустилась, она увидела летние аллеи, пышные розарии, работающие фонтаны — словом, обычную сказочную дворцовую красоту.
* * *
Никогда еще «Золотую лань» так не мыли, не чистили и не драили. На пиратских судах вообще не придавали особого значения чистоте. Да и во всем английском флоте вряд ли когда-то видели такую уборку. Впрочем, вряд ли какое-либо судно лично посещала королева.
Когда Елизавета I со свитой поднялась на борт, капитан Дрейк отдал непривычную здесь команду «Смирно!» и вдоль застывшего строя прошел навстречу. Он был, как всегда, элегантно одет, причем одежда была новой, пошитой лучшими портными Лондона за несколько дней и ночей. На камзоле, впервые за много лет, были пришиты все золотые пуговицы — он хотел отделаться от воспоминаний о прошлом. На шее аккуратно повязан зеленый шарф с золотой вышивкой.
Подойдя к королеве, он старательно раскланялся — несколько дней его учил этому адъютант сэра Ланкастера. Но потом, выпрямившись, Дрейк вскинул ко лбу вывернутую ладонь, будто его что-то ослепило. Этому его никто не учил, и морской министр вопросительно взглянул на адъютанта, но тот только непонимающе пожал плечами.
— Что с вами, капитан? — удивилась Елизавета.
— Ваше Величество, я ослеплен вашим сиянием! Ни один человек не может смотреть на солнце!
— Да вы вовсе не огрубевший в плаваньях моряк! Вы учтивей многих кавалеров моего двора! — королева благосклонно улыбнулась.
Сэр Ланкастер наклонился к уху Уильяма Персила.
— Красивый жест! — прошептал он. — Надо ввести его в корабельные уставы как приветствие командиров и высокопоставленных особ!
— Пожалуй, — кивнул госсекретарь. — Раз Ее Величество это одобрило…
Королева прошла вдоль строя, внимательно осматривая застывших моряков — подтянутых, чистых, выбритых, в отглаженной форменной одежде. Дрейк отставал на шаг, свита шла следом.
— Вот каковы мои верные подданные, настоящие герои морей! — не оборачиваясь, сказала она. — Я не думала, что они так выглядят… Бравые, со строевой выправкой!
Сэр Ланкастер довольно улыбался. Это была его идея — отправить команду «Золотой лани» на берег, заменив ее лучшими матросами кораблей королевского флота.
Но те, кто стоял в конце строя, отличались от остальных, и не в лучшую сторону. Королева поморщилась и, круто развернувшись, пошла обратно. Морской министр нахмурился. Дрейк самовольно оставил десяток человек из своего экипажа: Честнягу Тома, Боба Акулу, Хендрикса, Джима Морехода и еще нескольких моряков, которые выглядели гораздо пристойней большинства обитателей «Золотой лани». Они вымылись, побрились, приоделись, но все равно проигрывали подставным матросам.
Когда Елизавета со свитой вернулась на бак[11], она произнесла короткую речь, поблагодарив капитана Дрейка и его команду за мужество и верное служение престолу, а потом наступил момент главной церемонии.
Коленопреклоненный Дрейк стоял у ног своей повелительницы с опущенной головой. Их окружали министры и представители самых достойных и высокопоставленных мужей королевства. В руке Ее Величества был длинный меч, она коснулась его концом правого, а затем и левого плеча капитана и торжественно произнесла:
— Френсис Дрейк, посвящаю тебя в рыцари! Будь достоин этой чести! Храни верность престолу и Англии!
Потом вернула меч морскому министру, тот вложил его в ножны, после чего надел пояс с почетным оружием на новоявленного рыцаря. Процедура закончилась. Королева направилась к трапу, за ней потянулась свита. Сэр Ланкастер замешкался, с ним остался и адъютант, однако тот держался в стороне, чтобы не слышать то, что не предназначалось его ушам.
— Поздравляю, сэр Дрейк! — морской министр обратился к неофиту рыцарства как к равному. — Королеве понравилось ваше приветствие, и я думаю сделать его обязательным на флоте…
— Не ожидал, господин министр! — Дрейк едва заметно улыбнулся. Сэр Ланкастер ободряюще похлопал его по плечу.
— Вы смелы, вы хороший мореход, вам благоволит королева, на вашей стороне удача, и у вас большое будущее. Думаю, что и звание адмирала не за горами. Но успех на службе короне немыслим без неукоснительной дисциплины и выполнения приказов!
Тон морского министра стал жестче.
— Знаю, вы настаивали, чтобы Ее Величество встречала настоящая команда, моему посланнику с трудом удалось убедить вас согласиться на мое предложение…
— Но ведь настоящие герои именно мои люди! — перебил Дрейк. — Они заслужили честь лицезреть королеву и выслушать ее благодарность!
Сэр Ланкастер поднял руку.
— Но вы представляете, какое впечатление могли произвести на королеву расхристанные головорезы, у многих из которых имеются отталкивающие увечья и которые не умеют вести себя в приличном обществе, я уже не говорю об обществе королевы Англии и ее двора!
Дрейк хотел было сказать, что он и сам такой же головорез, но смолчал. Сэр Ланкастер был прав: экипаж «Золотой лани» вряд ли мог порадовать взгляд монаршей особы. Да и ссориться с министром ему было не с руки, хотя еще несколько лет назад он бы даже не задумался над этим и сказал все, что хотел.
— И все же вы не выполнили мой приказ и оставили в строю своих моряков! — продолжил сэр Ланкастер.
— Но это самые близкие мне люди! — возразил наконец Дрейк. — Бобу Акуле я обязан жизнью, он заботится обо мне и состоит при мне, как этот парень при вас…
Дрейк кивнул на адъютанта морского министра.
— К тому же, кроме одежды, они мало чем отличаются от ваших людей…
— Разве? — губы министра скривились в презрительной улыбке. — Они отличаются очень сильно! Посмотри!
Дрейк обернулся. Подставные матросы, как каменные статуи, по-прежнему недвижно держали строй, а Акула, Хендрикс и остальные отошли в сторону и, стоя кружком в вольных позах, раскуривали трубки.
— Но ведь королева ушла, — попытался оправдать их Дрейк. — И почти все ушли…
Сэр Ланкастер покачал головой.
— Это не имеет значения! Пока не отдана новая команда, матросы должны выполнять предыдущую — стоять по стойке «смирно»! Вам ясна разница?!
Дрейк кивнул. Министр опять был прав!
— У вас начинается другая жизнь, сэр Дрейк, — снова смягчил тон министр. — Другое окружение, другие отношения, другие правила… И вам надо будет отделаться от тех, кто тянет вас в прошлое, как ядро увлекает покойника ко дну! Заботиться о вас должен респектабельный и вышколенный слуга, под вашим командованием должны находиться матросы регулярного королевского флота. Тем более что этого… Акулу, да и не его одного, разыскивает полиция, чтобы повесить!
Он сделал паузу.
— Запомните хорошо, что я сказал. Иначе вы не сможете двигаться дальше так же успешно, как и до сих пор. Честь имею!
— Честь имею! — ответил Дрейк, вскинув руку ко лбу понравившимся королеве и министру жестом.
— Да, ваше «отдание чести» хорошо смотрится! — улыбнулся сэр Ланкастер. — Можно считать, что первое официальное приветствие на британском флоте состоялось!
Морской министр развернулся и направился к трапу. В нескольких шагах за ним следовал вышколенный адъютант — молчаливый, с непроницаемым лицом и крепко сжатыми губами. Проходя мимо Дрейка, адъютант внезапно обернулся, и капитан отшатнулся — вместо лица у него была волосатая звериная морда!
— За все надо платить! — прорычал оборотень, высунув неестественно длинный и красный язык. Потом отвернулся и догнал своего хозяина. Когда они спускались по трапу, Дрейк видел обычный суровый профиль вышколенного молодого служаки. Капитан с силой провел рукой по лицу, будто сгоняя сильное опьянение.
Гости сели в кареты и разъехались. Дрейк отдал команду, каменные статуи ожили, строй распался. Офицеры увели вышколенных матросов восвояси. Скоро вернется настоящая команда. Все будут пьяны и явно не украсят вычищенную до блеска палубу «Золотой лани». Дрейк поймал себя на том, что эта мысль впервые пришла ему в голову. Неужели визит королевы и рыцарское звание что-то изменили в нем самом? Или дело в словах морского министра? А может, в секундном превращении его адъютанта? ОН является не просто так — подает знак… Но какой?
— Что ты такой хмурый! — Акула хлопнул Дрейка по плечу. За ним улыбались Хендрикс и Мореход. — Все прошло как по нотам! Теперь ты важная персона, нужно отпраздновать такое событие!
— Вы ничего не видели? — спросил капитан.
— Как не видели? — удивился Акула и обернулся за поддержкой к товарищам. — Королеву видели, важных дядек видели, как тебя мечом по плечам хлопали — тоже видели!
Хендрикс и Мореход засмеялись: мол, вот кэп чудит! От всех троих разило ромом. Дрейк скривился, но ничего не сказал: команда пиратского судна не поймет, почему в столь торжественный день нельзя выпить рому! Как не поймет многих других вещей, без понимания которых «Золотая лань» навсегда останется пиратским кораблем, сколько его ни драй и ни чисть…
— Тебе не мешает эта штука? — сквозь смех спросил Акула, указывая на символ рыцарства.
Он не понимал, что вопрос неприличный, неуважительный и неуместный. Хотя меч действительно был тяжеловат и при ходьбе бил по ногам.
— Нет! — отрезал Дрейк и отправился к себе в каюту. Он понял, что морской министр был прав и в этом: команду надо менять!
Ближайшие помощники недоуменно переглянулись и растерянно смотрели вслед своему капитану.
Карибское море близ Портобело,
январь 1596 года
Адмирал открыл глаза в своей каюте, которая десятки лет была его домом. Солнце пробивалось сквозь узкую щель в плотной шторе окна. Голова высоко лежала на подушках, руки сложены на груди, как у покойника. Безымянный палец левой венчал тот самый перстень из клада крестоносцев. Ему так и не удалось узнать, лев ли держит в своей пасти темно-пурпурный, мелкой огранки камень или какое-то чудовище — помесь человека и льва… Что это за камень и что за металл, тоже было неизвестно. Десятки ювелиров разных стран, торговцы драгоценностями, знатоки антиквариата и даже алхимики — все лишь пожимали плечами и разводили руками: никто не мог определить происхождение и материалы уникальной вещицы, которая к тому же многих просто пугала.
Адмирал с трудом оторвал руку от груди и поднес к лицу. Камень был тусклым и безжизненным. А ведь всегда горел внутренним огнем, и именно этот огонь согревал душу владельца и вел его по темным лабиринтам извилистой пиратской жизни.
«Может, это оттого, что тут темно?» — этой мыслью он попытался обмануть и успокоить сам себя, хотя прекрасно знал, что в былые времена зловещий желто-красный огонь был хорошо виден даже в полной темноте… Однако судьба пресекла эту жалкую попытку самоуспокоения: солнечный луч упал прямо на камень, но он не испустил десятки разноцветных острых иголочек, как бриллиант, не заиграл красками, как александрит, не впитал безвозвратно в себя свет, как гранат, не подсветился изнутри, как рубин, он оставался все таким же — холодным и мертвым. И сэр Френсис Дрейк отчетливо понял: дни его жизни сочтены. А может быть, даже и часы.
В дверях спальни показалась голова Уантлока, слуги нового типа — из тех, которые десятилетиями служат в родовых дворянских усадьбах, богатых замках, дворцах, но которых никогда не видели на кораблях, тем более на пиратских. Как всегда, он был в наглаженном сюртуке, начищенных штиблетах, с аккуратным пробором и неизменной доброжелательной улыбкой.
— Сэр Френсис, какая радость — вы проснулись, и я вижу, сон пошел вам на пользу. Хотите перекусить? Вас ждет свежий куриный бульон!
Адмирал только качнул головой.
Уантлок вновь нырнул за дверь, и вскоре каюту заполнила музыка. Дрейк не имел своего дома и большую часть жизни провел в море, а в последние годы полюбил и на корабле обставлять свой быт с завидной роскошью. Он ел на серебряной посуде, за его стулом стоял паж в белой униформе, а в соседней каюте, где когда-то жил Боб Акула, поселились музыканты. В стене даже проделали специальное окошко, чтобы беспрепятственно и невидимо услаждать слух хозяина.
Но на этот раз ни звуки лютни, ни пиликанье скрипки, ни щебетанье флейты не радовали адмирала. У него просто не было сил, чтобы приказать музыкантам прекратить эти бесконечные рулады. Он вновь перевел глаза на зашторенное окно. Но, видимо, солнце зашло за тучу, и его луч погас.
— Уантлок! — позвал Дрейк слабым голосом.
— Да, сэр! — моментально появился верный слуга.
— Подай мою шкатулку. И пусть эти болваны перестанут пиликать…
— Слушаюсь, сэр! — безупречный слуга исчез на минуту и тут же принес требуемое.
Дрейк открыл крышку большой черной шкатулки, полированной и богато инкрустированной перламутром, не глядя, запустил в нее руку. Здесь хранились наиболее редкие драгоценности из его многолетней пиратской добычи: украшенный крупными жемчужинами черепаховый гребень Клеопатры, тончайшей работы золотой браслет Нерона, усыпанный бриллиантами кинжал императора Тиверия… Он на ощупь перебирал не имеющие цены раритеты и наконец нашел то, что искал. Это оказался простой золотой медальон, не обладающий значительной ценностью и не имеющий отношения ни к мировой истории, ни к известнейшим именам знаменитых персон.
Слабые пальцы с трудом нащупали маленькую потайную кнопку и нажали ее. Крышка плавно открылась, и взгляду адмирала предстал тщательно выписанный миниатюрный портрет молодой дамы, белое лицо которой обрамляли черные, аккуратно уложенные волосы. Высокая шея тонула в пышном воротнике, взгляд темных глаз устремлен куда-то вдаль. Определить, насколько хороша дама, было довольно сложно: слишком уж мелкими были черты лица, оставалось удивляться только тому, как неизвестному художнику вообще удалось написать эту миниатюру. Наверное, пользовался специальными кисточками и увеличительным стеклом… Впрочем, память Дрейка дополняла несовершенство зрения, и он ясно видел прекрасное лицо Абигайл, чувствовал ее взгляд — то горячий и страстный, то жгучий и ненавидящий. Многие годы он пытался забыть ее и думал, что это удалось, но оказалось — нет: образ недолгой возлюбленной даже сейчас будоражил остывающую кровь… В его жизни было немало женщин, которых он покупал, захватывал в море или на суше, были две, которые стали его женами, но ни одна не оставила такой яркий и эмоциональный след, как эта гордая испанка…
Пальцы дрожали все сильнее, наконец Дрейк нехотя опустил медальон в шкатулку и извлек зеленый шарф из тонкого шелка, на котором золотом было вышито: «Пусть всегда хранит тебя и направляет удача». Лицо старого корсара озарила улыбка, и глаза, казалось, загорелись прежним огнем. Адмирал поднес шарф к лицу, показалось, что тонкая ткань еще хранит аромат прекрасных благовоний, которые поразили его много лет назад, когда он получил подарок из рук самой королевы! Наверное, это самая дорогая вещь в его ларце… Или нет? Все-таки да — самая дорогая, но после медальона этой вздорной девчонки…
— Уантлок! Одеваться!
Вышколенные слуги не вступают в пререкания и вообще противоречат хозяину, только заботясь о его благе. Уантлок был именно таким слугой. Но и ситуация была именно такая. Поэтому он вновь возразил, хотя и по-прежнему робко и почтительно:
— Сэр, вы еще так слабы…
— Я уже так слаб, что… — адмирал сделал акцент на втором слове, — что самое время собираться. Помоги мне подняться.
С помощью слуги адмирал сел на кровати и постарался унять головокружение.
— Понюхай, что ты почувствуешь? — он протянул шарф, и слуга с трепетом принял его и поднес к лицу.
— Это тот самый знаменитый королевский подарок? — спросил Уантлок, обнюхивая тонкий шелк. — Но он ничем не пахнет…
— А тонкий аромат духов?
— Увы, сэр, за столько лет они давно выветрились…
Дрейк вздохнул.
— Зато из памяти ничего не выветривается! Положи его в шкатулку и возьми ее себе…
Уантлок опешил.
— Но я не могу принять такой дар, сэр! Я не заслужил его…
— Заслужил. Ты много лет жил при мне и искренне заботился о своем хозяине…
— Но есть люди, которые издавна плавали с вами и помогли достигнуть вершины славы…
— Нет, Уантлок. Ты единственный, кто остался со мной. Больше мне некому оставить то, что я собирал всю жизнь… Да, и вот…
Дрейк снял с пальца перстень со львом и протянул слуге.
— Это тоже тебе!
Уантлок спрятал руки за спину и попятился.
— Нет, сэр, нет… Благодарю вас, но…
— Этот перстень изменит твою судьбу!
— Меня полностью устраивает моя судьба, сэр! Извините! — слуга был явно напуган.
— Видно, ты наслушался глупых сплетен, — губы адмирала тронула слабая улыбка. — Ты разбогатеешь, получишь дворянский титул, станешь лордом… Бери, я приказываю!
Слуга не может отказывать хозяину в просьбах. Особенно столь настойчивых. Уантлок дрожащей рукой взял перстень, быстро сунул в карман и вытер пальцы о сюртук. Но Дрейк этого не видел.
— Приготовь костюм, в котором королева Англии возводила меня в рыцарское достоинство, я его не надевал с той поры. Но сначала побриться!
Пока старый слуга скоблил адмиралу недельную щетину, тот смотрел на костюм из самого запомнившегося дня в жизни. С тех пор прошло пятнадцать лет, которые состарили его на все тридцать. Он верно служил Ее Величеству, и имя его гремело по морям, океанам, материкам и континентам. И хотя в последние годы его больше обсуждали во дворцах, парламентах и резиденциях знати, те, кто хорошо знал Френсиса Дрейка, говорили, что его сопровождает лишь тень былого величия. Впрочем, самые близкие товарищи уже ничего не говорили: адмирал списал их с «Золотой лани» и предоставил собственной судьбе, которая, как и следовало ожидать, оказалась жестокой. Акулу казнили по приговору Королевского суда, Морехода сослали на каторгу, Хендрикса зарезали в пьяной драке, следы Честняги Томаса затерялись в темных лабиринтах подсчета нечистых денег… И нынешний, последний его поход к берегам Вест-Индии был абсолютно неудачным. Сам Дрейк был согласен со сплетнями, ходившими в королевском дворе и Морском министерстве, — он действительно постарел, погрузнел, поседел, и Фортуна от него отвернулась. Но дело было не в усталости от отнимающих здоровье длительных морских путешествий, от бесконечных боев и игры со смертью. Похоже, Тот, Чье Имя Нельзя Называть, перестал ему помогать. Наглядным доказательством этого стало омертвление камня, который всю жизнь красовался на безымянном пальце левой руки. Он больше не мерцал ободряющим светом, не внушал спокойствия приятным теплом и вообще никак не проявлял своего скрытого могущества. А мучительная тропическая лихорадка неумолимо вела его к тому концу, к которому привела уже не один десяток моряков эскадры…
Слуга закончил бритье, и адмирал захотел передохнуть несколько минут. Уантлок вышел на кормовой балкон, вымыл бритву, сливая воду в море, и, оглянувшись, осторожно достал из кармана перстень. Он слышал много разговоров о том, что это подарок дьявола, который всю жизнь помогал хозяину. Уантлок не был склонен верить подобным слухам, но слишком многое говорило в их пользу. Хозяин никогда не ходил в церковь, никогда не осенял себя крестным знамением, на его кораблях никогда не было капеллана… И тем не менее ему везло: он выходил невредимым из любых переделок, его обласкала королева, он получил адмиральский чин… Кто помогает Дракону, если он отвернулся от Всевышнего?! Значит, за его спиной вечный антагонист Спасителя!
Тем более Уантлок сам убедился: с медленным угасанием огня в черном камне одновременно угасал и сам хозяин. И вот сейчас произошло чудо: извлеченный на свет мертвый камень вновь ожил — он наполнялся красно-желтым светом, который казался не зловещим, наоборот — ободряющим и успокаивающим. От перстня исходило приятное тепло, и Уантлок ощутил острое желание надеть его на палец. Машинально он хотел перекреститься, но только поднял руку, как ощутил острую боль в плече и локте, рука повисла, как простреленная пулей.
— Уантлок! — послышался требовательный оклик. Сунув перстень обратно в карман, слуга поспешил на зов. Но он твердо понял одно: о том, чтобы водрузить эту железяку на свой палец, не могло быть и речи, какими бы заманчивыми ни были посулы хозяина…
Одевание заняло немало времени. В последний момент Дрейк передумал и не стал надевать старый костюм, предпочтя ему адмиральский мундир. Облаченный в военное обмундирование, опоясанный рыцарским мечом, он вышел на палубу, хотя и поддерживаемый слугой, но изо всех сил стараясь держаться прямо.
Команда уже построилась на юте[12]. Настоящие матросы Королевского флота, вымуштрованные и дисциплинированные, в тщательно пригнанной форме, молча взирали на своего легендарного капитана. Тот исхудал и еле передвигал ноги. Моряки понимали, что тот переживает последние часы своей великой жизни и хочет проститься и с ними, и с Мировым океаном, воды которого он столько раз пересекал вдоль и поперек.
Френсис остановился перед строем и повернулся к своим подчиненным. Но матросы вдруг вскинули головы, глядя куда-то вверх, где раздалось громкое хлопанье крыльев. Дрейк тоже поднял взгляд. Над кораблем, совсем низко, описывала круги огромная черная чайка! Ни избороздивший весь Мировой океан Френсис Дрейк, ни один из его матросов никогда не видели черных чаек и даже не слышали о них… Моряки суеверны и верят в приметы. По строю пробежал ропот тревожного удивления и возбужденный шепот:
— Дурной знак…
— Плохое предзнаменование…
— Добром это плаванье не закончится…
— Прощайте, мои верные соратники, — прохрипел Дрейк, но его не услышали — то ли голос был слишком слабый, то ли ветер рвал на части и уносил в море слова, то ли вид черной чайки выбил экипаж из колеи.
Сделав несколько кругов над палубой, всполошившая всех птица села на бизань-мачту и принялась с интересом наблюдать за происходящим внизу.
— В каюту, Уантлок, — прошептал адмирал. Силы окончательно оставили его, но верный слуга расслышал хозяина, жестом подозвал одного из матросов, и они то ли повели, то ли понесли Дрейка в каюту.
— Принесите аркебузу, я разделаюсь с этой тварью! — раздался за их спинами голос помощника капитана Сэмюэля Симпсона — самого лучшего стрелка на «Золотой лани».
Уантлок прямо в одежде и с мечом уложил адмирала на кровать, принес ему рому, но тот отказался и попросил воды. Потом прикрыл глаза и как будто заснул. Уантлок вышел из каюты и стал наблюдать, как Симпсон раздувает фитиль, потом, сев на палубу и положив ствол тяжелой аркебузы на раздвоенную рогаткой подставку, долго целится, задрав дуло кверху. Черная чайка спокойно сидела на месте, вертя головой в разные стороны. Раздался грохот, сверкнуло пламя, ствол аркебузы разорвался, и Симпсон с окровавленным лицом и руками опрокинулся на спину. К нему бросились матросы и быстро унесли в лазарет. А Уантлок зашел в каюту, собираясь рассказать этот удивительный случай хозяину, как только он проснется. Но тут же понял, что никакие земные вести Френсиса Дрейка уже не интересуют: он был мертв. Слуга попытался избавиться от нежеланного и пугающего подарка и вернуть перстень настоящему владельцу, но не сумел: надеть его на палец покойного не удалось — то ли палец стал толще, то ли кольцо уменьшилось в диаметре. Уантлок внимательно осмотрел то и другое и пришел к выводу, что пальцы остались прежними, а значит, дело в перстне… Но ведь он не мог уменьшиться! И все же уменьшился…
Преодолевая себя, Уантлок вновь спрятал перстень в карман, прикрыл тело адмирала дорогой шелковой тканью и объявил печальную весть команде. Дальше все шло по привычному скорбному ритуалу: плотник сколотил гроб из тщательно оструганных досок, туда уложили тело адмирала, вбив в крышку четыре больших железных гвоздя. Потом последнее пристанище Дрейка обили свинцовыми листами, из которых отливали пули и которые рубили на картечь. Под оглушительный залп всех корабельных орудий, содрогнувший «Золотую лань», как удар мощного шторма, свинцовый гроб соскользнул с доски за борт и, взметнув высокий фонтан воды, ушел в морскую пучину.
Черная чайка сидела на мачте, ее не пугали ни пушечные выстрелы, ни крики матросов. Когда все разошлись по каютам, чтобы помянуть адмирала добрым ямайским ромом, Уантлок вышел на кормовой балкон осиротевшей каюты и, размахнувшись, бросил перстень вслед за его хозяином. Но лев с камнем во рту не погрузился в голубую бездну и даже не долетел до поверхности воды: черная молния мелькнула сверху вниз со скоростью стрелы, схватила клювом блестящее колечко, быстро набрала высоту и полетела прочь. Проводив ее взглядом, Уантлок облегченно вздохнул и перекрестился. На этот раз без всяких неприятных ощущений.
Черная чайка летела необычно быстро для любой птицы, через несколько мгновений она превратилась в черную точку и скрылась из глаз.
Часть пятая Вор-студент
Глава 1 Карточные долги святы
Москва, 1962 год
Капитан милиции Короедов не знал ни Студента, ни Голована и не имел никакого отношения к истории с перстнем. Самое глупое и досадное, что раньше он и не играл-то особо. Ни в шахматы, ни в карты, ни в домино. Может, в солдатики какие-нибудь в детстве, да и то он точно не помнит. Ну, в «тюхи» еще, на пуговицы, в школе. Только это быстро прошло. Не выигрывал Короедов никогда, не везло ему в игре, потому и интереса не было.
Вот тем-то и нелепей вся эта история.
А началось все с бутылки, как обычно и бывает. Выпить Короедов любил. Что есть, то есть, тут и отрицать нечего. Но — строго в неслужебное время. Как-никак во вневедомственной охране, работает на важном государственном объекте — в Оружейной палате, на территории Кремля… Так что все аккуратно, по струночке, без мордобоя и последствий. Ну а тут выходные, жена уборку затеяла, тоска зеленая, а у школьного товарища Вовки Дергуна — сорокалетний юбилей.
Кто сказал, что сороковник не празднуют? Правильно сказал! Надо было на законодательном уровне запретить это безобразие! Тогда бы, может, и не случилось ничего! Короче, отпросился у своей. Поехали к Дергуну на дачу, в Сосенки, десять километров от Москвы. Из старой школьной компании их всего шесть человек осталось. Кто на фронте погиб, кто сидит, кто просто прийти не смог или не захотел. Банька, выпили, посидели, покалякали, опять выпили. «За тех, кто не вернулся!», «За выпуск 41-го года!», «Ну, чтоб женился в этом году, Вован!». Накатили весело, водка закончилась быстро, юбиляр сгонял в деревню за самогоном — две поллитры мутного — выпили и его.
— Ну, все, — говорят мужики. — И хватит, пора на боковую!
А у них с Вованом только-только раззуделось все. Хрен с ним, сели вдвоем на его «москвича» и полетели в Мамыри, там у Вована таксист знакомый, и поддача быть должна.
Приехали. Двор большой, дом-пятистенок, свет во всех окнах. Компания незнакомая, водка, картишки. Вроде люди как люди. Таксист этот, Витей его звали, позвал их тоже за стол, накатили еще… И тут у капитана Короедова, что называется, транзисторы сгорели. Дальше помнит смутно.
Такое вот: темно кругом, и лицо перед ним, белое и круглое, как луна. Китаец. Или, там, кореец. Якут. Не важно. Кивает и смотрит на него, вроде как гипнотизирует. А глаза нарисованные, не моргают. И кожа блестит, как… Ну, ненормально как-то блестит, словно фарфоровая чашка. Откуда морда взялась, непонятно. Приснул наверное, Короедов в какой-то момент. Точно, приснул. Потому что не бывает так, чтобы темнота и одна только голова покачивается среди этой темноты, как елочная игрушка на ветке…
— Кто ты? — спросил Короедов.
А в ответ дружный регот. Он глазами моргнул и увидел сразу, что сидит за столом в Мамырях, люстра над столом горит, а все на него смотрят, вся эта гоп-компания. И человек прямо напротив него — обычная русская морда с отвисшей мокрой губой.
— Митя Хваленый меня звать, — говорит морда, ухмыляясь. — Играем?
А чего спрашивать-то? Вон, игра уже идет вовсю, они с Вовкой Дергуном сидят в паре, и карты летят через стол. Только что это за игра, Короедов понять никак не может, смотрит перед собой, как дурачок, а в голове камни ворочаются, стукаются друг о дружку.
Еще помнит: карты жирные, засаленные в руках, будто селедку с них ели. Ему бы бросить их, уйти отсюда подобру-поздорову, тем более что этот Митя Хваленый с мокрой губой очень ему не нравится. Но ноги никуда не идут, зад врос в лавку, руки сами собой хватают засаленные карты, разворачивают веером, впечатывают с оттяжкой в стол, а изо рта вылетают какие-то слова…
Помнит, жарко было, а Вовка Дергун еще навис над ним, шепчет, что-то советует, подсказывает. Он кричит, чтобы Вовка шел к такой-то матери. Тот исчезает, а потом опять висит над ним.
— Хватит тебе, дурак, хватит уже…
— Чего хватит? — кричит, кривляется непослушный короедовский рот. Он только-только раззуделся! Чего тогда приехали сюда, спрашивается? — Еще давай! Еще!
А ему суют карту. Открывает: там туз червовый. И все опять смеются. Сгорел, говорят, фофан. А Дергун орет:
— Ты чего, спятил?! У тебя пятнадцать очей было! Куда брал? Зачем брал?
Хотел бы он тоже знать зачем. Но в голове камни тяжелые ворочаются, бултыхаются в густом мутном сиропе. А перед глазами Хваленый этот, с мокрой губой, улыбается во весь рот, смотрит загадочно, с подтекстом…
Как вернулись в Сосенки, забыл начисто. Утром Дергун яичницу с салом наболтал, сели, опохмелились. А потом, пока остальные мужики брились и манатки собирали, он отвел Короедова в сторону и говорит:
— Ты помнишь, как десять тысяч ночью проиграл?
У того внутри оборвалось что-то.
— Чего-о? Какие десять тысяч?!
— Вот тебе и «чего». Там Митя Хваленый был, из блатных. Такие, как он, долги не прощают.
— Какие долги? Я ведь пьяный был, ничего не помню!
— Да будь ты хоть в голову раненный, ему все равно. Я тебя предупреждал, чтоб не садился, а ты все орал: «Не мешай! Мне китаец велел!»
— Какой китаец?!
— Это тебе лучше знать, — буркнул Дергун. — Ты вообще как безумный там был…
— Пусть попробует сунется только, морда уркаганская! — крикнул в запале Короедов. — Я капитан милиции, а не хрен собачий! Ничего я ему не должен! Где сядет, там и слезет!
Но через три дня получил он по почте письмо без обратного адреса, где корявым почерком было написано: «Сроку тебе месяц расчитаца. На погоны не надейся, не поможит. Узнает начальство что играл, останешся без погонов. А я зделаю что и без бошки останешся и хату спалю. Долг передашь через таксера Витьку в Мамырях. А кипишить не саветую. А письмо сожги».
И вот тут понял Короедов, что и вправду попрут ведь его из органов со скандалом и позором, если вскроется, что он с каким-то Митей Хваленым играл в карты на деньги. Как пить дать попрут.
И что делать?
На следующее утро жена Короедова обнаружила на кухне дохлого кота. Форточки закрыты, замок на двери цел — ни царапин, ничего. И следов никаких. Но ведь не через электророзетку этого кота протолкнули! Значит, кто-то как-то проник ночью в квартиру, ходил тут, пока все спали. Мог прирезать, мог поджечь. Да все что угодно…
Жене Короедов наврал, что это он тайно принес кота вчера вечером и спрятал, хотел сюрприз сынишке сделать. Что кот был живой-здоровый, а ночью вдруг возьми да подохни… Нескладно вышло, глупо. Жена посмотрела на него с испугом:
— Совсем мозги отпил, Гриш!
Но хотя бы в 02 звонить передумала, и то хорошо.
И вот сидел потом капитан Короедов у себя на работе, в своей Оружейной палате, среди царских сокровищ и золоченых экипажей, и думал, как ему жить дальше. Времени для раздумий хватает: утром и вечером обход, все остальное время сиди за охранным пультом и думай, думай…
Взять отпуск за свой счет, переехать на месячишко к матери в Тульскую область, например.
Ага. А как жена с сыном?
Да и не дадут ему такой отпуск, он только недавно очередной отгулял. С каких это пряников, скажут, ты по отпускам разгуливаешь?..
Можно, конечно, обменять их квартиру-полуторку на Цветном бульваре на двухкомнатную, а то и трехкомнатную в новостройке, в каком-нибудь Южном Медведкове. Вот именно: забуриться в медвежий угол, и с концами. Ездить на работу далековато, это да, но зато лишние метры не помешают…
Думаешь, там Хваленый не найдет?
Здесь ведь как-то нашел. И даже дверь ухитрился открыть без лишнего шума. Хотя ни адрес свой, ни ключей от квартиры Короедов ему, конечно же, не оставлял. Значит, и в Медведкове найдет, как пить дать.
Ничего путного не приходило в голову капитану Короедову. Он смотрел на посетителей, бродящих по залам Оружейки, смотрел на бронированные витрины с бесценными экспонатами, и мысли его то и дело сбивались в другую, вредную и даже опасную сторону.
Например, сколько может стоить вон та золотая братина XVII века царя Михаила Федоровича? Или усыпанная драгоценными камнями золотая булава Феодора Блаженного? Даже подумать страшно. Самое обычное обручальное колечко в самом обычном ювелирном магазине — половина зарплаты. А тут килограммы золота на тысячи и сотни тысяч рублей. Может, даже на миллионы. А ему всего один-то камешек отколупнуть — и долга как не бывало. Руку только протяни, и вот оно, решение всех его проблем…
Нехорошо капитану Короедову от таких мыслей. Потеет он. Пальцы на руке сами собой начинают шевелиться, словно щупальца какого-нибудь чудовища, и ладони чешутся. Он прячет свою руку под стол, сует в карман, успокаивает ее всякими словами. Постепенно, постепенно она успокаивается.
Тогда он достает из ящика стола журнал «Огонек» с кроссвордами и вдумчиво сидит над ним. Грызет карандаш, хмурит брови, расчесывая пятерней волосы. Пытается отвлечься. Правда, за все это время ни одного слова он так и не отгадал.
Глава 2 Голубая мечта вора
Ростов-на-Дону, 1962 год
Все шло хорошо, как по маслу. Космонавт, Буровой, Кузьма принесли сумки с деньгами за неделю. Общак увеличивался, уже можно было самолет купить, если бы они продавались. Правда, Сторублей сообщил настораживающую новость: на его цеховиков легавые наехали — свою долю требуют, иначе, мол, пересажаем! Неожиданный оборот, раньше такого не было… И что делать? «Стрелку»-перестрелку им ведь не назначишь! Студент покрутил на пальце перстень. Ладно, видно будет. С фарфоровым китайцем посоветуюсь, что-нибудь да подскажет…
Вдруг среди ночи — громкий пронзительный звон. Как спицей в оба уха. Студент вскочил с кровати, ничего не соображая. Что случилось? Стоял, таращась в темноту, сердце: бух, бух… Дошло.
Включил свет, прошлепал босыми ногами к окну. Маленький фарфоровый китаец на подоконнике колотился мелкой припадочной дрожью и ездил туда-сюда по гладкой крашеной доске, как заводной заяц. Удивительно, как только не свалился. Брезгливо морщась, Студент накрыл его рукой и сразу отдернул. Будто током ударило.
Похоже, что-то случилось. Или вот-вот слу…
Сзади, за спиной, вдруг послышалось бормотание. Мужской голос. Студент резко обернулся, даже подскочил. Из гостиной падал мерцающий голубоватый свет. Работал телевизор. Просто взял и включился, сам собой. Бормотание заглушила бравурная музыка, раздались аплодисменты. И опять кто-то забубнел…
«Все нормально, — успокаивал себя Студент. — Это Лютый шуткует!»
Вообще-то, ему такие шутки не нравились, но у него никто не спрашивал. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем он пришел в себя и нехотя двинулся в гостиную. На ватных ногах. С Лютым встречаться не хотелось. Да и неизвестно, чем закончится очередная шутка. Может, сдерут с него кожу и повесят вниз головой…
Уже несколько месяцев Лютый не давал о себе знать. Наверное, все шло как надо — рэкет процветал, группировка росла и крепла, нужда в дополнительных консультациях отпала. А что случилось на этот раз?
На экране телевизора — залитая огнями студия с трибунами и эстрадой. Громадными веселенькими буквами на заднике написано: ГРАНДИОЗНАЯ ЛОТЕРЕЯ! ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА 10 00 °CОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ!
Сидят какие-то разношерстные разномастные граждане — кто-то на урку испитого похож, кто-то, наоборот, прифасоненный, во всем импортном — и в камеру ладошкой машут. Был там даже один тип в тюремной робе с номерком на груди. Студент пригляделся, и показалось ему, будто узнал он в этой компании Деда, известного московского вора-«законника», а рядом, облаченный в роскошный вельветовый костюм, сидел вроде как сам Император, «авторитет» из Ленинграда… Но всмотреться как следует не успел, камера переползла на сверкающий раструбами оркестр, а потом на эстраду, где разгуливал чернявый мужчина во фраке… Лютый, кто ж еще. И улыбочка на миллион. Вот только что-то с Лютым было не то…
Ага. Он без штанов. Под ослепительно-белой сорочкой курчавилась густая с проседью звериная шерсть. Все ноги облеплены этой шерстью, тела не видно. И колени гнутся в обратную сторону… Твою мать!.. И копыта вместо ступней…
Студент опустился на ковер.
— Приветствую вас, господа воры, медвежатники, шнифера, домушники, марвихеры, шопенфиллеры, резинщики, ширмачи и прочие деловики! Разожмите очко, брателлы, расслабьтесь! Сегодня у нас очень необычное мероприятие! Те из вас, кто умеет читать, уже догадались, что это — грандиозная, эпическая мега-мега-мегалотерея!!! — радостно прогорланил из экрана Лютый.
Зал взорвался аплодисментами, трубы и саксофоны выдали ликующий аккорд. Но вот Лютый поднял руки, и все смолкло. Зрители замерли на своих местах, разной степени потрепанности лица вмиг преобразились и сделались как у дошколят на новогоднем утреннике.
— Вашему вниманию предлагаются экспонаты одного из самых ценных музейных собраний мира! — Козлоногий Лютый как-то необычайно ловко крутнулся на эстраде, взмахнув фалдами фрака, и наставил на публику руки с выставленными пистолетами указательными пальцами. — Ну-ка, кто тут у нас самый догадливый?
— Лувр! — выкрикнул кто-то с места.
— Эрмитаж круче, че! — перебил его другой голос.
— Третьяковка!
— Этот, как его… Алмазный фонд!
Лютый слушал, подперев рукой подбородок и состроив на лице выражение комически-внимательное и снисходительное. Когда некий франт в белоснежном шарфике поднял унизанную перстнями ладонь и прокуренным голосом каркнул: «Метрополитен-музеум, бля буду!», он громко цыкнул зубом.
— Нет, нет и нет! Ничего подобного, господа-товарищи! Говоря «самое ценное собрание», я имел в виду не только художественную ценность. Там, куда мы отправляемся, горы золотых побрякушек, бриллиантов и всякой разнообразной драгоцухи. Просто горы, догоняете?
Он еще раз окинул взглядом зал. Подмигнул. Зрители завороженно хлопали глазами, шевелили губами, но, видимо, не догоняли.
— Добро пожаловать в Оружейную палату, олухи мои дорогие! — торжественно объявил Лютый.
За его спиной бесшумно разъехался в стороны занавес. Зал потрясенно охнул. Взорам открылся великолепный зал с колоннами, высокими сводчатыми потолками, стеклянными витринами, за которыми сверкали рыцарские доспехи, оружие, шитые золотом одежды, драгоценная посуда, украшения, ордена и многое-многое другое. Зал врастал в телевизионную студию серо-бело-черными мраморными плитами пола и зеленоватой, с бронзовыми фризами, штукатуркой стен. Стык был неровный, хаотичный, кое-где торчали задравшиеся, лопнувшие доски и дранка, мрамор местами пошел трещинами — такое впечатление, что два здания столкнулись во время глобальной катастрофы.
«Оружейная палата», — подумал Студент. Точно. Та самая, кремлевская. В натуральную, как говорится, величину. Только девять ее залов, раскинутых по двум этажам, каким-то волшебным образом сплавились в один огромный зал, дальний конец которого терялся где-то в бесконечности… Он сам никогда там не был, но прочел о Палате все, что можно было достать, впору экскурсии водить. И картинок насмотрелся столько, что, кажется, мог бы пройти по ней с зажмуренными глазами… Потому что здесь, в бронированным стеклянном саркофаге с тройной сигнализацией, как Белоснежка в ожидании принца, томилась его голубая мечта — шапка Мономаха. Царская регалия, символ власти, бесценное произведение искусства. Почти килограмм чистого золота и 43 драгоценных камня. Его давняя мечта, самый желанный трофей… Из тех, что способны сделать удачливого ростовского вора таким же знаменитым, как сам Иван Грозный!
— …Сколько «рыжья», братва!!! — выдохнул кто-то на зрительских трибунах.
— Сверкальцы!
— Драгоцуха!
— Пацаны, я сплю или это в натуре Фаберже? Только, чур, не будите меня!!!
— А чего мы здесь сидим?!
Тип в белом шарфике первым выскочил в проход между рядами и почти тут же упал — кто-то подставил ногу. А в следующую секунду все зрители вскочили разом, как футбольные фанаты во время гола. Сшибая стулья, горланя, матерясь, топча друг друга, они устремились в Оружейную палату… Но там, где начинался мрамор и золотое великолепие, точно по линии открывшегося занавеса, находилась какая-то невидимая и весьма прочная стена. Один, второй, третий зритель налетели на нее с глухим отчетливым стуком, рухнули как подкошенные. Но движение не прекращалось: задние напирали и давили, передние били лбами в прозрачный бубен и падали. И все ревели диким ревом.
Лютый отошел в сторону, взял прямо из воздуха дымящуюся толстенную сигару, пустил в потолок колечко и равнодушно наблюдал это безобразие. В какой-то момент он прочистил горло, по-военному гаркнул:
— А ну, отставить!!! Охрана! Где охрана?!
И в сей миг стало тихо. Толпа вздрогнула и застыла в причудливых позах. По ту сторону невидимой преграды, откуда-то снизу, такое впечатление, что прямо из-под мраморных плит, вдруг выдернулась голова в милицейской фуражке. А-а, понятно… там лестница в подвал, а под лестницей — пульт охраны, крашенная серой масляной краской панель с кнопками и лампочками.
— Капитан вневедомственной охраны Короедов заступил на пост согласно распорядка! — отрапортовала голова.
Лютый выплюнул сигару под ноги.
— А вот и главный герой нашего вечера — пропойца несусветный, мусор стопроцентный! Прошу любить и жаловать! А ну, вылезай, морда твоя тюленья!
Капитан Короедов нисколько не обиделся на такое обращение. Кряхтя и зачем-то бормоча извинения, он показался наружу весь — помятый, несимпатичный, заросший ночной щетиной. Фуражка оказалась единственным предметом форменной одежды на нем, а место положенного обмундирования занимали майка и пижамные штаны в шотландскую клетку. Короедов оглядел странную публику, столпившуюся перед Оружейкой, посмотрел на часы, почесал в затылке, проговорил неуверенно:
— Так, это… Безобразие ведь, а? Не положено как бы…
— Пра-а-альна, Короедов! Не положено! А в карты играть с блатными служителю закона положено? А карточный долг не отдавать положено?
Разношерстная публика возмущенно загудела.
Лютый, даже не запнувшись, прошел сквозь барьер, подошел к охраннику, щелчком сбил с него фуражку, растрепал жиденькие волосы на темени, обнял за шею и поволок на эстраду.
— Зацените, господа-товарищи! Перед вами капитан Короедов — спонсор нашего сегодняшнего мероприятия! Если б он не проиграл Митяю Хваленому десять «косых», не было бы у нас никакой лотереи и дрыхли бы вы все этой ночью без задних ног!
Он свистнул залихватски, по-разбойничьи — и тут же всех зрителей, и стоячих, и лежачих, невидимым ветром зашвырнуло обратно на трибуны, каждого на свое место. Кто-то — с перепугу, наверное, — захлопал в ладоши. Короедов покраснел, неловко раскланялся.
— В общем, это, уважаемые телезрители и гости нашей студии… — начал он, вытирая вспотевший лоб. — Продулся я вчистую, выходит. Водку жрал на даче в Сосенках, догонялся местным самогоном. Его там так и зовут: «мутный». А еще — «лунная дорожка», «луноход», «туман»…
— Ты нам рекламу не впаривай! Дело говори! — прокаркал белый шарф.
— Так в том-то и дело, что после «мутного» я впал в расстройство, уехал в Мамыри, а там сел играть с Хваленым на деньги. На этом, уважаемые зрители, спокойная жизнь моя закончилась, поскольку Митя Хваленый долгов не прощает, а запугать человека до смертной икоты ему раз плюнуть…
— Не жалься, мусор! — строго прикрикнули в зале.
— …И я решил: а пошло оно все в жопу!!! — заорал вдруг Короедов, будто его ущипнули. — Каждый день приходишь на работу, смотришь, как дурак, на все это золото, на это богатство! Миллионы, миллионы, миллионы! А мне нужно всего десять тысяч!!! Копейки!!! Да гребись оно все веслом!!! Достало!!!
Лютый, стоявший рядом с оратором, заботливо поднес ему стакан белесого самогону с огурцом. Короедов выпил, шумно утерся.
— Короче, брателлы, была не была, решился я на ограбление!!! В особо крупном размере! Совершенное организованной группой! Статья девяносто три прим Уголовного кодекса, вплоть до расстрела! А мне плевать!
Зал вежливо зааплодировал.
— По этой причине ищу толкового вора, кто возьмется аккуратно вынести из Оружейки любой приглянувшийся ему предмет! Я говорил со знающими людьми, с нашими сотрудниками, они сказали, что даже самая мелкая хрень из экспозиции, типа ножичка какого-нибудь или колечка, на черном рынке потянет никак не меньше ста тысяч. Из-за своей исключительной, как они сказали, уникальности… Моя доля — всего десять тысяч! Мне только с Хваленым рассчитаться, больше ничего не надо!
— А если я царский золотой экипаж хочу? — раздался вопрос из зала.
Короедов озадаченно почесал в затылке, посмотрел на Лютого.
— Да хоть вон ту мраморную колонну! — махнул рукой Лютый. — Если унесешь!
— Чего-то дороговато — десять тыщ! А скидочку по состоянию здоровья? — просипел тщедушный хмырь в тюремной робе.
— Может, тебе еще «фомку» от профсоюза бесплатную выдать?
Лютый трижды хлопнул в ладоши. Свет в зале моргнул и ушел в интимный полумрак, оркестр с томной хрипотцой затянул «Подмосковные вечера». Где-то с краю, в области полной темноты, нарисовался яркий белый конус, в котором шагала, высоко бросая загорелые породистые ноги, девица в купальнике, будто сошедшая с плаката Минздрава о пользе сочинских морских курортов. Зрители одобрительно загудели и захлопали. Цокая босоножками на высокой шпильке, девица описала круг по эстраде, остановилась рядом с Лютым, жеманно приставила согнутую в колене ногу и одарила зал ослепительной улыбкой.
— Вот так вот, дорогие мои висельники! Розыгрыш нашей лотереи можно считать открытым! — объявил Лютый. — Если никто из вас не против, то начнем помалу!
Где-то вверху страшно прогрохотало, и пол в зале вздрогнул, сиденья качнулись. Стало совсем темно. Полыхнула молния, над эстрадой из пустоты выклюнулись ослепительные-огненные шары, понеслись по кругу с низким гулом, роняя на пол искры. Лютый подфутболил один из них копытом, тот взлетел вверх, девица в купальнике ловко его поймала в руку, нисколько не боясь обжечься. После чего под потолком ярко вспыхнули лампы и оркестр выдал громкий бравурный аккорд.
— В кого попадет шар, тот и выиграл! Поехали! О-па!..
Лютый махнул перед собой открытой ладонью. Что-то черное вылетело из его рукава, вспыхнуло в воздухе, взмахнуло кожистыми крыльями и вдруг с пронзительным клекотом вцепилось прямо в лицо девицы. Та не вскрикнула, не вздрогнула, даже не шевельнулась, только заулыбалась еще шире. Верхнюю часть ее лица закрывала черная глухая маска в виде летучей мыши. Лютый схватил девицу за плечи, закружил ее на месте, как водящего в игре в «слепого кота». Отпустил. Она еще покружилась по инерции на одной ножке, остановилась, застыла спиной к залу. Чуть покачнулась, широко расставила ноги, перебросила с руки на руку роняющий искры шар.
— Эй, мы здесь!!!
— Обернись, красотка! Ау-у!!!
— Сюда бросай!!!
— Прыгай сама!!!
Зрители вскочили с мест, кричали и размахивали руками, как потерпевшие кораблекрушение сигналят проходящему мимо лайнеру. Красотка эффектно качнула бедрами, развернулась к залу лицом. Послышался хрипловатый чувственный смех.
— Дай мне его! Сюда, сюда!!!
Она сделала ложный замах — навстречу из зала взметнулся лес рук. Девица покачала головой. Осторожно ступая, прошлась вдоль эстрады. Капитан Короедов, оказавшийся на ее пути, запутался в своих пижамных штанах и чуть не упал…
Затем на экране произошло движение, едва успевшее отпечататься в мозгу Студента. Девица вдруг повернулась в сторону камеры, стремительно надвинулась, словно перелетела. Улыбка сползла с ее лица, и само лицо исказилось: его нижняя часть невероятным образом выехала вперед, рот по-волчьи растянулся, зубы хищно клацнули. Она взмахнула рукой с шаром.
…Экран телевизора взорвался с громким плотным звуком, похожим на пистолетный выстрел. Студент едва успел пригнуться, как над ним пронеслось что-то обжигающее, ослепительное. Где-то там, за спиной, в кухне, прогремело в ответ, жалобно звякнуло стекло.
Он замер в согнутой позе, подождал. В доме было тихо и темно, пахло горелой пластмассой. Разогнулся. Встал. Включил свет. В комнате плыл туман. По центру закопченного экрана телевизора зияла ровная оплавленная дыра, из которой сочился желтоватый дым.
Он выдернул вилку из электророзетки, заглянул в открытые внутренности телевизора. Ничего не увидел. Спотыкаясь, прошел на кухню. Там тянуло холодом и тоже пахло… Непонятно чем. Не пластмасса, не порох, а какой-то другой, резкий, незнакомый, тревожный запах. На треснувшем оконном стекле отпечатались похожие на черную звезду мутные брызги. Будто взорвали хлопушку или взрывпакет. Или что-то посерьезнее.
Фарфорового китайца-советчика на месте не было.
Студент перерыл всю кухню, заглянул под буфет и холодильник. Ни осколков, ничего, будто китаец просто испарился.
* * *
Ему снилась шапка Мономаха. Она просто висела в воздухе, а он смотрел на нее, как завороженный. Долго смотрел, весь остаток ночи. Потом протянул руку и почувствовал щекочущий, упругий соболий мех под пальцами. А еще золотую тяжесть шапки и чуть затхлый запах стеклянного плена, в котором она пробыла долгие годы. И сразу проснулся.
Было утро, ничего не изменилось. Все осталось как было. Оплавленная дыра в телевизоре, черная клякса копоти на окне. Китаец так и не восстал из осколков, атомов или пепла — из того, во что его превратила шаровая молния. Было чувство важной и безвозвратной потери, как будто он покидает дом, в который больше никогда не вернется. Но вместе с тем в голове свежо и ясно, каждый нейрон работает в полную силу, каждая мышца знает, что ей делать… Так, наверное, и бывает, когда приближаешься к своей заветной цели, к вершине, к которой шел всю жизнь.
Он включил погромче радио, сварил кофе, соорудил огромный бутерброд с колбасой. Поднося ко рту чашку, заметил, как горит, наливается внутренним светом камень на львином перстне.
Значит, все идет как надо. И чем дальше, тем будет лучше.
После завтрака он достал из-под кровати дорожный чемодан и стал укладывать вещи.
* * *
По дороге на работу Короедов остановился у газетного киоска, чтобы купить папиросы. Он стал курить больше, пачки на день уже не хватало. Хотя во рту и саднило от табака и удовольствия никакого он не испытывал, даже противно было, все равно курить хотелось постоянно.
Пока киоскер отсчитывал сдачу с рубля, Короедов воткнулся взглядом в пожелтевший от времени и осадков рекламный листок над окошком. «Граждане, покупайте билеты денежно-вещевой лотереи!» Мужик в меховой шапке, баба накрашенная — муж и жена типа, — в руках картонные коробки из магазина еле помещаются, а мужик еще санки детские на плечо повесил. Улыбаются во весь рот.
Короедов взял сдачу, взял папиросы, задумчиво побрел к остановке. Странно на него подействовала эта рекламка. Будто напомнила о чем-то, прочно забытом по пьяни… Как тогда, с Хваленым этим… Лотерея, лотерея. Именно это слово почему-то беспокоило, щекотало его мозг. При чем тут лотерея? А может, что-то приснилось?
Ехал в троллейбусе, вспоминал. Вроде вспыхивает картинка какая-то: козлоногий человек (что за хрень?), трубы оркестра, огненные ядра летают… а еще женщина какая-то полуголая превращается в дикого зверя (это вообще!)… Но только он пытается сосредоточиться на этом, ухватить, размотать тонкую паутинную ниточку, как все сразу рассыпается, превращается в бессмыслицу.
Так и не ухватил.
Ночная смена — с половины пятого вечера до шести утра. Сменщик сдал Короедову ключи и пульт, расписался в ведомости.
— Толика Ревуна на комиссию отправляют, не слыхал еще? — спросил как бы между прочим.
— Нет. А что случилось? — поинтересовался Короедов.
— Он прошлой ночью дежурил, где-то часа в четыре на центральный пост позвонил: тревога, посторонние на объекте. Примчалась опергруппа: в чем дело? А Толик сидит за пультом, глаза по пять копеек, белый, трясется. Говорит, человек пятьдесят сюда ломились, ограбить хотели. «Это как же они ломились и откуда?» — спрашивают его. Да из четвертого измерения, говорит, урки какие-то продвинутые. Они, мол, сделали так, что все стены здесь стали стеклянные и прозрачные, как в аквариуме, а потом стали бить их снаружи, чтобы сюда попасть. Умно придумали, говорит. Головами били и ногами и все равно не разбили, не сработало там у них что-то… Опергруппа проверила пломбы, сигнализацию, все чисто, все на месте. Уехали и Толика с собой забрали. А меня срочно вызвали на пост, вместо него поставили дежурить.
И опять что-то почувствовал Короедов. Щекотание в мозгу. Даже страшно стало на мгновение. Но виду не подал, посмеялся только, попрощался со сменщиком и заступил на дежурство.
…Вечер пятницы, посетителей больше, чем обычно. Туда-сюда ходят, шаркают ногами, охают, ахают, перешептываются. Много приезжих, это он сразу определяет по говору, по одежде. Публика, одним словом. Праздношатающиеся граждане. Никому из них невдомек, каково это — носить в себе тяжеленный десятитысячный долг. Как булыжник, который вложили за грудину, как раз под ключицами, грязный и тяжеленный. Давит на сердце, на легкие, и кусачие мураши расползаются от него по всем внутренностям…
Мысли капитана Короедова потекли в своем обычном русле. Так… План. Срочно нужен план…
Он дожидается ночи, отключает сигнализацию, вскрывает одну из витрин… Скажем, витрину № 10, с золотой и серебряной посудой XVII века. Крупные, яркие экспонаты не трогает, чтобы не сразу заметили пропажу. А вот эта небольшая золотая чарка с жемчугами подойдет. За нее спокойно можно просить десять тысяч, никак не меньше. Но на всякий случай можно прихватить и вон тот ладьевидный ковш. Для перестраховки.
Потом он вставляет стекло витрины на место, включает сигнализацию и дожидается утра. Утром сдает пост и отправляется домой. Или нет, сразу к ювелиру. К коллекционеру…
И вот тут начинаются проблемы. К какому коллекционеру? У него ведь нет знакомых коллекционеров. Он легавый, у него есть знакомые легаши, знакомые военные, есть даже один врач-дерматолог знакомый. Какие, к лешему, коллекционеры?
Познакомиться. Ага, познакомиться с коллекционером… Хрен. Это ведь вещи семнадцатого века, из самой Оружейной палаты, никто даже связываться не станет… Эх, бляха-муха. На блошиный рынок, что ли, снести? Нет, просто отдать ковш этому Хваленому: на, гад, подавись. Пусть сам крутится, сбывает через своих барыг.
А что? Кажется, это вариант. В каком-то фильме проигравшийся бандюган вернул вместо денег другому бандюгану серебряный браслет. И все проканало, никаких претензий.
Но в какой-то момент Короедов понял, что дело даже не в этом. Он просто не сможет открыть витрину. Даже если отключит сигналку. На витринах американские замки с тройной блокировкой, какие-то сверхточные титановые ключи, доступ к которым есть только у директора и главного хранителя музея… И бронированное стекло с защитой от взрыва. То есть даже если он саданет по нему из табельного ПМ, там останется только вмятина с трещинами. Или без трещин…
— Простите, товарищ капитан. Я тут немного заблудился, вы не поможете мне?
Короедов поднял глаза. Перед ним стоял крепкий, с иголочки одетый бородатый мужчина в дымчатых очках.
— А ну, отойдите от стола, гражданин! Здесь посторонним находиться не положено! — рыкнул Короедов.
На мужчину нисколько не подействовал его суровый тон. Он даже будто не расслышал.
— Понимаете, я ищу шапку Мономаха, никак не могу найти! Такая круглая, золотая, с крестом, знаете? Обошел все залы и что-то не увидел… Может, ее украли, вы не в курсе?
Чего, чего?! Шутник, бляха… Короедов уже брови нахмурил, челюсть выпятил, собираясь послать гражданина куда следует… И тут его торкнуло.
КГБ!!! — нарисовались вдруг перед глазами три аршинные красные буквы с тремя восклицательными знаками. Товарищ из органов. Пронюхали, что он проигрался Хваленому! А теперь следят, ждут, когда кинется грабить Оружейную палату!.. Бляха-муха, вот это попал!
— Да что вы такое говорите, гражданин? — выдавил Короедов и сам свой голос не узнал. — В четвертый зал пройдите, там найдете вашу шапку…
— Точно найду? — уточнил гражданин. С намеком как будто, с подковырочкой.
— Это… Хе-хе… Не сомневайтесь… В четвертый зал, гражданин… Да, в четвертый. Вон там, направо, пожалуйста…
Короедов встал, вежливо указал ладошкой направление. Странный мужчина на ладошку даже не взглянул, окинул капитана взглядом и спросил строго:
— А фамилия ваша как?
— Короедов, — убито произнес капитан.
— Значит, все правильно! Это вы на сходняке были, всем бродягам предложение сделали, а я его выиграл. Значит, будем работать вместе!
Когда он ушел, Короедов упал на стул и какое-то время сидел не шевелясь. Совсем муторно стало на душе, пот прошиб. Из огня, что называется, да в полымя. И что ему теперь делать? Пойти застрелиться?..
Он мучительно прикрыл глаза, повторяя про себя, как молитву: «Что делать… что делать… что делать…» А когда открыл, то обнаружил свернутую в трубку бумажку размером с проездной талон. Она лежала на пульте, между двумя рядами кнопок, он ее только сейчас заметил. Короедов огляделся. Посмотрел на потолок. Развернул бумажку под столом.
«Знаю про твою беду. Помогу. В 6.30 на остановке у ГУМа».
Написано карандашом, ровный уверенный почерк. Совсем не похож на тот, что в записке от Хваленого. Но откуда записка-то взялась? Ответ мог быть только один: мутный мужик из органов подбросил. Ловко сработал. Это что получается: он хочет развести его, как дурачка, что ли? Как-то слишком просто все, наивно даже. Особенно для органов. А может, они именно так и работают — в лоб, напролом, чтобы сразу с ног сбить?..
Когда вечером ушел последний посетитель, когда захлопнулись двери за уборщицей и главным смотрителем, который обычно покидал музей последним, Короедов прошел в четвертый зал, убедился, что шапка Мономаха на месте. Даже все камешки на ней по каталогу сверил.
Эту ночь он не дремал, не расслаблялся, сидел за пультом, как вздернутый. Во время обходов ступал тихо, прислушивался. После полуночи со второго этажа спустился дежурный напарник Зудин, предлагал партию в рамс, Короедов отказался. Зудин посидел какое-то время, жаловался на жену, на маленькие премиальные, потом ушел к себе.
Под утро Короедов делал очередной обход. Между третьим и четвертым залом он увидел женщину в купальнике. Она жонглировала огненными шарами. Шары гудели и рассыпали искры. На ее лице прыгали и дрожали тени, и лицо постоянно менялось — то вытягивалось в оскаленную волчью морду, то втягивалось обратно. Не переставая жонглировать, женщина громко и внятно сказала:
— Ты дурак, Короедов. Органы тебя давно в бараний рог свернули бы, а не записочки писали. Мозгами шевелить надо. А будешь шкериться по углам — сам на себя руки наложишь.
Короедов повернулся кругом и пошел на место на прямых деревянных ногах. За пультом кто-то сидел. Когда подошел ближе, увидел, что это он сам и сидит. Пульт и стена залиты кровью, в черном опаленном виске — дыра, на полу под обвисшей правой рукой валяется «макаров».
Он открыл ящик стола, осторожно и почтительно отодвинув холодную руку, достал из потайного отделения заветную чекушку «Столичной» и отправился в туалет. Запершись в кабинке, выпил чекушку, выкурил подряд три сигареты. Когда вернулся на свое рабочее место, трупа уже не было. И крови тоже, и «макарова»…
* * *
Половина седьмого. Обошел все остановки возле ГУМа — на Красной площади, на Куйбышева, Сапунова и 25 Октября. Людей мало, ошибиться не мог — нет его. Обошел еще раз и испугался. Вдруг захотелось, чтобы непременно пришел, чтобы спас его. От страшного долга, от Хваленого, от черной опалины на пробитом виске. Нет больше сил терпеть… Ну а если он все-таки из органов, так пусть тогда арестует, хрен с ним, хоть какое-то облегчение. Короедов был на все согласен…
Когда в третий раз свернул с Красной площади — увидел. Он вышел из арки на противоположной стороне улицы, одетый в модную куртку с капюшоном. Остановился, призывно мотнул головой и пошел в сторону Манежки. Короедов подлетел к нему мелкой рысью, чуть не угодив под хлебный фургон.
— Двигай за мной, не шуми.
Минут десять шли, минут десять капитан Короедов пялился в широкую уверенную спину. Зашли во дворы на Горького, сели на скамейку за детской площадкой. Мужчина натянул на голову капюшон и заговорил, не поворачивая головы:
— У тебя долг перед Хваленым, десять «косых», так?
У Короедов сперло в горле. Он молча кивнул.
— Про Хваленого я слыхал. Дрянь человек, — мужчина вытянул ногу в узкой начищенной туфле, достал из кармана сигареты и зажигалку. Из раструба капюшона вылетел клуб сизого дыма. — Ему или деньги — или труп, других вариантов нет. Он с этого живет, ему иначе нельзя… Я бы на его месте точно так же делал. Понимаешь, да?
Короедов смотрел на руки незнакомца. Кожа в нескольких местах была подозрительно гладкой, «стеклянной», без рисунка морщин, как зажившие ожоги.
«Сведенные татуировки», — подумал он сразу. А еще заметил на пальце серебристый перстень в виде львиной морды с черным камнем в зубах.
«А ведь ни из каких он не из органов, точно… Бандюган обычный, вот он кто… Ну, может, не совсем обычный… С чего бы он тогда татухи стал сводить?.. А-а, ну и фиг с ним… Главное, не органы… Пронесло… Вот и ладно…»
— Если поможешь провернуть одно дело, деньги у тебя будут, — донеслось из капюшона. — Получишь десять «косых», в тот же день рассчитаешься с Хваленым и забудешь, как страшный сон.
— Какое дело? — хрипло спросил Короедов.
— На какое ты меня подписывал!
— Да я не… Ни на какое… Это сон был кошмарный…
— Мне нужна одна вещь из четвертого зала. Какая — догадайся сам.
Короедов сперва не понял. Потом вспомнил разговор в музее, и сразу дошло.
— Шапка Мономаха?!
Незнакомец только шморгнул носом и сплюнул.
— Но ведь все сразу заметят, — прошептал Короедов. — Это ж такая ценность! Мировая реликвия!..
— Никто ничего не заметит. Витрину вскрою точно по шву, а на место шапки положу копию. Копия хорошая, один в один. Может, несколько лет пройдет еще, пока кто-то врубится.
Прозвучало веско, хоть и несколько самонадеянно. А может, Короедов просто устал бояться и ждать. Он последний раз трепыхнулся:
— Ну, предположим. А что будет, когда все-таки врубятся? — забеспокоился Короедов. — Меня ведь сразу на допрос и в кандалы!
Пых-х! — из капюшона вылетел очередной клуб дыма.
— Тебя никто не заставляет сидеть в этом музее и дожидаться. Свалишь куда-нибудь, где тебя не знают…
— Что? Уехать из Москвы?
— А как ты хотел? Нечего было садиться с ворами в карты играть.
Короедов подумал. В общем-то, он надеялся, что жертвовать московской пропиской все-таки не придется.
— Но я все равно рискую! — сказал он. — Накинь хотя бы еще пять тысяч сверху!
Сидящий рядом мужчина даже не пошевелился.
— Ну, сам посуди, мне ведь нет никакого интереса подставляться, если я расплачусь с этим Хваленым, а сам останусь на бобах! — продолжил Короедов. — Я серьезно рискую. Ты возьмешь шапку, и поминай как звали, а мне тут еще…
— А ты жмот, верно? — перебил его капюшон.
— Но ведь это шапка Мономаха, сам подумай! Это один из самых ценных экспонатов!
Капюшон хмыкнул.
— Ладно. Накину еще пять «косых».
Короедов вздохнул. На душе немного полегчало.
— Только учти, там витрина из бронированного стекла, его даже взрывом не разобьешь…
— Ша! — перебил голос из капюшона. — Запомни, легаш: я лучший в Союзе спец по музейным делам. Таких, как я, больше нет… И не будет.
Короедов помолчал, взвешивая риски.
— Короче, так, — сказал наконец он. — Я проверю твою работу. Если действительно комар носа не подточит — разойдемся. Если нет, я тебя застрелю на месте, как застигнутого с поличным! Уж извиняй…
Глава 3 Кража века
Самый суматошный день — воскресенье, когда особенно много школьных экскурсий и приезжих из других городов. Города и веси, колхозы и совхозы, даже отдаленные горные аулы. Толпа самая многочисленная, самая бестолковая и крикливая.
Студент зашел вместе с последней группой, в 16.30. Улучив удобный момент, когда экскурсовод и смотрительница отвлеклись на пятиклассников, затеявших перестрелку жеваной бумагой, он отделился от толпы, якобы в поисках туалета. Незаметно скользнул в полуподвал. Открыл ключом решетку, спустился по лестнице вниз. Освещенный двумя лампочками-«сороковками» низкий коридор. В конце — металлическая дверь электрощитовой с острой закорючкой молнии внутри желтого треугольника. Студент взял второй ключ из связки, которую передал ему охранник. Замок тихо щелкнул, дверь открылась.
На крохотном пространстве размером с кладовку разместились распределительные щиты, трансформаторы, ободранное кресло и тумбочка. Короедов уверял его, что электрик сюда заходит только по необходимости, когда что-нибудь коротнет или перегорит. Сидит он обычно в соседней комнате — там инструмент, шкафчик для переодевания и все такое прочее. Сегодня у него вообще выходной, за всем техническим хозяйством присматривает дежурная бригада-«аварийка», которая по вызову обслуживает весь Кремль и в данный момент забивает «козла» где-то в подвалах Дворца съездов… Так что, если никакой аварии не случится, все будет нормально.
В электрощитовой Студент задержался недолго. Он без труда вскрыл отмычкой соседнюю комнату. Здесь простора куда больше, и переждать ночь было бы удобнее. Почему Короедов предложил именно электрощитовую, непонятно. Впрочем, ну да — ведь самому ему здесь не сидеть…
Студент обошел комнату, подсвечивая себе фонариком. Открыл шкафчик, увидел там рабочую куртку с надписью «Мосэнерго» и оранжевую каску. В укромном уголке между шкафчиком и стеной обнаружилась обтрепанная кушетка, где электрик, надо думать, отдыхал с устатку…
Вернувшись в электрощитовую, он запер дверь изнутри, заслонил картонной коробкой крохотное окошко под потолком, уселся в ободранное кресло. Снял бороду, парик и очки — они ему больше не понадобятся. Достал видавший виды «ТТ» с вытертыми добела гранями, проверил патрон в патроннике, положил на тумбочку. Рядом положил тяжелый обоюдоострый нож. И стал ждать. В тишине и полумраке.
Звуки, похожие на далекий лай собак… Наверное, разговоры посетителей наверху… И, откуда-то из бесконечности, бой курантов. Бум, бум… Стало еще темнее.
Шорох осторожный, мелкий нарастает, постепенно переходит в наглый топот и поскребывание. По полу бегали крысы. Ему наплевать на крыс, но он все-таки закинул ноги на тумбочку. Так удобнее. Спустя какое-то время увидел две красные точки, два тлеющих уголька перед собой. Как будто крыса сидела у него на животе. И даже почувствовал тяжесть, и тепло, и острую звериную вонь. Провел рукой, смахивая непрошеного гостя. Пустота. Зажег спичку. Ничего. Наверное, уснул. На часах без десяти восемь.
Студент встал, размял ноги. Минуту постоял, прислушиваясь. Натянул на голову шерстяной чулок с прорезями для глаз. Разложил оружие по карманам, повесил на плечо сумку с инструментом. Отпер дверь и вышел в коридор.
* * *
Все было договорено по минутам, но Короедов все равно вздрогнул, когда из темноты выступила фигура с головой темной и гладкой, как у Фантомаса.
— Ну что, отключил?
Короедов кивнул. Глаза в прорезях маски смотрели пристально, недоверчиво.
— Точно говорю… все отключил, — еще раз кивнул Короедов.
— Ладно. Сиди тут, поглядывай. Я быстро.
— Подожди. А как ты собираешься витрину… того, вскрывать? — Короедов облизнул губы. — Ты ж это… Не шуми только, да?..
Фигура поставила на стол клеенчатую сумку с ободранным боком, извлекла оттуда что-то вроде разводного ключа с закругленным лезвием на конце, сунула капитану под нос.
— Это алмазный резак. Ему что стекло, что дерево, что бетон — все по барабану. Тихо, без пыли и визгу.
И вот уже нет никого. Фигура растворилась в темноте. Короедов сидел не шелохнувшись. Он даже старался не думать, отключить все мысли, как радио от розетки. Но это было невозможно. Каждую секунду он боялся, ждал, что раздастся звон стекла, выстрел, крик, что угодно. Или вдруг спустится напарник со второго этажа…
На охранный пульт с отчетливым звуком упала и растеклась капля.
— Елки-палки…
Все лицо было в поту, словно он сидел в парилке. Короедов достал платок, вытерся. И тут в круге света от настольной лампы снова нарисовалась темноголовая фигура.
— Уже? — шепотом удивился Короедов, посмотрел на часы.
Вместо ответа на стол легли три увесистые пачки пятидесятирублевок в банковских контрольках. Сердце капитана трепыхнулось, вздрогнуло, словно к нему поднесли сильный электромагнит. Нервным движением он смахнул, почти уронил деньги в портфель… И вот — сразу отпустило, отлегло. Гора свалилась с плеч.
— Шапка где?
Студент похлопал по своей сумке.
— Ну, пойдем проверим, что ты там наработал…
— Проверь, если хочешь, — маска широко зевнула.
Они вместе прошли в четвертый зал. Витрина выглядела целой, и шапка там лежала… Как настоящая. Соболиный кант, крест, камни, все как положено. «Может, и в самом деле пронесет?» — подумал Короедов. И успокоился окончательно.
— Молодец, все чисто. Сигнализацию уже можно включать? — спросил он.
— Включишь утром, когда будешь уходить. Я склеил шов, надо дать ему схватиться как следует.
Короедов вдруг засомневался.
— А если не схватится?
— Я ж тебе сказал, служивый: я лучший спец в таких делах, у меня все схвачено. А что не схвачено, то схватится, не переживай.
— Ну, утром так утром!
Они дошли до следующего зала, где выставлялись экипажи и повозки. Там Студент забрался внутрь санного возка конца XVII века, представлявшего собой обитый сафьяном короб с окошками на деревянных полозьях. Здесь ему предстояло ждать утра и первых посетителей, с которыми он должен будет незаметно смешаться.
— Ну как, нормально устроился? — поинтересовался Короедов.
— По-царски, — ответили из темноты возка.
Остаток ночи Короедов провел, пересчитывая деньги и мечтая о новой спокойной жизни, в которую он сейчас вступал. Точнее, уже вступил. После выплаты долга у него останется целых пять тысяч рублей! Огромные деньги, если задуматься. Можно будет купить дачу в Вешках каких-нибудь, на северной окраине. Главное, чтобы подальше от Мамырей. Никаких больше Мамырей! Никаких больше карт! Может, даже с водкой получится завязать… Новая жизнь, в общем!
В пять утра сонный и окрыленный Короедов пошел совершать утренний обход. Теперь он смотрел на упрятанные за пуленепробиваемыми витринами золотые и серебряные украшения без малейшего раздражения, с каким-то даже чувством сопричастности. Здраво поразмыслив, он пришел к выводу, что к даче, в общем-то, полагается автомобиль. А как же? На электричке не очень-то наездишься, особенно со всякими баулами, картошкой да кабачками (а картошка и кабачки будут родить обильно, в этом он не сомневался)… Вот-вот. Если же подойти к делу с умом, то, помимо дачи, денег хватит на какой-нибудь слегка подержанный «Москвич». Главное, выбрать благородный цвет…
«Благородный цвет…» — повторил он про себя еще раз, как раз дойдя до витрины с шапкой Мономаха и прочими царскими регалиями. И остановился.
Витрина была целой и невредимой. По крайней мере, выглядела как целая. Но шапки Мономаха там не было. Слева — государственная держава с серебряным крестом, справа — императорская корона Анны Иоанновны… А между ними на бархатной подставке лежала обычная кроличья ушанка. Облезлая. Мятая. Унылого поносного цвета (совсем неблагородного). И уши наверху завязаны какой-то растрепанной веревочкой. Особенно поразило Короедова то, что цвет этой веревочки был радостно-синим и ее явно срезали с какого-то другого предмета гардероба, типа женского бюстгальтера. В окна Оружейной палаты пробивался первый утренний свет, в котором эта чертова ушанка выглядела особенно дико и нагло. Как же так? Может, опять наваждение, как тогда, с этой бабой в купальнике и огненными шарами?
Капитан Короедов обошел витрину с одной стороны, с другой. Присел на корточки, глянул на ушанку с нижнего ракурса. Ничего не изменилось. Из его горла вылетел сдавленный хрип. Оскальзываясь на полированном мраморном полу, он ринулся в зал экипажей. Резко затормозил у обитого сафьяном возка, врезался в него, отшатнулся, рванул на себя хлипкую дверцу. «Макаров» в дрожащей руке нацелился в черное нутро царской повозки.
— Выходи, тварь!
Внутри никого не было. У Короедова округлились глаза. Он отодвинулся, уставился на табличку с надписью «Возок зимний потешный. Москва, 1689–1692 гг.», словно мог ошибиться экипажем. Огляделся вокруг, бросился к сияющей позолотой французской карете XVIII века. И там никого. Ринулся дальше — нырнул в королевский портшез, едва не опрокинув его на себя. Карета венская! Карета немецкая! Колымага, мать ее, английская!..
Он сбивал оградительные столбики, дергал дверцы, светил фонариком. Обежал все залы. Осененный внезапной догадкой, рванул вдруг в полуподвал, в электрощитовую… Но и там было пусто. «Лучший в мире спец», скотина, гад! — бесследно исчез!!! Сбежал! Обманул! Под ложечкой у капитана Короедова закололо. Глянул на часы. Скоро придет сменщик, осталось каких-то двадцать минут… Звонить на пост, поднимать тревогу? Но как он объяснит исчезновение ценнейшей реликвии и появление этой наглой поносной ушанки? Как это все могло случиться? Уснул, проворонил? Или сам помогал?
«А ведь докопаются, как есть… Узнают! «Вышак» впаяют!» — подумалось ему с необычайной ясностью. И тут же, еще яснее, еще кристальнее: «А зачем мне «вышак»? У меня ведь деньги есть!! Уйду с концами! Сменюсь и уеду, даже домой не пойду!»
* * *
Такси с зеленым огоньком стояло на Манежной улице, как раз на выходе из Кремля. Короедов упал на заднее сиденье, бросил портфель на колени, сунул таксисту новенький хрустящий полтинник.
— На Павелецкий, шеф. С ветерком!
Двигатель «Волги» отозвался на его слова радостным рыком. Машина вылетела на проспект Калинина, лихо развернулась на пустынном по случаю раннего утра Садовом кольце и устремилась на юг.
— На поезд? — не оборачиваясь, бросил таксист.
— Он самый, — сухо ответил Короедов. Подумав, добавил: — В Саратов, в командировку.
Ни в какой Саратов он, конечно, не собирался. Пересесть на Павелецком на метро, махнуть на Курский вокзал, а оттуда — к родственникам в Тулу. Ну а там видно будет… Примерно такой вот план сложился в опухшей от волнений голове капитана Короедова.
— Да ты что? А у меня теща из Саратова! — таксист хмыкнул с таким видом, будто они оказались близкими родственниками. — Анекдот такой есть, слыхали? Померла, значит, теща у мужика… ага. Жена ему: как будем хоронить — кремировать, бальзамировать или просто закопаем? А он, слышь, такой: давай, говорит, все сразу, чтоб наверняка!.. Ха-ха-ха! Неплохо, да?
Короедов посмотрел в зеркало и промолчал.
— Уловили юмор, да? — не отставал, продолжал веселиться таксист. — Он, значит, боится, что теща может ожить случайно, понял, да? Ну и, такой, значит, собирается ее забальзамировать, а потом сжечь, а потом еще и закопать! Во дает! Ха-ха! Давай, говорит, все сразу! Ха-ха-ха!
— Я понял, — сдержанно сказал Короедов.
— А командировка — это дело серьезное… ответственное даже! Я верно говорю, товарищ капитан? — глаза снова возникли в зеркале. Таксист явно соскучился по общению. — Да… Я вот, верите ли, люблю на поезде ездить! Сел в купе, принял сто грамм — и баиньки… Милое дело! Красота! За баранкой этой проклятой не поспишь ведь! И коньячку не навалишь! «Гайцы» так за хобот ухватят, никакого коньячку потом не захочешь!.. У вас есть знакомые «гайцы», товарищ капитан? Я бы вот, честно, что хочешь отдал, чтобы закорефаниться с каким-нибудь «гайцом»! Не познакомите, а?..
Какой-то уж больно болтливый таксист попался, подумал Короедов. И навязчивый.
— Нет у меня никаких знакомых! — рявкнул он. — Смотрите за дорогой и не отвлекайтесь!
И сам отвернулся в окно, чтобы не встречаться взглядом с таксистом. В молчании они ехали некоторое время, и тут Короедов заметил по правому борту торчащее над верхушками деревьев колесо обозрения.
— Это что, парк Горького? — удивился он. — А где же вокзал?.. Мы его что, проехали?
— Чего это проехали? — неожиданно злобно отозвался таксист. — Ничего мы не проехали!
— Так ведь колесо! — капитан ткнул пальцем в окно. — А вокзал там! — Он показал на противоположную сторону.
Где-то с минуту таксист не издавал никаких звуков, только ниже склонился над баранкой.
— Умные какие все стали! Учить меня будет, где вокзал! Ага, конечно! — проворчал он. — А что проспект перекопали, не заметил?
— Какой проспект?
— А вот такой!
Раздался резкий визг тормозов. Капитана Короедова швырнуло вперед, на спинку сиденья. Портфель слетел с его колен, а сам он ударился подбородком обо что-то твердое и острое, так что искры посыпались из глаз… Потом откуда-то появилось лицо таксиста в неожиданном нижнем ракурсе, далекое и расплывчатое и в то же время показавшееся капитану удивительно знакомым… Но его тут же заслонил огромный кулак с кастетом.
— Лежи тихо, сука! — услышал Короедов. И опять искры. И темнота.
* * *
Такой же дом, как в Мамырях, такая же скамейка, стол… Как в кошмарном сне. И он на том же самом месте сидит. Вроде бы. Только ни водки, ни карт на столе, и в окно светит солнышко, и компания перед ним другая… По крайней мере, того огромного человека, похожего на облаченную в штаны и рубашку гориллу, только страшнее, капитан Короедов не помнит. Ему даже больно на него смотреть, настолько он огромный и жуткий. И что делать?.. Табельного оружия-то при Короедове нет — отобрали, сволочи. И оружие отобрали, и пакет с деньгами. Что из этого хуже, он даже сообразить не мог.
— …А я ему впариваю, значит, пургу всякую, пятое-десятое, а сам на Ленинский свернул, — журчал голос таксиста Витька.
«Значит, ты не только таксист, но и бандитский пособник! — подумал капитан. — Ну и гад!»
— Еду и думаю: ни хрена себе, сдернуть хотел со всем баблом, лягаш вонючий!.. А с долгами кто рассчитываться будет?!
— Это чего, Мить, тот самый мент? — перебил его человек-горилла.
— А кто ж еще, — сказал Хваленый, пересчитывая пятидесятирублевки и складывая их стопками на столе. — Сегодня как раз месяц, как он мне десятку проиграл. Выжучивался, сука, отдавать не хотел… А я сразу понял, что золотишко из музея толкать будет, деваться-то ему некуда. Только боялся, что сбежит. Вот и приставил Витька присматривать…
Он уложил в стопку последнюю купюру и сказал:
— Пятнадцать тыщ без полтинника…
Витек положил на стол новенькие пятьдесят рублей.
— Вот, это он со мной расплатился.
— Ты знаешь, что бывает с теми, кто долги не отдает? — хмуро поинтересовался человек-горилла.
— Так ведь я вот… Отдаю… — выдавил Короедов.
— Ага. Когда тебя за холку взяли!.. Где взял бабки, чмо?
Короедов старался не смотреть в маленькие немигающие глазки — смертельные амбразуры, просто не мог в них смотреть. И поэтому уставился в стол.
— Получил, — сказал он тихо.
— От кого получил? Зарплату мусорам выдавали, что ли?
Витек захихикал. Короедов вытер под носом связанными у запястий руками и попытался объяснить:
— Это один из ваших… Не знаю, как его звать, не назвался… Мы договорились, что этой ночью я сигналку отключу, а он шапку Мономаха с витрины дернет… Ну а по факту, он меня обманул…
— Из каких это «из наших»? — поинтересовался горилла, развернулся к Хваленому, подозрительно глянул. — Твои?
— Да ты че, Голован? — возмутился Хваленый. — Мои архары под веником сидят, они без моего согласия на такое дело в жизни не подпишутся!
Голован снова повернулся к Короедову.
— Шапка Мономаха, говоришь? Это такая… Мохнатая, типа корона? Иван Грозный типа, да?
Короедов утвердительно кивнул.
— И где эта шапка?
— У него, у этого… Он с ней ушел, сбежал. Обещал, что у него копия есть, а сам ушанку старую бросил… Мне теперь «вышка» светит!
— «Вышка»! — презрительно передразнил таксист Витек. Голован тяжело глянул, и он умолк.
— Как выглядит этот фуфел? Сколько лет?
— С бородой такой. Крепкий, пижонистый. В очках дымчатых… А потом он все в маске был, лица не видел. Сказал, он лучший спец в Союзе по музейным кражам…
Бандиты переглянулись. Хваленый пожал плечами.
— Залетный кекс, что ли? — сказал он.
Голован насторожился.
— Лучший по музеям?
— У него еще перстень был на пальце, — вспомнил Короедов. — С львиной мордой! И камень такой в пасти, черный…
Лицо человека-гориллы мгновенно налилось краской, словно внутри у него лопнула какая-то артерия. Он схватил капитана за ворот кителя, поднял и встряхнул.
— Студент! Это Студент, да? Где эта сука?
— Сбежал, я ведь говорю… — пробормотал Короедов. — Он должен был в зале спрятаться и сидеть тихо, ждать, а он, наверное, свинтил как-то по-хитрому…
Голован еще разок тряхнул его и швырнул на скамейку.
— А ну давай, говори толком и по порядку. Что там за дела у вас со Студентом?
Короедов, избегая смотреть Головану в глаза, принялся рассказывать. Толком и по порядку. Как познакомился, как отдал дубликаты от решетки полуподвала и электрощитовой. Как Студент вручил ему деньги и укрылся в санях. И как потом в витрине появилась ушанка, а Студент исчез. Когда он закончил, Голован посмотрел на Хваленого.
— Что думаешь?
— Думаю, он никуда не выходил, — сказал Хваленый. — Где-то там прячется, сука.
— И я так думаю.
Голован повернулся к капитану Короедову.
— Во сколько открывается твой музей?
Глава 4 Конец «короля воров»
Сидеть в тесном и душном возке, изготовленном без малого триста лет назад, было не очень комфортно. «Лягушонка в коробчонке», — вспомнилось откуда-то из детства. Понятия об удобстве в XVII веке были довольно странными: всюду обивка из шелка, серебряные гвозди, украшения-кренделя, а вот сиденья — узкие, и ноги деть некуда. И пахнет как в гробнице.
Студент и не собирался здесь рассиживаться. Уже через десять минут после того, как затихли вдали шаги охранника, он выбрался наружу. Впереди целая ночь, но и ее могло не хватить. Времени в обрез.
Натянул перчатки (перстень надел поверх — на удачу), влез ботинками в толстые шерстяные носки, чтобы не шуметь. Вышел в четвертый зал, нашел нужную витрину. Глаза привыкли к темноте, ему не пришлось включать фонарик, чтобы увидеть шапку Мономаха, покоящуюся на обитой бархатом подставке. Она вроде как даже сама светилась. Загадочная, прекрасная. Бесценная. Его шапка.
Прикоснулся к стеклу витрины, словно поздоровался. «Потерпи еще немного, я скоро». А вот теперь ему понадобится свет. Точечный, узконаправленный, чтобы не спугнуть капитана Короедов, который пересчитывает, наверное, в поту и сладкой истоме свои кровные рубли.
Он закрепил на голове обруч с фонариком, внимательно осмотрел стекло, стальную раму, постамент витрины, верхнюю часть. Вырезать «балеринкой» круглое отверстие, как он проделал это в Эрмитаже, нельзя: как только этот лох включит сигналку — тут же заревет сирена из-за нарушения целостности периметра, запечатают все входы-выходы, и ему отсюда не уйти. А без тревоги отсутствие ценности все равно заметят, но хотя бы пройдет какое-то время. Он надеялся на это.
Достал из сумки алмазный резак, сделал несколько пробных надрезов вдоль стальной рамы. Постучал согнутым пальцем, прислушался. Результат не воодушевил. Стекло толстое, вырезать витрину придется до полудня.
Ладно. Дальше. Неспешная прогулка пучка света по раме, по периметру, вверх-вниз, влево-вправо. Нашел наконец. Личинка замка — крохотная, с небольшую монетку. Это абсолютно ни о чем не говорит, потому что сам замок может оказаться сейфовым монстром с двухключевой системой отпирания и десятком уровней защиты от взлома. Или еще посерьезнее, с какой-нибудь электроникой… Он бы, может, и рискнул, и попробовал, будь у него в запасе вторая попытка. А так придется действовать наверняка.
Еще несколько минут поисков. Маленькие плоские головки штифтов, на которых держится замок, сливаются с рамой. Цвет один в один. Зазоров нет. Кончиком победитового сверла он провел несколько легких линий вокруг личинки. Зацепил один штифт — на нем царапина отсвечивала чуть-чуть менее ярко. Царапнул еще в том же месте. Точно. Очертил головку, поставил в центре метку. Точно так же нашел остальные штифты — всего шесть штук. Потом начал высверливать их бесшумной дрелью с ручным приводом — любимым инструментом «медвежатников». Сжимаешь пальцами рычаг на круглой ручке, похожей на ручку мопеда, внутри тихо жужжат шестерни, вращается шпиндель с тонким, как игла, алмазным сверлом, на пол летит мелкая металлическая пыль, насыпается горкой. Горка увеличивается. Вторая, третья… Шестая. В ход идут более крупные сверла, сворачивается серпантином ровная стружка. Пальцы одеревенели, плечо ноет от напряжения. Кажется, еще чуть-чуть, и рука отвалится.
Но первым сдался замок. Высверлив крепеж, Студент с помощью пинцета и отвертки сдвинул его в сторону, вывел ригель из паза на другой раме. Краем глаза глянул на часы: без десяти минут три. Да, провозился достаточно, но время еще осталось. Успевает. Рама беззвучно отъехала в сторону.
Студент протянул руку… и застыл на месте. Луч фонаря выхватил из темноты изъеденное морщинами лицо землистого цвета, отразился в узких лисьих глазах. В глубине витрины, там, где только что лежали в ряд на обитых бархатом полках царские шапки и короны, сейчас стоял низкий трон-топчан с резной спинкой. На троне, подобрав ноги, сидел древний старик азиатской внешности, мерно покачивая увенчанной шапкой Мономаха головой.
— Ты… Ты кто такой?.. — охрипшим голосом выдавил Студент. — Что тебе надо?
Старик молча разглядывал его, неподвижный, как сфинкс, и только маленькая голова в шапке — влево-вправо. Не фарфоровый старик, не белолицый, а живой, темный и сморщенный, как сушеная груша.
— Ты китаец, что ли? Тот самый китаец, да? — крикнул потрясенный Студент, но из горла наружу вырвался только свистящий шепот.
Голова замерла на месте и мелко-мелко затряслась. Губы старика раздвинулись в страшной улыбке.
— Почему ты решил, что я китаец, глупец? — послышался скрипучий голос с легким восточным акцентом. Старик смеялся. Сердце Студента провалилось в живот.
— Мои предки и родичи покорили Китай точно так же, как покорили Русь, и Крым, и Сибирь… Я — Узбек-хан, сын Тогрулджая, прямой потомок Чингиз-хана, правитель Золотой орды, хозяин этой шапки! Когда-то, очень давно, во дни моего могущества, я подарил ее одному из ваших великих князей, моему слуге и вассалу. Вскоре его убили, и шапка перешла к следующему князю. И дальше, и дальше, и так она переходила от одного к другому… И все они погибли. Спроси меня, человек: даровала ли она хоть кому-нибудь покой и долгую жизнь — или, наоборот, отнимала? Зачем ты тянешь к ней свои нечистые руки?
— Мне наплевать! — прорычал Студент. Внутри у него все дрожало, но злость была сильнее страха. — Я пришел за этой шапкой и все равно возьму ее!
Дробный фарфоровый смех рассыпался по залу.
— Все так говорят… — проскрипел старик и улыбнулся еще шире.
— Отдай по-хорошему, слышишь!
Студент шагнул вперед. Ему казалось, он только хотел сдернуть шапку с головы Узбек-хана, но вместо этого вдруг ударил его. Причем в его руке каким-то невероятным образом оказался тяжелый нож. Раздался звон… Нет, хруст. Темная кровоточащая полоса перечеркнула лицо старика слева направо, и тут же вверх и вниз побежали, разветвляясь и утолщаясь, черные нити. В одно мгновение они оплели все сухонькое тело Узбек-хана, его вышитый золотом и шелком халат, вышитые ичиги на ногах, даже трон с резной спинкой…
А затем старик рассыпался, как фарфоровая статуэтка, на мелкие части, превратился в пыль. Как беззвучный взрыв. Исчез, будто его и не было. Будто морок сошел, прекратился.
Студент встряхнул головой. Перед ним открытая витрина — все как было. Шапка лежит на подставке, на своем обычном месте, среди других экспонатов. Нетронутые горки стальных опилок блестят на полу, рядом инструмент и сумка. Только непривычный тяжелый запах стоял в воздухе и сердце бухало, как обитый войлоком тяжелый колокол.
…Все, хватит с него. Больше ни о чем не думать, действовать быстро!
Он сунул руку в витрину, взял шапку, хотел сунуть ее в сумку… Вместо этого надел на голову. Думал, что-нибудь такое почувствует. Не почувствовал. Только тяжелая и по размеру маловата. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! — вспомнил он. — Кто это сказал?»
Дальше. Конечно, никакой копии шапки, даже самой приблизительной, у него при себе не было. Если охранник повелся на его слова, то он просто дурак. Да и какой смысл в копии, если замок взломан и это никак не скроешь?
Он достал из сумки припасенную для этого случая ушанку, которую надевал однажды на «разведку» в Новоазовский краеведческий музей, маскируясь под обычного работягу. Ушанка — чисто для форсу. Чисто стебануться над ментами. Можно обойтись и без этого, но тогда, по мнению Студента, чего-то не будет хватать для красоты и законченности всей картины. А этот штрих придаст краже века особый цимес, и говорить о нем будут на всех зонах и пересылках Союза, да и на воле тоже…
Студент бережно уложил ушанку на подставку, полюбовался. Губы сами собой растянулись в улыбочку. Красота. Просто бомба. Особенно рядом с императорской короной и прочими царскими регалиями… Хотел бы он видеть, как вытянется лицо у того, кто первым обратит внимание на это маленькое несоответствие… Что там у них на табличке написано?
Наклонился, прочел: «Шапка Мономаха, XIV в., Золотая орда. Предположительно дар ордынского правителя Узбек-хана московскому князю Юрию Даниловичу. В XV–XVII вв. — одна из главных государственных регалий, символ царской власти, использовалась при венчании на царство русских государей…».
— …А во второй половине XX века была успешно присвоена легендарным ростовским вором по кличке Студент. И жили они долго и счастливо, — вслух досочинил он надпись на табличке.
Ну вот и свершилось. Пора сваливать отсюда. Он поставил раму на место, кое-как закрепил ее. Сгреб опилки в газету, спрятал в карман, убрал инструменты в сумку. Возвращаться в душный возок он не собирался. Пройдя через весь зал к лестнице, увидел дремлющего за столом под лампой охранника Короедова. Тот сидел, уронив голову на руки, и лицо его было безмятежным, как у ребенка в новогоднюю ночь.
* * *
До открытия Оружейной палаты оставалось еще несколько часов. Точнее, четыре часа с четвертью. Студент провел их в комнате электрика. Не в тесной, неуютной электрощитовой, где его мог обнаружить Короедов, а в соседней комнате, с относительным комфортом устроившись на дерматиновой кушетке.
Шапку положил на живот. Водил ногтем по золотым бороздкам филиграни. Пересчитал все камни: точно — сорок три. Выбрал из них самый красивый, самый бездонный — синий сапфир на верхушке, у изножия креста. Даже хотел отковырнуть ножичком, чтобы лучше рассмотреть, почувствовать в ладони его холодную тяжесть. Не решился. Смотрел на него, просто смотрел и тонул. И уснул в конце концов.
Приснился ему старик Узбек-хан в кроличьей ушанке. Злой как черт. Ругался, топал ногами в мягких ичигах. А потом неожиданно быстрым и ловким движением сдернул с его руки перстень. И исчез…
Студент проснулся как от толчка, едва не свалившись с кушетки. За стенкой в электрощитовой что-то гремело и лязгало, будто там демонтировали оборудование. Потом послышался громкий рев Короедова:
— Сука, тварь!!! Сбежал!!! Все равно найду!!!
«Интересно, додумается хотя бы постучать сюда?»
Не додумался. Хлопнула дверь, прозвучали неровные, спотыкающиеся шаги. Все стихло. Студент глянул на свой перстень. Никуда он не делся, плотно сидел на пальце. И оберегал его, как всегда…
Разве что черный камень в пасти льва теперь показался ему тусклым и мертвым после океанической глубины сапфира.
* * *
Первых посетители Оружейной палаты запустили в десять утра. Хмурый, с мелким дождиком понедельник не предвещал ничего необычного. Правда, заступивший на утренний пост старлей Голубев заметил, что капитан Короедов, только что отдежуривший ночь, выглядел уставшим и каким-то растрепанным. В последнее время с ним такое уже случалось — говорят, капитан пытается завязать с пьянкой, «ломается», переживает… Да и сегодня нервничал, торопился, видно, не терпелось опохмелиться… К водке привязаться легко, а отвязаться трудно!
Ах да. Еще Короедов предупредил, что в пульте сигнальная лампочка перегорела, от десятой витрины в четвертом зале. И на это тоже никто не обратил особого внимания. Лампочки перегорают постоянно, а сам не поменяешь — пульт-то опломбирован. Придут электрики, все наладят, не беда!
Дежурный уселся на свое рабочее место, положил в стол только что начатую пачку «Севера», развернул воскресный выпуск «Футбола»… Ну а тут и электрик как раз проходил мимо.
— Эй, товарищ электрик! — окликнул Голубев. — У нас с сигнальной лампочкой проблемка! Не взглянете?
Тот поднимался из подвала и шел к выходу. Торопился, видно. Даже головы не повернул, махнул рукой.
— Позже подойду! Ждите! — буркнул.
И вышел на улицу. Больше старлей его не видел.
(«Почему вы решили, что это именно электрик? Видели его раньше в музее? Узнали в лицо?» — допытывался позже следователь прокуратуры. «Так откуда мне всех их знать-то? — растерянно бубнил Голубев. — Ну, электрик и электрик… Куртка синяя, написано «Мосэнерго», они все в таких куртках ходят… А еще сумка через плечо, рабочая сумка для инструмента. И кабеля моток через плечо… Я даже не задумался как-то. Кто ж это еще может быть, как не электрик?..»)
В двадцать минут одиннадцатого двое школьников из группы посетителей громко рассмеялись, показывая на витрину № 50 «Древние государственные регалии XIII–XVIII веков».
— А чего, наши цари вместо короны ушанку носили? — спросили они экскурсовода. — Это чтоб холодно не было?
Экскурсовод строго посмотрела на школьников, потом на витрину, и…
— Секундочку, товарищи… — пролепетала она, стремительно бледнея.
Попятилась, не отрывая потрясенный взгляд от витрины, споткнулась о собственную ногу. И, словно очнувшись, галопом понеслась к посту охраны.
Через минуту во всех залах музея взвыла тревожная сигнализация. Забегали сотрудники, грубо расталкивая посетителей, запирая все двери. По Дворцовой площади пронеслись, с визгом затормозив у крыльца Оружейной палаты, два милицейских «уазика». Из них выскочили люди в форме, рассредоточились вокруг здания. Охрана на всех воротах Кремля была поднята по тревоге, все выходы перекрыты. Туристы, выстроившиеся в очередь у только что захлопнувшихся перед ними Троицких и Боровицких ворот, недоуменно перешептывались.
— Что случилось? Почему не пускают?
— Говорят, украли что-то.
— Да нет, убили.
— Ой, бросьте ерунду говорить!..
— Какая ерунда? Американцы войну нам объявили! Ракеты уже над Балтикой! Весь ЦК срочно эвакуируется!
— Ну как вам не стыдно? Людей только пугаете…
— Это он специально, чтобы очередь разбежалась, а он потом первый зайдет!
И все же толпа заметно дрогнула, заволновалась. Кто-то ушел. Какая-то женщина со свежей химзавивкой даже побежала, выбрасывая в стороны ноги и поглядывая на небо, откуда должна была прилететь смертоносная американская ракета. За ней вдруг устремились вслед какие-то парни в штатском, непонятно откуда взявшиеся.
— А ну, постойте, гражданочка!
Начиналось то, что в милицейских отчетах обычно зовется «отдельными беспорядками» и «легкой паникой». По ту сторону ворот, на территории Кремля, все было еще серьезнее. Там досматривали и опрашивали перепуганных посетителей, там бегали кинологи с собаками, шипели и ругались благим матом милицейские рации, кого-то отпаивали валерьянкой в комнате охраны…
Главное, что никому не было дела до человека в синей спецовке с надписью «Мосэнерго», который к этому времени успел не только покинуть Кремль, но также благополучно пересечь Боровицкую площадь и выйти на проспект Маркса.
* * *
— Все. Поздно. Он сто раз уже ушел, — мрачно проговорил Хваленый, глянув на часы, а потом в окно автомобиля. Его правая рука сжимала в кармане куртки табельный ПМ капитана Короедова.
— Дак приехали, считай. Не разворачиваться ведь! — отозвался спереди Витек.
— Я тебе развернусь! — рявкнул Голован и ткнул кулаком в водительское сиденье. — Давай, жми!
Витек послушно надавил на газ.
Они подъезжали с юга к Большому Каменному мосту, впереди виднелись башни Кремля. Капитан Короедов сидел на заднем сиденье между Голованом и Хваленым. Руками он шевелить не мог, поскольку был намертво зажат между двумя бандитами, как деталь в столярных тисках, — поэтому ограничивался указующими кивками головы.
— Во-он там один выход, это Боровицкие ворота. А дальше — там второй, через Троицкие… Но он скорее пойдет через Боровицкие, они ближе к музею…
— А дальше он куда?
Короедов растерянно открыл рот и попытался пожать плечами, но даже это ему не удалось.
— Я не знаю… Куда захочет, туда и пойдет, наверное…
Съехав с моста, они заметили припаркованные под стенами Кремля милицейские машины и людей в форме, которые разгоняли толпу у Боровицких ворот. Капитан втянул голову в плечи, глаза испуганно округлились.
— Бляха-муха, началось… — пробормотал он. — Они уже ищут шапку! Поехали отсюда! Гони дальше!
— Заткнись, мусор, — сказал ему Голован. — Витек, ну-ка, притормози немного, надо осмотреться.
Витек взял правее и замедлил ход, собираясь остановиться у бордюра, но тут же прибежал откуда-то взмыленный гаишник, яростно замахал руками, крикнул:
— Не останавливаться! Проезжай!
— А что случилось, шеф? — спросил Хваленый, опустив стекло.
— Не твое дело! Езжай, сказано!
Ничего не поделаешь, поехали, покатились дальше. Мимо Александровского сада, Манежной, обогнули лужайку перед музеем Калинина. Голован взял Короедова за загривок, встряхнул так, что у того лязгнули зубы.
— Смотри по сторонам, мусор, а не в пол! Если Студент не спалился, он где-то здесь! Будем ездить кругами, пока не найдем!
Короедов старательно вытаращил глаза. Они ехали по серому, понедельничному проспекту Маркса, над которым сыпал мелкий дождик. Вместо людей зонты — черные, серые, коричневые, пестрые. Кого он здесь может увидеть? Больше всего ему хотелось вернуться домой, выпить водки и ждать конца. Или к маме в Тулу. Ему надо думать о себе, а не об этом чертовом Студенте. Какого лешего вообще он здесь делает?..
…Один человек шел по проспекту без зонта. На нем была промокшая рабочая куртка с надписью «Мосэнерго», на плече висела сумка. Он шел быстрым широким шагом, низко наклонив голову и ступая прямо по лужам. Иногда он задевал кого-то из прохожих своими плечами или сумкой, обрызгивал водой из луж. Одна дама в модной болоньевой куртке даже сделала ему замечание, но он будто не услышал. Видно, очень торопился.
Короедов, рассеянно скользивший взглядом по толпе, погруженный в свои проблемы, не обратил бы на него внимания, если б не возмущенный возглас дамы. Потом он увидел его. И ободранную клеенчатую сумку на плече.
— Вон тот, впереди! У него такая же сумка была! — крикнул он, пытаясь выдернуть руку.
— Кто? Где?
— Да вот же! Синяя куртка! Черная сумка!
Он наконец додумался наклониться вперед и выдернул свою онемевшую руку. А когда выпрямился, человек в синей куртке куда-то пропал. Исчез. На ровном месте.
— Где синяя куртка? — заорал ему в ухо Хваленый.
— Где-то здесь… Только что был…
Витек ударил по тормозам, бандиты вместе с Короедовым выскочили наружу, завертели головами. Хваленый запрыгнул на скамейку на автобусной остановке, чтоб было лучше видно. Зонты, зонты… Ничего больше.
— Вот он! — закричал капитан, показывая на белую «Волгу», которая выезжала на дорогу из парковочного «кармана». — В машину сел!
Белая «Волга» уверенно вклинилась в поток машин, перестроилась в левый ряд и повернула на улицу Калинина.
* * *
Студент далеко не сразу понял, что за ним «хвост». Включил радио погромче, ехал быстро и напористо, как привык ездить, к тому же еще повезло поймать «зеленую волну» — пол-Москвы пролетел на разрешающий сигнал светофора.
Да, он смог осуществить мечту всей своей жизни. И вдобавок выйти сухим из воды. Наверное, уже завтра в газетах что-нибудь напишут об этом. Даже в иностранных. В какой-нибудь «Нью-Йорк таймс» на первой полосе: «Ограбление века в московской Оружейной палате! Русский вор короновался шапкой Мономаха!..» Хм, а ведь так и есть. Теперь он — царь воров!
Первый красный светофор попался в начале Варшавского шоссе. В левом ряду стояли три или четыре машины, Студент остановился за ними. Когда загорелся желтый свет и поток начал движение, справа откуда ни возьмись прилетело старенькое такси и попыталось вклиниться перед ним, едва не разворотив крыло. Он не успел ничего подумать, даже фафакнуть не успел, когда задняя дверца такси распахнулась и наружу вывалился… Голован. Огромный и разъяренный, как горилла. Он бросился к «Волге», дернул заблокированную дверцу, ударил по ней ногой, грохнул кулаком в стекло.
Откуда взялся?! Как нашел?!
Искать ответы было некогда. Студент выкрутил руль влево, заставив какой-то фургон на встречной полосе испуганно вильнуть в сторону. Педаль газа — в пол. Окутавшись дымом из-под колес, «Волга» выстрелила в сторону Кольцевой… Каширка… Москворечье… Царицыно…
До самого кольца шел под сто двадцать, сбросив скорость только один раз, у поста ГАИ. Такси не видел. Даже успокоился. Выехал на донскую трассу. Пролетел Видное, Домодедово. Трасса пустая. Успокоился окончательно. С благодарностью глянул на перстень. В самом деле, было бы глупо и нелогично, совершив одно из самых дерзких ограблений в Новейшей истории (он быстро приучился рассматривать себя в крупном, историческом масштабе), спалиться из-за какого-то Голована… Кто вообще такой Голован? Придурок. Примитивный, отмороженный убийца… Питекантроп… По большому счету, даже бегать от него стыдно… Да шел бы он… Тоже мне…
Тах-тах-тах! Двигатель «Волги», работавший все это время как часы, вдруг взревел, захлебнулся. Скорость резко упала, машина задергалась. Не понял! Он сильнее надавил на газ — двигатель ревел, машину трясло, скорость продолжала падать. Переключился на третью передачу. На вторую. Первую… На первой машина немного подхватилась, поехала… И тут же в нос шибанул запах сгоревшего сцепления, из-под крышки капота повалил густой дым.
«Сцепление полетело, ни хрена себе!..» — подумал он потрясенно, выруливая к обочине. Как будто факт поломки противоречил каким-то основополагающим законам мироздания. На самом деле примерно так и было, только противоречивым было нарушение незыблемого воровского фарта и всеобъемлющей удачи, которые сопутствовали ему с момента обретения перстня.
Остановился. Заглушил машину, вышел. Открыл капот. Зачем, непонятно, все равно ведь сам он ничего не поправит… Тут подъемник нужен, какие-то запчасти… Автослесарь нужен, елки-палки. Впрочем, ничего не нужно. Надо скорее делать ноги отсюда, а машина… Фиг с ней, с машиной. Только бы убраться.
Пока что его не покидало чувство уверенности, что все будет хорошо. Да, так оно и есть. Все обойдется. Он взял из салона сумку, документы на машину. Встал у края дороги и поднял руку, голосуя. Проехал грузовик. Еще грузовик. Новенький «жигуль» чуть сбросил скорость… Нет, газанул, уехал. Добраться до Ступина, там сесть на поезд. Ничего сложного. Километров пятьдесят примерно. Вдали показалась бледно-салатовая точка. А вот и такси. Отлично. Таксист точно не проедет мимо. Таксисты — народ ушлый, своего не упустят. Студент достал из кармана червонец, помахал им…
И — обмер. Понял. Вспомнил. Голован ведь тоже ехал в такси.
Он схватил сумку, скатился с насыпи вниз и бросился прочь от дороги, в лес. Добежал до первых деревьев, спрятался за куст, остановился, оглянулся. Сперва видел только свою «Волгу», сиротливо застывшую на обочине. Может, это было другое такси? Может, зря паниковал? Голован небось куда-нибудь в аэропорт укатил или до сих пор катается по Москве, ищет его…
Рядом с «Волгой» остановилась машина. Черные шашечки. Салатовый кузов. Громко лязгнули дверцы, послышались голоса. Дальше Студент смотреть не стал. Закинул сумку на плечо и побежал дальше в лес. Даже сейчас он был далек от того, чтобы паниковать. Ведь это всего лишь Голован. Это не менты, не облава с собаками. Сейчас он отбежит подальше, укроется за подходящим деревом, достанет свой ствол и спокойно почикает всех к такой-то матери…
Он зацепился сумкой за ветку, как-то неловко крутнулся и полетел на землю. Тут же вскочил, поднял сумку… Ремень порван. Б…дь! Посмотрел в сторону дороги — две темные фигуры ломятся сюда… Выдернул из сумки шапку Мономаха, нахлобучил на голову.
— Я — царь воров! А вы — суки! Шавки! Нате, откосите!
Схватил пистолет, припал на колено, выстрелил несколько раз по фигурам. Там сверкнула ответная вспышка, бабахнуло. Еще раз, еще…
Ветки хлестали по лицу, цеплялись за шапку. Корни задевали за ноги, словно специально выдавливаясь из-под земли, преграждая ему путь. Шапка упала. «Нехорошо, — подумал он. — Царь всегда должен быть в шапке!» Он наклонился, чтобы ее поднять, и едва не упал сам. Ему показалось, что он бежит очень давно. Всю жизнь бежит. А ему надо бежать дальше, бежать быстрее, чтобы уйти от погони. Но в ногах поселилась вековая усталость…
Еще несколько шагов. Студент пошатнулся. Упал на колени. Вдруг заметил, что весь левый рукав куртки от плеча до запястья — в крови, даже под мышкой хлюпает кровь.
«Меня подстрелили…» — подумал он все с тем же безграничным удивлением. Словно желая убедить его в реальности происходящего, совсем близко прогремел выстрел. Страшная сила швырнула его лицом в сухую хвою и даже как будто попыталась вдавить в нее, втоптать, смешать с землей. Ни рукой, ни пальцем не пошевелить. Невыносимо тяжело!..
— Смотри, живой еще, нет? — донеслось откуда-то. — Шмальну разок для верности…
— Осторожно, Мить, шапку не попорть! Голован нас тогда с говном съест!
— А чего мне, в жопу ему стрелять прикажешь?
Кто-то подошел, сдернул с его головы царскую шапку, наступил на руку, выковырял пистолет из онемевших пальцев, грубо сдернул перстень. Студент уже хрипел, захлебывался.
— Ого, колбасит-то его как. Может, сам кончится, слышь…
— А потом ходить стрематься, да?
В висок уткнулось твердое, горячее.
— Ну, короче… Будь здоров, Студент, не кашляй.
И упала тьма, тяжелая, как горный архипелаг.
* * *
Голован и Короедов подошли через несколько минут. Дождь прекратился и посыпал опять, мелкий и холодный, заливая открытые мертвые глаза Студента. Подстилка из хвои под ним пропиталась кровью и казалась черной. Капитан Короедов мелко вздрагивал. Он словно порывался то ли убежать, то ли расплакаться.
— Ладно сработано, шеф! — похвастался Хваленый.
Он успел нахлобучить на голову шапку Мономаха и улыбался во весь рот, ожидая похвалы.
Голован аккуратно снял с него шапку, отряхнул воду и грязь, а потом отвесил подзатыльник, такой, что голова чуть не оторвалась.
— Ты чего?! — обиделся Хваленый.
— Того, — сказал Голован. — Шапка царская, а ты пока не царь… Где кольцо?
Хваленый обиделся еще раз. Если бригадир всякую мелочь отнимает, то какой смысл в бригаде ходить? Демонстративно отвернувшись, достал из кармана перстень с черным камнем, нехотя протянул. Голован не шевелился, молча сверлил глазами, пока Хваленый не подошел и не вложил добычу ему прямо в руку. Перстень утонул в огромной ладони, показался игрушечным, ненастоящим.
— Так не налезет же все равно… — пробормотал Хваленый.
— Не налезет, говоришь?
Голован взял кольцо двумя пальцами, поднес к глазам. Усмехнулся. И спокойно надел его на толстый, как сарделька, безымянный палец. У всех вытянулись лица. Перстень пришелся как раз впору. Наверное, они бы меньше удивились, если б Голован натянул на себя пионерские шорты. Все-таки одно дело шмотье, которое при желании можно растянуть, и совсем другое — металл, его не растянешь!
Короедов не отрываясь смотрел на шапку.
— И куда теперь ее? — спросил он.
— Как куда? Камушки повыковыриваем, золотишко переплавим, бабла полтонны поднимем! — заржал Витек.
— Шапку обратно в музей, — сказал Голован.
— Чего? — не расслышал Хваленый.
— В музей, сказал.
Наступила тишина, даже дорогу за деревьями стало слышно. И вдруг ожил капитан Короедов:
— Все правильно! Шапка — народное достояние! Реликвия! Ее народу надо вернуть!
— Ага, реликвия! А кто Студенту ее за пятнадцать кусков сбагрил, сука?! — крикнул Витек.
— Тихо всем! — рыкнул Голован. — Шапку мы все равно не спихнем, ни один барыга к ней даже не притронется — вещь слишком известная, только спалиться. Потому лучше отдать подобру-поздорову. Сказать, мол, так и так, нашли ценную реликвию, решили вернуть государству… И нам еще всякие ништяки за это будут положены…
— Типа бесплатной путевки в Магадан? — съязвил Витек.
— Какие ништяки! Мы же Студента завалили! — крикнул Хваленый. — Пойдет разбор, эксперты, пятое-десятое, все вскроется, как два пальца! Ты чего, Голован?! Очнись! Нам кранты будут, а не ништяки!
Голован уперся в него тяжелым взглядом.
— Ты что, балда, из своего ствола его хлопнул, что ли?
— Нет… Вон, его ствол был, мусора этого… — Хваленый показал на Короедова.
— Так а чего ты тогда кипешишь? Вот мусор его и завалил, а мы тут не при делах. Соображаешь?
Хваленый посмотрел на Голована, посмотрел на Короедова. Он все равно не понимал.
— А чего он его завалил тогда?.. Ты чего его завалил, морда мусорская?
— Не знаю… — капитан растерянно заморгал. И вдруг оживился, выпрямился, даже грудь колесом выпятил. — Так я ж его преследовал, по горячим следам. Догнал, отбирал… Изымал… награбленное народное имущество… При оказании сопротивления применил оружие… Восстанавливал законность…
— Рискуя собственной жизнью, — ехидно подсказал Витек.
— Так все равно не сходится! — упрямился Хваленый. — Он запустил Студента в музей, сигналку отключил, сам свалил… Сейчас там, в Кремле, вся ментовка на ушах, а он — что?.. Да на фига нам это все надо?! — загремел он. — Мудозвона этого покрывать! Шел бы он в жопу!
— Вот здесь ты абсолютно прав, — неожиданно согласился Голован. — Дай-ка сюда ствол, Хваленый.
Тот мгновенно притих.
— Ты чего, Голован? Зачем?
— Дай сюда, говорю.
Хваленый протянул ему ПМ, опасливо отступил на шаг. Голован взял пистолет, с щелчком оттянул курок… В следующее мгновение прогремел выстрел. Хваленый и Витек дернулись и присели. Капитан Короедов тоже присел, но неловко, будто споткнулся. Опустился на одно колено. Еще как-то изумленно глянул перед собой, расставил в стороны руки — и только после этого упал. В виске его зияла кровавая рана.
— Этот мудозвон во всем раскаялся, — негромко сказал Голован. — Понял, что ничего хорошего ему в жизни не светит. А может, просто не поделил со своим подельником шапку… Короче, пристрелил сперва его, а потом себя. Примерно так. Вопросы есть?
Хваленый и Витек закрутили головами. Вопросов не было.
* * *
Через несколько дней в «Московской правде» вышла небольшая заметка под заголовком «Так поступают советские люди». Речь в ней шла о таксисте 12-го таксомоторного парка г. Москвы Викторе Тихомирове, который подвозил двух мужчин в поселок Купчино. По дороге они заметили на обочине машину с открытым капотом и остановились, чтобы оказать помощь. К их удивлению, рядом с машиной никого не оказалось, зато из лесопосадки, расположенной рядом, донеслись звуки выстрелов. Заподозрив неладное, мужчины поспешили туда. На небольшой опушке они обнаружили два трупа и сумку с бесценной реликвией — шапкой Мономаха, которая буквально несколько часов назад была похищена из Оружейной палаты. Как законопослушные граждане, Тихомиров и его пассажиры сразу сообщили о своей находке в ближайшее отделение милиции…
«…Что отличает людей новой, социалистической формации? Какая яркая черта выделяет москвичей среди обитателей Лондона, Парижа, Гонконга и прочих мировых столиц, погрязших в криминале и коррупции? — вопрошал в конце заметки автор. И сразу же давал ответ: — Их кристальная честность и бескорыстность. Их вера в незыблемую силу закона…»
Последнюю фразу Голован прочел вслух, причем дважды, и назидательным тоном. Перстень приятно грел его палец, передавая тепло всему организму, даже застарелая язва желудка перестала напоминать о себе. И еще он испытывал необыкновенную легкость и подъем настроения, как когда-то, когда в побеге удалось вскочить в проходящий по тайге товарняк и оторваться от солдат с собаками. Он знал, чувствовал, что ему попер фарт и впереди большие дела, воровская слава, непомерное бабло, почет и уважение блатных.
— Вкурили, урки? — насмешливо спросил он, комкая газету и вытирая ею пролитое на столе пиво. — Кристальная честность и бескорыстность! А ты, Витек, не только фраеров в своем такси на копейки обуваешь, но и корешей насаживаешь! Хваленому водки налил на два пальца меньше, чем себе, и даже мне недолил на палец!
Он отодвинул пустую кружку.
— Да я… — испуганно начал оправдываться Витек, но Голован поднял громадную ладонь и почти накрыл ею лицо таксиста.
— Глохни, жмотяра! Шас я тебе не предъяву кидаю! Просто метнись мухой и притарань еще по две кружечки с «прицепом»! В цвет я базарю, Хваленый?
— В цвет, старшой, — угодливо закивал тот. — В самый цвет!
В спертом воздухе воняло пивом, рыбой, по́том и табаком. За высокими столиками стояли хмурые завсегдатаи окраинной пивной, пили пиво «с прицепом», вполголоса обсуждали что-то, рассказывали анекдоты, смеялись, матерились. Презрительно выпятив нижнюю губу, Голован сквозь сизый дым проводил взглядом Витька, который, извиваясь ужом, пробирался к стойке с пивом на виду и водкой под прилавком. Народу было много, и хотя публика здесь не отличалась воспитанностью и деликатностью, но столик рядом с их троицей оставался пустым — устрашающий вид Голована и блатные манеры Хваленого явно не располагали к соседству.
Впрочем, нет — за соседним столиком стоял какой-то щекастый фраер в мятой шляпе и, прихлебывая жидкое, цвета кошачьей мочи пиво, нагло рассматривал Голована. Когда он здесь нарисовался?! Голован мог зуб дать за то, что только что его тут не было!
— Ну ты, вошь мордатая, чего пялишься?! — миролюбиво спросил Голован. Он находился в благодушном расположении духа и ожидал, что фраер рассыплется в извинениях и мгновенно исчезнет.
— А что, смотреть нельзя? — неожиданно огрызнулся тот.
У Голована даже челюсть отпала от изумления. Какой-то никчемный чухан, созданный, чтобы спать под шконкой в петушином кутке, попер на него — смотрящего череповецкой зоны, грозу тиходонских фуфлометов, фартового налетчика обеих столиц! Такого просто не могло быть! Но есть: вот он, глядит с легким прищуром, как авторитетный блатарь или даже «законник», но ни тем ни другим он быть не может — за версту видно… Может, мент?! Да и менты такими не бывают…
— Подрезать сявку? — сунув руку под пиджак, спросил Хваленый, сбитый с толку затянувшимся молчанием старшего. Но тот не ответил. Что-то было не так! Этот задрот просто не может так себя вести! Здесь явно какая-то подлянка! Может, его послал Лютый?
Щекастый едва заметно ухмыльнулся.
— Значит, фарт поймал? И теперь всех на болте вертел? — раздельно спросил он уверенным и спокойным тоном, которого не могло быть у такого задрота. — Ну ладно, посмотрим, что у тебя выйдет. Только поимей в виду: расчет придет, и спрос будет по полной!
Фраер презрительно, с издевкой превосходства усмехнулся.
— Что за пургу он несет?! — рявкнул Хваленый.
Но тут лицо щекастого вытянулось, усмешку словно мокрой тряпкой стерло, лицо покрылось красными пятнами, на лбу и щеках выступили крупные капли пота.
— Извините… Где я? Что это со мной… Всю память отшибло… Меня ведь жена в магазин за молоком послала, — бормоча всякую хрень и непрестанно кланяясь, фраер, оставив недопитое пиво, задом рванулся к выходу. Его ругали и толкали, но он продрался к двери и пулей выскочил наружу.
— Заколоть его? — рванулся было следом Хваленый, но тут же вроде зацепился за выражение лица Голована и стал как вкопанный.
— Ты что, старшой, с лица сбледнул? Кто этот рогомет? Почему мы его отпустили?
Голован перевел дух.
— Отпустили, отпустили… Это он нас отпустил! Заткнись лучше!
Тут вернулся Витек с тремя кружками «ерша».
— Об чем базар, пацаны?
— Ни об чем! — Голован грозно зыркнул на Хваленого. Тот молча взял свою кружку и сразу отпил половину. Остальные последовали его примеру. О странном фраере разговора больше не было. Хотя Голован предупреждение понял. Но, как и все блатные, он жил сегодняшним днем и не задумывался о будущем.
Ростов-на-Дону
Сентябрь 2017 — январь 2018
Примечания
1
Фальшборт — ограждения по краям наружной палубы судна.
(обратно)2
Сто сорок футов — около 42 метров.
(обратно)3
Двести футов — шестьдесят метров.
(обратно)4
Сорок футов — 12 метров.
(обратно)5
170 футов — 51 метр.
(обратно)6
Блинд — носовой парус.
(обратно)7
Шпигаты — отверстия в нижней части фальшборта для слива воды с палубы.
(обратно)8
Тортуга (испанский) — морская черепаха.
(обратно)9
Марс — площадка на вершине мачты.
(обратно)10
Веселый Роджер — пиратский флаг с черепом и скрещенными костями.
(обратно)11
Бак — носовая часть корабля.
(обратно)12
Ют — кормовая часть судна.
(обратно)


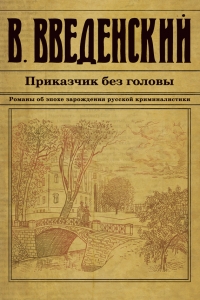


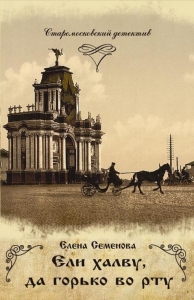


Комментарии к книге «Усмешка Люцифера», Данил Корецкий
Всего 0 комментариев