Александр Павлович Беляев Покушение
Пролог
В один из последних сентябрьских дней предвоенного сорокового года по старинной московской улице Арбат, протянувшейся от Бульварного до Садового кольца, по направлению к Смоленской площади двигалась груженная домашним скарбом полуторка. В кабине ее вместе с водителем сидела заметно располневшая, лет сорока с небольшим от роду, блондинка. Из-под брезентового тента кузова выглядывал несколько моложе ее, худощавый, с небольшими усиками мужчина. Полуторка проехала мимо Театра имени Вахтангова, мимо зоомагазина и, притормозив, совсем тихо и осторожно свернула с улицы в арку дома и остановилась возле флигеля. Никого из жильцов в этот час во дворе не было. Но как только хлопнули дверцы кабины полуторки, как по команде, в десятке окон, выходивших во двор, появились любопытные, а из небольшой, обитой железом двери полуподвального помещения вышел дворник в белом фартуке и такого же цвета картузе.
— Стало быть, пожаловали на поселение, — снимая картуз, почтительно поприветствовал он приезжих.
— Да уж как видишь, — ответил мужчина с усиками. — Помоги-ка, любезнейший, вещички перетаскать.
— Это мы с большим пожалуйста. Был бы интерес, — охотно согласился дворник, вытаскивая из-за пояса и надевая рукавицы.
— А вы, тетушка, зашли бы в квартиру да прикинули, пока мы тут возимся, куда что расставлять, — обращаясь к пышной блондинке, посоветовал мужчина.
— Прикину, Андрюшенька. Обязательно, — согласилась блондинка. — Только давай сначала визиточку на место прибьем.
— Успеется, тетушка, — заверил мужчина.
Но блондинка была непреклонна.
— Нет уж, племянничек. Такая примета: на счастье — сразу. А потом может и не повезти, — со знанием дела объяснила она.
— Какое уж тут счастье, — безнадежно махнул рукой мужчина и, открыв борт кузова, снял с машины большую корзину. Открыл ее, вытащил холщовую хозяйственную сумку, извлек оттуда молоток, гвозди, начищенную до блеска медную пластину и прибил ее возле входной двери флигеля. На пластинке красивым шрифтом было выгравировано: «Зубной врач-протезист Баранова М.К. Прием на дому. Обращаться с 10 до 22 ежедневно».
Блондинка осталась довольна видом этой изящной рекламы, открыла ключом входную дверь и зашла во флигель. А мужчина с усиками, водитель и дворник принялись сгружать с машины привезенные вещи и таскать их следом за хозяйкой.
Вещей оказалось немного. И были они недорогими. Два платяных шкафа, круглый обеденный стол, шесть стульев с плетеными сиденьями, деревянная кровать, комод, что-то из кухонной утвари и оборудование врачебного кабинета. Из кузова машины вытащили последнюю вещь, и последний наблюдатель из новых соседей Барановой отошел от окна.
Приехавший мужчина между тем расплатился с водителем и дворником и, прихватив последние пожитки, зашел во флигель. Здесь вдвоем с Барановой они долго расставляли и переставляли из угла в угол мебель, развязывали узлы, рассовывали по ящикам и полкам посуду, развешивали по шкафам одежду. Потом прибили над окнами карнизы и повесили на них плотные шторы, которые тут же задернули. После этого мужчина принялся оборудовать кухню. Он повесил одну полку, другую. А когда прибивал третью, то неожиданно почувствовал за стеной пустоту. Тогда он обследовал стену повнимательней. И скоро уже знал, что пустота — это черный ход в квартиру, заделанный фанерой. Ход этот вел на узенькую лестницу, которая, в свою очередь, выводила к наружной двери, выходившей в небольшой дровяной сарай на заднем дворе. Теперь эта дверь и сарайчик были просто забиты, а лестница и черный ход на кухню завалены поломанной старой мебелью и прочей рухлядью. Им давным-давно уже никто не пользовался. Да, вероятно, и вообще уже все забыли о его существовании. Но он тем не менее наличествовал.
— А квартирка-то с сюрпризом, — подзывая Баранову, сказал мужчина.
Та, оглядев ход, недовольно покачала головой.
— Господи, еще залезет кто-нибудь…
— Не залезут. Забью как следует, — успокоил хозяйку мужчина и снова застучал молотком. Скоро стенка на кухне приняла прежний вид.
— Ну а то, что решили, не забыл? — пытливо взглянула на своего помощника хозяйка.
— Все будет в самом лучшем виде, — ответил мужчина с усиками и прошел в комнату. А хозяйка, справедливо решив, что уже настало время перекусить, засуетилась на кухне. Она разожгла примус, поставила на него большую сковороду, положила на нее несколько ломтиков ветчины и залила их яйцами. Она ни о чем больше не спрашивала и ни о чем не напоминала своему помощнику и занималась своим делом: нарезала сыр, помыла и поставила на столик помидоры, открыла банку шпрот, достала бутылку мадеры. Он сам зашел на кухню, когда у Барановой уже все было готово.
— Прошу посмотреть, — предложил он.
Баранова прошла в комнату, но сколько ни пыталась найти то, что ее интересовало, так и не нашла. Видя, что его работа удалась, мужчина сказал:
— Обещал же, что все будет, как надо…
— Так где? — нетерпеливо спросила Баранова.
— Да под комодом, под полом, — топнул по широкой половице мужчина.
— Очень хорошо, — осталась довольна Баранова.
Они снова вернулись на кухню и сели за столик.
Мужчина разлил вино по рюмкам.
— С новосельем! — поднял он свою рюмку.
— Спасибо, — поблагодарила Баранова.
Они чокнулись и выпили. Закусывали и вели неторопливую беседу.
— Сколько же ты еще пробудешь в Москве? — спросила Баранова.
— День-два. От силы три…
— И куда же направишься?
— Сначала в Харьков. Потом в Горький. Затем в Челябинск. Нам, снабженцам, на одном месте засиживаться не приходится. Тут добудешь одно. Там другое. В ином месте договоришься о третьем.
— Будешь писать?
— Как обычно, раз в две недели.
— А возможно, что кто-нибудь из знакомых твоих заглянет?
Мужчина на минутку задумался.
— Почти исключается. Но если уж случится, непременно предупрежу. Да я через полгодика сам постараюсь объявиться, — пообещал он.
— Вот так-то лучше, — обрадовалась Баранова.
Через два дня гость, как и намеревался, уехал из Москвы. Спустя две недели, как и было условлено, Баранова получила от него коротенькое письмо. Гость сообщал, что он жив-здоров, что дела у него идут хорошо, с помощью коллег, таких же бедолаг-снабженцев, как и он сам, ему удалось «выбить» у прижимистых хозяйственников почти все, что было надо, что скоро он уедет из Харькова и очередное письмо напишет уже из другого места. И еще он спрашивал, приготовила ли она то, что ему так нужно. И если приготовила, то пусть черкнет по его новому адресу пару строк. Тогда он непременно снова, хоть на денек, заглянет в Москву. Баранову это обрадовало, так как просьбу племянника она уже давно выполнила. И теперь ей надо было только дождаться от него следующего письма, чтобы узнать его адрес. Она надеялась получить это письмо через неделю. Но оно не пришло. В ожидании пробежала еще неделя. Потом еще одна. А письма с новым адресом племянника все не было.
Тогда Баранова поехала в Томилино, где проживала до того, как переселилась в Москву. Думала, что, возможно, ее новый московский адрес племянник потерял. И весточка от него ждет ее по старому, томилинскому адресу. В Томилино у нее было полдома. Она и сейчас оставила эту половину за собой, теперь уже как дачу. У этой половины, состоявшей из двух небольших комнаток и веранды, был свой вход, густо обсаженный кустами жасмина и сирени. Кусты эти вдоль дорожки расположились до самого забора, в котором была калитка. А за забором начинался лес, тянувшийся до самой станции. На второй половине дома жили милые люди, пенсионеры — муж и жена. С Барановой они очень дружили и искренне расстроились, когда она уехала от них в Москву. К сожалению, письма от племянника не было и в Томилино. Баранова попросила соседей немедленно дать ей знать, если какая-нибудь корреспонденция поступит на ее старый адрес, и, заручившись их обещаниями непременно это сделать, вернулась в Москву и вынуждена была ждать снова. Но письмо не пришло ни через месяц, ни через три. А в начале июня следующего года Баранова и сама неожиданно перестала появляться во дворе. Сначала на это никто не обратил никакого внимания. Мало ли куда могла отлучиться в летнее время еще совсем даже не старая, привлекательная во всех отношениях женщина? Могла уехать куда-нибудь на дачу. Могла отправиться кого-нибудь навестить. А могла и просто махнуть на юг, как это делали многие. Но по мере того как многочисленные больные, нуждающиеся в зубных протезах, продолжали безрезультатно стучаться в двери флигеля, а они оставались закрытыми и на соседей посыпались вопросы, надолго ли отлучилась докторша, интерес к внезапному исчезновению Барановой понемногу стал овладевать всеми. Теперь начали выражать беспокойство: уж не случилось ли с ней какое несчастье? Кто-то даже предложил сообщить о пропаже врача в милицию. Но неожиданно в дело внес ясность почему-то молчавший до сей поры дворник Захарыч.
— К брату она уехала, в эту, как ее, в Ригу. Отдохну, сказала, там. Нешто не может человек братца навестить? И ходют тут, и ходют… — объяснил он.
— А вернется-то когда? — спросили его. — Протез ведь обещала поставить.
— Кода? Кода? Кода возвернется, тода и поставит. В конце месяца должна…
Но предсказаниям Захарыча не суждено было сбыться. Началась война, и о Барановой забыли. И вспомнили лишь тогда, когда первого июля немецкие войска оккупировали Ригу. Пожалели, что хлебнет она там горюшка…
Глава 1
Второго июля 1943 года Гитлер принял окончательное решение начать наступление под Курском. Четвертого июля он подписал обращение к солдатам, которое в ночь перед наступлением было оглашено во всех подразделениях ударных группировок немецких войск, сосредоточенных в районе Курской дуги. «Сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать решающее влияние на исход войны в целом, — говорилось в нем. — С вашей победой сильнее, чем прежде, во всем мире укрепится убеждение в тщетности любого сопротивления немецким вооруженным силам. Могучий удар, который поразит сегодняшним утром советские армии, должен потрясти их до основания. И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все».
На рассвете пятого июля мощные группировки вермахта перешли в наступление на северном и южном фасах Курской дуги. Началось одно из величайших сражений Второй мировой войны. Но оно развивалось совсем не так, как того хотели Гитлер и его генералы. Уже двенадцатого июля Красная армия, остановив врага, сама перешла в грандиозное по своим масштабам контрнаступление. Шестнадцатого июля армия генерал-полковника Моделя, оставляя рубежи, покатилась назад, на запад. Но в ставке Гитлера в Восточной Пруссии, под Растенбургом, в «Вольфшанце» никак не хотели трезво оценить этот факт. Гитлер неистовствовал. Вновь и вновь требовал продолжать наступление. Однако уже семнадцатого июля верховное командование вермахта пришло к выводу, что продолжать операцию «Цитадель» бессмысленно. Гитлеру ничего не оставалось, как отдать соответствующий приказ командующим обеими группами армий, задействованным в операции. В «Вольфшанце» сгустилась атмосфера. Тяжелые раздумья ее обитателей невольно приводили их к пониманию того, что с началом советского контрнаступления в войне на Восточном фронте наступил поворотный момент и окончательный оперативный перелом в пользу Красной армии. А за всем этим довольно отчетливо просматривались и еще более мрачные перспективы. Думать теперь надо было только об обороне и удержании любой ценой ранее захваченных земель. На это и были направлены усилия верховного командования вермахта. Но последующие события развивались совсем не по тому сценарию, который был разработан в «Вольфшанце».
Утром двадцать шестого июля берлинское радио передало сообщение о свержении режима Муссолини. К власти в Италии пришло правительство во главе с маршалом Бадольо. «Предполагают, что эту смену правительства следует объяснить состоянием здоровья дуче, который был болен в последнее время», — прокомментировал это событие диктор. Но Гитлер в тот же день в ставке вермахта на совещании объяснил свершившееся совершенно иначе.
— …сообщение радио не соответствует, конечно, действительности, — сказал он, обращаясь к фельдмаршалу фон Клюге. — На самом деле ситуация вкратце такова: в Италии развернулись события, которых я опасался и которые были предсказаны мною недавно здесь на военном совещании. Речь идет о мятеже, нити которого ведут к королевскому дворцу или к маршалу Бадольо, то есть к нашим старым врагам. Вчера был арестован дуче. Он был под предлогом переговоров вызван в Квиринал, там посажен в тюрьму и сразу же смещен декретом… Нам сейчас абсолютно необходимо принять срочные меры… Я решил так же молниеносно покончить в Италии со всем этим делом, как я это сделал в Югославии… Однако я смогу действовать только в том случае, если переброшу дополнительно соединения с Востока на Запад.
Клюге ждал этих слов и опасался их больше всего.
— Мой фюрер! — взволнованно воскликнул он. — Я обращаю внимание на то, что в данный момент я не смогу снять с фронта ни одного соединения. Это совершенно исключено в настоящий момент.
Гитлер тоже был готов к такому ответу. Выждав небольшую паузу, он твердо сказал:
— Но это необходимо сделать… Создалось отчаянное положение. Это надо осознать… Это очень тяжелые решения, вызванные тем, что мы подошли к кризисной точке.
Они действительно подошли к точке, за которой уже все или почти все развивалось совсем не по плану «Барбаросса» и не по каким другим планам. Теперь решения стали приниматься по каждому отдельному случаю. И в «Вольфшанце» зачастили на инструктаж и за указаниями высшие чины военной, имперской и партийной власти. Красная армия тем временем продолжала теснить врага почти по всему фронту все дальше и дальше на запад. Совещания у Гитлера следовали одно за другим. На них решался главнейший вопрос — о создании в тылу отступающих немецких войск мощной оборонительной полосы. Двенадцатого августа начальник Генерального штаба сухопутных сил генерал Цейтцлер передал начальнику штаба оперативного руководства верховного командования вооруженными силами (ОКВ) генералу артиллерии Йодлю приказ Гитлера о немедленном строительстве «Восточного вала» на рубеже: Крым, Запорожье, Днепр до Могилева, Витебск, Полоцк, Западная Двина. Одним из важнейших объектов, который надежнейшим образом должен был прикрыть этот «вал», являлся Донбасс.
Однако сразу же встал вопрос: где взять сотни тысяч людей и технику для строительства оборонительных сооружений? Экономические ресурсы рейха к этому моменту были уже серьезно подорваны. Возлагать создание «вала» на инженерные войска вермахта нечего было и думать. И Гитлер, как не раз бывало в подобных случаях, вызвал к себе Гиммлера. С той поры, когда Гиммлер прикрыл Гитлера от пули покушавшегося своим телом, Гитлер стал называть его не иначе как «мой верный Генрих». Разговор фюрера с рейхсфюрером СС носил в высшей степени доверительный характер. Доложив Гитлеру все новости по своему ведомству, Гиммлер перешел к информации о том, как выполняются последние указания фюрера о новых направлениях в пропаганде.
— Берлинское радио и газеты постоянно говорят теперь о концентрации немецкого духа, мой фюрер, — сообщил Гиммлер, — о необходимости новых усилий и жертв. Статьи полны нескрываемых угроз по отношению к подрывным элементам. Народ относится ко всему этому с полным пониманием. Единство нации крепко, как никогда…
— И все же я не склонен преуменьшать напряженность момента, — перебил его Гитлер. — Совсем недавно я требовал от Клюге немедленно отправить танковый корпус с Восточного фронта в Италию. Теперь я могу признаться, что в самое ближайшее время не пять и не десять, а двадцать, а возможно, и еще больше свежих дивизий я буду вынужден забрать из Европы сюда, на восток. Все должно быть сконцентрировано именно здесь! Или мы сделаем это, или мы лишимся всего!
— Мы все сделаем, чтобы выполнить вашу волю, мой фюрер, — клятвенно заверил Гиммлер.
Но Гитлер явно пропустил это верноподданническое заявление мимо ушей. Сейчас он слушал только самого себя.
— Лишь двенадцатого августа я отдал приказ начать возведение «Восточного вала» — этой новой оборонительной линии восточнее Донбасса, — продолжал Гитлер. — А уже второго сентября я вынужден был показать нашему другу Антонеску новый рубеж этой линии. И уже значительно западнее Донбасса. Но здесь я потребую остановиться надолго. Настолько, насколько это потребуется нам. С этой новой позиции, которую мы назвали «Пантерой», мы непременно вернемся в Донбасс. Но коль прежде нам придется на время его сдать русским, вам необходимо позаботиться, мой верный Генрих, чтобы они нашли там дотла выжженную землю! Это ваша первая задача.
Гиммлер всем своим видом дал понять, что задача ему абсолютно ясна и он выполнит ее самым наистарательнейшим образом.
— Далее! — продолжал Гитлер. — Для создания оборонительного рубежа «Пантера» мне совершенно необходимо много, очень много рабочих рук. Они будут работать без отдыха дни и ночи! Дни и ночи! И мне безразлично, сколько при этом погибнет людей! Мужчин! Женщин! Подростков! Для меня важно только то, чтобы всюду, где это нужно нашим войскам, были своевременно вырыты и заполнены водой противотанковые рвы, ко всем позициям проложены подъездные пути, проходимые для тяжелой техники, и так далее. Десятки, сотни тысяч этих людей обеспечите мне тоже вы, мой верный Генрих! В связи со всем этим я решил назначить вас министром внутренних дел рейха! И для этого я позвал вас сюда, чтобы здесь лично выразить вам мое полное доверие и пожать вашу честную руку!
Гитлер не мог тогда даже предположить, что пройдет всего лишь полтора года и он в своем завещании напишет: «Перед своей смертью я исключаю из партии и лишаю прав бывшего рейхсфюрера СС и министра внутренних дел Генриха Гиммлера… Помимо того, что Геринг и Гиммлер были неверны мне, они покрыли несмываемым позором нашу страну и нацию тем, что секретно и против моего желания вели переговоры с противником и пытались захватить власть в государстве». Но это будет сказано в четыре часа ноль-ноль минут двадцать девятого апреля 1945 года. А сейчас еще шел сорок третий. И до того как завещание попадет из рук генерала Кребса в руки генерала Чуйкова, утечет еще много людской крови.
— Моя жизнь всегда безраздельно принадлежала вам, мой фюрер! — патетически воскликнул Гиммлер.
— Я знаю, мой верный Генрих, — уже более спокойно проговорил Гитлер. — Поэтому у меня есть к вам еще одно поручение поистине государственной важности.
Гиммлер весь превратился в слух.
— Я никогда не сомневался в преданности ваших людей, Генрих. И мне никогда не было жалко для них никаких наград. Они заслужили их. Но то, что предстоит им сделать сейчас, будет намного ответственней всех прошлых дел. Мы должны покончить с русским лидером, Генрих! И это будет не просто акт возмездия, но крупнейшая политическая акция! Осуществив ее, мы не только обезглавим противника. Мы покажем всему миру, и в первую очередь нашим не очень устойчивым союзникам, что сфера наших практических возможностей простирается намного дальше линий фронтов и здесь, на востоке, а равно и там, на западе. Мир в свое время узнал о наших «длинных ножах». Пусть теперь он узнает о наших «длинных руках». И пусть тогда задумаются некоторые не в меру строптивые деятели, к чему может привести их неуступчивость…
Гитлер еще о чем-то говорил. Очевидно, продолжал развивать уже начатую мысль о физическом устранении советского Верховного главнокомандующего. Но Гиммлер уже не слушал его. Он лихорадочно думал, как и что ответить фюреру по поводу этого его последнего поручения. Два первых он принял как должные, с готовностью и даже с некоторой облегченностью. Взрывать и жечь его люди умели. А если даже что-то и оставят целым, никто при отступлении этого не учтет. Но третье поручение мгновенно заставило Гиммлера собрать все мысли воедино: как убедить фюрера назначить ответственным за выполнение этой акции не его, государственного министра и рейхсфюрера СС, а кого-нибудь другого? Впрочем, другого он нашел быстро. В последнее время фюрер частенько стал напрямую советоваться по целому ряду вопросов с непосредственно подчиненным Гиммлера, начальником Главного управления имперской безопасности (РСХА) обергруппенфюрером доктором Кальтенбруннером. Гиммлеру это было совсем не по душе. Но, естественно, воспротивиться этим контактам в открытую он не мог. Как не мог быть слишком любопытным и стараться узнать во всех деталях подробности их бесед. Но предпринять что-нибудь этакое иезуитское, что несколько охладило бы отношение фюрера к начальнику РСХА, Гиммлер мог. И, выслушав сейчас третье поручение, немедленно решил, что сама судьба послала ему в руки этот случай.
— Мой фюрер, никто не выполнит это ваше ответственнейшее задание лучше нашего милого Эрнста, — выпалил он, даже не дослушав последней, крайне затянувшейся тирады Гитлера до конца.
Гитлер оборвал свою речь и внимательно посмотрел на «верного Генриха». Гиммлер понял: его внезапная реплика оказала нужное воздействие. Надо было немедленно усилить его:
— Конечно, всю операцию от начала и до ее нужного исхода я буду держать под строжайшим контролем, — продолжал он. — Но Эрнст великолепный знаток своего дела. К тому же он превосходно знает людей и умеет заставить их работать. Я ручаюсь за него, как за самого себя, мой фюрер.
— Хорошо, — неожиданно сразу согласился Гитлер. — Эрнст действительно очень предан мне и национал-социализму. Ему можно доверить это дело. Но сроки, Генрих? Я хочу уже сейчас знать, когда примерно я могу ожидать результатов.
Гиммлер снял очки, что делал крайне редко, и, посмотрев на стекла, будто хотел прочитать на них дату, которую хотел знать фюрер, привычным жестом вернул очки на нос.
— Если придется начинать с нуля, меньше чем в полгода не уложимся, — ответил он.
Гитлер быстро пересчитал на пальцах последующие месяцы.
— Надо быстрее, — потребовал он.
— Мы сделаем все, что в человеческих возможностях, — ответил Гиммлер.
— И все же надо побыстрее, — повторил Гитлер. — Не жалейте ничего. Привлекайте лучших специалистов во всех областях. Используйте любые материалы, сколько надо денег, не отдыхайте! И все держите в строжайшей тайне. Конечный результат ваших усилий должны знать не более четырех-пяти человек. За малейшую утечку информации расстрел без суда. Таковы мои требования, мой верный Генрих.
— Я немедленно вылетаю в Берлин, — поднялся из-за стола Гиммлер.
— Сегодня же передайте мою просьбу и мой приказ Кальтенбруннеру. Объясните ему, что выполнение данной акции будет лучшей помощью его служб вермахту, — снова потребовал Гитлер. И, почувствовав, что Гиммлер ждет он него чего-то еще, добавил уже более мягким тоном: — Что касается официального приказа о вашем новом назначении, то о нем в Берлине узнают раньше, чем вы попадете туда. Желаю успеха!
Вот теперь аудиенцию можно было считать абсолютно законченной. Гиммлер в душе с облегчением вздохнул. Она не только прошла удачно, но еще и с большим выигрышем для него.
— Я никогда не забуду вашего истинно отцовского отношения ко мне, мой фюрер, — растроганно проговорил он. — И никогда не устану повторять, что моя жизнь всецело принадлежит вам.
Глава 2
Назначение на пост министра внутренних дел, а стало быть, и оказанное «верному Генриху» столь высокое доверие не вызвало у него ни малейшего угрызения совести. А основания для этого, надо прямо сказать, были весьма основательные. Еще в августе сорок второго года в своей полевой штаб-квартире в Житомире Гиммлер в деталях обсуждал с начальником VI управления РСХА бригаденфюрером Вальтером Шелленбергом вопрос возможного «компромиссного соглашения» с западными державами. Они тогда даже составили некоторые наметки соглашения, решив предложить западным державам уход вермахта из Северной Франции, Голландии и Бельгии и создание франко-германского экономического союза. При этом Австрию и Судеты они оставляли в составе рейха. Западную часть Польши намеревались превратить в свою постоянную колонию, пространство между Обью и Леной передать под управление Англии, а район между Леной, Камчаткой и Охотским морем отдать США. Естественно, все это делалось в строжайшем секрете за спиной обожаемого фюрера.
Но если о компромиссах с собственной совестью Гиммлер предпочитал не распространяться, то продемонстрировать свою исполнительность и преданность Гитлеру за счет других он никогда не упускал случая. Поэтому едва в его кабинет зашел Кальтенбруннер, Гиммлер ознакомил его с проектом приказа высшему руководителю войск СС и полиции на Украине группенфюреру Прюцману о разрушении Донбасса. «Дорогой Прюцман! — говорилось в нем. — Генерал пехоты Штапф имеет особые указания относительно Донецкой области. Немедленно свяжитесь с ним. Я возлагаю на Вас задачу всеми силами содействовать ему. Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая не была бы выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну. Немедленно обсудите эти вопросы со Штапфом и сделайте все, что в человеческих силах, для выполнения этого… Ваш Гиммлер».
Приказ был подписан седьмым числом сентября месяца. При всей изворотливости и подозрительности своего ума начальник РСХА не сразу сообразил, для чего же его шефу понадобилось писать эту реляцию, если Донбасс практически уже сдан русским? Если за последние шесть дней стремительного наступления Красной армии вермахт вынужден был оставить такие важнейшие промышленные центры Донбасса, как Дебальцево, Славянск, Артемовск, Горловка, Макеевка и, наконец, Сталино? И что уже теперь могут сделать по выполнению этого приказа и Прюцман, и Штапф, и все другие большие и маленькие чины и чиновники? Такого неприкрытого лицемерия Кальтенбруннеру не приходилось видеть уже давно. Но то, что он услышал от рейхсфюрера в следующий момент, озадачило его еще больше.
— Надеюсь, дорогой Эрнст, что вы возьмете под личный контроль выполнение этого приказа, — будто и слыхом не слыхав, что творится на фронте, сказал Гиммлер.
Кальтенбруннеру на какой-то момент даже показалось, что уж не шутит ли шеф. Но приказами такого плана ни в штабе рейхсфюрера, ни в РСХА не шутили. Тогда что это: какое-то очередное, не очень умное прощупывание?
— Не сомневайтесь, рейхсфюрер. Я сделаю все, что в моих силах, — не стал испытывать судьбу Кальтенбруннер. — Позвольте мне обратить ваше внимание лишь на то, что без войск вермахта нам будет трудно депортировать в глубь нашего тыла даже лагеря. Перегоняемые на запад десятки, сотни тысяч жителей, скот непременно надолго забьют все дороги, так необходимые вермахту для маневра и подвоза резервов, боеприпасов, продовольствия. Командование вермахта уже не раз выражало по этому поводу свое недовольство.
— Знаю, Эрнст, — согласился Гиммлер. — Знаю… Очевидно, для подлежащих насильственной эвакуации придется проделывать колонные пути. Возможно, следует предусмотреть еще какие-нибудь способы и меры…
— Но это еще не все, рейсхфюрер, — продолжал Кальтенбруннер. — Наступает пора массового сбора урожая на Украине. По данным рейхслейтеров и гебильдкомиссариатов, в этом году в восточных и западных районах Украины ожидается хороший урожай зерна, картофеля, свеклы, яблок. Но кто будет их убирать? Грузить? Отправлять в рейх? То, что население собирает для себя, мы успеваем отобрать и вывезти на запад. Но это лишь малая толика того, что мы можем получить и должны были бы получить, если бы вермахт крепче удерживал занятые им районы.
— Мне это тоже известно, Эрнст, — не стал оспаривать сложившуюся на фронте ситуацию Гиммлер. — Уже третий раз намечаются все новые и новые рубежи «Восточного вала». Хуже того, возможно, какое-то время вермахт и дальше будет терять свои позиции. Но я уверен, что это носит чисто временный характер. Во всяком случае, мы свои задачи будем выполнять безукоснительно. И эти, и ту особую, государственной важности, которую только что перед нами поставил фюрер.
Кальтенбруннер знал о встрече Гиммлера с Гитлером, знал, что Гиммлер был в «Вольфшанце». Одним из первых узнал от Бормана, что его шеф стал министром внутренних дел. Но уже тогда подумал, что не затем, чтобы объявить ему об этом назначении, фюрер вызывал его в свою ставку. «Особую, государственной важности, — повторил он мысленно характер предстоящей задачи. — Так что же требуется конкретно?»
— Мы должны уничтожить Верховное командование Красной армии, Эрнст, — продолжал Гиммлер. — Конечно, в первую очередь и как главный объект — Сталина. Не удастся покончить с ним, любого из его ближайших помощников. Но обязательно того, кто непосредственно работает в Москве…
«Вот главный вопрос, который они обсуждали в “Вольфшанце”, — сразу же решил Кальтенбруннер. — Фюрер доверил его Гиммлеру и наверняка ему же поручил всю организацию и подготовку данной операции…»
— Это будет наша конкретная, практическая помощь вермахту… Успешное выполнение этой акции необычайно поднимет в глазах фюрера деловой авторитет наших служб… В конце концов это тот случай, который выпадает на долю исполнителя раз в сто лет… Вы сами отлично понимаете, Эрнст, что ждет нас с вами в случае успеха… А неуспеха просто не должно быть… Мы не имеем никакого права не оправдать доверие фюрера… — не без пафоса говорил, будто выступал перед солидной аудиторией, Гиммлер.
Кальтенбруннер никогда не был военным. Очень плохо разбирался в тактике и оперативном искусстве. Концентрация сил, вклинение, прорыв, обход, охват, как, впрочем, и многие другие понятия войны в сфере его деятельности, выглядели и звучали куда скромнее. Но и не зная военных премудростей, он давно уже понял, что дела у вермахта на Восточном фронте идут совсем далеко не так, как это планировалось и как об этом разглагольствовали напыщенные и спесивые военачальники. Еще сравнительно недавно в глазах и поведении у многих из них отчетливо проглядывалось одно высокомерие. А теперь, оказывается, им уже надо помогать… «И это в первую очередь должен буду делать я», — сделал для себя основной вывод шеф РСХА. И тотчас, будто Гиммлер читал его мысли, получил своей догадке подтверждение.
— Я искренне порадовался за вас, дорогой Эрнст, когда фюрер поручил мне передать вам, что именно на вас и на ваши службы возлагает он всю ответственность за успех намечаемой акции, — продолжал новоиспеченный министр внутренних дел. — Фюрер наделяет вас неограниченными полномочиями. Вам предоставляются самые широкие права привлекать в процессе подготовки и проведения акции любых специалистов, любую технику, любые средства.
Кальтенбруннер слушал то, что ему по поручению Гитлера передавал его шеф, и мысленно, в самых общих чертах, пытался представить себе, как это задание можно выполнить, если до сих пор ни одному ни из старых, давным-давно законспирированных в России, ни из новых, засланных в эту варварскую страну перед самой войной разведчиков не удалось вклиниться ни в один штаб на уровне хотя бы армейского звена или в государственное учреждение республиканского масштаба? Но так же как и его шеф перед Гитлером, не выразил и намека на трудность выполнения планирующейся акции, так и он не высказал Гиммлеру ни малейшего сомнения в успехе ее осуществления. Он тоже, как и Гиммлер в беседе с Гитлером, спросил у шефа только о сроках ее исполнения.
— А сколько времени заняла подготовка к операции «Тевтонский меч»? — вопросом на вопрос неожиданно ответил Гиммлер.
Гиммлер задал вопрос наобум. Так сказать, по аналогии. По совпадению конечных целей. С той лишь разницей, что жертвой «Тевтонского меча» пал министр иностранных дел Франции Леон Барту, а в результате планируемой акции должен был погибнуть один из членов Государственного Комитета Обороны или членов Ставки Верховного главнокомандования СССР. И он забыл, что к «Тевтонскому мечу» нынешний начальник РСХА не имел никакого отношения. Но Кальтенбруннер немедленно воспользовался этой промашкой своего шефа и уместно напомнил ему, что в ту пору он занимался другим, не менее ответственным делом и даже пострадал за него.
— У меня тогда, рейхсфюрер, в моей милой Вене были другие проблемы. И я могу точно сказать, сколько и чего мы затратили на операцию против правительства Дольфуса.
— О, да-да! — спохватился Гиммлер. — А через три года произошла такая наша приятная встреча на венском аэродроме! Все правильно, мой дорогой Эрнст. Я сам объяснил фюреру, что меньше, чем в полгода, нам не уложиться.
«Настало время хоть что-нибудь выторговать и для себя», — снова решил Кальтенбруннер.
— Думаю, рейхсфюрер, что мы не уложимся и в год, — довольно твердо сказал он. И чтобы не вызвать у Гиммлера подозрений в том, что он мало верит в успех операции, добавил: — Ведь вам лучше, чем кому-либо другому, известно, что оставил мне в наследство в России наш милый Гейдрих.
— Да, Эрнст, это мне известно, — согласился Гиммлер. То, что было плохо у предшественника Кальтенбруннера в РСХА, то было плохо и у рейхсфюрера СС, потому что РСХА было его детищем со всеми ее службами, управлениями и отделами. И, намекая сейчас Гиммлеру на явный недостаток агентуры в России, Кальтенбруннер недвусмысленно обвинил в этом и его — своего всемогущего шефа.
— Да, положение, вне всякого сомнения, оставляет желать лучшего, — еще раз подтвердил свое согласие Гиммлер. — Но мы его исправляем. И вы, Эрнст, это знаете. Если нам удалось забросить в советский тыл в сорок первом году в четырнадцать раз больше агентов, чем в тридцать девятом, то в сорок втором — уже в тридцать один раз, а в этом и вовсе в сорок три раза. Это не так уж мало! И не надо забывать, Эрнст, что к концу прошлого года в наших школах и лагерях обучалось более десяти тысяч человек. И потом вспомните, Эрнст, разве не мы, немцы, первыми в мире разработали и применили самую дальнюю связь с нашими подводными лодками, разве не нам принадлежит пальма первенства разработки самолетов-снарядов и тяжелых ракет дальнего радиуса действия? Разве не мы еще в прошлом году дали первый ракетный залп с подводной лодки, погруженной на глубину двадцати метров? А наши изыскательные работы в области реактивной авиации? Не надо унывать, Эрнст. Недостаток в чем-либо одном всегда может быть с лихвой наверстан преимуществами в чем-то другом.
Кальтенбруннер понимал, что все это было сказано ради красивого словца. Да, шпионов и диверсантов стали забрасывать в Советский Союз в десятки раз больше, чем до войны. Да, школы и учебные лагеря при зондеркомандах усиленно натаскивают тысячи новых лазутчиков. Но где та отдача от них, на которую возлагали в рейхе такую большую надежду? Где дезорганизация советского тыла? Где массовые диверсии? Акты саботажа? Какие удалось взорвать стратегически важные мосты и другие объекты? Нет, кое-что, конечно, получается. Но так мало, что этого не компенсируешь ни самой дальней в мире радиосвязью, ни залпами из морских глубин. И уж точно на намечавшуюся акцию ни то, ни другое, ни третье не окажет ни малейшего влияния. А за подготовку к акции нужно было браться. И не откладывая. И с такой энергией, которую заметили бы все, посвященные в нее. Но Кальтенбруннеру захотелось хотя бы самую малость подстраховаться на всякий непредвиденный случай. И он, прежде чем поблагодарить фюрера и рейхсфюрера за оказанное ему такое высокое доверие и выразить полную уверенность в том, что порученное ему задание непременно будет выполнено, обратился к Гиммлеру с просьбой, а равно и с предложением:
— Я думаю, что не ошибусь, если возложу непосредственное руководство подготовкой и осуществлением данной акции на начальника восточного отдела VI управления оберштурмбаннфюрера Грейфе и назначу одним из его помощников Скорцени?
— Конечно, я также сказал фюреру, что вы лучше всех знаете своих подчиненных, — охотно согласился Гиммлер и не без удовольствия, пристально посмотрев в глаза своему австрийскому конкуренту, добавил: — И все же, мой дорогой Эрнст, полную ответственность за всю операцию фюрер возложил лично на вас.
— Я никогда этого не забуду, рейхсфюрер. Хайль! — вскинул длинную, как у орангутанга, руку Кальтенбруннер и, услыхав ответное «Хайль!», вышел из кабинета своего шефа.
Кальтенбруннер ни на йоту не сомневался в том, что отныне и до самого последнего момента осуществления операции Грейфе будет подробнейшим образом доносить Шелленбергу, а тот незамедлительно Гиммлеру о всех деталях ее хода. Потому что Грейфе и Шелленберг были людьми Гиммлера. Потому что все, кто служил в РСХА, были либо людьми рейхсфюрера, либо людьми Кальтенбруннера. Койечно, в иной ситуации Гиммлер никогда бы такого раздвоения не допустил и очень быстро избавился бы от всех и каждого, кто хоть и в тайне ориентировался бы не на него, а на кого-либо другого. Но дело для него осложнялось тем, что сам Кальтенбруннер был человеком Гитлера. Австрийцем. А стало быть, и земляком фюрера. И именно фюрер, а не кто-нибудь иной, после убийства чешскими патриотами Гейдриха назначил на его место начальником РСХА австрияка, бывшего венского адвоката, ставшего впоследствии «высшим фюрером СС и полиции» в Австрии доктора Кальтенбруннера, присвоив ему вначале чин брйгаденфюрера, а затем группенфюрера и обергруппенфюрера СС. И не только назначил, но и, как это всем уже было известно, в последнее время все чаще и чаще стал решать многие вопросы непосредственно с ним. Но Гиммлер, несмотря на все эти нюансы, все же оставался непосредственным начальником Кальтенбруннера. И потому Кальтенбруннер и поручил это ответственнейшее задание человеку Гиммлера. А уж как потребовать точности его выполнения, как предупредить об ответственности за исполнительность — это Кальтенбруннер знал и умел…
В тот же день Грейфе был вызван в кабинет начальника РСХА, где ему строго конфиденциально было объявлено о возложенном на него задании особой важности и секретности и даны четкие и жесткие указания по его выполнению. Тогда же было решено в целях строжайшей конспирации никакого обозначения предстоящей акции не давать, подготовку вести в рамках разведоргана «Цеппелин», поименно назван круг должностных лиц, задействованных в операции.
Грейфе не знал, сказал ли рейхсфюрер Кальтенбруннеру о том, что идея эта не новая. Что она уже возникала однажды перед войной. И что Гиммлер уже обсуждал ее с предшественником Кальтенбруннера Гейдрихом. Тогда даже были сделаны кое-какие шаги по воплощению ее в жизнь. В частности, одному из московских агентов было приказано детально изучить маршруты ежедневных поездок на работу и с работы руководителей партии и государства и сделать фотоснимки мест, наиболее удобных для проведения террористической акции. Но дальше этого тогда дело не пошло. Надвигались более грозные события. В действие вступал план «Барбаросса». И Гиммлер посчитал неуместным выходить на фюрера с предложением своего замысла. И тогда об этом задании забыли. Но сейчас Грейфе живо вспомнил о нем и распорядился отправить радиограмму агенту номер «двадцать два» с приказом немедленно найти эти фотографии. Сейчас они, как никогда, оказались бы очень кстати.
Глава 3
Сентябрь сорок третьего в Москве был сухим и солнечным. А сама Москва, хоть на ней и проглядывалась совершенно четко печать сурового военного режима, выглядела чистой и опрятной. Заметно меньше стало на улицах людей. Часть населения еще не вернулась из эвакуации. Исчезла праздногуляющая публика. До жесточайшего минимума сократилось число командированных. Все трудоспособные жители столицы работали на предприятиях. И все же Москва совершенно не выглядела безлюдной. Нормально работал городской транспорт, кинотеатры и театры, в Парке культуры и отдыха имени Горького успешно функционировала выставка образцов трофейного вооружения, и ее охотно посещали москвичи. Заметным стало и оживление в магазинах. Следов бомбежек в городе почти не было видно. Ушедших на фронт дворников призывных возрастов заменили их жены, дети-подростки. Тротуары и проезжая часть улиц и переулков регулярно поливались водой и подметались, на них не скапливалась даже опавшая листва многочисленных зеленых насаждений столицы. А когда после полудня заливистые звонки возвещали об окончании занятий в учебных заведениях и на улицы высыпала учащаяся молодежь, город и вовсе становился шумным и говорливым. Постоянной и наиболее характерной приметой города тех дней было, конечно, большое число военных. Особенно много их было на вокзалах. Через Москву ехали на фронты и с фронтов раненые и уже подлечившиеся, те, кого вызывали в Москву, и те, кого она сама направляла в свой тыл и в глубокий тыл врага: офицеры и солдаты небольшими группами и целыми воинскими командами. Это было совершенно естественно.
Поэтому появление на Арбате сухощавого, лет тридцати пяти старшего лейтенанта с узенькими погонами на гимнастерке и небольшим солдатским мешком на левом плече ни у кого не вызвало ни малейшего любопытства. Однако если бы военный патруль, а он нес свою службу на улицах города исправно и бдительно, вздумал поинтересоваться личностью старшего лейтенанта и потребовал бы у него документы, то узнал бы, что их предъявитель старший лейтенант интендантской службы Помазков направлен в г. Москву в в. ч. 27865 для выполнения служебного задания. Документы, удостоверяющие личность и командировочное предписание Помазкова, были заверены круглой гербовой печатью и подписью командира части, в которой проходил службу Помазков. Но патруль Помазкову не встретился. Зато мимо него и рядом с ним проходили и проезжали сотни других людей, которым, как уже говорилось, до него не было никакого дела. А он тоже не обращал на них почти никакого внимания, потому что знал, что не встретит среди них даже случайно ни знакомых, ни родственников, ибо также отлично знал, что их в Москве просто нет. И его наверняка никто не остановит и не узнает. Впрочем, один человек, хоть и с большим трудом, все же мог бы узнать его. Этим единственным человеком был дворник дома с флигелем Захарыч. И хотя Захарыч встречался со старшим лейтенантом еще до войны всего раза два, он тем не менее мог бы вспомнить, как и при каких обстоятельствах происходило это. Но вероятность встречи с Захарычем тоже была равна нулю. Потому что, как было доподлинно известно старшему лейтенанту, Захарыч где-то воевал на фронте. Не было в Москве и последней ответственной квартиросъемщицы во флигеле Барановой. Это также прекрасно знал старший лейтенант.
Миновав магазин «Фрукты», столовую и фотоателье, Помазков завернул под арку дома. В глубине двора, прямо напротив арки, показалась обитая вылинявшим брезентом входная дверь флигеля, приступки, ведущие к ней, и потускневшая, давным-давно нечищенная медная пластина. Помазков сделал несколько шагов под аркой и вдруг увидел, как дверь открылась и из флигеля вышел милиционер. Это было так неожиданно, что Помазков на какой-то момент совершенно растерялся. Что надо было здесь этому представителю власти? Что делал он во флигеле, в котором находилась квартира Барановой? Естественно, ответить на эти вопросы старшему лейтенанту никто не мог, и он остановился как вкопанный. Но уже в следующий момент сориентировался и захлопал себя руками по карманам гимнастерки, явно ощупывая их и пытаясь что-то в них найти. Но в карманы не полез, а, будто что-то припомнив, повернулся и медленно вышел из-под арки обратно на улицу. И уже не задерживаясь, пересек Арбат и вошел в булочную напротив. Тут, смешавшись с москвичами, выкупавшими по карточкам хлеб, он пристроился у витрины и стал наблюдать за аркой. Из булочной не было видно, что делалось внутри двора. Зато прекрасно можно было разглядеть каждого, кто входил и выходил из него.
Прошло несколько минут напряженного ожидания, во время которого Помазков старался как-то объяснить себе появление в квартире Барановой милиции, и из-под арки вышли трое милиционеров. Двое из них вели лет четырнадцати парня, третий шел сзади и нес обыкновенный дворницкий лом. Парень не оказывал стражам порядка никакого сопротивления. Встречные прохожие то и дело заслоняли парня от Помазкова, но он все же заметил, что парень явно был смущен случившимся и тем любопытством, с каким на него глазели окружающие.
«Неужели, на мое счастье, все это чистейшая случайность? И вся катавасия только из-за этого стервеца, который просто-напросто пытался обворовать квартиру Барановой, — пытался успокоить себя Помазков. — Ведь если это именно так, то, значит, еще ничего не потеряно?»
Помазков еще с полчаса потолкался в булочной, потом вышел на улицу, постоял в толпе, стремившейся попасть в кинотеатр «Арс», даже спрашивал у прохожих, нет ли у кого лишнего билетика, а сам не спускал глаз с арки дома с флигелем. Но ничего подозрительного так больше и не увидел. И все же он еще долго разгуливал по противоположной стороне Арбата, прежде чем решился снова заглянуть во двор. Однако наконец заглянул. Но тут его ожидал новый сюрприз. На двери квартиры Барановой появился здоровенный висячий замок. Очевидно, милиция позаботилась о том, чтобы больше никто во флигель не входил. Но много хуже этого было то, что еще и опечатали дверь.
Помазкову очень надо было побывать в квартире Барановой. Для того чтобы попасть в нее, у него был ключ. А на случай всяких недоразумений доверительное письмо, правда, написанное не самой хозяйкой, а лишь ее почерком, но датированное еще маем сорок первого года. В письме сообщалось о том, что Баранова высылает Помазкову ключ и разрешает останавливаться у нее в любое время, независимо от того, будет ли она сама дома или в отъезде. Но это письмо действительно было на самый крайний случай. Ибо с кем-нибудь объясняться, привлекать к себе чье-то внимание совершенно не входило в планы старшего лейтенанта. Тем более вступать по поводу посещения квартиры в контакт с милицией. Но именно это-то и необходимо было теперь делать. Помазков задумался, как поступить.
— Вы, товарищ военный, к кому? — услышал он неожиданно за спиной незнакомый женский голос.
Помазков обернулся. Перед ним стояла пожилая женщина с ведром. «Вероятно, какая-нибудь соседка Барановой, — решил он, пытаясь припомнить ее. — Ведь мог же он встречаться с ней?» Но память ничего ему не подсказала. Похоже было, что и соседка совершенно не узнала старшего лейтенанта.
— Да вот адресочек у меня. Вроде тут врач-протезист проживать должен, — начал объяснять он причину своего появления во дворе. Но женщина не дала ему договорить.
— А как же, Баранова Мария Кирилловна, — подсказала она.
— Совершенно верно…
— В отъезде она, — объяснила женщина. — Перед самой войной уехала в Ригу. Ну а Рига-то сейчас под немцем. И никаких вестей от Барановой нет. А квартиру-то вот только что обворовали…
— Как? — сделал удивленные глаза Помазков.
— Ну прямо вот только что! — подтвердила женщина и взмахнула от огорчения, что гость не застал случившееся, руками. — И милиция была. И шпану одного забрали! И замок повесили!
— Ай-ай-ай, — в тон ей заохал Помазков.
— А уж много ли утащили, этого нам не сказали…
— Да кто скажет! — посочувствовал неудовлетворенному любопытству соседки Помазков.
— Говорят, у нее ведь и золото было, — доверительно сообщила соседка.
— Сколько угодно, — согласился Помазков. — Значит, мои хлопоты совсем пустые.
— Выходит, что да, — подтвердила женщина.
Помазков поблагодарил соседку Барановой за разъяснения и вышел со двора. То, что он не отрекомендовался этой незнакомой ему женщине как доверенный Барановой, нисколько не мешало ему заявить о своих отношениях с Марией Кирилловной в милиции, где в подтверждение своих слов он мог предъявить и ее письмо. И можно было не сомневаться в том, что милиция распечатала бы квартиру и сняла замок. Но, как уже говорилось, оставлять о себе в милиции какие-то следы Помазкову не хотелось. А побывать в квартире у Барановой ему было очень надо. Ради этого он и приехал в Москву. И вдруг вся эта глупая история с воровством. Помазков не сомневался в том, что в квартиру Барановой залезли не профессиональные воры, а какие-нибудь шалопаи-мальчишки. Кстати, одного из них он даже видел. И то, что это сделали не профессионалы, его даже обрадовало. Еще можно было надеяться на то, что не все пропало. Хотя мальчишки напортили все хуже некуда. Впрочем, оставался еще один вариант, который мог привести Помазкова к цели. Но надо было хорошенько подумать, как его лучше осуществить. А главное — безопаснее. И уж конечно, не сегодня… И не завтра… И даже не послезавтра… А когда все успокоится и немного забудется…
Глава 4
Арестованного на месте преступления в квартире Барановой парня привели в отделение милиции.
— Значит, отец на фронте, мать в тылу не жалеют сил, чтобы скорее покончить с врагом, а ты шаришь по чужим квартирам, — сверив с протоколом основные данные, сделал вывод следователь.
— Да говорю же, не брал я ничего, — упрямо отрицал свою вину парень. — За кошкой я туда ходил…
— Как же она, интересно, в запертую квартиру попала? — усмехнулся следователь.
— В том-то и дело, что она открыта была!
— Кто же ее в таком случае открыл?
— А я почем знаю?..
— Не очень-то верится. Получше придумай чего-нибудь, — посоветовал следователь.
— И придумывать нечего. Там весь пол ломом переворочен. Все доски вывернуты. И стены везде прошурованы. А где у меня лом? Что я его, съел? — стоял на своем парень.
Следователь еще раз внимательно перечитал рапорт старшего милицейского наряда. Заглянул в какие-то бумаги.
— Твоих отпечатков пальцев на ломе действительно не обнаружено, — сказал он. И добавил: — Но и кошки тоже никакой в квартире не нашли.
— Говорю вам, не брал я ничего и не знаю ничего, — настойчиво повторил парень и, понизив тон, добавил: — Кольку Грача спросите. Он знает. А я ничего не знаю.
Упоминание о Граче мгновенно насторожило следователя. Грач был отпетым уголовником, занимавшимся в основном мелкими квартирными кражами.
— Когда же ты видел его? — сразу спросил следователь.
— Еще на прошлой неделе, — ответил парень.
— А откуда тебе известно, что он знает?
— Сам слышал.
— Где? Когда?
— Сам он Нинке Фиксатой в «Арсе» говорил, что у врачихи должно быть желтенькое. Раз она уехала еще до войны, то с собой его не потащила. Значит, оно у нее где-нибудь тут припрятано…
— Еще что? — записывая показания, спросил следователь.
— Говорил, что, значит, надо пошарить, — буркнул парень.
— С кем собирался? Кого называл?
— Больше я не слышал.
— Где сейчас проживает Грач?
— Не знаю.
— А кто знает?
— Нинка должна знать…
— Ладно. Дальше сами разберемся. Спасибо и за это, — поблагодарил следователь.
Парня увели. А следователь быстро направился к начальнику отделения.
Через несколько минут наряд милиции в десять человек на двух машинах выехал на Малую Грузинскую улицу, где, по имеющимся данным, проживала некая Нинель Скоморошкина, именуемая среди своих Нинкой Фиксатой. А еще через полчаса на квартире Скоморошкиной были пойманы с поличным и арестованы три человека во главе с Грачом. Компания пьянствовала и фактически была застигнута врасплох. Тут же были свалены вещи, похищенные у Барановой. В основном это была одежда, посуда и хрусталь. В том числе небольшая старинная хрустальная люстра с голубыми и рубинового цвета подвесками. Часть посуды компания использовала по прямому назначению. Вареная картошка лежала на столе в большом фарфоровом блюде, квашеная капуста — в салатнице производства фабрики Кузнецова. В прозрачном, как слеза, хрустальном штофе тускло мутнел самогон. Его разливали в дорогие, зеленоватого оттенка лафитники. Здесь же лежала небольшая металлическая шкатулка со взломанной крышкой и валялись какие-то фотографии, разбросанные по всему столу.
Когда все ворованное имущество было переписано, старший наряда спросил Грача:
— Золото где? Драгоценности?
— Не было их, гражданин начальник, — меланхолически ответил Грач.
— Темнить не советую, — предупредил старший.
— Да точно не было, гражданин начальник, — поклялся Грач. — Тайник ковырнули. Шкатулку взяли. А в ней вот эта муть.
— Какая муть? — не понял старший.
— А вот, снимочки эти. Знали бы, разве полезли бы…
Только сейчас старший наряда обратил внимание на фотографии и взял их в руки. На них были изображены какие-то здания, улицы, мосты, люди. Старший наряда повертел фотографии в руках. «И зачем их было прятать в тайник? Наверняка крутит что-то бандюга. Ну да следователи разберутся», — решил он, уложил снимки обратно в шкатулку и привез их в отделение милиции.
Следствие по делу ограбления квартиры Барановой пошло своим чередом. Но начальник отделения, тщательно изучив фотоматериалы, сразу обратил внимание на то, что многие запечатленные на них объекты фотографировать было запрещено. Почувствовав в этом что-то неладное, он не стал разбираться, кто и зачем все это делал, а изложив суть происшедшего в рапорте, отправил его вместе со шкатулкой и фотографиями в НКГБ.
Глава 5
Грейфе было не привыкать получать задания от вышестоящего начальства. Иногда такое случалось по нескольку раз на день. Одно накладывалось на другое. И было тяжеловато. Но всегда, получив очередное задание, он неизменно отвечал:
— Будет сделано.
И при их последней встрече с шефом РСХА он тоже ответил твердо:
— Будет сделано, обергруппенфюрер.
Но уже тогда подумал: «Как же, однако, не вовремя». И это, если смотреть на дело с его точки зрения, вполне соответствовало действительности. Работы у восточного отдела и без этого задания хватало.
Созданный в начале сорок второго года специальный разведорган «Цеппелин», размещавшийся в Австрии и именовавшийся для краткости «Цет-VI», и все три входившие в его состав дислоцировавшиеся на советско-германском фронте отделения: «Русланд-Норд», «Русланд-Митте» и «Русланд-Зюд» и имевшие к восточному отделу VI управления РСХА самое прямое отношение были заняты повсеместной перестройкой своей работы. Она была вызвана тем, что заброска в советский тыл хоть и многочисленных, но мелких групп диверсантов, как показала практика, не оправдала себя. Монолитность советского тыла, сплоченность советских людей, в любую минуту активно поднимавшихся на борьбу со шпионами и диверсантами, оказались непосильными для мелких групп «цеппелиновских» и абверовских лазутчиков. Учитывая это, восточный отдел в спешном порядке отрабатывал операцию «Волжский вал», ставившую своей задачей организацию на советской территории крупных диверсионных формирований. Такие формирования должны были в первую очередь надежно и на длительный срок нарушать в советском тылу коммуникации, связывающие фронт с Уралом и промышленными предприятиями оборонного значения, расположенными в Сибири. Кроме того, восточному отделу РСХА и руководству «Цеппелина» казалось, что «для ликвидации диверсионных групп крупного масштаба потребуется помощь действующих частей Красной армии — местные органы не в состоянии оказать должное сопротивление диверсионным формированиям. Крупные, хорошо вооруженные группы сумеют привлечь на свою сторону немецких военнопленных, освобожденных ими из лагерей. Растущие диверсионные группы будут останавливать поезда с оружием и вооружать лиц, присоединившихся к ним». Таковы были планы. Они были утверждены. И надо было скорее их выполнять. А тут новое задание, да такое, которое исходило от самого рейхсфюрера. А может быть, даже и от фюрера. Вот почему Грейфе, помня строжайший приказ Кальтенбруннера не терять напрасно ни одного часа, отложив все другие дела и заботы, в том числе и выполнение операции «Волжский вал», уже через три дня, имея совершенно четкий план действий по подготовке выполнения нового задания, попросился на прием к начальнику РСХА. Естественно, перед этим он обо всем доложил своему непосредственному начальнику бригаденфюреру Шелленбергу. И даже предложил ему проинформировать о проделанной работе вышестоящее руководство. Но Шелленберг категорически отказался от этой чести.
— Сами, сами, Грейфе, доложите, — подчеркнув особое доверие, дружески похлопал начальника восточного отдела по плечу Шелленберг и добавил: — Только из первых уст должен узнать обергруппенфюрер о ваших предложениях.
Грейфе и жест, и напутствие бригаденфюрера понял по-своему. Шелленберг явно не хотел ввязываться в это дело, по крайней мере до той поры, пока не обозначатся какие-то конкретные гарантии его успеха.
Другое дело Кальтенбруннер. Тому некуда было деваться. Он принял Грейфе немедленно. Он даже отложил ради этого самим же им намеченную встречу с представителем министра труда доктора Лея, с которым должен был решить очень важный вопрос о дополнительной рабочей силе, то есть о новых тысячах узников концлагерей, посылаемых на заводы, шахты, поля и дороги империи.
Всякий разговор с любым человеком, который на иерархической лестнице рейха стоял ниже его, Кальтенбруннер начинал с въедливого разглядывания собеседника. И независимо от того, решалась ли судьба визитера, или он пришел к обергруппенфюреру с докладом, или начальник РСХА вызвал его к себе для того, чтобы объявить ему о повышении по службе, серые немигающие глаза хозяина кабинета неизменно делали свое дело: они ясно говорили пришедшему о том, что видят его насквозь, читают все его мысли, следят за всеми его помыслами.
— Хайль Гитлер! — поприветствовал Грейфе начальника РСХА.
— Хайль, — спокойно ответил Кальтенбруннер. И пристально посмотрел на своего подчиненного.
Грейфе, хоть и привык к этому взгляду, сразу ссутулился и, сделав небольшую паузу, продолжал:
— Обергруппенфюрер, выполняя ваш приказ, мы составили план предстоящей работы и пришли к выводу, что ее одновременно надо разворачивать в четырех направлениях. Мы будем подбирать кандидатуру агента, который мог бы успешно выполнить задуманную акцию. Предстоит создать специальный самолет для доставки его в глубокий тыл русских. Необходимо сконструировать и изготовить специальное оружие, которое обеспечит надежное проведение акции. Непременно, для того чтобы исключить всякие случайности, следует опробовать это оружие в условиях, максимально приближенных к действительным.
Кальтенбруннер сел за стол.
— Расскажите поподробней. По порядку, каждый пункт, — приказал он.
— Кандидатура агента, — начал излагать соображения отдела Грейфе. — Нет сомнения в том, что только чистокровный ариец и убежденный, преданный фюреру национал-социалист был бы лучшей кандидатурой. Но поскольку работать агенту предстоит в глубоком тылу врага, постоянно общаться с его сверхфанатичным, подозревающим все и всех населением — от этого варианта приходится отказаться. И в первую очередь потому, что ни один наш агент не имеет для выполнения этого задания достаточной языковой подготовки. Поэтому, обергруппенфюрер, хотя мы и помним указание фюрера о том, что русским нельзя доверять никогда и ни в чем, тем не менее считаем, что кандидата в агенты следует подбирать именно из русских, добровольно перешедших на нашу сторону, беспрекословно принявших национал-социализм, неоднократно проверенных нашими службами и зарекомендовавших себя на деле ревностными исполнителями всех поручений и приказов…
— И не только этого, — прервал Грейфе обергруппенфюрер. — Помимо всего того, что вы сказали, подобрать надо еще и такого, для которого абсолютно исключено благополучное возвращение к своим. Он должен бояться своих соотечественников больше, чем людей Мюллера.
— Это указание будет непременно учтено, обергруппенфюрер, — щелкнул каблуками Грейфе. — Согласно четвертому пункту нашего плана отобранный нами агент непременно будет лично испытывать свое оружие на соответствующих целях.
Кальтенбруннер удовлетворенно кивнул.
— Думали ли вы также о том, Грейфе, одному, двум или даже трем агентам поручить выполнение этой акции? — спросил он. — Каково ваше мнение по этому вопросу?
Вопрос был щекотливым. При обсуждении его мнения в отделе разделились. Тем, кого больше всего беспокоила конспирация, казалось, что акцию может и должен осуществить только одиночка. Те же сотрудники отдела, которые четче других представляли себе, с какими колоссальными трудностями агенту придется столкнуться в русском тылу в том случае, если он будет действовать один, с самого начала высказывались за коллективное выполнение задания. В конце концов сошлись на том, что на всякий случай у основного агента с самого начала подготовки должен быть равноценный во всех отношениях дублер. Грейфе, которому совершенно не хотелось обсуждать сейчас этот вопрос с начальником, вынужден был тем не менее рассказать ему, что было решено.
Выслушав его объяснения, Кальтенбруннер неожиданно встал из-за стола и, скрестив руки на груди, как это любил делать рейхсфюрер, несколько раз прошелся по кабинету из угла в угол. Грейфе понял, что начальника осенила какая-то мысль, и моментально умолк. Он бы мог, конечно, добавить к сказанному еще кое-что. Высказать, например, свое личное мнение по этому вопросу. Но он промолчал…
— А почему бы вам, коль вы думали о двух агентах, не проработать вариант мужчины и женщины? — остановившись вдруг как столб, спросил Кальтенбруннер. — Да-да, Грейфе! Именно так! Мужчина и женщина. Возможно, семья. Возможно, какие-то другие взаимоотношения. Русские, во всяком случае простые люди, весьма патриархальны. И меньше всего склонны в чем-либо подозревать жейщину. А?
Прием для Грейфе был не нов. И если бы дело касалось засылки агентов куда-нибудь в Англию или Америку, то, скорее всего, в отделе именно на такой паре и остановились бы. Но в Россию! В эту чертову полуазиатскую-полуевропейскую страну, в которой должным образом не удается проявить себя даже опытнейшим, законспирированным там еще задолго до войны лучшим агентам не только их отдела, но и хваленого абвера! Что может сделать женщина в России? Однако Кальтенбруннер явно был доволен своей выдумкой. И Грейфе не замедлил признаться:
— Это, обергруппенфюрер, нам в голову не пришло…
— Очень жаль, — не без удовольствия заметил Кальтенбруннер. — Впрочем, в нашем деле приоритет не так уж важен. Куда важнее окончательный результат. Одним словом, подумайте. И выкладывайте соображения по следующему пункту.
— Разработка и техническое обеспечение операции нам представляется не менее важной стороной дела, обергруппенфюрер, — сразу с места в карьер перешел Грейфе. — Провал, ошибки по техническим причинам должны быть полностью исключены. Используемая в операции техника должна обеспечить стопроцентную гарантию безопасного перелета через линию фронта, благополучное приземление на ограниченном, открытом участке местности, включая кустарник, кочки, а также болотистую местность, преодолеваемую гусеничной техникой. Учитывая все это, обергруппенфюрер, мы пришли к выводу, что для обеспечения намечаемой операции необходимо создать специальный самолет.
Сказав это, Грейфе выжидающе посмотрел на начальника РСХА. Хотелось увидеть его реакцию. Но тот и глазом не моргнул. Принял как нечто само собой разумеющееся. Больше того, даже чуть заметно кивнул. То ли тем самым хотел сказать: «Продолжайте», то ли: «А это уж ваше дело, создавайте хоть целую эскадрилью». Во всяком случае, Грейфе понял, что никак и ничем не поразил обергруппенфюрера. И продолжил свой доклад:
— Мы уже связались с несколькими конструкторскими бюро. Наиболее перспективным может оказаться наше сотрудничество с фирмой «Мессершмитт». У нее самый большой опыт по созданию специальных самолетов. И уже почти готов проект очень похожего на тот, который нам нужен…
— Вот это-то я и хотел услышать, — прервал оберштурбаннфюрера Кальтенбруннер. — Не хватили ли вы тут, Грейфе, лишку? Вы знаете, сколько проходит времени от проекта до действующей модели? А у них, как вы говорите, проект готов только почти.
— Мы указали им срок, обергруппенфюрер. Они сочли его реальным, — ответил Грейфе.
— А какой вы им указали срок?
— Десять месяцев, обергруппенфюрер. Быстрее и мы не уложимся.
Кальтенбруннер задумался. Конечно, было бы прекрасно осуществить акцию месяца через два. Хорошо — через три-четыре. Но от желаемого до действительного всегда большой шаг. В данном случае скрупулезный Грейфе определил его почти в год. Это было далеко не прекрасно и даже не хорошо, но это было реально. Кальтенбруннер не сомневался в том, что в восточном отделе подсчитали все по минутам. И все же, как ни подсчитывай, идет война: не хватает того, нет другого, доставать все это придется через третьи страны, так что и год — это еще терпимо. Но все же год! При тех совершенно неожиданных поворотах, которые теперь то и дело случаются на Восточном фронте, сколько за год воды утечет!
— Фюрер может не согласиться с таким сроком, Грейфе, — заметил Кальтенбруннер.
— Всякая поспешность, обергруппенфюрер, может привести к непоправимым ошибкам, — твердо ответил Грейфе.
— Это тоже верно, — вздохнул Кальтенбруннер. — Продолжайте, что у вас еще?
— Учитывая характер цели, мы пришли к выводу о создании специального оружия. Им должна быть миниатюрная реактивная мина кумулятивного действия, с возможностью прожигания брони не менее сорока пяти миллиметров толщиной.
— Стоп, Грейфе, — побарабанив пальцами по столу, неожиданно остановил оберштурмбаннфюрера Кальтенбруннер.
Грейфе почтительно замер.
— Вы видели где-нибудь такую штуку?
— Нет, обергруппенфюрер, — признался Грейфе.
— А у кого-нибудь она уже есть?
— Думаю, что нет.
— Тогда почему же так необходимо что-то создавать заново? Вы представляете, что значит создать новое оружие? А сколько надо его испытывать? Столько всего ухлопаем, а когда будет надо, оно вдруг у вас не выстрелит! — засыпал вопросами начальника отдела Кальтенбруннер. — Вы думали об этом?
— Мы в первую очередь думали о надежном поражении цели, обергруппенфюрер, — набычился Грейфе. — Наиболее вероятным совершение покушения представляется во время езды. То есть тогда, когда объект покушения будет проезжать мимо агента в машине на большой скорости. Надо также учитывать, обергруппенфюрер, что лидер русских и его ближайшие помощники ездят на бронированных американских машинах марки «кадиллак» или «паккард». Поэтому ни из какого носимого огнестрельного оружия, имеющегося сегодня на вооружении вермахта, а также и гранатами, поразить их невозможно. Вот почему необходимо создание бронепрожигающего снаряда. К такому выводу пришли специалисты-консультанты.
— Не те ли это специалисты, которые столько уже возятся с фаустпатроном? — спросил Кальтенбруннер.
— Они, обергруппенфюрер.
— Вот, Грейфе! Не я ли вам только что говорил, что создание нового образца дело непростое?
— Вы, обергруппенфюрер, — почувствовав, что явно перестарался с обоснованиями, подобострастно подтвердил Грейфе.
— Я сразу понял, куда вы клоните, — погрозив оберштурмбаннфюреру пальцем, как нашкодившему ученику, продолжал Кальтенбруннер. — И скажу вам, Грейфе, если бы не постоянное внимание фюрера к данной работе, я бы уже давно спросил кое у кого из этих изобретателей, почему это у них вдруг перестало получаться то, что так нужно вермахту?
— Но они уже почти у цели, обергруппенфюрер! Они поклялись, что через три-четыре месяца «панцеркнакке», так они собираются окрестить то, что сделают для нас, будет готово, — в свою очередь заверил Грейфе.
— Пока что у них огонь из этого фауста назад летит дальше, чем сам снаряд вперед, — недовольно заметил Кальтенбруннер. — Ну да ладно: три-четыре месяца — это еще куда ни шло. Давайте дальше, Грейфе.
— Я уже докладывал, обергруппенфюрер, что окончательные испытания мы будем проводить в условиях, максимально приближенных к действительным. Будет создан макет улицы, на которой предстоит действовать агенту, — объяснил Грейфе, — на предельной для городских условий скорости пойдет забронированный «кадиллак», в нем будут находиться шестеро одетых в подлинную советскую военную форму, специально подготовленных в физическом отношении для испытания советских военнопленных, по которым будет произведен выстрел. Только таким путем, обергруппенфюрер, мы сможем выявить действительные поражающие возможности «панцеркнакке».
И вновь Кальтенбруннер задумался. И, помолчав, сказал:
— Машин и пленных, Грейфе, не жалейте. Важно не просто испытать. Важно убедиться в полной надежности всего, чем мы намереваемся осуществить акцию.
Глава 6
Уже третий год шла война. Все усилия советской контрразведки в эту суровую для страны пору были направлены на разоблачение гитлеровской агентуры, на ликвидацию засланных в наш тыл террористов, на выявление тех, кто, изменив Родине, вступил на путь прислужничества врагу. Контрразведчики напряженно, с риском для жизни работали в тылу у немцев, на фронте, в нашем тылу — всюду, где был и мог появиться враг. Немало забот в это суровое время выпало и на долю начальника одного из отделов НКГБ полковника Яна Францевича Круклиса. Ему было уже под пятьдесят. Из них более половины он проработал в контрразведке. Высокий, худощавый, немного сутулый, с копной седеющих, слегка вьющихся волос, всегда спокойный и уравновешенный, Круклис мог показаться незнакомым даже несколько медлительным. Но именно только показаться. Потому что за этой кажущейся медлительностью скрывался человек очень энергичный, с цепким, аналитического склада умом.
Как только Круклис вернулся в наркомат из очередной командировки, он тут же был вызван к своему непосредственному начальнику генерал-майору Ефремову. Задание руководства он выполнил успешно и отчитался перед генералом Ефремовым буквально в несколько минут. Генерал, выслушав его, неодобрительно покачал головой:
— А вот немцы, Ян Францевич, о результатах твоей работы пишут куда больше. На вот, почитай. Удалось перехватить донесение, — сказал он, протягивая Круклису уже расшифрованный документ.
Круклис прочитал текст шифровки, положил его на стол:
— Им видней. Если нарочно не врут, — заметил он.
— А у нас есть и другое подтверждение, что ты поработал неплохо. Спасибо, — поблагодарил Ефремов и тут же предупредил: — Но отдохнуть, Ян Францевич, не получится. Задание твоему отделу уже дано. Твой заместитель проинформирует тебя о нем во всех подробностях. А я хочу лишь предупредить: дело, судя по всему, с предысторией. Идти придется по старым следам. Но мне кажется, что, если сейчас же не принять каких-то экстренных мер, потом наверстать упущенное будет очень трудно. Поэтому включайся. Разберись.
Отдай все необходимые распоряжения, а уж потом денек можешь отдохнуть.
Круклис направился к себе. Об отдыхе, как о таковом, он и не мечтал. Думал лишь о том, чтобы, вернувшись в Москву, хотя бы хорошенько выспаться. Начальство обычно учитывало измотанность людей, возвращающихся из командировки, и, как правило, выслушав отчет, разрешало «отдохнуть до утра». Но в данном случае столь желанный вариант не сработал.
Едва полковник зашел в свой кабинет и закрыл за собой дверь, как она снова приоткрылась. На пороге появился подполковник Доронин и спросил:
— Разрешите, товарищ полковник?
— А я разве когда-нибудь не разрешал? — с приятным мягким акцентом ответил полковник и, увидев в руках у Доронина какой-то небольшой сверток, добавил: — Тем более, когда приходят с подарком.
— А вы знаете, товарищ полковник, похоже, что вы угадали, — согласился Доронин.
— У меня на такие вещи безошибочный нюх, — признался Круклис. — Еще в детстве выработал: точно знал, когда собираются за уши оттрепать, а когда подарят марципан. А что тут? То, о чем мне только что говорил Ефремов?
Доронин поставил сверток на стол, развернул газету и извлек из нее металлическую шкатулку.
— Доставили из отделения милиции, — доложил он и сообщил полковнику все, что самому ему было известно об ограблении квартиры некой Барановой. Полковник слушал его очень внимательно, ни разу не прерывал. А когда Доронин закончил доклад, поднялся из-за стола и несколько раз прошагал до двери и обратно.
— История любопытная. И даже смешная: искали золото, а нашли фотографии, — сказал он наконец. — Только так ли уж это все смешно? Что скажешь, Владимир Иванович?
— Во всяком случае, в отделении милиции по этому поводу смеяться не стали, — заметил Доронин.
— Великодушно предоставили это нам, — улыбнулся Круклис. — Ладно. Мы тоже сначала хорошенько подумаем, смеяться нам или нет.
Сказав это, Круклис достал из среднего ящика стола большое увеличительное стекло в оправе с ручкой и начал через него изучать снимки. Делал он это не торопясь. Иногда возвращался к уже просмотренному снимку, сравнивал его с другими. И наконец отложил и фотографии и увеличительное стекло в сторону.
— Кажется, нам тоже будет не до смеха, — задумчиво проговорил он. — Надеюсь, вы обратили внимание на объекты, сфотографированные неизвестным любителем городских пейзажей?
— Еще бы! Сам их подбор уже вызывает законный вопрос, товарищ полковник, — заметил Доронин. — Ведь тут что? Есть снимки секретных и даже совершенно секретных объектов. Есть такие, которые я пока не могу распознать. А есть фотографии каких-то с виду самых обычных подворотен. Но коли они собраны все вместе и заложены в тайник, значит, они тоже были сделаны неспроста? — рассуждал Доронин.
— Вне всякого сомнения, — согласился Круклис. — Но окончательно ясно это будет, если мы узнаем, кто эти снимки сделал.
— Мы над этим уже думали, — ответил Доронин.
— И что же? — пытливо посмотрел на него Круклис.
— Наиболее реальны три версии. Первая: снимки сделаны теми, кто жил в этой квартире до Барановой. Вторая: снимки сделала Баранова или кто-то из известных ей лиц и вложил в тайник с ее ведома. Третья… Но сейчас я подумал, что ее, пожалуй, можно отбросить, — хотел было остановиться Доронин.
Но Круклис категорически возразил.
— Отбрасывать будем потом. Сначала все будем собирать. Так что третье? — потребовал он ответа.
— Третья версия такова: снимки могли быть сделаны уже после отъезда Барановой из Москвы. В докладной начальника отделения сказано, что она уехала примерно за две недели до начала войны. Так вот, снимки сделаны после ее отъезда и спрятаны в тайник без ее ведома, — высказал свою последнюю версию Доронин. — Но во всех случаях, кто бы этим фотографом ни был, он, без сомнения, вражеский агент, работающий или на абвер, или на РСХА.
— Вот это самый важный для нас вывод, — заметил Круклис. — Опираясь на него, мы и будем строить все свои предположения. От него начнем танцевать как от печки и сразу же попробуем разобраться — почему эти фотографии лежали в тайнике? Их что, положили туда и за ненадобностью забыли?
— Маловероятно…
— И я тоже так думаю. Тогда: спрятали до поры до времени или для того, чтобы их кто-то забрал?
— Это больше похоже на правду. Именно кто-то…
— В таком случае давайте рассуждать. Раз фотографии для кого-то приготовлены — значит, за ними придут. Придут рано или поздно. И то ли из-за линии фронта, то ли кто-нибудь из местных, надежно законспирированных тут. Отсюда мой первый приказ: надо хорошенько осмотреть дом Барановой и установить за ним постоянное наблюдение. Второе. Надо кому-нибудь из наших побывать на допросах этих жуликов, которые выкрали фотографии. Возможно, удастся получить какую-то интересующую нас информацию. В-третьих. Фотографии отдайте на экспертизу. Путь точно определят каждый снятый на них объект. А также время съемок. И последнее. Готовьте справки на всех проживающих в квартире Барановой начиная с тридцать пятого года до июня сорок первого включительно. Я не знаю пока, какая из ваших версий окажется рабочей. Но если это будет вторая, то нужно сразу же быть готовым к ее разработке. Постарайтесь узнать все, что можно, о самой Барановой. Когда, где родилась? Есть ли родственники? Чью она носит фамилию? Свою? Мужа? Если мужа — то где он? Какова его судьба? Узнайте непременно фамилию Барановой до замужества. С этого мы начнем. И я думаю, что дело пойдет.
Доронин собрал со стола фотографии и снова уложил их в шкатулку.
— Я понял задачу, товарищ полковник. Разрешите выполнять? — спросил он.
— Конечно, — кивнул полковник и тут же жестом задержал Доронина: — Интересно, давно ли она живет в Москве?
— Узнаю, товарищ полковник, — ответил Доронин.
— Я к тому, что хорошо бы также знать, с кем она тут встречалась. Наверняка ведь были какие-нибудь друзья или хотя бы знакомые… Кто-нибудь бывал у нее в гостях… Кто? Что за люди? Это надо узнать очень осторожно. Продумайте, как это сделать, чтобы не пошли разговоры, чтобы ненароком не спугнуть кого не надо…
— Продумаю, товарищ полковник.
— Вот теперь действуйте. И как только появится какой-нибудь результат — немедленно докладывайте мне, — хотел было уже отпустить своего заместителя Круклис, но тот задержался.
— Еще одно сообщение, товарищ полковник, — сказал он.
— Слушаю.
— Звонил из танкового училища старший лейтенант Орехов. Ваш сын Эрик досрочно сдал экзамены и отправлен на фронт, — доложил Доронин.
— Вот чертенок. Все боится, что войны на его долю не достанется, — укоризненно покачал головой полковник. — Куда же его направили?
— Орехов сказал, что пока они целой группой поехали на Урал за новой техникой, а уж оттуда прямиком на фронт.
— И матери ничего не сообщил. Решил сразу поразить письмом из действующей армии. Эх, герой!
— А как старший, товарищ полковник? — спросил Доронин.
— Летает, воюет. Старший и есть старший. Поумней. Пишет регулярно: жив-здоров. Все хорошо. Настроение бодрое, скучать некогда. Больше ни строчки. Пока меня не было, мать получила фотографию. Я глянул, а у него на гимнастерке еще один орден Красного Знамени появился. Освальд молодец, — довольно ответил Круклис.
— Понятно, что и младшей не хочет отставать от него, — сказал Доронин.
— Мне тоже понятно. А вот жена все чаще меня укоряет, почему у нас дочки нет. А я тут при чем? — развел руками Круклис и сел за стол.
За время его командировки накопилась целая гора бумаг, и надо было поскорее все их просмотреть и пустить в дело.
Глава 7
Кальтенбруннер знал, что о каждом шаге, проделанном им по подготовке акции, немедленно станет известно Гиммлеру, а через него и Гитлеру, и поэтому сразу же решил развернуть самую активную деятельность. В начале сорок третьего года по личному приказу Гиммлера все лагеря советских военнопленных были выведены из подчинения отдела Д Главного административно-хозяйственного управления СС и переданы в подчинение специально созданного для этого отдела IVB2 IV управления РСХА — гестапо. Начальником отдела IVB2 был назначен исполнительный штурмбанфюрер Вольф. Его-то, отпустив Грейфе восвояси, и вызвал к себе Кальтенбруннер. А когда тот явился и они обменялись традиционным нацистским приветствием, спросил его:
— Вы можете, Вольф, подобрать в вашем обширном хозяйстве трех-четырех русских, которые верно служат нам и за которых можно было бы поручиться?
Вольф слышал, что обергруппенфюрер любил ошарашивать своих подчиненных неожиданными вопросами, и потому не растерялся.
— За русских вообще нельзя ручаться, обергруппенфюрер. Все, кто это делали, в конечном итоге обязательно оставались в дураках, — четко ответил он.
— Почему? — вопросительно посмотрел на него шеф РСХА.
— Потому, обергруппенфюрер, что потом непременно обнаруживалось, что в свое время при оценке их качеств почему-то не учли какой-нибудь мелочи. А именно она являлась решающей.
— Тем не менее мне нужны такие русские, — твердо сказал Кальтенбруннер.
— Но есть такие, которые неоднократно доказали нам свою преданность. Двух-трех таких я даже знаю лично, — поспешил ответить Вольф.
— Мало. Подберите еще столько же, — приказал Кальтенбруннер.
— Понял, обергруппенфюрер, — справедливо решив, что всякие рассуждения уже окончены, ответил Вольф.
— Составьте на них наиподробнейшие характеристики. И вместе с этими характеристиками передайте в полное распоряжение Грейфе, — продолжал Кальтенбруннер. — Тех, которые ему не понадобятся, он вернет вам обратно.
— Как скоро это надо сделать, обергруппенфюрер? — спросил Вольф.
— Нужных людей подбирать трудно, я это знаю, но постарайтесь уложиться недели в две. Максимум в три, — разрешил Кальтенбруннер.
Начальник отдела лагерей советских военнопленных щелкнул каблуками, вскинул руку и с разрешения хозяина покинул кабинет. Ушел несколько обиженным и заинтригованным. Нет, не самим заданием. Оно его совершенно не удивило. Удивило другое: почему обергруппенфюрер ни словом не обмолвился, зачем понадобились Грейфе эти шестеро русских? В качестве кого он намеревается их использовать? На работе здесь, в рейхе? В этом нет ничего секретного. Собирается забросить их к русским в тыл? Это делалось уже неоднократно. И при этом, наоборот, всегда заранее конкретно указывалось, каких специалистов надо подбирать. А тут все в общих чертах, да еще с гарантией. Одно вполне устраивало начальника отдела IVB2 — за три недели можно будет подобрать не шестерых, а роту, и у каждого руки будут в крови по самые плечи. Но ручаться при этом Вольф никогда не стал бы ни за одного. На этот счет у него была своя четкая мера: предал раз — предаст и второй. А если этому надутому индюку Грейфе доверяют больше, чем ему, и он думает по-другому, то пусть он сам выбирает и гарантирует. Впрочем, обида обидой, а здравый смысл подсказывал другое. Уж если это задание перед ним поставил сам шеф РСХА, значит, кроется за ним что-то очень серьезное. И выполнить его надо тоже так, чтобы обергруппенфюрер остался доволен. Поэтому Вольф не откладывая дело в долгий ящик от Кальтенбруннера направился прямо к Грейфе.
Надо сказать, что, хотя Вольф и считал Грейфе не в меру чванливым, в душе, как, впрочем, и многие другие эсэсовские чины, тайно завидовал тем, кто работал в VI управлении. Что бы ни говорили о важности и всех других служб, но разведка есть разведка. Даже такой закоренелый службист, как он, Вольф, видел в ней какую-то романтику и недоступный всем прочим шарм. Да и что уж тут говорить: люди Шелленберга работали в лайковых перчатках, ездили в мягких вагонах, от них пахло хорошими, дорогими сигаретами, импортным коньяком, они вращались в кругах и в обществе, куда живодерам и висельникам, подчиненным отделам Д или IVB2, вход был закрыт во все времена. Правда, когда кто-нибудь из этих вылощенных болтунов в конце концов попадал за колючую проволоку спецлагеря, костоломы отдела Д с особым рвением воздавали ему за его прошлую роскошную, как им всем казалось, жизнь. Но это было очень слабой компенсацией за разницу условий их служб. Ведь в застенках и бараках отдела Д заканчивали свой жизненный путь лишь очень немногие подчиненные бригаденфюрера Шелленберга.
— Коллега Грейфе, извините за то, что вынужден отрывать вас от ваших важных дел, но служба обязывает, — входя в кабинет Грейфе, обратился к нему Вольф. — Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — вставая из-за стола, ответил на приветствие Грейфе. — Мой дорогой! Всегда рад вас видеть!
— Я только что был у обергруппенфюрера и получил от него задание подобрать для вас группу русских. Но шеф так торопился, что не успел сказать мне ничего конкретного. Вот я и нагрянул к вам, — объяснил цель своего визита Вольф.
— И очень правильно сделали, дружище, — сразу сообразил, о чем идет речь, Грейфе. При этом не без удовольствия подумал: «Ну как же, времени у шефа не было. Рассказывай. И от меня ты тоже не многое узнаешь». — Но что же, так уж прямо сразу о делах? Работаем бок о бок, а видимся, можно сказать, раз в год! Нет, не угостить вас рюмкой доброго «Камю» я просто не имею права. Прошу вас, дорогой Вольф, располагайтесь за этим столом, полистайте журналы, их доставляют сюда со всего света, а я немедленно распоряжусь.
Вольф не стал отказываться от угощения и лишать себя удовольствия хоть немного побыть в столь приятной для него обстановке. Он уселся в мягкое кресло и взял в руки свежий номер «Лайфа». А Грейфе нажал кнопку звонка и вызвал адъютанта. И когда тот беззвучно, как привидение, появился в дверях, негромко сказал:
— Эгерт, откройте и принесите все то, что нам вчера доставили из Лиона.
Эгерт так же бесшумно удалился, а Грейфе подсел за столик к гостю.
— Работаем, работаем, и выпить чашечку кофе с хорошим человеком некогда, — потирая руки, с сожалением проговорил он. — У вас ведь и своих дел, я знаю, хватает через край. А тут еще чужие заботы…
— Что поделаешь. «Рес ностра агитур»[1] — говорили еще древние, — в тон хозяину ответил Вольф. — Так для чего вам понадобились эти русские? И какие?
— Для чего, дружище? Мне пока и самому не очень хорошо известно, — ушел от ответа Грейфе. — Но какими они должны быть — это я представляю себе достаточно четко. Простите, но я не знаю, что все же по этому поводу говорил вам обергруппенфюрер?
— Немногое. Очень немногое. В основном то, что они должны быть преданы фюреру и рейху, — коротко ответил Вольф.
— Конечно, это главное, — поспешно согласился Грейфе. — А подробности мы сейчас с вами определим точно.
В кабинет вошел Эгерт и прикатил изящный сервировочный столик на колесиках, на котором стояла уже открытая бутылка коньяка, широкие, с толстым дном бокалы, в небольшом блюдце сливочное масло, открытая банка сардин, порезанная ломтиками консервированная ветчина, оливки, белый хлеб. Немного в стороне ото всего этого великолепия лежала нераскрытая пачка фирменных сигарет «Кэмел».
— Кофе — как прикажете, — сказал Эгерт.
— Спасибо, мой милый. Я позвоню, — разливая коньяк, кивнул адъютанту Грейфе. — Итак, за встречу!
— Хайль Гитлер! — поняв, что и Грейфе не собирается с ним откровенничать, поднял бокал Вольф.
— Хайль Гитлер, — охотно поддержал Грейфе.
Они выпили. И Вольф сразу же налег на закуску. Грейфе, дав ему возможность спокойно прожевать пару бутербродов, снова налил примерно на одну шестую коньяк в бокалы.
— И все же за встречу! — повторил он.
— За встречу! — согласился на сей раз Вольф.
А когда он поставил пустой бокал на стол и принялся за сардины, Грейфе, чтобы не терять времени, начал объяснять ему, каких русских он ждет от отдела IVB2.
— Было бы идеально, дружище, если бы отобранные вами кандидатуры были не старше тридцати пяти лет, — начал он. — Желательно — пообаятельнее. Вы же понимаете, что человеку с обаятельной внешностью всегда легче расположить к себе окружающих, чем какому-нибудь угрюмому, даже и очень опытному специалисту…
Вольф слушал его молча. Но, услыхав об обаятельной внешности, невольно скривил губы. «Можно подумать, что в моем распоряжении салоны красоты, а не концлагеря и тюрьмы. Пообаятельней! Да каждому из них, прежде чем они выслужились до обыкновенных надсмотрщиков, не один раз прикладом чинили зубы! А до того, как они попали к нам, кем они были в большинстве своем у себя на родине? Уголовники! Рвань! Пообаятельнее!» — с издевкой подумал он. Но хозяину кивнул и понимающе пообещал:
— Найдем, коллега. Поищем и найдем.
Но Грейфе будто понял ход мыслей своего собеседника. Потому что уже в следующий момент несколько упростил задачу:
— Я понимаю, дорогой Вольф, что в вашем ведении не артистические клубы и не дома моделей, поэтому вполне возможно, что того, что нам нужно, вам найти и не удастся. Но тогда уж пусть ваши люди подберут таких, у которых не будет никаких видимых особых примет: шрамов, родимых пятен, вы понимаете, что я имею в виду.
— Отлично понимаю, коллега, — отпивая коньяк маленькими глоточками, кивнул Вольф. И добавил такое, что, по его мнению, должно было исключить всякую возможность Грейфе впоследствии жаловаться на него: — Мы найдем то, что вам нужно, коллега. Обергруппенфюрер будет доволен.
Грейфе благосклонно кивнул и на этот раз.
— Опыт работы показывает, что лучше всего и успешнее справляются с заданиями люди, имеющие определенный кругозор. И, естественно, образование. Ибо, как говорили древние: «Мене агитат молем»[2]. Поэтому прошу обратить внимание и на эту сторону дела, — продолжал он.
— Обратим, — снова пообещал Вольф.
— Ну и последнее, — как можно приятнее улыбнулся Грейфе. — Пусть ваши люди не забудут указать в характеристиках все отрицательные качества и неподходящие для нас склонности кандидатов.
— Укажем, — и тут не стал возражать Вольф. «Камю» делал свое дело. Сердитый настрой начальника отдела IVB2 сменился благодушием. Теперь он уже совершенно не обижался ни на Кальтенбруннера, ни на Грейфе за то, что они не посвятили его в свои замыслы. Сработало неоднократно выручавшее его в таких обстоятельствах правило: не знаю — не отвечаю. И в результате душевной успокоенности ему даже захотелось немного поговорить. И немного еще подстраховаться на всякий случай.
— Укажем, коллега, — заверил он Грейфе. — Этого напишем сколько угодно. Все они, на мой взгляд, пфеннига ржавого не стоят. Вы же знаете, коллега, как к ним относится наш мудрый фюрер? Как ни пытался попасть к нему на прием их генерал Власов, фюрер так и не принял его ни разу. И я уверен, коллега, что и не примет. Я не стал напоминать об этом обергруппенфюреру. Но с вами-то я могу поделиться своим мнением откровенно. Все они делают из-за страха перед нами, из-за боязни за собственную шкуру. Какое им дело до национал-социализма и до наших идеалов? Впрочем, коллега, я искренне желаю успеха вашему делу и все сделаю, что вам требуется, в лучшем виде.
— Другого и не ожидал, — довольно улыбнулся Грейфе. — Кофе, еще коньяк?
Вольф допил коньяк, взял предложенную хозяином кабинета сигарету, прикурил, откровенно признался:
— Разве от ваших яств откажешься, коллега? Кто еще в наше время угостит так, как вы?
— Эгерт, — вызвал адъютанта Грейфе. — Пожалуйста, кофе.
Глава 8
Замечания, высказанные Кальтенбруннером в адрес создателей фаустпатрона, насторожили Грейфе. Обергруппенфюрер вполне мог знать то, что ему, рядовому начальнику отдела, не узнать никогда. А дело спросят с него. И Грейфе решил сам побывать и в КБ у фаустников, и на испытательном полигоне. Получив все необходимые разрешения, оберштурмбаннфюрер выехал на полигон, справедливо рассудив, что при одном испытании увидит и поймет больше, чем на всех ватманах и кальках, вместе взятых.
Погода выдалась ясная. По небу плыли редкие белоснежные облачка. Но настроение у Грейфе было далеко не таким светлым, как этот теплый и солнечный осенний день. Выполняя операцию «Волжский вал», все три отделения «Цеппелина», дислоцирующиеся в группах армий вермахта, забросили в глубокий советский тыл крупные агентурные группы. Одна из них была направлена на Север, в район Архангельска. Другая, состоящая из одиннадцати агентов, была заслана в устье Печоры с задачей совершить ряд диверсий на Северо-Печорской железной дороге. Третья, руководимая белоэмигрантом Семеновым, — в Пермскую область. Четвертая — на Северный Кавказ. Пятая — на территорию Туркменистана, с задачей сорвать перевозки на линии Красноводск — Ташкент. И еще ряд групп: на Урал, в район Сталинграда, в Гурьевскую область. Прибыть в заданные районы удалось всем. Грейфе докладывал об этом Шелленбергу по мере получения от них сообщений. Бригаденфюрер был доволен. Потирал от удовольствия руки, шутил. Но прошло уже немало времени, а ни одно задание так и не было выполнено. И появились весьма обоснованные подозрения, что с заброшенными агентами вообще покончено. И это было уже совсем невесело. По этому поводу уже никто не шутил. А у Грейфе на душе и вовсе было сумрачно, как в глухое ненастье.
Однако настроение настроением, а удостовериться лично в том, как шла работа у фаустников, было совершенно необходимо. И Грейфе ехал…
Испытательный полигон находился километрах в пятидесяти от Берлина на восток, почти у самых Зееловских высот. Спрятанный среди поросших лесом холмов, он занимал удобную площадку с протяженностью директрисы в километр. Здесь испытывали новые образцы стрелкового оружия и боеприпасов к нему. О приезде Грейфе на полигоне знали. Его встретил возле контрольно-пропускного пункта начальник полигона майор Цирайс. Полный, если не сказать, тучный, в очках, с мясистым носом и дряблыми щеками, майор немало повидал на полигоне всякого начальства. Немало слышал и недовольных, сердитых порой реплик в адрес того или иного незадачливого изобретателя или конструктора. И давно уже привык к этому. И далеко не всякий раз спешил навстречу прибывшим визитерам. Но гестаповца из РСХА, а для Цирайса, который не очень-то разбирался в сложной структуре этой зловещей организации, все ее представители виделись именно гестаповцами, и никем больше — майор даже прождал на КПП полчаса.
И поскольку для него не было ни малейшего сомнения в том, что такому гостю можно показывать все, что он потребует и захочет, Цирайс сразу же спросил Грейфе:
— Что вы хотели бы увидеть, герр оберштурмбаннфюрер?
— А разве вас не предупредили? — в свою очередь спросил Грейфе.
— Так точно, герр оберштурмбаннфюрер, я получил точнейшие указания и по телефону, и письменно. Но, возможно, у вас появились какие-то новые пожелания? — предупредительно поинтересовался Цирайс.
— Нет. Меня интересует только работа над фаустпатроном, — ответил Грейфе. — Кстати, майор, каково ваше личное мнение по этому поводу?
— О, герр оберштурмбаннфюрер, я вам выскажу все, что я думаю об этой штуке, — охотно согласился Цирайс и, увидев, что Грейфе готов его слушать, сразу же перешел к делу. Но сначала не упустил случая рассказать немного о себе. — Я работаю на этом полигоне, герр оберштурмбаннфюрер, с тридцать восьмого года. Меня прислали сюда как специалиста по автоматическому оружию. И вот уже второй год я отвечаю за качество испытаний на этом полигоне, герр оберштурмбаннфюрер. Фаустпатрон — это очень перспективная вещь. В борьбе с бронированной техникой кумулятивные заряды самые эффективные. Посудите сами, герр оберштурмбаннфюрер, сравнительно небольшой заряд взрывчатки килограмма два весом способен прожечь броню в двадцать и более сантиметров. Весь вопрос, герр оберштурмбаннфюрер, как этот заряд доставить до цели. Артиллерийский снаряд — это, конечно, хорошо. Но чтобы послать его в танк, нужна пушка. А ее, даже малого калибра, не всегда и не везде можно иметь…
Они шли по полигону в тот его сектор, из которого то и дело раздавалось какое-то странное шипение, будто кто-то невидимый стравливал из баллонов пар или воздух. Цирайс увлеченно рассказывал Грейфе о преимуществах кумулятивного эффекта.
— А создать фаустпатрон таким, чтобы его мог применить в бою любой пехотинец, пока что не удается, — продолжал Цирайс. — А все дело в порохе, герр оберштурмбаннфюрер. Нужен порох с формулой горения, максимально приближенной к прогрессивной. Иначе не удается получить устойчивой траектории полета снаряда…
Грейфе имел очень скудные познания в области внешней баллистики и уж совсем ничего не понимал в баллистике внутренней. Зато он отлично запомнил слова шефа РСХА: «…пока что у них огонь из трубы назад летит дальше, чем сам снаряд». Все это было понятно.
— Н-да, — многозначительно изрек начальник восточного отдела. — Война, недостаток сырья… колоссальная загруженность химической промышленности… н-да…
— Совершенно верно, герр оберштурмбаннфюрер, — согласился Цирайс. А про себя подумал: «Если бы вы пихали за колючую проволоку не всех евреев подряд, тогда бы эта самая химическая промышленность поворачивалась куда бы побыстрее…»
Они подошли к небольшому бетонному сооружению, похожему и на капонир, и на дот, и на блиндаж сразу. И зашли с тыловой части внутрь его. В небольшой комнате с бетонными стенами работало несколько человек, военных и штатских. Увидев вошедших, работу прекратили. И один из них, высокий штатский с седеющими волосами, подошел к Грейфе. Представился как главный инженер проекта и сообщил о том, что он предупрежден о визите гостя из Главного управления имперской безопасности.
— Вы очень удачно приехали, герр оберштурмбаннфюрер. Сегодня мы будем испытывать очередной промежуточный образец фаустпатрона, — сообщил он. — Мы только что отстреляли оставшиеся экземпляры от предыдущей партии.
— Это они шипели, как драконы? — припомнив слышанный шум, спросил Грейфе.
— Они, герр оберштурмбаннфюрер.
— А каковы результаты?
— Пойдемте посмотрим, — предложил главный инженер.
Они вышли из бетонного сооружения и в сопровождении Цирайса проследовали на площадку, на которой была вырыта в рост человека траншея и стояло несколько стальных щитов различной толщины и высоты. Перед каждым из них трава была выжжена, а земля исполосована обугленными шрамами. Все стальные мишени были целехонькими. И только та из них, которая стояла к траншее ближе всех, была прожжена насквозь в нескольких местах.
Грейфе в первую очередь очень тщательно осмотрел эту мишень. Толщина ее была миллиметров шестьдесят-семьдесят. От траншеи, из которой велась стрельба, она отстояла шагов на восемь. Отверстия, проделанные в ней газовыми струями зарядов, были не шире горлышка от бутылки.
— Обратите внимание, герр оберштурмбаннфюрер, на дистанцию стрельбы, — подсказал Цирайс.
— Вижу, — недовольно скривился Грейфе.
— Думаю, что сегодня результаты уже будут несколько иными, — пообещал главный инженер.
— Я давно это слышу, — заметил Цирайс.
— Да, но несколько месяцев тому назад мы не могли добиться и этого, — оправдывался главный инженер.
— Новое всегда дается с трудом, — примирительно сказал Грейфе. — Однако нельзя ли посмотреть на эти самые фаусты?
— Пожалуйста. Они там, — кивнул главный инженер на бетонное укрытие.
Все трое снова вернулись в каземат и прошли в соседнюю комнату с той, в которой Грейфе уже был. Здесь стояли длинные столы, на которых лежали разных размеров трубы с укрепленными на них прицельными приспособлениями и рукоятками, как у пистолетов. На отдельном столе у стенки лежали разных форм металлические булавы. И то и другое было довольно внушительных размеров. Грейфе это явно не понравилось. Спрятать такое оружие от постороннего взгляда нечего было и думать.
— То, что вы видите, герр оберштурмбаннфюрер, и есть в разобранном виде опытные образцы создаваемого нами ручного противотанкового динамореактивного оружия ближнего боя. Или, проще говоря, гранатомета одноразового действия для поражения танков и других бронированных целей, — объяснил главный инженер. Сказав это, он взял со стола одну из труб и продолжал: — Эта открытая с обоих концов труба — не что иное, как ствол, из которого и производится пуск реактивного снаряда и на котором монтируются прицельная планка и стреляющий механизм. Вы, очевидно, обратили внимание, герр оберштурмбаннфюрер, на то, что все они разных диаметров и длины. Идет поиск оптимального варианта: по весу, прочности, размерам.
Он не только объяснял, но и показывал, как нужно пользоваться новым оружием. Потом он подошел к столу, на котором лежали булавы.
— А это реактивные гранаты кумулятивного действия. И они тоже разные. И среди них тоже пока еще нет окончательного образца, который удовлетворил бы нас, — продолжал объяснения главный инженер.
— Еще недавно наши заряды отскакивали от брони. Потом они стали крошиться при ударе об нее. Из-за этого происходило их неполное сгорание. Эффект бронепрожигания оказывался весьма слабым. Теперь они уже надежно прожигают броневую плиту толщиной в шестьдесят пять миллиметров. Вы сами видели это, герр оберштурмбаннфюрер. Но этого крайне недостаточно. Мы непременно стараемся добиться, чтобы при общем весе в два с половиной — три килограмма наша надкалиберная кумулятивная граната прожигала броню не менее трехсот миллиметров. То есть фактически поражала любой русский танк.
— Интересно, когда у вас это получится, герр Пфлюкер? — не без ехидства спросил Цирайс.
«Вопрос очень кстати», — про себя думал Грейфе.
— Не стоит нас подталкивать и заставлять спешить, герр майор. Мы работаем по плану, утвержденному высоким начальством, — спокойно ответил главный инженер. — Если же у вас есть основания подозревать нас в том, что мы напрасно теряем время, сообщите об этом куда следует.
Толстый Цирайс явно не ожидал такой реакции.
— Это совсем не праздный вопрос, герр Пфлюкер, — заискивающе глядя на гестаповца, поспешил он загладить допущенную нетактичность. — Я патриот и всеми силами хочу, чтобы моя страна поскорее победила. А ваше оружие очень может помочь доблестным солдатам фюрера.
«Черт бы вас побрал с вашим верноподданничеством», — снова подумал Грейфе и спросил:
— Действительно, герр Пфлюкер, есть же у вас какие-нибудь прикидки на этот счет?
— Конечно, есть, герр оберштурмбаннфюрер. Но давайте лучше посмотрим, что покажет новый образец, — предложил главный инженер.
— Давайте, — сразу согласился Грейфе.
Пфлюкер вышел в соседнюю комнату, отдал там какие-то распоряжения, а когда вернулся к гостю, спросил:
— Вы хотели бы все видеть из бункера или из траншеи?
— Что за вздор, Пфлюкер? Зачем оберштурмбаннфюреру лазить по вашим траншеям? Конечно, он все прекрасно увидит из бункера, — поспешил за Грейфе ответить Цирайс. Но Грейфе решил иначе. Он знал, что такое усердие, как наблюдение за испытанием прямо с огневой позиции, непременно будет известно обергруппенфюреру и обязательно вызовет у него одобрение. Так зачем же ему было лишаться, не говоря уж о добром слове, хотя бы одобряющего взгляда? И он спросил:
— Вы сами-то, Пфлюкер, откуда наблюдаете?
— Естественно, из траншеи, герр оберштурмбаннфюрер, — победоносно взглянув на Цирайса, ответил главный инженер.
— Ну вот и посмотрим вместе, — решил спор Грейфе.
Пришлось и Цирайсу следовать за ними наружу, в траншею, в которой уже изготавливалась к стрельбе команда. Конечно, их троица расположилась совсем не рядом с испытателями. И что бы ни случилось с этим фаустом, никого из них не задело бы и осколком. Но все же они стояли не за бетонной стеной.
— Первый выстрел будет произведен по самому ближнему щиту, — сказал Пфлюкер. И в тот же момент из трубы-ствола, лежащего на правом плече стреляющего, за спиной у него, вырвался длинный-предлинный язык пламени. Над полигоном раздалось все заглушающее шипение. А по направлению к броневому щиту устремилась булава, и все мгновенно утонуло в грохоте ее разрыва.
— Неплохо, — довольно сказал Пфлюкер.
В ушах у Грейфе звенело, и он подумал, что, пожалуй, этот толстый Цирайс был прав, когда возражал против того, чтобы они уходили из бункера. Но он тоже одобрительно закивал, выражая тем самым свое согласие с главным инженером.
Второй выстрел был сделан по щиту, удаленному от траншеи на двенадцать метров. Булава, которую Пфлюкер назвал гранатой, прожгла его у самой земли. Это хорошо было видно не только в бинокли, но и невооруженным глазом. Пфлюкер нахмурился и быстро пошел по траншее к стреляющему. Они о чем-то коротко поговорили. Но Грейфе не расслышал ни слова. Уши у него после второго выстрела окончательно заложило. Потом Пфлюкер вернулся на свое место.
— Что случилось? — спросил Цирайс.
— Во-первых, мы уже взяли рубеж двенадцати метров! — поднял палец над головой Пфлюкер.
— Поздравляю, герр Пфлюкер, — слащаво улыбнулся Цирайс. — Но что случилось?
— Ничего. Я увеличил прицел.
В третий раз длинный шлейф пламени очернил траву сзади стреляющего. Но граната на сей раз не долетела до цели. Ткнулась в землю перед самым щитом и обуглила ее. Пфлюкер болезненно поморщился и снова теперь уже побежал к стреляющему. На этот раз они разговаривали гораздо дольше. И в конце концов ствол-трубу укрепили на специальной подставке. После этого испытатели-солдаты ушли в укрытие, а Пфлюкер попросил Грейфе и Цирайса отойти еще метров на пятьдесят.
— Что вы предприняли теперь? — опять спросил Цирайс. — И почему убрали стрелка?
— Значительно увеличил вышибной заряд, — объяснил Пфлюкер.
— А прицел?
— Установил первоначальный.
Пфлюкер подал знак рукой. Его команду тотчас выполнили. В укрытии что-то нажали или дернули, или потянули. Но эффект от этого получился совершенно неожиданным. Подставка вся вдруг окуталась огненным облаком разрыва. А граната вылетела всего метра на полтора и тоже взорвалась.
— Вот так! — многозначительно вякнул Цирайс.
— К сожалению, так, — согласился Пфлюкер. — Вышибной заряд оказался слишком велик. Но двенадцать метров уже наши. А это ровно вдвое больше, чем было на прошлых испытаниях. Я считаю — это успех.
«Особенно последний выстрел, — подумал Грейфе. — Пожалуй, обергруппенфюрер был прав. Они доведут эту штуку до кондиции, когда русские, о, мой бог, упрутся своими танками в окружную берлинскую автомагистраль».
— А неужели нельзя сделать ствол прочнее, герр Пфлюкер? — спросил он.
— Конечно, можно, герр оберштурмбаннфюрер. Но это непременно повлечет за собой увеличение веса всей системы. А это уже будет вопреки всем нашим расчетам, — ответил Пфлюкер. — Нет, герр оберштурмбаннфюрер, тут надо что-то другое.
— Все дело в порохах. Вы все время возитесь с пироксилиновыми. А я вам давно уже советую испытать баллистные, — заметил Цирайс.
— Возможно, герр майор, вы и правы, — не стал спорить Пфлюкер. — Но надо сначала до конца испробовать все комбинации с пироксилиновыми порохами.
В порохах Грейфе не понимал ни бельмеса. И на каком из них в конце концов остановятся изобретатели, ему было совершенно безразлично. Но этот похожий на молнию сноп огня, вылетающий за спиной у стрелка, его совершенно обескуражил. Он абсолютно не мог себе представить, как же тогда стрелять этой гранатой из кармана или из рукава? «Сгоришь же, к черту, еще во время тренировок!» Мысль эта так взволновала его, что он спросил:
— А что, герр Пфлюкер, этот огненный шлейф, он так всегда будет вылетать из трубы?
— Боюсь, что да, герр оберштурмбаннфюрер. Ведь надо же куда-то деваться энергии отдачи? — ответил Пфлюкер. Энергия отдачи тоже мало волновала Грейфе. «Как же они тогда обещали нам сделать для нас то, что нам нужно? Или они ни дьявола не поняли, что это такое должно быть? — в растерянности думал он. — Нет, я обо всем доложу обергруппенфюреру! И пусть он сам спросит у этих умников, что они имели в виду под этим самым “панцеркнакке”?»
— А на какое же расстояние, герр Пфлюкер, по вашим расчетам, должна бить эта штука? — спросил он.
— Мы считаем, что не меньше, чем на тридцать метров, — ответил главный инженер.
— Но ведь этим пока даже не пахнет, — не скрывая своего разочарования, заметил Грейфе.
— Да, но совсем недавно у нас вообще ничего не было, — резонно ответил Пфлюкер.
— Н-да, — вздохнул Грейфе, снова подумав: «Совсем недавно не очень-то она нам и была нужна».
В Берлин Грейфе вернулся совсем удрученным и озабоченным.
Глава 9
— Слышали сводку? — заходя в кабинет Круклиса, еще с порога спросил Доронин.
— Еще бы! Такие новости! Столица Украины! Красавец Киев! Лучшего подарка к 26-й годовщине Октября и не придумаешь, — довольно ответил Круклис.
— Просто молодцы, — высказал похвалу в адрес воинов-освободителей Доронин.
— Они-то да. А мы? — лукаво улыбнулся Круклис.
— Несравнимо слабее, но кое-что тоже есть, товарищ полковник, — ответил Доронин. — Разрешите начать с фотографий?
— С чего хотите, — согласился Круклис, вытаскивая из стола свое непременное в таких случаях увеличительное стекло.
Доронин разложил перед полковником фотографии.
— По данным экспертизы, товарищ полковник, все снимки сделаны еще до войны — не раньше, чем в тридцать девятом году. Снимали из фотоаппарата с очень маленьким объективом. Вероятно, какая-нибудь подделка под зажигалку или под портсигар, или что-либо подобное. Это доказывается тем, что часть снимков — монтированные, — начал доклад Доронин. — Объекты фотографирования просто не умещались в одном кадре.
Доронин докладывал, а Круклис вновь, с еще большим вниманием, разглядывал снимки через увеличительное стекло.
— Я заметил это еще в прошлый раз, — сказал он. — Конечно, разве захватишь в один кадр новые корпуса завода «ЗиС»? Или даже Крымский мост? А монтаж получился неплохой…
— Обратите внимание вот на эту серию, я бы так выразился, — подсказал Доронин.
Круклис просмотрел. На снимках были какие-то неизвестные ему дома, две подворотни, витрина магазина.
— Я их уже видел. Но не очень пока понял, для чего их фотографировали, — признался он. — Может, вы догадались? Может, тут главное не дома, а люди?
— У нас пока тоже ясности нет. Но мы склонны думать, что снимались все же именно дома. А вот с какой целью? — вопросом ответил Доронин.
— Явки? Места встреч? Тайники? — высказал предположение Круклис.
— Все может быть, — согласился Доронин. — Но ведь надо знать точно.
— Хорошо. Время есть — подумаем. Что дальше? — спросил Круклис.
— Дальше я бы хотел доложить о жильцах. Тут нам повезло больше…
— Еще бы! Тут к вашим услугам и соседи, и милиция, и паспортный стол. Так в чем же нам повезло?
— В квартире, начиная с тысяча девятьсот двадцать пятого года до того самого момента, как в нее вселилась Баранова, проживала семья Мартыновых: муж, жена и двое детей, — объяснил Доронин. — Глава семьи — Мартынов Тимофей Петрович, умер от воспаления легких в тридцать третьем году. Его супруга, Мартынова Глафира Ермолаевна, умерла от язвы желудка в тридцать шестом. Обе их дочери, Анна Тимофеевна и Любовь Тимофеевна, вышли замуж и уехали из Москвы. Анна — в тридцать седьмом в Новосибирск, где проживает с семьей до сих пор. Любовь вышла замуж за военного и уехала с ним в марте сорокового года в Бобруйск. Сведений о ней нет. В отделении милиции так характеризовали Мартыновых: семья простая, рабочая. Никто из семьи никогда ни в какой деятельности, направленной против советской власти, замешан не был.
— Это хорошо, — после некоторого раздумья сказал Круклис. — Каковы же выводы?
— Ни Мартыновы-старшие, ни их дочь Анна никакого отношения к снимкам не имеют, так как последние сделаны уже после того, как эти трое жили в Москве. Это первое, — загнул один палец Доронин.
— Продолжайте, — кивнул Круклис.
— Второе. Мы взяли данные на мужа Мартыновой-младшей в Киевском районном загсе и запросили на их основании Главное управление кадров Наркомата обороны подтвердить его личность. А заодно и место его службы в настоящее время. Однако ответа пока не получили. Что касается данных последней ответственной квартиросъемщицы — Барановой Марии Кирилловны, товарищ полковник, то тут мы неожиданно попали в тупик. В сведениях, имеющихся в домовой книге, говорится, что она родилась в Киеве в 1902 году. Но Киев только вчера освободили. И найдем ли мы там подтверждение этого факта позднее, тоже неизвестно. Вполне возможно, что все архивы киевских загсов погибли. Тогда мы навели о ней справки в подмосковном поселке Томилино, откуда она согласно записи в домовой книге переехала в Москву в сентябре сорокового года. Оказалось, что в Томилино Баранова перебралась в тысяча девятьсот тридцать пятом году из Детского Села — ныне Пушкин, под Ленинградом. Но город Пушкин оккупирован. И проследить путь Барановой до тридцать пятого года мы пока тоже не в состоянии. Не удалось на данный момент установить и то, была ли она замужем. И в Москве, и в Томилине она проживала одна. Народу к ней ходило много. Но ведь она, как врач, занималась частной практикой на дому. Вполне возможно, что это были ее пациенты. А про друзей и знакомых — никто ничего не знает. Единственным человеком, который мог бы пролить некоторый свет на это дело, был, как ни странно, дворник дома в Москве, в котором проживала Баранова. Почему-то именно ему она сообщала некоторые сведения о себе. Он сейчас на фронте. Но я уже вызвал его. Хотя, конечно, наши сотрудники могли бы получить необходимые сведения у него прямо там, на месте. Но мало ли еще какие вопросы возникнут по ходу дела?..
— Вызвали и правильно сделали, — одобрил действия своего заместителя Круклис. — А где эта дама получала паспорт?
— По сведениям той же томилинской домовой книги — в Детском Селе в тридцать втором году, когда проводилась общая паспортизация.
— В Детское Село, то бишь в Пушкин, нам, вы правы, пока не попасть, — согласился Круклис. — Но давайте начнем с того, что поверим Барановой. Она пишет: родилась в Киеве. Вот туда и поедем. И вы зря настроены так пессимистически, — покачал он головой. — Что-то там погибло — это совершенно определенно. А что-то, вполне возможно, и сохранилось. Так что побывать в Киеве просто необходимо. Давайте-ка пошлем туда Петренко. Он город знает, ему легче будет там во всем разобраться. Только проинструктируйте его хорошенько.
— Понял, товарищ полковник, — ответил Доронин.
Глава 10
Отдел IVB2 сработал оперативно. Уже через три дня после встречи с Грейфе начальникам ряда тюрем, концлагерей и некоторых их филиалов был направлен разработанный Вольфом циркуляр, согласно которому требовалось в недельный срок представить в отдел списки с фотографиями на трех-четырех русских, добровольно изъявивших желание служить рейху. Далее указывалось, какими качествами эти русские должны обладать и что следует сообщать в характеристиках, составленных на них. Непременным и обязательным условием отбора было полное исключение для отобранных возможности быть помилованным у себя на родине.
Прошло еще три дня, и хотя до указанного в циркуляре срока времени еще оставалось достаточно, Вольфа неожиданно вызвал к себе начальник, бригаденфюрер Мюллер. И безо всяких предисловий спросил:
— Как идет подбор русских по заданию шефа, Вольф?
Начальник отдела IVB2 сразу сообразил, что Кальтенбруннер продублировал свое указание. И хотя это еще раз укололо его самолюбие, он доложил начальнику гестапо так, будто выполняет задание не шефа РСХА, а непосредственно его, Мюллера.
— Согласно разосланному нами циркуляру через три дня списки отобранных русских с подробными характеристиками на них будут доложены вам, бригаденфюрер.
— Хорошо, Вольф, — одобрил Мюллер. — Но предварительно проштудируйте их сами. И наметьте наиболее подходящих.
— Но я не знаю, для какой цели их подбирать, бригаденфюрер, — признался Вольф.
— Это неважно, Вольф. Выбирайте лучших по всем показателям, — не стал объяснять Мюллер того, что и ему самому тоже не сказали, зачем конкретно управлению Шелленберга понадобились русские.
Когда списки, фотографии и характеристики поступили в отдел, Вольф так и сделал. Каждый пункт требований, которые предъявлялись к тем, кого отбирали, он тарифицировал в десять баллов. А уж потом, исходя из этой общей суммы, конкретно оценивал каждого отобранного. В итоге нетрудно было определить того, кто набрал баллов больше других. В зачет шло все: провокации, доносы, именуемые в характеристиках «информацией», личное участие в допросах, пытки заключенных и, наконец, приведение в исполнение приговоров. По десятибалльной системе Вольф оценивал также чины и награды представленных ему для отбора. Хотел было сюда приплюсовать и баллы, выставленные им на фотографиях. Но неожиданно задумался: а правильно ли это будет? И очень скоро решил, что именно этого-то делать не следует. Потому что три балла за фотографию легко сводили на нет все остальные показатели, будь они даже рекордными. Вольф четко помнил просьбу Грейфе: «желательно пообаятельней». И сейчас детально разглядывал фотографии. Нельзя сказать, что на них были изображены какие-нибудь уроды или сказочные злодеи. Ничего подобного. Люди как люди. Если не считать того, что у каждого из них во взгляде была какая-то настороженность и затаенность. Одним словом, когда Вольф закончил отбор, из двадцати восьми дел остались лишь шесть. Он отложил их в отдельную папку и понес показывать Мюллеру.
— Ну что ж, не знаю уж, чего от них хочет этот Грейфе, а на мой взгляд, любого из них можно посылать хоть черту в зубы, — просмотрев дела, одобрительно сказал шеф гестапо.
— Может, еще построже посмотреть? Парочку отложить в сторону? — спросил Вольф.
Мюллер решительно махнул пальцем.
— Зачем? Наоборот, еще парочку добавьте. Окончательное слово за управлением Шелленберга. Пусть они его и произнесут, — сказал он.
— А нам не стоит, бригаденфюрер, предварительно самим взглянуть на этих людей? — спросил Вольф предусмотрительно.
— Думаю, что нет, — ответил Мюллер. — Другое дело, следует предупредить комендантов и начальников лагерей, чтобы они проявили о них определенную заботу. Дали им возможность отдохнуть, не посылали на задания, подкормили… Позвоните прямо по телефону. А вернутся к ним дела, пусть снова впрягают их в работу.
— Будет сделано, бригаденфюрер, — слегка поклонился Вольф. — Вы сами доложите шефу дела отобранных русских?
Мюллер вопросительно взглянул на начальника отдела IVB2.
— С какой стати?
— Он же лично давал вам задание, — напомнил Вольф.
— Правильно. Сказал, чтобы я проконтролировал, — согласился Мюллер. — А докладывать? А вам не пришло в голову, что шеф просто может не принять от меня такой доклад?
— Почему? — искренне удивился Вольф.
— Да потому, Вольф, что дело, которое они задумали, наверняка какое-нибудь щекотливое. И поручено оно конкретно Грейфе. Стало быть, он за него и отвечает целиком. В том числе, разумеется, и за подбор исполнителей. А что же получится, если этих исполнителей ему, как говорится, вручит шеф? Так что передайте Грейфе эти досье сами, Вольф. Добавьте еще парочку и передайте. А я, естественно, доложу шефу, что его задание выполнено. И еще вот что, Вольф. Мне стало известно, что вы не очень хорошо отзывались об этих русских. Зачем вам это надо?
— Я сказал то, что я о них думаю, бригаденфюрер, — сразу насупившись, ответил начальник отдела IVB2.
— Да нет, вас за это не ругали, — поспешил успокоить его Мюллер. — Больше того, я с вами абсолютно согласен. Делать из врагов друзей, на мой взгляд, тоже пустая затея. Но раз начальству это нравится, зачем нам разуверять его в этом? Тем более что в их делах сам черт не разберется. Я говорю вам все это, Вольф, потому что ценю и уважаю вас как мужественного и честного солдата. Вы поняли меня?
— Спасибо, бригаденфюрер. Я все учту, — щелкнул каблуками Вольф.
— Ну и выше голову. Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — ответил Вольф, быстро собрал со стола досье и вышел из кабинета.
«Шеф, конечно, как всегда, во всем прав. Действительно, кто тянул меня за язык с этим дурацким откровенничаньем? — думал он по дороге в свой отдел. — Фюрера приплел! Фюрер не принимает! Мое-то какое дело? Сегодня не принимает, завтра примет. Армию-то они этому Власову создавать не препятствуют? И даже наоборот. По всем лагерям разъезжают представители этого Власова и всюду агитируют военнопленных русских вступать в ряды РОА! Другое дело, что не очень-то кто на эту агитацию поддается…»
Он добавил к тем делам, которые у него были, еще два, как советовал Мюллер, и поспешил к Грейфе. Оберштурмбаннфюрер принял его тотчас. Вольф вошел в кабинет Грейфе и был приятно удивлен тем, что там уже был один гость. Из кресла, в котором во время его последнего визита к Грейфе сидел и распивал «Камю» и кофе он сам, навстречу ему поднялся высокий, широкоплечий штурмбаннфюрер. Это был Отто Скорцени — любимец шефа РСХА, рейхсфюрера и самого фюрера. За выполнение особо важных государственных заданий Скорцени был награжден высшими орденами рейха. Встретиться со Скорцени, пожать его руку и поговорить с ним считали за честь люди и в более высоких чинах, чем Вольф. Поэтому и Вольфу было приятно переброситься сейчас парой слов с этим человеком. А удивило начальника отдела IVB2 то, что именно Скорцени — этот известный всему рейху и даже за его пределами чистой воды террорист, — а не кто-нибудь другой, присутствовал в кабинете у начальника отдела восточной разведки. Конечно, в РСХА, и в том числе в управлении Шелленберга, все давно уже переплелось и перемешалось. А столь резкий поворот в ходе войны эту мешанину усиливал еще больше. И все же, очевидно по привычке, хотелось думать, что разведка — это разведка. Но Скорцени был тоже Скорцени. И у Вольфа сразу родилась догадка о том, что отобранных им русских, по всей вероятности, собираются использовать совсем не как глаза и уши вермахта и рейха.
— Хайль Гитлер! — энергично поднял руку перед носом Скорцени Вольф.
— Хайль Гитлер! — ответил Скорцени. — Рад вас видеть живым и здоровым, штурмбаннфюрер.
— Я тем более, дорогой Отто. Мы не виделись почти год, — ответил Вольф.
— Ничего удивительного. Работы у всех по горло. Не только знакомых, себя перестаешь замечать, — усмехнулся Скорцени.
Тут Вольф обменялся рукопожатием с Грейфе и, вопросительно посмотрев на него, спросил:
— Я не помешал?
— Напротив, дружище, — как всегда, в улыбке расплылся Грейфе. — Целый ряд вопросов мы будем решать все вместе. А вы, я вижу, уже готовы в бой.
— Да. За нашим отделом дело не стало. Мы постарались исполнить все, что было в наших силах, — ответил Вольф и положил на стол хозяина кабинета вместительную кожаную папку с досье на русских. — Тут их восемь.
— Отлично, — довольно потирая руки в манере своего начальника, подошел к столу Грейфе. — Уверен, дорогой Вольф, что после вашего отбора мы можем работать с любым из них.
«Отобрали бы и поточнее, если б я знал, зачем они вам нужны», — подумал Вольф. А оберштурмбаннфюреру Грейфе ответил:
— Конечно, есть еще несколько кандидатов и в резерве. Но эти наиболее подходящие по всем статьям.
Грейфе раскрыл папку, достал досье и начал раскладывать их на столе.
— Сейчас посмотрим… Сейчас посмотрим, — повторил он несколько раз при этом.
К столу подошел Скорцени. Взял первое попавшее досье наугад и раскрыл его.
— С этого и начнем, — одобрил выбор Грейфе.
— Назаров. Матвей Федорович. Тысяча девятьсот первого года рождения, — начал читать Скорцени. — Родился в деревне Прилуки Калужской области. В двадцать восьмом году был раскулачен и за вооруженное сопротивление, оказанное властям, был осужден судом и приговорен к десяти годам лишения свободы. За попытку к бегству получил еще два года. Из заключения вернулся перед самой войной, в апреле сорок первого. В октябре того же года явился в комендатуру города Сухиничи и добровольно изъявил желание сотрудничать с немецкими властями. В доказательство своей верности новому порядку передал коменданту списки и адреса лично известных ему коммунистов и активистов советской власти. Впоследствии помогал комендатуре арестовывать и ликвидировать лиц, указанных в списке. В конце сорок первого года за активное пособничество оккупационным властям при обезвреживании других врагов рейха получил чин унтер-офицера и был зачислен в штат фельдполиции. За время службы неоднократно отмечался командованием за усердие и исполнительность.
Скорцени читал долго. А Грейфе слушал и рассматривал фотографию Назарова. Скуластое лицо. Глубоко посаженные глаза. Широкий нос. Нависшая надо лбом челка…
— К слабым сторонам характеризуемого следует отнести, — продолжал Скорцени, — его малограмотность, отсюда неспособность к умственной работе, жадность к деньгам и спиртному.
«Туп и мрачен, — сделал профессионально четкий вывод Грейфе. — Вполне возможно, что для отдела Д это сущая находка. Для нас же не подойдет и близко».
Фотографию Назарова взял Скорцени.
— Что скажете, дорогой Отто? — дав время штурмбаннфюреру разглядеть унтер-офицера, спросил Грейфе.
В ответ Скорцени неопределенно пожал плечами.
— Мне никогда не приходилось иметь с такими личностями дело, — признался он. — То, что он русский и это ни у кого не вызовет ни малейшего сомнения, наверное, хорошо. Но все остальное…
— Какие же требования, дорогой Отто, вы предъявляете к своим людям? — спросил Вольф.
Скорцени ответил без задержки.
— В основном три: преданность фюреру, смелость, граничащая с дерзостью, и смекалка.
— Прекрасный ответ. Я так и думал, — одобрительно кивнул Вольф. — Смелость и смекалка.
— Да, смекалка и изворотливость, — подтвердил Скорцени. — Ситуация, в которой приходится действовать моим людям, порой меняется так неожиданно и резко, что предусмотреть все заранее совершенно невозможно. Решение приходится принимать самому, немедленно и смело. И тут очень важно не ошибиться. Ибо для нас ошибка — это не только не выполненное задание, но и практически всегда смерть. А жить, коллега, мои люди так же хотят, как и все.
— Естественно, дорогой Отто. Жить хотят все, — со знанием дела подтвердил Вольф. И добавил: — Хотя все люди разные и задачи выполняют тоже разные.
— Ну, я думаю, этого кандидата мы отложим до более крайней нужды, — повернул разговор на практическую основу Грейфе. И взглянул на Скорцени. — Или как?
— Давайте посмотрим других, — согласился штурмбаннфюрер и раскрыл следующее досье.
Он опять начал читать характеристику, а Грейфе снова взял в руки фотографию.
— Зюзин… Анатолий Дмитриевич… двенадцатого года рождения… Ставропольского края… родители репрессированы в тридцать седьмом году за активное участие в белоказацком контрреволюционном движении в годы Гражданской войны… рядовой красноармеец… добровольно сдался в плен в сорок первом году… в лагере военнопленных в Виннице был завербован абвером… Однако из-за болезни (постоянно разговаривал во сне) из подразделения абвера был отчислен и переведен в охранные войска… в настоящее время имеет чин шарфюрера… Зарекомендовал себя как мастер по допросам своих соотечественников, как мужчин, так и женщин… Особенно изобретателен в добывании сведений при допросах евреев…
— Он что, до сих пор продолжает разговаривать во сне? — неожиданно спросил Грейфе.
Скорцени перевернул страницу, но не нашел ответа на вопрос хозяина кабинета и взглянул на Вольфа.
— Там есть, есть сведения, — ответил Вольф и указал пальцем на приписку в конце текста. — К сожалению, самому ему избавиться от этого порока не удалось. А мы не имеем возможности серьезно лечить людей этой категории.
— Нам он точно не подойдет. Хотя внешность у него вполне привлекательная, — сказал Грейфе и протянул Скорцени фотографию. Штурмбаннфюрер взял ее в руку больше из уважения к хозяину кабинета, чем из любопытства. Блондин, с мягкими чертами лица, с выразительным взглядом чуть раскосых глаз, у него тоже не вызвал симпатии.
— Завалит себя в первую же ночь. Я таких знаю. У некоторых бывало от чрезмерного перенапряжения нервов. Помню, как-то во время операции одного такого даже пришлось убрать самим, — сказал Скорцени. — В интересах дела иногда приходится прибегать и к таким мерам.
Скорцени вложил фотографию специалиста по допросам в досье, положил его на папку первого отвергнутого ими кандидата и взял новое дело. Открыл его и снова начал читать:
— Шило Петр Иванович… девятьсот девятого года рождения… Черниговская область… в тридцать втором году осужден за растрату денег. Но наказания избежал благодаря тому, что бежал из-под стражи… находясь на нелегальном положении, дважды менял свою фамилию, став сначала Гавриным, а затем Серковым… в тридцать пятом году, не будучи опознанным, был арестован за новое уголовное преступление, снова осужден к длительному сроку заключения и снова бежал… в сорок первом году призван в Красную армию… воевал против группы армий «Север»… в мае сорок второго года добровольно перешел на нашу сторону и изъявил желание воевать с большевиками…
Грейфе тем временем внимательно разглядывал фотографию Шило — Гаврина — Серкова.
— Вот эта кандидатура мне кажется любопытной: дважды бежал, умело конспирировался, добровольно сдался в плен, — не без удовольствия перечислял «заслуги» перебежчика Грейфе.
— Это еще не все, — заметил Вольф, довольный тем, что хоть одна кандидатура понравилась разведчику.
— Да, тут еще данных целая страница, — подтвердил Скорцени.
— И внешность вполне приятная, — продолжал Грейфе. — Ну а что там еще о нем сказано?
— Проверялся тщательно гестапо, — продолжал Скорцени. — Под псевдонимом Политов работал по заданию гестапо в ряде лагерей, а также в венской тюрьме… к положительным качествам Политова можно отнести: ненависть к советскому строю, хитрость, изворотливость, умение быстро ориентироваться в любой обстановке… к отрицательным — любовь к деньгам…
— Ну что ж, — еще раз взглянув на карточку Политова, подвел итог Грейфе. — Этого кандидата, я думаю, следует изучить более внимательно.
Из восьми кандидатур, предложенных Вольфом, Грейфе и Скорцени отобрали трех.
— Когда же можно будет познакомиться с ними лично? — спросил Грейфе.
— Да хоть завтра, — не раздумывая ответил Вольф.
Но Грейфе задумался.
— Тогда давайте послезавтра, — окончательно решил он и пояснил свою мысль: — Возможно, на дела захочет взглянуть также мой шеф.
— Как вам будет удобней, — не стал возражать Вольф. Попрощался, вскинул руку в традиционном приветствии и ушел.
— Пожалуй, оберштурмбаннфюрер, и я продолжу свои дела, — сказал Скорцени.
— Конечно, дорогой Отто. Желаю вам успехов. Но послезавтра в это время снова прошу сюда, — напомнил Грейфе.
— Хайль Гитлер! — щелкнул каблуками Скорцени.
— Хайль Гитлер! — ответил Грейфе.
Оставшись один, начальник восточного отдела еще раз внимательно просмотрел отобранные им досье. Особых претензий к тем, кого они характеризовали, у него не было. Да он не очень и придирался: знал, а точнее сказать, представлял, с кем имеют дело подчиненные Вольфу начальники и коменданты лагерей и тюрем. Поэтому, сложив досье в отдельную папку с надписью «На доклад», вызвал к себе одного из подчиненных. А когда тот явился, спросил:
— Из Москвы от нашего «двадцать второго» ничего больше не поступало?
— Ничего нового, оберштурмбаннфюрер. Только то, что квартира с тайником подверглась ограблению и опечатана милицией.
— Понятно, — кивнул Грейфе. — Тогда отстучите ему шифровку такого содержания: «Тщательно обследуйте квартиру. Вполне возможно, что тайник сохранился. Изымите фотографии и немедленно пришлите сюда».
Глава 11
Операция «Цитадель» провалилась. Двадцать третьего августа Красная армия вторично, и на этот раз уже навсегда, освободила от немецко-фашистских оккупантов Харьков. Немцы покатились на запад, стремясь во что бы то ни стало удержать свои позиции на рубеже «Восточного вала», приказ о строительстве которого по реке Молочной и далее к северу по течению реки Сож, как мы уже говорили, Гитлер отдал еще одиннадцатого августа, «…невзирая на вопросы престижа, сооружать оборонительные позиции в своем глубоком тылу». Особенно большие надежды он возлагал на оборону Днепра. Выступая на совещании руководства национал-социалистской партии в Берлине, он так и заявил: «…Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его — эту мощную водную преграду в семьсот-девятьсот метров ширины, правый берег которой представляет цепь непрерывных дотов, природную неприступную крепость». Впрочем, такая уверенность в непреодолимости «Восточного вала» базировалась в сознании Гитлера не только на мощи оборонительных фортификационных сооружений и крайне выгодного для немцев рельефа местности. Надо заметить, что для этого у него имелись и другие предпосылки. Главной из них была та, что из разгрома немецких войск под Курском он сделал, в который уже раз, неправильный вывод и снова принял желаемое за действительное. Он постепенно, но все больше начал убеждать себя, а равно и своих приближенных в том, что победа под Курском досталась русским такой ценой, так подорвала всю их мощь, что у них теперь не станет уже никаких сил продолжать наступление в глубь Украины и они будут вынуждены перейти к обороне. Однако очень скоро эта иллюзия рассеялась. Днепр обратно не потек. А Красная армия продолжала освобождать от врага советскую землю. И Гитлер из Берлина срочно перебрался на Украину. Уже двадцать седьмого августа он прибыл под Винницу в село Якушинцы, где для него была оборудована его главная квартира. Место было очень красивое. Но не на отдых пожаловал сюда фюрер. Уже восьмого сентября он провел в штабе группы армий «Юг» большое совещание с командным и начальствующим составом, на котором обсуждалась сложившаяся, после провала летнего наступления, обстановка. В заключение он сказал тогда: «Развитие событий на Востоке обострилось. С Востока нельзя снимать силы, напротив, его надо усиливать».
Командующий группы генерал-фельдмаршал Манштейн попросил немедленно выделить в его распоряжение дополнительно двенадцать дивизий. Гитлер пообещал удовлетворить его просьбу за счет групп армий «Центр» и «Север». Но в это время Красная армия усилила свой нажим на центральном участке фронта, в результате чего вермахт также вынужден был начать отступление. Фельдмаршал Клюге, командовавший группой армий «Центр», заявил, что ввиду крайне обострившейся обстановки он не сможет снять с фронта ни одного солдата. Гитлер тем временем вернулся в свою ставку в Растенбург. Манштейн, не дождавшись обещанного подкрепления, вылетел туда же вслед за фюрером. Но Гитлер на сей раз, выслушав доклад командующего группой армий «Юг», в ответ только посочувствовал ему. Красная армия продолжала теснить врага. В середине сентября вермахт был вынужден начать повсеместный отход с Левобережной Украины и из Донбасса. Двадцать второго сентября советские войска вышли к Днепру, форсировали его и захватили плацдарм в междуречье Днепра и Припяти. А уже к концу сентября Центральный, Воронежский, Степной и Юго-Западный фронты захватили на правом берегу Днепра двадцать три плацдарма.
Фронт вермахта на юге трещал по всем швам. Немцам надо было что-то срочно предпринимать, чтобы не допустить здесь полного прорыва фронта Красной армией. В журнале боевых действий ОКВ четвертого октября появилась категорическая запись.
«…Восточный фронт должен получить помощь, и для этого следует пойти на риск на других театрах военных действий». Помощь после долгих обсуждений была найдена. Немецкие войска очистили Южную Италию и отошли на более короткую линию обороны на севере. За счет этого удалось выкроить несколько дивизий. Кроме того, все танковые дивизии на итальянском фронте заменялись пехотными. Все лучшие силы из Франции также были переброшены на восток. Таким образом, Восточный фронт вермахта получил дополнительные войска, которые должны были вернуть рейху Донбасс и прочие жизненно важные центры Левобережной Украины. Берлинское радио восьмого октября, скрывая правду от своих слушателей, хвастливо пыталось внушить им: «Германское командование, сократив линию фронта и организовав оборону при более благоприятных естественных условиях, заставило большевиков прекратить наступление… Восточный фронт сейчас более прочен, чем когда-либо. Немецкие войска заняли надлежащие позиции на западном берегу Днепра, как это было предусмотрено, понеся при этом небольшие потери». Но это была заведомая ложь. Остановить наступление Красной армии не могло уже ничто.
Девятого октября Красная армия завершила преодоление обороны немцев на реке Молочной. Четырнадцатого октября был освобожден город Запорожье. Двадцать пятого — Днепропетровск и Днепродзержинск. А на рассвете шестого ноября был полностью освобожден от оккупантов Киев. «Восточный вал» рухнул. Красная армия начала освобождение Правобережной Украины. И уже седьмого ноября в своем докладе высшему руководству генерал-полковник Йодль сообщал: «Если… охарактеризовать наше общее положение, то я должен со всей откровенностью назвать его тяжелым, и мне совсем не хотелось бы скрывать, что я учитываю возможность наступления новых тяжелых кризисов…» Так оно и случилось. И по мере дальнейшего продвижения Красной армии на запад атмосфера в «Вольфшанце» и в Берлине накалялась все сильней и сильней. И опять, как уже неоднократно бывало в таких случаях, когда не сбывались пророчества и заверения фюрера, когда Геббельс объявлял по радио об очередном выравнивании фронта, а на картах генеральных штабов наносился очередной неприступный рубеж обороны немецких войск, между небольшим городком в Восточной Пруссии и столицей Третьего рейха начиналось оживленное движение. Чины поменьше, чины побольше, самые большие и самые высокие загружались в самолеты, в поезда и спешили за указаниями и с указаниями. И опять одним из первых к Гитлеру примчался его «верный Генрих». Гиммлер не видел Гитлера почти два месяца. И был поражен тем, как он изменился за этот не столь уж большой срок. На совещании в Берлине, когда Гитлер выступал перед функционерами националсоциализма, он был одержим верой в то, что его солдаты остановят русских на берегу Днепра. Он был энергичен, бодр, будто и не было никакой катастрофы под Курском. Его самообладание не оставляло ни у кого сомнений в его недюжинных силах. И вдруг то, что Гиммлер увидел сейчас… Фюрер медленно, будто нехотя оторвавшись от карты, лежавшей перед ним на столе, устало поднял на Гиммлера тяжелый взгляд. И Гиммлер, отлично зная и понимая малейшие колебания в настроении своего фюрера, впервые не увидел в этом взгляде никакого выражения. Гитлер был опустошен.
— Мой фюрер, — стараясь никак не выдать своего впечатления, произведенного на него Гитлером, воскликнул Гиммлер, — я, как всегда, счастлив видеть вас.
Гитлер подошел к нему, пожал ему руку и отечески похлопал по плечу.
— Я тоже, мой Генрих. Вы прибыли очень кстати. Нужно о многом поговорить, — ответил он.
— Я привез вам наилучшие пожелания от ваших верных солдат — от ваших и моих подчиненных. Все они еще теснее сплотились вокруг вас, мой фюрер, — сказал Гиммлер, пытаясь как-то отвлечь фюрера от его дум и начать этот разговор половчее.
— Спасибо, Генрих. Ну что в Берлине? Мне кажется, я не был там целую вечность, — возвращаясь на свое место за столом и за картой, спросил Гитлер.
Гиммлеру было что рассказать об интригах, сплетнях и откровенных высказываниях в высших эшелонах власти. И он хотел это сделать. За этим и приехал. Но он взглянул на фюрера еще раз и отказался от этих, как ему казалось, благих намерений. И дело тут было не только в жалости. Гиммлер побоялся попасть со своими разговорами, что называется, не в ногу. Ибо он отлично знал, что еще в сентябре в «Вольфшанце» дважды побывал Геббельс. Первый раз десятого и второй раз двадцать третьего числа. Знал и доподлинно, что оба раза они вели с фюрером разговор о трудностях ведения войны сразу на два фронта, о том, что фюрер крайне обеспокоен возможностью скорой высадки англосаксов где-нибудь во Франции и как о контрмере против этого о возможности начала каких-либо переговоров с противником. Были у Гиммлера сведения и о том, что прежде, чем вести такие разговоры с фюрером, Геббельс написал ему свои соображения в докладе. Но этот доклад объемом более сорока страниц к фюреру не попал, а застрял где-то в непроницаемых даже для него, всемогущего рейхсфюрера, сейфах Бормана. А поскольку Гиммлер и сам пытался наладить такие переговоры с противной стороной через своего Шелленберга, то теперь решил запретных тем не касаться и начал рассказывать фюреру о результатах и последствиях последних бомбежек союзниками столицы и других городов Германии. Упомянув при этом и о том, что люфтваффе[3], очевидно, так и не сможет защитить фатерлянд от этого страшного зла войны.
— Да. Все это так, — вздохнув, согласился Гитлер. — Приходится только восхищаться стойкостью и терпимостью наших людей, способных безропотно переносить все эти тяготы. На высказывания и злонамеренные реплики отдельных слабых лиц и маловеров мы при этом не должны обращать никакого внимания. Больше того, Генрих, мы должны, мы обязаны безжалостно с ними бороться. В этом наш долг во имя будущего Германии.
С этим Гиммлер был абсолютно согласен. Бороться надо. Бороться будут, тем более что призывы министра пропаганды мало на кого уже действуют.
И тут Гитлера вдруг словно прорвало:
— Ничто не наносит такого ущерба нашему общему делу, как вредные, подстрекательские разговоры, особенно ведущиеся в среде растленной евреями и коммунистами интеллигенции, в наших штабах, включая и генеральные, среди разного рода ничем не занятых, но еще вполне способных честно трудиться на благо рейха пенсионеров, — распаляясь, продолжал Гитлер.
Гиммлер теперь только слушал.
— Проявлять к ним какую-либо терпимость, попустительство — равно тому, что умышленно предавать интересы рейха. Надо в самый кратчайший срок максимально расширить права трибуналов, — продолжал Гитлер. — И ресурсы! Ресурсы! Ресурсы для армии и промышленности! Надо как можно скорее ОКВ разработать и издать приказ об изыскании людских ресурсов для действующей армии. А вам, Генрих, продумать, как пополнять рабочую силу на заводах, на строительных и восстановительных работах. Чем больше всяких болтунов займется делом, тем только чище будет воздух в нашем тылу…
Гитлер говорил долго. Почти час.
И когда он говорил, уже совсем не казался опустошенным. Напротив, в его словах чувствовалась убежденность, воля, уверенность. Гиммлеру всегда казалось почти необъяснимым: его хотелось слушать и верить в то, о чем он говорит, даже ему, рейхсфюреру СС, который знал о подлинном положении дел в рейхе не только не хуже, но, возможно, даже и лучше фюрера. Закончил свой монолог Гитлер так же неожиданно, как и начал. Но не просто замолчал. Теперь он пожелал слушать Гиммлера. А потому спросил. Точнее, потребовал ответить, а что думает обо всем об этом он, его «верный Генрих».
Гиммлер ждал этого. Но теперь ему уже было легче. Основные моменты, на которых ему следовало сосредоточить свое внимание и дать исчерпывающие ответы, были уже намечены самим Гитлером. Ему надо было только сказать, что уже сделано по тому или иному вопросу, а главное, что будет сделано еще: им лично, его штабом, руководимым бригаденфюрером Вольфом, РСХА, ВФХА, гестапо и другими органами, ему подчиненными. Гитлер слушал его молча, заложив руку за руку, глядя немигающими глазами в одну точку на карте. Но когда Гиммлер упомянул о РСХА, брови его чуть заметно дрогнули. А когда «верный Генрих» отчитывался за гестапо, он неожиданно прервал его.
— А что делается по тому заданию, которое я возложил на вас по поводу Верховного командования русских? — спросил он.
— И которое так успешно выполняет наш дорогой Эрнст, — любезно уточнил Гиммлер. — Многое делается, мой фюрер… — И Гиммлер пунктуально изложил то, что сам накануне отъезда в Растенбург узнал о подготовке акции от Кальтенбруннера, и о том, что акция организационно уже продумана от начала и до конца, и о том, что уже заказано и изготовляется специальное оружие, и о том, что уже фактически подобраны кандидатуры тех, кто будет эту акцию исполнять.
— Сроки! Меня интересуют сроки! — нетерпеливо спросил Гитлер.
— Не раньше середины будущего года, мой фюрер, — ответил Гиммлер.
— Долго, — недовольно бросил Гитлер.
— Но зато, надо думать, все будет так, как мы планируем, — попытался успокоить фюрера Гиммлер.
Гитлер снова ушел в раздумья. Гиммлер тоже думал. Он был готов к докладу о ходе подготовки предстоящей акции. Не сомневался в том, что Гитлер спросит его о ней. Но его удивила цепкость, с которой Гитлер держался за нее. А это значило, что он по-прежнему возлагал на нее большие надежды…
Затянувшуюся в их разговоре паузу неожиданно прервал адъютант Гитлера Адамс и доложил, что Кейтель и другие генералы уже прибыли на совещание.
— Да-да. Я их жду, — вспомнил Гитлер. — Пусть заходят. Вы, Генрих, тоже останьтесь. Вам будет полезно узнать об истинной обстановке на фронтах. К тому же у меня насчет вас, в перспективе, есть одно очень важное соображение.
— Готов служить, мой фюрер, — с легким поклоном ответил Гиммлер и, сразу отрезвев от ораторского гипноза своего собеседника, подумал про себя: «Интересно, что он там еще выдумал?»
Глава 12
Круклис чувствовал, что уже пора что-то определенное сказать своему руководству о снимках, найденных на квартире зубного врача-протезиста. А у него до сих пор еще не было никаких данных. Поэтому появление у него в кабинете Доронина вместе с Петренко немало обрадовало полковника. Но радость оказалась преждевременной.
— Что касается старшего лейтенанта Кремнева Петра Петровича — мужа Мартыновой-младшей, то он, как сообщило Главное управление кадров РККА, числится пропавшим без вести с августа тысяча девятьсот сорок первого года. Жена его, Мартынова Любовь Тимофеевна, вместе с командирскими семьями была эвакуирована из Бобруйска в Кострому, где работает в настоящее время в эвакогоспитале. Сведений о муже не имеет. Последнее письмо получила в июле сорок первого. Адрес Мартыновой у нас имеется, — первым закончил свой доклад Доронин.
— Мартынова знает, что ее муж пропал без вести? — спросил Круклис.
— Знает, товарищ полковник.
— Откуда?
— Получила уведомление из Главного управления кадров.
— Есть ли какие-нибудь данные о ней самой?
— Начальством эвакогоспиталя характеризуется положительно. Работает честно, добросовестно. Неоднократно просилась на фронт, — доложил Доронин.
— Почему же не отпускают?
— Здесь, в тылу, тоже рабочих рук не хватает. А она тем более в госпитале, — объяснил Доронин.
— Так, сказал бедняк, — в раздумье произнес Круклис. — Что же будем делать с этой версией дальше? Вы думали, Владимир Иванович?
— Думал, товарищ полковник. Придется ждать о старшем лейтенанте Кремневе каких-либо сообщений, — ответил Доронин. И добавил: — Если они, конечно, откуда-нибудь и когда-нибудь поступят.
— Вот именно: сидеть у моря и ждать погоды, — уточнил Круклис. — Неопределенно и маловероятно. Не годится. А попробуйте-ка запросить Центральный штаб партизанского движения. Пусть проверят, не числится ли этот Кремнев в каком-нибудь из их отрядов?
— И что? — спросил Доронин.
— И если вдруг обнаружится, запросите характеристику. И тоже все с ним станет ясно, — ответил Круклис. — За два года в партизанском отряде он должен как-то себя зарекомендовать.
— Понял, товарищ полковник. Будет сделано, — ответил Доронин.
— Ну а вы чем порадуете, товарищ Петренко? Какое впечатление произвел на вас Киев? — перешел к разговору с майором Круклис.
— Если в двух словах, товарищ полковник, то злодеяниям фашистов нет конца, — хмуро ответил Петренко. — Знаете, ехал — очень волновался. Это ведь мой родной город. А приехал, увидел — сердце зашлось, что они там натворили, эти гады. Крещатика — нет. Стоят пустые коробки. Пригороды все сожжены. В Бабьем Яру побито почти двести тысяч наших людей. Улицы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Двадцать пятого Октября, Свердлова, да разве все перечтешь, тоже одни развалины. А сколько хлопцев и дивчин угнали в Германию? Вы бывали в Киеве, товарищ полковник?
— Бывал, Леонид Сергеевич, — кивнул Круклис. — Много раз бывал. И всегда испытывал праздничное настроение, когда ходил по его улицам. Каштаны, старинные особняки, памятники культуры, соборы…
— Ни Успенского уже нет, ни Михайлово-Златоверхого, товарищ полковник. Все сожгли бандиты. Разве такую старину восстановишь? — сокрушенно вздохнул Петренко. — А задание, товарищ полковник, я выполнил. Часть дореволюционных городских архивов, и именно та, которая нам была нужна, как ни странно, сохранилась…
— Значит, и правду говорят, что дома и стены помогают, — мягко улыбнулся Круклис.
— Помогают, да не совсем, — смутился Петренко. — Одним словом, товарищ полковник, рождение Марии Кирилловны Барановой в Киеве в тысяча девятьсот втором году документами архива не подтверждается.
— Вот как? — вытянул нижнюю губу Круклис.
— Я проверил списки родившихся киевлян от девятьсот второго года за пять лет вперед и назад. И тоже никаких сведений о Барановой М.К. нигде не нашел, — доложил Петренко.
— Совсем хорошо, — сказал Круклис. — Может, ее тогда действительно принес аист?
— Я проверил тщательно, товарищ полковник, — заверил начальника Петренко.
— Не сомневаюсь, — согласно кивнул Круклис. — Но где же ошибка? И ошибка ли? Неожиданный поворот. Не скрою…
— Жалко, что город Пушкин в оккупации, — заметил Доронин.
— Очень жалко: и вообще и в частности, — снова согласился Круклис. — И все же, что вы оба думаете по поводу этой Барановой?
— У меня две версии, — начал первым Доронин.
— Давайте.
— Либо мы ищем не ту, кто она в действительности. Либо в архивах чего-то не хватает.
— В архиве, Владимир Иванович, полный порядок. Можете сами проверить, — явно уязвленный недоверием, ответил Петренко. — У меня было намерение посмотреть еще церковные записи. Но ведь мы не знаем, в какой церкви она крестилась…
— Не знаем, — подтвердил Круклис. — А что вы имели в виду, Владимир Иванович, когда говорили, что мы ищем не ту?
— Да ничего особенного, товарищ полковник. Мы ведь до сих пор не установили, была она замужем или нет. Ну а если была, то уж точно искать надо было не Баранову, а какую-то другую Марию Кирилловну, — объяснил подполковник свою версию.
— Так не рождалось за все десять лет ни одной Марии Кирилловны! — бойко заметил Петренко. — Марии — сколько угодно. Кирилловны — тоже попадались. А вот вместе, как назло, — ни однёшенькой.
— Вот! Это профессионально! Значит, догадался и по именам проверить? Молодец, — одобрительно взглянул на Петренко Круклис. — Это уже серьезный сигнал! Так как же ее искать дальше?
— Надо подумать. Следы обрываются, — ответил Доронин.
— А вот и нет! Зацепочка есть!
— Какая же?
— Не ручаюсь за сто процентов, но попытать счастья можно и нужно. Она врач?
— Стоматолог-протезист.
— Значит, когда-то она получала диплом?
— Обязательно.
— И когда она получала право работать в Москве, наверняка этот диплом где-то зафиксирован?
— А как же? Кто бы ей разрешил без диплома…
— Вот и зацепочка. Вот и ниточка. Вот и поезжайте-ка в Наркомздрав, а уж точнее там на месте разберетесь, где искать нужные сведения, и узнайте: где, когда она его получала и на какую фамилию. Даю вам на это два дня.
Доронин и Петренко ответили в один голос:
— Слушаюсь, товарищ полковник.
— Значит, — не спешил отпускать их Круклис, — поиск по двум направлениям. Через ЦШПД и через Наркомздрав. Вот теперь выполняйте.
Глава 13
Агент «двадцать два» выходил на связь строго по графику, разработанному по особой системе, почти исключающей возможность советской контрразведке установить какую-либо закономерность последовательности сеансов приема и передач. Система была сложной и в то же время достаточно простой. Основывалась она на умении производить средней трудности расчет и точном знании московского времени. Чтобы не ошибиться и не запутаться в ней и не пропустить приема информации из-за линии фронта в нужный момент, агент всегда должен был точно знать порядковый номер месяца, порядковый номер недели, число, обозначающее день с добавлением к нему десятки, и целое число часов с округлением минут в большую сторону, если их набегало больше, чем полчаса, и с округлением в меньшую сторону, если их до полного получаса не хватало. Имея все эти цифры и зная, что с ними делать дальше, агент сравнительно легко определял для себя день, час и минуту начала очередного сеанса. Но только на этих расчетах конспирация не заканчивалась. Сеансы приема проводились всегда с одного места. А передачи — постоянно с разных, дабы наверняка, будучи запеленгованным в первый раз, не напороться на этом же месте на верную засаду в следующий раз. Конечно, перевозить и переносить передатчик с места на место было крайне рискованно и трудно. Но делать это тем не менее приходилось. Спасало агента то, что работать на передачу ему случалось весьма редко. «Двадцать второй» был нужен Грейфе в глубоком советском тылу в первую очередь как надежный приемщик информации, всяческих заданий и приказов. И как таковой, в подавляющем большинстве случаев использовался еще с довоенных лет. Полученные же из-за линии фронта задания, когда они предназначались не для него, «двадцать второй» передавал уже каждому адресату своим путем надежным, проверенным способом. Это задание было адресовано только ему. Это «двадцать второй» понял сразу, как только расшифровал телеграмму. Понял и поморщился и сердито подумал про далекого шефа: «Дались они ему, эти фотографии. Ведь я сообщал уже, что туда лучше бы не соваться. Так нет! Полезай!» Конечно, ослушаться строгого приказа шефа «двадцать второму» и в голову не приходило. Но вот как лучше этот его приказ выполнить? Как пробраться во флигель так, чтобы никому не попасться на глаза? Это был вопрос. И над ним стоило задуматься.
Во второй половине ноября погода в Москве и Подмосковье резко изменилась к худшему. Начались затяжные дожди, каждый раз почти со снегом. Ночами подмораживало. Но за день все распускало снова. Небо, казалось, совсем легло на землю. Мохнатые, тяжелые тучи висели над самыми крышами. И было очень неуютно и тоскливо. «Двадцать второй», разбрызгивая лужи сапогами, быстро шел по дорожке к станции. Он торопился. Радиограмма была принята в одиннадцать часов ноль пять минут по московскому времени. А ближайшая электричка отходила на Москву в одиннадцать сорок. Времени у «двадцать второго» было в обрез. И он спешил, зябко поеживаясь, когда ветер вдруг обдавал его холодным душем дождевых капель. На электричку он не опоздал. В вагоне, найдя место, приткнулся и, по привычке осмотревшись по сторонам, взглянув мельком на попутчиков, снова углубился в размышления. Дом и квартиру, в которой до поры до времени хранились в тайнике нужные Грейфе фотографии, он знал отлично. И однажды уже пытался их оттуда извлечь. Но тогда все неожиданно испортила эта глупейшая история с воровством. Милиция, амбарный замок на входной двери, печати — все это оставило у него весьма неприятные воспоминания. Излишне настораживало и даже вызывало нервозность. Тем более что «двадцать второй» был суеверен и верил в недобрые приметы, среди которых была и такая, по которой всякое дело получалось или сразу, или никогда. Да, эти чертовы жулики испортили ему тогда немало нервов. И хотя у него на всякий непредвиденный случай было довольно надежное алиби, влипнуть в историю, совершенно не нужную для него, он мог очень просто. Ни замок, ни печать он, конечно, трогать теперь не собирался. Они даже, напротив, должны были послужить ему сейчас надежным прикрытием. Но вот то, что ему предстояло, было далеко не лучшим вариантом. Однако другого способа просто не представлялось…
В Москву «двадцать второй» прибыл в час дня. Доехал на метро до Смоленской и уже через несколько минут осмотрел флигель через арку. Никаких внешних изменений в нем не нашел. Увесистый замок все так же надежно запирал его входную дверь. «Двадцать второй» прошел через двор совсем рядом с флигелем. Но и на сей раз ничего подозрительного не заметил. К двери он, естественно, не приближался, печати не разглядывал. Удержали его от этого инстинкт самосохранения и годами выработанный опыт не делать ничего лишнего и такого, что могло бы со стороны привлечь внимание. А внимание на «двадцать второго» уже было обращено с того самого момента, как только он вошел во двор. Но «двадцать второй» об этом ничего не знал и думал лишь о том, как бы не встретить сейчас, как в прошлый раз, кого-нибудь из жильцов, которые могли бы его узнать. Мог ведь уже и дворник вернуться с фронта. Могла опять попасться ему на пути и та жиличка, с которой он беседовал после ухода милиции. А уж она-то, без сомнения, узнала бы в «двадцать втором», хотя сейчас он был одет во все гражданское, старшего лейтенанта с узенькими интендантскими погонами на плечах. Только теперь он уже был не Помазков, а Свиридочкин, с довоенных лет проживающий в Софрине и работающий на одном из местных предприятий. Свиридочкин проходным двором вышел в переулок и взглянул на часы. Было два с четвертью. Свиридочкин решил, что болтаться без дела по городу не следует, повернул к Арбатской площади, потолкался в очереди в кинотеатр «Художественный», купил билет и посмотрел картину «Два бойца», только что вышедшую на экраны. Но времени до вечера, а точнее, до темноты, все равно оставалось еще много. Городские часы возле Арбатского рынка, разбитого немецкой бомбой еще в сорок первом году, показывали ровно пять. Свиридочкин решил посмотреть еще какой-нибудь фильм и отправился по улице Воровского в «Первый» кинотеатр. Тут демонстрировался фильм «Секретарь райкома» с Астанговым и Жаровым в главных ролях. Свиридочкин посмотрел и его. И снова очутился на улице. Теперь уже было семь. Шел мелкий дождь. Свиридочкин уже давно проголодался. Но есть на ходу не стал, хотя прихваченный с собой бутерброд с салом ощупывал в кармане уже несколько раз. Но семь часов для его дела было тоже еще не время. И Свиридочкин отправился в кино третий раз. Но теперь уже в «Арс» и смотрел старый, довоенный фильм «Танкер “Дербент”». Во время сеанса он потихонечку сжевал свой бутерброд, а когда снова очутился на улице, было уже около девяти, совсем темно, холодно и сыро. Это устраивало Свиридочкина. Но он не поспешил к флигелю прямо с Арбата, а обошел переулками весь квартал и подошел к нему проходным двором сзади. Флигель, в котором проживала Баранова, выходил сюда своей задней стеной, к ней-то и лепился дровяной сарайчик, прятавший в своем нутре дверь от черного хода квартиры Марии Кирилловны. Об этом ходе и понятия не имели ни в милиции, ни тем более в отделе Круклиса. Но Свиридочкин о нем знал…
Двор флигеля, там, где стоял дровяник, был тесный, как колодец. Окна окружавших его зданий были затемнены, в нем росло несколько высоких тополей, здесь даже днем не хватало света. А сейчас уже по-осеннему сгустившаяся темнота и вовсе не позволяла ничего видеть на расстоянии трех-четырех метров. Но Свиридочкину это было только на руку. Он присел на скамейку под тополями и закурил. Запоздавшие жильцы торопились домой и на курившего мужчину не обращали внимания. А скоро во дворе и совсем стало тихо. Тогда Свиридочкин неторопливо встал со скамейки и так же неторопливо подошел к сарайчику. Нашел дверь, ощупал ее. Дверь оказалась прикрытой лишь на задвижку. Свиридочкин легко отодвинул ее и вошел внутрь сарайчика. Здесь было совершенно темно. И Свиридочкину снова пришлось действовать только на ощупь. Конечно, это было очень неудобно. Но другого выхода у него просто не было…
Стараясь не делать никакого шума, Свиридочкин, передвигая ноги буквально по сантиметрам, пробрался к стене флигеля. Но до двери черного хода добрался не сразу. Ее наполовину закрывали какие-то ящики. Свиридочкину пришлось повозиться с ними не менее часа, прежде чем он передвинул их от двери. Зато сзади него теперь образовалась довольно глухая защита и можно было включить синий свет фонарика, чтобы хоть мельком оглядеться. Дверь оказалась забитой гвоздями. Но Свиридочкина это не смутило. Уже в следующий момент узкий, как бильярдный кий, синий луч фонарика заскользил по углам дровяника и остановился на топоре, воткнутом в чурбан. А еще через несколько минут входная дверь во флигель со скрипом подалась, и Свиридочкин очутился на ступеньках лестницы черного хода. В нос ему ударило застоявшимся запахом пыли, мышей, кошек и еще чего-то затхлого. Но Свиридочкину было сейчас не до этих запахов. Он их вовсе почти не заметил и поспешил, хватаясь за перила, по лестнице наверх.
Несложно оказалось попасть и на кухню. Топор споро делал свое дело. Вот и жилая комната. Свиридочкин смело шагнул в темноту и чуть не растянулся на полу, налетев на перевернутый стул. Окна в квартире были зашторены. Чертыхаясь, Свиридочкин включил фонарик. То, что он увидел, ошеломило его. В квартире все было перевернуто, разбросано: мебель, вещи, чемоданы, книги. Половицы все вывернуты, стены исковыряны чем-то острым. Свиридочкина охватило недоброе предчувствие. Подсвечивая фонариком, чтобы не налететь на что-нибудь еще раз, он пробрался на место, где им самим при въезде Барановой во флигель был оборудован тайник. Пол здесь также был разобран. Свиридочкин опустился на колени. Перерыл руками труху, лежавшую под половицами. Осветил каждый уголок между лагами. Но небольшой стальной ящичек, в котором хранились фотографии, исчез бесследно.
Свиридочкин почувствовал, как на спине у него выступил холодный, липкий пот. Объяснить тем, кто послал его сюда за содержимым этого ящичка, что его украли, практически было невозможно. Ему бы просто не поверили.
А это уже грозило многими неприятностями. И как подтверждение тому, словно символ надвигающейся беды, луч фонарика выхватил вдруг откуда-то из темноты совершенно черную, как нечистая сила, кошку, которая, отвратительно гнусаво мяукнув, одним прыжком скрылась в приоткрытой двери кухни. Свиридочкин от неожиданности ахнул и набожно перекрестился…
Он так расстроился, что, уходя, не только не замаскировал проход из кухни на черный ход, но даже не закрыл дверь на лестницу…
Глава 14
Грейфе неожиданно задумался, прежде чем дать ответ, когда адъютант спросил его:
— Оберштурмбаннфюрер, где вы будете знакомиться с этими русскими?
Он так и сказал с «этими». И эта фраза вдруг заставила Грейфе взглянуть на все иначе. Хотя накануне никакого вопроса с организацией всей этой процедуры совершенно не было. Казалось само собой разумеющимся, что всех троих приведут к нему в кабинет. Сюда же должен будет прийти и Скорцени, мнением которого начальник восточного отдела очень дорожил. И тут вдруг с «этими» — в недалеком прошлом — самыми отпетыми уголовниками. «Действительно, за каким дьяволом им сюда всем троим? — задал вопрос самому себе Грейфе. И сам ответил на него: — Ну, ладно еще одному, тому, которого мы отберем! А остальным-то двоим, что тут делать? Здесь ведь все-таки РСХА, а не какой-нибудь лагерный блок или тюремный застенок. Вот пусть там и продолжают свои занятия. А тут им совершенно делать нечего». Но встречаться тем не менее было надо, и Грейфе вопросительно уставился на адъютанта.
— А что вы можете предложить, Эгерт? — вопросом на вопрос ответил в конце концов он.
— У нас в комендатуре прекрасная приемная для разного рода посетителей, оберштурмбаннфюрер. Можно оттуда всех выгнать, закрыть ее. А «этих», — Эгерт употреблял только это слово, — можно провести туда через запасной вход, так что их не заметит ни одна живая душа.
— Прекрасно, Эгерт, — обрадовался Грейфе. — Там, надеюсь, есть стол? Стулья?
— Там все есть и все в лучшем виде, герр оберштурмбаннфюрер.
— Туда и препроводите их. А мы со штурмбаннфюрером подойдем позднее, — окончательно решил вопрос Грейфе.
У него еще оставалось немного времени до встречи, и он снова принялся перелистывать характеристики отобранных ими кандидатов. За этим занятием и застал его Скорцени. Штурмбаннфюрер ввалился в кабинет, и тот сразу перестал казаться таким просторным. Чин у Скорцени был невелик. И Скорцени всегда старался держаться подтянутым и корректным. Но после того как он, выполняя личный приказ Гитлера, выкрал в сентябре у итальянцев Муссолини и на самолете привез его в Германию, после того как все газеты и имперское радио провозгласили его героем номер один, он позволил себе несколько расслабиться, чувствовать себя в любом обществе посвободней. И от этого при его крупной фигуре стал казаться еще более могучим.
Поприветствовав Грейфе и по-приятельски поздоровавшись с ним, штурмбаннфюрер с удивлением спросил:
— Мы одни? Или все отменяется?
— Все в порядке, дорогой Отто, и нас уже ждут, — поспешил успокоить его Грейфе и рассказал о том, какая мысль неожиданно пришла ему в голову и почему он изменил место встречи с кандидатами.
Скорцени этих тонкостей не понял, но разбираться в них не стал и согласно кивнул:
— Конечно, можно и так. Но я-то думал, мы с ними где-нибудь в тире знакомиться будем. Или в спортзале. Я даже форму не хотел надевать.
— Это самое общее знакомство. Надо же хоть взглянуть на них? — объяснил Грейфе. — А потом обязательно и в тире, и на ковре, и на ринге… и в бассейне!
— А машина? А мотоцикл? А парашют? Должны они уметь ими пользоваться?
— Непременно, дорогой Отто! И еще тысяча дел, которым мы должны будем их обучить, — добавил Грейфе.
— Реакции и смелости не обучишь. А без них идти на риск равносильно тому, что заранее всё провалить, — высказал свою сокровенную мысль Скорцени.
Грейфе в ответ только развел руками. Насколько всем этим требованиям мог ответить хоть один из ожидающих их внизу «этих русских», он не имел ни малейшего представления.
В кабинет вошел Эгерт, доложил о том, что все готово, уловил благосклонный кивок начальника, забрал со стола характеристики и пригласил Грейфе и Скорцени следовать за ним.
Они спустились на первый этаж и какими-то, совершенно незнакомыми Грейфе коридорами и переходами, минуя несколько постов охраны, прошли в приемную, оказавшуюся просторной, чистой, обставленной строгой официальной мебелью комнатой. В одном углу ее стоял бюст Гитлера. В простенке между окнами висел его портрет. В приемной стояло также несколько столов, а возле каждого из них стулья. За одним из столов сидели трое средних лет мужчин: двое одеты в штатское, один — в форму рядового вермахта. Форма была чисто выстирана и отутюжена, но уже порядком поношена. На это сразу обратил внимание наметанный глаз Грейфе.
Увидев высокое начальство, все трое кандидатов немедленно вскочили со своих мест. Прозвучало нацистское приветствие, и три пары глаз впились в эсэсовцев. Грейфе и Скорцени ответили вполголоса и некоторое время молча разглядывали прибывших. «“Эти русские”, — невольно вспомнил выражение своего адъютанта Грейфе, — на фотокарточках, однако, выглядели куда более привлекательно. Особенно этот в форме. Филь-ча-коф, кажется. Эти странные русские фамилии».
— Садитесь, господа. Садитесь вот сюда, поближе. Нам хотелось бы познакомиться с вами, — предложил Грейфе кандидатам и указал, за какой стол им следует сесть.
Трое незамедлительно сели. Особенно проворным оказался кандидат в военной форме. Он занял место за столом быстрее всех и снова уставился на Грейфе. И это также не понравилось начальнику восточного отдела. «Нельзя чувствовать себя таким забитым», — мысленно уже начал оценивать кандидатов Грейфе.
— Эгерт, объясните господам русским, пусть они говорят на своем родном языке. А вы будете нам переводить. Иначе мы и наполовину не поймем друг друга, — попросил Грейфе.
Эгерт, блестяще знавший русский, польский и сербский языки, сейчас же перевел.
— Я буду задавать вам самые общие и простые вопросы, а вы отвечайте. Спокойно отвечайте, господа. Вот вы, господин Филь-ша-коф, — заглянув в характеристику, обратился к кандидату в форме Грейфе. — Скажите, в каких больших городах России вы бывали?
Фильчаков вскочил, как только оберштурмбаннфюрер ткнул в его сторону пальцем.
«Да, он явно забит», — подумал Грейфе, пока Эгерт переводил кандидату его вопрос.
— В Куйбышеве, в Казани, в Горьком, господин оберштурмбаннфюрер. А еще в Чебоксарах и Арзамасе, — отчеканил Фильчаков.
— Насколько я понимаю, это все волжские города, — кивнул Грейфе.
— Так точно, господин оберштурмбаннфюрер.
— Ну а в Сталинграде вам приходилось бывать?
— Не бывал и быть не хочу! Будь он проклят, этот город, господин оберштурмбаннфюрер! Столько солдат фюрера за него полегло! — ответил Фильчаков, но, сообразив, что, пожалуй, ответил не то, что надо, добавил: — А если бы довелось туда попасть, я бы всех этих его защитников собственными руками в Волге перетопил. Камень на шею — и в Волгу. Там им самое место, господин оберштурмбаннфюрер.
— О, конечно, вы правы, господин Филщакоф, — согласился Грейфе. — А в Харькове, Киеве вы не бывали?
— Я до Харькова не дошел, господин оберштурмбаннфюрер. Я под Харьковом доблестной немецкой армии сдался. И потом попал в лагерь в Хороле. А потом, — начал было перечислять Фильчаков, но Грейфе ткнул пальцем в характеристику.
— Да-да… я знаю. Тут написано, — сказал он. — А в каких отелях вы останавливались, господин Филь-ща-коф, в тех городах, куда вы приезжали?
Фильчаков смущенно заморгал. Судя по всему, врать он побоялся, а правду предпочел бы умолчать. Но отвечать было надо, и он сказал:
— Какие отели, господин оберштурмбаннфюрер? Так, больше у родственников, бывало, переночуешь. А то и вовсе на вокзале…
— Понятно, — многозначительно процедил Грейфе.
Дальше были вопросы другого характера. И было их много. Грейфе видел и чувствовал, что «Фильщакоф» старается. Очень старается. Он даже вспотел. И очень хочет понравиться и заслужить его, оберштурмбаннфюрерское, расположение к себе. Но на Грейфе все это действовало как раз наоборот. Антипатия к «этому русскому» у него появилась, что называется, с первого взгляда. Но не это было главным для отбора. Фильчакову явно недоставало контактности, кругозор его оказался весьма примитивным и ограниченным. Хотя, как указывалось в характеристике, он окончил среднюю школу и даже обучался в лесном техникуме. Ярко в нем просвечивало только одно — лютая ненависть ко всему советскому. Но для успешного решения той задачи, для которой подбирал исполнителей Грейфе, этого было мало.
— Хорошо, господин Фильщакоф. Мне все ясно. Я убедился, что вы искренний друг рейха. Мы подумаем, как вас лучше использовать для наведения нового порядка. А пока можете возвращаться в свое подразделение, — закончил Грейфе беседу.
Фильчаков снова, как и при встрече, вскинул руку, громко выкрикнул приветствие, щелкнул каблуками и, повернувшись по-военному, отмаршировал к входной двери. Эгерт провел его через посты охраны и выпроводил на улицу. А когда вернулся в приемную, то увидел, что его начальник оживленно беседует со вторым русским. Второй русский свободно говорил по-немецки, да еще на баварском диалекте. О, этот второй русский был совсем не похож на первого. Он происходил из очень хорошей, интеллигентной семьи из Риги. Эгерт сразу почувствовал, что его начальнику было интересно разговаривать с этим отпрыском старого дворянского рода, обучавшимся до воссоединения Латвии с СССР в Мюнхенском университете.
— Родители живы? — спросил Грейфе.
— Никак нет, господин оберштурмбаннфюрер. Мать умерла еще в тридцать шестом году. Отец репрессирован большевиками сразу после захвата Прибалтики. Сведений о нем не имею. Привык считать, что его уже тоже нет в живых, — спокойно, как и вообще он вел весь этот разговор, ответил кандидат.
— Ваш отец был царский офицер? — пожелал уточнить Грейфе. — Где служил?
— Он был полковник, герр оберштумбаннфюрер. С шестнадцатого года служил в штабе генерала Корнилова. После неудавшейся попытки установить в Петрограде власть военной диктатуры вынужден был уехать в Ригу.
— Это было?.. — запамятовал Грейфе.
— Тридцать первого августа семнадцатого года, герр оберштурмбаннфюрер.
— А потом?
— В 1919 отец служил у генерала Бермондт-Авалова. Вместе с генералом фон дер Гольцом они вырвали Ригу у красных. А когда под давлением англо-франкского союза германским войскам пришлось уйти из Риги и продажное латышское правительство заключило в двадцатом году мирный договор с Советами, отец делал все, чтобы красная зараза не проникала в Прибалтику, герр оберштурмбаннфюрер.
— Фон дер Гольц много сделал для Германии, — удовлетворенно заметил Грейфе.
— Мой отец тоже — для Белого движения, герр оберштурмбаннфюрер. За что и был репрессирован большевиками.
Эгерт заглянул в характеристику. Фамилия у кандидата была немецкая — Дреер. Звали его Паулем, хотя рядом с этим именем, правда, в скобках, стояло и другое — Павел. Отчество — Людвигович.
Дрееру задавал вопросы не только Грейфе, но и Скорцени. Штурмбаннфюрер в их разговор включился не сразу. Он вначале внимательно, и было похоже, что даже с любопытством, долго разглядывал Дреера. При этом на губах у маститого террориста блуждала все время какая-то непонятная то ли лукавая, то ли снисходительная ухмылка. Эгерт так и не понял, чем она была вызвана. Но он запомнил, что она была.
В конце беседы Грейфе сказал:
— Мне было интересно с вами познакомиться, господин Дреер. Для вас забронирован номер в гостинице «Унтер-ден-Линден». Номер оплачен. Трехразовое питание в ресторане гостиницы тоже. Поезжайте туда. Отдыхайте. Напротив есть кинотеатр. Развлекайтесь. Но пусть дежурный всегда знает, где вы. Сейчас Эгерт даст вам адрес гостиницы, свой телефон и немного денег на карманные расходы. Через несколько дней он сообщит вам, когда вы нам понадобитесь снова.
Дреер поблагодарил Грейфе за заботу и пообещал из номера, кроме как на завтрак, обед и ужин, никуда не выходить.
— Я буду отсыпаться, герр оберштурмбаннфюрер. Буду считать, что мне дали первый отпуск за все время с тех пор, как большевики пришли в Латвию.
Грейфе это понравилось, и он даже хлопнул Дреера по плечу. После этого Эгерт повел его по коридорам к выходу, предварительно снабдив всем, что пообещал ему Грейфе.
Третий кандидат немецкого языка не знал. И беседа задержалась до возвращения Эгерта. Поскольку в предыдущей беседе Эгерт участия не принимал, так как собеседники отлично обходились и без него, он от нечего делать досконально разглядел этого третьего. И надо сказать, что тот сразу чем-то привлек его внимание. Потом, чуть позднее, когда кандидат разговорился, Эгерт даже уточнил для себя, чем он отличался от своих предшественников. В нем проглядывала этакая прямо-таки змеиная изворотливость. Он, бесспорно, как Фильчаков и как все другие, подобные ему, смертельно боялся своих новых хозяев. Животным страхом боялся попасть к ним в немилость, стать неугодным. Такое могло случиться из-за пустяка. А последствия этого могли быть самые роковые. Любой чин, даже средний, запросто мог прихлопнуть такого Фильчакова как муху. А Политов, Эгерт сразу почувствовал это, за здорово живешь себя бы не отдал. Непременно стал бы выкручиваться, врать, клеветать и не задумываясь предал бы и второй раз, и третий. Такого заставить делать то, что требуется, можно только одним способом: поставить его в такие железные условия, в такие жесткие рамки обстоятельств, вырваться из которых он был бы бессилен.
Очевидно, таким же показался Политов и Грейфе, потому что он сразу же начал загонять его своими вопросами в угол. Грейфе держал в руке характеристику, читал ее про себя и задавал Политову вопросы.
— Вы добровольно перешли на нашу сторону тридцатого мая сорок второго года на фронте. Ваша последняя должность в Красной армии? — спросил Грейфе.
— Командир стрелковой роты, герр оберштурмбаннфюрер, — ответил Политов.
— Вы перешли с оружием в руках. Что у вас было?
— Автомат ППШ с двумя магазинами патронов, пистолет ТТ с двумя снаряженными обоймами и две гранаты оборонительного характера.
— Почему оборонительного? — не понял Грейфе. — Ваши же войска в то время наступали.
— На случай, если бы за мной началась погоня, герр оберштурмбаннфюрер.
Грейфе удовлетворенно кивнул. И продолжал:
— Вы попали в лагерь военнопленных. Куда?
— Сначала на пересыльный пункт под Ржевом, герр оберштурмбаннфюрер. Затем в Демьянский лагерь. Потом в Витебский… — начал перечислять Политов.
Грейфе жестом остановил его.
— Что сделали вы полезного в Демьянском лагере? — спросил он.
— Мне удалось внедриться в группу, готовящуюся к побегу. Я познакомился со всеми ее членами. Узнал их фамилии и имена. И обо всех своевременно сообщил коменданту лагеря. Их всех схватили еще перед побегом, герр оберштурмбаннфюрер, — не без бахвальства ответил Политов.
— Сколько человек входило в группу?
— Если память не изменяет, герр оберштурмбаннфюрер, восемнадцать человек, — подумав, назвал число Политов.
— Хорошо, — одобрил Грейфе. — Расскажите о вашей помощи рейху в Витебском лагере.
— Там я пробыл несколько месяцев, герр оберштурмбаннфюрер. Передо мной была поставлена конкретная задача: выявить подпольный лагерный комитет. Это было очень сложно, герр оберштурмбаннфюрер. Подпольщики имели хорошо продуманную секретную службу оповещения и связи. Но мне посчастливилось встретить в лагере одного моего бывшего сослуживца, политработника. Его никто не мог разоблачить. Иначе он никогда бы до лагеря не дошел. Но здесь я сразу понял, что он-то наверняка в курсе дела, которое меня интересует. Так оно и оказалось. Он меня порекомендовал. Но они все равно проверяли меня почти два месяца. Потом все же поверили. Еще примерно месяц ушел на то, чтобы узнать все их связи до конца. А когда все было установлено, их всех взяли в один час, герр оберштурмбаннфюрер, — дал полный отчет Политов.
— Куда вас перевели потом?
— Сначала в Демблин, потом в Ламсдорф в лагерь номер триста сорок четыре. Там завербовали ваши люди из СД и отправили на два месяца на учебу в «Русланд-Норд». Оттуда я был направлен камерным агентом в городскую тюрьму в Вене, — закончил свой послужной список Политов.
— Почему именно вас направили в «Русланд-Норд»?
— В Ламсдорфе мне удалось выявить связи заключенных на воле.
— Какие же конкретно?
— Удалось напасть на след распространителей вражеской пропаганды. Те слушали радиопередачи из Лондона, записывали их, перепечатывали на машинке и раздавали населению и кое-что даже ухитрялись переправлять в лагерь, герр оберштурмбаннфюрер, — ответил Политов. — А в лагере от этого начинались всякие волнения.
— Наши службы характеризуют вас как убежденного противника большевизма. Чем бы вы хотели заняться у себя на родине, если бы вам предложили там работу? — продолжал расспрашивать Грейфе.
Политов взметнул брови. Ему показалось, что Грейфе открыл перед ним завесу молчания и высказал цель знакомства. Но если это так, то Политову совсем не чему было радоваться. Возвращаться в разграбленную Россию ему абсолютно не хотелось. К тому же там в два счета можно было схлопотать пулю. А это и вовсе не входило в планы Политова.
— Я бы все силы приложил к тому, герр оберштурмбаннфюрер, чтобы навести и утвердить на моей родине новый порядок.
— Очень хорошо, — снова одобрительно кивнул Грейфе. И, сделав небольшую паузу, продолжал уже в ином тоне: — Господин Политов, на одном из первых допросов еще в Демьянском лагере вы показали, что ваш отец был полковником старой русской армии. Вы сами понимаете, что проверить эти данные у нас нет никакой возможности. Поэтому скажем: пусть это так и есть. Хотя, откровенно говоря, я глубоко уверен в том, что у вашего царя просто не было столько полковников, сколько ваших людей, изъявивших желание служить нам, выдают себя за их детей. Но, я уже сказал, пусть это так и будет.
Говоря все это, Грейфе не спускал с Политова глаз. Хотел увидеть, как воспримет тот его откровенное неверие в выдуманную им легенду. Но Политов выслушал перевод этого откровения эсэсовца не моргнув глазом. Ни одна жилка не дрогнула у него на лице, ни кровинки не выступило на широких щеках. Это Грейфе заметил. «Наглости, однако, ему не занимать», — невольно подумал он. Но вслух продолжал говорить о другом:
— Так вот, господин Политов, если ваша ненависть к большевикам имеет такие глубокие корни, вы могли бы ради достижения нашей победы пойти на большой риск? На такой, скажем, на какой иногда идут ваши соотечественники на фронте?
— А разве мой переход через линию фронта не был связан с риском, герр оберштурмбаннфюрер? — неожиданно вопросом на вопрос ответил Политов. — Разве я не рисковал? Ведь мне в спину мог ударить любой автоматчик. Любой снайпер и с той, и с другой стороны мог взять меня на мушку…
Неожиданность ответа понравилась Грейфе.
— Это так, — согласился он.
— Но я готов пойти и сочту за честь, если мне предоставят такую возможность, и на больший риск. Даже если он будет смертельным, я готов доказать свою преданность фюреру, — добавил Политов. — Дайте возможность мне доказать это, герр оберштурмбаннфюрер, и я докажу.
— Хорошо, — коротко подвел итог беседы Грейфе. — Мы учтем эту вашу просьбу, господин Политов.
Сказав это, Грейфе обернулся к Скорцени. За все время разговора тот не обронил ни слова.
— Я знаю, Отто, что у вас еще все впереди, но, может быть, сейчас вы тоже что-то желаете спросить? — поинтересовался он, прежде чем окончательно закончить беседу.
— Пожалуй, — не стал отказываться Скорцени и обратился к кандидату: — Скажите, Политов, вы слышали о той операции, которую мне удалось провести в Италии?
— Конечно, герр штурмбаннфюрер. О ней знают все. И восхищаются вами, — польстил кавалеру «Рыцарского креста» и множества других наград Политов.
— А скажите, Политов, как вы думаете, мог бы я осуществить такую акцию в СССР? — приняв как должное похвалу в свой адрес, спросил Скорцени.
Политов не стал спешить с ответом. Он был уверен, что эсэсовец ждет от него очередного комплимента. Но наметившаяся определенная направленность вопросов, которые ему задавал Грейфе, да плюс совершенно неприкрытый вопрос Скорцени, подтвердила его догадку о возвращении в Россию. И не только подтвердила, но и напугала. И ему уже не захотелось льстить этому наглому террористу, который, вполне возможно, на сей раз, спасая шкуру, подставлял под удар его, Политова. И он ответил не грубо, но неожиданно для эсэсовца твердо:
— Советский Союз, герр штурмбаннфюрер, — это не Италия. И сделать там то, что вы сделали в Италии, куда труднее.
Скорцени молча кивнул. А Грейфе, явно довольный ответом, поспешил закруглиться.
— Ну что ж, господа, у нас еще будет время обсудить все эти вопросы. А пока, я думаю, мы отпустим господина Политова. Эгерт даст вам, господин Политов, деньги и адрес гостиницы. Отдыхайте.
Политов понял, что его не отсеяли, как этого пришибленного Фильчакова. Но особой радости от своей удачи он уже не испытывал. Больше того, он даже пожалел о том, что уж слишком бойко разглагольствовал о своих подвигах в лагерях. «Кто знает, ведь вполне возможно, что именно эти его заслуги перевесили чашу весов в его пользу. Только в пользу ли?..» — подумал он и, отдав немцам нацистское приветствие, в сопровождении Эгерта вышел из приемной.
Глава 15
Как при аресте банды на квартире у Скоморошкиной не поверил Грачу в том, что налетчики не нашли у Барановой никаких драгоценностей, старший наряда сержант, так не поверил ему и следователь. И решил, не откладывая дело в долгий ящик, сам побывать на месте преступления и хорошенько все осмотреть. Доложил о своем намерении начальнику отделения.
— Правильно, — одобрил начальник. — Я бы на твоем месте сразу с этого начал.
— У меня своя метода, — буркнул следователь.
— Я, пожалуй, тоже схожу посмотрю, что они там натворили, бандюги, — ответил капитан.
Во двор к флигелю пришли втроем: капитан, следователь и участковый.
— Собирай понятых, — приказал участковому капитан.
Участковый ушел в домоуправление и скоро вернулся в сопровождении трех женщин. Одну из них — домоуправа, женщину средних лет в ватной куртке и резиновых сапогах, капитан знал уже давно и поздоровался с ней, как со старой знакомой.
— Здравствуй, Анна Петровна.
И она ему ответила так же:
— Здравствуй, Алексей Николаевич. Или опять что случилось?
— Да нет. Следователь наш решил осмотреть место преступления. Ну а без понятых, в таких случаях, в чужой дом не входят.
Открыли замок. Вошли в квартиру Барановой. Здесь действительно все было перевернуто вверх дном. Пружинный матрац на кровати хозяйки был вспорот. Ящики из комода вытащены. Их содержимое выброшено прямо на пол. Половицы вывернуты. Стены комнат изуродованы ломом.
— Ну и свиньи, — оглядев разгромленную грабителями, некогда уютную квартирку Барановой, невольно возмутился начальник отделения. — И ведь не боялись — рушили, шумели, будто на отдаленном хуторе каком. Посмотри-ка на кухне, нет ли там табуретки. Хоть присесть…
Сержант прошел на кухню и сразу же вернулся оттуда всполошенным, будто вместо табуретки увидел там что-то неописуемое.
— А ведь тут еще кто-то побывал, товарищ капитан! — взволнованно воскликнул он.
— Что значит «еще»? Когда? — не меньше удивился начальник отделения.
— Выходит, после того, как мы все опечатали, — доложил сержант.
— Откуда ты знаешь? — шагнул ему навстречу капитан.
Сержант повернул обратно. Они вошли на кухню и остановились возле потайной двери, прикрытой отошедшим фанерным листом.
— Не было этого. Никакой двери тут не было, товарищ капитан. Я сам сюда заходил. Сам все осмотрел! Я сразу бы заметил! — боясь, что ему не поверят, взволнованно доказывал сержант. — В комнате все, как было, так и осталось. Я запомнил. Все на тех же местах. А дверь выломали уже потом…
Начальник отделения и следователь переглянулись.
— А ну-ка, попробуй ее открыть, — приказал капитан.
Сержант толкнул дверь носком сапога, и она легко открылась. Капитан оглядел площадку перед дверью, но дальше порога не пошел и никого на черный ход не пустил.
— Следить не будем, — сказал он и, обращаясь к домоуправу, спросил: — Ты про этот ход знала?
— Знать-то знала, — подумав, ответила домоуправ, — да только забыла про него. И не помню, чтобы и кто-то другой им пользовался.
— Точно? — переспросил капитан.
— С двадцатого года тут живу, Алексей Николаевич, и ни разу не видела. А узнала о нем, когда дом этот приняла. Тогда сама проверяла, что дверь забита, — сообщила домоуправ. — А жулики, значит, открыли.
— Жулики или кто другой — разберемся. У самих толку не хватит, люди помогут, — ответил начальник и спросил следователя: — Что мыслишь?
— Думаю, непременно надо снять отпечатки пальцев. И лучше не самим. Стоит, пожалуй, вызвать экспертов из МУРа. Они мастера… — ответил следователь.
— А чья, думаешь, эта работа? — кивнув на взломанную дверь черного хода, снова спросил капитан.
Следователь неопределенно пожал плечами.
— Гадать не хочу, товарищ капитан. А мысли кой-какие по дороге выскажу, — ответил он.
— Значит, все оставляем так, как есть, и только закроем входную дверь сарая, — решил начальник отделения и кивнул сержанту: — Заколоти и опечатай.
— Слушаюсь, товарищ капитан, — ответил тот.
Все вышли на улицу.
— Так что ты надумал? — нетерпеливо спросил следователя начальник отделения.
— Не знаю, темнят или нет бандюги, я до конца этого еще не выяснил, но почти уверен, что через черный ход лазил кто-то свой и точно знал, где надо искать, — ответил следователь.
— Почему так думаешь? — допытывался капитан.
— Ну, во-первых, кроме своих, про черный ход мало кто знал, — резонно рассудил следователь. — Во-вторых, вы же слышали, что докладывал Притулин: вещи все как лежали, так там и остались лежать. А это значит, что искали не где-либо, а точно по месту. Заглянули, а там пусто. И ушли, ничего не шевельнув. А это еще раз подтверждает, что приходила свои.
— Я тоже так это себе представляю, — в раздумье ответил капитан. — Но меня почему-то все время мучает вопрос: что искали?
— А я теперь хотел бы узнать, если все же моя версия правильная, связаны как-нибудь между собой эти два визита в квартиру Барановой? — признался следователь.
— Н-да, — неопределенно произнес начальник и уже до самого отделения не сказал больше ни слова.
Но вопрос, о котором они говорили, не давал ему покоя весь день. Было много и другого неясного во всей этой истории. Но в конце концов на первый план выплыло главное: а может, этот последний визитер искал те самые фотографии, которые были отправлены вместе с рапортом в НКГБ? А жулики опередили его совершенно случайно? Ведь могло же так быть? Могло. Но как бы там ни было, не сообщить в НКГБ и о втором тайном посещении неизвестным или неизвестными квартиры Барановой было нельзя. И начальник отделения написал и отправил по тому же адресу, куда пошел его рапорт о фотографиях, второй рапорт. Отправил, естественно, с нарочным. И в тот же день этот документ попал на стол к Круклису.
Глава 16
Когда Круклис ознакомился с содержанием второго рапорта начальника отделения, ему стало не по себе. Не то чтобы его, старого опытного воробья, как в таких случаях говорят, провели на мякине. Но опередили совершенно определенно. Конечно, никто из его сотрудников не знал и не предполагал, что в квартире имеется скрытый черный ход, который может обеспечить надежный вход и выход из квартиры, по сути дела, в соседний двор, что об этом черном ходе ни малейшего представления не имела даже милиция. Но кому нужны были теперь эти оправдания, если тот, кому это было надо, побывал в квартире и покинул ее совершенно никем не замеченным? И оставалось только гадать, зачем он туда приходил и удалось ли ему осуществить свой замысел? Впрочем, неясно было и то, сколько человек проникло на этот раз в квартиру: один, двое, трое? Полковник никогда не спешил докладывать начальству об удачах, выпадавших на долю возглавляемого им коллектива. Не торопился рапортовать об успешном выполнении заданий. Но о всякого рода проколах, ошибках, просчетах, случавшихся в работе, сообщал немедленно. Случай с неизвестным или неизвестными посетителями квартиры Барановой полковник сразу же занес в свой пассив. Но на сей раз, прежде чем доложить о нем генералу Ефремову, решил предварительно кое-что уточнить. Рапорт начальника отделения милиции полковнику докладывал майор Медведев. И теперь Круклис, ознакомившись с его содержанием, перевел взгляд с бумаги на своего подчиненного и сухо проговорил:
— Плохо мы работаем, Дмитрий Николаевич.
— Так ведь как можно было предполагать, товарищ полковник, что… — хотел было возразить Медведев. Но Круклис даже не дал ему договорить:
— Не только можно, а непременно следовало ожидать, что на квартиру кто-то явится, Дмитрий Николаевич. И вы знали не хуже меня, что именно так оно и будет. И потому установили за квартирой наблюдение. Ответственность за организацию которого, кстати, возложили на вас.
— Так точно, товарищ полковник, — ответил Медведев.
— Но мы сразу же допустили ошибку в том, что не побывали на месте.
— Да, но наш сотрудник все там детально осмотрел, товарищ полковник. И доложил мне. Но ход-то этот был тайным…
— В этом-то и дело, что он его не заметил, — подчеркнул Круклис. — А если бы осмотр провели мы с вами, все могло бы быть иначе. У нас опыта не в пример больше, чем у рядового, даже и очень старательного сотрудника. Одним словом, немедленно свяжитесь с милицией, предупредите, что мы выезжаем на квартиру, пусть они нас там ждут. И пусть захватят с собой оперативно-розыскное дело.
— Понял, товарищ полковник, — ответил Медведев.
— Надо срочно провести экспертизу и точно установить, сколько было этих тайных визитеров, — продолжал Круклис. — Это крайне важно. Если окажется, что их было двое или трое, то можно предполагать, что это такие же искатели клада и такие же уголовники, как те, которых уже взяли. А если приходил один, то мы смело можем поздравить друг друга с тем, что упустили прямо из-под носа того, кого будем ловить теперь неизвестно где и бог знает сколько времени.
Часа через полтора квартиру Барановой вскрыли без ведома хозяйки четвертый раз. Круклис сам осмотрел все досконально. Пояснения ему давал сержант, который вскоре после ограбления брал на квартире парня. Эксперты в это время занимались своим делом. После общего осмотра квартиры Круклиса интересовал в основном один вопрос, который он в разных вариантах уже несколько раз задавал сержанту. А именно: какие тот заметил изменения в обстановке, когда пришел в квартиру во второй раз?
Однако сержант упрямо повторял одно и то же:
— Все как было, товарищ полковник, так и осталось на тех местах, на которых я их видел. А вот фанеру, оторванную со стены на кухне, я сразу заметил.
— А что у вас? — спрашивал Круклис экспертов.
— Пока, товарищ полковник, все данные за то, что приходил один человек. На приступках совершенно четкий след одного человека. И на полу на кухне тот же одиночный след, — докладывали ему.
— Других выводов не будет?
— Можно, конечно, предположить, товарищ полковник, что тот, который наследил, нес на себе еще кого-то. Но подтвердить это какими-либо конкретными доказательствами мы пока не можем.
— Попробуйте все же… — попросил Круклис. — Кроме кухни, вы этот след еще где-нибудь обнаружили?
— Он тащил за собой опилки из сарая. Поэтому можем сказать совершенно точно, что он прошел в комнату, дошел вот до этого угла, тут что-то делал, возможно, что-то искал, здесь натоптано, и тем же путем вышел из комнаты обратно на кухню, по тем же приступкам спустился в сарай, а из него на улицу.
— Почему вы решили, что он что-то искал? — допытывался Круклис.
— Он оставил на пыльных лагах отпечатки пальцев. Зачем бы он стал их ощупывать?
— А может быть, это не его отпечатки?
— Доложим точно. Мы сняли отпечатки с лаг, с топорища, которым открывали дверь черного хода, снимем у арестованных по делу об ограблении квартиры. И картина сразу же прояснится.
Круклис удовлетворенно кивнул.
— Когда будет закончена эта работа?
— Завтра к концу дня вы будете иметь исчерпывающий ответ, товарищ полковник.
— Хорошо. Буду ждать, — снова согласно кивнул Круклис и углубился в изучение оперативно-розыскного дела. У него уже начала складываться своя, определенная версия всей этой истории. И он искал в показаниях грабителей подтверждения ей.
Но его оторвал от этого занятия Медведев. После осмотра помещения упреки полковника показались ему явно несправедливыми. И он, отлично зная демократический характер своего начальника, не побоялся оторвать его от бумаг.
— Ну вот скажите, товарищ полковник, как можно было найти этот черный ход, если он со всех сторон был замаскирован? — спросил майор.
Круклис, мысли которого были заняты сейчас совершенно другим, ответил не сразу и не очень определенно:
— Не знаю, как можно было найти, но в сарай, Дмитрий Николаевич, я бы заглянул обязательно. А уж если бы заглянул, то наверняка заинтересовался бы и еще чем-нибудь.
— Но ведь сарай-то был заперт, — заметил Медведев.
— Но не опечатан! — в свою очередь, уточнил Круклис. — И открыть его, как теперь стало известно, не составляло никакого труда. Не защищайте своего сотрудника, Дмитрий Николаевич. Лучше учите его на его же собственных промахах…
Сказал и снова углубился в свои мысли. А они все настойчивее, после всяких сопоставлений и анализов, подводили его к очень важному выводу о том, что этот последний взломщик, пробиравшийся в квартиру через потайной черный ход, искал не сокровища врача-стоматолога, а стальную шкатулку с фотографиями. В пользу этого вывода говорили и материалы допроса грабителей, и совершенно определенная направленность действий последнего взломщика. Он точно знал: как проникнуть в квартиру, где в ней взять то, что его интересовало, и что в ней взять. Не искать, как это делали побывавшие до него тут грабители, а именно взять.
Окончательный приговор этой версии должны были теперь вынести эксперты. Найдут они на топорище отпечатки пальцев, аналогичные тем, которые сняли с запыленных лаг, — вывод точен. Не найдут — Круклис будет искать другие доказательства. А в том, что они должны быть и есть, он уже не сомневался. И именно для того, чтобы убедиться в своей правоте, приказал доставить для допроса на место совершения преступления грабителя, вытаскивавшего шкатулку из-под пола в квартире Барановой. Того привезли. Им оказался худощавый, лет тридцати пяти от роду, с жиденькими грязными косицами волос, без большого пальца на левой руке тип. У него были юркие, бегающие глазки и дергающийся кадык. Увидев военных, тип сразу же сообразил, что дело принимает самый неожиданный поворот. И поспешил заверить седовласого полковника в том, что он, Гришка Трынкин, по прозвищу «Фитиль», чистейшей воды уголовник и ни малейшего отношения не имеет ни к каким политическим, а тем паче к каким-нибудь шпионам, которых он, кроме как в кино, никогда не видел в глаза.
— Отвечайте только на поставленные вопросы, — строго предупредил Трынкина Круклис. — Вы участвовали в ограблении квартиры гражданки Барановой?
— А как же, гражданин начальник. Что было, то было.
— Почему выбрали именно эту квартиру?
— Нинка Фиксатая навела, гражданин начальник.
— Почему именно на эту квартиру?
— Она еще до войны у этой врачихи зубы лечила. Та ей из своего золота фиксу поставила. Ну, Нинка и запомнила…
— Говорите, до войны, а сегодня уже осень сорок третьего. Чего же так долго собирались?
— Для большого дела, гражданин начальник, законники нужны, а не фрайера. Ну и потом, патрулей малость поубавилось. У дома подъезда нет. Дверь на виду. Действовать можно было только в темноте. А теперь темнеет рано…
— Вы знали, где могло быть спрятано золото?
— Откуда, гражданин начальник? Вслепую работали. Фонариками себе подсвечивали.
— Кто нашел шкатулку?
— Я, гражданин начальник.
— Скоро?
— Уже когда стены проверили. Когда пол почти весь перевернули.
— Покажите, где вы ее нашли, — приказал Круклис.
— Все уже обшманали, гражданин начальник. Везде пусто. Только этот угол еще не трогали. Тут комод стоял. Мы с Грачом его отодвинули, и я выворотил вот эту половицу. Ну и как приподнял ее, так сразу и увидел коробку. Мы и искать больше не стали. Сразу решили, что тут все…
— Покажите очень точно, где эта коробка лежала и как вы ее брали. Вспомните очень хорошенько, за что вы еще при этом хватались руками. Знайте, многое для вас будет зависеть от того, насколько точно вы все покажете, — предупредил Круклис.
— А мне и вспоминать нечего, гражданин начальник. Я покажу все точно, — ответил Трынкин. — Можно половицу назад положить?
— Кладите.
Трынкин вернул половицу на ее законное место.
— Вот тут я стоял. Тут вот поддел ее ломом. Вот еще след остался, — начал объяснять Трынкин. — Так вот отворотил. Она, значит, перевернулась. А вот и место, где эта коробка железная лежала. Я ее сразу увидел, потому как она блеснула. Нагнулся и взял. И ни до чего я больше не дотрагивался, гражданин начальник. А тут сразу и Грач, и все ко мне подскочили…
— Какой рукой вы ее брали? — уточнил Круклис.
— Двумя брал. Встал на колено и брал. Левую подсунул под дно. А правой придерживал. Думал, тяжелая будет. А она легко поднялась…
— Когда вы ее вскрыли?
— Это уж когда на «малину» пришли. Не торопясь. Отомкнули аккуратненько отмычкой. Думали, может, золотишко в завертке какой, потому как ничего в ней не гремело. А там оказались одни фотографии. Ну мы тут от такой лажи и напились…
— Еще раз предупреждаю, все припомните до мелочей. Если за что-нибудь хватались, лучше укажите сейчас, — повторил Круклис. — Гораздо хуже будет для вас, если мы где-нибудь сами обнаружим отпечатки ваших пальцев.
Но Трынкин решительно мотнул головой.
— Хоть как смотрите, гражданин начальник. Ничего не найдете. Незачем мне было по сторонам руками шарить. Я ее сразу увидел и сразу взял, — повторил свои показания Трынкир.
Круклис удовлетворился.
— Хорошо. Можете увести арестованного, — разрешил он. И когда Трынкина увели, сказал Медведеву: — Наблюдение тоже можно снять, товарищ майор. Тот, кто нам нужен, второй раз сюда не придет.
Можно было уже уходить из флигеля. Но Круклис почему-то медлил. И Медведев спросил:
— Что-нибудь еще, товарищ полковник?
— Да самую ерунду. Сувенир на память. Посмотрите-ка, Дмитрий Николаевич, в углу, в этой куче книг, не найдется ли там семейного альбома хозяйки?
Медведев начал старательно перебирать книги, а сержант-милиционер проверил содержание ящиков комода. Но ни тому, ни другому не повезло. Во всем доме не нашлось ни одной фотографии с изображением Барановой. Были фото: с видами Крыма, несколько почтовых открыток с портретами известных артистов. Но фотографий Барановой найти не удалось.
— Чудно, — откровенно признался сержант. — Такие симпатичные обычно фотографироваться даже очень любят.
— А может, она не такая уж и симпатичная? — спросил Круклис.
— Что вы, товарищ полковник. Я ж ее хорошо помню. Ни один мужчина мимо не проходил, чтобы не обернуться. И следила за собой… И одевалась…
— И вы оборачивались? — улыбнулся Круклис.
— Оборачивался, товарищ полковник, — признался сержант. — Только я для нее молод был. Ей ведь где-то уже за сорок перевалило…
— Ну и каких же она любила мужчин? — интересовался Круклис.
Сержант неожиданно задумался.
— А вот мужчин, товарищ полковник, с ней никогда не видел, — сделал он вдруг для себя открытие. — Вот тоже чудно!
— Случается, — не стал развивать дальше эту тему Круклис и, поблагодарив за помощь милиционеров, направился к выходу.
Флигель заперли и опечатали снова. С сараем поступили на этот раз так же. Участкового и домоуправа предупредили, чтобы за замками и печатями следили. И если заметят какие-нибудь нарушения, чтобы немедленно сообщали по телефону. И оставили номер телефона. Но это было уж так, на всякий случай. Круклис почему-то не сомневался в том, что не только посторонние, но и сама Баранова не заглянет во флигель никогда.
С мыслями о враче-стоматологе он и вернулся в свой кабинет. И уже готов был обо всем доложить генералу Ефремову. Но того самого вызвали к кому-то «наверх». Круклис попросил секретаря сообщить ему, как только Ефремов появится, и, пользуясь вынужденной паузой, попытался поточнее сформулировать свой доклад и версию, в которой он уже почти не сомневался. Однако ему даже не дали сосредоточиться. Дверь кабинета приоткрылась, в кабинет просунулся Доронин и спросил:
— Разрешите, товарищ полковник?
И, увидев вопросительный взгляд начальника, почти выкрикнул прямо с порога:
— Есть новости, товарищ полковник!
— Не многовато ли для одного дня? — скривил губы Круклис. — Да проходите же! Что там стряслось?
— Вы, как всегда, оказались правы, товарищ полковник. В Наркомздраве действительно удалось напасть на след Барановой, — начал докладывать Доронин.
— Что же вы там обнаружили?
— Узнал точный номер диплома. Но это не главное. Важнее другое: узнал, что диплом она получила в двадцать шестом году в Ленинграде, окончив Ленинградский стоматологический институт. Даже подсказали, где он в ту пору находился. Где-то на улице Петра Лаврова. В Наркомздраве никаких данных о Барановой больше нет. Но там, где выдавали диплом, наверняка найдутся какие-нибудь дополнительные сведения. А в Ленинград-то теперь можно махнуть в любой день.
— Это действительно так, — сразу потеплел Круклис. — Очень все кстати, Владимир Иванович. Насколько я понимаю, эта самая Баранова, а она наверняка такая же Баранова, как я Петров, для нас становится объектом номер один. Вас тут не было два дня, а у нас получился прокол.
И Круклис подробно рассказал своему заместителю обо всем, что произошло на квартире Барановой и какие выводы он из всего этого сделал.
— Мы, конечно, будем отрабатывать и все прочие версии. Но та, которая складывается сейчас с участием Барановой, мне почему-то думается, будет основной в нашей работе, — убежденно сказал он. — Так что в Ленинград выезжайте, Владимир Иванович, сегодня же. И копайте эту жилу особенно тщательно. Вы меня вспомните: она еще преподнесет нам сюрпризы. Я вот только думаю: может, вам стоит взять помощника?
— Зачем? Здесь ведь тоже люди нужны, — подумав, ответил Доронин.
— Баранова становится важной персоной, — заметил Круклис.
— Справлюсь, товарищ полковник. Один справлюсь.
Но Круклис настоял на своем.
— Не сомневаюсь в том, что справитесь, Владимир Иванович. Но времени потеряете больше. Так что берите в свое полное распоряжение Петренко. И если понадобится, сами ставьте ему задачи по ходу дела, — окончательно решил полковник.
Зазвонил внутренний телефон. Круклис снял трубку.
— Василий Петрович вас ждет, товарищ полковник, — сообщил секретарь Ефремова.
— Очень хорошо и тоже очень кстати, заодно доложу ему и о вашей командировке, — поднимаясь из-за стола, сказал Круклис.
Глава 17
Ночью Берлин бомбили. Несколько мощных, не менее чем тонных бомб, сброшенных с американских самолетов, снесли полквартала, в котором жил Грейфе, завалили обломками зданий прилегающие улицы.
Грейфе еле добрался до своего служебного «опель-капитана» и нырнул в кабину.
— Совершенно невозможно было подъехать ближе, герр оберштурмбаннфюрер! Охрана будто с ума сошла. Ничего не желает слушать! — оправдывался водитель.
— Скоро все с ума сойдут, — буркнул в ответ Грейфе. — В управление.
«Опель-капитан» сорвался с места, и скоро Грейфе уже прибыл на работу. Его встретил Эгерт и доложил, что никаких звонков не было и оберштурмбаннфюрера никто еще не вызывал.
— А эти длинноволосые умники из авиационного КБ, они забыли, что должны сегодня показывать мне то, что они делают для нас? — дал волю своему негодованию Грейфе.
— Вполне возможно, что у них еще ничего не готово, — попытался смягчить ситуацию Эгерт.
Но Грейфе не спал всю ночь и был не на шутку зол.
— Может, они забыли, что этой их чертовой каракатицей интересуется сам обергруппенфюрер? — не унимался он. — Проваливают дело и молчат!
— Наверное, как всегда, станут ссылаться на нехватку каких-нибудь дефицитных материалов, — заметил Эгерт.
— Чепуха! Они были предупреждены, что им дадут все! Позвоните-ка им вы, Эгерт, и спросите: в чем там дело? — приказал Грейфе.
Эгерт бесшумно повернулся и направился в приемную. Но Грейфе остановил его.
— Звоните отсюда. Мне интересно послушать, как они будут оправдываться.
Эгерт набрал номер. Но последовавший из КБ ответ сразу умиротворил эсэсовцев. Оказалось, что для показа оберштурмбаннфюреру все абсолютно готово. Все сделано наилучшим образом. Пригласить господина Грейфе в КБ согласно договоренности собирались с самого утра. Но эта чудовищная бомбежка где-то повредила телефонные кабели, и их только что починили. В КБ были совершенно уверены, что этот первый раздавшийся к ним с утра звонок всего лишь проверка связи. А это оказывается…
— Черт с ними, с их оправданиями! Скажите, что я сейчас же выезжаю. И спросите, куда лучше: к ним или на завод? — прошипел на ухо адъютанту Грейфе.
Эгерт вежливо спросил:
— Готовы показать и тут и там, — последовал ответ.
— Тогда скажите, что встретимся на заводе, — решил Грейфе. И дождавшись, когда Эгерт закончит разговор, добавил: — Зачем же я буду разглядывать их чертежи? Мне вещь нужна! Вещь! Готовая машина.
Он мельком проглядел бумаги, подготовленные ему на доклад, и предупредил Эгерта:
— Будут звонить от обергруппенфюрера, скажите, где я. Остальным знать необязательно.
КБ, выполнявшее заказ РСХА, разместилось на одном из старейших и надежнейших предприятий авиационной промышленности рейха, в старых заводских корпусах, в большинстве своем скрытых под землей. Лишь легкие постройки вспомогательных цехов и склады можно было разглядеть с близкого расстояния под огромными маскировочными сетями и развесистыми кронами деревьев. И повсюду охрана, охрана, охрана.
«Откуда столько набрали солдат?» — подумал Грейфе и спросил сопровождавшего его инженера-конструктора:
— Я на ваших предприятиях впервые, герр Фогеляйн. Кто вас охраняет?
— Солдаты СС, находящиеся в подчинении непосредственно рейхсмаршала, герр оберштурмбаннфюрер.
— Правильно. — Грейфе сразу вспомнил, что рейхсмаршал Герман Геринг давно уже держит в своем личном подчинении не одну часть СС и при этом поставил дело так, что в эти части не сует нос даже рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. — А кто у вас работает?
— В экспериментальном цехе, куда мы с вами идем, герр оберштурмбаннфюрер, трудятся только наши с вами соотечественники. Да и то наиболее благонадежные. А вообще-то на предприятии немало и иностранцев: есть итальянцы, есть французы, датчане, естественно, из поддерживающих нас и, как правило, очень нам нужные специалисты в своей области… Высококвалифицированные инженеры, техники…
— А рабочие?
— В последнее время стали пользоваться рабочей силой и из концлагерей. Потому и такое количество охраны. Их привозят сюда, герр оберштурмбаннфюрер, а отсюда увозят уже на других машинах, прямо в крематорий…
Они зашли в небольшое здание, похожее на подсобку, на лифте опустились под землю и очутились в просторном, хорошо освещенном электрическим светом помещении. Тут стояло несколько полусобранных самолетов, возле которых копошились люди.
— Это и есть наш экспериментальный цех, герр оберштурмбаннфюрер. Здесь собираются образцы моделей, которые взлетят через три-четыре, а некоторые и через пять-шесть лет, — объяснил ведущий инженер-конструктор.
«Эк, куда хватил!» — чуть не сорвалось у Грейфе. Но он смолчал и даже поддакнул:
— Далеко смотрите! Вашей перспективе можно только позавидовать, герр Фогеляйн.
— Конструкторская мысль должна опережать сегодняшний день, герр оберштурмбаннфюрер. И чем дальше, тем лучше.
«Смотри, чтоб штаны не порвались», — снова подумал весьма скептически настроенный насчет всяких перспектив Грейфе. Пережив сегодняшнюю бомбежку, он старался не думать о будущем вообще. Но служба требовала собранности, и Грейфе спросил:
— Где же ваше чудо, которое вы мастерите для нас, герр Фогеляйн?
— О, это там, чуть дальше, герр оберштурмбаннфюрер. Оно в отдельном отсеке. И допуск в него строго ограничен, — ответил инженер.
— Но ведь насколько мне известно, у вас тут все сверхзасекречено, — заметил Грейфе.
— Совершенно верно. Но ваш заказ и среди всего прочего на особом положении. И знаете почему? — интриговал инженер.
Грейфе недоуменно пожал плечами.
— Согласно нашим предписаниям так и должно быть…
— Конечно, конечно, герр оберштурмбаннфюрер, — поспешил согласиться инженер. — Но вы сейчас все увидите и поймете, о чем я говорю.
Они прошли в дальний угол цеха и очутились в небольшом, надежно закрытом и охраняемом от посторонних отсеке. Посредине его стояло нечто, меньше всего напоминавшее самолет и по очертаниям скорее похожее на огромную стрекозу. Правда, от стрекозы этой штуковине тоже досталось немногое, разве что длинный ободранный хвост да обозначенное ребрами жесткости фюзеляжа брюхо. Грейфе смотрел на диковинную конструкцию, плохо представляя себе, как она поднимется в небо, и вспоминал испытательный полигон у Зееловских высот, жирного Цирайса, пегого Пфлюкера, их шипящий, как тысяча змей, снаряд, который никак не мог долететь до цели, и глубоко вздохнул. По сравнению с этим скелетом то, что он только что видел в цехе, теперь уже казалось ему вполне законченным и готовым к полету. Но Фогеляйна прямо-таки распирало от гордости за эту дюралевую арматуру, и он, не скрывая этого, не без пафоса воскликнул:
— Вы даже не представляете, герр оберштурмбаннфюрер, какова цена конструкторской мысли, вложенной в эту модель!
«А мне и представлять нечего. Я и безо всякого представления точно знаю до пфеннига, сколько вы уже выдоили из нашей бухгалтерии. Только вчера видел счет», — подумал Грейфе, неопределенно промычав:
— Н-да-с. Так что же это все-таки такое будет?
— Это будет уникальнейший, не имеющий аналогов в мировой практике самолетостроения летательный аппарат, — доверительно, все с тем же апломбом заявил Фогеляйн. — Хотите знать его тактико-технические характеристики?
— Бесспорно, герр Фогеляйн.
— Пожалуйста. Вы заказывали, и от вас секретов нет, герр оберштурмбаннфюрер, — заверил Грейфе ведущий инженер-конструктор. — Итак, это будет четырехмоторный моноплан с высоко расположенным крылом, с фюзеляжем типа «вагон», с двумя балками, на концах которых будет по килю с одним общим стабилизатором. Все четыре двигателя будут специальной конструкции — высотные, воздушного охлаждения. Сзади фюзеляжа будет сконструирован специальный откидной трап, по которому в фюзеляж свободно сможет въехать мотоцикл с коляской и даже легковая автомашина.
Учитывая специфику заданий, которые предстоит выполнять на данном самолете, наше КБ сконструировало для него крылья, способные выдвигаться и убираться на несколько метров.
— Обратите внимание, герр оберштурмбаннфюрер, на конструкцию шасси, — увлеченно продолжал Фогеляйн. — Они, как вы видите, также принципиально новые по своему устройству. Для посадки на твердый грунт самолет будет иметь два обычных колеса, лишь значительно увеличенного диаметра. А для посадки на заболоченную, неровную или даже заросшую кустарником местность под фюзеляжем будет смонтировано с каждой стороны по двенадцать пар катков. При этом общий вес самолета не превысит восемнадцати тонн. Представляете, какой у него будет запас мощности для маневра?
Грейфе сделал вид, что представляет.
— Потолок — более семи тысяч метров. Радиус действия — четыре тысячи километров, — продолжал Фогеляйн. — Самолет будет оснащен самым современным навигационным оборудованием, включая приборы, позволяющие ему садиться и взлетать как днем, так и ночью при любых погодных условиях. Предусмотрена даже специальная окраска нижних и боковых поверхностей самолета в специальный светопоглощающий цвет, что сделает самолет практически неуязвимым для прожекторов.
Пару слов о вооружении, герр оберштурмбаннфюрер. Девять расположенных в фюзеляже самолета пулеметов и пять иллюминаторов со специальными шарнирными приспособлениями для стрельбы из обычного автоматического оружия обеспечат самолету надежную оборону во всех плоскостях в радиусе трехсот шестидесяти градусов.
— И еще, — не умолкал Фогеляйн, — о хранении и обеспечении безопасности горючего, герр оберштурмбаннфюрер. Оно будет содержаться в специальных баках, сделанных из четырех слоев — фибры, лосевой кожи, натурального каучука и алюминия. Два основных бака будут располагаться в крыльях. Два — меньшего размера — в фюзеляже. Это в самых общих чертах, герр оберштурмбаннфюрер. Не считая десятков других интереснейших нововведений и конструкторских находок. Вам это нравится?
Грейфе не ожидал такого вопроса. А в общем-то, он понял, что КБ серьезно отнеслось к их заказу. Но поскольку давать какие-либо оценки или что-либо принимать совершенно не входило в функции Грейфе, он ответил уклончиво и с таким расчетом, чтобы сбить апломб с этого хрященосого ученого-технаря.
— Да, — произнес со вздохом Грейфе. — Но где они, эти баки, пулеметы, крылья, которые могут втягиваться и вытягиваться, как голова у черепахи, герр Фогеляйн? Их нет!..
— Как это нет, герр оберштурмбаннфюрер? — вытаращил глаза ведущий инженер-конструктор, пораженный напрочь такой непонятливостью эсэсовского чина. — А полностью отработанная документация? А проект, утвержденный руководством вашего всеми уважаемого управления? А график работ, ни один пункт которого мы еще не просрочили ни на секунду?
— Это все так, — попытался было успокоить его Грейфе. Но Фогеляйн уже ничего не желал слушать.
— Это же не серийная машина, герр оберштурмбаннфюрер! — продолжал тарахтеть он. — Надо же иметь в виду, что каждый узел ее, каждый агрегат изготовляется в единственном экземпляре, вручную! И как только он пройдёт испытания, его тотчас же ставят на модель!
— Я понял. Понял, герр Фогеляйн, — сдался Грейфе не столько под напором его аргументов, сколько от упоминания об утвержденном руководством РСХА проекте. — Но вы тоже поймите, герр Фогеляйн, обстановка меняется с каждым днем. И то, что казалось вполне приемлемым вчера, сегодня уже может быть никому не нужным.
— Но существуют общепринятые нормы технического процесса, — упрямо стоял на своем Фогеляйн.
Грейфе понял, что ему с этим типом, подведомственным, как и вся их контора, рейхсмаршалу, не совладать. Да он и не был уполномочен на это. Поэтому Грейфе лишь безнадежно махнул рукой и сказал:
— Хорошо, герр Фогеляйн. Я доложу руководству то, что видел.
Фогеляйн любезно проводил эсэсовца до ворот предприятия. Однако эта любезность не сняла тревоги с души Грейфе. Возвращаясь в управление, он всю дорогу думал о том, что как фаустники, так и эти авиаспециалисты в конечном итоге могут здорово всех их подвести, потому что все их обещания и заверения на деле могут оказаться сущим блефом. А виновным, как в таком случае всегда бывает, будет он. И по самой элементарной логике, по которой кто-нибудь непременно во всякой неудаче должен быть виноват…
С этими невеселыми мыслями Грейфе и заявился в свой отдел. Но тут его уже ждали другие неприятности. Впрочем, выяснилось это не сразу.
— Вас вызывает обергруппенфюрер Кальтенбруннер! — выпалил Эгерт, едва Грейфе переступил порог приемной.
— Когда?
— В пятнадцать тридцать, — доложил Эгерт.
Грейфе взглянул на часы. До указанного срока оставалось еще час двадцать три минуты.
— Хорошо. Я буду у себя. Ко мне никого не пускайте. Мне надо подготовиться к докладу, — приказал Грейфе, подумав: «Раз вызывает, значит, что-то уже случилось. Но что?»
— Слушаюсь, оберштурмбаннфюрер. Но это еще не все, — вдогонку добавил Эгерт.
— Еще что? — остановился в дверях кабинета Грейфе.
— Сообщение от «двадцать второго».
— Где оно?
— У вас на столе.
Грейфе с силой захлопнул за собой дверь. Сразу подошел к столу, раскрыл папку, прочитал донесение. «Материалы похищены. Тайник пуст», — сообщал «двадцать второй». «Вот теперь можно точно сказать, откуда потянет паленым, — сразу оценил перспективу предстоящего разговора Грейфе. — Но что-то ведь надо будет предложить. Найти какой-то выход из положения! Скажу, пожалуй, что сразу же дал задание сделать новые фотографии и немедленно переслать их сюда».
Так решил Грейфе и взглянул на себя в небольшое зеркальце. После бессонной ночи выглядел он неважно. Сразу резче обозначились мешки под глазами, глубже прорезались морщины на щеках и на лбу. На подбородке, хотя он утром брился, почему-то снова вылезла щетина. Грейфе достал станок безопасной бритвы, вложил в него последнее, оставшееся у него импортное лезвие фирмы «Жилетт» и на сухую несколько раз скребнул по подбородку. Щетина пропала. Но устранить так же легко и быстро другие недостатки своего внешнего вида Грейфе не мог. И, протерев лицо туалетной водой, сел за стол. Надо было хорошенько обдумать, о чем и что докладывать шефу РСХА. Конечно, намного проще было бы высказать все свои соображения о ходе подготовки к операции своему непосредственному начальнику, бригаденфюреру Шелленбергу. Но тот по-прежнему всеми правдами и неправдами увертывался от какого-либо участия в этой работе. И Грейфе приходилось вдвойне шевелить мозгами, чтобы, с одной стороны, не вызвать в свой адрес немилости ни у кого из начальства, а с другой стороны, рассказать правду о состоянии дел и высказать свои вполне обоснованные опасения по поводу того, что техническое обеспечение операции явно запаздывает. Некстати пришло совершенно неутешительное донесение из Москвы. У Грейфе даже появилось подозрение, что агент «двадцать два» просто струсил. Не захотел подвергать себя дополнительному риску и придумал всю эту историю с ограблением. Но проверить своего «двадцать второго» Грейфе не мог и вынужден был согласиться с той версией, какую ему сообщили. Наиболее отрадным моментом в ходе подготовки можно было, пожалуй, считать работу по отбору кандидатов на роль исполнителя акции. Тут, как считал Грейфе, ему явно повезло. Повезло в том, что он этим делом занимался не один. При докладе всегда можно будет сослаться и на Вольфа, и на Скорцени. С этого положительного момента Грейфе и решил начать свой доклад обергруппенфюреру. И точно в назначенное время появился в приемной шефа РСХА. Но Кальтенбруннер неожиданно сам задал тон беседе.
— По-ноему, Грейфе, подготовка к операции идет вполне успешно, — объявил он совершенно недвусмысленно начальнику восточного отдела, едва тот переступил порог его кабинета, чем немало удивил видавшего виды матерого разведчика. — Или у вас другое мнение?
— Совершенно то же, что и у вас, обергруппенфюрер, — отчеканил Грейфе.
— Мне уже докладывал Вольф, звонили из КБ, я знаю, что вы уже побывали на испытательном полигоне. Вам действительно понравилось то, что они делают по нашему заказу и как делают? — спросил Кальтенбруннер.
— Это очень интересно, обергруппенфюрер. Ничего подобного в нашем распоряжении никогда еще не было, — подтвердил Грейфе и, неожиданно поймав на себе пристальный взгляд шефа РСХА, осекся. В голове молнией пронеслось: «Неужели провоцирует? Неужели совсем за идиота меня принимает? А я-то хорош…» — Очень интересно. Но, к сожалению, вынужден обратить ваше внимание, обергруппенфюрер, что пока все это на восемьдесят процентов еще только на бумаге.
— Вот как? — даже усмехнулся Кальтенбруннер, поняв, что его ход разгадан. — Почему же мне никто об этом не докладывал?
— Вероятно, потому, что все считают, что все идет своим чередом, обергруппенфюрер, — ответил Грейфе.
— Но ведь вы так не считаете?
— Моя служба, мой долг убежденного национал-социалиста, обергруппенфюрер, обязывают меня видеть то, чего не видят многие другие, — выдержав взгляд шефа РСХА, ответил Грейфе.
— Вы правы, Грейфе, — согласился Кальтенбруннер. — И очень верно поступаете, что никогда не забываете о своем долге перед фюрером. А многие, очень многие, к сожалению, об этом забывают…
И тут шефа РСХА будто подстегнули. Он даже в лице изменился. Шрам у него на щеке посинел, глаза сузились. Подбородок выдвинулся вперед.
— Мне вообще часто кажется, Грейфе, что, кроме нас, нашей службы, в рейхе давно уже не осталось преданных фюреру людей, — продолжал Кальтенбруннер. — Посмотрите, что за члены партии окружают нас? Паникеры, нытики, маловеры! Фюрер не зря все время говорит об измене! Генералитет бездарен! На фронте держатся до последнего только наши части! Чиновники всех мастей думают лишь о том, как перевести свои накопления в банки нейтральных стран! Промышленность выпускает неразрывающиеся бомбы и снаряды! Я не говорю уже о политическом кризисе, охватывающем то одного, то другого нашего союзника. В этой обстановке операцию, которую мы готовим, Грейфе, и которую следует рассматривать как самое ответственнейшее задание из всех, какие когда-либо поручал нам фюрер, мы обязаны провести с честью. Фюрер, как всегда, прав! Русские, из века в век привыкшие подчиняться диктату, потеряв идола, немедленно утратят всякую способность к сопротивлению. Это так, Грейфе! Но вы сами видите, что, не успев еще начать операцию, мы уже сталкиваемся с трудностями, порождаемыми исключительной безответственностью некоторых специалистов, скрытыми врагами рейха и фюрера, всякого рода волокитчиками, евреями, которых еще немало в научных кругах, и откровенными мерзавцами. Я не хотел вначале привлекать к этой операции Мюллера, Грейфе. Но теперь я чувствую, что без его людей вам не обойтись. Немедленно сообщайте мне, Грейфе, о всякого рода задержках и проволочках с выполнением наших заказов. А я найду способ, как проверить, по чьей вине и нерасторопности они возникают.
— Понял, обергруппенфюрер, — щелкнул каблуками Грейфе, подумав: «Вот так-то сразу и надо было действовать. А то взвалили на меня одного, и воюй тут со всякими Пфлюкерами, Фогеляйнами… Разберись, где они врут, где говорят правду. Нет уж, пусть этим действительно займется бригаденфюрер Мюллер. Ему сподручней и привычней…» О подборе кандидатов он решил не говорить. Теперь это уже не имело смысла. Да и вообще почувствовал, что пора закругляться и побыстрее уходить с глаз начальства подобру-поздорову.
— Я не пожалею жизни, обергруппенфюрер, чтобы выполнить все ваши задания, — преданно глядя шефу в глаза, поклялся Грейфе.
Кальтенбруннер слегка вскинул руку.
— Хайль Гитлер! — воскликнул Грейфе.
Глава 18
Ленинград встретил контрразведчиков промозглым, холодным ветром, дующим с Балтики, и грохотом рвущихся где-то в районе Охты вражеских снарядов. Местные товарищи, предупрежденные о приезде Доронина и Петренко, проводили московских коллег в свою гостиницу, располагавшуюся в небольшом трехэтажном здании, обнесенном со всех сторон старинной узорчатой металлической оградой. Москвичей напоили чаем, рассказали о последний событиях на фронте, начинавшемся уже за ближайшими пригородами. После прорыва блокады, после того, как в город пошли поезда с хлебом, мясом, топливом и боеприпасами, жизнь в Ленинграде, как утверждали сами ленинградцы, стала вполне нормальной. А то, что на город еще до сих пор то и дело сыпались вражеские снаряды и бомбы, было уже не так страшно. И даже можно сказать, почти не страшно, по сравнению с холодом и голодом двух первых блокадных зим.
В помощь москвичам выделили старшего лейтенанта Игнатьева, который, будучи коренным жителем Ленинграда, прекрасно знал город и ориентировался в нем, как рыба в воде. Узнав в общих чертах, что интересует москвичей, он, пока они приводили с дороги себя в порядок, а ехать им до Ленинграда пришлось не только поездом, но и на машине, и даже пробираться объездными путями по осенней грязи пешком, навел кое-какие справки по телефону и сообщил Доронину и Петренко первую «приятную» новость о том, что никакого стоматологического института на улице Петра Лаврова нет. А стало быть, и искать там некого и нечего.
— И, по-моему, начинать вам надо, товарищ подполковник, — как разумел это дело Игнатьев, — с нашего гороно и горздравотдела. Только там могут знать, если они, конечно, не эвакуированы, когда и куда переехало и вливалось всякое, в том числе и медицинское, учебное заведение.
— Пожалуй, вы правы, товарищ старший лейтенант, — вынужден был согласиться с Игнатьевым Доронин. — Куда отправимся?
— Пойдемте в гороно.
Москвичи не возражали. Ленинградские товарищи, хоть и туговато было у них с машинами, все-таки довезли гостей до места на полуторке.
В некогда многолюдном гороно сотрудников осталось совсем мало. Все, кто выжил и мог работать, сгруппировались в четырех комнатах. Но даже среди этого небольшого коллектива оставшихся на своих местах работников просвещения нашлась одна уже преклонного возраста инспектор, которая и объяснила москвичам:
— Да, был такой институт на улице Петра Лаврова. Но, если мне не изменяет память, в начале тридцатых годов его закрыли.
— А как, по-вашему: где могут быть документы института? — спросил Доронин.
— Если что-то сохранилось, то только в архиве. Но вот в каком?
— А что, их несколько?
— Шестнадцать, товарищи военные. Но мне кажется, вам следует в первую очередь побывать в архиве управления бытового обслуживания города. На Красной улице, двадцать шесть. А вот уж если там ничего не найдете, тогда просто не знаю…
Сотрудницу гороно от души поблагодарили и, не теряя времени, отправились на Красную. И тут контрразведчикам впервые немного повезло. Какие-то документы давно уже не существовавшего института оказались на месте. Но вот какие именно?
— Вот вам описи, изучайте их, находите то, что вам надо, заполняйте требования и ждите, — любезно объяснили сотрудники архива.
— Долго? — сразу спросил нетерпеливый Петренко.
— А уж это будет зависеть от того, как вы быстро оформите свой заказ.
Втроем они провозились с описями почти до вечера. За это время в городе дважды объявляли воздушную тревогу. И один раз город подвергся артиллерийскому обстрелу. Но в архиве на это почти не обратили внимания. И контрразведчики тоже, не выказав ни малейшего замешательства, продолжали свой поиск. Трудились старательно все трое, но списки выпускников нашел Игнатьев. Запросили из хранилища на всякий случай всех выпускников за пять лет. И когда наконец списки пришли, то, ко всеобщей радости, нашли среди них и Баранову. Да, действительно, она получила диплом врача-стоматолога в двадцать шестом году. И номер диплома был тот, который уже знали контрразведчики! Но никаких дополнительных данных о Барановой в списках не было. Имелась только одна небольшая ссылка на какой-то приказ. Но чей это был приказ? Где было его искать? Ни один из троих не имел ни малейшего представления.
— Пришла Баранова и ушла Баранова, — разочарованно констатировал Доронин. — А раньше-то кем она была?
Подумали, поломали головы и решили снова побывать в гороно. Но это было уже на следующий день.
— Ну что? Не повезло? — с участием встретила контрразведчиков уже знакомая им пожилая сотрудница.
— И да и нет, — признался Доронин.
И рассказал о результатах поиска.
— А по-моему, вас даже можно поздравить, — сразу сообразила сотрудница. — Вот этот-то приказ и есть ключ к разгадке. Просто вы не знакомы со спецификой подготовки врачей той или иной специальности. Ведь раньше окулистами, отоларингологами, стоматологами и так далее становились только на последнем курсе обучения. Студент заканчивал курс медицины, а потом выбирал себе ту специальность, которая была ему по душе. Так, очевидно, поступила и та гражданка, которая вас интересует. Она, видимо, курс общей медицины заканчивала где-то в другом месте. Об этом и говорит приказ. И я думаю, что она училась здесь, в нашем городе. И почти уверена, что это был Женский мединститут. Кстати, единственное высшее медицинское учебное заведение, куда до революции и какое-то время после нее принимали женщин. Теперь это — ленинградский Первый медицинский институт имени академика Павлова. Он в эвакуации. Но здание на улице Льва Толстого цело. Архивы все там. И вам я советую идти прямо туда.
— Что бы мы без вас делали? — благодарно улыбнулся Доронин. — Ну а если опять какая-нибудь закавыка? Можно еще разок к вам обратиться?
— Мы готовы вам помогать всегда и во всем, — последовал ответ.
Контрразведчики направились на улицу Льва Толстого. На сей раз никакого чуда не произошло.
— Если училась да тем более, как вы утверждаете, не один год, то в каких-то бумагах это, бесспорно, зафиксировано, — выслушав Доронина, ответил сотрудник отдела кадров. — Но в институте хранятся документы только десятилетней давности. А она, эта ваша Баранова, получила диплом в двадцать шестом году? Значит, у нас она училась еще раньше!
— Выходит так.
— А все документы тех лет мы давно уже сдали в архив.
— В какой? Мы уже знаем, что у вас в городе их шестнадцать…
— А вот в какой? Надо подумать. Если она училась до революции, то все сведения о ней могут храниться только в Государственном историческом архиве. Если же это было уже в наш, советский период, то вам стоит вернуться туда, где вы уже были, и там поднять дела нашего института.
Объяснение было исчерпывающим, и контрразведчики послушались толкового совета.
— Давайте, братцы, так: я пойду на улицу Лаврова, там вроде все уже знакомо. А вы в исторический, — решил Доронин уже на улице. — Встречаемся в гостинице.
И разошлись. В первый вечер не добились никаких результатов, потому что материалов по Женскому мединституту оказалось множество. Институт за годы, в которые, по расчетам контрразведчиков, в нем могла учиться Баранова, выпустил тысячи врачей. И найти среди них ту, которая им была нужна, можно было, только перечитав сотни всяких ведомостей. И следующий день стал для контрразведчиков не более удачным. И третий уже подходил к концу, когда Доронин неожиданно увидел в комнате, где он работал, своих коллег. Они подошли к его рабочему столу, заваленному кучей дел. И Петренко откровенно сказал:
— Ну, Владимир Иванович, у нас как в сказке: чем дальше, тем страшней.
— Что это вас так напугало? — ревниво спросил Доронин, чувствуя, что его явно опередили.
— А вот взгляните, — положил перед Дорониным на стол лист бумаги Петренко. — Искали Марию Кирилловну Баранову, а нашли Матильду Карловну Шидлер.
— Сильны, — только и смог сказать Доронин, разглядывая бумагу. — Но почему вы решили, что это одно и то же лицо?
— А приказик…
— Какой?
— Это, оказывается, приказ о зачислении Шидлер в институт. И было это в одна тысяча девятьсот четырнадцатом году.
— Да, но имя-отчество? Фамилия — черт с ней. Баранова — ясно, что это не девичья фамилия. Но имя-отчество. Ведь сами пишете — Матильда Карловна. А мы ищем Марию Кирилловну. Есть разница?
— Есть, Владимир Иванович. Но за этих дореволюционных писарей я тоже головой ручаюсь. Они в бумагах толк знали. И чего не надо, в бумаги не ляпали. Этот же номер приказа против фамилии Шидлер стоит и на оценочной ведомости за тысяча девятьсот семнадцатый год. И еще один документ с тем же номерочком. Заявление Шидлер об уходе из института. И еще — получила справку о незаконченном высшем образовании и расписалась. А номер приказа стоит и тут. Значит, у них была система — всегда ссылаться на главный документ, на приказ о зачислении. Вот почему мы уверовали в то, что номерок этот не случаен и что Баранова и Шидлер — одно и то же лицо. Логично?
Доронин задумался.
— Но почему же все-таки Матильда Карловна? Не могли же так безбожно наврать эти ваши почтенные крючкотворы. Или это образец вольного русского перевода, замешанного на квасном патриотизме, — коль воюем с немцами — все немецкое к чертям собачьим? — рассудил он.
— Не знаю, Владимир Иванович. Но убежден, что мы со следа не сбились, — уверенно сказал Петренко. — Только я теперь думаю, если она Шидлер, может, стоит снова в Киев рвануть и там поискать объяснений превращения ее в Баранову?
— Мысль… Не возражаю, — сразу согласился Доронин. — Сегодня же выезжай. Я доложу начальнику. А мы попробуем найти этому объяснение здесь.
Утром следующего дня Петренко уехал из города, а Доронин связался по телефону с Круклисом.
— Хорошо, что поймали меня. Весь день буду отсутствовать, — предупредил Круклис. — Как там у вас? Трудный орешек попался?
— Разгрызем, товарищ полковник. Начало уже есть. Кажется, узнали девичью фамилию Барановой. Оказалась некая Шидлер. А вот имя и отчество совсем иные. Послал Петренко в Киев… — доложил Доронин.
— Как вы сказали, Шидлер? — перебил его Круклис.
— Так точно. Шидлер Матильда Карловна, — подтвердил Доронин.
— Что-то очень знакомая фамилия… А с Петренко правильно решили. Пусть посмотрит…
— Хочу задержаться здесь еще на пару деньков. Разрешите?
— Работайте! Работайте! — разрешил Круклис. — А фамилию эту я, ей-богу, встречал… Ну да звоните чаще…
Полковник, очевидно, спешил, в трубке послышались короткие гудки. Доронин вернулся в комнату, где его ждал Игнатьев, и устроил маленькое совещание, если только так можно было назвать их разговор.
— Путь к Барановой стал на одну ступеньку короче, а работы прибавилось вдвое, — констатировал Доронин состояние дел. — Раньше занимались только Барановой, теперь все заново придется повторить с Шидлер.
— Так ведь нас двое, товарищ подполковник, — заметил Игнатьев. — Ставьте задачу — и по коням!
— Все правильно, — согласился Доронин. — Только давай сначала уточним эту задачу для каждого из нас. Я буду продолжать заниматься Барановой, а ты бери на себя эту Шидлер. Не возражаешь?
— Абсолютно согласен.
— Добро. Тогда я постараюсь определить, где Баранова работала и жила шесть лет после окончания института. Потому что в тридцать втором году она проживала уже в Детском Селе, ибо там и получила паспорт, — развивал свою мысль Доронин. — А твоя задача та же, что и у Петренко: найти объяснения, как Шидлер стала Барановой. Может, просто поменяла фамилию, в те годы это делалось довольно просто. Или вышла замуж? Одним словом, мы должны совершенно точно знать — когда, как и почему это случилось. Улавливаешь?
— У меня работенки побольше получается, товарищ подполковник, — сразу прикинул объем задания Игнатьев. — Могу задержать дело…
— Ничего. Начинай. На каком-то этапе я на помощь приду, — пообещал Доронин. — А теперь опять к тебе вопрос, как к ленинградцу: в какие двери будем толкаться?
— Вам-то ясно куда идти — в горздравотдел. Адресочек я вам подскажу. А потом в паспортный стол, — легко решил этот вопрос Игнатьев. — А мне, наверное, придется начинать с архива загсов.
— И такой есть?
— А как же!
— Тогда по коням! Давай адрес горздравотдела, — закончил разговор Доронин.
Игнатьев направился к телефону.
Сотрудники горздравотдела, несмотря на перегруженность работой, внимательно отнеслись к запросу Доронина. Но помочь практически смогли только советом:
— Все документы той поры в архиве. Идите туда.
И Доронину снова пришлось идти в архив, в котором он уже был дважды. Конечно, теперь работалось ему тут уже гораздо легче. Он знал все порядки, знал людей, да и они уже начали привыкать к очень аккуратному и обходительному подполковнику из Москвы. Охотно во всем ему помогали. Но даже совместными усилиями за день напряженной работы не удалось найти в архиве никаких документов о работе Барановой по специальности в Ленинграде. Доронин волей-неволей вынужден был сделать вывод: либо Баранова после института вообще нигде не работала, либо работала в Ленинграде, но не по специальности, либо работала по специальности, но не в Ленинграде. Этот последний вариант нашел некоторое косвенное подтверждение в ответе паспортного стола, куда обратился Доронин. В нем значилось четко: «С тысяча девятьсот двадцать четвертого по тысяча девятьсот тридцать пятый год М.К. Баранова проживала в Детском Селе (ныне город Пушкин) Ленинградской области по адресу: улица Красной звезды, дом двадцать три». Ответ был исчерпывающим. Доронина он удовлетворил. Но куда больше, чем Доронину, повезло Игнатьеву. Хотя никаких доказательств, подтверждающих, что М.К. Шидлер и М.К. Баранова суть одно и то же лицо, обнаружить не удалось, зато совершенно случайно посчастливилось найти один очень любопытный документ. А именно, заявление некой М.К. Шидлер в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов с просьбой в связи с утерей паспорта и заключением брака с С.Г. Судзиловским присвоить ей фамилию мужа и выдать удостоверяющий ее личность документ. На заявлении стояла дата «10 мая 1918 года» и подпись заявительницы, которую сразу узнал Игнатьев.
— На бумаге института точно такая же была, товарищ подполковник. Я эту завитушку у «Ш» на всю жизнь запомнил, — заверил старший лейтенант.
— И очень правильно сделал, — похвалил молодого контрразведчика Доронин. — Мы, естественно, обе эти подписи сфотографируем. И окончательное слово о них скажет экспертиза. Но очень многое уже сейчас говорит за то, что ты не ошибаешься и мы продвинулись по следу еще на один шаг.
И не только само заявление Шидлер посчастливилось найти в архивах Петроградского Совета. К заявлению был подклеен и другой, не менее любопытный и очень важный для ее розыска документ: написанная со слов заявительницы ее биография, в которой подтверждалось, что она родилась в девяносто четвертом году в Киеве, что ее отец был инспектором народных училищ и так далее. А также некоторые данные, взятые из справки, удостоверяющей личность военспеца С.Г. Судзиловского.
Доронин вправе был считать день удачным. Но он ошибался, когда думал, что на этом все события и закончились. Ибо уже где-то около одиннадцати в гостинице раздался звонок, и дежурный прибежал звать его к телефону. Устав за день, Доронин уже спал. И не сразу понял, куда и зачем его зовут. Решил даже, что это наверняка откуда-нибудь с дороги звонит Петренко. Но в трубке раздался голос Круклиса.
— Спите? — как всегда в неофициальной манере, осведомился полковник. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Это хорошо. Значит, у вас там все спокойно. Здравствуйте, Владимир Иванович.
— Здравия желаю, товарищ полковник! — обрадовался этому звонку Доронин.
— Только что вернулся к себе и не утерпел до утра, решил разыскать вас. Я вспомнил одного Шидлера. Уж не мой ли это старый знакомый еще по девятнадцатому году? Он имел отношение к Архангельску и косвенно к «Добровольческой армии Московского района». И во время следствия покончил с собой. Одним словом, возвращайтесь и поднимайте это дело. Возможно, сразу многое станет ясно. А я на несколько дней в командировку улетаю.
— Понял, товарищ полковник. У нас тут небольшой успех, — не удержался Доронин.
— Поздравляю. В чем повезло?
— Нашли заявление Шидлер с просьбой присвоить ей фамилию мужа. И все данные о ней и о муже, записанные с ее слов. Так что для нас она уже Судзиловская. Правда, появилась новая задачка…
— Какая?
— Она по-прежнему М. К., но уже не Матильда Карловна, а Марина Константиновна, — объяснил Доронин. — Невольно начинаешь сомневаться: уж не свернули ли мы на какую-нибудь ее однофамилицу? Да и об отце она сообщает, что он был инспектором народных училищ… Тоже как-то с Добрармией не очень контачит…
Полковник в ответ даже озорно присвистнул.
— А вы сомневайтесь, да не очень, — посоветовал он. — Поверьте мне: если все же окажется, что она дочь Шидлера, моего знакомого, то нам предстоит получить от нее еще ой сколько всяких загадок. Но новые данные, естественно, тоже надо проверить самым тщательным образом. И рекомендую начать с этого Судзиловского. Узнайте, кем он был в старой армии, как стал военспецом, где и кем служил впоследствии в Красной армии, — дал последнее указание Круклис.
— Понял, товарищ полковник, — ответил Доронин.
Утром следующего дня Доронин уже сам изучал заявление Шидлер и данные биографии ее и Судзиловского. Снял с этих бумаг точнейшие копии. На этом вся работа в Ленинграде и закончилась. Судзиловский, как бывший офицер старой русской и военспец Красной армии, проходил по документам военных ведомств. А они той поры, как и дела «Добровольческой армии Московского района», были в Москве. В тот же день Доронин, поблагодарив своих ленинградских коллег за помощь, выехал в Москву.
Глава 19
У Скорцени был свой, многократно проверенный на практике опыт подготовки диверсантов и террористов.
— Прежде чем их обучать, надо точно знать, на что они способны, — не уставал повторять он.
Грейфе не перечил любимцу фюрера ни единым словом и полностью соглашался с ним во всем.
— Тиры, ринги, бассейны, стадионы — это не место для проверок. Лес! Горы! Болото! Непогода! Ночь! Вот фон, на котором сразу выявляются все качества человека, — утверждал Скорцени. — Но этих ваших двух, штурмбаннфюрер, перед проверкой все же придется подучить. Давайте их мне. Мои люди за неделю сделают из них готовых парашютистов. А уж тогда и проверим.
— Берите, дорогой Отто. Они в полном вашем распоряжении, — разрешил Грейфе.
В тот же день Политова и Дреера доставили в расположение спецподразделения, над которым шефствовал Скорцени. Оказалось, что оба кандидата в жизни ни разу с парашютом не прыгали и имели о нем самое поверхностное представление. Но оба выказали горячее желание освоить технику прыжков с самолета. Начали с теории и изучения самого парашюта. На это Скорцени отпустил кандидатам два дня. И сам через два дня проверил, как они умеют складывать парашюты. На третий день кандидатов повезли на аэродром. Когда они приехали, Скорцени был уже там. Теперь он уже ничего не говорил. Он только внимательно за всем наблюдал. И от его зоркого глаза не укрылось, как излишне суетливо двигались руки у Дреера, когда он застегивал на себе лямки парашюта. Ведь перед этим они сами парой и укладывали свои парашюты. И именно с ними им предстояло сейчас прыгать. А это не всегда заканчивалось благополучным приземлением. И Дреер явно нервничал. Политов же, напротив, держался спокойно, будто и не ему предстояло сейчас подняться в небо и ступить за борт кабины самолета. И когда оба садились в самолет, у Дреера сильнее обычного поблескивали глаза.
Через несколько дней после начала подготовки Грейфе спросил Скорцени:
— Как там стараются кандидаты, дорогой Отто? Время идет…
— Все нормально, оберштурмбаннфюрер. Стараются заметно.
— Вам они нравятся?
— Еще пару дней, и они сами скажут вам, кто из них чего стоит, — ответил Скорцени.
— Ну что ж, дорогой Отто, время терпит, — примирительно сказал Грейфе.
Первый прыжок у обоих прошел нормально. За ним последовал второй, третий. К концу недели, как и обещал Скорцени, оба прыгали даже с небольшими затяжками. Скорцени справедливо посчитал, что они уже достаточно натренированы, и появился у Грейфе.
— Полагаю, оберштурмбаннфюрер, что настало то время, которое позволит вам окончательно остановить свои выбор на ком-нибудь из них, — объявил он.
— Но вы упорно не хотите поделиться со мной, дорогой Отто, собственными впечатлениями, — заметил Грейфе.
— Напрасно упрекаете. У меня нет от вас секретов оберштурмбаннфюрер, — ответил Скорцени, — Дреер производит впечатление более интеллигентного человека. Скорее все схватывает. Но Политова тоже дубиной не назовешь. Хотя он, конечно, человек другого сорта. Однако впечатления впечатлениями, а дело делом. Потому я и молчу. Хотите познакомиться с их заданиями на испытаниях?
— Конечно, Отто.
Скорцени изложил план. Грейфе слушал внимательно не перебивая. Но в конце спросил:
— Не надорвутся? Не перегнем мы палку?
— Надорвутся, значит, ни черта не стоят. Я предполагаю, что в финале кому-то из них придется везти воз потяжелее, — ответил Скорцени.
— Конечно, — согласился Грейфе. — Ну что ж, дорогой Отто, доверяю вам полностью.
На аэродром кандидатов привезли вечером. Над взлетно-посадочной полосой уже сгущались сумерки, и дальняя граница аэродромного поля практически уже была не видна. Пока оба переобмундировывались в экипировку десантников и получили парашюты, стемнело совсем. Кандидатам выдали оружие: по автомату, по две гранаты, по ракетнице с тремя ракетами и по компасу. После этого обер-лейтенант объявил обоим задания.
— Вы, — указал он пальцем на Политова, — прыгаете первым с высоты две тысячи метров. В районе посадки ветер. Чем больше сделаете затяжку, тем точнее приземлитесь. Внизу болотистая местность. После приземления сразу идите на восток. Дойдете до ручья. Свернете налево. Дойдете до разрушенной мельницы. От нее пойдете строго на север полтора километра. Выйдете к мосту через болото. Дождетесь машину с тремя синими подфарниками. Уничтожите ее гранатами. После этого поразите из автомата мишени. Время рассчитано. Если опоздаете выйти к мосту, машина проедет, и больше вы ее не увидите. Ясно? — перевел переводчик.
— Так точно, герр обер-лейтенант, — ответил Политов.
— После выполнения задания возвращаетесь на мельницу и сигналите тремя ракетами. Ясно?
— Так точно, герр обер-лейтенант, — повторил Политов.
— Вы, — продолжал офицер, обращаясь к Дрееру, — будете прыгать через три минуты после него. Высота та же. Местность та же. Приземлившись, найдете старый фольварк. От фольварка пойдете строго на северо-запад полтора километра. Выйдете к озеру. Найдете катер. Расстреляете из автомата «охрану» и подорвете катер гранатами. Если опоздаете выйти к берегу, катер отплывет в безопасное место. Вопросы есть?
— Никак нет, герр обер-лейтенант, — ответил Дреер.
— После выполнения задания вернетесь на фольварк и просигналите ракетами.
— Слушаюсь, герр обер-лейтенант, — отчеканил Дреер.
Их посадили в небольшой транспортный самолет и подняли в небо. Летели молча. Разговаривать было не о чем. Да и желания не было. Каждый понимал, что после этого испытания его уже вряд ли допустят к следующему. А выполнить то, что приказал этот громила, чем-то очень похожий на Скорцени, практически было почти невозможно. Но очень небольшой шанс на успех все-таки оставался.
Через полчаса полета в транспортный отсек вышел кто-то из экипажа и открыл люк-дверцу. Отсек наполнился сырым, холодным ночным воздухом. Выпускающий взглянул на часы и подтолкнул Политова. Тот встал и подошел к люку. Но выпускающий еще какое-то время держал его в самолете. Потом снова, уже требовательнее, хлопнул по плечу. Политов прыгнул. Он знал, что с этого момента каждая секунда будет идти в зачет. И решил выиграть их на каждом этапе испытания. Даже на затяжном прыжке. Ветер свистел у него в ушах, слезились глаза, огромная черная земля со светлыми пятнами болотной воды надвигалась на него со стремительной быстротой, но Политов, стиснув зубы, упрямо считал секунды свободного полета. Парашют он раскрыл над самыми кустами. Это он понял потому, как скоро вслед за рывком наполнившегося воздухом купола влетел в болотину. Ощущение было совсем не из приятных. Политов провалился в трясину почти по пояс. Ветер потащил его по кочкам. Но он был рад тому, что остался жив и не повредил ни рук, ни ног.
Освободившись от парашюта, Политов выбрался на сухое и огляделся по сторонам. Было темно. Но не так, как казалось сверху. Он различил черные силуэты отдельных деревьев и поблескивающую между кустами воду, отражающую меркнущий свет затухающей вечерней зари. Его охватило беспокойство: цело ли оружие и снаряжение. Ощупал себя. Гранаты, компас, ракетница, автомат, рожок с патронами — все было на месте. И сразу же двинулся вперед, на восток, как приказывал обер-лейтенант. Он не шел. Он почти бежал, проваливаясь в ямы, залетая в трясину, спотыкаясь о кочки, беспрестанно натыкаясь на кусты и валежник. Несколько раз сверял свой путь с компасом и бежал дальше. В ручей он шагнул, как на спасительную тропу, и не выходил из воды до самой мельницы. Он знал, что сильно шумит. Но знал и то, что за ними никто не следит. Стало быть, опасаться было нечего. А бежать по воде было легче и проще.
От мельницы к мосту все полтора километра лежали по той же болотине. Но Политов и их преодолел одним броском. Однако, как ни старался держать курс по компасу, к мосту не вышел. А уткнулся неожиданно в узкоколейку с натянутым над ней тросом. И сразу сообразил, почему немцы не дали им карт. Выбросили их на какой-то полигон. Об этом он догадался, еще влетая то тут, то там в многочисленные воронки, залитые водой. Но был этот полигон, судя по всему, невелик. И погляди он на карту, ни за что не стал бы заворачивать туда да сюда. А пошел бы к мосту сразу напрямик. Но этого-то и не хотели проверяющие. Им надо было узнать, как они оба ориентируются на местности…
В своей догадке Политов убедился окончательно, когда, свернув по узкоколейке направо, метров через двести вышел на мост. Все тот же ручей, по твердому песчаному дну которого он так безошибочно добрался до мельницы, неторопливо бежал и под мостом. Политов, не без удовольствия отметив это про себя, с иронией подумал о своих наставниках: «Все по себе меряют, сами с дороги на шаг боятся ступить, думают, что и для других тоже страшнее этого ничего нет. Да у нас за клюквой или на покосы разве по таким болотам ходят? Э-хе-хе!» На минуту мелькнула мысль: «Далеко теперь все это: и клюква, и черника, и голубика, и орехи, в таком изобилии родившиеся в лесах Северо-Западного фронта… И не увидит, и не попробует он их уже никогда. Потому что на всей той огромной и неимоверно богатой земле, на которой они произрастают как истинные и щедрые дары природы, для него, Политова, нет и не найдется и самого маленького местечка. Слишком уж много кровушки своих соотечественников он пролил с тех пор, как перешел на сторону своих нынешних учителей! Слишком много загубил жизней, доказывая преданность чужеземцам! И нет и не будет ему ни прощения, ни пощады от тех, среди которых родился и вырос. Да он и не собирался никогда к ним возвращаться, очень уж их боялся, ненавидел всей душой и прекрасно знал: на одной земле им вместе места нет. А стало быть, или им жить, или ему…»
Мысль эта пролетела сейчас над ним, как порыв ветра. И сразу же сменилась тревогой: «А где же машина? Неужели уже прошла?» Но, сообразив, что, кроме как по узкоколейке, протащить ее нигде невозможно, успокоился и стал ждать. Это продолжалось недолго. Трос над узкоколейкой неожиданно натянулся, и послышался характерный шум металлических колес, двигающихся по рельсам. А еще немного погодя из темноты выплыли три синеньких огонька. Политов достал гранаты. То ли на тележке по рельсам тянули машину, то ли макет машины — этого он не понял. Но, подпустив темный предмет, похожий очертаниями на ящик, метров на десять, бросил в него одну за другой обе гранаты и сам стремительно упал на землю. Взрывы последовали почти одновременно. Синие огоньки погасли. А на полотне появились, словно из-под земли, ростовые мишени. Политов дал по ним несколько очередей из автомата и по-рачьи попятился в ручей. Он посчитал, что задание выполнил. И по ручью, уже не торопясь, вернулся на мельницу. Но сигналить ракетами, как было приказано, ему не пришлось. Уже на подходе к мельнице его окликнул кто-то по-русски.
— Стой! Назовите себя! — потребовали из темноты.
— Политов я, — назвался он. И повторил: — Политов!
— Подходите сюда, господин Политов, — уже дружелюбней последовало из темноты.
Политов подошел к мельнице. Его осветили фонариком, пригласили пройти за ограду и провели на мельницу. Здесь, к удивлению Политова, в небольшой комнате, уставленной столами с телефонами и еще какими-то приборами, было светло. За столами сидело четверо офицеров. Старший из них, капитан, рассказывал что-то веселое. Остальные смеялись. Политов вошел и остановился у порога. Офицеры взглянули на него, и капитан что-то сказал. Лейтенант, встретивший Политова, тут же перевел:
— Проходите, господин Политов. Мы все знаем. Вы все сделали как надо.
Политов поблагодарил:
— Большое спасибо, герр гауптман, — сказал он, слегка поклонившись, снял с себя автомат, кобуру с ракетницей, сумку с ракетами и передал их стоявшему у дверей солдату.
Запищал телефон. Капитан взял трубку и с кем-то почтительно поговорил. Политов не понял из сказанного им ничего. Но так как капитан во время разговора то и дело оглядывался на него, сообразил, что разговор, очевидно, шел о нем.
Откуда-то с улицы в комнату зашел солдат с большим подносом в руках. В комнате сразу запахло чем-то вкусным. Солдат поставил поднос на стол и открыл его. На подносе лежали хлеб, нарезанный ломтями, колбаса, фляжка, ножи, вилки, стояли кружки. Лейтенант-переводчик сразу же принялся резать колбасу. А капитан взял фляжку, открыл ее, разлил по кружкам шнапс.
— Герр Политоф, битте! — жестом пригласил он Политова за стол.
Политов подошел, поблагодарил за честь, взял кружку, кусок колбасы, хлеб.
— За вашу победу, господа! — сказал он.
Лейтенант перевел. Немцы шумно поддержали тост, выпили. Переводчик наклонился к Политову, негромко сказал на ухо:
— Вами интересовался сам штрумбаннфюрер Скорцени. Наш капитан доложил ему, что вы в полном порядке. Сейчас мы дождемся вашего напарника и отправим вас в Берлин.
Политова так и подмывало спросить: «А как там все получилось у этого напарника?» Но он не спросил и лишь поблагодарил переводчика. Однако прошел час, а Дреер не вернулся. Офицеры выпили еще фляжку и съели еще круг колбасы. Дреера все не было. Тогда по приказу капитана солдат залез на мельницу и трижды выстрелил из ракетницы. И тогда, где-то далеко-далеко, может, у самой границы полигона, в ночном небе вспыхнули три ответных огня. Стало ясно — второй кандидат заблудился в болоте и ушел совсем не туда, куда было надо. Офицеры уже не улыбались, уселись по углам комнаты и курили. Солдат стрелял из ракетницы каждые полчаса. Но прошло еще не менее двух часов, пока Дреер добрался до мельницы. Он был совершенно измучен и еле стоял на ногах. У него забрали автомат, гранаты, ракетницу, и, не говоря ни слова, все вместе вышли из комнаты. Солдат запер дверь, и вся команда пошла, подсвечивая себе фонариками, по тропинке в сторону от ручья. Метров через триста вышли на поляну, на которой стояли два автомобиля. Трое немцев сели в один автомобиль, а двое русских и переводчик — в другой. Обе машины двинулись через поляну, выехали на дорогу, и скоро мельница и полигон остались далеко позади. В Берлин въехали на рассвете. Политова и Дреера развезли по гостиницам и предупредили, чтобы оба с утра после завтрака никуда из своих номеров не отлучались.
А утром следующего дня в кабинете у Грейфе появился Скорцени. И, поприветствовав его в традиционной нацистской манере, довольно хмуро спросил:
— Вам уже докладывали о вчерашнем?
— Да, дорогой Отто. Я в курсе, — ответил Грейфе. — Весьма сожалею, что так получилось. Ведь вы отлично знаете, что без подстраховки в таком деле, какое им предстоит, работать очень трудно.
— А рассчитывать на успех еще трудней, — согласился Скорцени. — Но испытания есть испытания. Оценки объективны…
— Безусловно, — вздохнул Грейфе. — И все же, дорогой Отто, я бы не стал отказываться от того второго русского. Бывают же случайности?
— Бывают, оберштумбаннфюрер.
— Вот-вот, — обрадовался Грейфе. — Может, стоит еще разок его проверить?
— Это несложно совсем, оберштурмбаннфюрер.
— И я так думаю. Тем более что, по другим данным, он подходит нам очень. Так как, оставим? — интригующе взглянул на штурмбаннфюрера Грейфе.
— И еще одного возьмем, — неожиданно предложил Скорцени и добавил: — А тренировать будем порознь. Политова отдельно. Тех двоих — отдельно. Но я почти уверен в том, что в Политове мы не ошибаемся.
Глава 20
Круклиса не было, и Доронин доложил о результатах командировки генералу Ефремову. Генерал был в курсе дел и выслушал Доронина со вниманием. Заодно подробно расспросил о Ленинграде. До войны он работал там и теперь живо интересовался всем, что касалось города на Неве. Поэтому его прямо-таки растрогал рассказ Доронина о том живом участии и непременном желании ленинградцев хоть чем-нибудь помочь им в их работе.
— Это удивительные люди. Я всю жизнь буду гордиться тем, что мне довелось трудиться среди них, — сказал Ефремов. — А эта вот их черта помочь бескорыстно другому, проявить к нему внимание, чуткость, разделить с ним его заботы — она у них точно в крови. И никакие тяготы, никакие собственные страдания в них это не изменят и не убьют. Да… Шидлер-Баранова, Владимир Иванович, вызывает очень большой интерес. Мы тут без вас беседовали с Яном Францевичем и пришли к выводу, независимо от того, как будет восстанавливаться цепочка с ее прошлым, надо уже сейчас думать и думать о том, как напасть на ее след сегодня. И не только об этом. Мы должны точно знать, кто приходил к ней в квартиру в ее отсутствие. Короче говоря, у нас должна быть полная ясность во всей этой истории с черным ходом.
— Мы не переставая работаем над этим, товарищ генерал, — ответил Доронин. — И уже приняли некоторые меры. Но результатов пока нет.
— Знаю. Ян Францевич докладывал мне. Но нас это устраивать не может. Думайте. Ищите. Неразгаданных тайн не бывает. Дело всегда лишь во времени. Но я потому об этом вам и говорю, что в данном случае оно не терпит ни малейших отлагательств, — подчеркнул Ефремов. — Поэтому не надо ждать возвращения Яна Францевича. Он может задержаться. Действуйте самостоятельно и смелее. Поиск Шидлер-Барановой советую продолжать лично вам, поскольку вы стоите у истоков этого расследования — вот и доведите его до конца. Проясните все неизвестные нам периоды ее биографии. Людей нацельте на новые задачи, — приказал Ефремов.
Доронин, выйдя из кабинета генерала, пока шел в отдел, не переставая думал: «Легко сказать “Смелее”! А против кого ее направлять, эту смелость? Рванешь — да не туда. И еще время потеряешь. И ведь действительно, как назло, получилось, просмотрели, а теперь ищи ветра в поле…»
Но приказ генерала надо было выполнять, и Доронин собрал всех, кто был в отделе, на совещание. Оно было недолгим. Людей собралось маловато. Большинство сотрудников находилось в командировках. Да и доклады тех, кто уже занимался этим делом, тоже оказались малоутешительными. Когда Доронин только что докладывал генералу Ефремову о том, что некоторые меры уже приняты, он имел в виду следующее. Довольно длительный период в черте города, а также в зоне пригородов столицы не засекалась ни одна неизвестная работающая радиостанция. И вдруг за короткий промежуток времени, кто-то отстучал в эфир с небольшим промежутком из разных мест сразу две радиограммы. Их, естественно, запеленговали. Тщательнейшим образом прочесали оба района, из которых велись передачи. Но никого и ничего не нашли. Установили лишь, что в обоих случаях передатчики развертывались для работы в лесу. Радиограммы передавались ключом, азбукой Морзе. Обе были приняты радистами контрразведки. Но расшифровать ни одну до сих пор не удалось. Но, пожалуй, самым важным и интересным оказалось то, что удалось установить уже после второй пеленгации. А именно: зафиксировали, что вторая передача состоялась на следующий день после взлома неизвестным черного хода в квартире Барановой. Полковник Круклис приказал проверить, нет ли какой-нибудь связи по времени между ограблением квартиры и первой передачей. Проанализировали. Сопоставили известные факты и пришли к выводу, что такая связь есть. Во всяком случае, к этому выводу совершенно объективно подводили следующие цифры: квартиру ограбили шестнадцатого сентября. Известно стало об этом восемнадцатого. В тот же день арестовали парня и опечатали входную дверь. А уже девятнадцатого сентября неизвестному адресату полетела первая радиограмма.
Сопоставив эти данные, полковник Круклис еще тогда сказал:
— Не сомневаюсь, что радиограммы передал один и тот же человек. Из разных мест? А вы бы хотели, чтобы он сидел под одной и той же елкой и ждал вас? Нет, дорогие друзья, этого вы не дождетесь.
Потом он заставил каждого придумать свою версию: что же могло быть в первой радиограмме? Почему корреспондент вынужден был дать вторую и что сообщил адресату в ней? И уже тогда предпринял ряд конкретных мер по розыску неизвестного радиста и его техники. Об этих-то мерах и упомянул сейчас на докладе Ефремову Доронин. Но как было сказано, результатов эти меры пока что не дали…
Уже во время совещания позвонил из Киева Петренко. Слышимость была плохой, в трубке что-то трещало, шумело. Но Доронин тем не менее уловил явно пониженный тон в голосе майора.
— Полная неудача, Владимир Иванович. Не нашел ничего даже похожего, — доложил Петренко.
— Ну зачем так мрачно, Леонид Сергеевич? — попытался подбодрить майора Доронин. — В данном случае этот отрицательный результат дает богатую пищу для размышлений.
— Только-то. А делать что? — спросил Петренко.
— Если уверен в том, что дальнейшие поиски никаких положительных результатов не дадут, возвращайся. Будем обмозговывать то, что удалось установить.
— Я перерыл все, — исчерпывающе ответил Петренко.
— Тогда ждем тебя здесь, — также коротко ответил Доронин. В том, что упорный и старательный Петренко просмотрел все, что только можно было просмотреть, Доронин не сомневался ни на йоту.
Обсудили и эту неожиданно возникшую ситуацию. Мнение сотрудников отдела разделилось. Одни неудачу Петренко объясняли недостаточностью архивных документов. Много ли их могло уцелеть после хозяйничания немцев? Другие, и в том числе Доронин, были склонны видеть ее в преднамеренных действиях Шидлер, умышленно указавшей когда-то неправильными дату и место своего рождения. Это, естественно, также породило несколько версий. Но разбираться в них сейчас не стали. Надо было еще кое-что уточнить. Совещание закончили, и Доронин выехал в Лефортово, в Военно-исторический архив. Надо было непременно найти ответ на вопрос: что же собой представлял и кем был до революции муж Шидлер — С. Г. Судзиловский.
Однако уже разговор с дежурным охранником в вестибюле старинного здания, в котором размещался архив, разочаровал Доронина.
— Так ведь эвакуировано почти все, товарищ подполковник. И сотрудников осталось кот наплакал. Мужчины, кто работал, почти все в армии. А женщины вместе со всеми делами в Саратове, — объяснил Доронину словоохотливый седоусый страж с пустой кобурой на поясе.
— А все же кое-кто, говорите, остался? — ухватился за это сообщение, как за спасительную соломинку, Доронин.
— А как же? И работают, — заверил охранник.
Так все и оказалось. И остались люди толковые. И та сотрудница, которая занялась вопросом Доронина, быстро разобралась в сути дела.
— Но вы хоть приблизительно знаете, где этот Судзиловский служил? — спросила она.
Доронин достал данные, взятые из справки, удостоверявшей личность Судзиловского С.Г.
— К сожалению, это все, чем мы располагаем, — признался он. — И я отлично понимаю, что этого крайне мало. Но я могу высказать некоторые соображения по поводу его службы…
— Давайте, — согласилась сотрудница. — Пусть будет хотя бы это.
— Почему-то думается, что подполковник проходил службу перед самой революцией в каком-нибудь высоком штабе. Возможно, был в Ставке, возможно, в Генеральном штабе или в штабе Главкома. Возможно, в Военном министерстве. Возможно, в штабе Петроградского округа. Данных нет, — извиняясь, улыбнулся Доронин. — Но почему-то, повторяю, упрямо хочется думать, что он вовсе не рядовой армейский офицер. Не окопник. И в Петрограде в восемнадцатом году очутился неслучайно.
— Ну, если это так, то еще есть кое-какие шансы напасть на его следы, — несколько обнадежила Доронина сотрудница. — А скажите, как скоро вам все это надо?
— Ответ старый: чем скорее, тем лучше.
— Я об этом спрашиваю, — уточнила сотрудница, — потому, что наша работа может вестись в двух направлениях: либо мы напишем в Саратов письмо и этого офицера будут искать наши сотрудники, либо в Саратов поедете вы и сами проведете весь поиск. Не сомневаюсь, что во втором случае результаты, конечно, будут достигнуты скорее.
Доронин задумался.
— А те данные, которые на этого офицера у вас есть, они не нуждаются в дополнительной проверке? — снова спросила сотрудница.
— Так ведь одно с другим практически не связано, — ответил Доронин.
— Конечно, если от восемнадцатого года идти к самому началу века, — согласилась сотрудница. — А может быть, такого офицера не было вообще? В те годы ой как многие прятались за вымышленными или чужими именами и фамилиями.
— Что же вы предлагаете?
— Для начала установить подлинность тех данных, которыми вы уже располагаете. А для этого вам надо сделать запрос или лучше самому побывать в Центральном государственном архиве Красной армии.
— Была такая мысль, — признался Доронин. — Но, если честно говорить, данным справки я поверил.
— Так ведь я вас и не разуверяю. Просто советую все хорошенько проверить. Только боюсь, что ЦГАКА тоже эвакуирован, — предусмотрительно предупредила сотрудница.
— Да так, наверное, и есть, — согласился Доронин.
И так на самом деле оно и оказалось. Материалы архива были вывезены в четыре города: в Саратов, Молотов, Барнаул и Чкалов. Когда Доронин услышал об этом, ему показалось, что его соответственно тоже разрывают на четыре части. Он чуть не застонал: сколько же времени потребуется, чтобы побывать и тут и там и во всем досконально разобраться. Но по мере того как сотрудники архива подробнее изучили заявку Доронина, ситуация неожиданно изменилась в лучшую сторону. Стало ясно, что материалы, интересующие Доронина, эвакуированы тоже в Саратов, как и те, которые ему надо было найти в Военно-историческом архиве. В таком совпадении Доронин увидел что-то вроде предзнаменования самой судьбы и, получив разрешение Ефремова, уже на следующий день вылетел в Саратов.
Город на Волге жил в напряженном трудовом ритме. Хотя население его значительно возросло за счет эвакуированных и большого числа военных, праздношатающихся на улицах почти не было видно. Дымили заводские трубы. На запад и на восток через Волгу непрерывно шли эшелоны.
В городе осели сотни больших и малых организаций и учреждений. И найти, где размещались архивы, было бы не так просто. Но у Доронина имелись адреса, и это очень облегчило дело. И в тот и в другой архив из Москвы уже звонили. Там знали о Доронине и сделали все, чтобы его работа закончилась успешно. Но сам поиск, несмотря на это, оказался неимоверно трудным. Хотя им занимались многие специалисты, отыскать следы бывшего подполковника русской армии оказалось очень сложно. И все же через неделю кропотливейших изучений пожелтевших от времени списков, ведомостей, приказов, рапортов и докладных удалось прояснить то, что было очень нужно знать Доронину. Но и на сей раз решить задачу полностью не удалось. Нить расследования потянулась за пределы Саратова и повела Доронина в Сызрань, в архив областного суда. И только здесь, спустя еще неделю, весь финал биографии и деятельности С.Г. Судзиловского стал ясен окончательно. Это была бесспорная удача. Туманный силуэт Шидлер-Барановой сразу стал вырисовываться четче. И если во время последнего разговора с полковником Круклисом у Доронина еще возникали какие-то сомнения относительно причастности отца Шидлер к делу «Добровольческой армии Московского района», то теперь он только и думал о том, как бы поскорее окунуться в архивные дела Верховного суда, а заодно кое-что посмотреть и в архивах своего наркомата.
Круклис все еще задерживался в командировке. Петренко привез лишь предпосылки для разных версий. Никаких новых радиоперехватов не было. Доронин очень внимательно изучал дело «Добровольческой армии Московского района» и все больше изумлялся необыкновенной памяти и чутью своего начальника. Круклис как в воду глядел, когда направлял его к материалам расследования и суда над группой заклятых врагов советской власти — деникинцев. Именно в этих материалах Доронин нашел то, что позволило ему окончательно, а главное, правильно сформировать свое мнение о Шидлер-Барановой. Но и теперь вопросов оставалось еще достаточно много. Неясным, например, по-прежнему было, когда и как она стала Барановой? Очередной раз вышла замуж? А куда делся этот ее муж, если с тридцать пятого года она живет одна? Да и кто он был? А возможно, и сейчас еще есть? Вопросам не было конца. Но для того чтобы прояснить их, Доронину пришлось снова экстренно отправить в Ленинград сотрудника.
— Разберись во всем с этим Барановым. Первым делом узнай, был ли вообще такой? — напутствовал Доронин Медведева.
— Но хоть с чего начать-то, Владимир Иванович? Ни имени не знаем, ни отчества. А фамилия такая распространенная, — взмолился Медведев.
Доронин в ответ только развел руками.
— Придумывай. Там на месте будет видней. В Москву из Ленинграда или из Пушкина она с этой фамилией приехала. Значит, там и надо искать. А уж как?.. Думай сам, — ничего не смог подсказать Доронин. И добавил: — Зацепись хоть за что-нибудь и звони. Дальше вместе будем раскручивать.
Глава 21
Грейфе всегда ждал неприятностей по службе. Да и как их было не ждать, если они сыпались на него со всех сторон, словно из рога изобилия. Практически не проходило двух-трех дней, чтобы кто-нибудь из начальства за что-то не выговаривал ему, не предупреждал, а то и просто не угрожал. Почему-то получалось так, что именно он, Грейфе, виноват во всех провалах. А они, как назло, в последнее время следовали один за другим. Но ладно бы, если бы только ругали. К этому в конце концов можно и привыкнуть. Так нет, после каждого провала, после каждой неудавшейся акции требовали придумывать что-нибудь новое, еще неизвестное русским. Одной из таких придумок было использование в качестве диверсантов детей и подростков. Расчет был на доверчивость и любовь русских к подрастающему поколению. Думалось, кому придет в голову подозревать в чем-то плохом мальчишек, удящих рыбу с моста? Да, конечно, никому. А мальчишки между тем возьмут да и заложат под опору фугас с часовым механизмом. Эту придумку отдела начальство приняло и одобрило с большим удовлетворением. И сразу же было приказано приступать к ее реализации. Начался подбор детей и подростков. В Гемфурте, недалеко от города Касселя, была создана специальная детская диверсионная школа. В нее стали поступать дети из концлагерей, из оккупированных советских городов и деревень. Их обучали, перевоспитывали, просвещали, влюбляли в Германию, в новый порядок. Лаской, лестью, обманом, клеветой отучали ото всего советского. И, добившись определенных результатов, забрасывали в тыл Красной армии. А дальше все летело к чертям собачьим. Дети, эти русские волчата, едва опустившись на родную землю, тут же со всем оружием и снаряжением являлись к советским властям или в ближайшие воинские подразделения. Грейфе уже не раз крепко попадало и за это. Тогда он предложил значительно повысить требовательность к отбору детей для школы. Брать в нее не только здоровых и крепких, но в первую очередь таких, чьи родители были заклятыми врагами советской власти. И еще у него были продуманы кое-какие предложения, которые он пока что не торопился высказывать. Конечно, попадало не только ему и его отделу. Грейфе знал, что доставалось и хваленому абверу. Нередко взбучки перепадали и самому «кляйн адмиралу». Но Грейфе-то от этого было не легче…
Однако это были неприятности, так сказать, по делу. Но случались и иные, когда он абсолютно ни в чем не был виноват и когда начальство вдруг устраивало ему разнос просто потому, что давно уже его не ругало. Такие неприятности Грейфе обычно предчувствовал, ясно ощущая время от времени, что ему не то чтобы чего-то не хватает, но вроде как недостает чего-то привычного. Сегодня, когда его везли на работу, он испытывал именно такое ощущение. И, как всегда в таких случаях, предчувствие его не обмануло. Едва он переступил порог своей приемной, Эгерт немедленно доложил:
— Вами интересовался начальник управления.
— Давно? — сразу обеспокоился Грейфе тем, что пришел позднее бригаденфюрера.
— Минут десять назад.
— Да, но еще время не вышло, — взглянув на часы, оправдываясь, пробормотал Грейфе. — А по какому вопросу? Не предупредил?
— Нет. Просто спросил, где вы. Я ответил, что скоро будете, — доложил Эгерт.
— Правильно, — одобрил Грейфе. — Шифровки были?
— У вас на столе.
— Хорошо. Узнайте, кто у бригаденфюрера, — приказал Грейфе, скрываясь за дверью кабинета.
Не присаживаясь за стол, он раскрыл папку с донесениями, подготовленными отделом спецсвязи. Это была обычная рабочая почта, которую он читал каждый день по нескольку раз. Ничего особо заслуживающего внимания в ней сегодня не было. Но одно донесение заставило Грейфе кисло поморщиться. Это было запоздалое подтверждение резидента в Иране о ликвидации группы диверсантов, заброшенной в Каракумы еще в июне. Связь с группой оборвалась почти сразу после того, как от диверсантов было получено первое сообщение о прибытии на место. Потом было еще два сообщения о том, что группа приступила к выполнению задания. Но Грейфе почему-то в них усомнился. Резидент немецкой разведки в Иране получил задание проверить, а потом и перепроверить эти сообщения диверсантов. И вот окончательный ответ. Группа ликвидирована советской контрразведкой…
Грейфе подумал, что, очевидно, Шелленберг вызывает его совсем не по этому поводу. Что его наверняка беспокоит какой-нибудь другой вопрос. Но на всякий случай все же решил прихватить с собой и шифровки.
— Бригаденфюрер ждет вас, — переступая порог кабинета, доложил Эгерт.
Грейфе сунул папку под мышку и отправился к Шелленбергу.
Начальник управления был в хорошем настроении. Он даже ухмылялся. Но это могла быть фальшивая ухмылка. Грейфе видел такие не раз, видел, как они вдруг безо всяких причин сходили с лица и оно тут же принимало суровое, почти каменное выражение. Поэтому ухмылке бригаденфюрера он не придал никакого значения. А Шелленберг, сложив руки на груди и оглядев начальника восточного отдела с головы до ног, задал ему довольно неожиданный вопрос:
— Ну-с, Грейфе, что-то вы давненько ничего не докладывали мне, как идет подготовка к акции, которую от нас ждет сам фюрер?
«Вот что ему понадобилось знать, — сразу отлегло у Грейфе от сердца. — Я-то докладывал. Да вы-то не больно желали слушать. А теперь, значит, потребовалось…»
— Обергруппенфюрер абсолютно в курсе всех дел, бригаденфюрер, — посчитал он необходимым доложить в первую очередь. — Он вызывает меня…
— Знаю, Грейфе. Все знаю, — перебил его Шелленберг. — И мне все известно о том, что уже сделано. Но ведь сделано-то ничтожно мало!
«Такого даже обергруппенфюрер не говорил», — подумал Грейфе. И согласился:
— Мало, бригаденфюрер. Хотя все идет по плану…
— Ох, эти планы, Грейфе! — вздохнул Шелленберг. — Мы сами их составляем! Сами утверждаем! И сами проваливаем! Так?
— Бывает, что и так, — снова согласился Грейфе, все еще не понимая, почему Шелленберг заинтересовался вдруг делом, когда оно не только еще далеко до завершения, но и находится в явно невыигрышном состоянии.
— А почему? — продолжал Шелленберг.
— Причины всегда находятся, бригаденфюрер. И не всегда все зависит от нас, — стараясь избегать конкретности, ответил Грейфе.
Но именно на конкретность-то, как выяснилось далее, и нацеливался начальник управления. Потому что в следующий момент обратился уже непосредственно к ней:
— Это так, Грейфе, если говорить вообще. А вот почему почти на месте топчется подготовка? Не задумывались? — сделал он небольшую паузу. — Ну, так я вам отвечу на этот вопрос. Потому что вы работаете без должного размаха. Кто вам помогает?
— Штурмбаннфюрер Скорцени и штурмбаннфюрер Вольф, — ответил Грейфе.
— Это какой Вольф? Который работает у Мюллера?
— Так точно, бригаденфюрер. Начальник отдела IVB2.
— Вот так, два человека. А фактически вы все пытаетесь делать сами, Грейфе, — констатировал Шелленберг. — Мотаетесь туда, мотаетесь сюда. А дело еле движется вперед. Я прав?
— Вы, как всегда, правы, бригаденфюрер, — покорно согласился Грейфе.
— Меня спросил о том, как идет подготовка, рейхсфюрер, — доверительно сообщил Шелленберг. — Я, конечно, не стал подводить нашего шефа. Да и вас тоже. Заверил рейхсфюрера, что все идет так, как надо. Но ведь мне-то известно, что такими темпами мы просто сорвем всю операцию. Вы получили сообщение о том, что подготовленные для нас в Москве фотографии исчезли. А что предприняли после этого? Ничего! Где машины, точно такие же, на каких ездят советские руководители? Их нет. И вы даже еще не пытались их найти! А вы знаете, что их родина за океаном? И что сейчас не так-то просто будет оттуда их вывезти? Где собираетесь вы устроить явку исполнителю акции в Москве? Вы думали об этом?
Грейфе молчал. Шелленбергу надо было дать выговориться. Кроме того, следовало продумать, что ему ответить. Ничего неожиданного он не сказал. И все, что он перечислил и упомянул, было уже продумано у Грейфе. Но сделано пока что действительно ничего не было. До этого просто еще руки не дошли.
— Еще назвать ряд вопросов, которые не решаются до сих пор? — спросил Шелленберг.
— Благодарю вас, бригаденфюрер, за помощь, — слегка поклонился Грейфе. — Вам, конечно, видней, что выполнять в первую, а что во вторую очередь. Мы сейчас же начнем выполнять ваши указания.
— Я не сомневаюсь в этом, Грейфе. Но будьте расторопней. Проявляйте больше энергии. Пусть дело не стоит ни днем ни ночью. И не мне вас учить, Грейфе, перестаньте заниматься самодеятельностью. Планы — одно. А точный график — другое. Так вот, составьте точный график выполнения всех пунктов подготовки и дайте его утвердить шефу. И вы сразу почувствуете, какое это будет могучее подспорье в ваших руках. Вы поняли меня?
— Все понял. И еще раз благодарю вас, бригаденфюрер, за внимание и науку, — снова почтительно склонился Грейфе.
— Благодарить не стоит, — ответил Шелленберг и добавил такое, о чем Грейфе думал потом не переставая весь день: — Вы должны понимать, Грейфе, что сегодня рейхсфюрер остался доволен моим докладом. А завтра он уже может его не удовлетворить. И тогда… вы подумайте об этом, Грейфе, хорошенько…
— И это понял, бригаденфюрер, — ответил Грейфе.
— Вы пришли с папкой. Что у вас еще? — спросил Шелленберг.
— Сообщение от резидента из Ирана, бригаденфюрер.
— Знаю. Мне уже докладывали. Не задумывались, в чем причина провала?
— Могу только предполагать, бригаденфюрер. Думаю, сказалось, как всегда, неумение точно определить свое взаимоотношение с местным населением. Либо не сумели достаточно надежно изолироваться от него, либо не смогли наладить должный контакт.
— Скверно и то и другое. А всего хуже то, что мы не успеваем как следует учить их ни тому ни другому, — признался Шелленберг. — Как будете исправлять положение там, за Каспием?
— Подготовим и забросим новую группу. На сей раз, предварительно опять же через резидентуру в Иране, постараемся подготовить им встречу с людьми из местных, поддерживающих нас, — ответил Грейфе.
— Хорошо. Готовьте. А что с детской школой в Гемфурте? У вас были насчет нее какие-то соображения? — напомнил Шелленберг.
— Разрешите, бригаденфюрер, я их доложу, — с готовностью ответил Грейфе.
Шелленберг одобрительно кивнул.
— Мне представляется, бригаденфюрер, что эту школу надо вывезти с территории рейха, — категорически заявил Грейфе.
— Вот как? — вопросительно взглянул на него Шелленберг. — Почему?
— Потому что здесь, на своей земле, мы никогда не сумеем по-настоящему привить подросткам, которых мы воспитываем как детей великой Германии, ненависть к своим бывшим соотечественникам и другим врагам рейха. А без этого они никогда не будут выполнять те задачи, которые мы возлагаем на них, — ответил Грейфе.
Шелленберг прошелся по кабинету, взглянул на Грейфе уже с любопытством и одобрительно кивнул:
— Интересно, Грейфе. Ну-ну, продолжайте!
— Сколько мы ни будем, бригаденфюрер, воспитывать их в нужном нам направлении лишь словами, мы никогда не добьемся должного результата. Но стоит нам поместить их во враждебную им среду, я имею в виду перевести школу в Чехословакию, в Польшу или даже в Белоруссию, и они сразу почувствуют себя маленькими хозяевами над всеми этими недочеловеками. У них появится желание повелевать, всегда и во всем доказывать свое бесспорное превосходство. Это вызовет со стороны населения обратную реакцию. Возможно, где-то раз-другой это примет характер открытой вражды. Она еще сильнее укрепит в сознании наших молодых помощников, что ничего общего нет и не может быть между ними и всеми теми врагами рейха, и нужные нам качества появятся у них сами собой. Я уверен, что перевод школы на Восток окажет самое благоприятное воздействие на ее воспитанников, — закончил свою мысль Грейфе.
И опять Шелленберг ответил не сразу. Но мысль начальника восточного отдела, очевидно, пришлась ему по душе. Что-то вроде улыбки снова появилось у него на губах. Он ходил по кабинету и о чем-то думал.
— Что же, Грейфе, — сказал он наконец. — Вы совершенно правильно поняли то, что я внушаю вам постоянно, и предложили, как мне кажется, вполне разумную реализацию этих мыслей. Я доложу шефу о целесообразности перевода школы в одну из оккупированных нами областей. А вы продолжайте подготовку к акции, Грейфе. Усиленно продолжайте.
— Я сделаю все, что только можно сделать, бригаденфюрер, — ответил Грейфе.
Из кабинета начальника он вышел тем не менее смятенный и озабоченный тем, чем закончил Шелленберг обсуждение первого вопроса. Бригаденфюрер совершенно ясно его предупредил. Но почему? Ведь, в общем-то, все идет своим чередом? А если что получается и не совсем так, так разве это из-за него, из-за Грейфе? А были ведь и еще какие-то недоговорки, намеки! Конечно, без них Шелленберг не мог обойтись никогда. И Грейфе еще предстояло во всем, что тут наговорил, хорошенько разобраться. Но вот одно заявление начальника Грейфе сразу принял за чистую монету. Это сообщение о том, что подготовкой дел интересуется Гиммлер. Иначе и быть не могло. Только наверняка Гиммлер не столько интересовался, сколько проверял через своего человека, так ли все обстоит на самом деле, как ему докладывает Кальтенбруннер. А уж как выяснить истинное положение дел, первого шпиона империи, по сравнению с которым Грейфе считал себя подготовишкой, учить было не надо. У него для этого было сто способов. На него работали тысячи людей, начиная от сотрудников управления AMT-VI[4] до соглядатаев и осведомителей во всех интересующих рейхсфюрера учреждениях и организациях не только внутри фатерлянда, но и за его пределами. Голова ото всего этого у Грейфе шла кругом. Но он, естественно, и виду не подал адъютанту, что расстроен. Наоборот, войдя в приемную, очень бодро приказал:
— Эгерт, вызовите ко мне начальника курсов «Ораниенбург» и этого русского, Политова. — И добавил, указав пальцем на пол приемной: — Сюда же!
Глава 22
Полковник Круклис был за линией фронта уже третий раз. Впервые его высадили в немецком тылу на Украине осенью сорок первого года. Выполнив задание, назад возвращался пешком. Фронт переходил в начале октября под Тулой. Спустя почти полтора года снова очутился во вражеском тылу, на этот раз в Белоруссии. Летал туда после того, как там по его заданию уже побывал Доронин и провел подготовительную работу по развалу формирований, создаваемых гитлеровскими спецслужбами в основном из насильно загнанных туда советских военнопленных. Летал, чтобы ликвидировать одно из таких формирований, именуемое «Русской дружиной». И третий раз ему пришлось за линией фронта даже встречать новый сорок четвертый год, но заниматься при этом уже совсем другим делом.
Необходимость вылета возникла совершенно неожиданно. Хотя она и была долгожданной, потому что у нее была своя предыстория. В конце июня сорок второго года в районе Старого Оскола нашим войскам добровольно сдался в плен капитан инженерно-технической службы Вальтер Шефнер. На первом же допросе в штабе полка, объясняя свой поступок, он заявил, что уже давно ненавидит и Гитлера, и национал-социализм, считает все их деяния преступными, что в вермахт он был загнан насильно, что до июня нес службу в тылу, на одном из военных предприятий, но как только попал на фронт, воспользовался первой же возможностью перейти на нашу сторону. В подтверждение того, что он не провокатор, Шефнер передал советским командирам карту участка фронта с нанесенными на нее позициями немецких частей и подразделений, огневых средств, инженернооборонительными сооружениями, пунктами управления и минными полями. Карту проверили. Все данные на ней оказались абсолютно точными. Этим немедленно воспользовались наши артиллеристы и обрушили на врага несколько мощных огневых ударов, нанеся ему весьма ощутимые потери. А Шефнера передали в вышестоящий штаб. В Особом отделе армии в это время находился Круклис. Он беседовал с Шефнером. И тогда-то у него возникла мысль не отправлять капитана в лагерь военнопленных, а вернуть за линию фронта к немцам, но уже в качестве советского разведчика. Круклис связался с Москвой и доложил о своем плане. Москва одобрила его. Круклис начал работать с Шефнером. Тот вначале наотрез отказался возвращаться к своим. Во-первых, он страшно боялся этого. А во-вторых, совершенно не представлял, как и что будет говорить своему начальству по поводу столь длительного отсутствия в полку. От Круклиса потребовались недюжинные способности, чтобы убедить Шефнера пойти на риск ради высшей цели — скорее покончить с Гитлером и его бандой. В конце концов ему это удалось. Капитан согласился сотрудничать с советской разведкой. Но при этом оговорил непременное условие — все контакты с советской стороной он будет поддерживать непосредственно только через самого Круклиса. Круклис и об этом поставил в известность свое руководство. И хотя работа эта была не по его профилю, руководство, учитывая заинтересованность в Шефнере, санкционировало Круклису ее продолжение. После этого Ян Францевич проинструктировал Шефнера, как, возвратившись за линию фронта, установить с ним связь. И в тот же день Шефнера вместе с группой других военнопленных, собранных с разных участков фронта, перевели в деревню, расположенную на направлении предполагаемого удара многократно превосходящих сил противника и вынужденного отхода наших войск. Предположение подтвердилось. Утром следующего дня после короткой мощной артиллерийской подготовки немцы атаковали наш передний край и незначительно потеснили наши войска. Деревня с пленными попала к ним в руки. С той поры о судьбе Шефнера никому и ничего не было известно. Он как в воду канул. И Круклис, подождав с полгода, начал уже подумывать о том, что его замысел, похоже, осуществить не удалось. Впрочем, такой вариант тоже предусматривался с самого начала. Но прошел еще почти целый год, и из отдела контрразведки Северо-Западного фронта в Наркомат на имя «триста тридцать третьего» поступило донесение. Именно так, для удобства запоминания, Круклис закодировал себя для Шефнера. Донесение было очень коротким. В нем сообщалось лишь то, что «четыреста сорок четвертый», а это был код самого Шефнера, вышел на связь с партизанским отрядом «Буревестник» и ждет указаний от «триста тридцать третьего».
Прочитав донесение, Круклис немедленно явился к Ефремову. В управлении был заведен порядок, согласно которому подчиненные, получив важное сообщение, сами, не дожидаясь вызова, спешили к начальству.
— Вот, товарищ генерал, — сказал Круклис, положив на стол перед Ефремовым шифровку. — Дело совершенно зря считали безнадежным.
— Знаю. Читал, — одобрительно кивнул Ефремов. — Что же ты думаешь по этому поводу, Ян Францевич?
— Думаю, что надо немедленно вылетать, товарищ генерал, — убежденно ответил Круклис. — Мы обещали тогда Шефнеру, что контакт с ним буду поддерживать я. Поэтому вылетать надо мне.
— И куда же ты полетишь?
— В отряд к партизанам…
Ефремов задумался.
— Сколько же он молчал, этот твой закодированный? — спросил он наконец.
— С конца июня сорок второго, товарищ генерал.
— За это время знаешь сколько всего могли успеть там, за линией фронта?
— Знаю.
— Так почему же сразу лететь? Почему, к примеру, не хочешь, хотя бы для начала, прощупать его, используя в обратном направлении тот же канал связи?
— Зря только время потеряем, товарищ генерал.
— Почему?
— Если это подтасовка, они будут выуживать нас до тех пор, пока мы или не закроем это дело, или не клюнем на их приманку.
— Но что-то все же мы сможем понять? Хотя бы почувствовать какую-то фальшь?
— Сможем.
— Разве это уже не начало разгадки?
— А если на связь вышел именно тот самый Шефнер? — вопросом на вопрос ответил Круклис.
— Предварительный зондаж все равно не повредит.
— Да. Но если у него подготовлено нечто чрезвычайно срочное? Очень важное? О чем он хочет сообщить только мне?
Ефремов, как показалось Круклису, нахмурился еще больше.
— Ты определенно намерен встретиться непосредственно с ним? — спросил он.
— Да, — четко ответил Круклис.
— А если это практически окажется совершенно невозможным?
— Пустым, Василий Петрович, я не вернусь. Поверьте мне, уж что-нибудь этакое, что наверняка избавит нас от лишней работы, я привезу.
— Кому работу поручишь здесь? — сдался Ефремов.
— Доронину. Его, кстати, для пользы дела давно уже пора выдвигать руководителем отдела. Работает очень старательно и квалифицированно, — заметил Круклис.
— Хорошо, выдвинем. Вот найдете Баранову, и выдвинем, — не стал возражать Ефремов. — А тебя очень прошу, Ян Францевич, понапрасну там не рискуй и долго не задерживайся. Отпускаю тебя только потому, что тогда обстановка заставила нас принять его условие. И потом, кроме тебя, там действительно быстро никто как следует во всем этом не разберется.
— Благодарю за доверие. Все будет хорошо, — заверил генерала Круклис и вылетел в штаб фронта. А оттуда и за линию фронта в партизанский отряд «Буревестник». Так он оказался в немецком тылу третий раз.
Командир партизанского отряда рассказал Круклису:
— Третьего дня, товарищ полковник, явилась ко мне наша связная из поселка, что неподалеку. Сообщила, что к ней пришла наша разведчица Зоя и велела передать буквально следующее: надо сообщить в Москву, «триста тридцать третьему», что «четыреста сорок четвертый» жив и здоров и ждет его указаний. Мы, конечно, кое-что уточнили и передали это в наш штаб…
— И очень правильно сделали, — довольно улыбнулся Круклис. — А что вы уточнили? И кто такая эта ваша Зоя?
— Зоя, товарищ полковник, наша разведчица. Работает официанткой в офицерской столовой на немецком испытательном полигоне, тут неподалеку. Очень надежная и проверенная девушка, — объяснил командир отряда. — Мы ей доверяем…
— А что же вам удалось уточнить еще?
— А то, товарищ полковник, что ей это передал главный инженер полигона майор Шефнер.
— Вот это очень важно, — одобрительно сказал Круклис и, взволнованный какими-то своими мыслями, из угла в угол прошелся по землянке. — С вашей связной у вас контакт постоянный?
— Постоянный, товарищ полковник, — ответил командир.
— А с этой Зоей она часто встречается?
— Сама связная на полигон не ходит, товарищ полковник. Он довольно сильно охраняется, и мы без особой нужды не рискуем ее туда посылать. Раза два в неделю Зоя сама приходит в поселок к матери. Вот тогда они и встречаются, — объяснил командир отряда.
— Ну что ж, и мы не будем нарушать заведенный порядок, — примирительно сказал Круклис. — А я могу встретиться с этой Зоей?
— Организуем, товарищ полковник.
— Пожалуйста, зовите меня Ян Францевич, — попросил Круклис. — Когда? Где?
— Мы подозреваем, что за Зоей следят, когда она бывает в поселке. А следить там есть кому. Поэтому в лагере у нас она не появляется. Но мы что-нибудь придумаем…
— А я могу прийти в поселок? — спросил Круклис.
— Рискованно, Ян Францевич. Там все друг друга знают. И каждое новое лицо непременно вызовет подозрение полицаев. Но вы не беспокойтесь. Мы что-нибудь придумаем, — заверил полковника командир отряда.
— Хорошо. Придумывайте. Навлекать лишние подозрения на вашу разведчицу не следует ни в коем случае. Вы правы. Но надо непременно ее предупредить, пусть она на встречу принесет мне фотографию Шефнера. И пусть он собственноручно напишет на этой фотографии то, что надо. А что надо — он должен знать, если это тот самый Шефнер, с которым однажды я уже встречался, — сказал Круклис.
Минут через десять он вышел из землянки. Над лесом низко плыли тяжелые, оливкового цвета тучи. Шел мелкий, колючий снег. Ветер качал голые ветки деревьев, они терлись друг о друга, заунывно поскрипывая. Смерзшаяся, как камень, земля давно уже была под снегом. И только под елями, под их густыми, повисшими над самой землей лапами, еще виднелись жухлые листья и сухая трава. Круклис прозяб еще во время полета. Немного согрелся в землянке. Но чувствовал, что его познабливает, и повыше поднял воротник полушубка. С того самого момента, как он прочитал шифровку Особого отдела фронта с донесением о «четыреста сорок четвертом», его ни на минуту не покидала мысль о Шефнере: тот ли это капитан, с которым он налаживал деловые отношения под Старым Осколом, или вступившее с ним — «триста тридцать третьим» — в игру какое-нибудь подставное лицо из абвера или СД? И если даже это тот же самый Вальтер Шефнер, то так ли он настроен антифашистски и сейчас, как тогда, в конце июня сорок второго года? Впрочем, вызывали раздумья и другие вопросы. Ведь тогда, в той очень напряженной обстановке, когда, в общем-то, судьба Старого Оскола была ясна (по крайней мере, в штабах армии и фронта), Круклис не имел совершенно никакой возможности хоть сколько-нибудь серьезно проверить Шефнера. И, самое главное, он не мог затягивать эту проверку. Задержи он его еще на два-три дня для выяснения всяких подробностей и деталей, и вернуть его немцам, не вызвав у них при этом самых серьезных подозрений, практически было бы совершенно невозможно. Надо было или решаться и возвращать Шефнера в его часть, поверив на слово в его неприязнь к нацизму, или отправлять его в наш тыл и уже там начинать склонять к работе на нас.
Единственным дрказательством искренности Шефнера была переданная им карта. И вот она-то подтолкнула Круклиса на риск. Правда, риск был небольшой. Ну, подумаешь, упустил одного немца. В конце концов не такой уж важной персоной был этот капитан. И хотя тем не менее Круклису потом не раз об этом вспоминали, сам Круклис не считал, что поступил тогда неправильно. Расчет расчетом, а риск риском. А без риска он не представлял себе свою работу.
Чтобы побыстрее разобраться во всем, полковник, как он любил это делать всегда, заранее выдвинул три версии, с которыми мог столкнуться в данной ситуации. Первая, это тот случай, когда Шефнер или тот, кто себя выдавал за него, никогда и не был антифашистом, а, наоборот, был матерым гитлеровцем и наглым разведчиком, инсценировавшим добровольный переход на нашу сторону для того, чтобы быстрее завоевать наше к себе доверие. Тогда выход его на связь следовало рассматривать как вторую попытку достичь той же цели — внедриться в нашу среду, а точнее, в органы контрразведки. За эту версию были определенные «за» и «против». Однако Круклис в подробностях их пока не разрабатывал.
Для него сейчас важнее было решить вопрос в целом.
Согласно второй версии Вальтер Шефнер вполне мог быть тем, за кого себя выдавал. Таких немцев, которые не приняли гитлеризм, но до поры до времени сами активно против него не выступали, было предостаточно. Круклис встречался с ними еще до войны и в самом ее начале. После Сталинградской битвы и особенно после разгрома на Курской дуге они, сдаваясь в плен одиночками и группами, охотно давали показания на допросах и искренне желали только того, чтобы скорее закончилась война и им предоставили возможность вернуться домой. О страшном горе, которое они принесли на нашу землю, они говорили потупившись, кляли за все Гитлера и его приспешников и всячески старались отмежеваться от кровавых дел фашизма.
Были на фронте, к сожалению, в очень ограниченном количестве, и настоящие, боевые антифашисты. Те, кому чудом повезло, удалось еще до войны укрыться от гестапо, избежать ареста и концлагерей и попасть на фронт. Такие не ждали, когда их возьмут в плен в очередном большом или маленьком «котле» или захватят в качестве «языка». Они сами искали малейшую возможность перейти на сторону Красной армии или, если стояли где-нибудь в тылу, на оккупированной территории, к партизанам, связаться с подпольщиками и вместе с ними с оружием в руках бороться с фашизмом. Капитан Шефнер, если он действительно говорил о себе правду, принадлежал, по мнению Круклиса, к категории антифашистов, занимавших срединное положение между первыми двумя группами. Гитлера он не любил. Националсоциализм, как таковой, — тоже. Но в бой со своими соотечественниками не рвался. И Круклису стоило немало усилий убедить его в том, что только активная борьба навсегда избавит Германию и ее народ от коричневой фашистской чумы.
Была выдвинута в порядке предварительной подготовки к возможной схватке и третья версия. Она предусматривала искренность Вальтера Шефнера. Да, он умеренный антифашист, согласился с тем, что с врагом надо бороться не столько на словах, сколько на деле, и дал согласие сотрудничать с советской разведкой. Но его возвращение в свою часть после краткого пребывания в плену произошло совсем не так, как это предполагалось. К своим Шефнер вернулся. Но там ему не поверили, и за него взялась контрразведка, а возможно, и гестапо. И тогда третья версия получала два возможных направления. Шефнер после долгих запирательств, а молчал он больше года, в конце концов сломался, рассказал всю правду и за совершенное преступление был приговорен к смерти. Но тут в дело вмешался абвер, забрал его к себе, под страхом приведения приговора в исполнение перевербовал на свою сторону и заставил выйти на связь с Москвой уже по своему заданию. В таком случае Круклису предстояло сейчас разоблачить Шефнера как представителя абвера, но ему, естественно, ничего не говорить и вступить с абвером в предлагаемую им игру. Но играть при этом со своим старым знакомым Шефнером. Либо, как это предусматривало второе направление третьей версии, после признания Шефнера его отправили в концлагерь или прямо на виселицу. А вместо него за «четыреста сорок четвертого» выдает себя сейчас совершенно другой человек, и Круклису придется иметь дело с этим подставным лицом.
Разобраться во всем этом стороннему человеку, никогда не видевшему Шефнера в глаза, не слышавшему его голоса, не знакомому с ним хотя бы даже в такой мере, как был знаком с ним Круклис, было бы очень и очень трудно. Но и Круклису работа тоже предстояла не из легких. Ведь тогда, в сорок втором, в той обстановке, в которой все это происходило, Шефнера даже не успели сфотографировать. Как назло, поблизости не оказалось ни одного фотокорреспондента. А среди смершевцев никто не умел снимать. Тогда-то и пришла Круклису мысль взять у капитана образец его почерка. Тогда же он придумал и то, что потом капитан должен будет написать на фотографии, чтобы удостоверить себя. Однако и фотография, и надпись, и сам текст, и расположение надписи вполне могли быть подлинными. А послать их мог совсем не Шефнер. И полковник, прикрывая воротником полушубка от порывов холодного ветра лицо, продумывал сейчас в деталях каждый свой шаг, каждый вопрос, который ему предстояло задать Шефнеру.
Он не помнил, сколько времени в раздумьях простоял под елкой возле землянки командира отряда. Понял только, что это длилось долго, когда коробка «Казбека» оказалась пустой. Тогда он вернулся в землянку. Здесь было очень тепло и пахло чем-то вкусным.
— А я уж хотел за вами посылать. Ужинать пора. Раздевайтесь, Ян Францевич, и присаживайтесь к столу. Сейчас подойдут замполит и начальник штаба, — приветливо пригласил Круклиса командир отряда.
— Продумать кое-что надо было. События могут закрутиться очень быстро. Тогда соображать будет поздно, — признался Круклис.
— Это конечно, — согласился командир отряда. — Но ведь вам, поди, Ян Францевич, не впервые такие загадки разгадывать…
— Да как вам сказать? — усмехнулся Круклис. — Случалось, конечно, видеть, как это другие делают. Послали к связной с заданием?
— Давно уже. Утром обязательно доложат. Да вы не беспокойтесь, Ян Францевич. Не через эту связную, так через другой канал передадим все, что надо, — заверил Круклиса командир.
— А у вас есть и дублер? — заинтересовался Круклис.
— Конечно, есть. Я просто еще не успел вам рассказать. Мы на этот полигон еще в прошлом году своего человека внедрили. Наш человек — Ермилов — служит у них там во вспомогательной охране. Даже уже в маленькое начальство выбился. Стал старшим над полицаями, — сообщил командир.
— Вот даже как? — еще больше заинтересовался Круклис. — Расскажите, расскажите. Кто он, этот Ермилов? Откуда?
— Местный. Жил неподалеку от поселка, работал на опытной станции. У него и сейчас там дом и мать живет. В армию не взяли. Болел он тогда сильно. С нами тоже не сумел связь установить. И начал с немцами в одиночку воевать. Сначала машину с каким-то имуществом поджег. Потом связь в нескольких местах нарушил. Мы, по правде говоря, думали, что это дело рук поселковых мальчишек. Приструнили их, потому как не нужно было тогда такой ерундой заниматься. А они клянутся, что знать ничего не знают. А тут вдруг в лесу двух убитых связистов нашли. Ну, естественно, немцы всполошились. Мы тоже. Начали уже за своими доглядывать и выследили Анику-воина. Он под мост за поселком самодельный заряд подложил. Тут мы его и взяли. Ну и все раскрылось. Вот тогда-то мы ему и сказали: или давай с нами объединяйся и делай то, что тебе прикажем, или мы сами тебя к рукам приберем, потому как вред немцам от тебя невелик, а нам ты здорово все карты путаешь. Он, понятно, артачиться не стал, вступил в отряд. Кстати, товарищ полковник, Ермилов не один такой. Постоянно кто-нибудь по собственной инициативе то тут, то там поднимается на врага и в одиночку, и группами. А Ермилову тогда мы сразу дали задание: изъявляй «желание» стать прислужником и постарайся пробраться на полигон. Потому как немцы тогда начали там что-то строить. А что? Для чего? Мы абсолютно ничего не знали. Ну и Ермилов, надо сказать, справился с этим заданием успешно, — доложил командир.
— Очень интересно, — внимательно выслушав командира, сказал Круклис. — Как же вы с ним поддерживаете связь?
— Придумали так, — объяснил командир отряда. — Ермилов устроил на полигон Зою. И объявил всем, что собирается на ней жениться. Полигонное начальство возражать не стало. А нам только того и надо было. Ермилов стал встречаться с Зоей в любое время. В поселок тоже ее провожает. К матери ее тоже, когда хочет, заходит. О том, что он к Зое сватается, знают все. А то, что он наш человек, в отряде известно всего пятерым. Ну и на всякий случай кому надо, в наш штаб мы тоже об этом сообщили. Одним словом, Ян Францевич, мы ваше задание непременно выполним, — еще раз заверил Круклиса командир.
Рассказ о Ермилове явно пришелся полковнику по сердцу. И в то же время он показал ему, какими серьезными возможностями располагают партизаны.
— А как, по-вашему, вышел на Зою «четыреста сорок четвертый»? — спросил он командира. — Почему именно на нее? Вам не показалось это странным?
— Этого мы не знаем, — признался командир. — С Зоей ни разу поговорить не удалось после того, как мы получили от нее донесение для вас.
— Интересно, однако, все это, — задумчиво проговорил Круклис. — Встретиться с ней надо будет непременно. Ну а где же ваши помощники?
— Сейчас-сейчас… Да вот они, — услыхав шум шагов за дверью землянки, ответил командир.
Действительно, вошли трое: замполит, начальник штаба и совсем молодой парень, начальник разведки отряда. В землянке сразу стало шумно и тесновато. И в то же время в ней будто рассеялась сумрачность, и она сразу заметно ожила..
Молодая партизанка, хлопотавшая у печки-времянки, подала на стол большую сковороду жареной картошки с грибами. Потом пили чай, заваренный на цветах, а потом по просьбе хозяев Круклис долго рассказывал о положении на фронтах, о настроениях на Большой земле, о том, как возвращаются в освобожденные от врага районы люди и сразу же начинается восстановление разрушенного врагом хозяйства.
Но Круклис не только рассказывал. Он знал, куда и к кому летит, и захватил с собой целую кипу последних московских газет и журналов. Партизаны, истосковавшиеся по свежей печати, как дети, с нескрываемым любопытством и интересом разглядывали газеты, журналы: «Огонек», «Крокодил» и слушали, слушали, стараясь запомнить каждое слово гостя из Москвы. Конечно, в отряде была радиостанция. И партизаны регулярно принимали сводки Информбюро и приказы Верховного главнокомандующего. Но этого явно было мало. А держать рацию под напряжением больше — жалели батареи.
Вдруг сядут! Тогда уже и вовсе ничего не услышишь и не узнаешь, поскольку новых батарей взять было негде.
А с Большой земли такой товар присылали не каждый раз.
Разошлись перед утром. Круклис уснул на нарах, укрывшись своим полушубком. Спал крепко. Но как только в землянку пришла повариха готовить завтрак, Круклис открыл глаза и сразу же вспомнил о посыльном, отправленном к связной. Спросить о нем было еще не у кого. Командир еще спал. Из деликатности Круклис не стал его будить. Да и спешить особенно было некуда. Но у партизан были свои порядки. И Круклис даже не успел выкурить папиросу, как у входа снова послышался стук обиваемых от снега сапог, дверь землянки бесцеремонно распахнулась, и вошла молодая женщина с листком бумаги в руке. Как сразу же выяснилось, это была радистка. Она принесла утреннюю сводку Совинформбюро о положении на фронтах и сразу же намеревалась вручить ее командиру. Но, увидев незнакомого мужчину, о прибытии в отряд которого она, конечно, знала, остановилась в нерешительности.
— Да вы не обращайте на меня внимания, — добродушно проговорил Круклис. — Действуйте, как тут у вас заведено.
— А у нас так, как сводку приняла, сразу ее командиру несу, — ответила радистка.
— Вот и докладывайте, — поднялся с сенной подстилки Круклис.
Но командир, услышав их разговор, уже проснулся. И сразу же встал с нар.
— Сводка? — осведомился он. — Положи на стол. — А больше ничего?
— Еще запрос из нашего штаба: справляются, как добрался товарищ? — взглянув на гостя, ответила радистка.
— Передайте, что добрался великолепно, — ответил Круклис.
Радистка ушла. А в землянке уже появился начальник штаба. День начался…
Скоро Круклис уже был в курсе всех дел отряда.
В землянку заходили командиры и докладывали о выполнении заданий, о своих делах, обращались с просьбами. Около двенадцати появилась девушка, почти подросток.
— Я пришла, товарищ командир, — доложила она.
— Ты-то нам и нужна, — обрадовался командир. — Что так долго пропадала?
— А Верки дома не было. Она еще с вечера к тетке уходила, да там у нее и осталась ночевать. Только утром пришла, — объяснила юная партизанка.
— Она с нашим заданием ходила? — с любопытством оглядывая посыльную, спросил Круклис.
— Она, Ян Францевич. Она у нас молодец. Как мышь — везде проберется. Все услышит, все увидит, — похвалил посыльную командир.
— Комсомолка? — спросил Круклис.
— В отряде принимали.
— Так о чем же вы договорились с Верой? — обращаясь уже к посыльной, спросил Круклис.
— Я все передала, как велели. И насчет фотографии. И чтобы подписал, как надо. А вот когда Зоя в поселок придет — неизвестно. На полигон какое-то начальство приехало, и оттуда никого не выпускают, — сообщила посыльная.
— Вот вам и пожалуйста, что значит односторонняя связь, — невольно заметил Круклис.
Командир отряда досадливо вздохнул:
— К сожалению, не все зависит от нас. Можно только надеяться, что это ненадолго, — высказал он свое предположение.
Но командировка неожиданно затянулась. Круклису пришлось неделю сидеть вообще без дела. А через неделю в отряд пришел из поселка старик и потребовал, чтобы его «допустили до командира». Старика в отряде знали. Он уже не раз выполнял поручения своей внучки Веры. Старика привели в командирскую землянку. Он снял с правой ноги сапог, отогнул голенище, вытащил из-под наряда старый конверт и передал его командиру.
— Вот, Верка велела отдать, — сказал он с чувством исполненного долга.
А тот, повертев конверт в руках, протянул его Круклису.
— Уверен, что это вам, Ян Францевич, — сказал он.
Круклис решительно вскрыл конверт и достал из него фотографию. На ней был изображен худощавый мужчина лет сорока в офицерской форме со знаками различия капитана. Волосы у него на голове были гладко зачесаны назад. Уши слегка оттопырены. Глаза приятной округлости. Нос прямой, с небольшой горбинкой. Круклис долго и пристально разглядывал фотографию, прежде чем посмотреть на ее обратную сторону. Но наконец перевернул ее. В левом верхнем углу что-то было написано мелким готическим шрифтом. Круклис блестяще знал немецкий язык и без труда прочитал: «Дорогому Францу любящий тебя Вальтер». Число и дата: «24 июня 1942 года».
— Ну что, Ян Францевич? — не выдержав, спросил командир.
— Все точно. Это он, — ответил Круклис и вернул фотографию командиру. — Запомните хорошенько. Впоследствии непременно пригодится.
— Да, но теперь он уже майор, — заметил командир.
— Все правильно. Так было условлено: подписать именно ту фотографию, которая была тогда при нем. И дата стоит под подписью та, когда он перешел к нам под Старым Осколом.
— Выходит, вы не ошиблись…
— Не знаю, — в раздумье ответил Круклис. — Меня сейчас больше всего интересует, как и почему он вышел именно на Зою? Делайте что хотите, товарищ командир отряда, но я непременно должен встретиться с ней.
— Сделаем, Ян Францевич, — твердо заверил командир.
Глава 23
Эгерт отличался исключительным умением оперативно выполнять все приказания своего начальника. Не прошло и часа после того, как Грейфе вернулся от бригаденфюрера, а Политов уже появился у него в приемной. Эгерт сразу же доложил о нем Грейфе.
— Давайте сначала начальника курсов, — хмуро буркнул Грейфе.
— Уже выехал, — ответил Эгерт.
— Вот и давайте, — повторил Грейфе и протянул Эгерту лист бумаги. — Отнесите это в спецчасть, пусть зашифруют и немедленно отправят за подписью бригаденфюрера нашему резиденту в Нью-Йорк.
— Слушаюсь, — ответил Эгерт и хотел было уйти.
— Постойте, — остановил его Грейфе. — Свяжитесь с полицай-президиумом, пусть наведут справки: есть ли в Берлине или вообще на территории рейха американские машины марки «кадиллак» и «паккард». Если нет у нас, пусть найдут у соседей. Короче говоря, пара таких машин, крайний срок через неделю, должна быть здесь, в Берлине. Что с ними делать дальше — скажу потом. И не слезайте с этих полицейских, пока они не сделают все, как надо, до конца. Иначе, я их знаю, заноют: война, трудности. Можно подумать, что у других этих трудностей нет, — ворчал Грейфе.
— Понял, оберштурмбаннфюрер, — ответил Эгерт и поспешил к шифровальщикам.
Прошло еще с полчаса, и в приемную начальника восточного отдела ввалился тучный, громкоголосый, с массивным, выскобленным до синевы подбородком гауптштурмфюрер Краузе.
Но тут он разговаривал вполтона. И даже сразу начал оправдываться:
— Я чувствую, что задержался, но… совершенно невозможно проехать после вчерашней бомбежки…
— Нам все известно. Проходите, — открыл перед Краузе наружную дверь тамбура Эгерт.
Начальник «Ораниенбурга» прошел в кабинет. Грейфе встретил его тяжелым взглядом уставшего человека.
— Послушайте, Краузе, бригаденфюрер просил меня передать вам его приказ, — начал он безо всякого предисловия. — Вы видели там в приемной человека?
— Так точно, оберштурмбаннфюрер. Там сидит человек в гражданской одежде, — ответил Краузе.
— Так вот, вам следует принять его на курсы и в ускоренном темпе пройти с ним все, чему вы учите своих курсантов.
— Слушаюсь, оберштурмбаннфюрер.
— А начать надо с того, Краузе, что дать ему опробовать на живых мишенях пули Баумкёттера, — продолжал Грейфе. — И не спускайте с него глаз. Хорошенько проследите, как он будет на все это реагировать. Вы должны не только обучать его, но и постоянно испытывать, на что он способен.
— Понял, оберштурмбаннфюрер.
— Ни вам, ни вашим инструкторам не следует пытаться узнать, кто он, откуда и для чего готовится. Все, что вам нужно о нем знать, я скажу. Он русский. Его фамилия Политов. Немецкого языка почти не знает. Поэтому приставьте к нему переводчика, который будет постоянно наблюдать за ним. Обучение проводите индивидуальное. Старайтесь с другими курсантами в контакты не вводить. Кормить его следует хорошо, обращаться с ним — вежливо и тренировать, тренировать, тренировать. Все, чему учат на ваших курсах, он обязан уметь делать с закрытыми глазами. На его обучение не жалеть никаких средств. Приставить к нему самых опытных и умелых инструкторов, — штурмбаннфюрер Скорцени и я будем принимать у него зачет, когда придет время. И боже вас упаси, Краузе, если этот ваш ученик на чем-нибудь споткнется, — сердито предупредил Грейфе. — Вам все понятно?
— Абсолютно все, оберштурмбаннфюрер, — выпалил Краузе.
— Тогда я сейчас представлю его вам, — сказал Грейфе и нажал кнопку звонка. В дверях незамедлительно появился Эгерт.
— Давайте, Эгерт, сюда господина Политова, — приказал Грейфе.
В кабинет вошел Политов и вскинул руку.
— Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — ответили Грейфе и Краузе.
Грейфе подошел к Политову и покровительственно похлопал его по плечу.
— Пришло время, господин Политов, вам садиться за парту, — почти дружески проговорил Грейфе. — Вот ваш новый начальник, гауптштурмфюрер Краузе. Отныне вы будете находиться в полном его распоряжении. Гауптштурмфюрер получил все необходимые указания о вашей подготовке. Он очень опытный специалист своего дела. Так что вся ваша учеба и вся последующая деятельность будет теперь зависеть только от вашего прилежания, господин Политов. И мне хочется думать, что вы не ударите лицом в грязь.
— Я буду стараться изо всех сил, герр оберштурмбаннфюрер! Я не пожалею ничего, чтобы оправдать ваше доверие, — поклялся Политов.
— Хорошо, господин Политов. Так и условимся. А теперь желаю вам всяческих успехов и передаю вас господину Краузе, — сказал Грейфе и обернулся к начальнику курсов. — Забирайте вашего нового подопечного и не теряйте времени.
Краузе и Политов, отдав приветствие, вышли. Через несколько минут черный «опель-капитан» уже мчал их по улицам Берлина.
А когда оба очутились в кабинете Краузе, Политову показалось, что эсэсовец начнет о чем-нибудь его расспрашивать, и очень волновался из-за того, что вряд ли сумеет его правильно понять. Но Краузе с разговором не спешил. Он закурил и молча внимательно разглядывал подопечного самого начальника VI управления, которого ему передал из рук в руки сам оберштурмбаннфюрер. Политову было неприятно такое бесцеремонное внимание к собственной персоне, и он старался не встречаться с гауптштурмфюрером взглядом, но боязни за себя он не испытывал совершенно. Он понимал, его сюда привезли обучать. А не допрашивать. И еще он понимал, что он нужен, и не этому быку с холодные взглядом удава, а людям из Главного имперского управления безопасности. Молчание прервал Краузе. Он вдруг ткнул пальцем в селектор и на кого-то наорал. Это сразу же возымело действие. Уже через пару минут в кабинет вошел человек, одетый в костюм спортивного типа, и замер возле дверей. Краузе что-то сказал ему, и тот обратился к Политову, говоря на чистейшем русском языке:
— Господин Краузе хочет задать вам несколько вопросов, господин Политов. Скажите, вы когда-нибудь обучались военному делу?
— Да. Я служил в Красной армии. Об этом известно господину оберштурмбанфюреру Грейфе и господину штурмбаннфюреру Скорцени, — спокойно ответил Политов.
— Ваше последняя должность?
— Командир стрелковой роты.
— О, это совсем меняет дело! — дословно передал реплику Краузе переводчик. — 3начит, вы вполне подкованный специалист. А с немецким оружием вы умеете обращаться?
— Да, — утвердительно кивнул Политов. — Мне приходилось стрелять из вашего автомата, знаю ваши пистолеты — «вальтер» и «парабеллум».
— А с нашими гранатами, минами вам приходилось иметь дело? — продолжал расспрашивать Краузе.
— С гранатами приходилось. «У нас их называли «колотушками». Ничего в них хорошего нет», — чуть было не сорвалось с языка у Политова. — Действия мин, их устройства не знаю. Не сталкивался, — признался он.
— И уж наверняка незнакомы с минами, управляемыми по радио? Не видели специальной взрывчатки? Не применяли пули Баумкёттера? — не без апломба перечислял Краузе образцы вооружения, применяемого, как правило, только диверсантами.
— Да, герр гауптштурмфюрер, о таких вещах я даже не слышал, — слукавил Политов, чтобы доставить удовольствие эсэсовцу.
— Еще бы! У русских ничего подобного нет и еще долго не будет! — удовлетворенно заметил Краузе. — Но здесь, у меня, вы узнаете все и научитесь всему. Ваш переводчик господин Кранц будет во всех делах вашим первым помощником. Он познакомит вас с расположением курсов, поможет устроиться и экипироваться. Даю вам на это остаток сегодняшнего дня. А завтра с подъема по распорядку начнете занятия. У вас есть ко мне вопросы, господин Политов?
— Никак нет, господин гауптштурмфюрер. Мне бы действительно только переодеться, и я готов начать обучение хоть сегодня, — ответил Политов.
Краузе это понравилось.
— Сегодня отдыхайте, — снисходительно разрешил он. — Завтра. Все начнется завтра.
Весь следующий день Политов провел в тире.
Стреляли из разных положений: стоя, с колена, сидя и даже лежа. И во всех случаях Политов показал устойчивый результат.
— Вы очень способный ученик, — не переставая, нахваливал инструктор. — Завтра мы отработаем очень интересное упражнение.
— Буду стараться, — заверил Политов.
— Завтра мы проведем тренировку с новыми боеприпасами. Они исключают ранения. И вы должны убедиться в этом, — сказал инструктор.
— Я выполню все, что от меня потребуется, — ответил Политов, подумав: «Новые разрывные пули? Но ведь немцы уже не раз применяли их на фронте. Еще какой-нибудь сверхновый вариант? А, ладно. Мне-то какое дело. Приказано опробовать — значит, опробую».
Утром следующего дня он был уверен в том, что ему снова придется заниматься в тире. Но инструктор повел его совсем в другое место, куда-то через парк. Там в дальнем конце его оказалась обнесенная высоким глухим забором площадка. Ни высокой травы, ни кустов на площадке не было. На ней лишь росли редкие молодые осины. В одном углу ее, там, где земля была усыпана желтым песком, были вкопаны в землю стол и две скамейки. Тут же стоял эсэсовец с автоматом. Политова подвели к столу. На нем лежал «парабеллум» и две снаряженные обоймы.
— Мишени будут живые, господин курсант, — неожиданно объявил инструктор. — Они будут бегать. Ваша задача — поразить их в ноги. Только таким путем вы сможете наглядно убедиться в преимуществе нового типа боеприпасов.
— Понял, — коротко ответил Политов, взял со стола пистолет и вложил в него обойму. — Я готов.
Инструктор что-то сказал эсэсовцу. Тот нагнулся над столом, нажал кнопку электрического звонка. Тотчас же в противоположном углу забора открылась массивная металлическая дверца и два дюжих эсэсовца вытолкали из-за забора на площадку трех одетых в полосатые куртки и штаны заключенных концлагеря. Дверца так же быстро с шумом закрылась. Заключенные попятились к забору.
— А ну бегом! Быстрей! Быстрей! — заорал на них эсэсовец, стоявший у стола, и выпустил в забор длинную очередь из автомата.
Заключенные, как затравленные звери, бросились под защиту реденьких осин.
— Пожалуйста, господин курсант. Ваша очередь! — скомандовал инструктор.
Политов вскинул пистолет и дважды выстрелил в того заключенного, который оказался от них ближе всех.
И увидел, как он, схватившись правой рукой за левое предплечье, шатаясь, повернул к забору.
Двое других заключенных, обезумев от страха, пригибаясь и прыгая, носились между деревьями. Политов, помня указания инструктора, пятью выстрелами ранил обоих в ноги.
— Очень хорошо. Вы способный ученик, — похвалил Политова инструктор. — Но там, вы понимаете, о чем я говорю, должно быть еще лучше.
— Там я не буду целиться в ноги, — ответил Политов.
— Да, конечно, — согласился инструктор. — Пойдемте посмотрим на результаты вашей работы.
Они пошли к заключенным. К удивлению Политова, все трое лежали на траве в самых неестественных позах.
И все трое корчились в судорогах. На губах у них выступила пена, глаза округлились, расширились и застыли в бессмысленном выражении. Инструктор что-то сказал эсэсовцу. Тот положил автомат на стол, подошел к заключенным и, хватая за ноги, стащил всех троих в одну кучу.
— Ваши соотечественники, — указав на заключенных, сказал инструктор.
— Вот и хорошо, — ответил Политов и добавил: — Чем меньше их будет, тем лучше для рейха и для всех нас.
А про себя подумал: «Не я их, так время придет — они меня. Уж это точно».
— Добейте их, господин курсант, — сказал инструктор.
Политов вставил новую обойму и по разу выстрелил в лежавших на траве. А когда посмотрел на инструктора, желая узнать, какие будут еще указания, неожиданно увидел у него в руках фотоаппарат.
«Так вот для чего понадобился весь этот спектакль! Так сказать, маленькое напоминание на случай моего плохого поведения. Не очень-то доверяют мне мои дорогие опекуны! — невольно подумал Политов. — А пули действительно делают свое дело безукоризненно. На фронте с такими ранениями никто из боя не уходил. А тут…»
— Там, где мне придется действовать, мое оружие будет заряжено этими боеприпасами? — спросил он, будто и не заметив аппарата.
— Безусловно, господин курсант, — ответил инструктор. — Что ж, не будем терять времени. Следующее упражнение — стрельба на звук. Это упражнение надо отработать особенно тщательно!
Глава 24
Если получить дополнительные сведения о Шидлер-Судзиловской — М.К. Барановой было решено через ее мужа — Баранова, то самого Баранова в Ленинграде представлялось возможным найти только через его жену, М.К. Баранову. Но для этого прежде всего следовало совершенно точно установить, что Шидлер-Судзиловская стала Барановой, взяв себе фамилию мужа. А также убедиться в том, что она вышла замуж именно за некоего Баранова. Некоего, потому что никакими данными о Баранове контрразведчики не располагали.
С решения этих вопросов Медведев и начал свою работу в Ленинграде. К сожалению, на сей раз ленинградские коллеги ничем своему московскому товарищу помочь не могли. По всему чувствовалось, что на фронте назревали какие-то очень важные события, и все сотрудники контрразведки находились в войсках и в партизанских отрядах за линией фронта. Так что Медведеву пришлось действовать одному. Но это вовсе не значило, что ему не помогали. Напротив, куда бы он ни обращался с просьбами, ленинградцы, трудившиеся в исключительно тяжелых условиях, всегда охотно ему помогали.
Но уже первая попытка установить истину, несмотря ни на что, потерпела неудачу. Переворошив кучу дел, спустя два дня после сделанного Медведевым запроса, сотрудница архива загса сообщила:
— К сожалению, ничем порадовать вас не могу. В нашем архиве нет сведений, подтверждающих заключение брака М.К. Судзиловской с каким бы то ни было Барановым за период с тысяча девятьсот восемнадцатого по тысяча девятьсот тридцать второй год включительно.
Медведев неслучайно указал в запросе такой большой период. Он старался учесть даже самое маловероятное. Свое заявление о вступлении в брак с Судзиловским и о перемене фамилии, а фактически и имени и отчества М.К. Шидлер датировала маем восемнадцатого года. Но коль потом она стала Барановой, можно было предполагать, что она либо разошлась со своим первым мужем, либо овдовела. Но когда это случилось? Никто не знал. И Медведев предположил самое крайнее: да в том же году. Вот и попросил просмотреть все записи начиная с восемнадцатого. А ограничил тридцать вторым годом потому, что считал, что во время паспортизации Барановой ее нынешнюю фамилию записали в паспорт не под честное слово, а на основании какого-нибудь авторитетного документа, подтверждающего, что она точно Баранова, а не какая-нибудь другая. Однако, несмотря ни на какую предусмотрительность, результат получился совсем неутешительным. «Но ведь вполне могло быть и так, что замуж она вышла вовсе не в Ленинграде, — подумал Медведев. — Тогда какие же отметки искать в ленинградском загсе, если их тут никогда не было, да и быть не могло? Надо узнать, жили ли они вместе вообще».
Медведев отправился в Ленсовет, в отдел, ведающий справочной службой города. Попросил:
— Помогите установить: был ли прописан в тридцать втором году некий Баранов по адресу Детское Село, улица Красной звезды, дом двадцать три?
Просьбу удовлетворили. Подняли документы прошлых лет, посмотрели и ответили:
— Да, был. И даже числился ответственным квартиросъемщиком Баранов Виктор Васильевич.
У Медведева с плеч словно гора свалилась.
— А раньше он там жил? — задал он новую задачку справочной службе.
— Что значит раньше? С какого года? — захотела уточнить служба.
— Да вообще, когда он там появился? — спросил Баранов.
Ответ на этот вопрос он получил не сразу. Пришлось ждать. И довольно долго. Но наконец ответили:
— В.В. Баранов значится уже в первом, выпущенном при советской власти, справочнике. И не только он. Но и Баранов Василий Евгеньевич. А вот жил ли он там еще до революции, об этом вы можете узнать посмотрев в «Салтыковке» дореволюционные справочники «Весь Петербург». Если это были зажиточные люди, то очень может быть, что их адрес в этих справочниках есть.
Медведев запомнил. Библиотека имени Салтыкова-Щедрина, справочники «Весь Петербург».
— А если ближе к нашему времени от тридцать второго года проверить, в тридцать третьем, скажем, Баранов Виктор Васильевич жил по тому же адресу? — снова спросил Медведев.
Проверили и это.
— Проживал.
— А в тридцать четвертом?
Спросил и, устыдившись своей назойливости, извинился:
— Вы уж простите за то, что столько хлопот вам задаю. Но понимаете, вот так надо, — резанул себя ребром ладони по горлу.
Посмотрели и это.
— А в тридцать четвертом, в мае, из наших списков исключен, — ответила справочная служба.
— Это что же значит? — не понял Медведев.
— А то значит, что был, да, как говорится, весь вышел. Может, переехал куда. Может, совсем уехал из нашего города. А может, и умер, — объяснила служба.
— А как бы это узнать точно? — взмолился Медведев.
— Мы, к сожалению, такими сведениями не располагаем. Определенно вам могут сказать только в архиве загса, — ответили ему.
— Так я там только что был, — сокрушенно сказал Медведев. — Опять людей беспокоить!
На следующий день Медведев снова озадачил работников архива загса вопросом:
— Не зарегистрирована ли в документах архива кончина Виктора Васильевича Баранова в мае тысяча девятьсот тридцать четвертого года?
Ответ получил категорический:
— Погиб при железнодорожной катастрофе.
Больше о В.В. Баранове в архивных документах не было сказано ни слова. Была, правда, еще одна небольшая приписка о том, что «Похоронен на Волковом кладбище», но поначалу Медведев даже не обратил на нее внимания. Какое на самом деле могло иметь значение, где покоится прах Баранова? На том кладбище или на этом? Ведь требовалось знать совсем другое: кем был он при жизни? Остались ли у него какие-нибудь родственники, которые хорошо бы знали жену покойного и могли бы рассказать о ней все, что сам Баранов уже никогда и никому не расскажет, но что так интересует контрразведчиков. Ведь, в общем-то, оставался еще документально неподтвержденным и факт самой женитьбы В.В. Баранова на Судзиловской… Но хотя Медведев и не оценил с ходу смысл приписки, обостренное чутье контрразведчика все же привело его на Волково кладбище. Правда, не сразу, а через пару дней. Но он туда явился. А пока, обрадованный удачей — еще один факт удалось установить совершенно достоверно, обескураженный и раздосадованный неудачей — добытые сведения, казалось, неминуемо заводили в тупик, Медведев пришел в библиотеку. Здесь, как и во всех работающих в условиях частых налетов вражеской авиации и артиллерийских обстрелов учреждениях, было холодно и малолюдно. Но и это выглядело чудом. Казалось, до книг ли в столь суровое время? И сама жизнь отвечала — дух ленинградцев не сломили ни холод, ни голод, ни болезни, ни смерть близких, ни фашистские бомбы и снаряды. Кому это было очень необходимо, те и сейчас, не снимая шапок, с поднятыми воротниками, согревая коченеющие руки собственным дыханием, штудировали труды ученых и писателей.
Медведев сделал заказ и через некоторое время получил объемистый том, без малого в две с половиной тысячи страниц. Он умышленно заказывал что-нибудь постарее, и ему выдали справочник «Весь Петербург» за тысяча девятьсот третий год. Самым началом века дохнуло на майора со страниц этого увесистого фолианта. Медведев листал и поражался. Чего только и о чем только не сообщалось в нем? Реклама, адреса самых различных торговых фирм и компаний, объявления и разъяснения, уведомления и предложения, и адреса, адреса, адреса действительно, пожалуй, всех более или менее зажиточных, а по тем понятиям — почтенных горожан, проживающих в столице Российской империи в 1903 году. Впрочем, справочник указывал не только адреса. Но и сообщал некоторые данные о социальном положении того или иного лица. В таких случаях после фамилии стояло «двн» — что означало дворянин или «дтс» — что соответствовало — действительный тайный советник, или «вд. кс» — вдова коллежского секретаря и тому подобное. Медведев сразу же отыскал Барановых. Их оказалось в списке более полусотни. И среди них несколько, проживающих в Царском Селе. Но ему уже было известно имя и отчество предполагаемого мужа Барановой. И он по отчеству без труда нашел не самого Виктора Васильевича, а его отца, Василия Евгеньевича Баранова, «попеч. царе, приют.» — попечителя царского приюта и адрес его проживания — Стессельская, двадцать три. Медведев открыл справочник на «С». И сразу нашел «Судзиловский Григорий Михайлович, двн. Невский, семьдесят восемь». Сведения посыпались как из рога изобилия. И сразу вырисовалась картина. Отец — дворянин. Сын — офицер, подполковник старой русской армии. «Доронин раскопал, что он стал ярым белогвардейцем, — вспомнил Медведев. — Все логично. Все ясно». Полистал справочник дальше. Остановился на «Ш». И снова удача. На странице семьсот тридцать седьмой прочитал: «Шидлер Эдуард Эдуардович. Моховая, тринадцать». А Доронин кого искал? Шидлера Карла Эдуардовича. Все совпадает. Тот дед. Это отец. А Матильда Карловна — внучка, снова остался доволен Медведев. Правда, никаких других данных о Шидлере в справочнике больше не было. Но и эти прекрасно подтверждали то, что уже было известно контрразведчикам.
Медведев с благодарностью погладил справочник. Бумажный толстяк словно бы ожил у него под рукой. Столько интересного и нужного он поведал майору. Единственным непроясненным до конца моментом остался царскосельский адрес семьи Барановых. Попечитель приюта жил на Стессельской. Его сын и М.К. Баранова — на улице Красной Звезды. Переименовали? Возможно. А подтверждение этому? Но оно нашлось тут же, в библиотеке, едва Медведев высказал сотрудникам свое недоумение по этому поводу.
— А вы посмотрите старый план Царского Села и новый путеводитель по городу Пушкину, — принимая от Медведева «Весь Петербург», посоветовала библиотекарь.
Медведев нашел нужные ему улицы. Все оказалось так, как и можно было предполагать. В свое время Стессельская, как и многие другие улицы и площади Ленинграда и его пригородов, была переименована в улицу Красной Звезды.
Но удачи удачами. А неясные вопросы по-прежнему не давали майору покоя. Но самым неприятным было то, что он не знал, в каком направлении продолжать поиск? Желание делать хоть что-нибудь, а не сидеть сложа руки, и привело в конце концов Медведева на Волково кладбище.
Если город почти повсюду выглядел малолюдным, то на кладбище народу было много. Ленинградцы хоронили военных, хоронили гражданских. Хоронили без привычных в таких случаях оркестров, а зачастую и без речей. Горя и скорби было так много, что уже не хватало ни слез, ни слов, чтобы оплакать утерю даже очень дорогого человека.
Медведев не сразу нашел кого-нибудь из сотрудников кладбищенской конторы. Все были на улице, все в делах. Но наконец, переходя от одной группы захоранивающих к другой, он наткнулся на того, кто ему был нужен. Невысокий и немолодой уже мужчина, с исхудавшим морщинистым лицом и большими черными подглазинами, едва услышав, что ищут кого-то из конторы, сразу стал громко объяснять, что он тут вообще один, что он не может разорваться и быть сразу во всех местах. И если у кого-то к нему есть вопросы, то пусть его подождут. Медведев так и сделал. А когда конторщик освободился, предъявил ему свое удостоверение. Это немедленно возымело действие:
— Вы бы так и сказали. А то разве тут сразу поймешь, кому чего нужно. Кладбище-то, оно же не бесконечное, а покойников все несут и несут, — оправдываясь, объяснил он ситуацию.
— Да я понимаю, — примирительно ответил Медведев. — Может, к вам пройдем?
— Конечно, конечно, — с готовностью согласился конторщик. — А вы по какому делу-то?
— Да гражданина одного усопшего найти надо, — объяснил Медведев.
— A-а, это мигом. С этим у нас порядок. Тут никто не бегает. Где кого положили, тот там и лежит, — заверил конторщик.
В конторе Медведева ждал сюрприз. Ленинград почти не отапливался. В архиве, в библиотеке, везде было холодно. Даже в гостинице Медведев спал под двумя одеялами да еще накрывался сверху шинелью. А тут от перегретого воздуха было трудно дышать. Дверца небольшой печки-голландки была раскалена почти докрасна.
— Хорошо живете, — с удовольствием расстегивая шинель, заметил Медведев.
— Мусора всякого на кладбище много. Вот и не жалеем, палим, — признался конторщик. — Так какой гражданин вас интересует?
— Баранов Виктор Васильевич, когда родился не знаю, а скончался в мае тридцать четвертого года. И захоронен на этом кладбище, — ответил Медведев.
— Вмиг найдем, — заверил конторщик. — Простите за вопрос, откапывать будете?
— Да нет, что вы! Просто хочу взглянуть на могилу, — успокоил конторщика Медведев.
— Пожалуйста, пожалуйста, — забормотал конторщик, перелистывая книгу регистрации погребений. — Баранов, говорите? Одну минуточку… А вот и он. Шестая линия. Девятый ряд. Могилка номер четыре. Уход оплачен до мая сорок четвертого года. Так что следим, как положено.
Медведев, не надеясь на память, записал все координаты.
— А других сведений об усопшем у вас нет? — спросил он.
— Нет, — затряс головой конторщик. — Да и зачем они ему, усопшему-то?
— Да не усопшему, живым нужно, — объяснил Медведев.
— Совершенно ничего, — ответил конторщик.
— Тогда пойду взгляну, как вы ее содержите, — застегивая шинель, встал Медведев.
— У нас везде указатели, — поспешил объяснить конторщик. — Как выйдете — сразу аллея. Это вторая линия. А вам, значит, левее. От нее четвертая будет. А там направо. И в аккурат в девятый рядочек попадете.
Медведев поблагодарил и без труда нашел могилу Баранова В.В. Она, как, впрочем, и все остальные могилы, была под снегом, огорожена невысокой металлической оградой, над ней высилась отполированная с лицевой стороны глыба серого гранита, на которой бронзовой краской по выбитым буквам была сделана надпись: «Виктору Васильевичу Баранову от товарищей-путейцев Октябрьской Ж.Д. 20.05.34 г.».
Медведев читал и не верил своим глазам. Еще минуту тому назад он не знал, зачем сюда шел, не знал, зачем ему вообще этот визит на кладбище, а теперь вправе мог считать, что это был самый удачный ход за всю командировку. Судьба явно благоволила к нему и в который уже раз снова вывела из тупика. И ничего не было удивительного в том, что, перечитав по крайней мере раз пять эту надпись, Медведев как на крыльях полетел в управление Октябрьской железной дороги. Там он прямо направился к начальнику отдела кадров. В кабинете было много людей. Но, увидев военного, начальник отдела сразу поинтересовался:
— Вы ко мне, товарищ майор?
— К вам, — ответил Медведев.
— Слушаю вас, — с готовностью сказал начальник.
Медведев снова предъявил свое удостоверение.
— Понял, товарищ, — едва взглянув на документ, сразу сел на свой стул кадровик и вызвал секретаря. А когда она появилась в дверях, приказал: — Ко мне никого не пускайте.
— Я задержу вас очень ненадолго, — сказал Медведев. — Дело касается прошлого. Припомните, у вас работал Баранов Виктор Васильевич?
— Господи, да и припоминать нечего. Я его отлично знал, можно даже сказать — были в приятельских отношениях, — с явным облегчением ответил кадровик. — К великому сожалению, он погиб в железнодорожной катастрофе.
— Как это случилось?
— Исключительно по чужой халатности! — всплеснул руками кадровик. — Ехал на дрезине. И в тумане налетели на встречный товарняк.
— Жалко.
— Еще как! Такой был замечательный человек. Душевный, внимательный. Первоклассный знаток своего дела. Специалист высочайшей квалификации. Мы ему такой памятник отгрохали… Дорога денег не пожалела, — распинался кадровик.
«Видел», — хотел было сказать Медведев. Но вместо этого попросил:
— Охарактеризуйте его, пожалуйста, поподробней.
— С удовольствием. Я уже говорил, что он был специалистом высочайшей квалификации. Инженер-путеец широкого профиля. Образование получил еще до революции. Учился, между прочим, за границей. По-моему, в Германии. Происходил он из обеспеченной интеллигентной семьи. Отец его работал в системе образования. Оба советскую власть приняли с первых же дней. Отец, правда, после революции прожил недолго. А Виктор Васильевич и в годы Гражданской войны, и когда боролись с разрухой честно работал всюду, куда его посылали, — объяснил кадровик.
— А куда его посылали?
— Ну, я помню, что он строил дороги и на Кавказе, и на Урале, и на Украине… И за границей он много раз бывал…
— Где?
— Помню, рассказывал, что в Германии, и в Польше, и в Голландии. Можно поднять архивы, уточнить, — с готовностью предложил кадровик.
— Не надо. Не беспокойтесь, — остановил его Медведев. — Скажите, а он был женат?
— А как же! — так и просиял кадровик.
— На ком?
— На одной очень милой женщине, Марии Кирилловне. По профессии она зубной врач. Жили они, прямо надо сказать, душа в душу. Даже в командировки, если вот особенно за границу, и то вместе ездили. Я это знаю потому, что мы, как говорится, семьями дружили. Ну и частенько друг у друга бывали.
— А с каких пор вы знаете Марию Кирилловну?
— Да с той поры, как они приехали сюда. Как Виктор Васильевич перевелся на нашу дорогу. И было это, дай бог памяти, в двадцать четвертом году. Я тогда еще не на кадрах сидел…
— Откуда перевелся? — не дал договорить словоохотливому кадровику Медведев.
— Из Киева. Там он и женился.
— Вы это точно знаете?
— А как же! Она там жила. Была замужем. Муж погиб еще в Гражданскую. Виктор Васильевич, значит, у нее вторым мужем был… Я свои кадры знаю…
— Скажите… а где сейчас Мария Кирилловна?
— А вот это уж, извините, мне неизвестно, — развел руками кадровик. — Как она после его гибели уехала от нас в тридцать пятом, так я больше ее и не видел.
— И писем она вам не писала?
— Вы знаете, не писала. Мы с женой даже немного удивлялись. А потом решили: наверное, еще раз замуж вышла. Она ведь женщина интересная. А муж, поди, ревнивый попался. Какие уж тут письма? — рассудил кадровик.
— Вы сказали, что семьями дружили. А фотографии ее у вас не осталось?
Кадровик виновато улыбнулся.
— С фотографиями тоже оказия произошла, — словно извиняясь, начал рассказывать он. — Фотографий было много. Мы, бывало, как за город куда компанией поедем, так обязательно фотографируемся. Да она и сама прекрасно фотографировала. Так что фотографий ее хватало. Но вот когда она стала уезжать, она все эти фото, на которых была вместе с нами, попросила у нас на время. Сказала, что наши лучше по качеству, чем у нее. «Я, — говорит, — их пересниму и немедленно верну вам». Ну, мы, конечно, отдали их ей. А назад-то, знаете, так и не получили.
«Это ж надо так? На пустом вроде бы месте! Ну что могила? А куда привела! Вдруг столько нужнейших сведений! Как прав полковник, когда говорит: “Чутье — это опыт. Прислушивайтесь к своему чутью!”» — не веря самому себе, тому, что так повезло, невольно думал Медведев.
И чтобы полностью удостовериться в том, что только что узнал, чтобы не напутать чего-нибудь самому, попросил кадровика:
— Я так понял, что вы могли бы достать из архива личное дело Виктора Васильевича? Будьте любезны, приготовьте его назавтра.
— Непременно, — заверил кадровик.
— Когда зайти?
— Да прямо с утра.
— Ну и хорошо. И спасибо вам за очень толковую беседу, — поблагодарил Медведев и поспешил к себе в гостиницу, чтобы по свежей памяти ничего не перепутать и записать весь их разговор.
А утром Медведева ждал еще один сюрприз. Передавая ему личное дело Баранова, кадровик неожиданно сказал:
— А вы знаете, я, кажется, нашел то, чем вы интересовались. Только не фотографию, а негатив. У меня старенький аппарат, но иногда я снимал. Я помню, мы с ней искали этот негатив. Да так и не нашли. Думали, что я его выкинул. А вот вчера все коробки пересмотрел и нашел.
И он протянул Медведеву негатив размером шесть на девять. Медведев посмотрел негатив на свет. Сразу бросилась в глаза пышная копна светлых волос, прямой нос, красивое очертание рта.
— Вы разрешите мне взять его с собой? — спросил Медведев.
— Раз надо — конечно, — ответил кадровик.
В тот же день Медведев самолетом вылетел в Вологду. А оттуда поездом выехал в Москву.
Глава 25
Неделю специалисты из Берлина сидели на полигоне. Неделю на полигоне что-то ухало, грохало, шипело и коптило. И неделю полковник Круклис вынужден был заниматься совсем не тем, ради чего он прилетел в отряд. Но наконец берлинцы убрались восвояси. Вечером того же дня Зою отпустили проведать мать. Она появилась в поселке. А утром следующего дня в отряд прибыла связная Вера.
— На сколько отпустили Зою? — первым делом спросил командир отряда.
— Говорит, еле день дали. Завтра уже на работу, — ответила связная.
— Ну что ж, завтра утром перед рассветом и встретимся, — решил командир отряда. — Только скажи ей, не у мостка, как всегда, а ближе к поселку, у ключа. Мы ее в пять часов будем ждать.
— Все запомнила, — ответила Вера.
Она отдохнула, и к вечеру ее верхом на лошади отвезли обратно почти до самого поселка.
— А мы, Ян Францевич, выедем часика в три ночи. Пока доберемся, то да се, лучше там обождем, — обращаясь к Круклису, решил командир.
— Как вы скажете, так и будет. Вам видней, — безропотно согласился Круклис. — А еще бы на два дня затянули эту встречу, и Новый год застал бы нас под елками.
— Нет уж, мы лучше в землянке за столом его встретим, как все люди, — категорически заявил командир отряда.
— Тоже ладно, — добродушно усмехнулся Круклис. — Так и быть, буду у вас Дедом Морозом.
Нельзя сказать, чтобы полковник волновался перед встречей с партизанской разведчицей, но спал он в ту ночь очень беспокойно. Все время пробуждался, раза два закуривал и то и дело поглядывал на часы. А перед самым подъемом его словно нарочно сморил такой тяжелый сон, что командир еле добудился его.
Из лагеря выехали под охраной небольшого, но хорошо вооруженного автоматами и двумя ручными пулеметами отряда. Охрана — верхом. Командир отряда и Круклис — на легоньких саночках. Ехали часа два. По дороге трижды встретили партизанские дозоры. К назначенному месту добрались в половине пятого. Спешились и дальше двинулись по снегу пешком. В лесу было темно. Но партизаны как-то ориентировались и скоро вышли на заваленную снегом тропу, которая привела их к деревянной колоде, по которой бойко бежала незамерзающая ключевая вода. Круклису место показалось очень глухим, и он спросил:
— Найдет нас ваша разведчица?
— А тут и искать нечего. Мы ведь всего метрах в ста от дороги. Только подъехали с противоположной стороны, чтобы следов не оставлять. А она свернет на тропу и тут будет, — объяснил командир отряда.
Прошло еще с полчаса, и в предутренней темноте послышалось поскрипывание снега. А вскоре под заснеженными елками мелькнули и черные силуэты. Зою встретили на дороге и проводили до ключа двое партизан из охраны.
— Вот и наш Заяц, — представил разведчицу командир отряда.
Перед полковником стояла невысокая, закутанная в платок, в полушубке с поднятым воротником и в валенках девушка. Лица ее почти не было видно. И потому Круклис спросил:
— Очень рад. А взглянуть на вас можно?
— Смотрите, — просто ответила Зоя.
— А если я фонариком чуть-чуть посвечу?
— Светите, — разрешила разведчица.
Круклис нажал кнопку включателя и в синем свете луча увидел очень миловидное лицо с красивым ртом и большими темными глазами.
В следующий момент луч света потух.
— Спасибо, — поблагодарил Круклис. — Давайте знакомиться. Меня зовут дядя Коля. Так и называйте. Договорились?
— Договорились, дядя Коля, — ответила Зоя.
— У нас не так уж много времени, поэтому я буду спрашивать вас только о самом главном. Но мне это очень важно знать, — предупредил Круклис.
— Я поняла.
— Тогда расскажите, какое впечатление производит на вас майор Шефнер, — попросил Круклис.
— Он мало похож на остальных немцев. Недаром они даже называют его «фрау». Он не курит, не пьет, не пристает к нашим девушкам. В карты тоже не играет, — начала рассказывать Зоя. — Он вежливый. Никогда ни на кого не кричит, никого не наказывает. Но специалист он, наверное, хороший. Потому что немцы в сложных случаях всегда его вызывают. И даже когда на стороне что-то нужно, тоже всегда с ним советуются.
— Он говорит по-русски?
— Очень неплохо. Немного читает. И все время занимается, занимается. Говорил, что начал изучать язык еще в Германии. А здесь совершенствуется.
— Скажите, Зоенька, вы не пытались объяснить хотя бы самой себе, почему Шефнер выбрал именно вас для связи с партизанами? — снова спросил Круклис.
— Как не думала? Думала, — усмехнулась Зоя. — Мне сначала даже казалось, что он или гестаповцы, которые у нас бывают, раскрыли меня как разведчицу. И даже командиру докладывала. Просила, чтобы мне разрешили уйти, пока меня не схватили. А потом помаленьку успокоилась…
— Так почему же все-таки вас? — повторил вопрос Круклис.
— Я думаю, потому, что я к нему из русских наших ближе всех.
— То есть?
— Каждый день три раза его кормлю. И всегда при этом мы разговариваем о чем-нибудь. Потом, он начал русским языком заниматься, опять же меня попросил ему помогать. Значит, еще дополнительно видеться стали. Ну и, наверное, как-то он поверил в меня, в то, что я его не выдам.
Круклис слушал очень внимательно.
— Хорошо, — согласился он. — Кто еще сидит с ним за столом в столовой?
— Никто. Он начальник. Он ест один.
— А где вы с ним занимаетесь языком?
— У него на квартире.
— Кто там еще в это время бывает?
— Никого. Иногда заходит его денщик. Так он его быстро выпроваживает.
— Но с кем-нибудь он все-таки поддерживает связь?
— Иногда к нему заходит полигонный врач лейтенант Эльфельдт. Тогда я приношу им пива и закуску, — ответила Зоя.
— Ладно, пусть пьют, — кивнул Круклис. — Простите, Зоенька, и за нескромный вопрос. Вы ведь знаете, что вы красивая девушка. А майор далеко еще не старый. Как в этом смысле он себя ведет? Тем более встречаясь с вами один на один.
Зоя ответила сразу, будто ожидала этого вопроса и, давно уже подготовила на него ответ.
— Никогда не приставал. Даже попытки не делал. Хотя, я знаю, многие этому просто не верят. Вот вы можете поверить?
— Могу, — так же твердо ответил Круклис.
— Когда он попросил меня позаниматься с ним, я сразу доложила командиру. И снова попросила вернуть меня в отряд, потому что сама подумала, что все эти занятия — только предлог. Но командир и замполит запретили мне уходить с полигона, — продолжала Зоя. И обратилась к командиру: — Скажите, Федор Алексеевич, так было?
— Подтверждаю каждое ее слово, товарищ дядя Коля, — ответил командир. — Мы тогда с замполитом крепко думали. Понимали, что в очень щекотливое положение ставим нашу Зоеньку. Но лишиться такого информатора — тоже не могли. Тогда и придумали жениха к ней приставить, нашего же человека, Тимофея Ермилова, я вам уже докладывал.
— А как Шефнер на это отреагировал? — спросил Круклис.
— А майор, знаете, отговаривать меня стал, — ответила Зоя. — Говорил, да и сейчас говорит, что достойна лучшего. Да так серьезно к этому отнесся, что мы даже начали бояться, как бы он нашего Тимофея не пристукнул где-нибудь.
— Это очень интересно, — сказал Круклис. — И очень важно. Как же вы сгладили ситуацию?
— Я пообещала ему со свадьбой не спешить. Пусть, мол, ухаживает и в поселок провожает, а то одной ходить боязно. А торопиться со свадьбой не станем, — ответила Зоя. — Ну, он вроде и успокоился.
— Ты про врача расскажи, — напомнил командир.
— Так что? — живо заинтересовался Круклис.
— У меня мать заболела. А лечить-то некому, да и нечем. А ей все хуже и хуже. Я, конечно, очень переживала, — рассказывала Зоя. — А майор заметил это и спросил, в чем дело. Я ему рассказала. Он очень рассердился, назвал меня глупой девчонкой, вызвал немедленно Эльфельдта, меня посадил в машину — и к нам в поселок, к матери. У нее оказалось воспаление легких. Потом Эльфельдт еще два раза приезжал к ней, смотрел ее, прослушивал и каждый раз оставлял лекарства. Шефнер просил меня никому об этом не рассказывать. Мать они мне, одним словом, спасли.
— Тоже очень любопытный факт, — сразу оценил случай Круклис. — И о многом говорит. Но понимаете, товарищи, все эти добрые дела майора пока не выходят за рамки обычной человеческой порядочности. Хорошо воспитанный немец, да если он еще из интеллигентной семьи, он мог, несмотря ни на что, сохранить человеческие качества. Но это совсем не значит, что он будет работать против своих. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Но были и такие случаи, — ответил командир.
— Какие именно?
— Было, что он предупредил через Зою о том, что готовятся облавы с целью угона молодежи в Германию. И второе, когда нам стало известно через него же о том, что на полигон должна прибыть для испытаний новая техника. Указал точно день и час, когда она будет разгружаться на станции. Это пока все, — доложил командир отряда.
— Вот это уже то, что надо! — не колеблясь, оценил информацию Шефнера Круклис. — Как же эти сведения использовали вы?
— Хлопцев и девчат предупредили, они попрятались кто куда. Так что рыбка в сеть не попала. А эшелон пустили под откос еще на подходе к станции, — доложил командир.
— Что за новая техника была?
— Это, товарищ дядя Коля, установить не удалось, — признался командир. — Немцы сразу оцепили все вокруг, привезли откуда-то кран, все подняли, нагрузили на платформы, накрыли брезентом и увезли.
— А что сейчас испытывали? — обратился к разведчице Круклис.
— Никто из наших ничего не видел. Но похоже: или танки, или самоходки, — ответила Зоя.
— Почему так думаете?
— Слышала, как земля под ними гудела, когда они ночью на полигон двигались, — ответила Зоя.
— Попросите майора, пусть сообщит самые точные сведения. Что конкретно — он знает. Можете это сделать?
— Конечно, — сказала Зоя.
— Пожалуйста, вспомните хорошенько, — продолжал Круклис, — мне это очень надо знать: когда и как Шефнер дал вам первое задание связаться с партизанами.
— В общем-то, для меня это было неожиданно, — призналась Зоя. — Мы ведь тоже следим за каждым его шагом. Но для нас тоже сначала не все было ясно. Ну, культурно, можно сказать, себя ведет. Ну, обязательно платит за каждый урок. Помог вылечить мать. Мы тоже все время думали: к чему бы это? Но однажды, когда я пришла к нему домой, он вдруг сказал:
— Вы знаете, сегодня мы не будем заниматься.
Я решила, что у него нет времени, и ответила:
— Хорошо, герр майор. Как вам будет угодно. Но раз уж я пришла, позвольте проверить ваше домашнее задание.
Он кивнул:
— Обязательно. Сейчас я вам его напишу.
Раскрыл тетрадь, вырвал лист и написал: «Идите сейчас же в поселок и сообщайте своим, что завтра вашу молодежь будут забирайт и отправляйт в Германию». Я сразу же ответила, что не понимаю, к каким своим. Тогда он сжег записку и сказал, что он тоже не знает, к «каким» и знать этого не хочет. Но я должна пойти в поселок. После этого он выписал мне пропуск и подписал его. Дальше Федор Алексеевич вам уже все рассказал. А Шефнер никогда больше об этом случае не вспоминал.
— Любопытно, — сказал Круклис. — С одной стороны, очень рискованный шаг. С другой — весьма похоже на провокацию.
— Мы тоже так тогда всё расценили, тем более что было это первый раз, — заметил командир.
— Как же вышли из положения?
— Учитывая, что времени у нас было в обрез, решили, во имя спасения наших людей, пойти на риск и ночью же разослали посыльных по всем деревням. И утром убедились, что не ошиблись. Майор сообщил все правильно. Облавы начались едва рассвело.
— Второй раз как было? — снова спросил Круклис Зою.
— Точно так же, как и первый, только предупредил он нас уже за три дня. И второй раз я сама в поселок уже не ходила, — ответила Зоя.
— А кто же сообщил?
— Жених. Ему ходить везде разрешено.
— Молодцы! — Круклис от души похвалил.
— И в последний раз так же все было, — продолжала Зоя. — Но уж тут он знал, что мы каждое его слово на лету ловим. Тут он точно адрес назвал: «В Москву, “триста тридцать третьему”». Я еще засомневалась, что вряд ли найдут того, кого нужно. А он чуть улыбнулся и сказал:
— Ну тогда добавь еще кому надо, что мы старые друзья.
— Между прочим, отыскать вас это очень помогло, — заметил командир.
— Ой! — спохватилась вдруг Зоя. — Уже светать начало. Мне спешить надо. Немцы не любят, когда опаздывают.
— Да-да, — подтвердил Круклис. — Порядок — превыше всего! Тогда последнее, Зоенька. Мне обязательно надо встретиться с ним самим.
Зоя на момент задумалась.
— Я должна ему об этом сказать? — спросила она.
— Конечно.
— Тогда когда? Где?
— Этого я пока не знаю. Пусть Шефнер назначит нам какие-то сроки, а мы с Федором Алексеевичем продумаем детали, — ответил Круклис.
— Поняла. Все передам. Я побежала, — заторопилась Зоя.
— Идите. И желаю вам успеха, — пожал на прощание руку разведчице Круклис. — Вы делаете очень важное дело. И я непременно сообщу о вас в Москве, кому надо.
Разведчица поспешила на дорогу, а Круклис и командир отряда пошли в глубь леса к лошадям. Сели в санки и двинулись в лагерь. Уже когда отъехали от ключа километров пять, командир спросил:
— Ну как ваше впечатление, Ян Францевич?
— Вы знаете, хорошее, — ответил Круклис. — Девушка ваша — просто клад. Кстати, почему именно ее вы направили на полигон? Вы что, давно ее знали?
— Выбор, Ян Францевич, конечно, был неслучайным, — ответил командир. — И знали мы ее, как ни странно, совсем немного. Но это тоже сыграло определенную роль при выборе. Зоя появилась в поселке незадолго до начала войны. Приехала сюда учительствовать. Преподавать немецкий. Знает она его, по крайней мере с нашей точки зрения, как никто другой. Вот так! — поднял большой палец правой руки командир. — Наш отряд сформировался в октябре сорок первого. Она пришла к нам одной из первых. А уже в сорок втором немцы устроили тут этот полигон. И стали привозить на него всякую технику. И вот тогда мы решили направить туда своего человека и единогласно сошлись на ней. Молодая, интересная, грамотная, немецкий щелкает как семечки, за то время, что была в отряде, зарекомендовала себя исключительно смелой, и никто ее в округе особенно не знает. Она проучительствовала совсем немного. Значит, наговорить немцам чего-нибудь против нее никто не сможет. Вот мы ее и направили.
— Очень правильный и удачный выбор, — похвалил командира Круклис. — Она, бесспорно, способный человек. И я почти уверен, что со временем мы у вас ее заберем.
— Вы? — удивился командир.
— Ну, точнее сказать, Москва, — усмехнулся Круклис. — Вы понимаете, какой бесценный опыт приобретает она, выполняя ваше задание?
— Да, в общем-то, конечно.
— Поверьте мне: один день, проведенный там, где она работает постоянно, дает опыта и навыков больше, чем месяцы учебы в нашем тылу. Так что поберегите ее. И без особой надобности лишнему риску не подвергайте, — сказал Круклис.
— Понял, Ян Францевич, — ответил командир.
Остаток пути они ехали молча. Каждый думал о своем.
Командир о том, что если Москва действительно заберет Зою, то тогда волей-неволей придется убирать с полигона и Ермилова. А это значит, что такой важный во всех отношениях вражеский объект, как полигон, на какое-то время выйдет из-под наблюдения партизан и они совершенно не будут знать, что на нем происходит. И командир мысленно стал подбирать людей, которыми можно было бы заменить обоих разведчиков… Круклис же думал о том, если Зоя до конца выполнит задание и поможет наладить с Шефнером постоянную надежную связь, она и впрямь окажется достойной того, чтобы ее рекомендовать на учебу. И можно быть уверенным в том, что коллеги из соседнего управления со временем за такой кадр только спасибо скажут. Что же касается самого Шефнера, то умудренный житейским опытом полковник о нем делать какие-либо окончательные выводы не спешил. Хотя и сказал командиру отряда, что у него из рассказа Зои о майоре сложилось вполне благоприятное мнение…
Новый год, как и обещал командир отряда, встретили по всем правилам, за столом. Ради праздника колхозники подвезли в отряд и картошки, и хлеба, и сала, и еще такого, что нечасто встречалось в партизанском рационе. Посты охраны повсеместно в новогоднюю ночь были удвоены. Дежурный взвод был полностью готов к немедленным боевым действиям. В командирской землянке даже устроили небольшую елочку, украсив ее винтовочными гильзами, заполненными керосином и вставленными в них фитилями. Когда без четверти двенадцать все эти немудреные светильники запалили лучиной, серьезные лица собравшихся в землянке партизанских командиров сразу подобрели. Фитильки в гильзах чадили, но никто не пытался их притушить. От стола, уставленного котелками и плошками, от елки, от покачивающихся под ее ветками огоньков веяло таким домашним и уже почти забытым уютом, что все смотрели на них как завороженные. Выпили за победу трофейного шнапса из кружек. И сразу кто-то из командиров спросил Круклиса:
— А вы как думаете, кончится война в этом году?
Круклис мягко улыбнулся.
— Наверное, и в Тегеране на этот вопрос ответить не смогли бы, дорогой товарищ, — сказал он. — Но то, что этот год по всем показателям должен быть решающим, что мы в этом году очистим от врага нашу землю, в это мне хочется верить.
— А второй фронт? Откроют его наконец или нет? — последовал очередной вопрос.
— Я убежден, что откроют. Но не потому, что уж очень хотят нам помочь. Побоятся, что мы без них победу одержим. Данных не имею, но не сомневаюсь, что после Тегерана, в Каире, они именно об этом и совещались, — высказал свои предположения Круклис.
Проговорили далеко за полночь. А под утро в лагере появилась связная Вера, и в командирской землянке снова зажгли лампу.
— В поселок пришел Ермилов. Отпросился погулять на Новый год, — сообщила она. — У Зои все в порядке. А остальное, сказал, сам должен передать дяде Коле.
— Где? Когда? — последовали непременные в таких случаях вопросы.
— Там же. Сегодня вечером в восемь часов, — ответила Вера.
Командир отряда посмотрел на Круклиса.
— Едем, — коротко сказал полковник.
Дождались, когда начало темнеть, и выехали. И за полчаса до указанного Ермиловым срока добрались до ключа. «Полицай» был уже здесь. И успел выкурить с высланными вперед партизанами по сигарете жиденького эрзац-табака. Он оказался рослым, плечистым усачом в ладно пригнанной по его сильной фигуре черной шинели, форменной шапке с отворотами и в сапогах. Командира отряда и гостя он приветствовал, лихо щелкнув каблуками и встав по стойке «смирно».
— Здравствуй, Тимофей Гаврилыч, — пожал ему руку командир и указал на Круклиса: — Все, с чем пришел, докладывай товарищу.
Ермилов снял с плеча полевую сумку, из которой высовывались рукоятки двух немецких гранат, раскрыл ее, вытащил что-то завернутое в бумагу и протянул Круклису.
— Это от майора, — сказал он. — Тут взрыватели от противотанковых снарядов и мин, которые они намедни на полигоне испытывали. Передать велено: майор не знает, примут ли их на вооружение, но испытывать испытывали. И еще…
Ермилов достал из сумки гранату, развязал обматывавшую ее веревку, снял с гранаты конверт и тоже передал его гостю с Большой земли.
— А что тут — не знаю, — сказал он. — Но тоже велено отдать.
— Сам майор велел? — спросил Круклис.
— Никак нет. Нам с майором якшаться не положено. Зоя велела, — ответил Ермилов.
— И за это спасибо, — поблагодарил Круклис, пряча пакет в карман полушубка. — Ну а сам-то майор когда придет?
— А вот уж этого я не знаю. Про это мне ничего не говорили. Знаю, что Зоя должна через пару деньков домой наведаться. Это она мне сказывала, — ответил Ермилов.
Круклис посмотрел на командира отряда.
— Так что будем делать, Федор Алексеевич?
— Ждать, товарищ дядя Коля. Больше нам ничего не остается, — рассудил командир.
— Ну что ж, подождем, — вынужден был согласиться Круклис. Он еще раз поблагодарил Ермилова, пожал ему руку, пожелал успехов, и они разошлись. Ермилов на дорогу — и на полигон. Партизаны и Круклис обратно в лагерь.
В лагере Круклис осмотрел взрыватели. Но так как он себя специалистом в этом деле не считал, то и высказался по их поводу однозначно:
— Спасибо Шефнеру за подарок. В Москве разберутся, что к чему.
После этого он вскрыл конверт. В нем лежал чертеж, сделанный на синей немецкой кальке. Все надписи на чертеже были сделаны по-немецки.
— Модернизированное штурмовое орудие, — прочитал Круклис. — Усилена лобовая броня, увеличен калибр орудия и количество боеприпасов. Изменен угол наклона лобовой брони. Скорость… запас хода… моторесурс…
— Вот отчего земля-то дрожала, — вспомнил сообщение Зои командир отряда.
— Все правильно. Ну что ж, благодаря майору и об этом Москва узнает своевременно, — заметил Круклис. — Однако если это игра, то на сей раз они на ставки не скупятся.
— А вы все же, Ян Францевич, допускаете и такой вариант? — спросил командир.
— Очень даже допускаю, Федор Алексеевич. Нарисовать-то ведь можно все, что угодно. Да и взрыватели изготовить тоже не ахти какая сложность. Не такие фальшивки, когда это было надо, подсовывали. Вот почему мне так важно увидеть его самого. Уж что-нибудь я пойму, почувствую. Потому как перевербовать его, конечно, могли. И заставить петь под свою дудку — это тоже они умеют. Но сделать из него актера, да такого, чтобы он обвел меня вокруг пальца, как маленького, это, я вам скажу, не так-то просто.
— Через пару дней Зоя все скажет, — попытался успокоить полковника командир отряда.
— Мне не Зоя нужна, а Шефнер, — подчеркнул Круклис. И добавил: — И он об этом знает. Но… почему-то молчит. А мог бы пару слов на кальке написать. А не написал…
— Подождем, — сказал командир.
— Разумеется. Больше ждали, — согласился Круклис.
Через три дня в отряде снова появилась Вера. И сразу же Круклис выехал из лагеря. Опасаясь возможной провокации, командир отряда не только усилил охрану и разведку на пути следования к новому месту встречи, но изменил и само место. За Зоей послали разведчиков на лошадях, и они ночью привезли ее на глухой, пустовавший еще с довоенных времен, лесной кордон. Тут и поджидал ее Круклис.
— Где же майор? Вы сказали ему о том, что я хочу его видеть? — сразу начал с главного Круклис.
— Конечно, — ответила Зоя.
— Что же он?
— Не придет он, товарищ дядя Коля.
— Это он сказал?
— Он.
— Почему?
— Он не стал скрывать. Сказал, что боится за судьбу матери, жены и дочери.
— Так и объяснил?
— Так и объяснил. Сказал, что после того, как его освободили из русского плена, ему не очень-то доверяют и потому он боится вызывать лишние подозрения.
— Вы поверили в это?
— Да. Поверила.
— А как же расценивать те сведения, которые он нам передает? Если о них узнает гестапо, разве тогда его мать, жена и дочь останутся на свободе? Об этом что он думает?
— Он сказал, что полностью доверяет нам. Мы его не выдадим. И не очень доверяет своим, которым так или иначе придется объяснять, куда он на ночь глядя отлучался с полигона один, без всякой охраны.
— Мы — нет. Не выдадим, — заверил Круклис. — А если его выследят? Схватят с поличным? И подвергнут допросу?
— На этот случай он всегда держит наготове ампулу с цианистым калием. Он сказал, что живым в руки эсэсовцев не дастся. А значит, никогда и никаких подтверждающих данных от него никто не добьется.
— Так… — многозначительно произнес Круклис и закурил. — Всякое я мог предположить. Но такого? Послушайте, Зоенька, где вы с ним говорили обо всем этом?
— Я сказала ему о вашем предложении в столовой, во время обеда, — ответила Зоя.
— Что он ответил вам?
— Сказал, что даст ответ после ужина.
— Так…
— После ужина он попросил меня проводить его до дома и, когда мы шли, высказал мне все, что я вам только что сообщила.
— И вам не показалось, что это лишь отговорка?
— Не показалось, товарищ дядя Коля, — твердо ответила Зоя. — Он так волновался, у него даже голос дрожал. Я никогда еще не видела его таким взволнованным.
Круклис задумался. Все, что говорила партизанская разведчица, вполне могло быть правдой. И в то же время могло быть самой наглой игрой, начатой противником с того самого момента, когда Шефнера вызволили из плена. Но так или иначе главная цель, которую ставил перед собой полковник, вылетая за линию фронта, оказалась недосягаемой. И если Шефнер не лгал, если он действительно опасался навлечь на себя лишнее подозрение, то было бы ошибкой со стороны Круклиса продолжать настаивать на их встрече.
— Ситуация, — невольно произнес Круклис и взглянул на командира отряда. — Что скажешь, Федор Алексеевич?
— Боюсь, товарищ дядя Коля, что-либо советовать, — признался командир.
— Ситуация, — повторил Круклис. — Как по пословице: поехали по шерсть, а вернулись сами стрижеными. Однако давайте сделаем так. Шефнера больше не уговаривайте. Я сегодня же возвращаюсь за линию фронта. Но вы майору об этом ни слова не говорите. Пусть у него создастся впечатление, что мы о чем-то тут думаем. А тем временем специалисты точно определят истинную ценность его подарков. И если все это окажется ерундой, Зое и Ермилову придется немедленно с полигона уходить. Вам, Федор Алексеевич, об этом будет сообщено….
Глава 26
Доронин с нетерпением ожидал возвращения Медведева. Ему хотелось, чтобы майор опередил появление полковника. Хотелось полностью закончить справку о довоенном периоде жизни Барановой и представить ее начальнику, как только он появится в своем кабинете. Но неожиданно работу пришлось отложить. Позвонил дежурный из приемной наркомата и проверил:
— Вы вызывали гражданина Назарова Тимофея Захаровича?
— Назарова? — припоминая, переспросил Доронин. — А, конечно, конечно.
— Он прибыл, — доложил дежурный.
— Прекрасно. Сейчас я к нему выйду. У вас найдется свободная комната?
— Третья, товарищ подполковник.
— Иду.
Доронин быстро оделся и вышел на улицу. Приемная наркомата размещалась на Кузнецком мосту, и подполковник уже через несколько минут был там.
В приемной было несколько человек, в том числе и военных. Но Доронин безошибочно отыскал среди них того, кто ему был нужен.
— Вы Назаров? — спросил он уже немолодого бойца с широким лицом и маленькими живыми глазками, одетого в поношенную шинель, подпоясанную брезентовым ремнем, и обутого в ботинки с обмотками.
— Так точно, товарищ подполковник, — вставая со стула, ответил он.
— Давайте документы, — сказал Доронин.
— Пожалуйста, — ответил боец, расстегнул шинель, достал из кармана гимнастерки документы и протянул их Доронину.
Доронин просмотрел красноармейскую книжку, командировочное предписание.
— Как добрались, Тимофей Захарович? — дружелюбно спросил он.
— Так ведь известно как, товарищ подполковник. С фронта — на машинах. Потом на товарняке. А уж к Москве подъезжал, как все люди, на пассажирском, — ответил Назаров.
— Домой-то заглянули?
— Нет! Что вы, товарищ подполковник! — категорически отверг это предположение Назаров. — Мне как сказали у нас в особом отделе, чтоб я прямо сюда, так я без задержки с Курского и дунул на Кузнецкий.
— Ну, это они зря уж так строго вас проинструктировали, — добродушно усмехнулся Доронин. — Дома побывать обязательно надо. А фронтовику даже положено. Поэтому давайте сделаем так. Я сейчас отмечу командировочное, что вы прибыли. Отдам его вам, это на случай, если патруль остановит. И вы поезжайте домой. Отдохните с дороги. А завтра утречком приходите опять сюда. Дома-то кто-нибудь есть у вас?
— А как же? Жена, товарищ подполковник. И дочь, — довольно улыбаясь, ответил Назаров.
— Давно их не видели?
— Да уж больше года. Из госпиталя на фронт возвращался, вот тогда и заглянул на пару деньков.
— А когда в армию призывались?
— В октябре сорок первого, товарищ подполковник.
— А до октября были в Москве?
— А как же! Каждую ночь на крыше. Еще тогда четыре зажигалки потушил, — вспомнил Назаров.
«Для беседы не готов», — подумал Доронин. И сказал:
— Ну что ж, это очень хорошо. А соседей по дому еще не забыли?
— Это жильцов-то? — уточнил Назаров. — Да не только их, а и приятелей-то из них всех помню и знаю. Известное дело — дворником работал.
— Вот у меня и будет к вам просьба, Тимофей Захарыч, — перешел на серьезный тон Доронин. — Порасспросите жену хорошенько, кто из жильцов, которые перед войной или уже после начала ее уехали из дома, за время вашего отсутствия возвращались в Москву? Может, совсем вернулись, а может, кто на денек, на два заглядывал. Пусть она вспомнит. Поняли?
— Чего ж тут непонятного, товарищ подполковник? Все яснее ясного, — ответил Назаров. — Все узнаю как есть.
— Вот и хорошо. Жене ничего говорить не надо. Из интереса, мол, спрашиваете, — посоветовал Доронин.
— Конечно, товарищ подполковник. Не резон ей в наши солдатские дела лезть, — согласился Назаров.
Доронин отметил командировочное предписание.
— Значит, завтра к десяти буду ждать вас здесь, — напутствовал он Назарова и отпустил его домой.
А сам вернулся к себе. В отделе его уже ждал Медведев. С ним они просидели до глубокой ночи.
— И удивляться нечему, что Леня не нашел в Киеве никаких ее следов. Врет она все. Никогда она там не родилась и до революции не жила, — тыча пальцем в фотографию Барановой, сердито закончил свой доклад Медведев. — Ну и пройдоха…
— Думаю, Дима, тут дело посерьезней. И намного! — задумчиво проговорил Доронин. — Когда она впервые начала менять свои данные?
— В восемнадцатом. Когда за Судзиловского замуж выходила, — ответил Медведев.
— Вот когда она уже почувствовала, что с советской властью ей не по пути!
— Только не по пути или уже начала ей вредить?
— Узнаем, Дима. Узнаем, — уверенно ответил Доронин. — Лёне в Киеве еще раз придется побывать. И прояснить последнее темное пятно в довоенной биографии этой дамы.
Доронин отпустил Медведева отдыхать, а сам снова вернулся к составлению справки для начальника отдела. С использованием новых, очень важных данных, которые привез Медведев, дело у него значительно продвинулось вперед. И не хватало только одного звена, чтобы замкнуть всю цепь целиком. За этим недостающим звеном Петренко вылетел в Киев уже в первой половине следующего дня. А Доронин, как и было условлено накануне, снова встретился с Назаровым.
— Ну как дома встретили? Обрадовались? — приветливо спросил он.
— Ишо как обрадовались, товарищ подполковник. Жена сразу заголосила. А я ей говорю, што ж ты ревешь, голова садовая? Муж домой возвернулся живым и здоровым! А ты ревешь! — с увлечением рассказывал Назаров. — Она, значит, подумала, что я снова ранен. А я говорю: да какая же рана, ежели я сам на своих двоих до дома добрался и руками тебя обнимаю так, что у тебя кости трещат…
Разговор предстоял серьезный, и Доронин пригласил Назарова в отдельную комнату, имевшуюся для таких случаев при приемной. В комнате было светло, тепло, стоял стол и несколько стульев. Доронин предложил Назарову снять шинель. Солдат разделся, и Доронин увидел у него две медали: «За отвагу» и «За боевые заслуги», желтую и красную ленточки, нашитые на правой стороне гимнастерки.
— За что награжден? — предложив Назарову сесть, спросил Доронин.
— «За отвагу» дали за то, што пулемет ихний гранатами уничтожил, товарищ подполковник. А «За боевые заслуги» — полагаю за то, што с высоты не ушел. Отстреливались мы на ней до последнего, можно сказать, патрона. А когда боеприпас весь кончился, врукопашную схватились. А тут и наши подоспели. Ну и командир наш всех, кто уцелел, представил к награде.
— А ранены когда были?
— Легко-то, — ткнул пальцем в красную нашивку Назаров, — ешо в сорок первом. В спину осколком зацепило. А тяжело, это он меня пулей из крупнокалиберного в ногу. Аккурат в бедро. Так и вышиб кусок кости. Это уже под Харьковом, в сорок втором. Я с той поры на передовую так больше и не попал. В тылу служу. В банно-прачечном комбинате. Своих обстирываем. И уже не немца, а вошь жаром и паром бьем, товарищ подполковник, — доложил Назаров.
Доронину нравилась бесхитростность и добродушие солдата. Вел он себя спокойно. Не нервничал и не робел. Что можно было сказать далеко не о всех, с кем приходилось иметь дело подполковнику. На некоторых из тех, кого вызывали в наркомат, даже совершенно ни в чем не виноватых, уже сам вызов действовал крайне волнующе…
— Ну, Тимофей Захарыч, а о чем я вас просил, поговорили с женой? — после небольшой паузы перешел к делу Доронин.
— Обязательно, товарищ подполковник. Все разузнал как есть, — ответил Назаров.
— Давайте рассказывайте, — попросил Доронин.
— Наши жильцы, товарищ подполковник, кто вакуирован был, вернулись почти все. Это, стало быть, женщины, старухи, старики, какие при них и дети. А мужики и парни — те, значит, в армии. Кое на кого уже похоронки пришли. Вот у меня тут списочек для памяти. А не вернулись, получается, только Шишигины из пятой квартеры, Ануфриевы, мать и дочь, из двенадцатой и Жигалины из двадцать третьей. У них тоже мать, дочь и еще бабка. Это все, товарищ подполковник.
— Хорошо, — одобрил Доронин. — Ну а из тех, кто еще до войны уехал?
— А до войны у нас только четверо уезжали, — точно ответил Назаров. — Звонковы: сам, значит, он, жена и трое детей у них было. Эти уехали куда-то на Волгу еще в тридцать девятом. Они из квартеры сороковой. А из флигеля выезжали: старшая Мартынова, Анна, стало быть, в тридцать седьмом в Новосибирск. А младшенькая, Люба, — та в сороковом вместе с мужем в Белоруссию. Не то в Бобруйск, не то в Борисов, не то ешо куда-то. А вместо них во флигеле поселилась Баранова Мария Кирилловна, врачиха. Та тоже уехала перед войной недели за две. Вот так…
— И куда же она уехала?
— В Ригу, товарищ подполковник.
— Откуда вам это известно?
— Так она мне сама сказывала. Поеду, говорит, братца навещу в Риге.
— А еще кому-нибудь она об этом говорила?
— Еще кому? — неожиданно задумался Назаров. — Не знаю, однако, товарищ подполковник. Точно сказать не могу… Хотя, похоже, что навряд ли…
— Почему так думаете?
— Да потому, что она уехала, а больные-то к ней все ходили да ходили. А ее нет и нет. Они, стало быть, начали расспрашивать жильцов: куда, дескать, делась? Когда вернется? А жильцы-то ничего и сказать не могут. Вот я и думаю, что никому она ничего не сказала.
— А почему она вам сказала, Тимофей Захарыч?
— А как же, товарищ подполковник? Ежели я ей завсегда пособлял? То, понимаешь, картошки из магазина принесу, то капусты, то дровишек напилю, наколю. Ледок опять же с приступков зимой обобью. Она меня даже очень привечала. Идет, бывало, куда, поговорит. Зуб мне вылечила…
— Она что, одинокая была?
— Ды как сказать? — снова задумался Назаров. — В Москве, это точно, у нее никого не было. А вот в Риге — брат. А еще племянник имеется…
— Откуда знаете?
— Собственными глазами видел, вот как вас, товарищ подполковник, — ответил Назаров.
— Кого? Брата? Племянника?
— Племянника, товарищ подполковник. Брата-то как я увижу? Он в Риге…
— А племянника где видел?
— Тут, в Москве, прямо у нас во дворе.
— Когда это было?
— А как они вместе переезжали. Она, значит, на жительство. А он ей помогал. Мы тогда вместе с ним вещички разгружали. И в квартеру их вместе вносили. А потом он два дня жил у нее. Так что мы опять же встречались, — рассказывал Назаров.
— А потом куда он уехал?
— А вот уж это я не знаю. Этого они мне не сказывали, товарищ подполковник, — словно извиняясь, признался Назаров. — Но думаю, что недалеко.
— Это почему же?
— А потому, что старуха моя посля видела его.
— Где?
— А тут же, в нашем дворе…
— Когда? При каких обстоятельствах?
— Числа старуха не называла, а говорила, что недавно. И было это уже после того, как квартеру Барановой обчистили жулики.
— А все-таки, Тимофей Захарыч, поточнее можно установить? — попросил Доронин. — Это очень важно. Очень!
— Попробую добиться чего-нибудь от жены, — не очень уверенно пообещал Назаров. — Но тут, я бы сказал, другое антиресно, товарищ подполковник. Племянник, а назвался больным. Говорит, лечился у Барановой. И теперь пришел тоже вроде как подлечиться.
— А может, это на самом деле не племянник был?
— Точно, племянник, товарищ подполковник. Жена божится, что сразу его узнала. И даже сказать ему об этом хотела. Но коли уж он назвал себя больным, то, значит, постеснялся. А так точно, говорит, он. Только вроде как поисхудал маленько. И в военном был.
— Это очень интересно, Тимофей Захарыч, — сказал Доронин. — И очень важно. Надо, чтобы вы все это написали мне.
— Э… товарищ подполковник, писать-то я не мастер. С грамотешкой-то у меня хреновато, — признался Назаров.
— Надо, Тимофей Захарыч, — повторил Доронин.
— А может, дочка напишет? А мы с женой подпишемся? У нее ладно получится. Она у нас хорошо ученая, — предложил Назаров.
— Ну что же, пусть напишет. И обязательно пусть жена поточнее припомнит, когда видела этого племянника. И еще: опишите, каков он из себя. Все, что припомните, все опишите. Каков у него рост. Какое лицо: глаза, нос, рот… Поняли?
— Как не понять, товарищ подполковник? Все как есть пропишем, — пообещал Назаров.
— Завтра выходной. Отдыхайте. А в понедельник жду вас, дорогой, со всеми бумагами, — поднимаясь из-за стола, сказал Доронин.
— Все сделаю, товарищ подполковник, — вставая следом за ним, ответил Назаров.
Глава 27
Как ни спешил полковник Круклис в Москву, а вылететь удалось лишь через неделю. Погода неожиданно резко испортилась, небо закрыли низкие тучи, снегопад снизил видимость до минимума, авиация, оказавшись беспомощной перед разбушевавшейся стихией, бездействовала. Лишь к концу недели на партизанский аэродром приземлился легкокрылый По-2. Круклис распрощался с партизанами и вылетел на Большую землю. В Москве он появился в тот же день и сразу же отправил специалистам на экспертизу то, что получил от Шефнера. Ефремова в городе не было. Докладывать о результатах командировки было некому. Круклис занялся делами и пригласил к себе Доронина.
— Давненько не виделись, Владимир Иванович, как-то вы тут поживаете? — радушно пожимая руку своему заместителю, осведомился он.
— С возвращением, Ян Францевич. Ждем вас с нетерпением. Есть что доложить, — ответил Доронин.
— Лучшего и не придумаешь. Готов слушать!
— И не только доложить, но и кое-что показать, — добавил Доронин, раскрыл папку, достал фотографию и положил ее на стол перед начальником. — Мария Кирилловна Баранова собственной персоной.
Круклис молча взял фотографию, долго ее разглядывал, потом спросил:
— Как удалось найти?
— Медведев, Ян Францевич, отличился. Прекрасно справился с заданием. Достоин поощрения. Ухватил, можно сказать, чудом сохранившийся негатив.
— Почему «чудом»? — спросил Круклис.
— Как выяснилось, товарищ полковник, Баранова сама уничтожила все свои фотографии. Поэтому мы и не могли нигде найти их. А этот случайно сохранился у приятеля ее последнего мужа. Кстати, все остальные свои снимки и даже негативы, которые были у этого приятеля, она тоже забрала и не вернула.
— Вот как, — усмехнулся Круклис и снова взглянул на фотографию. — Медведева непременно отметим. А фотография весьма выразительная. Этакая львица полусвета. А как с ее биографией?
— Закончена, товарищ полковник.
— Даже так? И готовы доложить?
— Так точно, товарищ полковник.
С этими словами Доронин снова раскрыл папку, которую по-прежнему держал под мышкой, достал несколько отпечатанных на машинке листков и протянул их Круклису.
Но Круклис читать бумаги не стал.
— Докладывайте, Владимир Иванович. А я послушаю, — попросил он и снова взял со стола фотографию Барановой.
— Интересующая нас Мария Кирилловна Баранова, она же Марфа Карповна Грицай, она же Марина Константиновна Судзиловская, она же Матильда Карловна Шидлер родилась в Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот девяносто четвертом году, — начал докладывать Доронин. — Ее отец — Карл Эдуардович Шидлер — служил помощником полицмейстера столицы по внешним связям. В ноябре семнадцатого года исчез. Матильда Шидлер в мае восемнадцатого года вышла замуж за подполковника Генерального штаба Сергея Григорьевича Судзиловского, взяла его фамилию, изменила имя и отчество и вместе с мужем уехала из Петрограда в Сызрань, где подполковник Судзиловский примкнул к белочехам и в сентябре того же года был взят красноармейцами в плен, осужден военным трибуналом за активную контрреволюционную деятельность и расстрелян. Марина Судзиловская перебралась в Киев и вторично вышла замуж, на сей раз за одного из помощников уполномоченного Украинской директории Ефима Грицая. Снова взяла фамилию мужа, и опять изменила имя и отчество. В сентябре девятнадцатого года Грицай вместе с уполномоченным и Петлюрой бежал в Варшаву. Марфа Грицай до двадцать четвертого года оставалась на Украине, вышла замуж третий раз, теперь уже за вполне лояльного советской власти инженера-путейца Виктора Васильевича Баранова, еще раз изменила фамилию, имя и отчество и переехала с мужем в Детское Село, ныне город Пушкин Ленинградской области. В период с тысяча девятьсот двадцать шестого по тысяча девятьсот тридцать четвертый год неоднократно выезжала с мужем в служебные командировки за границу. Вполне возможно, что именно в этот период и была завербована иностранной разведкой. После гибели Баранова в тридцать пятом году в железнодорожной катастрофе Мария Кирилловна Баранова переехала на постоянное жительство в подмосковный дачный поселок Томилино. А уже оттуда в Москву, на Арбат, где занималась врачебной практикой на дому. Перед самой войной, буквально за несколько дней до ее начала, Баранова сообщила дворнику, что уезжает на неделю-другую погостить к брату в Ригу и действительно уехала из Москвы. Однако в разговоре с дворником Назаровым она уже применила дезинформацию, так как никакого брата у нее никогда не было, что вытекает из показаний ее отца, Шидлера, данных следствию после его ареста в июле 1919 года за участие в контрреволюционном заговоре в Петрограде. Таким образом, портрет Барановой вырисовывается довольно четко.
Круклис внимательно взглянул на своего зама.
— Самая ярая антисоветчица. Доказывает это всеми своими связями и все делает для того, чтобы никто ничего не узнал о ее прошлом, — продолжал Доронин. — И хотя на данный момент никаких прямых улик против нее у нас нет, но это лишь потому, что мы просто пока их еще не искали. Разбирались, как вы знаете, выяснением, кто же она такая на самом деле. И нам только еще предстоит узнать точно: на кого и как она работает…
Сказав это, Доронин закрыл папку.
— По-моему, вывод правильный, — подумав, сказал Круклис. — Куролесила она, конечно, неспроста. И, надо думать, не от хорошей жизни. Но когда же она стала врачом, Владимир Иванович? Все время свадьбы, разъезды, переезды… Или она просто заимела фальшивый диплом?
— Никак нет, товарищ начальник. Диплом подлинный. И выдан по всем правилам. Он-то и помог нам выйти на истинный след Матильды Шидлер. Хотя лично я до сих пор понять не могу, зачем он ей понадобился? И вообще не представляю, почему она хотела стать врачом. Семейка-то была куда как не из бедных, — признался Доронин.
— Э-э… Владимир Иванович, я-то как раз ничего странного в этом не вижу. Немцы, мой дорогой, народ практичный. Не забывайте, что даже в наше время многие гитлеровские бонзы отдавали и отдают своих детей, особенно парней, на воспитание в рабочие семьи. Этому, конечно, имеется много объяснений. Но в целом практического смысла здесь тоже предостаточно, — заметил Круклис. — Начала, говорите, учиться до революции? Когда?
— В девятьсот четырнадцатом, товарищ полковник, — доложил Доронин.
— Вот видите! А что представлял собой этот четырнадцатый год? Начало Первой мировой войны — раз, и уже предреволюционное время — два! И в канцелярии полицмейстера, могу вас уверить, знали об этом лучше, чем где бы то ни было. Так что подумать о будущем было совсем нелишне. Сколько же она проучилась?
— Три года, товарищ полковник. Закончила третий курс и уехала в Сызрань, — ответил Доронин. — В двадцать четвертом вернулась в Ленинград, продолжила учебу и закончила ее в двадцать шестом.
— И пригодилось! Одна осталась, без диплома что бы делала?
— Пригодилось, товарищ полковник, — согласился Доронин. — И профессия хлебная, и прикрытие надежное.
— Накуролесила, — снова в раздумье проговорил Круклис, — и уехала, как вы говорите, в Ригу.
— Дворник Назаров так утверждает с ее слов, товарищ полковник. Но ведь как это сейчас проверишь?
— И проверять не надо, Владимир Иванович, — решительно сказал Круклис. — В Ригу она не ездила. Делать ей там нечего. Вы подумайте: могла она что-нибудь знать о сроках начала войны?
— Вряд ли, товарищ полковник, — откровенно ответил Доронин. — Теперь уже доподлинно известно, какое огромное значение немцы придавали внезапности своего нападения. Кто бы стал рисковать таким секретом и предупреждать ее?
— А я думаю и уверен, что предупредили, — сказал Круклис. — День и час, конечно, не указывали, а команду «Уезжай!» — дали. И куда? Да еще глубже в наш тыл. Москву, по их планам, должны были взять! Так зачем же ей было тут оставаться? Нет, ни здесь, ни в Риге ей точно делать нечего… Искать ее будем у себя в тылу, Владимир Иванович. Но не может быть, чтобы она не оставила здесь своих связных. От службы перехвата никаких сведений не поступало?
— От них — нет. Ни одной неизвестной радиопередачи из Москвы и ее окрестностей запеленговано не было. Но очень интересные сведения сообщил тот же Назаров.
— Что именно? — живо заинтересовался Круклис.
Доронин доложил полковнику все, что узнал от бывшего дворника о племяннике Барановой.
— На основании сделанных Назаровым и его семьей портретных описаний так называемого племянника наши специалисты создали фоторобот. Вот он, — сказал Доронин, достал из папки еще одну фотографию и также передал ее Круклису.
— Совсем хорошо, — улыбнулся полковник, кивнув на папку. — Может быть, у вас там еще что-нибудь припрятано?
— К сожалению, это пока все, товарищ полковник, — развел руками Доронин. — Но мы проверили одно сопоставление. Время выхода в эфир запеленгованного нашими специалистами неизвестного нам передатчика в конце сентября этого года примерно совпадает по срокам с визитом «Племянника» к Барановой. Можно предположить, что он все-таки побывал на квартире врача и сообщил об этом своим шефам.
— Правильный вывод, Владимир Иванович, — согласился Круклис. — Но остается неясным еще один очень важный вопрос: зачем он туда ходил? Что ему там было надо?
— А может быть, кто-то? И он надеялся там его встретить? — высказал предположение Доронин.
Круклис рассмеялся.
— Вернулась сама Баранова и там его ждала?
— Ну, о ней-то я как раз думал меньше всего, — ответил Доронин.
— И другой никто быть там не мог, — решительно отверг эту версию полковник. — Ему там было нужно что-то! Но что именно?
— Какие-то вещи… — не очень уверенно начал нащупывать Доронин.
Круклис кивнул:
— Допускаю. Драгоценности. Но ведь он знал, что квартиру уже обворовали?
— Документы, — продолжал Доронин.
— Думаю, что это точнее…
— Но какие?
— А любые! Хотя бы тот же диплом, который так вам помог.
— Вы допускаете, что она могла его оставить?
— А почему бы и нет? Кто возит с собой дипломы? Свидетельства о рождении? Свидетельства о браке?
— Но Баранова это не «кто»! Она за собой следов не оставляет! — напомнил Доронин.
— Согласен, — не стал упорствовать Круклис. — Значит, что-то другое. То, что она оставила! И может быть, даже нарочно оставила.
— Так, может, он приходил за фотографиями? Ведь мы давно уже предположили, что кто-нибудь должен за ними прийти!
— Вот эта версия самая правдоподобная! — подумав, сказал Круклис. Помолчал. Закурил. Потом добавил: — Но разрабатывать я ее соглашусь только после того, как мы точно установим, какие конкретные объекты и с какой целью на этих фотографиях запечатлены.
— Экспертиза определила почти все…
— Почти! — сделал упор на это слово Круклис. — А вот там есть еще пять или шесть подворотен, они что, случайно попали в объектив?
— Пока не знаю, — признался Доронин.
— И что это за подворотни? В каких домах? Где стоят эти дома? — сразу задал несколько вопросов Круклис.
Доронин не ответил и на них.
— Не будем знать это — не будем уверены в том, что напали на верный след, — сделал вывод Круклис.
— Тогда придется повторить экспертизу. И провести ее более тщательно, — сказал Доронин.
Круклис будто ждал этого предложения и в ответ только безнадежно махнул рукой.
— Что экспертиза, Владимир Иванович, в данном случае? Ну она подтвердит, что на фотографиях снят Крымский мост, а не Каменный и не Москворецкий. Укажет точно место, откуда велась съемка. Но на наши вопросы она не ответит. На них ответит только тот, кто в деталях знает архитектуру города. Кто помнит все каменные и чугунные узоры прошлого и настоящего. Вот смотри: на этом фото — ворота как ворота. А вот этот фриз? Ну что о нем скажет экспертиза? Да ничего, разве что сообщит самые общие сведения. А для кого-то этот каменный бордюр — целая история. И кто-то точно скажет, что таких в Москве всего два или три. И один из них на Таганке, бывшем доме купца Пивоварова. Второй — на Волхонке и третий— на Остоженке — ныне Метростроевской улице. И это будет то, что нам надо. Поэтому, дорогой Владимир Иванович, пошли-ка ты Медведева в Музей истории и реконструкции Москвы. Пусть он найдет там этакого влюбленного в свое дело специалиста. И пусть попросит его разгадать этот кроссворд. А когда мы получим от него ясные и точные ответы, тогда решим, что нам делать дальше.
Глава 28
Сообщение о начале нового советского наступления на Украине вызвало в «Вольфшанце» переполох. Гитлер немедленно потребовал к себе начальника Генерального штаба сухопутных войск Цейтцлера. И едва тот вошел к нему, потрясая в воздухе шифровкой, в негодовании спросил:
— Что это? Что это, спрашиваю я вас, Цейтцлер?
Начальник Генштаба уже был в курсе событий. Поэтому ответил без обиняков:
— По-моему, мой фюрер, там началось зимнее наступление.
— Но откуда они взяли резервы? И какие?
— Им удалось восстановить девять танковых корпусов, мой фюрер, — ответил генерал.
— И это все?
— Других данных у нас нет, мой фюрер. Но можно предполагать, что в пехоте у русских никогда не будет недостатка…
— Вы думаете, это серьезно? — не дал ему договорить Гитлер, надеясь услышать в ответ что-нибудь утешительное. Что-то такое, что не противоречило бы его представлению о положении на фронте.
Но Цейтцлер ничем не порадовал его. Он только посоветовал подождать несколько дней для того, чтобы точнее уяснить обстановку. А пока продумать, откуда и какие силы можно будет перебросить на Украину, если там создастся кризисная ситуация. Однако Гитлера не успокоил деловой тон начальника Генштаба.
— Если нам не удастся остановить русских в первые же дни их наступления, самая сложная, а возможно, и катастрофическая ситуация создастся здесь, в Крыму, — заявил он. — Но потерять Крым мы не можем ни в коем случае. Мы обязаны всеми силами оборонять этот второй Сталинград. Манштейн выстоит! Он обязан выстоять! Сколько мы дали ему дивизий?
— Вам известно, мой фюрер!
— Конечно! Он получил пять полностью укомплектованных танковых дивизий, три пехотных и одну парашютно-десантную! Полторы тысячи танков! Он выдержит натиск русских! Он обязан выдержать! — неистовствовал Гитлер.
Но это тоже оказалось иллюзией. В полдень двадцать седьмого декабря 1943 года Манштейн сообщил Гитлеру, что вынужден начать отход по всему фронту.
Это отступление в очередной раз спутало в «Вольфшанце» все планы и надежды.
Кейтель, Йодль, Цейтцлер почти не уходили от Гитлера. Настроение в ставке было более чем мрачное. Впоследствии бывший до Цейтцлера начальником Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер напишет в своем дневнике: «Самое позднее в конце 1943 года стало ясно, что война в военном отношении проиграна». Ясно настолько, что в начале января Геббельс даже посоветовал Гитлеру начать «мирные переговоры со Сталиным». Но совет принят не был. Вместо переговоров было решено взять из группы армий «Север» двенадцать дивизий и срочно перебросить их на Украину. Но успели перебросить только две. Красная армия в начале января начала наступление под Ленинградом и Новгородом. В результате его колыбель революции была полностью освобождена от вражеской блокады. Население одного из крупнейших в стране городов получило возможность нормально для военных условий жить и трудиться.
В эти дни в «Волчье логово» зачастили Борман, Геббельс, Гиммлер. Совещания длились до глубокой ночи, а зачастую и до утра. Цель их была одна: изыскать еще не задействованные резервы для продолжения войны. Рейхсминистры, рейхсфюрер докладывали. Гитлер слушал. Потом говорил он. Слушали они или каждый из них в отдельности, если Гитлер совещался с ним с одним. Гитлер, как всегда, говорил долго, не опуская никаких подробностей и деталей. Память у него была цепкая, и он не упускал случая щегольнуть ею. Во время одного из таких совещаний с Гиммлером он вдруг остановил на «верном Генрихе» свой взгляд. Гиммлер немедленно заметил это и попытался понять, чем это вызвано. Но ему память не подсказала ничего. И он сделал вид, что взгляд этот его не касается. Тогда Гитлер прояснил ситуацию сам.
— Вы давно не докладывали мне, Генрих, о том, как идет подготовка к проведению акции в Москве, — заметил он. — Или вы уже забыли об этом моем указании?
— Как можно, мой фюрер? — выразил крайнее изумление Гиммлер. — Не проходит и дня, чтобы я не говорил об этом с Эрнстом. А не докладываю только потому, что все идет так, как надо.
— И все же, Генрих. Я хотел бы быть в курсе некоторых подробностей. Вы уже подобрали исполнителя акции?
— Да, мой фюрер. Этим вопросом занимался лично Скорцени. Кандидатура одобрена Мюллером и Эрнстом, и в настоящий момент исполнитель проходит курс обучения в нашей школе «Ораниенбург».
— Хорошо, — остался удовлетворенным Гитлер. — Долго ли еще вы собираетесь его учить?
— Вся подготовка во всех ее аспектах была рассчитана на год, мой фюрер. Прошло уже полгода. Значит, осталось примерно еще столько же, — ответил Гиммлер.
Рейхсфюрер был несколько далек от истины, когда уверял фюрера, что и на день не выпускает ход подготовки террориста из поля своего зрения. Дел у него хватало и без этого русского. Но то, что неделю тому назад ему действительно о ходе подготовки акции докладывал Кальтенбруннер и сведения эти были свежи — это было правдой.
— Полгода в наше время — это слишком большой срок, Генрих, — подумав, сказал Гитлер.
— Я понял, мой фюрер. Мы обсудим с Эрнстом этот вопрос самым подробнейшим образом, — пообещал Гиммлер. — Но я не уверен, что нам удастся ускорить некоторые технические вопросы. Вы же знаете, что, несмотря на все старания инженеров, по-прежнему стопорится дело с созданием фаустпатрона.
— Да. Мне это известно. И только недавно Шпеер клялся, что уже весной русские танки запылают кострами от этого нового оружия, — сказал Гитлер.
— Я возьму это под свой контроль, мой фюрер, — пообещал Гиммлер.
— Хуже не будет, — согласился Гитлер. — Но сроки исполнения акции! Сроки, Генрих! Они должны быть сокращены.
Гиммлер с удовольствием поговорил бы сейчас о чем-нибудь другом. Например, о том, что людям Шелленберга удалось немало узнать о том, о чем говорилось на совещании Большой Тройки в Тегеране, а позднее на совещании Рузвельта, Черчилля и Инёню в Каире. Или хотя бы о том, какие новые драконовские меры применяет гестапо против разного рода маловеров, шептунов, сплетников и прочих распространителей вредных слухов. Но он не был уверен в том, что Гитлера сейчас заинтересует эта тема, и пообещал непременно, сегодня же еще раз обсудить с Кальтенбруннером вопросы, как ускорить подготовку к проведению акции. Гитлер в ответ устало кивнул в знак согласия. Гиммлер обрадовался, что аудиенция окончилась, и поспешил оставить Гитлера одного. Но, возвратившись в Берлин в свою резиденцию на Принц-Альбрехтштрассе, 8, он действительно сразу же пригласил к себе начальника РСХА. И как только тот появился в кабинете, сразу же сказал ему:
— Фюрер недоволен, Эрнст, темпами подготовки к акции русского террориста.
— Но ведь все идет по плану, рейхсфюрер, — не захотел в чем-либо признавать себя виновным Кальтенбруннер.
— Значит, эти планы не годятся ни к черту, — решил Гиммлер.
— Это другое дело, — согласился обергруппенфюрер. — Давайте пересмотрим их.
— Дело не только в сроках, Эрнст, — продолжал Гиммлер. — Думаю, что не хватает и самого нашего с вами участия во всей этой операции. Я очень просил бы вас выкроить время и самому вникнуть во все детали подготовки. Я чувствую, что фюрер теперь будет постоянно интересоваться ее ходом. И каждый раз нам следует докладывать ему о каких-либо существенных его сдвигах.
— Я согласен с вами, рейхсфюрер, что именно так это и будет, — ответил Кальтенбруннер. — Но я в курсе абсолютно всех дел. Все, повторяю, идет нормально. Люди работают напряженно. У меня нет претензий ни к кому. Мне известно, например, что уже два дня тому назад начали сборку самолета-доставщика. Через месяц его будут испытывать в воздухе. Это совершенное чудо техники.
— Жаль, что я не знал этого, — откровенно посетовал Гиммлер. — Я мог бы доложить об этом фюреру.
«Ничего. Я сам доложу. И фотографии покажу», — подумал Кальтенбруннер и сказал: — О сроках я поговорю со Скорцени и Грейфе, рейхсфюрер. Мы еще раз просмотрим программу подготовки и предельно уплотним ее за счет отказа от второстепенных тем.
На этом разговор о подготовке акции закончился. Кальтенбруннер перешел к докладу о последней операции в Варшавском гетто.
Глава 29
Политов немало был озадачен тем обстоятельством, что его неожиданно вызвал начальник курсов гауптштурмфюрер Краузе. Ведь только два дня тому назад они просматривали оценочные листы Политова, говорили о том, на что Политову следует обратить особое внимание, и вдруг снова вызов. Политов жил в постоянном страхе: не дай бог не угодит чем-нибудь эсэсовцам и они потеряют к нему интерес, заменят кем-нибудь другим. Поэтому от неожиданных вызовов он ничего хорошего не ждал. Но когда он предстал перед Краузе на сей раз и услышал то, что тот ему сказал, глаза у него вылезли на лоб.
— Я хочу поздравить вас, господин курсант, с успешным окончанием учебы, — благосклонно улыбаясь, объявил гауптштурмфюрер и пожал Политову руку. И, заметив на лице у него полное недоумение, добавил: — Да-да. Вы весьма неплохо усвоили материал, и теперь вам предстоит лишь кое-что отработать на практике.
Политов понял, что его не выгоняют. Он сразу же успокоился и заверил эсэсовца в том, что, как и прежде, готов выполнить любое задание.
— Вы ведь были какое-то время в «Русланд-Норде»? — спросил Краузе.
— Так точно. Имел честь быть представленным господину штурмбаннфюреру Крауссу.
— Вот и прекрасно. В его распоряжение вы и направляетесь. Но только уже в Ригу. Вы бывали в Риге?
— Никак нет, господин гаупштурмфюрер, — ответил Политов.
— Это даже к лучшему. Значит, вас там никто не знает. А это очень немаловажный фактор. Так что желаю вам удачи, — перевел напутственные слова Краузе гауптшарфюрер Кранц.
В тот же день Политов в сопровождении представителя разведоргана «Русланд-Норд» выехал поездом в Ригу.
Штурмбаннфюрер Краусс уже получил от Грейфе, а затем и от самого Шелленберга все необходимые инструкции и был полностью осведомлен, кто и с какой целью прибыл в его распоряжение из «Ораниенбурга». Не избалованному вниманием столичного начальства Крауссу и самому было интересно снова посмотреть на Политова, персону которого так опекало руководство. Поэтому, как только ему доложили о прибытии Политова в «Русланд-Норд», он немедленно принял его. В отличие от мрачноватого, не знавшего русского языка Краузе Краусс держался куда проще и общительнее. К тому же в разговоре с Политовым он прекрасно обходился без переводчика. Он специально припомнил Политову, что когда-то тот уже был в «Русланд-Норде», сказав:
— Все возращается на круги своя, господин Политов. Наш добрый «Русланд-Норд» вновь принял вас. Надеюсь, вы его не забыли?
— Прекрасно помню, господин штурмбаннфюрер, — ответил Политов.
— Да, но тогда было одно, а теперь совсем другое, — заметил Краусс. — Иные времена, как сказал ваш поэт, иные песни.
— Именно так, господин штурмбаннфюрер.
— И совсем не то, господин Политов, что вас окружало и чем вы занимались в «Ораниенбурге». Конечно, все, чему вы обучались там, также крайне необходимо. Но это станет, как бы сказать, лишь фундаментом ваших знаний. Отшлифовывать же свое мастерство, изучать его во всех тонкостях вам предстоит здесь. Сюда же будет поступать вся техника и оружие, с которыми вам предстоит иметь дело. Жить в казарме вы не будете. Вам предоставят номер в одной из лучших гостиниц города — «Эксельсиоре». По городу вы также будете ходить совершенно свободно. Все необходимые на этот случай документы у вас будут…
Краусс говорил очень доброжелательно. Но именно эта доброжелательность матерого разведчика и настораживала Политова. Конечно, Политов понимал, что теперь он уже далеко не тот завербованный службой СД агент, каким он пребывал в «Русланд-Норде» почти год тому назад. На сегодняшний день его акции неизмеримо выросли. О его прибытии в «Русланд-Норд» Краусса наверняка предупредил и детально проинструктировал сам Грейфе, а возможно, и бригаденфюрер Шелленберг. Благодаря этим указаниям благожелательный тон начальника «Русланд-Норда» стал совершенно естественным. И тем не менее Политов отлично знал, с кем имел дело, и не доверял эсэсовцу ни на грош. И пока тот рассказывал ему о том, какая перед ним открывается в Риге перспектива, Политов думал и пытался угадать, куда он клонит.
— А о вас тут кое-кто частенько вспоминал, — вдруг интригующе заметил Краусс.
— Обо мне? — удивился Политов.
— Именно о вас. А почему бы и нет?
— Не могу представить, кто бы это мог быть, господин штурмбаннфюрер, — признался Политов.
— Так-то уж, — лукаво ухмыльнулся Краусс. — А фрейлейн Лида?
— Шилова? — сразу вспомнил Политов.
— Вот видите, а говорите — не могу представить. Я уже предупредил ее о том, что вы на днях возвращаетесь сюда. Или, может быть, не надо было этого делать?
— Да нет, что вы… Спасибо, господин штурмбаннфюрер, — смутился Политов. — Она девушка славная…
— А главное, очень предана нам и на очень хорошем счету не только у руководства «Русланд-Норда», но и в Берлине.
«Вот и новый Кранц! — сразу догадался Политов. — А я думаю, чего это он разошелся: сюда свободно будете ходить, туда наведаетесь. Ну да, вместе с соглядатаем».
— Человек она надежный, так точно, господин штурмбаннфюрер, — поспешил согласиться Политов.
— И весьма привлекательна как женщина, — пристально посмотрел в глаза Политову Краусс.
— Вполне, господин штурмбаннфюрер, — снова согласился Политов.
— Скажу вам откровенно, господин Политов, более надежного помощника и в работе, и в жизни вы вряд ли найдете, — сделав ударение на словах «вряд ли», наставительно продолжал Краусс.
«И этот вопрос решен. Без меня меня женили», — снова подумал Политов и снова покорно поклонился.
— Совершенно с вами согласен, господин штурмбаннфюрер, — сказал он и добавил для большей убедительности: — Я давно хотел завязать с ней самые серьезные отношения. Но не моя вина была в том, что мы вынуждены были расстаться.
— Зато теперь все будет очень хорошо, господин Политов, — заверил его эсэсовец.
После этого разговора Политова повезли в гостиницу. Он впервые видел Ригу. В этот серый зимний день город показался ему мрачноватым. Это впечатление усиливал туман и дым, расплывавшийся из труб над крышами домов. Пешеходов и машин было немного. Лица людей были понуры и озабочены, но что сразу бросилось Политову в глаза — разрушений на улицах было намного меньше, чем в Берлине.
Скоро город, однако, перестал его интересовать, и он всеми мыслями перенесся к фрейлейн Лиде, которую Краусе так бесцеремонно нарек ему в сожительницы. Едва эсэсовец назвал ее, Политов сразу же вспомнил невысокую брюнетку с осиной талией плотно затянутую в эсэсовский мундир со знаками отличия унтершарфюрера. Она тогда провела с группой, в которой он был, одно занятие по радиоделу. И сразу очень ему понравилась. Впрочем, возможно, еще и потому что казалась практически недосягаемой. Но как-то так тем не менее случилось, что через неделю они очутились вместе в кино. Сидели рядом и разговорились. Он узнал, что зовут Лидой. По отчеству она Яковлевна, по фамилии Шилова. Он, конечно, догадался, что это не настоящая ее фамилия, потому что здесь никогда и никого не называли настоящими фамилиями. Однако расспрашивать ее он тоже не стал ни о чем. Потому что, во-первых, это для него могло бы очень плохо кончиться. А во-вторых, она наверняка ничего бы ему не сказала. Узнал он лишь то, что до войны она жила в Пскове. А то, что ее настоящая фамилия Адамчик, что, как только в Псков пришли немцы, она добровольно выдала им весь комсомольский актив города и в дальнейшем служила немцам как самая преданная собака — это для него так и осталось тайной. Но он и без ее рассказов понял, что она одного поля с ним ягода. И сам рассказал ей о том, как переходил фронт под Ржевом. Таким образом, они вроде бы стали как земляки, и это в какой-то мере способствовало их знакомству. Потом они встретились еще несколько раз. А потом Политова перебросили работать по специальности в тюрьму в Вену.
Можно было быть совершенно уверенным в том, что ни он, ни она и не думали никогда больше увидеть друг друга. И вдруг: «Тут о вас кое-кто частенько вспоминал». Да чистейшей воды бред сивой кобылы. Кому он тут был нужен?! Эсэсовские штучки! А вот то, что кто-то не забыл о том, что они были знакомы, — это было другое дело. И что кому-то пришло в голову этим знакомством воспользоваться для того, чтобы приставить к нему, Политову, надежного шпиона, — это тоже было сущей правдой… С мыслями о том, что ему только что довелось выслушать, Политов и приехал в гостиницу. Да, это был не тот зашарпанный приют, в котором он жил в Вердине, пока в РСХА выбирали, кому же из кандидатов отдать предпочтение. «Эксельсиор» — это звучало! Подъезд! Швейцар! Патруль на тротуаре! И господа офицеры всех званий — проживающие!
Номер Политову отвели вполне приличный: с ванной и небольшим холлом.
— Располагайтесь, приводите себя в порядок, скоро обед, — взглянув на часы, предупредил сопровождающий.
— Да, но у меня нет ни денег, ни документов. Я даже из номера выйти не смогу. А вдруг кому-нибудь вздумается проверить? — озабоченно сказал Политов.
— Приводите себя в порядок, вам все принесут, — повторил сопровождающий и ушел.
Упоминание об обеде заставило Политова поторапливаться. Есть хотелось зверски.
Политов наскоро принял душ, побрился и принялся разглядывать свой костюм. Что и говорить: экипировка его выглядела довольно убого. И расхаживать в ней по коридорам «Эксельсиора» было по меньшей мере неблагоразумно. Первый же встречный постоялец принял бы его за жулика. Однако другого выхода не было, пришлось надевать то, на что расщедрились вещевики «Ораниенбурга». Закончил эту операцию Политов очень своевременно. Потому что едва он облачился в пиджак, как в дверь негромко постучали.
— Битте! — по-немецки ответил Политов.
Дверь открылась. На пороге появилась Шилова.
— Вот мы и снова вместе! — наигранно улыбаясь, кокетливо проговорила она.
Политов на момент опешил. Но тут же нашел достойный ответ.
— Знаешь, Лидуша, — решил он сразу переходить на семейный лад, — значит, это судьба. Ну, здравствуй, моя дорогая!
Шилова вошла, закрыла за собой дверь, подошла к Политову и бесцеремонно поцеловала его в губы. Хотя до этого, насколько помнилось Политову, он всего лишь однажды взял ее за руку и то для того, чтобы помочь ей спуститься со скользких ступенек крыльца клуба, в котором они смотрели очередную кинокартину.
Политов помог Шиловой снять пальто и повесил его на вешалку в прихожей. А Шилова подошла к столу, раскрыла свою сумочку, достала из нее пачку денег, коричневую книжечку, оказавшуюся удостоверением, и протянула все это Политову.
— Это тебе от нашего посаженого отца господина Краусса, — объяснила она. — Он сказал, что на первое время этого нам должно хватить.
Политов взял деньги, повертел их в руках и бросил на стол. Раскрыл книжечку и внимательно ознакомился с тем, что в ней было. Это было удостоверение, выданное инженеру фирмы «Мессершмитт» и пропуск на право хождения по городу в любое время суток. И то и другое было скреплено печатями и подписями штурмбаннфюрера Краусса.
— Мы будем ему благодарны всю жизнь, — делая ударение на «мы», сказал Политов. Перечить новоявленному посаженому отцу ему и в голову не приходило.
Глава 30
— Лучшего специалиста по архитектуре восемнадцатого-девятнадцатого веков, чем Соломон Маркович Зискинд, вам все равно не найти, — сказали Медведеву в дирекции музея.
— А где его искать? — не стал возражать Медведев.
— По коридору четвертая комната направо.
— Благодарю, — закрывая за собой дверь приемной, отправился на поиски специалиста Медведев.
Невысокий, полненький, очень подвижный, Зискинд сразу произвел на Медведева самое хорошее впечатление. В его живых, полных молодого задора глазах, умеющих быть то внимательными, серьезными, то игривыми и смеющимися, светился ум. Он терпеливо, ни разу не перебивая, выслушал Медведева. А когда тот полностью изложил свою просьбу, покачал головой:
— Ничего себе задачечка! В Москве полмиллиона подворотен, и вы считаете, что Зискинд все их должен знать?
— Мы просим, Соломон Маркович, помочь нам, — повторил Медведев.
— А если я ошибусь, так я уже буду виноват?
— Боже упаси!
— Хорошо. Давайте посмотрим ваши фотографии, — доставая из ящика стола большое увеличительное стекло, очень похожее на то, которым пользовался Круклис, сказал он.
Медведев протянул ему папку. Зискинд разложил снимки по столу в длинный ряд.
— А вы не думаете, что кому-то просто нечего было делать? — бегло оглядев снимки, спросил он.
— Это исключается, Соломон Маркович, — ответил Медведев.
— Да? Хорошо, пусть исключается, — не стал спорить Зискинд. — Ну а если мне все же удастся что-то придумать, я могу взять какой-нибудь снимочек и поехать примерить его на месте?
— Конечно. Машина будет в вашем распоряжении, — заверил Зискинда Медведев.
— Вы не подумайте, я не собираюсь ее гонять. Определять будем здесь, — указал Зискинд на свой стол. — Туда я поеду только для того, чтобы убедиться, в чем я прав, а в чем нет.
— Действуйте, дорогой Соломон Маркович, так, как считаете нужным. И не хочу вам больше мешать, — откланялся Медведев.
— Через пару деньков я вам позвоню, — обнадежил его Зискинд. Но позвонил только через неделю. Медведев отложил все дела и помчался в музей. То, что он увидел в кабинете у Зискинда, поразило его. Столько раскрытых на каких-то иллюстрациях книг, рисунков, чертежей было разложено, поставлено, подвешено вокруг стола хозяина кабинета. А на столе лежал большой план центра города с закрашенными цветными карандашами отдельными секторами.
— Когда вы от меня ушли и я снова посмотрел на эти фото, я, откровенно говоря, даже перепугался. Ну что же тут можно понять, если на них практически ничего нельзя увидеть? И зачем же я за это дело брался, если совершенно ни в чем не смогу вам помочь? — усадив гостя за стол на свое место, начал рассказывать Зискинд. — Но потом мало-помалу я все же отыскал кое-какие зацепочки. И уже начал действовать смелее. Но вы мне все-таки расскажите: ну почему кому-то пришла в голову идея снимать подворотни? В них же нет никаких достопримечательностей! Ну что такое подворотня? Дырка! Пустота! Иногда в центре здания. Иногда — где-то сбоку. А то и просто дырка между домами. Так чем же какого-то ненормального могли привлечь именно дырки? Это вы мне можете объяснить?
— Вот именно это-то, дорогой Соломон Маркович, мы и хотим узнать сами. И возможно, найдем ответ на вопрос, зачем их фотографировали, если узнаем, где они расположены в городе, — ответил Медведев.
— Да? — неизвестно чему удивился Зискинд. — Ладно. Будем вистовать в темную. Вот смотрите. Какие же я нашел зацепочки? Видите, тут на снимке кусочек карниза. Тут элемент обрамления. Тут фриз. Тут опять-таки кусочек лепнины. Вы знаете, они о многом говорят. Или вот хотя бы эта форма арки? Видите? Короче говоря, первый вывод, который я сделал, как мне кажется, вывод правильный, это то, что эти подворотни, или будем называть их проходами, принадлежат зданиям постройки прошлого и даже позапрошлого веков. О!
— Но таких зданий в городе о-го-го! Вы сами называли цифру… — разочарованно заметил Медведев.
— Домов, построенных в указанное мною время, в городе действительно много, — не дал ему договорить Зискинд. — Но здание зданию — рознь. Одни построены простыми каменщиками. Другие воздвигнуты под руководством великих зодчих. Элементы зданий, запечатленных на ваших фотографиях, говорят мне о том, что их возводили мастера. И жили в них не простые люди. А разве такие дома строились везде?
— Нет конечно, — согласился Медведев.
— Вот и второй мой вывод! — сказал Зискинд и подвинул поближе к Медведеву раскрашенный план города. — Искать нужные нам объекты мы будем не вообще, а вот в этих конкретных кварталах, товарищ майор. А это уже намного облегчает нашу задачу.
Медведев склонился над планом.
— Это улицы Герцена, Воровского, Молчановка, Арбат… Поищем на Метростроевской, проедем по Большой и Малой Ордынке, по Полянке, — перечислял Зискинд. — Посмотрим на Пятницкой, заглянем в прилегающие к ним переулки…
— Я готов, — поднялся из-за стола Медведев.
— Вы-то да! — охладил его Зискинд. — А я предпочитаю в такое трудное время жечь не бензин, а собственный фосфор. Потерпите еще денек-два, и мы с вами отправимся путешествовать.
— Потерпим. И поверьте, я очень благодарен вам за то, что вы уже сделали, — крепко пожал Медведев руку Зискинду.
На сей раз Зискинд был точен и позвонил действительно к исходу второго дня. А утром следующего шустрая эмка уже повезла Медведева и Зискинда в Замоскворечье. Зискинд, следуя каким-то своим соображениям, на этот район особых надежд не возлагал. И потому решил обследовать его первым, чтобы потом уже к нему не возвращаться. И предчувствия его не обманули. Как ни приглядывались они к постройкам, как ни старались сравнить их со снимками, ни на Полянке, ни на обеих Ордынках, ни на Пятницкой ничего похожего на то, что им было нужно, обнаружить не удалось. Медведева это несколько разочаровало. А Зискинд, наоборот, даже повеселел.
— Наши шансы только повышаются! — убежденно повторял он. — Вы не находите?
— Конечно, конечно, — с куда меньшим энтузиазмом отвечал Медведев.
Но не оправдала надежд и улица Герцена. Дважды от начала и до конца искатели проехали по улице Воровского. Остались позади тихие дворы Молчановки и Собачьей площадки. Вроде бы промелькнуло что-то искомое в Трубниковском переулке, а потом и в Ржевском. Но при более внимательном сопоставлении оказалось типично не тем. Кажется, немного поубавилось уверенности и у Зискинда. Он еще что-то бормотал про поздний классицизм, ампир и барокко, но голос его звучал уже не так бойко, как перед поездкой. Медведев не на шутку испугался, что он вдруг и вовсе разуверится в этой затее, и, чтобы не дать возможности угаснуть его изначальному оптимизму, решил подбодрить его:
— Не расстраивайтесь, Соломон Маркович. Ведь бывали же случаи, когда иголку все-таки находили в стоге сена.
— Конечно, бывали, — согласился безо всякого энтузиазма Зискинд.
— К тому же нам известно, где стоят стога…
— Предположительно известно…
— Пусть. Но все же уже проще!
Машина проехала мимо двора дома, в котором размещался большой магазин «Гастроном», и по Триильинскому переулку выехала на Арбат, напротив улицы Веснина.
— К Смоленской поворачивать? — спросил водитель.
— Поезжайте налево, — подсказал Зискинд.
Водитель свернул налево. Проехали мимо кинотеатра «Арс», поравнялись с булочной, и вдруг Зискинд дернул Медведева за руку.
— Стойте же! Вот! — тыча пальцем в приоткрытое окно машины, почти кричал он. — Вот же! Вот!
— Притормози, — попросил Медведев водителя.
Эмка остановилась, Медведев и Зискинд вышли из машины. Зискинд сразу побежал к арке напротив, через улицу. Медведев едва поспевал за ним. Шел и удивлялся, как это до сих пор сами они не узнали столь необычную и непохожую ни на какие другие арку, ведущую во двор, в котором стоял флигель с квартирой Барановой.
— Вот, пожалуйста! Начало русского барокко! Вы видите кронштейны этого карниза? Они же как у дома Пашкова! Вы помните Библиотеку имени Ленина? Так возьмите и сравните! Э, товарищ майор, Зискинд знал, что говорил. Искать надо только тут! Ну и что вы будете с ней делать?
— Абсолютно ничего, Соломон Маркович. Просто запомним, где она находится, — сказал Медведев и надписал на обратной стороне карточки адрес. — Поздравляю вас с первым успехом.
В машину они вернулись уже совсем в другом расположении духа. Зискинд, как показалось Медведеву, даже что-то мурлыкал под нос.
— Вот бы и с другими так, — подзадорил его Медведев.
— Найдем! — уже уверенно ответил Зискинд. — Поищем и найдем! Слава богу, арки — это не собаки. Они еще не бегают с места на место.
Машина тронулась дальше. Проехали мимо магазина «Диета», мимо «Электротоваров», мимо шашлычной. Поравнялись с кинотеатром «Юный зритель», и Зискинд закричал снова:
— Стойте же! Вы видите, что это?
В руке Зискинд держал очередную фотографию, стучал по ней пальцем и указывал на арку между двумя вывесками «Комиссионный» на противоположной стороне Арбата.
Арка была полукруглой, с метровыми полуколоннами, вырезанными в камне по обеим ее сторонам.
— Вы думали, я забыл эти полуколонночки? Не тут-то было. Это же псевдорусский стиль. Врезные угловые полуколонны, несущие арку! — все больше оживлялся Зискинд. — Хотите, я вам расскажу, когда он появился? И кто и где построил в Москве дома в этом стиле?
— Обязательно, дорогой Соломон Маркович. Я даже сам попрошу вас об этом. Только давайте сначала определим по месту и остальные фото, — попросил Медведев, надписывая адрес на второй фотографии.
— Найдем! — окончательно уверился Зискинд. — Следующие уже легче.
— Почему? — не понял Медведев.
— А потому, что на этих двух карточках ничего, кроме камня, нет. Вы обратили на это внимание?
Медведев достал из папки фотографии, посмотрел на них. Зискинд был прав. Кроме самих арок и небольшого каменного обрамления, вокруг них на фотографиях ничего не было.
— А на этих, — показал Зискинд две очередные фотографии, — уже в дело входит декоративный металл. Возможно, литье. А возможно, и ковка. Постойте…
— Что? — не смел поверить Медведев.
— Вот же третья, совсем рядом. У зоомагазина. И как же я сразу не догадался? Ведь я бывал тут тысячу раз. Вы не держите дома аквариум?
— Нет, извините…
— Но я-то держу! У меня же такие вуалехвосты и телескопы! А гуппи! А барбусы! А склярии! Боже ж мой! Да я сюда хожу как на праздник. И вот что значит пригляделся. Смотрите! Расцвет модерна!
На третьей фотографии была изображена квадратная арка с пятью спускающимися над ней триглифами с каплей. С обеих сторон над аркой располагались балконы с красивым металлическим ограждением растительного рисунка.
— Отзвуки ампира! — победоносно вещал Зискинд. — Так кто был прав?
— Конечно, вы. Вы просто умница. И замечательный специалист.
— А я так думаю, — не обращая внимания на похвалу, продолжал Зискинд, — что тот, кто снимал эту фотографию, не зря захватил и эти балкончики. И знаете для чего?
Медведев не знал.
— Ну так я вам скажу — для того, чтобы легче было потом отыскать эту арку. Мимо такого ориентира не пройдешь, не обратив на него внимания, — уверенно сказал Зискинд.
«Наверное, так оно и есть, — подумал Медведев. — Только кто должен был ее отыскивать? Кому она могла быть нужна? И зачем?»
Четвертую запечатленную на фотографии арку они нашли рядом с букинистическим магазином, чуть дальше и напротив театра имени Вахтангова. Нашли по отчетливо видным на фотографии красивым лепным виньеткам, обрамляющим верхнюю часть арки!
«Неужели все снимки сделаны на одной улице? — недоуменно подумал Медведев. — И неужели только потому, что сама Баранова жила здесь? Интересно, как объяснит это полковник?»
Пятую арку нашли и определили чуть дальше аптеки также по узорчатой решетке балкона, нависшего над ней. А вот с шестой и седьмой арками пришлось потрудиться и, чтобы найти их, побегать и поездить по всему Арбату.
Порой обоим даже начинало казаться, что они совсем в другом месте. А все потому, что никаких особых примет у этих арок не было. Но в конце концов отыскали и их.
Медведев был очень доволен тем, что работу удалось закончить так успешно. Но, пожалуй, еще больше был рад этому Зискинд. Оправдывались все его предположения. Он оказал посильную помощь сотрудникам Наркомата госбезопасности. Он оправдал доверие своих коллег по работе, которые указали именно на него, как на лучшего специалиста. Он, наконец, проверил сам себя и не разочаровался в себе. Медведеву же не терпелось доложить полковнику о выполнении задания.
На его счастье, Круклис оказался на месте и проводил совещание. Увидев вошедшего к нему в кабинет Медведева, он тут же указал ему на свободный стул и продолжал:
— Экспертиза специалистов подтвердила, что Шефнер прислал нам очень ценные новинки. И взрыватели, и данные о новых штурмовых орудиях немцев не только еще не изучены нами, но, как мне сказали, мы вообще ничего не знали об их существовании. Это дает нам основания полагать, что Шефнер не провокатор. Что он серьезно, по мере своих сил, подчеркиваю, именно по мере сил стремится приблизить нашу победу над фашизмом. Я глубоко уверен в том, что это свое стремление он подтвердит конкретными делами еще не раз. Я по крайней мере с чистой совестью поручился за него перед руководством.
— А почему же он все-таки не пожелал встретиться? Это ведь тоже очень немаловажный фактор, — заметил Доронин.
— Объясню это, Владимир Иванович, так, как понимаю сам, — ответил Круклис. — Только вы сами сначала мне ответьте: кто такой Шефнер?
— Я бы назвал его антифашистом, — ответил Доронин.
— Слишком общо.
— Раз он нам помогает, можно добавить — убежденный антифашист.
— А вот с таким добавлением я не согласен.
— Он рискует, товарищ полковник. Значит, он к тому же еще активный антифашист, — сказал Петренко.
— Нет, товарищи. Это все немного из другой оперы, — покачал головой Круклис. — По-моему, Шефнер всего лишь один из тех миллионов немцев, обманутых Гитлером и его кликой, который прозрел раньше многих других своих соотечественников и стал на путь борьбы с гитлеризмом. Но борется в одиночку и союзников в этой борьбе ищет не среди граждан рейха, а у нас. Ибо наверняка считает, что мы в этой борьбе партнеры куда более надежные. По-своему он прав. Хотя смелым борцом и тем более убежденным я его не считаю. Но я не отверг его. И уверен, что прозревшего врага мы не только можем, но и должны иметь своим союзником. И даже если он в чем-то нас не совсем устраивает, не отворачиваться от него, протянуть ему руку и укрепить в нем веру в нас, как в своих самых верных союзников…
Медведев слушал полковника и понимал, что он хоть и завуалированно, но говорил сейчас не только о Шефнере и об отношении к нему, а и о тех серьезных разногласиях с некоторыми из вышестоящих начальников, которые ему по поводу Шефнера в свое время пришлось преодолеть. Полковник и тут оставался верен себе в своей исключительной принципиальности.
Закончил разговор о Шефнере он неожиданно. Вдруг взглянув на Медведева, сказал:
— А теперь послушаем, что нам доложит Дмитрий Николаевич. Вы готовы?
Сообщение Медведева восприняли с большим интересом. И были немало удивлены, когда узнали, что все фотографии были сняты на одной улице. И на какой? На Арбате, по которому каждый проходил и проезжал много раз.
— Ну, меня как раз меньше всего удивляет то, что мы не узнали Арбата. Не каждый узнает даже собственный дом, если ему показать лишь его фрагменты. А вот почему это только старый милый Арбат, и ничего больше, — это уже вопрос! — сказал Круклис. И добавил: — И над ним мы, кажется, крепко поломаем головы.
— Есть и еще неясности, — заметил Доронин.
— Какие?
— Почему снимались именно арки? А не подъезды, скажем. И не витрины магазинов?
— Принимаю. Еще? — одобрил Круклис.
— Зачем снимались? И…
— И?
— И для кого снимались?
— Для начала вполне достаточно, — остановил своего заместителя Круклис. — С какого же вопроса начнем?
— Я думаю, прежде всего надо четко себе представить, почему снимали именно арки, — высказал предложение Доронин.
— Почему так думаете?
— Потому что, если мы ответим на этот вопрос, другие могут отпасть сами по себе, — объяснил Доронин.
— Ну, положим, вопрос, который задал я, не отпадет, — заметил Круклис. — Но я согласен с тем, что разобраться досконально с арками стоит. Я даже считаю, что поручить это следует вам, Владимир Иванович, и Дмитрию Николаевичу.
Доронин и Медведев встали.
— Слушаюсь, товарищ полковник, — ответили в один голос.
— Даю вам на это два дня.
— Понял, товарищ полковник, — ответил уже как старший Доронин.
— Что у нас еще? — спросил Круклис.
Поднялся Петренко.
— Пришел ответ из Центрального партизанского штаба на наш запрос о старшем лейтенанте Кремневе Петре Петровиче, муже Мартыновой Любови Тимофеевны, проживающей…
— Помню, помню, — остановил майора Круклис. — Так что?
Петренко зачитал ответ:
«Выходя из окружения вместе с группой бойцов, старший лейтенант Кремнев Петр Петрович был ранен осколком мины и в тяжелом состоянии оставлен в деревне Кудряшовка Могилевской области под присмотр жительницы деревни Сухоруковой Марии Никифоровны. По прошествии трех месяцев лечения и ухода был поставлен на ноги и по его просьбе доставлен в партизанский отряд имени Чапаева, в рядах которого в должности командира взвода подрывников и сражался до сентября 1943 года. 20 сентября при выполнении боевого задания погиб смертью храбрых и похоронен в братской могиле в лесу на восточном берегу озера Лебяжье. Сведений о родных и близких П.П. Кремнева не имеем. Начальник второго отдела майор Шерстюк. Подпись. Печать».
— Понятно, — почесал переносицу Круклис. — Во-первых, надо будет сообщить через военкомат жене. У нас должен быть ее адрес.
— Она работает в госпитале в Костроме, — подсказал Петренко.
— Да-да, направьте обязательно, — нахмурившись, сказал Круклис. — Значит, еще одна версия отпала. И осталась лишь Баранова. Зачем же она все-таки хранила снимки этих арок?..
Глава 31
В начале марта в горах Северной Италии солнце греет совсем по-весеннему. Уже к полудню звонкая капель и веселое журчание ручьев слышны со всех склонов. Но к вечеру журчание и всплески стихают, легкий морозец снова сковывает лужи, земля под ногами твердеет, воздух становится прозрачным и гулким, как стекло, как лед, только что затянувший талую воду.
Внизу, в долине, протянулась поперек всего полуострова государственная дорога номер девять — крупнейшая магистраль на севере страны, идущая от Пьяченцы через Парму, Реджо-Эмилию, Модену, Болонью до самого Римини, раскинувшегося на Адриатическом побережье. Дорога и все, что там внизу, в руках немцев. Но горы почти повсеместно под контролем партизан. Правда, на ключевых позициях везде немецкие гарнизоны. Но партизан уже тысячи, десятки отрядов и бригад, и немцы чувствуют себя все неуютней в своих обнесенных колючей проволокой, обставленных пулеметами опорных пунктах. И уже не единицами и не десятками, а сотнями убитых, раненых и пленных исчисляются потери врага. В партизанских отрядах десятки бежавших из немецкого плена советских солдат и офицеров. Они мужественно сражаются плечом к плечу с итальянскими, югославскими, польскими, чешскими, французскими и другими бывшими узниками фашистских лагерей. В отряде «Красное знамя» русских немного. Всего восемь человек. Но воюют они, как сказал командир отряда Рино Монари, за взвод. Им дают самые ответственные поручения. В окрестных деревнях их уже приметили и относятся к ним с особым уважением.
В горах тихо. Но партизанские дозоры знают, что тишина эта обманчива, враг может незаметно подойти в любую минуту, и бдительно несут сторожевую службу. Сегодня в дозоре, занимавшем удобную позицию над развилкой дорог, — пятеро: двое итальянцев — Джузеппе и Этторе, чех Богуслав и двое русских — Тюлькин и Чикирев. Ночь прошла без происшествий. С гор потягивает холодный ветерок. Четверо партизан, согревая друг друга собственными телами, полудремлют в каменной нише. Пятый, Тюлькин, стоя у пулемета, не сводит глаз с дороги. Чуть начало рассветать, а на развилке уже появились крестьяне. Появились и разошлись, кто в Приньяно, кто в Куару. Местным дорога открыта везде. Лишь бы не появились немцы или милиты…
Неожиданно до слуха Тюлькина донесся чуть слышный гул. Подумалось: «Обвал где-нибудь…» Но гул не пропал, не растаял в воздухе, а, наоборот, стал слышен еще громче. Мелькнула тревожная мысль: «Танки!» Но гул доносился откуда-то со стороны долины. Оттуда танки, даже если их двигалась сотня, на позиции дозора все равно нельзя было бы услышать. «Значит, самолет», — решил Тюлькин и мельком оглядел горизонт. Окрестности еще тонули в предрассветной дымке. И разглядеть в этой синеве самолет было очень трудно. Но звук нарастал, и скоро Тюлькин увидел силуэт летящего над горами самолета. Неясным оставалось только, какой это был самолет и чей: немецкий, итальянский или союзников? В последнее время английские и американские самолеты все чаще стали появляться над северными районами Италии, бомбили железнодорожные узлы, мосты, скопление вражеской техники.
Самолет летел, будто крадучись, явно прижимаясь к горам. Он словно кого-то опасался. Тюлькин толкнул в плечо своего земляка:
— Андрюх, гляди-ка кто прет! — сказал он, указав в сторону приближающегося самолета.
Чикирев мигом вскочил, поднялись и остальные партизаны и с любопытством уставились на воздушного нарушителя их спокойствия.
— Да ведь это же немецкий разведчик! — опознал врага Этторе. — Разрази меня мадонна!
— Точно, «рама»! — подтвердил Чикирев. — Американцев боится, вот и жмется!
— Сбивать? — мигом загорелся Тюлькин.
— Бей, раз сам на рожон прет! — поддержал Чикирев.
Тюлькин припал к пулемету. Партизаны замерли в напряженном оцепенении. Двухфюзеляжный «фокке-вульф», огибая карниз, на котором засел дозор, приближался с каждой секундой. И когда до него осталось не более четырехсот метров, пулемет Тюлькина заговорил как живой. Огненная трасса ударила по застекленной кабине. Самолет клюнул носом, словно споткнулся. Но в следующий момент выровнялся. А пулемет все бил и бил, и пули все хлестали и хлестали по его серебристой бочине. Не больше десяти секунд находился самолет в зоне огня. Но и за это короткое время пулеметчик сделал свое дело. Самолет клюнул носом еще раз, потом вдруг словно провалился в небольшую яму, потом завалился набок, вошел в крутое пике и с грохотом врезался в склон горы. Над местом его падения взметнулся столб черного дыма. Эхо взрыва, многоголосо перекликаясь, покатилось по горам.
Партизаны, не веря собственным глазам в то, что это сделали они, еще какой-то момент стояли неподвижно, словно окаменелые, а потом вдруг с радостными криками бросились обнимать и колотить друг друга от радости. Старший дозора Джузеппе, поначалу принимавший в этой потасовке самое горячее участие, опомнился первым и еле успокоил своих подчиненных.
— Что вы орете? Кто нам поверит, что самолет сбили мы? — расталкивая партизан, кричал он.
— Так никто же больше не стрелял! — возразил Чикирев.
— Ну да! Докажи кому-нибудь, что весь этот грохот устроил один Тюля! — не соглашался Джузеппе.
— Тогда надо пойти и забрать у пилотов документы! — предложил Богуслав.
— Вот и я тоже говорю, нечего тут сходить с ума от радости! Надо дело делать! — не унимался Джузеппе.
— Я пойду! — сразу вызвался Этторе.
— И я тоже, — попросился Тюлькин.
— Конечно! Ты сбил, тебе и забирать, — разрешил Джузеппе и хлопнул по плечу своего земляка. — И ты иди тоже! Только возвращайтесь скорее. Немцы наверняка тоже захотят посмотреть, что тут случилось.
Тюлькин и Этторе, захватив автоматы, поспешили к самолету. В томительном ожидании прошло минут сорок. И вдруг снизу снова донесся какой-то шум. Но это уже был не самолет. Шум доходил до карниза именно снизу и был тяжелым, будто выбивался из-под земли. А еще через несколько минут партизаны увидели, как из-за поворота на дорогу к развилке начала выползать колонна мотоциклистов и бронетранспортеров с пехотой. Джузеппе как в воду смотрел. Немцы также спешили к месту падения своего самолета.
— Через полчаса они будут там, — определил наметанным глазом Джузеппе.
— А наши? — спросил Богуслав.
— А я почем знаю, куда они запропастились!
— Но надо хоть как-то их предупредить!
— Конечно! Иди вниз. Спускайся на двести метров и брось на дорогу гранату.
— А если немцы уже проедут?
— Обязательно проедут, если ты будешь спускаться два часа!
Богуслав не побежал, а полетел к камню, нависшему над дорогой. Он очутился на нем, когда колонна только вытянулась из-за поворота. И бросил вниз не одну, а две гранаты. Они разорвались в самой гуще врага. Но так как немцы были защищены броней бронетранспортеров, видимого урона им не нанесли. Но это было и не так важно. Главное — взрывы должны были насторожить Тюлькина и Этторе. И это было достигнуто. Немцы сразу же открыли ответный огонь. И в горах снова загремело раскатистое эхо.
— Это наверняка услышат и в отряде, — сказал Чикирев.
— И очень хорошо. Нам не надо будет бежать и предупреждать всех об опасности, — ответил Джузеппе. — Но куда же они на самом деле пропали?
Стрельба немцев была беспорядочной. Они били наугад, по всем подозрительным камням и кустам. Но неожиданно огонь их сосредоточился, и трассы пулеметных и автоматных очередей со всех сторон уперлись в камень, на котором только что стоял Богуслав. Потом они переместились несколько правее и ближе к карнизу. Стало ясно, партизана заметили и не дают ему возможности вернуться на карниз, за которым не только можно было надежно укрыться, но с которого, не подставляясь под пули, можно было спокойно уйти в горы…
Немцы еще продолжали стрелять, когда на карниз неожиданно посыпались мелкие камни. Чикирев и Джузеппе обернулись. Чуть выше их, за уступом скалы, стоял Тюлькин и подавал им знаки. Он и кричал что-то. Но из-за сильного эха стрельбы слов его совершенно не было слышно. Тюлькин явно звал их к себе. И партизаны поспешили наверх. За уступом скалы они увидели истекающего кровью Этторе. В него попало сразу несколько пуль, и вся рубаха на нем была красной от крови. Чикирев и Джузеппе моментально бросились к нему. У Джузеппе был бинт. Он достал его из сумки и, разорвав на Этторе рубаху, принялся бинтовать его избитую пулями грудь. Этторе был еще в сознании и что-то пытался сказать. Но его уже невозможно было понять.
— А где Богуслав? — спросил Чикирев.
— Там, — махнул рукой вниз Тюлькин. — Я видел, как он покатился вниз…
— Значит, двоих…
— У них тоже трое в самолете. И вот, — сказал Тюлькин и достал из-за спины большую кожаную, сильно обгоревшую сумку пилота. — Уходить надо.
Чикирев вместе с Джузеппе подняли на руки Этторе и понесли его следом за Тюлькиным.
В отряде их уже ждали. Фельдшер Альдо сразу же начал делать перевязку Этторе. Но тот потерял слишком много крови и почти не подавал признаков жизни. Командир отряда Рино спросил Джузеппе:
— Как это случилось?
— Тюля сбил немецкий самолет. Он рухнул в километре от нас. Они побежали посмотреть, что там осталось. А в это время подоспели немцы, — объяснил Джузеппе.
— Мы слышали взрыв. Так это был самолет? — не поверил Рино.
— Да, командир, — подтвердил Тюлькин. — Мы сразу побежали посмотреть. В самолете было трое летчиков. Я снял с одного из них эту сумку.
Рино взял сумку.
— А где Богуслав? Где чех?
— Он тоже попал под пулеметную очередь. Я сам видел, как он покатился по откосу к обрыву, — ответил Тюлькин.
— Жаль товарищей. Но ты — герой, Тюля. У нас еще никто не сбивал самолетов. О тебе будет говорить вся Реджо-Эмилия. И мы будем гордиться тобой, Тюля, — пожал руку русскому Рино.
Немцы не полезли в горы. Они забрали погибших летчиков, сняли с самолета оставшийся боекомплект и вернулись на свою базу. Партизаны проводили их проклятиями, похоронили Этторе и поклялись отомстить за друзей. После этого Рино, комиссар Амандо и фельдшер Альдо, единственный человек в отряде, прилично знавший английский и немецкий языки и потому выполнявший по совместительству обязанности переводчика, занялись изучением содержания снятой с пилота сумки. Они нашли в ней объемистый пакет, в котором лежали фотоснимки каких-то чертежей.
Чертежи рассматривали и так и сяк, но долго ничего не могли понять. Наконец комиссар Армандо сказал:
— По-моему, это какой-то автомобиль.
— По-моему, тоже. Но он, похоже, не военный, — заметил Рино.
— Я что-то тоже не пойму, написано непонятно: то ли это американская машина, то ли русская, советская? — сказал Альдо.
— Возьми и разберись хорошенько, — приказал Рино. — Уж, наверно, не зря она попала к немцам?
Альдо присел на камень и внимательно стал разглядывать чертежи и читать надписи. Командир и комиссар на какое-то время оставили его в покое. Но скоро он сам подошел к ним.
— Кажется, я что-то понял, — сказал он.
Рино и Армандо склонились над чертежами.
— Это чертежи американской машины «кадиллак», сделанной по заказу русских, — объяснил Альдо. — Но это не простой «кадиллак». Тут все время повторяется слово «спешиал», что означает «специальный». А вот что в нем специального и для чего он делался — сам черт не разберет.
— А немцам-то он зачем понадобился?
— Спроси у Тюли, он последний с ними виделся, — ответил Альдо.
— Тюля свое дело уже сделал, — сказал Рино. — Но что вы думаете: это стоящая вещь?
— Раз немцы везли, да еще на самолете, наверняка кому-то из них эти чертежи были очень нужны, — рассудил Армандо.
— Ну а нам что с ними делать? — спросил Рино.
— Я бы переправил их русским, — сказал Армандо.
— Как? По почте?
— Можно и по почте, — усмехнулся Армандо. — Но я думаю, с курьером будет быстрей. Ты же знаешь, Рино, что при штабе союзников имеется русская миссия.
— И что ты предлагаешь?
— Надо переправить через линию фронта Тюлю, пусть он вручит своим эти снимки. А те уж пусть сами решают: нужны они им или нет.
— Тюля не знает ни нашего языка, ни гор, — заметил Рино.
— Пошлем с ним надежного проводника. У кого из наших есть родственники или знакомые в Неаполе? — спросил Армандо.
— Надо опросить ребят.
Построили отряд. Рино объяснил задачу. Партизаны зашумели. Все они были из близлежащих деревень. И только у одного из них, у Риккардо, в Неаполе жила дальняя родственница.
— Помню, звать Рози. Двоюродная сестра матери. Видел один раз в жизни, когда в тридцатом году вместе с матерью приезжал к ней погостить. Жива ли теперь? А я почем знаю. Адрес? Улицу помню. А дом найду, — ответил он на все вопросы Рино.
— А кто поведет через линию фронта?
Все зашумели еще громче. Каждый предлагал чью-нибудь кандидатуру. Не называли только себя. Никто не хотел, чтобы о нем думали, будто он хочет удрать в тыл. Наконец остановились на Теофиле.
— Откуда ты, Тео? — спросил комиссар.
— Из Морконе.
— Это уже по ту сторону фронта?
— Да, километрах в десяти.
— Но тебе придется идти до самого Неаполя. Трое — это не двое. Это уже сила. А мало ли что может случиться по дороге, — предупредил Армандо.
— Если надо, могу и до Реджио-ди-Калабрии дотопать. А хочешь — могу заглянуть и в Палермо. У меня там есть кого навестить, — ответил Теофил.
— Я бы тебе разрешил. Но сам понимаешь, сколько тут еще дел, — добродушно улыбнулся Армандо.
— Понял, комиссар. Разопьем «кианто» в следующий раз. Отведу Тюлю в Неаполь, подобью ботинки и вернусь.
— На том и договорились, — пожал руки всем троим Армандо.
Глава 32
Грейфе очень расстроился, когда ему сообщили о том, что посланные по его указанию из Америки чертежи погибли в Италии.
— Как же так? Как же так? — сокрушался он.
— По имеющимся сведениям, самолет сбили партизаны, — доложил Эгерт.
Лицо у оберштурмбаннфюрера стало пунцовым.
— Бандиты! Всех вешать от мала до велика! И чем они могли сбить? Что у них есть, кроме винтовок и автоматов? — неистовствовал Грейфе.
Эгерт дал ему выкричаться. Люфтваффе нес на всех фронтах такие огромные потери, что говорить о каком-то одном самолете было просто смешно.
— Но только что пригнали машину, сделанную по тем же чертежам, из Брюсселя, — продолжал Эгерт.
— Вы ее видели? — сразу успокоился Грейфе.
— Не позднее, как час тому назад.
— Где она?
— В гараже управления.
— Она на ходу?
— Совершенно исправна, оберштурмбаннфюрер.
— Пусть полностью заправят и немедленно подадут к подъезду, — приказал Грейфе. — И сообщите в «Ораниенбург» Краузе, что через час буду у него.
Поблескивающий синеватым отливом черный «кадиллак» произвел на Грейфе самое прекрасное впечатление. Грейфе видел «грос-мерседес», на котором ездил фюрер. Но по сравнению с «кадиллаком» отечественный шедевр выглядел просто неуклюжим.
— Заведите, — приказал Грейфе.
Водитель запустил двигатель. Он работал совершенно бесшумно и этим тоже очень выгодно отличал «американца» от своего немецкого собрата.
— Ладно, — не желая вслух выражать своего удовлетворения, сказал Грейфе, сел в салон и захлопнул дверцу. Она закрылась с глухим солидным цоканьем стального замка. И это тоже вызвало у Грейфе неподдельный восторг. Но особое восхищение эсэсовцу внушил ход машины, спокойный и плавный. Бронированный «кадиллак», весивший три с небольшим тонны, не катился, а плыл по автостраде, шурша густматикой.
В «Ораниенбурге» «кадиллак» осмотрели специалисты. Примерно через час Грейфе выслушал их обстоятельный доклад о защитных данных машины. Автомобиль был полностью бронирован, включая днище и крышу. Все стекла кабины: лобовое, в дверцах и заднее, разделенное на три части, являлись пуленепробиваемыми и были сделаны из специальной, так называемой прозрачной брони. Резина на колесах не надувная, а сплошная, густматика. Броневое покрытие днища — толщиной три сантиметра, дверей, багажника и передней стороны — два сантиметра, крыши — полтора. Машина развивает скорость до ста шестидесяти километров в час, имеет запас хода около трехсот километров. Машина семиместная. Два человека, в том числе водитель, размещаются в передней кабине, пять человек, из них двое на откидных креслах, в задней кабине салона. Салон разделяется пуленепробиваемым стеклом, которое по желанию пассажиров задней кабины нажатием кнопки утапливается в спинку сиденья передней кабины.
— Это все теория. Вы мне на практике докажите, что ее не возьмет никакая пуля, — выслушав доклад, сказал Грейфе. — Может, нам этого «панцеркнакке» и ждать незачем…
— Но практика — это только стрельба, оберштурмбаннфюрер, — заметил Краузе.
— Я понимаю. А у вас что, патроны кончились?
— Все будет сделано, оберштурмбаннфюрер, — поспешил заверить Краузе. — Я думаю, в машину следует посадить заключенных из Заксенхаузена.
— Именно. Но предварительно не забудьте снять ручки с внутренней стороны дверей. А то, я знаю этот народ, вмиг разбегутся, как тараканы, — предупредил Грейфе.
— Будет сделано, оберштурмбаннфюрер. Машина, конечно, будет стоять на месте.
— Да, пока что ей двигаться незачем, — решил Грейфе.
«Кадиллак» отогнали на площадку, на которой пробовал на живых мишенях пули Баумкёттера Политов. Потом пригнали туда семерых узников концлагеря. Всем семерым одели на руки и на ноги кандалы, втолкнули их в машину и захлопнули дверцы. После этого два эсэсовца сделали по машине десять выстрелов из винтовок с расстояния пятьдесят метров.
Грейфе и Краузе наблюдали за экспериментом с вышки через бинокли. Как только началась стрельба, заключенные, крича, сбились в кучу, каждый при этом стремился прижаться ближе к полу. Но десять выстрелов прогремели, эсэсовцы открыли машину и вытащили из нее всех семерых насмерть перепуганными, но совершенно невредимыми. После этого с них сняли кандалы и куда-то увели, а к машине подошли Грейфе и Краузе. Обе дверцы с левой стороны были основательно изуродованы пулями. Но ни одна из них не пробила их насквозь. Они изрешетили лишь наружный металл. Но с броней они ничего сделать не смогли.
— Автомат или тем более пистолет и вовсе не сделали бы ей ничего, — оглядывая пробоины наружного листа, сказал Краузе.
— Вы правы. Без «панцеркнакке», похоже, в этой штуке действительно никого не достанешь, — согласился Грейфе.
— Будем пробовать мины? — спросил Краузе.
— Здесь нет. Изуродуем ходовую часть, а нам нужно, чтобы она была на ходу, — ответил Грейфе. — Прикажите все пробоины заварить, зачистить и закрасить так, чтобы не осталось никаких следов. Завтра же машину погрузят в эшелон и отправят в расположение «Русланд-Норда».
Краузе заверил оберштурмбаннфюрера, что к утру машина будет как новенькая.
Грейфе остался доволен экспериментом. Из Брюсселя пригнали экземпляр, достойный того оружия, которое для него изготовляли на полигоне у Цирайса и Пфлюкера. И все же сообщение о гибели технической документации «кадиллака», специально оборудованного по советскому заказу, он воспринял как большую собственную неудачу. И было это неспроста. Ибо Грейфе как старый травленный всеми собаками волк отлично понимал, что рано или поздно не кому-нибудь, а именно ему придется отвечать за всю подготовку к планируемой операции. Потому что кто-нибудь из начальства непременно захочет основательно погреть на этой подготовке руки. И тогда ничего не будет проще и легче, чем объявить, что дело делается медленно и плохо, потому что он, Грейфе, с ним просто не справляется. Ну а он-то разве виноват в том, что даже итальянские партизаны, эти оборванцы и горлопаны, начинают сбивать немецкие самолеты, выполняющие задание особой важности? Не виноват нисколечко! И тем не менее его, не моргнув глазом, положат на заклание. Вот почему так расстроило его известие о гибели документов.
С такими безрадостными выводами относительно своей дальнейшей судьбы Грейфе выехал из «Ораниенбурга» и прибыл на полигон у Зееловских высот к небезызвестным ему майору Цирайсу и главному инженеру Пфлюкеру. Оба, естественно, о его визите были заранее оповещены расторопным Эгертом и уже ждали его. Не знали только, что в первую очередь показывать высокому гостю из РСХА: уже почти готовый «панцеркнакке» или то, что они только что изготовили по новому заказу оберштурмбаннфюрера. С этим вопросом Цирайс и обратился к Грейфе после короткого выражения искреннего удовольствия видеть вновь герра оберштурмбаннфюрера живым и здоровым. В ответ на эти слова Грейфе лишь кисло поморщился и махнул рукой, будто хотел прогнать назойливую муху.
— Этого вашего «панцеркнакке», я думаю, мы вообще никогда не дождемся. Так что давайте начинайте с нового заказа. Может, хоть тут что-нибудь получится.
Столь пессимистично по поводу изготовления законченного образца всеми ожидаемого гранатомета Грейфе выразился отнюдь не случайно. Этим он хотел еще раз подстегнуть специалистов. А заодно, если у них ничего не получится и на этот раз, показать им свою прозорливость.
Цирайс, однако, ничего обратного доказывать ему не стал и покорно ответил:
— Как вам будет угодно, герр оберштурмбаннфюрер. Наша новая работа действует безотказно.
Новый заказ и новая работа специалистов появились тоже совсем не неожиданно.
Незадолго до того, как отправить Политова в «Русланд-Норд», сам же Грейфе предложил руководству увеличить будущее задание террориста и помимо планируемого выстрела из «панцеркнакке» вменить ему совершение еще одной не менее эффективной, по его мнению, акции. Зная о традиции советских людей неизменно отмечать свои революционные праздники и проводить по этому поводу многочисленные и торжественные собрания и демонстрации, Грейфе предложил воспользоваться этим и не позднее как шестого ноября текущего года произвести во время такого торжества взрыв в Большом театре в Москве. Руководство оценило предложение и дало указание немедленно приступить к его подготовке. Самому Политову пока ничего еще об этом не говорили. Но это было не так уж и важно. Важнее было подготовить и обеспечить акцию технически. А для этого решили изготовить несколько небольших, но достаточно мощных зарядов, приводимых в действие по радио. Теперь эти взрывные устройства были уже смонтированы, и Цирайс охотно и даже с энтузиазмом согласился продемонстрировать их перед заказчиком в действии.
— Прошу вас сначала пройти сюда, герр оберштурмбаннфюрер, — попросил он, указав на уже знакомое Грейфе еще по первым испытаниям «панцеркнакке» бетонное убежище.
Грейфе спустился по ступенькам каземата вниз и очутился в одной из комнат. Здесь стоял стол. А на нем лежали небольшой чемоданчик, две дамские сумочки и совсем маленький кошелек.
— Это все, что мы приготовили на сегодня. Но вы сами понимаете, герр оберштурмбаннфюрер, что в данном случае дело не в количестве, а в качестве проводимых испытаний, в надежности дистанционного управления взрывом, — заметил Пфлюкер.
— Согласен. Показывайте, — коротко ответил Грейфе.
Цирайс дал команду. В комнату вошли три солдата и забрали со стола чемоданчик, сумочки и кошелек. Потом все вышли из убежища и направились на площадку, где стоял советский трофейный мотоцикл с коляской марки «М-72».
— Там, — указал Пфлюкер на солдата с чемоданчиком и сумочками, — образно выражаясь, приемники. А здесь, в трофейном мотоцикле, смонтировано радиопередающее устройство. Здесь передатчик, герр оберштурмбаннфюрер.
Грейфе согласно кивнул. Пфлюкер снял с коляски запасное колесо, отвинтил четыре винта и снял верхний лист обшивки. Под ним оказалась ниша, в которой и было смонтировано устройство. Пфлюкер объяснил эсэсовцу его принципиальное действие и указал на четыре разноцветные кнопки.
— Передатчик и приемники работают на постоянной волне. Вам ничего не надо будет настраивать. Вам надо будет только нажать эти кнопки, — сказал он.
Солдаты тем временем разнесли по полигону замаскированные под чемоданчик и сумочки мины и уже возвращались назад. Прозвучал сигнал готовности. Пфлюкер включил передатчик.
— Что вы хотите взорвать, герр оберштурмбаннфюрер? — учтиво спросил он.
— Красную сумочку, — назвал Грейфе.
— Пожалуйста, нажмите красную кнопку.
Грейфе нажал. Над полигоном взметнулся султан пыли и дыма.
— Еще? — продолжал Пфлюкер.
— Чемодан.
— Нажмите коричневую.
Грейфе нажал коричневую. И снова, но уже в другом месте, в воздух поднялось облако взрыва.
— А что означает эта черная кнопка? — спросил Грейфе.
— Маленький сюрприз, герр оберштурмбаннфюрер, — довольно потирая руки, ответил Пфлюкер. — Специально для вас.
— А синяя?
— Вторая сумочка.
Грейфе нажал синюю кнопку.
— Ух! — рвануло третий раз.
— С какого же наибольшего расстояния можно подавать сигналы? — спросил Грейфе.
— При наличии сильных помех и экранов в городских условиях, скажем, предельной дистанцией будет три с половиной — четыре километра.
— Сойдет, — коротко решил Грейфе. — Показывайте сюрприз.
— Сюрприз подготовлен, чтобы развеять все ваш сомнения, герр оберштурмбаннфюрер. На земле вы вполне могли считать, что мы тут что-то подстроили. Но вот в воздухе…
— Мог, — признался Грейфе. — Уж очень все у вас здорово на сей раз получается. Не как с этим «панцеркнакке». Ну так что в воздухе?
Цирайс подал знак, и солдат, стоявший на краю площадки, подбросил вверх голубя. Почувствовав волю, птица радостно захлопала крыльями и понеслась в голубую высь. Грейфе потянулся к черной кнопке.
— Не спешите, не спешите, герр оберштурмбаннфюрер, — остановил его Пфлюкер. — Дайте ему набрать дистанцию.
Грейфе послушался. Птица поднималась все выше и выше, сделала над полигоном круг, сориентировалась и взяла курс на голубятню.
— Ну? — нетерпеливо спросил Грейфе.
— Он не улетел еще и на километр, — прикинул Пфлюкер.
Грейфе подождал еще. А когда голубь уже почти пропал из виду, с азартом нажал, словно на спусковой крючок ружья, черную кнопку. Далеко на фоне горизонта в небе вдруг всплеснулось черное облачко дыма и перьев и, покачавшись, медленно начало опускаться вниз.
— Неплохо, — довольно проговорил Грейфе. — А на себе носить этот передатчик можно?
— Мы предусмотрим и этот вариант. Но возимый с точки зрения работы будет надежней, герр оберштурмбаннфюрер. Ведь кузов коляски не металлический. Он из особых пластмасс. И по всему его периметру расположены антенны направленного действия. А в носимом варианте антенна невелика, — пояснил Пфлюкер.
— И все же готовьте оба варианта, — сказал Грейфе. — Ну а что же все-таки с вашим «панцеркнакке»? Хоть сколько-нибудь вы продвинулись с ним вперед?
— Он почти готов, герр оберштурмбаннфюрер, — в один голос ответил Цирайс и Пфлюкер.
— Что значит «почти»? — не понял эсэсовец.
— Гранаты готовы совершенно. И изготовлены в количестве пятидесяти штук. Завтра их должны доставить сюда. Не готов лишь кожаный нарукавник.
— Почему? — последовал вопрос.
— Их сделали несколько, герр оберштурмбаннфюрер. Но мы их все забраковали. По нашему мнению, они слишком тверды и будут стеснять движения стрелка, — объяснил Пфлюкер.
— Да это же ерунда — нарукавник! Из-за такой чепухи стало все дело! Кто этим занимается? — повысил голос Грейфе.
— Наше производство.
— Вы забыли, что выполняете заказ особой важности!
— Нет, герр оберштурмбаннфюрер. Но мы не можем достать нужного сырья.
— Почему не обратились ко мне? Что вам нужно? Какая кожа? Чья? Нильского крокодила? Цейлонского буйвола? Индонезийского орангутанга? Или, быть может, вы считаете, что для вас следует ободрать гималайского снежного человека? — гремел Грейфе. — Вы понимаете, что время работает против нас?
— Нам нужна всего лишь добротная лосиная шкура.
— Так неужели в Финляндии перевелись все лоси? А в Норвегии? А в Швеции, наконец?
— Мы уже ждем посылку из Норвегии, герр оберштурмбаннфюрер, — сообщил Пфлюкер.
— Когда придет?
— На этой неделе должны получить.
— Сколько же времени потребуется на изготовление этого нарукавника?
— Два-три дня.
— Даю вам четыре, — сказал Грейфе. — И уже не я, а бригаденфюрер или, может быть, даже сам обергруппенфюрер приедут проверить, что стоит ваше «готово».
— Все будет сделано в лучшем виде, герр оберштурмбаннфюрер, — поклялся Пфлюкер.
В Берлин Грейфе возвращался все же расстроенным. Бесила прямо-таки поразительная беспечность людей. Рейх трещит по всем швам, а они так себя ведут, будто война будет продолжаться по крайней мере еще лет десять — пятнадцать. А в результате — с чертежами провал! Московские фотографии исчезли! Хваленый самолет не готов! И кто подводит — «Мессершмитт»! Какая фирма! С «панцеркнакке» тоже черт знает сколько еще будут возиться!
Не вывела Грейфе из этого состояния даже пришедшая из Риги от Краусса шифровка, в которой начальник «Русланд-Норда» доносил, что «работа с курсантом проходит успешно. Ученик оказался в высшей мере способным. Учебную программу схватывает на лету. Личную жизнь налаживает в нужном для нас направлении».
«Вот, пожалуй, только этим и можно будет козырнуть, когда придет время бить чужие карты», — подумал он, возвращая Эгерту шифровку.
— Что слышно от «двадцать второго»?
— Молчит, оберштурмбаннфюрер.
— Сукин сын! — снова побагровел Грейфе. — Или он надеется отсидеться за русским фронтом, как за каменной стеной?
— А я думаю, уж не случилось ли чего похуже, — признался Эгерт.
— Оставьте, Эгерт! — раздраженно сказал Грейфе. — Разве он один теперь так себя ведет? В том-то и дело, что нет. И все они были бы рады, чтобы мы считали, что с ними случилось что-то очень страшное, и забыли о них, перестали их тормошить своими заданиями. Но ничего! Мы еще не утратили возможности ставить таких умников на место. Сейчас же отправьте «двадцать второму» шифровку. И я посмотрю, как он ее не выполнит. Пишите, Эгерт!
Эгерт всегда был готов к этой процедуре. В его руках, словно по мановению волшебной палочки, мгновенно появились блокнот и самописка. А весь его вид выразил, что он слушает очень внимательно.
— Пишите, — немного приходя в себя, повторил Грейфе. — Первое. Немедленно вышлите вместо пропавших фотографий интересующих нас объектов новые, дублированные в двух экземплярах. В качестве передаточных пунктов используйте центральный и северный каналы связи. Второе. Передайте приказ «десятому» возвратиться на место. Совместно с «десятым» подготовьте к июлю квартиру для проживания семьи из двух человек сроком не менее чем на полгода. Третье. Периодически, раз в неделю, приобретайте билеты в Большой театр. Можно использованные. Раз в два месяца пересылайте их нам.
— Распишитесь, шеф, — протянул стенографическую запись телеграммы Эгерт.
Грейфе размашисто расписался.
Глава 33
Отправляя на задание Доронина и Медведева, Круклис еще на совещании предупредил их:
— Не ждите и не ищите сюрпризов. И вообще не надейтесь увидеть что-нибудь неожиданное. Вы заранее должны знать, что вы хотите найти и на какие вопросы получить ответы. Заранее, — повторил полковник. — Главным же вопросом для вас был и остается: почему Баранова фотографировала именно эти арки? Какой интерес могут они представлять для тех, кому были предназначены?
Доронин и Медведев, помня наказ своего начальника, отправились на Арбат. Медведев после долгих раздумий пришел к выводу, что в подворотнях удобнее всего устраивать тайники, и надеялся, придя на место, отыскать и проверить все укромные местечки. Доронин, не отрицая этого варианта, решил хорошенько изучить дворы и окружающие их дома, в которых вполне могли быть расположены конспиративные явки и квартиры.
Однако прошел день в напряженных обследованиях, а никаких сколько-либо убедительных подтверждений своей версии Медведев так и не смог найти. Хуже того. Некоторые арки были настолько открытыми и голыми, что использовать их для устройства тайников было бы просто глупо.
Доронин не мог дать такого категорического ответа на свои вопросы. Вокруг дворов стояли дома. В домах жили люди. Но арбатские дома это не то, что какие-нибудь новостройки на шоссе Энтузиастов или где-нибудь на Можайском шоссе, куда люди съезжались со всей Москвы. В арбатских домах все друг друга знают десятки лет. Некоторые живут в них еще с дореволюционного времени. И появись в таком доме новосел или кто-нибудь посторонний, о нем сейчас же станет известно всем соседям. Но собрать необходимую информацию обо всех арбатских домах за эти короткие два дня просто не представлялось возможным. И потому Доронин от своей версии не отказался, но понял, что для ее проверки потребуется по меньшей мере неделя, а то и две. С такими выводами оба и явились на доклад к Круклису.
— Я примерно такого результата и ожидал, — потирая лоб, задумчиво проговорил Круклис. — Уж слишком легко подошли вы к решению своих задач. Хотели, как говорится, найти топор под лавкой. Но тем не менее отказываться полностью от вашей версии, Владимир Иванович, ни в коем случае не стоит.
— Да, но чтобы проверить все дома, все квартиры, потребуется не неделя, а, как мне кажется теперь, может, даже и не две, — заметил Доронин.
— Ну и что? Мы на одну Баранову сколько времени ухлопали. А разве игра не стоила свеч? — резонно возразил Круклис.
— И притом ведь это только версия. А вдруг…
— Вчера была версия, — многозначительно проговорил Круклис.
— Почему вчера? — не понял Доронин.
— А потому, что сегодня под ней уже появилось кое-какое основание. Садитесь и слушайте, — указал он обоим на стулья. — Я говорю так, потому что именно вчера наши пеленгаторы перехватили радиограмму. Шифровальщики основательно над ней поколдовали и разгадали несколько букв. Только букв! И тем не менее это очень важно. По крайней мере для нас. Пока вы там ползали по Арбату, я весь день корпел тут над этими буквами и, как всегда, немножко фантазировал. И ни черта не мог придумать до тех пор, пока не вообразил, что эта радиограмма каким-то образом может касаться нас с вами. Я имею в виду историю, которой мы занимаемся и пытаемся свести в ней концы с концами. И вот, представьте себе, как только я это вообразил, мне сразу, можно сказать, дьявольски повезло. Я обратил внимание на то, что во всей радиограмме, а в ней ни много ни мало полсотни слов, только в одном из них встречаются две одинаковые буквы, которых ни в каком другом слове больше нет. И я стал думать: так какое же это слово? Попробовал искать не вообще, а применительно к нашей ситуации — и нашел! Фотографии! Берлин интересуется какими-то фотографиями. Какими? Не знаю. Но хочу думать, что теми же, что и мы. Впрочем, теперь шифровальщики установят точно. Ведь я расшифровал им целое слово. Да еще такое длинное. Десять букв. Вы, наверное, думаете: расхвастался?
— И в мыслях не было, Ян Францевич, — искренне возразил Доронин.
— Конечно, такой умный: шифровальщики не смогли, а я догадался, — продолжал подтрунивать над собой полковник. — Ладно. Ларчик просто открывался. Дело в том, что шифровальщики не знали, в какой области это слово искать. А у меня как у того больного: у кого чего болит, тот про то и говорит. У меня в голове — одни фотографии. Вот я и нашел слово, — рассмеялся Круклис. И уже серьезно добавил: — Ну и, конечно, старая наука не забылась. Я ведь дешифрированием десять лет занимался…
— Не надо оправдываться, товарищ полковник. Мы вас поздравляем с удачей! — сказал Доронин.
— Э… друзья, поздравлять рано. Это ведь тоже еще только версия. Но если она окажется истиной — мы сразу закольцуем Берлин, фотографии, я уверен, Баранову и, не сомневаюсь, того типа, которого опознала жена вашего знакомого дворника.
С этими словами Круклис достал из ящика стола и положил на стол фоторобот, сделанный по описанию семьи Назаровых.
— Ваше мнение по поводу всего этого, Владимир Иванович? — продолжал Круклис.
— Фотографии, Арбат — наши мысли в чем-то сходятся. Во всяком случае, они идут рядом. Я думаю, вы не ошибаетесь, товарищ полковник, — ответил Доронин.
— А вы что скажете, Дмитрий Николаевич?
— Хорошо бы поднять и старые шифровки, товарищ полковник. Может, и в них что-нибудь о фотографиях есть, — предложил Медведев.
— Прекрасная мысль, — похвалил Круклис. — Значит, вы тоже считаете, что я не узурпировал логику? Ну что ж, тогда будем считать, что еще один очень веский довод сработал в пользу нашей версии. Настолько веский, что меняет всю нашу ориентировку. До сих пор мы тщательнейшим образом разрабатывали версию с Барановой. С сегодняшнего дня наши усилия будут развиваться по двум направлениям. Мы будем продолжать искать эту женщину, для чего, вполне возможно, придется прибегнуть ко всесоюзному розыску. И будем делать все для того, чтобы напасть на след опознанного Назаровой неизвестного. Закодируем его для краткости «Племянником». Я почти уверен, что есть определенная связь между шифровкой, им, фотографиями, Барановой и еще чем-то таким, что нам пока неизвестно, но что впоследствии окажется самым главным. Поэтому вы, Дмитрий Николаевич, проанализируйте вместе с шифровальщиками все старые радиограммы, отправляемые из Москвы. Вполне возможно, что в них что-то говорилось о фотографиях. А вы, Владимир Иванович, размножьте фоторобот и раздайте его копии домоуправам в домах с известными вам арками. Не исключается, что «Племянник» появится там. В таком случае пусть они немедленно сообщат об этом нам, а ему пообещают все, что он просит. И еще. Раз была телеграмма в Москву, значит, будет и ответ из Москвы. Надо предупредить службу перехвата и усилить контроль пеленгаторов. Это я возьму на себя.
Глава 34
Спустя несколько дней, которые Краусс дал Политову специально для привыкания к Шиловой, Политов был представлен двум своим новым инструкторам: капитану СД Палбицыну и оберштурмфюреру СС Делле, он же Ланге. Оба они были родом из России. Оба люто ненавидели советскую власть. Оба старательно выслуживались перед немцами. Но было в их биографиях и нечто разное, причем весьма существенное. Палбицын по своим анкетным данным был похож на Политова. В довоенном прошлом матерый уголовник, имевший на своем счету изнасилования и убийства. Сильный, смелый, злобный, он добровольно перешел на сторону немцев и быстро сделал себе карьеру в органах разведки. К моменту знакомства с Политовым Палбицын был в «Русланд-Норде» уже начальником отдела VIф и подвизался на изготовлении фальшивых документов, печатей и штампов, если это не требовало специальной полиграфической техники и оборудования. Он также числился главным экспертом по экипировке и снаряжению агентов, засылаемых в Советский Союз. Пока что провалов по этой линии в «Русланд-Норде» не замечалось, и немцы были довольны им. Палбицын сразу смекнул, что Политов — это штучка не простая, что о нем печется самое высокое начальство, что на нем можно запросто сломать себе шею и что, несмотря на разницу их званий, с ним надо вести себя панибратски, как со своим. И приготовился уже влезть к нему в душу. Но был неожиданно раздосадован тем, что соглядатай у его нового подопечного уже есть — эта хитрая змея Шилова и приставил ее к Политову сам Краусс. А это напрочь исключало всякую самодеятельность.
Вторым наставником Политова стал Павел Петрович Делле, человек более изысканный, имевший не только свою историю, но и предысторию. Он попал на службу в «Русланд-Норд» иным путем и прибыл в Ригу не из-за линии фронта, а из Берлина, а туда из Парижа. А в Париже он очутился в семнадцатом году вместе со своим семейством, в котором числился как «младший Пашенька». Павел Петрович был отпрыском старинной дворянской фамилии, убежденным монархистом, человеком образованным и знающим себе цену. В послевоенной и побежденной России немцы пророчили Делле высокий пост. А пока он руководил Гатчинской группой безопасности и был у своих хозяев на хорошем счету. Как человек грамотный и развитой, он помимо прочего занимался разработкой легенд для агентов. Получалось это у него неплохо. Хотя и не всегда спасало агентов на перекрестных допросах. Впрочем, это случалось не только и не столько по вине Делле. Кругозор и общее развитие агентов зачастую были настолько низкими, что, отбарабанив заученную шпаргалку, они не могли по собственной инициативе ничего добавить к ней и горели на первом же «дополнительном» вопросе.
Новые инструкторы взялись за дело рьяно. Едва познакомившись с Политовым, Палбицын сразу же повел его в тир.
— Покажи, Петр Иваныч, чему тебя в «Ораниенбурге» научили, — сказал Палбицын, положив перед Политовым ТТ, «парабеллум» и две коробки патронов к ним.
Политов взял «парабеллум». Вложил в него снаряженную обойму и, как только появилась мишень, почти не целясь, расстрелял ее всю. Палбицын не отрываясь следил за мишенью через подзорную трубу. И явно остался доволен, когда последняя пуля пробила ее в круге восемь.
— Неплохо, Петр Иваныч. Я, признаться, думал, будет хуже, — похвалил он Политова. — Подтвердить этот результат сумеешь?
— Должен, — коротко ответил Политов и принялся снаряжать обойму.
На этот раз он целился более тщательно, стрелял не так быстро и не выпустил ни одной пули из круга девять.
— Совсем молодцом, — похвалил Палбицын. — А еще разок? Стрельба должна быть уверенной. Один неточный выстрел может свести насмарку месяцы тренировок и кучу ухлопанных на них средств. Я уж не говорю, что такой промах может стоить жизни и самому стрелку. Согласен со мной, Петр Иваныч?
Политов разрядил в мишень еще одну обойму. И снова ни одна пуля не вышла из круга девять.
— Хорошо. Верю, — остался доволен Палбицын. — Это из «парабеллума». А ведь советскому офицеру «парабеллум» не положен. Ему ТТ полагается. А тебе под офицера работать придется. Так из ТТ ты как?
— Из ТТ я давненько не стрелял, — признался Политов.
— Вот и попробуй.
Политов выстрелил восемь раз. Результат оказался заметно хуже. Пули попали не только в восьмерку, но и в шестерку и даже в пятерку.
— То-то и оно, — многозначительно вздохнул Палбицын. — Что же это они там в «Оранненбурге» тебя не натренировали?
— Рано обучение закончилось.
— Ничего, Петр Иваныч. Наверстаем, — подбодрил Политова Палбицын. — Но учиться сразу будем не так. Живую цель надо поражать не целясь. Навскидку! На шорох! На малейшее движение! Я покажу тебе, как это делается.
Свет в тире неожиданно притух, мишени исчезли, все стало видно, как сквозь сумерки. Палбицын взял оружие. Вдруг что-то щелкнуло у правой стенки, будто кто-то наступил на сучок и сломал его. И тотчас же высветилась ростовая мишень. Она была видна секунды две-три — не больше. Но и за это короткое время Палбицын успел выстрелить дважды. Все опять погрузилось в полумрак. Но через какое-то мгновение уже слева высветился ствол дерева, а за ним совсем небольшой кусок мишени. И опять Палбицын успел выстрелить два раза. Потом мишень появилась впереди и у самого пола. Потом опять слева. Потом справа… Палбицын стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. Политов смотрел на него с завистью. Реакция у бывшего уголовника была молниеносной.
В тире снова стало светло.
— Как думаешь, попал? — хитровато поглядывая на Политова, спросил Палбицын.
— Не знаю, — признался Политов.
— А я знаю. Ни один бы не встал! — уверенно бросил Палбицын и нажал на пульте управления мишенями какую-то кнопку. Появились сразу все мишени, по которым он стрелял. Палбицын подошел к первой, к той, что высвечивалась справа.
— Во! Как же, жди! Встал бы он, — очертил он карандашом две пробоины. И перешел к противоположной стенке.
В мишени, которая имитировала высовывавшегося из-за дерева человека, тоже оказались две дырки. И во всех остальных мишенях, по которым вел огонь Палбицын, обнаружились пробоины.
— Вот так, Иваныч, — довольно ощерился Палбицын. — Ничего. Основа у тебя есть. А посидишь тут недельку-другую, и у тебя не хуже получаться будет. И обязательно. Это ведь твоя жизнь…
— Боюсь, что у меня так скоро не получится, господин капитан, — польстил Палбицыну Политов.
— А ты не боись, Иваныч, — самодовольно ухмыльнулся Палбицын. — Главное, побыстрей поворачивайся и бей! Я вот тебе расскажу, как у меня однажды случилось. Хочешь?
Политов всем видом дал понять, что он слушает очень внимательно.
— До войны это, конечно, было. Там еще, — кивнул Палбицын куда-то в сторону, явно намекая на землю, лежавшую за линией фронта. — Накрыла меня милиция на квартире у моей зазнобы. Спал я. А они сразу впятером ко мне ввалились.
Подняли. Один наган мне под ребра сует. Вижу — дело хана. Однако сразу решил попробовать потянуть время. Спрашиваю: одеться можно? Конечно, не голого, говорят, тебя поведем. Я одеваюсь, а сам на них поглядываю. Вижу, они спокойны. Еще бы — пятеро против одного. Вот, думаю, в этом и есть мой выигрыш! Стал обуваться. Один ботинок зашнуровал. Во второй ногу сунул. И, улучив момент, вырвал наган из рук милиционера. Ну и за считаные секунды положил всех пятерых. А из квартиры убегать не спешу. Знаю, на улице наверняка ждут. Взял у двух убитых наганы, подошел к окну. Выглянул из-за занавески. Смотрю, у крыльца машина. За рулем шофер, тоже из ихних. А возле входа еще один мечется туда-сюда. Выстрелы-то слышал, а что к чему — не поймет. Я его прямо через стекло — хлоп! А следующим выстрелом шофера. Да на их же машине и был таков. А растеряйся я? Или зачухайся? Где бы я сейчас был?
Политов слушал и думал: «А я бы смог так?» И вынужден был признаться: «Пока был там, пожалуй, не смог бы. Не специалист был по мокрым делам. А теперь — сказать трудно. Во всяком случае, задаром себя отдавать не стану». И еще подумал: «А научиться стрелять так, как стреляет этот тип, конечно, надо. В этом он прав: любой промах может жизни стоить».
С этого дня Политов буквально не вылезал из тира. И надо сказать, тренировался он небезуспешно. Палбицын оказался умелым наставником по стрельбе.
Но заканчивались занятия с Палбицыным, и Политова забирал в свои руки Делле. Оберштурмфюрер был сама противоположность капитану СД. Палбицын был высокий, хрипатый. Делле маленький, с бархатным голосом. Палбицын любил блатные словечки и выражения, да и мат не стеснялся пускать в ход при каждом удобном, а порой и не очень удобном случае. Делле всегда выражался очень пристойно. Палбицын хоть и дослужился до капитана, говорил: по-немецки еле-еле, с грубейшими ошибками и совершенно не умел ни читать, ни писать. Делле немецкий, французский и английский языки знал блестяще. Палбицын был весьма скор на руку и, не раздумывая, охотно прикладывал ее к чужому уху и глазу. Делле предпочитал обо всем ему неугодном докладывать начальству. Совершенно не расходились они лишь в одном — в патологической ненависии ко всему советскому.
— Ну-с, соотечественник, садитесь, — пристально оглядев Политова с головы, до ног, сказал при первой их встрече Делле. — Откуда ты родом?
— Черниговский я, господин оберштурмфюрер, — ответил Политов.
— А, Малороссия, — удовлетворенно кивнул Делле. — Под Нежином у кузины было поместье. Как же, как же, помню… Учились?
— В каком смысле, господин оберштурмфюрер? — не понял Политов.
— В школу ходили?
— Шесть лет, господин оберштурмфюрер.
— Немного, однако-с. Ну а чем занимались до войны? Только прошу все как на духу, — предупредил Делле.
Политов рассказал свою не очень богатую событиями биографию. При этом у него так получалось, что врагом советской власти он стал чуть ли не с пеленок. Но Делле быстро расставил все по своим, местам.
— Да нет, голубчик. Никаким идейным врагом большевизма вы не были. И выдумывать ничего не надо. Вы нарушали другие их законы. Но нас это тоже вполне устраивает, — примирительно сказал он. — Я ведь вас почему обо всем этом спрашиваю? Мне придется сочинять для вас легенду, по которой вы будете жить в России. Ну и, естественно, надо кое-что о вас знать. Вы о Станиславском что-нибудь слышали?
— О ком? — не понял Политов.
— О Станиславском. О Константине Сергеевиче Станиславском, — повторил Делле.
Политов задумался. Фамилию вроде слышал. Но вспомнить что-либо поконкретней о нем Политов не смог ничего.
— Не припомню, господин оберштурмфюрер, — признался он.
— Конечно, — снисходительно улыбнулся Делле. — Станиславский, голубчик, это великий актер и режиссер. Он создал свою систему обучения актерскому мастерству. Так вот, он требовал от актера исключительной правдивости в изображении того или иного персонажа. Только при этом условии, учил он, публика поверит актеру. Одним словом, ближе к правде. Как можно ближе. Поэтому, рассказывая мне о себе, вам совершенно не надо рядиться в чужие перья. Другое дело там, в России, в Москве. Кстати, вы бывали в русской столице?
— Не приходилось, господин оберштурмфюрер, — с сожалением ответил Политов.
— Значит, придется хорошенько ее изучить по планам, по снимкам, по книгам, — сказал Делле. — Ну а где вы были на фронте?
Политов рассказал и это. Делле слушал внимательно. Потом стал задавать вопросы. И что-то записывал. Беседа продолжалась долго.
— Хорошо. Я кое-что набросаю, а потом мы с вами все это обсудим, — сказал он в конце беседы и отпустил Политова.
Подготовка к выполнению задания пошла полным ходом. И по мере того как обучаемый и обучающие узнавали друг друга, симпатии Политова все чаще оказывались на стороне хамоватого капитана СД. С ним Политов чувствовал себя легко и просто. И был уверен, что, встреться до войны, они всегда бы нашли общий язык. А с этим барином Делле они совершенно несовместимы. При нем в старое время Политова наверняка драли бы на конюшне вожжами, нынче Делле и не думает подать ему руки, а в будущем, если только оно у них будет, никогда и ни за что даже близко не подпустит к своему порогу. Впрочем, что было ожидать от этого недобитого барина?
Глава 35
Подавая во время обеда Шефнеру воду, Зоя, улучив момент, сказала:
— По-моему, господин майор, за мной следят.
Шефнер вопросительно посмотрел на нее, но в общем-то отнесся к этому как к должному.
— Рано или поздно это должно было случиться, фрейлейн. Сегодня после ужина мы пойдем ко мне вместе, — сказал он.
Зою немного удивило такое спокойствие майора, ибо героем она его не считала. Ведь с гостем из Москвы он отказался встретиться наотрез. А тут вдруг как будто так и надо.
После ужина Шефнер уже ждал ее возле входа в столовую. Для обитателей полигона это было не в диковинку. Все знали, что майор занимается со своей официанткой русским языком, и открыто посмеивались над Ермиловым. Ермилов же делал вид, что это его не касается, мало ли что мог позволить себе главный инженер полигона. На то он и главный, и майор. А он, Ермилов, преданно служит господам немцам, и его дело ничего не видеть, ничего не слышать о том, что его не касается по службе, и помалкивать. Такая спокойная позиция жениха Зои всех выводила из себя еще больше. Но Ермилов оставался глух к любым шуткам и подковыркам сослуживцев.
Зоя подошла к Шефнеру и позволила ему взять себя под руку.
— Что случилось? — сразу же спросил Шефнер.
— Мне кажется, господин майор, что за мной следят, — повторила Зоя.
— Кажется или следят на самом деле?
— Следят, господин майор.
— Кто?
— Старший полицай Лещук, господин майор.
— Это такой худой и с усами?
— Совершенно верно. Он самый.
— Как вы это заметили?
— Он буквально не сводит с меня глаз.
— Но, может быть, он просто влюблен в вас? — попытался усмехнуться Шефнер.
— У меня же есть жених, господин майор.
— Ах, да. И давно вы это заметили?
— Не очень, господин майор. Совсем даже недавно. Когда я возвращалась на полигон после встречи с московским гостем, у него была на губах такая злорадная ухмылка, будто он обо всем уже знает. Я рассказала об этом Ермилову. Но он поклялся мне, что все эти дни Лещук с полигона ни разу не отлучался. Так что знать он, понятно, ничего не может. Но я чувствую, господин майор, что ухмыляется он неспроста.
— Что ж, может быть, предчувствие вас и не обманывает, — сказал после некоторого раздумья Шефнер. — Давайте мы тоже за ним понаблюдаем.
— А как, господин майор?
— Ну, во-первых, передайте вашему жениху, чтобы отныне он тоже следил за каждым шагом этого усатого. Во-вторых, я постараюсь узнать, с кем он контактирует из наших. Я имею в виду, кому докладывает. От кого получает задания. В-третьих, надо будет, как это у вас называется, застать его на месте преступления. Подумайте, как это лучше сделать…
— Он хитрый, господин майор, — предупредила Зоя.
— Тут все такие, фрейлейн, — согласился Шефнер. — Но разве мы самые глупые изо всех?
— Я заметила только его, господин майор. А если он следит не один? — спросила Зоя.
— Узнаем и это. Понаблюдайте пока за усатым дня три-четыре. Потом сообщите мне результаты. А пока хватит об этом. У меня будем говорить только о занятиях, — подойдя к дому, предупредил Шефнер.
— Конечно, господин майор. Я ведь еще не проверила ваше прошлое задание. Так что сегодня вам придется постараться, — немедленно приняла условие Зоя. — Вы обещали прочитать главу из романа Гончарова «Обломов». Вы готовы?
— Да, фрейлейн. У этого писателя необычайно богатый язык. Я читал и делал для себя запись всех новых слов, — ответил Шефнер.
Занимались они в тот вечер, как обычно, часа полтора. Но перед концом занятий Шефнер позвонил в охранную роту и приказал немедленно направить к нему Ермилова. Тот прибежал и доложил по всем правилам.
— Хорошо, хорошо, — не стал до конца выслушивать его Шефнер. — Время уже позднее, господин Ермилов. И я бы хотел, чтобы вы проводили фрейлейн Зою в общежитие. Нельзя оставлять такую хорошенькую девушку без присмотра, господин Ермилов. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, — полушутя-полусерьезно сказал Шефнер.
Ермилов, щелкнув каблуками и пообещав все сделать в наилучшем виде, вышел вместе со своей нареченной на улицу.
— Чего это он вдруг такую заботу проявил? — удивился Ермилов.
— И совсем даже не вдруг, — ответила Зоя и рассказала, о чем они условились с майором.
— Лещук, конечно, гад и пьянь. И ожидать от него можно чего угодно, — согласился Ермилов. — Но я тебе еще раз говорю, ни разу не уходил он в те дни с полигона. Уж я бы знал, что его нет в подразделении.
— Пусть так. А как будем проверять? — спросила Зоя.
— Отпросись у майора домой. А я посмотрю: увяжется он за тобой или нет? — быстро решил Ермилов. — Он, правда, может и у меня взять разрешение на отлучку, а может и у кого из немцев. Но суть-то одна, будет он в это время на месте или нет.
— А дома что делать?
— Знак условный не подавай. С Веркой не встречайся. А если кто сам к тебе придет, милости, мол, просим, — наставлял разведчицу Ермилов.
— А если Верка сама придет?
— Предупреди через мать, чтобы не ходила. И еще. Пока будешь дома, кобеля к будке на цепь посади. И слушай. Залает — поглядывай, кто возле дома топчется.
На следующий день Зоя отпросилась у Шефнера домой. Майор позвонил в комендатуру, ведавшую наймом гражданских лиц, и приказал отпустить официантку домой на три дня по причине болезни ее матери. Провожать ее на сей раз Ермилов не стал. Зоя ушла с полигона сразу же после обеда и еще засветло появилась в поселке. Никакого хвоста за собой она не заметила. И дома все сделала так, как ее научил Ермилов: лампадку в горнице не зажигала, собаку, чтобы она не бегала по поселку, посадила на цепь. Остаток дня и вечер прошли спокойно. Но примерно в десятом часу, когда на дворе уже было совершенно темно, собака неожиданно залилась злобным лаем. Зоя подошла к окну и, отодвинув край занавески, посмотрела во двор.
Ночь была непроглядной. И все же на фоне белого снега какие-то силуэты различить было можно. И Зоя увидела чей-то похожий на тень контур, метнувшийся от простенка к забору.
Тень быстро добежала до забора и так же ловко и проворно перебралась через него. Зоя постояла у окна еще какое-то время, но, как только собака успокоилась, вернулась в кровать. Но уснула только под утро.
Спала она тревожно. Часто пробуждалась. И каждый раз, засыпая снова, думала о том, как и впредь надо быть осторожной.
Утром Зоя, накинув на плечи ватник, нетерпеливо выбежала во двор. За ночь потеплело, и снег легко лепился в руках. Зоя подошла к окну. Снег возле простенка был притоптан. Но в одном месте четко отпечатался след каблука с треугольной набойкой и двумя шипами. «Значит, кто-то следил, — подумала она. — Но кто? Лещук?» Разобраться в этом требовалось немедленно. И Зоя уже за чаем объявила матери, что срочно возвращается на полигон.
— Да как же так? Ты ж сама говорила, что тебя на три дня отпустили, — взмолилась мать.
— Надо, мама, — коротко ответила Зоя, быстро собралась и ушла.
На полигоне Зоя первым делом разыскала Ермилова и рассказала ему о своих подозрениях.
— Так не ходил Лещук в поселок! Тут он дежурил. И я с него, гада, на минуту глаз не сводил, — поклялся Ермилов.
— А кто же тогда в сапогах был? — недоуменно спросила Зоя.
— В том то и дело кто?
— Там на следу, на правом сапоге, подкова была треугольная. И два шипа по бокам, — объяснила Зоя.
— Треугольная?
Зоя тут же пальцем на снегу нарисовала след.
— Чудно. Нет у нас таких. Я весь обуток знаю.
— Но ведь и я не выдумала…
— Тогда, может, я чего проглядел, — пошел на попятную Ермилов. — Сегодня же еще раз все обсмотрю, откуда взялась эта треугольная подкова. Немцу своему рассказывать будешь?
— Обязательно. Он тоже обещал кое-что узнать. Я сначала хотела в отряд сообщить. А потом подумала: а что, собственно, сообщать? Ну, приходили. Ну, пытались следить. И все? А у вас-то тут как?
— Начальство какое-то приезжало. Как раз перед тобой уехало. А так все по-прежнему, — ответил Ермилов. — Ну что ж, поди скажи майору.
Зоя заторопилась в столовую. Как обычно, обслуживала офицеров, а Шефнера почему-то не могла дождаться долго. Это было непривычно. Майор не опаздывал к столу ни на минуту. Но вот он появился, увидел Зою, и что-то светлое, похожее на озарение, мелькнуло у него в глазах.
— Вы вернулись, фрейлейн? — спросил он по-немецки.
— Благодарю вас, господин майор. Матери стало лучше, и я решила не задерживаться, — ответила Зоя.
— И очень правильно сделали, — одобрил майор и добавил уже по-русски: — Вы же знаете, что, кроме вас, я ни у кого не люблю обедать. Да и в занятиях плохо делать большие перерывы.
Зоя всегда накрывала стол майора свеженакрахмаленной скатертью и сервировала принесенным из дому и сохранившимся с незапамятных времен в их семье серебряным прибором.
— Вы давно уже здесь? — спросил майор.
— Только что пришла, — ответила Зоя.
— И никому еще не успели сказать, что ваша мать поправилась?
— Нет, господин майор.
— Тоже очень хорошо. Потому что вам сегодня же придется вернуться домой, — сказал Шефнер.
— Но я не зря пришла, господин майор, — сказала Зоя.
— Знаю, — кивнул Шефнер. — Знаю, что за вами следили.
— Откуда знаете? — даже растерялась Зоя.
— Все объясню. А сейчас после обеда вы пойдете к нашему врачу, лейтенанту Эльфельдту, и попросите для матери аспирин. Будто бы за этим вы и пришли на полигон. Вы меня поняли?
— Да, господин майор.
— А когда вы выйдете от Эльфельдта, я вас встречу и все вам расскажу. Хотя я и говорил о плохом последствии перерывов, но заниматься сегодня мы не будем.
— И это поняла, господин майор, — послушно согласилась Зоя.
Майор выпил чаю и ушел. А Зоя вымыла посуду, заперла в тумбочку серебро и побежала в медпункт. Ей не терпелось узнать, что же известно майору о ночном происшествии. Эльфельдт, очевидно, был уже предупрежден о ее приходе. Он встретил ее в коридоре и сказал:
— Вашей матери надо все время ставить банки.
— Я ставила, господин лейтенант, — ответила Зоя.
— У нее слабая грудь. Она не должна простужаться. Идемте, фрейлейн, я дам вам хорошее лекарство.
Они прошли в кабинет Эльфельдта, и он протянул Зое готовый пакетик с порошками и таблетками. Потом он, как бы между прочим, взглянул в окно и, улыбаясь, сказал:
— Наш дорогой Вальтер без вас плохо ест. Мы вчера обедали вместе с ним, он почти ни до чего не дотронулся. Боюсь, мне придется лечить и его.
— Вы шутите, господин лейтенант. Я только что его кормила, у него прекрасный аппетит, — ответила Зоя.
— Конечно. Это же вы кормили, — все так же весело заметил лейтенант и снова заглянул в окно. — Вот теперь вы можете идти.
Зоя посмотрела на улицу. По дорожке мимо медпункта неторопливо шел Шефнер.
— Спасибо, господин лейтенант, — торопливо поблагодарила Зоя и выбежала из медпункта.
Шефнер, как обычно, взял ее под руку и повел к проходной.
— Мне не спалось вчера. У меня было какое-то дурное предчувствие. Я вызвал разводящего с караульным и пошел проверять посты, — без предисловия начал он. — И когда проходили вот тут, из проходной вышел полицейский. Я удивился, почему он не спит, и спросил, откуда он идет. А он вдруг перепугался и ответил, что выполнял задание коменданта, шарфюрера Вёлера. Я почувствовал что-то недоброе и снова спросил, какое задание. Полицейский ответил, что не имеет права никому об этом докладывать. Тогда я достал пистолет и сказал, что, если он сейчас же не сообщит мне, где он был, я тут же расстреляю его, как партизана. У меня, наверное, было очень сердитое лицо, потому что полицейский окончательно струсил и сообщил, что ходил по заданию Вёлера в поселок. Фамилия этого полицейского Свиблов…
— Так это ж дружок Лещука, — невольно вырвалось у Зои.
— Вот и замкнулась цепочка, — сказал Шефнер. — К сожалению, расспрашивать полицейского дальше я уже не мог. Нам не положено контролировать дела Вёлера. Но я думаю, и того, что мы узнали, вполне достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Вы говорите, что этот Свиблов приятель того, кого вы подозревали?
— Да, господин майор. Они давно уже спелись.
— Что значит «спелись»? — не понял Шефнер.
— В данном случае значит — сдружились, — объяснила Зоя. — Вместье пьют, вместе в поселок ходят. Да и тут почти всегда вместе.
— А что он мог видеть у вас вчера вечером? — спросил Шефнер.
— Ничего, господин майор.
— Ну и прекрасно. В таком случае быстрее несите матери лекарство и так же срочно передайте «триста тридцать третьему», что вчера к нам на полигон приезжал один высокий начальник. Разумеется, в этом ничего особенного нет. К нам наезжают всякие чины. Еще и побольше этого. Но дело в том, что мы к людям его профессии не имеем ни малейшего отношения. Тем более, никогда еще не получали от них никаких заданий. Запоминайте, фрейлейн, все, что я буду говорить, и это все передайте «триста тридцать третьему». Поняли?
— Все передам, господин майор, — ответила Зоя. Шефнер начал объяснять…
Глава 36
Медведев досконально проанализировал текст старых перехваченных радиограмм и в двух из них нашел расшифрованное Круклисом слово «фотографии». Об этом он немедленно сообщил Доронину, и они оба поспешили на доклад к полковнику.
— Наше предположение полностью подтвердилось, товарищ полковник. И в запросе, и в ответе, перехваченных в сентябре и октябре прошлого года, слово «фотографии» есть, — доложил Медведев.
— Очень хорошо, — одобрил Круклис. — Какие же вы из этого делаете выводы?
— Опираясь на уже известные нам факты, можно смело предполагать, что в первой шифровке был приказ забрать снимки из тайника. А во второй — ответ, что они исчезли, — ответил Медведев.
— А ваше мнение, Владимир Иванович? — спросил Круклис.
— Полностью совпадает с выводами Дмитрия Николаевича, товарищ полковник, — ответил Доронин.
— Удивительное единомыслие, — одобряюще кивнул Круклис и добавил: — Если мы и дальше так будем работать, то половину из нас можно смело сокращать.
— Да. Но у меня тоже есть сообщение, — поспешил оправдаться Доронин.
— Вот это интересно. Какое же?
— По моему заданию было изготовлено два десятка копий фоторобота «Племянника», — начал доклад Доронин. — Я раздал их во дворах на Арбате. И получился совершенно неожиданный результат. Одна из домоуправов принесла снимок домой. А ее сестра, работающая билетершей Большого театра, сразу же узнала в нем одного театрала, который вот уже недели две каждый вечер выпрашивает у нее оторванные контроли. Говорит, что коллекционирует театральные билеты. Я, естественно, немедленно организовал за ним наблюдение. Но он возле театра больше не появляется.
— Ну, Владимир Иванович, это уже похоже на первоапрельский розыгрыш! — явно о чем-то думая, сказал Круклис.
— Отнюдь, товарищ полковник!
— Да я понимаю, что вы не шутите, — успокоил его Круклис. — Но сразу такое везение, можно сказать, сюрприз! И где? Как все это объяснить?
— Объяснить на самом деле довольно сложно, — согласился Доронин. — Но билетерша клянется, что она не ошибается.
— Но какая может быть связь между арками на Арбате и обрывками билетов в Большой театр? — резонно заметил Круклис.
— На первый взгляд совершенно никакой, — согласился Доронин.
— И тем не менее, если ваша билетерша не ошибается, она должна быть! И почему он вдруг перестал собирать эти контроли? Его что — спугнули? Кто за ним следит? — засыпал Доронина вопросами Круклис.
— Во-первых, я попросил об этом саму билетершу. Во-вторых, наш сотрудник наблюдает из помещения Малого театра, — доложил Доронин. — «Племянник» видеть его не мог никак.
— Тогда почему же он перестал появляться?
— На этот счет у меня есть версия, — ответил Доронин.
— Выкладывайте!
— Я побывал в кассах Большого театра. И внимательно рассмотрел корешки билетов, которыми торговали последние две недели. Посмотрел, из какой бумаги они были сделаны. И вот, пожалуйста: первые три дня в продаже шли билеты, отпечатанные на желтой бумаге, потом три дня — на зеленой, потом на голубой, потом на розовой и в конце второй недели — снова на желтой. Все они у меня есть, — выложил корешки на стол перед полковником Доронин. — Таким образом, собрав всевозможные образцы, «коллекционер», то бишь «Племянник», удовлетворился.
— А других образцов билетов больше не бывает? — разглядывая корешки, допытывался Круклис.
— Проверил. До конца полугодия отпечатаны только такие. Но мне сказали, что и дальше они будут из этой же бумаги и точно таких же цветов, — ответил Доронин.
Круклис прошелся по кабинету, постоял у окна, вернулся на свое место, сказал:
— Что же? Меня версия устраивает. По крайней мере так может быть, — согласился Круклис. — Но остается неясным главное: какая же все-таки между всем этим связь? Предлагаю всем подумать. И подумать крепко. А связь, точно, должна быть. Наблюдение за этим «коллекционером» продолжается?
— Больше того, товарищ полковник. Я договорился с билетершей, если «коллекционер» появится снова, она пригласит его к себе домой и продаст ему билеты еще бог знает какой давности, — ответил Доронин.
— Хорошо. А Петренко подавал какие-нибудь признаки жизни? — перешел к очередному вопросу Круклис.
— Звонил, товарищ полковник, — ответил Медведев.
— И что?
— Сказал, что непременно будет к двадцати двум.
Круклис взглянул на часы.
— В таком случае слушайте теперь, что я вам сообщу. У меня сегодня тоже улов хороший, — сказал Круклис и раскрыл лежавшую на столе папку. — За час до вашего прихода я получил информацию от «четыреста сорок четвертого». Вот ее содержание.
«Двадцать шестого марта полигон посетил начальник “Русланд-Норда” штурмбаннфюрер Краусс. Он сообщил, что в ближайшее время нам предстоит выполнить очень важное и совершенно секретное задание РСХА. Какое именно, он не сказал. Но предупредил, что все, что будет касаться этого задания, мы обязаны держать в строжайшей тайне. Предупредил также, что на днях мы получим новую технику, о которой также никому не следует знать. О дальнейших событиях буду вас информировать». Вот как. Как вам это нравится?
Доронин и Медведев переглянулись.
— РСХА полезло на обычный вермахтовский полигон. Интересно, а раньше были такие прецеденты? — спросил Медведев.
— Не знаем. А если даже и нет? — ответил Круклис.
— Скорее всего, что именно так и есть. Иначе зачем бы Шефнеру сообщать нам об обычном деле? — рассудил Доронин. — И важным для нас мне представляется то, что в дело замешано само РСХА.
— Вот-вот! — подчеркнул Круклис. — И почему? Полигон где-то на Псковщине. У них что, поближе к Берлину негде испытать свои дьявольские штучки?
— А может, товарищ полковник, не почему «где-то», а почему «именно»? — поставил вопрос по-своему Медведев.
— Тоже надо подумать, — согласился Круклис. — Во всяком случае, это, бесспорно, тема для исследования. Надо в первую очередь установить, нет ли тут связи с тем, что показал тогда на допросе этот предатель Лашков-Гурьянов? Помните работу Пяткина? Ее проводили наши соседи. Некоторые данные, на мой взгляд, явно совпадают. Тут и там в деле замешан «Русланд-Норд». В обоих случаях речь идет о каком-то очень секретном задании Берлина, считай, РСХА. Специальный самолет, изготовленный или изготовляемый фирмой «Мессершмитт», о котором сообщал Лашков, и новая секретная техника, о которой говорит Шефнер? Правда, не совсем понятно, почему самолет и на полигон, а не куда-нибудь, скажем, на аэродром?
— Так ведь специальный, — напомнил Медведев.
— Да нет, я не исключаю и такого варианта, — согласился Круклис. — Во всяком случае, возьмите-ка вы, Дмитрий Николаевич, в архиве протоколы допросов этого Лашкова. Освежите все это дело в памяти и попытайтесь проанализировать, насколько это возможно, не об одном ли и том же говорят Лашков и Шефнер? Ну и, конечно, надо будет нацелить Ригу. Пусть установят, что за очередная возня началась в «Русланд-Норде»? И зачем это господин Краусс мотался на вермахтовский полигон? Это уж вы возьмите на себя, Владимир Иванович.
— Понял, товарищ полковник, — ответил Доронин.
— Мы тогда подумали, что наверняка сорвали им операцию. Ан нет. Теперь вполне может оказаться, что их это не остановило и они продолжают свое дело, — заметил Круклис. — Какое же сегодня неожиданное изобилие столь интересной и важной информации… И знаете, друзья, меня все время не покидает предчувствие того, что в один прекрасный день вдруг окажется, что все эти фотографии и подворотни, и Баранова, и «Племянник», и то, что показал на допросах Лашков, и то, о чем сообщает Шефнер, — все это окажется очень тесно связанным одно с другим. А вы не думаете об этом?
Доронин ответил не сразу.
— Не думаю, товарищ полковник, потому что знаю, как много направлений у «Цеппелина» и абвера, — откровенно ответил Доронин.
— Это так, — вздохнул Круклис. — И я ведь говорю только о предчувствии.
— Так ведь у вас опыт-то какой!
Круклис хитровато усмехнулся и погрозил Доронину пальцем.
— Предчувствие предчувствием, но есть и одно весьма существенное и совершенно реальное изначало — масштабность всей этой цели. И потому за ней стоит РСХА, а не «Цеппелин» и не абвер, — пояснил он свою мысль.
Вошел Петренко.
— Опаздываешь, — недовольно проворчал Доронин.
— Зато есть новость, — сообщил Петренко.
— Выкладывай! — сразу потребовал Круклис.
— Два часа тому назад, товарищ полковник, неизвестное лицо послало в эфир радиограмму. Служба перехвата записала весь текст. Сейчас его пытаются расшифровать. Пеленгаторщики определили район, откуда действовал передатчик, — Переделкино. А точнее — старое кладбище. Через полчаса после начала передачи район был оцеплен. Но никого задержать не удалось. За это время в сторону Москвы прошли три электрички. Кассирша на платформе «Переделкино» видела незнакомого мужчину с чемоданом: и даже пыталась его обрисовать. Но сказать, что это был радист — трудно, — доложил Петренко.
— Хорошо. Выясним это завтра, — обведя взглядом своих подчиненных, твердо сказал Круклис. — К утру поступят какие-то результаты от шифровальщиков. Если они сумеют расшифровать радиограмму, мы, естественно, узнаем, что в ней, и заодно определим ее источник. Если орешек окажется им не по зубам, надо будет завтра же с самого утра еще раз обследовать район, откуда велась передача. Обследовать тщательнейшим образом! И я уверен, что мы найдем интересные вещественные доказательства. Возможно, даже какие-то следы. Ведь одно дело — искать в темноте, другое — при свете дня. И обязательно надо еще раз подробно обо всем расспросить кассиршу. Показать ей фоторобот «Племянника», проанализировать все, что она сообщит. А пока — по домам и отдыхайте.
Глава 37
Кальтенбруннер знал, что Гиммлер уже три дня находится в ставке у Гитлера. Но не знал другого, по его мнению, более существенного: сам он напросился на прием к фюреру или Гитлер вызвал его по собственной инициативе. А знать это было важно. Потому что именно по таким нюансам можно было в последнее время наиболее правильно определить истинное отношение Гитлера к своим приближенным. Время, когда фюрер был снисходителен и терпим ко многим из них, кануло в Лету. Теперь каждый день и каждый час можно было ждать приказа, окончательно и бесповоротно решавшего судьбу любого военного или штатского чина. И Кальтенбруннеру нужно было держать ухо очень востро, чтобы точно знать обо всех, кто впал в немилость или, наоборот, вдруг быстро пошел в гору. Но, как он ни старался, всегда раньше его обо всех таких изменениях узнавали Борман и Геббельс или его шеф, а порою даже и Кейтель. Не знал Кальтенбруннер и того, когда Гиммлер вернется из «Волчьего логова» в свой дом на Принц-Албрехтштрассе. И хотя он поджидал рейхсфюрера, виду тем не менее по этому поводу не подавал никакого. И даже, наоборот, всячески старался показать, что он занят самыми неотложными делами и тем самым ревностно служит фюреру, а не торчит безвылазно в своем кабинете и не ждет, когда кто-нибудь позвонит и поделится какой-нибудь очередной сплетней. Поэтому звонок Гиммлера застал его не в РСХА, где вероятнее всего его, казалось, можно было отыскать, а на территории концлагеря Заксенхаузен, куда он прибыл еще накануне.
— Кальтенбруннер у аппарата, — доложил начальник РСХА и тотчас же услышал голос рейхсфюрера:
— Здравствуйте, Эрнст. Вы, как всегда, не знаете покоя. Как у вас там дела?
То, что Гиммлер поздоровался с ним по-свойски, говорило о том, что он вернулся в хорошем, а возможно, даже и в прекрасном настроении. Кальтенбруннер предпочел бы, наоборот, услышать его сердитым и недовольным. Это означало бы, что встреча с фюрером прошла совсем негладко, и намного больше бы соответствовало честолюбивому настроению начальника РСХА. Но Гиммлер сказал: «Здравствуйте», и Кальтенбруннер сразу же принял этот тон.
— Рад слышать вас, рейхсфюрер. Как здоровье фюрера? — осведомился он, как о самом главном.
— Могло бы быть лучше. У вас там еще много дел? — спросил Гиммлер.
— Надо бы еще на денек задержаться. Провести совещание.
— Хорошо. Проводите, и жду вас у себя. Кстати, фюрер передавал вам привет, — сказал Гиммлер.
— Благодарю, рейхсфюрер. Послезавтра я у вас, — пообещал Кальтенбруннер.
На следующий день совещание было проведено. Кальтенбруннер был категоричен, требователен, резок. Он знал, что все, что он на нем скажет тут сегодня, завтра же будет известно Гиммлеру, и не жалел крепких выражений.
Совещание закончилось. Но остался нерешенным еще один вопрос, который нужно было обдумать: что делать в случае чрезвычайных обстоятельств не только с заключенными лагерей, но и с самими концлагерями? Какую-то часть этого вопроса он решил уже сегодня, приказав убрать с глаз долой все излишние вещественные доказательства проводимых в лагерях экзекуций. Но вот вторую его часть? Кальтенбруннер отпустил всех, оставил при себе одного начальника отдела Д ВФХА[5] бригаденфюрера СС, генерал-майора войск СС Глюкса и с ним снова обошел весь лагерь. Глюкса вопрос поставил в тупик. И в первую очередь потому, что касался не одного Заксенхаузена, а всех лагерей, расположенных как непосредственно в самом рейхе, так и на территории оккупированных стран. А если учесть, что одновременно во всех лагерях содержалось несколько миллионов заключенных, то вопрос и вовсе оказывался крайне трудным. Тем более что в последнее время судьбами узников концлагерей все чаще стал интересоваться Международный Красный Крест.
Вопрос обсуждался долго. Но они так и не выработали конкретного общего решения. Однако тот разговор и некоторые высказанные тогда обоими идеи не были забыты. И спустя всего лишь год, когда чрезвычайные обстоятельства не только сложились, но и достигли своего апогея, Кальтенбруннер отдал директиву, в которой рекомендовалось провести ликвидацию некоторых лагерей, и в первую очередь опять же еврейских, силами люфтваффе, выдав его за авиацию союзников. Эта операция получила свой код— «Вольке А-I»[6].
Утром следующего дня Кальтенбруннер был уже в приемной Гиммлера и сразу же прошел в его кабинет. Сегодня рейхсфюрер был настроен менее благодушно. Вполне возможно, что виной тому стала очередная ночная бомбежка Берлина авиацией союзников. Два самолета при этом были сбиты. Экипаж одного уже был взят в плен, другого — еще разыскивали. Гиммлер только что интересовался результатами поиска и выразил крайнее неудовольствие нерасторопностью полиции.
— По-моему, мы совершаем величайшую глупость, оставляя живыми этих воздушных налетчиков. Они должны знать четко, что за сброшенную на Берлин бомбу их ждет только одно — смерть. На месте! Там, где их поймают наши люди! — выпалил он необычайно раздраженно вместо приветствия и только после этого вскинул руку: — Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — ответил Кальтенбруннер и доложил, что примерно о том же он говорил вчера комендантам лагерей.
— И правильно, — одобрил Гиммлер. — А Геринг еще придумал для них какие-то свои лагеря. Мне с самого начала не по душе была эта его затея…
— Что поделаешь, рейхсфюрер. Рейхсмаршал пользуется особым покровительством фюрера. И ему легко сходит с рук то, за что другие уже давно поплатились бы головой, — ответил Кальтенбруннер и перешел на более лояльную тему. — Я понял из вашего телефонного разговора, что фюрер не совсем здоров…
— Да, он выглядит очень усталым, — ответил Гиммлер. — Геббельс даже пытался уговорить его отдохнуть там же неподалеку, в Раушине или в Гранце. Но он даже слышать не хочет ни о каком отдыхе. Он работает по двадцать часов в сутки. Спит и ест урывками. Но, несмотря на такую загруженность, он спросил меня, как идут дела по подготовке намеченной нами акции против Верховного русского командования. А я хочу это же спросить у вас, Эрнст.
— Я буквально на днях говорил по этому поводу с Шелленбергом, рейхсфюрер. Он убеждает меня в том, что все идет по плану, — ответил Кальтенбруннер.
— То, что вам докладывал Вальтер, мне известно. Но это-то меня и тревожит, Эрнст, — заметил Гиммлер. — Со спецсамолетом пока ничего не получается…
— Это не совсем так, рейхсфюрер, — возразил Кальтенбруннер. — Просто они навыдумывали там такого, что сами теперь не могут уложиться в сроки.
— А зачем это было городить, Эрнст? — резонно спросил Гиммлер. — Ведь так или иначе это будет штука разового пользования. Ну, может, еще пару раз ее придется сгонять за линию фронта. Так для чего же на нее устанавливать столько оборудования?
— Вы совершенно правы, рейхсфюрер. Но «Мессершмитт» есть «Мессершмитт». И на кого бы фирма ни работала, она в первую очередь будет работать на себя, — ответил Кальтенбруннер.
— Вот поэтому-то, Эрнст, посылать в эту фирму каких-то ваших второстепенных чинов просто бессмысленно. Там с ними и разговаривать-то никто не будет, — сделал вывод Гиммлер. — Я вас просил и еще раз прошу: возьмите это дело под собственный контроль. Вплоть до замены исполнителей решайте все сами. Отложите на какое-то время все остальные дела. Мне скоро опять быть у фюрера. А вы знаете, какая у него память? Он обязательно начнет меня расспрашивать снова.
— Я все понял, рейхсфюрер. Я сегодня же побываю в фирме и досконально разберусь во всем, — пообещал Кальтенбруннер.
— Благодарю вас, Эрнст, — поклонился Гиммлер, и они перешли к обсуждению других вопросов.
В тот же день Кальтенбруннер посетил опытное предприятие, на котором создавался самолет. Кальтенбруннер был Кальтенбруннером, ближайшим помощником Гиммлера, и показать товар лицом к нему прибыла добрая половина директоров и самых ответственных специалистов фирмы. «Арадо» был почти готов. Он уже стоял на шасси, на нем уже устанавливали последний, четвертый двигатель и пулеметы. Самолет выглядел настолько внушительно, насколько и диковинно. Ничего подобного обергруппенфюреру доселе не приходилось видеть нигде и никогда… Пояснения начальнику РСХА давал ведущий конструктор фирмы.
Уже беглый осмотр «Арадо» показал, что никаких оснований для волнений и тем более какой-либо паники из-за того, что выполнение заказа проваливается, абсолютно нет. График работ был в свое время согласован с РСХА и выполнялся довольно точно. Кое в чем работа даже шла с опережением графика. Но Кальтенбруннер привык угождать начальству и, естественно, никаких похвал никому расточать не стал. Наоборот, всем своим видом он давал понять, что крайне обеспокоен тем, что работа все же идет недостаточно быстро. Что график графиком, а есть еще реальная обстановка на фронтах, которая упрямо вносит свои коррективы во все ранее составленные планы. По этому поводу Кальтенбруннер даже разразился длинной тирадой. Авиационные специалисты молча выслушали ее и понимающе повздыхали.
— Если вопрос стоит только так, герр обергруппенфюрер, то вместо августа, как намечалось по плану, мы проведем испытания самолета в июле. Это единственное, что может сделать фирма в создавшихся условиях, — сказал в ответ один из них.
«Это уже неплохо, — подумал Кальтенбруннер. — Но главное, что этого можно было добиться. Но до меня не добился никто! Однако что же еще можно вытрясти из этих спецов в белых манишках?»
— Господа, — сказал Кальтенбруннер. — Я рад, что у нас существует такое разумное взаимопонимание. Что вы с такой готовностью идете навстречу нашим пожеланиям, продиктованным отнюдь не волюнтаристскими настроениями. Но давайте подумаем, что еще можно сделать для скорейшего создания этого вашего удивительного творения?
— Подумать на этой стадии еще, конечно, можно, — после некоторого раздумья выразил общее мнение другой специалист. — Видимо, от чего-то придется отказаться. Но от чего именно, герр обергруппенфюрер? Нельзя ли услышать от вас хотя бы какие-нибудь в этом плане пожелания?
— Я только что имел по поводу этого самолета беседу с рейхсфюрером, господа, — сказал Кальтенбруннер. — Рейхсфюрер также весьма озабочен состоянием дел. И он высказал, на мой взгляд, весьма ценное замечание. Ваш самолет, как он сказал, вещь в буквальном смысле разового действия. Так надо ли, господа, так уж заботиться об его оборудовании, отделке и прочее? Я знаю, например, что вы создаете его как всепогодный. Но какие уж особо затяжные метеоосложнения могут быть в летнюю пору на нашем Европейском континенте? Ну, двое, ну, трое суток дождь. Или даже неделю. Так ведь можно и подождать с вылетом. Не для бомбежки же вы его готовите… Или для чего ему столько оружия, господа? От эскадрильи истребителей ему все равно не отбиться. Да и вообще он готовится не для воздушных боев. Так стоит ли оснащать его пулеметами и прочим в таком количестве?
— Мы считали, что «Арадо» придется действовать в экстремальных условиях, герр обергруппенфюрер, — заметил третий специалист. — Отсюда и его оснащение.
— Согласен, господа, что ему, возможно, придется влететь черту в зубы, — согласился Кальтенбруннер. — Но всего ведь, господа, все равно не предусмотришь. Давайте-ка в подробностях разберем, что на нем уже стоит и зачем, и что вы еще собираетесь поставить?
Разговор продолжался еще часа два. Закончился он тем, что срок испытания приблизился еще на месяц и перенесли его с июля на июнь. С тем Кальтенбруннер и уехал с предприятия. Он был и доволен собой, и не доволен. Хорошее настроение у него было оттого, что, несмотря ни на что, ему все же удалось вырвать два месяца у этих господ, раскуривающих исключительно дорогие сигары. Срок этот, учитывая общую ситуацию, был немалым. Портило хорошее настроение то, что сделал он это не по своей инициативе, а лишь по вторичной просьбе рейхсфюрера. Опереди он его и поинтересуйся делами на предприятии сам, выглядел бы его сегодняшний успех совсем по-иному. За это, пожалуй, можно было бы получить похвалу и от самого фюрера. А так только Гиммлер как-нибудь при случае дружелюбно похлопает по плечу. Но вот где Кальтенбруннер мог из чужой инициативы извлечь бесспорную выгоду для себя, так это в перестановке людей. Деление всех в верхних эшелонах рейха на людей Гитлера, Бормана, Геббельса, Геринга, Гиммлера давно уже делало всякую иную власть над ними, в том числе даже и их непосредственных начальников, весьма ограниченной, а порой и вовсе номинальной. Так было и в РСХА. Шелленберг давно уже мозолил Кальтенбруннеру глаза. И обергруппенфюрер давно уже сплавил бы его куда-нибудь из РСХА. Но Шелленберг был человеком Гиммлера, и Кальтенбруннер сделать что-либо с ним был не в силах.
Но вывести из игры Грейфе, который, без сомнения, был человеком Шелленберга, Кальтенбруннер неожиданно получил право. Хоть неконкретно, хоть в общих словах, но получил. И решил немедленно воспользоваться им. И не прямо, а таким образом, через начальника восточного отдела, ослабить позицию Шелленберга. В тот же вечер, когда берлинцы, заперев квартиры и захватив с собой самое необходимое и дорогое, не дожидаясь начала очередного налета на город, длинными очередями расползались по бомбоубежищам, Кальтенбруннер вызвал к себе Грейфе. Он устремил на него пронизывающий взгляд и безо всяких предисловий и объяснений объявил ему, что в интересах дела отстраняет его от руководства готовящейся акции, а заодно и от должности начальника восточного отдела. При этом он не преминул сказать, что делает это с одобрения рейхсфюрера. Грейфе ничего не оставалось, как просить обергруппенфюрера дать ему возможность доказать свою преданность фюреру и национал-социализму на любом другом поприще. Кальтенбруннер обещал эту просьбу оберштурмбаннфюрера удовлетворить и уже утром следующего дня снова появился в приемной рейхсфюрера.
Гиммлер немного удивился такой оперативности обергруппенфюрера, но тотчас же принял его и выслушал. Он одобрил все, чего дорогой Эрнст добился у самолетостроителей, и сказал, что еще раз убедился в его исключительных способностях и умении выполнять просьбы руководства. Но неожиданное сообщение о снятии Грейфе заставило его на минуту задуматься. С точки зрения Гиммлера, Грейфе был старым, проверенным бойцом партии. Кальтенбруннер почувствовал, что это второе сообщение пришлось явно не по вкусу рейхсфюреру, и поспешил обосновать свое решение.
— Грейфе малоинициативный человек, рейхсфюрер. Ведь то, что сделал я, давно уже должен был сделать он. Или хотя бы проинформировать меня о том, что следует сделать…
— Но сразу снимать, — неодобрительно покачал головой Гиммлер.
— Не очень благополучно обстоит дело и с нашей агентурой на Востоке, рейхсфюрер. Нет сомнения, что для руководства отделом требуется более гибкий и дальновидный начальник, — продолжал Кальтенбруннер. — А Грейфе я не оставлю без дела. У меня есть несколько хороших вакансий. И он успешно сможет там работать на благо фюрера и рейха.
— Кого же вы предполагаете поставить вместо Грейфе? — все еще раздумывая, спросил Гиммлер.
— Оберштурмбаннфюрера Хенгельхаупта, рейхсфюрер. Это прекрасно образованный, многократно проверенный на очень серьезных делах специалист. Блестяще знает русский язык, еще до войны неоднократно бывал в России, — ответил Кальтенбруннер и, чувствуя, что Гиммлер все еще сомневается в правильности сделанного им шага, пошел, что называется, ва-банк, хотя и слукавил: — Я только что поздравил его от вашего имени с назначением, рейхсфюрер.
— Н-да, — многозначительно промямлил Гиммлер. И подумал: «А может, он и прав, этот австриец? Во всяком случае, ссориться с ним из-за какого-то мелкого чина, хотя и преданного мне, вряд ли стоит. Провались на каком-нибудь этапе вся эта подготавливаемая акция, и он, как человек фюрера, немедленно доложит ему, что предлагал то-то и то-то. А его не послушали. И вот, пожалуйста, результат». И хотя Гиммлер понял, что явно напрасно дал дорогому Эрнсту полномочия проводить всякие замены и перестановки людей по его собственному уразумению, без предварительного с ним согласования, отменять решение начальника РСХА он не стал.
— Вам, дорогой Эрнст, видней. Вам с ним работать. А я тоже как-нибудь постараюсь поближе познакомиться с этим Хенгельхауптом, — сказал он.
— Благодарю, рейхсфюрер, за доверие, — ответил Кальтенбруннер и поспешил поскорее встретиться с новым начальником восточного отдела, чтобы этого не успел сделать раньше его никому не доверяющий и проворный в таких случаях рейхсфюрер.
Глава 38
Новоиспеченному начальнику восточного отдела понадобилось всего несколько дней для того, чтобы ознакомиться со всеми делами, которые ему в наследство оставляет коллега Грейфе, и выбрать, не без инструкции начальника РСХА, то из них, которое требовало самого неотложного вмешательства. Поэтому неудивительно, что свою первую поездку для ознакомления с положением дел на месте он осуществил в Ригу, в «Русланд-Норд», к штурмбаннфюреру Крауссу. Оба эсэсовца неоднократно встречались и раньше.
— Искренне благодарю вас, оберштурмбаннфюрер, за то, что свой первый визит после назначения на столь высокий пост вы нанесли нам. Мне эта встреча доставляет особую радость, — заявил начальник «Русланд-Норда».
— Мне тоже, дорогой Краусс, — ответил Хенгельхаупт. — И произойди она в другое время и в другой обстановке, мы безусловно отметили бы ее не так. Но сегодня нам сразу же придется заняться делами.
— Иначе и быть не может, оберштурмбаннфюрер. Но моя верная Гретта никогда не простит мне, если сегодня, закончив все дела, вы не отпробуете копченых угрей на нашей скромной вилле на взморье, — взмолился Краусс.
— О, перед просьбой вашей несравненной супруги, Краусс, я поднимаю руки, — приятно улыбнулся Хенгельхаупт. — А пока меня больше всего интересуют дела с подготовкой к известной вам акции.
— Готов дать вам полный отчет по этому вопросу, — ответил Краусс и доложил, что подготовка идет весьма успешно. Что сожительство Политова с Шиловой дало самые обнадеживающие результаты. Что супружеская пара довольна друг другом и уже строит серьезные планы на будущее их совместной жизни, касающееся той поры, когда акция уже будет совершена. Что, однако, Шилова ни на минуту не забывает при этом о тех особых задачах, которые ей поручено выполнить при Политове. Она систематически докладывает руководству о настроении Политова, об искренности его побуждений, о высказываемых им критических замечаниях в адрес руководства.
— А есть и такие? — заинтересовался Хенгельхаупт.
— Да, оберштурмбаннфюрер. Агент нет-нет да и начинает жаловаться на недостаточность внимания к нему, на скудность материального вознаграждения, на то, что его явно недооценивают, а стараний его не замечают, — доложил Краусс.
— Ну и что вы думаете по этому поводу? — взглянув на Краусса, спросил Хенгельхаупт.
— Думаю, что это всего лишь обычное для его положения вымогательство, — высказал свое мнение Краусс.
— И тем не менее к нему следует прислушаться, — сказал Хенгельхаупт. И добавил: — Ибо мы возлагаем на него слишком большие надежды. Ну а какие особые задачи еще выполняет она?
— Главная задача — в случае необходимости — впереди, оберштурмбанфюрер, — ответил Краусс.
— Какая же?
— Если Политов, естественно, уже в тылу у русских, вдруг испугается, заколеблется и тому подобное, то Шилова должна будет его убить.
— Каким способом?
— Способов много, оберштурмбаннфюрер. И все они ею тщательно изучены. В ее распоряжении будет представлен целый арсенал средств: от пуль доктора Баумкёттера до цианистого калия.
— Политов может об этом догадываться?
— Конечно, может. Но оснований для этого у него нет. Шилова ведет настолько тонкую игру, что заподозрить ее в каком-либо коварстве просто не представляется возможным. Она заботлива, предельно внимательна, очень неплохо обучила его работе с приемником и передатчик. Только через нее он «выбивает» из нас кое-какие допнительные суммы на мелкие расходы. Кстати, оберштурбаннфюрер, Шилова старается не только за совесть, она у нее есть, но и за страх. Не будь она при нем тем, кем стала, и он ведь тоже может, едва отъехав с посадочной площадки, всадить ей нож в спину. Она ведь это-то отлично понимает, — дал исчерпывающие объяснени Краусс.
Хенгельхаупт с интересом слушал.
— Ну что ж, так взаимосвязано все это и должно быть, — одобрил он действия начальника «Русланд-Норда». — И все же к жалобам Политова, повторяю, стоит прислушаться. Это особый во всех отношениях случай, дорогой Краусс. И в первую очередь мы должны по-особому к нему относиться. Коллега Грейфе не совсем правильно это понимал. Потому его старания и не был одобрены руководством. Мы должны уверить эту парочку в том, что смотрим на них как на будущих героев рейха. Ибо им предстоит выполнить такое задание, какое вряд ли выполнил бы и наш дорогой Отто. Вы меня поняли дружище?
— Совершенно четко, оберштурмбаннфюрер, — с почтением ответил Краусс.
— Вот мне и подумалось, — продолжал берлинец, — почему бы вам сегодня вечером не пригласить эту парочку поужинать вместе с нами?
— Вы имеете в виду ко мне на виллу? — даже несколько растерялся от такого неожиданного поворота дела Краусс.
— Совершенно верно, мой дорогой. Они должны поверить тому, что мы относимся к ним, как к своим достойным партнерам, — объяснил Хенгельхаупт.
— Но ведь существует же субординация, — пытался защититься Краусс.
— Париж стоит мессы, или, как говорят русские, игра стоит свеч, — по-приятельски похлопал по плечу своего подчиненного Хенгельхаупт. — Да и в какой еще другой обстановке я смогу побеседовать с ними совершенно непринужденно? А ведь мне именно это надо. Обязательно надо!
Хенгельхаупт говорил мягко, но так напористо, что Крауссу стало ясно: противиться дальше нельзя.
— Вы совершенно правы, оберщтурмбаннфюрер, лучшего места, располагающего к откровенности и доверию, чем мой дом, не найти во всей Риге, — ответил он.
— Вот и отлично, — довольно потирая руки, расплылся в улыбке Хенгельхаупт.
Краусс вызвал адъютанта и приказал ему немедленно отправиться в «Эксельсиор» и попросить от его имени господина Политова и госпожу Шилову быть гостями у него на семейном ужине. Машина будет ждать их у подъезда гостиницы в девятнадцать часов ровно.
Хенгельхаупт взглянул на часы.
— Ну и прекрасно. У нас в запасе еще куча времени. И еще больше неясных вопросов. Попробуем прояснить хотя бы часть из них, — давая понять, что можно переходить к другим делам, сказал он.
А дел было действительно много. Коллега Грейфе оставил их в наследство своему преемнику далеко не в блестящем состоянии. Можно даже сказать, в весьма плачевном. Хуже того, с тех пор как Красная армия начала свое стремительное наступление от Сталинграда, дела эти день ото дня шли все хуже и хуже. Не менее десятка различных школ и курсов, находящихся в ведении «Цеппелина», готовили разведчиков и диверсантов для заброски в советский тыл. И фактически все это делалось впустую. Почти ни один агент, ни одна группа, переброшенные через линию фронта, не смогли выполнить ни одного серьезного задания. В «Цеппелине» безвозвратно рушились надежды на ожидаемые диверсии. Туда не поступали столь необходимые вермахту и РСХА сведения. При этом не лучше шли дела и у абвера. Иногда даже складывалось впечатление, что русским заранее становится известно о той или иной готовящейся акции. Шелленберг и Канарис неоднократно были вынуждены докладывать руководству о том, что русская контрразведка неумолимо срывает все их планы. Но что могло ответить на это руководство? Один за другим так же неотвратимо срывались планы и самого руководства. И все-таки активизировать работу как-то было надо. Новая метла должна была по-новому и мести. Это Хенгельхаупт понимал совершенно четко. И потому разговорам с Крауссом, казалось, не будет конца…
Но большие напольные часы, стоящие в углу кабинета, гулко пробили семь раз, и Краусс с облегчением вздохнул. Опаздывать к завтраку, обеду и ужину в состоятельных немецких семьях считалось крайне неприличным. Это знали и хозяева, и гости. И свято соблюдали порядок. К тому же Краусс уже давно понял: говори не говори, дело точно уже не поправишь. Уж если агентурная разведка недостаточно эффективно работала даже в сорок первом и в сорок втором годах, то чего уж было ждать от нее в сорок третьем и тем более в сорок четвертом? Но об этом Краусс только подумал. Говорить что-либо подобное он, естественно, не стал бы даже в том случае, если бы новый начальник попытался навязать ему такой разговор. А вот вообще не говорить о служебных делах, хотя бы на время, это выглядело вполне нормальным. Но Хенгельхаупт хотел знать все.
— Что же еще предстоит этому Политову? — спросил он, взглянув на часы, которые еще испускали приятный звон.
— Вчера в Ригу по железной дороге доставлен «кадиллак». Отсюда завтра-послезавтра его своим ходом перегонят на испытательный полигон. Я на нем только что был, разговаривал с начальником, с главным инженером полигона и обо всем их предупредил. Вам я об этом уже докладывал, — ответил Краусс.
Хенгельхаупт утвердительно кивнул.
— Недели через две на полигон поступит первая партия «панцеркнакке», — продолжал Краусс. — Политову предстоит в совершенстве освоить это оружие, провести окончательное испытание, и затем он ляжет в госпиталь на пластическую операцию.
— Легенда на них готова?
— Так точно. Расписана до мелочей.
— Обязательно хочу ее прочитать. А где готовят для этой пары документы?
— Те, которые попроще, в нашем отделе VIф. Те, которые нам не под силу, закажем в группе «Технических вспомогательных средств» у оберштурмбаннфюрера Крюгера, — доложил Краусс.
— Великолепно. Скажете мне, какие именно, — я сам прослежу за их изготовлением. Бернгард мой старый друг, и мне все равно нужно у него побывать, — ответил Хенгельхаупт и снова взглянул на часы. — Кажется, я уже должен поступать в ваше полное распоряжение?
— Боюсь, оберштурмбаннфюрер, что гости прибудут раньше нас, — почтительно улыбнулся Краусс. — Машина уже ждет нас.
Начальник «Русланд-Норда» облюбовал для своего жилья двухэтажный дом в дачном пригороде Риги — Дзинтари. Настоящих хозяев из дома выселили. Во дворе поставили охрану. В саду спустили овчарку. Привели повара, истопника, садовника, двух служанок. Завезли дорогую мебель, ковры, картины и цветы, которые обожала супруга Краусса Гретта. Жизнь на вилле, как теперь стали называть дом, протекала полноводной рекой.
Несравненная Гретта, как изволил выразиться Хенгельхаупт, была на голову выше собственного супруга и на полголовы выше оберштурмбаннфюрера. У нее были мягкие белокурые волосы и необъятный бюст. В молодости она выступала на подмостках варьете. Теперь об этом было забыто. Но страсть к длинным платьям с боковым разрезом до основания бедра осталась у нее на всю жизнь. Когда она понимала, что от нее хотят, она была послушна. Но втолковать ей даже простую вещь не удавалось иногда довольно долго. И Крауссу пришлось затратить немало усилий, чтобы объяснить супруге шипящим сдавленным полушепотом, почему она должна принимать у себя в доме «этих русских», да еще при этом радушно улыбаться им. Но в конце концов было улажено и это.
Ужин прошел оживленно. Берлинец без конца рассказывал пикантные анекдоты, собранные, похоже, со всего света, хозяева от души смеялись. Политов поначалу держал себя очень скованно, будто каждую минуту ожидал пинка. Но когда Хенгельхаупт простецки похлопал его по плечу, посоветовал быть, как дома, забыть о службе и немного отдохнуть, у Политова на лице появилось что-то вроде улыбки. У него, в общем-то, хватало ума не удивляться тому, что он живет в «Эксельсиоре», там, где останавливаются только старшие и высшие офицеры, и что занимаемый им и его супругой, а они обвенчались по всем правилам в православной церкви, трехкомнатный «люкс» намного просторней и комфортабельней, чем у многих высоких военных чинов. Понимал он, что живут они почти не стесняясь в средствах и средства эти хотя и не широкой рекой, но тем не менее текут к ним постоянно, что если бы он не знал, что в его жизни не может быть никакого черного дня, потому что если он сделает что-то не то, то его просто пристрелят как бешеную собаку, то кое-что из этих средств он даже мог бы уже отложить на этот самый черный день. Понимал, почему на занятия и с занятий его возят на вполне приличном «вандерере», почему в школе инструкторы относятся к нему совсем не так, как ко всем прочим курсантам. И не удивлялся этому, потому что догадывался, какую карту немцы собираются выбить из рук у русских с его помощью. Многому не удивлялся. Но получить приглашение на ужин к самому шефу «Русланд-Норда», да еще в присутствии самого начальника восточного отдела VI управления РСХА — это не просто удивидо — это не укладывалось в голове. Ибо ни он, ни его супруга еще никогда в жизни не были в гостях у таких высокопоставленных хозяев.
Он совершенно не знал, как вести себя в таком обществе. Не очень был уверен и за супругу. Ему все время казалось, что он непременно сделает что-то не то. И тогда все нажитое таким чудовищным путем благополучие мгновенно рухнет. И если сразу не пристрелят, что мерещилось ему постоянно, то в лучшем случае будет то, с чего ему пришлось начинать в первом в его жизни лагере военнопленных, а точнее, даже в пересыльном пункте подо Ржевом, где обозленная немецкая солдатня, не очень-то разбираясь в том, кого взяли силой, а кто перешел на их сторону сам, объяснялась со всеми одинаково — прикладами и сапогами. И это не было только выражением звериной ненависти ко всему советскому. Уже в пересыльном пункте начиналась сортировка пленных с целью выявления среди них политработников. Ибо согласно параграфу третьему совершенно секретной директивы, отданной главной ставкой Гитлера еще двенадцатого мая 1941 года, «политические руководители в войсках не считаются военнопленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В тыл не эвакуируются». Политов на себе испытал эту сортировку. Запомнил ее на всю жизнь и до сих пор испытывал страх за свою шкуру при одном упоминании о ней.
О делах за ужином не говорили. Но в конце концов оберштурмбаннфюрер все же свернул на эту тему.
— Ваш начальник доложил мне, господа, что вы весьма успешно закончили первый этап обучения, — сказал он, дружелюбно заглядывая в глаза русским. — Но переходить к следующему вы не можете. Нас всех подводят оружейники. Учитывая это, у меня возникла идея. А не махнуть ли вам на недельку-другую в Берлин?
— Вернуться на курсы «Ораниенбург»? — понял мысль Хенгельхаупта Политов.
— Что вы! Я совсем не это имел в виду, — довольно рассмеялся Хенгельхаупт. — Прокатиться в Берлин — отдохнуть! Вы — молодожены, и почему бы вам не совершить эдакое свадебное турне?
Политов и Шилова от неожиданности растерялись.
— Удобно ли, в такое время, герр оберштурмбаннфюрер? Мы и так вам за все благодарны, — замялся Политов.
— Э-э, пустяки! Что значит время? Война войной. Но ведь жизнь-то не останавливается! А если еще вспомнить, сколько дел у вас впереди, да и каких дел, так почему бы вам на самом деле не поднабраться сил? Не получить хорошую зарядку отличного настроения? — рассуждал Хенгельхаупт. — Что скажете? Какова идея?
Политов и Шилова переглянулись.
— И раздумывать нечего, — подбодрил их Краусс, отлично понимая, что вся эта затея придумана не вдруг и наверняка согласована с руководством. А раз так, то чего уж тут стесняться?
— Другого случая не представится, — предупредил Хенгельхаупт.
Это было сказано несколько другим тоном. И Политов сразу перепугался излишней скромностью разгневать начальство. Он быстро поднялся и четко произнес:
— Считаю за высочайшую награду проявление любого внимания с вашей стороны к нам, герр оберштурмбаннфюрер. С благодарностью принимаю ваше предложение.
— Ну вот и прекрасно, — довольно улыбнулся берлинец. — В таком случае завтра же выедем. Поезд на Берлин отходит в двадцать тридцать пять. Я думаю, ваш радушный хозяин найдет возможность прислать за вами машину…
— В двадцать часов тот же «оппель» будет ждать вас, господа, у подъезда гостиницы, — так же любезно ответил Краусс.
На этом для русской пары ужин закончился. Политов и Шилова поблагодарили хозяев и поспешили в гостиницу. Их не задерживали. Машина их ожидала. И они скоро были уже у дверей «Эксельсиора». Но сразу в номер не пошли, а решили немного подышать свежим весенним воздухом. Да и поговорить хотелось, обменяться мнениями, впечатлениями…
От выпитого, от неожиданности случившегося, особенно от последнего предложения оберштурмбаннфюрера, в голове у Политова все смешалось. Его разбирало тщеславие. И в то же время почему-то было очень жалко себя. Уж кто-кто, а он-то отлично знал, что если немцы сделают тебе хорошего на копейку, то отрабатывать ты им будешь на рубль. А его в последнее время чем больше он думал о предстоящей акции, чем тщательнее готовился к ней, тем больше она пугала. Он боялся встреч с советскими людьми. Его пугала Москва, о которой он столько всего слышал, но в которой ни разу не был. Ему уже сейчас мерещились на каждом шагу в этом огромном городе милиционеры, на каждой улице патрули, а за каждым углом сотрудники НКВД и НКГБ. Ему очень хотелось рассказать сейчас о своих страхах супруге. Но поскольку он с самого начала не доверял ей ни на грош и с первой встречи был совершенно уверен в том, что ему просто подсунули ее, а может, и того хуже — приставили к нему, то заговорил он совсем о другом.
— Хорошо бы завтра немного денег получить. Надо же купить хоть пару хороших рубашек. Да и туфли тоже заменить не мешало бы, — сказал он.
— Могут не дать. Скажут, недавно давали, — заметила Шилова.
— Что ты, Лидушка! Ради такого-то случая? Да кто ж тут будет считать? Не сами мы, чай, на каникулы собрались.
Он не ошибся в оценке ситуации. Но и не предугадал ее развития. Утром следующего дня, когда Политов и Шилова собрались спуститься в ресторан завтракать, в номер явился адъютант Краусса и передал Политову под расписку конверт.
— Штурмбаннфюрер желает вам хорошо провести время в Берлине, герр Политов, — сказал он. — Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — рявкнул Политов.
Адъютант ушел. А Политов вскрыл конверт. В нем лежала пачка новеньких рейхсмарок.
— Ну вот, Лидуша, а ты сомневалась. Начальство само беспокоится. Ну да за нами не пропадет, — самодовольно проговорил он и, взглянув на жену, добавил: — Понадобится — костьми ляжем.
В Берлин они ехали в двухместном купе. Хенгельхаупт размещался в таком же купе рядом. Политов не сомневался в том, что подарочек на дорогу — дело рук оберштурмбаннфюрера. Но предположить то, что ожидало их в столице рейха, у него просто не хватило фантазии. А у Хенгельхаупта и тут все было продумано до мелочей. Впрочем, на вокзале чета распрощалась со своим высоким покровителем.
Хенгельхаупт пожелал супругам хорошего отдыха и уехал. Ему не терпелось побыстрее доложить о результатах поездки Шелленбергу. И потому он прямо с вокзала поехал в большой дом из красного кирпича на Беркаерштрассе, в котором помещалось VI управление РСХА. Когда-то сотрудники ведомства Шелленберга размещались в нем с большим комфортом по одному и по двое в комнате. Но со временем и по мере того, как штат управления расползался, словно на дрожжах, и вширь и вглубь, когда новые отделы и отделения росли в нем, как грибы, количество исполнителей в них увеличилось с быстротой размножения кроликов, дом на Беркаерштрассе стал похож на переполненный улей. Впечатление тесноты и скученности усиливалось постами внутренней охраны. Сотрудник одного отдела не мог свободно пройти в другой отдел. Ограничение это было введено исключительно в целях сохранения тайн, под покровами которых функционировало все управление. Каждый должен был знать только то, чем он занимался лично. Лишь немногие начальники отделов имели доступ всюду. Но и они на каждом посту обязаны были предъявлять охране свои пропуска.
Однако Шелленберга на месте не оказалось. Хенгельхаупт, выпив чашечку настоящего бразильского кофе, услужливо предложенную ему Эгертом, отправился в особняк на Дельбрюкштрассе, где поселилась «группа Ф-4», возглавляемая оберштурмбаннфюрером Бернгардом Крюгером, начальником фальшивомонетчиков и изготовителей «дутых» документов особой важности и ценности. Перед этим Хенгельхаупт, естественно, изучил легенду, которую Делле сочинил для Политова. Согласно этой легенде определялись и заказы для «группы Ф-4», а в конечном итоге для узников 18-го и 19-го блоков «малого лагеря» Заксенхаузен.
По легенде Политов превращался в Героя Советского Союза, кавалера орденов Красного Знамени, Александра Невского, двух орденов Красной Звезды, двух медалей «За отвагу» майора Красной армии Петра Ивановича Таврина, следующего через Москву к месту отдыха после лечения в госпитале. Такова была легенда, а соответственно ей должны были быть изготовлены и документы на тот случай, если Политова вдруг остановят для проверки по дороге в Москву. И другая легенда на случай, если такая проверка будет уже в самой Москве. В документах по этому варианту указывалось бы, что майор Таврин П.И. находится в краткосрочном отпуске после лечения в госпитале, с правом временного проживания на жилплощади родственника. Конкретные адреса в обоих случаях должен был дополнительно сообщить агент «двадцать два».
Легенда, таким образом, была недлинная. Но документов для ее подтверждения требовалась целая пачка: удостоверяющие личность — раз, наградные — два, историю болезни и все прочие из этой области — три, отпускное — четыре, проездные — пять, ну и по мелочи — вещевой и продовольственный аттестаты, расчетная книжка, кое-какие справки и газета «Красная звезда», в которой был бы напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении майору Таврину П.И. звания Героя Советского Союза. Последнее — это уже было подтверждение к подтверждению. Немало всяких документов предстояло изготовить и для Шиловой, которая согласно той же легенде превращалась в младшего лейтенанта медицинской службы, сопровождающего к месту отдыха после лечения майора П.И. Таврина. Работа, одним словом, предстояла большая…
Самих же Политова и Шилову тем временем вывезли за город и поместили в очень уютном охотничьем домике. Проводивший гостей до места отдыха унтерштурмфюрер оставил им телефон для связи и тоже убыл восвояси. Долитов и Шилова остались наедине. Политов осмотрел весь домик, заглянул даже в подвал, нашел там на леднике несколько бутылок спиртного, окорок, круг колбасы домашнего изготовления и поднял все это наверх. Шилова тем временем осмотрела кухню, отыскала яйца, банку горчицы и два маленьких свежих хлебца. Все это было немедленно выложено на стол. Политов открыл бутылку шнапса, налил по стакану себе и Шиловой и залпом осушил свой стакан. Потом он с жадностью набросился на окорок, отрезая от него большие куски. Он ел и не заметил, как в домик вошла средних лет женщина в белом переднике и в такой же накрахмаленной шапочке на голове. Она молча подошла к столу, молча взглянула на разбросанные на нем продукты и так же молча начала сервировать его. Политов понял, что ему, что называется, утерли нос. Он шумно засопел и поднялся из-за стола. Ему очень хотелось выгнать эту непрошеную помощницу, крикнуть ей, чтобы она убиралась ко всем чертям, что у него и так все есть и ему ничего больше не надо. Но он взглянул на невозмутимо наводившую на столе порядок немку и осекся. Она была тут хозяйкой, хоть и прислуживала им.
— Скажи ей, Лидуша, с дороги это мы. Проголодались. А о ней нас и не предупредил никто, — виновато попросил он жену.
Шилова перевела. Немка продолжала делать свое дело, словно глухонемая. Она даже виду не подала, что русская фрау обращается к ней. Молча расставляла посуду, выкладывала ножи и вилки, разложила салфетки, поставила рюмки и бокалы, порезала хлеб. Потом ненадолго куда-то вышла и вернулась с большим подносом в руках. На подносе стояли супница и салатницы, доверху наполненные зеленой снедью. Так же молча она разлила по тарелкам суп, вкусно попахивающий луком и еще чем-то неимоверно разжигающим аппетит. Так же молча она ушла.
Политов проводил ее ненавидящим взглядом. На фоне ее неприкрытого презрения сразу отчетливо увиделось лицемерие эсэсовцев. И Политову сразу все стало противно и жутко, и уже не радовал ни приветливо потрескивающий камин, не интересовали ни многочисленные рога, ни ружья, висевшие на стенах столовой. Но высказать охватившие его чувства Политов не мог никому. И он сделал вид, что абсолютно ничего не произошло, что он просто не заметил ни выражения лица, ни открытого нежелания этой простой служанки общаться с ними. Он даже, наоборот, вдруг улыбнулся и довольно потер руки.
— Ну, Лидуша, дай бог здоровья господину оберштурмбаннфюреру. Заботится о нас, как отец родной, — сказал он и снова разлил шнапс, наполнив Шиловой рюмку, а себе бокал, и, не произнося никаких тостов и не чокаясь, осушил его в три глотка.
Потом служанка подала им жаркое. Судя по всему, это был дикий кабан. Его запекли с картофелем, предварительно нашпиговав чесноком. Политов много пил, жадно ел, пытался быть разговорчивым, даже шутил. Но никакое количество шнапса не могло в тот вечер исправить его настроение. И даже наоборот, чем больше он пил, тем становился мрачнее. А во сне бормотал что-то невнятное и мерзко, матерно кого-то ругал…
Глава 39
«Кадиллак» пригнали на полигон под охраной двух бронетранспортеров и взвода эсэсовцев, возглавляемых гаупштурмфюрером Этценом. Забрызганный грязью автомобиль тщательно вымыли, насухо вытерли, загнали в бокс бетонного хранилища и поставили возле ворот бокса охрану. Бронетранспортеры оставили возле комендатуры. Эсэсовцев расположили в казарме, которую до этого занимали полицейские из взвода охраны. А полицейских в экстренном порядке переместили в сарай, соорудив в нем нары и установив две печки-времянки.
Появление на полигоне роскошного, поблескивающего лаком заокеанского лимузина, явно не предназначенного для фронтовых дорог, вызвало немало всяких догадок. Но так как ответов на них никто ни у кого получить не мог, да и не пытался, то непонятное так и оставалось непонятным. Но в том, что его пригнали сюда не для парковки до лучших времен, в этом никто не сомневался. И самым верным доказательством тому были даже не столько появившиеся на полигоне эсэсовцы, сколько саженного роста, с маленькими глазками и хрящеватым носом гауптштурмфюрер. Он недавно был на полигоне вместе с штурмбаннфюрером Крауссом. И теперь появился снова. А это уже яснее ясного говорило, откуда дует ветер.
Гауптштурмфюрер поселился в маленьком флигельке возле комендатуры. Там он и завтракал, и обедал, и ужинал. И по целым дням дотемна у него торчал Вёлер. О чем они там говорили и что придумывали — не знал никто. Даже Шефнер. И это немало настораживало и озадачивало главного инженера. Чутье подсказывало ему, что и «кадиллак», и Этцен, и эсэсовцы — это только начало того, ради чего на полигон приезжал начальник «Русланд-Норда». Но чего? Три дня Шефнер терпеливо ждал дальнейшего развертывания событий, надеясь на то, что загадка прояснится сама собой. Но, поскольку на полигоне никаких событий больше не происходило, Шефнер стал думать, что, возможно, «триста тридцать третьего» заинтересует и то, что уже произошло. И он во время очередного занятия написал Зое на листке бумаги: «Передайте “триста тридцать третьему”, что на полигон под усиленной охраной службы “Русланд-Норд” доставлен в полной исправности автомобиль марки “кадиллак”. Предполагаю, что службой “Русланд-Норд” готовится какая-то акция с его использованием. О дальнейших событиях буду информировать».
Зоя несколько раз перечитала текст. Повторила его про себя и молча кивнула. Это означало, что она все запомнила.
Шефнер записку сжег. После этого они приступили к занятиям. Зоя диктовала отрывок из «Бежина луга», Шефнер писал. Зоя проверила диктант, исправила ошибки, объяснила, как надо писать правильно. Занятия закончились, и Шефнер, как всегда, вышел проводить фрейлейн Зою.
— Мне кажется, коль вы решили выйти замуж, вам уже пора сыграть свадьбу, — посоветовал он ей.
— Как вы скажете, господин майор, — покорно ответила Зоя.
— Слишком много стали об этом болтать. Похоже, что даже не очень-то верят в эту затею, — объяснил свой совет Шефнер.
— Сегодня же объявим, что свадьба состоится через неделю, господин майор, — пообещала Зоя.
— Прекрасно. Пусть ваш жених даст мне список своих сослуживцев, которых он захочет пригласить на это торжество. Я попрошу начальника, чтобы он их отпустил, — сказал Шефнер.
— Спасибо, господин майор, но вам не надо лишний раз за нас хлопотать. Ермилов сам попросит об этом господина Вёлера, — решила Зоя.
Шефнер на момент задумался и согласно кивнул.
— Вы правы, фрейлейн. Так будет лучше. Однако советую вам непременно пригласить этих негодяев, которые за вами следят, — сказал Шефнер.
— Обязательно, господин майор, — пообещала Зоя и, поклонившись, ушла к себе в столовую.
Неделя прошла безо всяких событий. Эсэсовцы отсыпались. Резались в карты. И это их бездействие еще раз доказывало, что они чего-то ждут. Но чего? И сколько еще намерены ждать? Эти вопросы по-прежнему не были ясны. Но все остальное шло своим чередом.
Свадьбу сыграли в поселке в начале мая. Снег к этому времени уже сошел. Реки вскрылись. Но на озерах и болотах еще держался ноздреватый лед. И не проглянул еще ни из одной почки ни один листок. Но дышалось уже вольно, легко и свободно, совсем не по-зимнему. Впрочем, дело было не только в погоде и весне, а в том, что долгожданное освобождение из-под проклятой оккупации должно было прийти уже скоро. Поэтому настроение у гостей, участвовавших в свадьбе, было разное. Ермилов расстарался. Стол накрыл не хуже, чем бывало. Водки не достал. Но самогоном обеспечил — хоть залейся. Да и закуску организовал неплохую. Поэтому поначалу все шло как по-писаному. И хоть не шибко было весело, но все-таки общие разговоры велись. А потом началось не совсем ладное. Гости со стороны невесты, две Зоины соседки, две учительницы и подруги из поселка, которых Зоя буквально упросила прийти к ней ради такого случая, разгулялись, как в старое, довоенное время. И дело было не в свадьбе. Их радовало то, что Красная армия была уже не за тридевять земель. И слухи о ее победах все упорнее распространялись по округе. Девушки плясали и даже пели озорные частушки. Не было среди них только Веры, которая в это время ушла в отряд с сообщением «четыреста сорок четвертого». А вот приглашенные Ермиловым «дружки»-полицаи, и в том числе Лещук и Свиблов, предчувствуя скорую расплату, напившись, мрачнели и даже злились.
Лещук напился больше всех, расслюнявился и, поклявшись Ермилову в любви, вдруг понес какую-то околесицу, из которой, однако, можно было понять, что он еще кому-то докажет, кто есть настоящий друг немцам, а кто только на словах, а на самом деле еще неизвестно, чем занимается. Ермилов живо тряхнул Лещука за грудки:
— Ты о ком это? — притянув его к себе, спросил он.
Но Лещук в ответ лишь тупо посмотрел ему в глаза и икнул.
— Начал, так договаривай! — потребовал Ермилов.
— А я про что это? — сообразив, что ляпнул лишнего, прикинулся непонимающим Лещук.
— Кому и что ты собираешься доказывать? — напомнил Ермилов.
Лещук непонимающе мотал головой. К ним подошел Свиблов. Попытался успокоить Ермилова.
— Что ты, Гаврилыч, его, дурака, слушаешь! Стоит ли в такой день бузу затевать? Давай лучше выпьем за твое здоровье. А ну, хлопцы, горько молодым!
Ермилов не стал заводиться. Поцеловал Зою, сказал Свиблову, кивнув на Лещука:
— Выволоки его на крыльцо. Пусть на свежем воздухе очухается малость.
Лещука подхватили под руки и вывели из дома. Но сцена произвела на всех явно удручающее впечатление. Ермилов понял это и попытался взбодрить компанию.
— Выпьем, хлопцы, за победу германской армии! Она еще покажет комиссарам кузькину мать! И мы еще заживем дай бог на зависть всем! Выпьем, хлопцы! — предложил он тост.
Полицаи дружно вскочили.
— Выпьем, Гаврилыч!
Звякнули и опустели стаканы.
— Гуляй, хлопцы! Господин шарфюрер Вёлер двое суток нам дал! Гуляй так, чтоб запомнилось! — задорил гостей Ермилов.
Но погулять не удалось даже до вечера. В дом неожиданно вошел присланный с полигона полицай и объявил Ермилову, что и ему, и всем гостям-полицаям приказано немедленно вернуться на службу. Выслушав его, Ермилову только и осталось скомандовать:
— Подъем, господа полицейские! Выходи строиться!
Полицаи, быстро одевшись и разобрав оружие, поспешили на улицу.
Ермилов негромко спросил посыльного:
— Что там такое стряслось?
— Начальство какое-то приехало, шерстить всех начало, — объяснил он.
— Ну, начальство, оно и есть начальство, — ответил Ермилов и тоже поспешил на улицу.
— А я не пойду! А я останусь! Мне, может быть, дозволено когда хочу возвертаться! — услышал он пьяные выкрики Лещука. — Мне господин Вёлер велел не спешить… Отдыхайте, говорит… У нас работа особая… — выламывался он.
Ермилов, делая вид, что занят заправкой обмундирования, прислушался: не скажет ли тот еще чего-нибудь. Но Лещук, похоже, уже потерял нить разговора и молча клевал носом. Оставлять его в поселке было ни к чему.
— Берите его под руки и шагом марш! — скомандовал Ермилов.
Двое полицаев подняли Лещука на ноги.
— А не желаю, — снова забубнил Лещук. — У меня аусвайс, специально выданный.
— А ну, пусть покажет, — потребовал Ермилов.
Лещук полез в карман и действительно предъявил документ, на основании которого и ему, и Свиблову разрешалось пребывать в поселке трое суток. «Странно, почему же Вёлер ничего мне про это не сказал, когда я подавал ему список гостей, — подумал Ермилов. — Значит, точно, эта пара у него на особом счету…»
Ситуация складывалась не в пользу Ермилова. Ему не хотелось оставлять в поселке доносчиков Вёлера. И в то же время он никак не мог ослушаться коменданта. Ведь аусвайс у Лещука был подписан именно им. И вдруг Ермилова осенило.
— А когда подписал аусвайс шарфюрер? — разглядывая документ, спросил он.
— Там указано. Вчерась. Значит, еще двое суток в нашем распоряжении, — ответил Лещук.
— А тебе когда приказ дали вернуть всех? — делая ударение на слово «всёх», спросил Ермилов посыльного.
— Два часа тому назад, — доложил тот.
— Все ясно, — засовывая аусвайс в свой карман, сказал Ермилов. — На полигон всем шагом марш! Шире шаг!
— Ты еще ответишь за это самоуправство!.. — пытался сопротивляться Лещук.
Но Ермилов уже не слушал его.
Через два часа вся группа была уже на полигоне. И сразу, едва прошли через пропускной пункт, увидели выстроенных возле штаба солдат и полицейских. Перед ними стояли несколько офицеров, одетых в черные шинели. Сомнения не оставалось, что среди них наверняка было и то прибывшее на полигон начальство, о котором сообщил посыльный. Ермилов построил своих гостей, на ходу проверил заправку и повел всех к общему строю. А возле строя остановил и, увидев незнакомого ему гауптштурмфюрера, доложил ему о прибытии.
Гауптштурмфюрер подошел к прибывшим и, пристально оглядев их, спросил, коверкая русские слова:
— Откуда прибывайт?
— Из поселка, герр гауптштурмфюрер, — ответил Ермилов.
— Чем там занимайсь?
— Были отпущены на отдых, герр гауптштурмфюрер.
Эсэсовец не понял. И обернулся к Вёлеру. Тот объяснил всю ситуацию по-немецки. Гауптштурмфюрер одобрительно кивнул и даже осклабился, показав изъеденные никотином зубы. Но Вёлер продолжал ему что-то говорить. И эсэсовец нахмурился. Тогда Вёлер подошел к Ермилову и спросил:
— Обер-ефрейтору Лещуку и рядовому Свиблову было разрешено остаться в поселке. Разве они не сказали тебе об этом?
— Так точно, герр шарфюрер, сказали. И даже предъявили аусвайс, — ответил Ермилов и вытащил из кармана документ.
— Так в чем же дело? — недовольно спросил Вёлер.
— Последнее приказание было привести всех, герр шарфюрер. И я выполнил это приказание, — четко доложил Ермилов.
Вёлер понимающе кивнул.
— У вас это называется — разбить лоб. Кажется, так? — сердито сказал он, взял у Ермилова аусвайс, порвал его и положил в сумку. — Теперь слушайте приказ.
Гауптштурмфюрер говорил по-немецки, а Вёлер громко переводил так, чтобы слышали все:
— С сегодняшнего дня отменяются всякие отпуска всем полицейским и солдатам охраны полигона. Анулируются до особого распоряжения все пропуска на полигон обслуживающего персонала из местных жителей. Полоса шириной в пятьсот метров вдоль всех границ полигона объявляется запретной зоной. Появление на полигоне, а равно и в запретной зоне, лиц гражданского населения будет караться расстрелом на месте. Приказ подписал гауптштурмфюрер Этцен, — объявил Вёлер.
Вопросов задавать не полагалось, поэтому строй распустили. К Ермилову подошел Свиблов.
— Вовремя ты успел, Гаврилыч, только вот с молодой-то не дали побаловаться, — сочувственно сказал он.
— Еще успеется, — ответил Ермилов. А про себя подумал: «Как же теперь быть, если вдруг передать что понадобится?»
Вопрос оказался далеко не простым, потому что уже вечером новую смену караула увеличили почти вдвое. Установили дополнительные посты внешней охраны. Причем выставили их так, чтобы с них ясно просматривалась вся только что созданная особая зона.
Но еще сильнее озадачило Ермилова то, что вечером, сразу же после развода из расположения полигона, будто и не объявлялось никаких приказов, снова исчезли Лещук и Свиблов. Исчезли, даже не сказав ему, Ермилову, их старшему, ни полслова. Ермилов от такой наглости поначалу даже растерялся. Но потом направился к Вёлеру. Шарфюрер, выслушав его доклад, кивнул головой.
— Они выполняют задание гауптштурмфюрера. И тебе не следует ни о чем их расспрашивать, когда они вернутся, — сказал он.
— Слушаюсь, герр шарфюрер, — щелкнул каблуками Ермилов.
— Да и вообще, их не надо ставить ни в какие наряды, — добавил Вёлер.
— Слушаюсь! — снова отчеканил Ермилов.
Занавес, висевший перед Ермиловым, на минуточку приоткрылся, но тут же закрылся еще плотнее.
Глава 40
Решение Круклиса еще раз обследовать район старого кладбища в Переделкино оказалось не только очень правильным, но и пророческим. Утром следующего дня смершевцы с помощью кассирши точно установили место, где неизвестный с чемоданом вышел из леса на железнодорожный путь и пошел к перрону. Кассирша потому и обратила на него внимание, что лишь несколько минут назад тихая платформа была пуста и на путях никого не было видно. Поэтому не составило труда найти следы, выводящие из леса. Пытались поставить на след ищейку. Но она не стала работать. За ночь след остыл, и собака, взяв его, потеряла на первой же проталине. Но при дневном свете хорошо видели глаза. И около полудня двое солдат наткнулись на краю оврага на высоченную сосну, в ветвях которой один из них случайно заметил какой-то провод. Возможно, солдаты и не обратили бы на него внимания, но снег внизу, в овраге, был истоптан. А в одном месте на нем совершенно отчетливо отпечатался угол какого-то предмета. Он-то и натолкнул солдат на мысль: а не чемодан ли тут стоял? Доложили офицеру. Тот и минуты не стал раздумывать.
— А ну-ка давай на дерево, — скомандовал он солдату.
Солдат забрался на сосну. Сделать это, кстати сказать, особого труда не составляло, так как со стороны оврага в дерево были вбиты четыре кованых гвоздя.
— Ну что там? — нетерпеливо окликнул его командир.
— Да тут столько всего напутано, что сразу не разберешься, откуда куда какая проволока идет, — ответил солдат.
Тогда солдату приказали спуститься. А на сосну послали связиста. Тот быстро сообразил, что к чему. На сосне оказалась искусно сделанная антенна направленного действия. Удалось во всех деталях установить, как ее использовали во время сеанса передачи. Радист подключал к антенне дополнительный кабель, для чего ему требовалось подняться всего лишь на последний, четвертый, вбитый в сосну гвоздь. После этого он спускался в овраг, где стоял чемодан с передатчиком, и выходил в эфир. Закончив передачу, он рывком, прямо из своего укрытия, отрывал кабель от антенны, сматывал его, забирал с собой и уходил из оврага. Последний рывок оказался для радиста несчастливым. Кабель он освободил. Но при этом оторвал от сучка и кусок антенны. Радист в сумерках этого не заметил. А солдат при дневном свете ясно увидел его и обратил на него внимание. Результат поиска наилучшим образом подтвердил предсказание полковника. Кассирше показали несколько фотографий. И попросили припомнить, нет ли среди них того пассажира с чемоданом, который вышел на пути из леса. Она пересмотрела все фотографии и не колеблясь указала на робот «Племянника».
— Очень похож вот на этого, — уверенно сказала она.
— Вы не путаете? — спросил Медведев.
— Как же тут можно спутать, если я ему билет продавала и еще выговаривала за то, что он ходит в неположенном месте, — бойко ответила кассирша.
— А он что? — спросил Медведев.
— Извинился вежливо. Говорит, очень боялся на электричку опоздать, — ответила кассирша. — Так что он это. Точно он. Пассажиров-то у нас тут немного садится. И местных я как свои пять пальцев знаю. Уж сколько лет тут работаю. А этот не наш. Транзитный. Я на это тоже сразу внимание обратила…
— Ну что ж, спасибо, — поблагодарил ее Медведев.
На совещании в тот же день Круклис сделал некоторые выводы и принял решения:
— Сегодня можно твердо сказать, что мы имеем дело с опытным вражеским агентом, давно работающем в нашем тылу. И мы уже больше полугода ходим за ним по пятам. Но он все время успевает вовремя исчезнуть. В немалой степени это происходит потому, что отлично знает не только Москву, но и Подмосковье. Это дает ему возможность каждый раз менять место передач и, не сомневаюсь, каждый раз сооружать вот такие антенны. Хотя дело это очень непростое. Но первую передачу он вел из района Трудовой. Вторую — из Кузьминок. Третью — из Переделкина. Откуда будет четвертая? Мы ждем его на Арбате, у Большого театра, держим под контролем пеленгаторов Трудовую, Кузьминки, теперь также возьмем под контроль Переделкино. И я верю, мы обнаружим его. Ибо как бы ни велики были его возможности, они не безграничны. Хоть раз, да он пройдет по своему старому следу. Если бы нам еще знать его шифр…
Однако расшифровать то, что передал «Племянник» в свой центр, не удалось и через месяц. Но за это время произошло немало других очень важных событий.
В середине апреля в НКГБ поступили из другого, не менее солидного ведомства чертежи американской автомашины марки «кадиллак». Вместе с ними пришло также сопроводительное письмо, в котором подробно указывалось, где, когда и при каких обстоятельствах эти чертежи были захвачены у немцев. В НКГБ чертежи сразу же отправили на соответствующую экспертизу. Скоро пришел ответ. Эксперты установили, что присланные материалы являются копией подлинных чертежей, сделанных в Америке совершенно недавно. Технические специалисты дали заключение, что это чертежи ныне выпускаемой автомашины марки «кадиллак», выполненной в специальном варианте. А именно с бронированным кузовом и пуленепробиваемыми стеклами.
Показывая чертежи Круклису, Ефремов спросил:
— Как думаешь, Ян Францевич, зачем они понадобились немцам?
Круклис в ответ только вздохнул:
— Эх, товарищ генерал, если бы я только этого не знал…
— Не хотят же они у себя такую сделать.
— Может быть, и захотели бы. Да времени у них уже не осталось на ее изготовление, — рассудил Круклис.
— Так зачем же? Заказывали чертежи в Америке, везли через Италию?.. Не легким и не близким путем, — продолжал Ефремов.
— Видимо, хотели иметь подлинник или хотя бы абсолютную копию. Из Америки по воздушному мосту в Северную Африку: в Танжер, в Оран, в Касабланку… Из Северной Африки с той же оказией в Италию. Там посуху через линию фронта. А дальше опять самолетом: через Альпы, через Австрию и домой, — высказал свою догадку Круклис. — Но вот зачем?
— Хочу заметить, что у нас на таких машинах ездят некоторые члены Государственного Комитета Обороны, — сказал Ефремов. — Тут ты никакой связи не улавливаешь?
Круклис на минуту задумался.
— О возможности подобной связи я не забываю. Но в конкретном случае данных, подтверждающих такую связь, пока нет, — ответил он. — Технический и научный шпионаж у немцев налажен в не меньших масштабах, чем военный и политический. И сказать сразу наверняка, для чего им понадобились чертежи этой машины высшего класса, весьма затруднительно.
На том разговор у них и окончился. Но очень скоро и Круклису, и Ефремову пришлось вернуться к нему снова.
В конце апреля в наркомат поступил ответ на объявленный всесоюзный розыск Барановой. С докладом по этому поводу к полковнику пришел Доронин.
— Товарищ полковник, отыскался след нашей «подопечной», — с удовлетворением доложил он, вытаскивая из папки официальное сообщение милиции.
— Барановой? — сразу догадался, о ком идет речь, Круклис.
— Собственной персоной!
— Вот вам и Рига. Где же ее обнаружили?
— В Ташкенте.
— Сразу туда махнула?
— До десятого октября сорок третьего жила и работала в больнице в Самарканде. А уже в ноябре оформила временную прописку в Ташкенте.
— Оперативно действовала. Ничего не скажешь. Помните, мы как-то уже обсуждали с вами: знала она о предстоящем начале войны или нет?
— Конечно, помню, — подтвердил Доронин.
— Так вот, я все больше склоняюсь к тому, что что-то она знала. Или по крайней мере получила соответствующую команду перебраться в глубокий тыл. И не куда-нибудь, а на старый караванный путь в Индию. Туда мечтал протянуть свою руку и Берлин. Далеко все было рассчитано. Ну а чем же она там занимается сейчас?
— В том-то и дело, товарищ полковник, что сейчас ее там уже нет, — ответил Доронин.
— То есть?
— В конце марта этого года Баранова перестала ходить на работу. А потом выяснилось, что она не проживает больше и по месту прописки.
— Куда же она делась?
— Это-то и предстоит нам узнать, товарищ полковник. Но мы теперь хотя бы знаем, откуда надо начинать этот поиск.
— Та-а-ак, — задумчиво протянул Круклис. — Исчезла… Неизвестно куда и неизвестно почему… Пытались вы как-нибудь ответить на эти вопросы?
— По второму вопросу есть версия.
— Выкладывайте.
— В шифровке, переданной по радио «Племяннику» в конце февраля, опять упоминались фотографии. Говорилось и еще о чем-то, что не удалось расшифровать и по сей день. Вполне возможно, что в этой нерасшифрованной части есть какое-то задание и Барановой. «Племянник» известил об этом «Тетушку» письмом. Оно до Ташкента шло примерно месяц. Баранова получила его в конце марта и тут же смотала удочки. По срокам, таким образом, все совпадает, — высказал свое предложение Доронин.
— Совпадает и по логике событий, — согласился Круклис. — Кстати, если все это действительно так, то из этого можно сделать еще один важный вывод: связь между «Племянником» и Барановой поддерживалась постоянно. Так оно и должно быть.
— А с первым вопросом, товарищ полковник, сложнее…
— Особенно если решать его отсюда, из Москвы.
— Я готов вылететь в Ташкент.
— Не надо самому. Пошлем Медведева. Он великолепно справился с подобной задачей в Ленинграде, уверен — не оплошает и в Ташкенте, — решил Круклис.
Это было в конце апреля. А в первых числах мая Круклис получил от Шефнера то самое сообщение о «кадиллаке», которое ушло в Москву во время свадьбы Зои. Само по себе ничего особенно настораживающего оно не содержало. Мало ли какую технику привозят для испытаний на полигон. Но Круклис моментально вспомнил всю историю с захваченными в Италии чертежами, и сообщение «четыреста сорок четвертого» сразу высветило чрезмерный интерес нацистских разведорганов к машине, обслуживающей некоторых представителей высшего звена руководства страной.
Круклис взял сообщение и пошел к Ефремову. Генерал принял его незамедлительно.
Круклис доложил суть дела.
— Такое совпадение не может быть случайным. Это сообщение лишь недостающее звено в цепи уже известных нам фактов. А все вместе они не оставляют ни малейших сомнений в намерениях ведомства Гиммлера, — сделал вывод Круклис.
— Покушение? — вопросительно взглянул на полковника Ефремов.
— Совершенно точно, товарищ генерал. Тщательнейшим образом готовящаяся террористическая акция против руководителей партии, правительства и Верховного главнокомандования, — убежденно ответил Круклис.
— Это слишком серьезно, Ян Францевич, чтобы я вот так сразу пошел докладывать об этом командованию. Ты понимаешь?
— Отлично понимаю, товарищ генерал, — с той же уверенностью подтвердил свой вывод Круклис.
— Я ведь в прошлый раз говорил только о возможных связях. Ты помнишь?
— В прошлый раз можно было только предполагать, товарищ генерал. С получением этого донесения можно утверждать, потому что сразу перестают быть загадкой и фотографии с Арбата, и заинтересованность в них Берлина. По этой улице машины членов правительства подъезжают к Кремлю, — ответил Круклис.
— Наверное, все это так, — согласился Ефремов. — И все же, Ян Францевич, чтобы не выглядеть паникерами, давайте еще раз все обстоятельнее взвесим и на основании всех имеющихся у нас фактов составим хорошо аргументированную справку. Кстати, возможно, тем временем появятся и еще какие-нибудь дополнительные данные. А уж потом, как говорится, и ударим в колокол. Не громко, конечно. Кому только надо.
— Я вас понял, товарищ генерал. Справка будет достаточно убедительной. У нас же накопилось много всякого материала, — ответил Круклис. И добавил: — И конечно, в первую очередь мы будем ждать теперь дополнительных сообщений от «четыреста сорок четвертого».
Задание было получено. Можно было приступать к его выполнению. Но Круклис не спешил покидать кабинет начальника.
— Я считаю, товарищ генерал, что теперь, наверное, надо уже подключать к этому делу и наших товарищей в Риге, — сказал он.
— И обязательно! — не раздумывая, поддержал эту мысль Ефремов. — Полигон — это только пункт исполнения. Рига будет передаточным звеном всех указаний из Берлина. В Риге будут обмозговывать, как лучше выполнить задание РСХА. И мы, конечно, должны знать обо всем, что они там решат. Поэтому подумай, Ян Францевич, что конкретно потребуется от наших товарищей в Риге, и приходи ко мне. Мы тут вместе еще раз все хорошенько обсудим. И вообще ставь меня в известность во всех деталях, как дальше будут развиваться события.
— Будет сделано, товарищ генерал, — ответил Круклис.
Теперь можно было возвращаться в отдел. Работа вступила в новую, еще более напряженную и ответственную фазу.
Глава 41
Гауптштурмфюрер Этцен был отлично сориентирован по времени, когда вводить на полигоне особый режим. Установили новые, дополнительные посты, с полигона выгнали всех работающих на нем местных жителей и в сопровождении усиленной охраны доставили в бронетранспортере груз — два метровых металлических ящика. Эсэсовцы сняли их с бронетранспортера и занесли в большое, давно уже пустующее бетонное хранилище. Когда-то в нем стояли противотанковые орудия, новые снаряды к которым постоянно испытывали на полигоне. Но во время прорыва блокады Ленинграда орудия срочно вывезли на фронт. И теперь хранилище пустовало.
Вместе с ящиками на полигон прибыл их хозяин, так по крайней мере решила охрана, какой-то господин в штатской одежде. Он покрикивал на солдат и требовал, чтобы они поосторожнее обращались с ящиками. Что там было, солдаты не знали. Не знали они и гражданского господина. А если бы даже им и стала известна его фамилия, они все равно бы не поняли, что он один из создателей «панцеркнакке». А оба ящика набиты этими снарядами по самые крышки.
Хранилище заперли. Возле него выставили пост.
Шефнер тоже ничего не знал о содержимом ящиков. Но господина Пфлюкера он несколько раз встречал на военных заводах, когда получал для испытаний боевую технику. Однажды их даже познакомили. Они тогда пожали друг другу руки и раскланялись. И хотя Пфлюкера сразу же взяли под свою опеку Этцен и Вёлер, Шефнер решил непременно напомнить берлинскому специалисту об их былой встрече. Одно казалось Шефнеру более или менее определенным. Пфлюкер был специалистом по боеприпасам. И можно было предполагать, что он привез. Но что конкретно? И почему это доверено охранять только эсэсовцам, да еще из «Русланд-Норда»? Не означает ли это, что и сам Пфлюкер стал работать на эту шпионскую контору? Однако ни встретиться с Пфлюкером в ближайшие три-четыре дня, ни узнать что-либо о его грузе Шефнеру не удалось. Вскоре на полигон прибыло еще одно гражданское лицо. И тайна железных ящиков мало-помалу стала приоткрываться. Лицом этим был Политов.
Он прибыл не один. Его сопровождал гауптшарфюрер Кранц, тот самый соглядатай-переводчик, который был при нем на курсах «Ораниенбург». Во время пребывания Политова и Шиловой в Берлине Кранц обслуживал их на отдыхе. А потом вместе с Политовым выехал в Ригу и далее на полигон. Шилова на некоторое время задержалась в Берлине. Здесь специалисты из РСХА знакомили ее с новейшей портативной радиоаппаратурой, обучали шифровальному делу и тайнописи. Все это, по мнению Хенгельхаупта, непременно должно будет понадобиться в Москве. Итак, Шилова обучалась, Политов тоже. День после дороги ему дали на отдых. В это время команда эсэсовцев под руководством Пфлюкера и Этцена что-то спешно сооружала в хранилище. В ход шли доски и металлические листы разной величины. Из досок что-то сколачивали, стук молотков отчетливо был слышен за стенами хранилища, металлические листы резали и сваривали автогеном. К вечеру все работы были закончены. И на следующий день в хранилище уже вовсю орудовали Пфлюкер, прибывший второй гражданский Этцен, Вёлер и Кранц. Что они там делали, никто из служащих полигона так и не узнал. Эсэсовцы никого не подпускали к хранилищу даже близко. Но если никто ничего не видел, то слышали все. В хранилище то и дело что-то шипело, будто какая-то машина спускала пар, и грохало.
Настороженно прислушивался к этим звукам и Шефнер. Для него они не были непонятными, таинственными. Он-то знал, что шипел горящий порох в соплах реактивных снарядов. А грохали разрывы зарядов. Но совершенно было неясно, что это были за снаряды и из каких пусковых установок велась ими стрельба. Было непонятно и то, почему испытывают это секретное оружие не солдаты, а какой-то русский, за которым по пятам ходит переводчик-гауптшарфюрер, прибывший на полигон специально с этой миссией, как и Пфлюкер, откуда-то из-под Берлина? Шефнер понимал, что «триста тридцать третьему» в Москве знать о том, что происходит в хранилище, еще нужнее, чем ему. Но пока что ответом на все интересующие его вопросы были лишь ото всюду торчащие автоматы эсэсовцев. Некоторую надежду на успех в раскрытии таинства вселяла лишь уверенность в то, что дело одной стрельбой в хранилище не кончится. Что события будут развиваться, нарастать. Ведь не зря же на полигон пригнали «кадиллак», который пока что без действия стоит под охраной. Однако ждать пассивно не хотелось. И Шефнер как-то за ужином обменялся мнением с начальником полигона, оберст-лейтенантом Гюнтером.
— Не присутствуем ли мы с вами, шеф, при создании того чудо-оружия, о котором так давно трубят наши газеты? — мягко осведомился он.
Грузный, категоричный оберст-лейтенант в ответ скривил кислую ухмылку.
— Это вы про что?
— В артхранилище с утра до вечера шипит и грохочет, — кивнул в сторону бетонной постройки Шефнер.
— Вот именно «шипит», — презрительно выпятил губу Гюнтер. — А когда шипит, Вальтер, это уже не чудо!
— Как знать, — интригующе заметил Шефнер.
— Вот я знаю, потому и говорю, — ответил Гюнтер.
— Тогда, конечно, — разочарованно согласился Шефнер.
Но Гюнтера, очевидно, что-то задело.
— Фронт трещит! Надо выбивать русские танки! А они занимаются какими-то пшикалками! Да еще делают из этого бог знает какую тайну! — сердито проговорил он.
Гюнтер был на фронте с сорок первого по сорок третий год. Грудь его украшена орденами. Но во время операции «Цитадель» он был тяжело ранен, стал прихрамывать. Врачи признали его негодным к строевой службе. Но, учитывая его боевые заслуги и особенно ощутимую нехватку офицерского состава, Гюнтера из верхмахта не уволили, а направили служить в тыловое подразделение.
— А зачем они пригнали к нам этот роскошный лимузин? — снова спросил Шефнер.
— Зачем? — Гюнтер встал из-за стола. — Спросите, Вальтер, у них самих. Может быть, с вами они захотят разговаривать на эту тему.
Шефнер понял, что его шефу, так же как и ему, толком ничего не известно. Потому он так сердито и разговаривает, что эсэсовцы не желают делиться с ним своими секретами.
И все же что-то ему, очевидно, удалось пронюхать. Что-то он имел в виду явно конкретное, называя это «пшикалками» и утверждая, что он «знает». А вот что именно, об этом Гюнтер предпочел умолчать. И возможно, Шефнер так и остался бы с одними своими догадками. Но спустя несколько дней после этого разговора на полигоне, а точнее, в артхранилище произошло совершенно непредвиденное происшествие. Во время очередной стрельбы одна из «пшикалок» то ли по вине стреляющего, то ли по какой-то другой причине вдруг устремилась вверх, мгновенно прожгла узкой и длинной, как меч, струей ослепительного пламени кровельное железо, вырвалась из хранилища наружу и, разлетевшись на куски, осыпалась осколками на земле. Из ворот хранилища тотчас же выскочили Пфлюкер, Этцен и Вёлер. Ничего не понимая, вытаращил глаза на крышу стоявший возле ворот эсэсовец. Пфлюкер что-то сказал Этцену, и тот сразу же приказал Вёлеру поднять на ноги людей и собрать все осколки. На эту работу выгнали всех свободных от службы солдат, и в том числе полицейских охраны. Среди них был и Ермилов. Они провозились с поисками почти до темноты. И больше затоптали в грязь то, что осталось от «пшикалки», чем нашли. Но и эти остатки Пфлюкер забрал в хранилище. Стрельб в тот день больше уже не было. А вечером в столовой Шефнера встретил Ермилов и передал ему что-то, завернутое в бумагу.
— Это то, что я нашел, господин майор, — негромко сказал он.
Шефнер немедленно спрятал находку в карман и огляделся по сторонам. В коридорчике никого, кроме них, не было.
— А ты видел, как он через крышу вылетал? — спросил Шефнер.
— Никак нет, господин майор. Сам не видел. А другие видели, — ответил Ермилов.
— Что же рассказывают?
— Говорят, самой этой штуки не было видно. А лишь огонь — полоса метра на полтора из-под крыши выбилась. Каленая, аж белая. А по краям вроде как голубая, — передал рассказ очевидцев Ермилов.
— Хорошо. Очень хорошо, — поблагодарил Шефнер. — Все, что узнаешь еще, обязательно сообщай мне.
Ермилов ушел. А Шефнер, наскоро перекусив, поспешил домой. Завернутый в бумагу предмет прямо-таки жег ему бедро, до того майору не терпелось взглянуть на находку старшего полицейского. Дома он даже не стал раздеваться, а лишь запер за собой дверь, включил настольную лампу, вытащил сверток и развернул его. Если бы Ермилов и хотел найти что-нибудь более ценное и интересное, то сделать это он не смог бы при самом большом желании. На ладони у Шефнера лежала вся донная часть реактивного снаряда, который вылетел из хранилища через крышу. Она еще пахла сгоревшим порохом. Шефнер присел к столу и разглядел осколок повнимательней. Из рассказа Ермилова и глядя на то, что он увидел, майор заключил, что снаряд был кумулятивного действия, что сделан он был из какого-то очень легкого и прочного сплава с зернистой структурой. Это отчетливо просматривалось на местах разрыва. Хорошо было видно прямоточное сопло с критическим отверстием в десять миллиметров. На снаряде не было стабилизаторов. Из этого Шефнер сделал вывод, что вести стрельбу им, очевидно, предполагалось на небольшие расстояния. Но вот чего майору не удалось установить, так это из какой пусковой установки вылетал снаряд. И не совсем было понятно, по каким целям собирались этим снарядом стрелять. По танкам? Но для танков снаряд явно был мал и слаб. По бронетранспортерам? Но легкобронированные машины не подходят на поле боя к переднему краю противника на такое расстояние, на какое, как казалось Шефнеру, рассчитана дальность действия снаряда. Так по каким же и где? Шефнер ломал голову и не находил ответа до тех пор, пока не вспомнил, кто проводит испытания. И тогда ответ напросился сам собой: «Да из-за угла им будут стрелять! И не на поле боя, а где-нибудь в русском тылу! И не солдаты вермахта, а лазутчики из “Русланд-Норда” или какого-нибудь другого “Русланда”. А по каким целям? Они найдут. Это им точно укажут из Берлина».
Догадка настолько взволновала Шефнера, что он в первую минуту хотел немедленно вызвать к себе Ермилова и так же немедленно, что бы там ни было потом, отправить его к партизанам и предупредить «триста тридцать третьего» о подготовке к какой-то строго секретной диверсии. Но, поразмыслив, майор не стал спешить. С уходом Ермилова он лишился бы всякой возможности передавать что-либо за линию фронта. А ведь информация о происходящих на полигоне событиях только еще начала накапливаться… И Шефнер решил подождать.
Стрельбы продолжались еще пару дней и прекратились. И сразу же Пфлюкер куда-то уехал с полигона, не забыв прихватить с собой оба своих железных ящика. Один из них двое эсэсовцев вынесли из хранилища безо всяких усилий. Второй, раскрасневшись и отдуваясь, еле выволокли шестеро. Очевидно, в нем Пфлюкер увез все осколки снарядов, которые без особого труда сгребли с бетонного пола хранилища.
Шефнер не знал, на сколько уехал Пфлюкер. Но за время его отсутствия майору представилась возможность хорошенько разглядеть второго приезжего, участвовавшего, а скорее всего, непосредственно проводившего испытания. Был ясный солнечный майский день. Гостю, по всей вероятности, надоело сидеть в комнате, и он вышел на улицу. Тут-то и встретил его Шефнер. Гость был среднего роста, крепкого сложения, русоволос. В его внешности не было ничего отталкивающего и неприятного. Он был типичным русским. И в то же время он никак не укладывался в уже сложившееся у майора представление о русских, которые так единодушно поднялись на защиту своей Родины. Шефнер понимал: разного рода отступники были всегда. Он даже попытался провести некую аналогию между этим русским и собой. Но очень скоро вынужден был от этой аналогии отказаться. Он, Вальтер Густав Шефнер, никогда не предавал своего народа. Он был немцем и всегда гордился своей нацией и своим народом. И то, что делал сейчас он, было направлено совсем не против его народа или Германии. Он, Шефнер, выступал против фашизма, против клики сбесившихся маньяков, ловко и нагло обманувших свой народ и вершивших уже второе десятилетие его судьбы. Он выступал против фашизма, потому что не принял его сразу же, с той самой поры, как национал-социализм заявил о себе как политическое течение. В те годы многие немцы не сочли возможным серьезно отнестись к призывам Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера и некоторых других фюреров национал-социализма. Но потом большинство из тех многих немцев дали себя обмануть и запутались в сетях античеловеческой, национал-социалистской идеологии. А он, Шефнер, не только никогда не принимал ее, но при первой же возможности решительно выступил против нее и против всего, что к тому времени давно стало государственной политикой рейха.
Так обстояло дело с ним, с Шефнером. А почему же выступал против своего народа, против своей Родины этот явно выросший уже при советской власти русский, которого «Русланд-Норд», а похоже, что и РСХА готовили сейчас для какой-то гнусной акции против его соотечественников? Однако этот вопрос так и остался неясным для Шефнера. Да и раздумывать-то майору над ним особенно было некогда. Потому что прежде, чем на полигон вернулся Пфлюкер, а Шефнер почему-то был уверен в том, что он вернется, на полигоне произошло следующее событие.
В двадцатых числах мая совершенно неожиданно для всех на полигон привезли шестерых советских военнопленных. Конечно, ничего не обычного в самом этом факте не было. Военнопленные уже не раз использовались на разных черновых работах. И это даже казалось совершенно естественным.
Но на сей раз все было совершенно иначе. Это не были уже примелькавшиеся изможденные, грязные в оборванном обмундировании узники лагерей военнопленных, которых, как правило, пригоняли под конвоем эсэсовцев. Эту шестерку привезли под усиленной охраной, в автобусе. Выглядели они здоровыми, крепкими. Больше всего поражало то, что обмундированы они был в новенькую, с иголочки форму советских генералов и обуты соответственно в хромовые сапоги. Их ни от кого не прятали, не скрывали, хотя довольно быстро спровадили с глаз долой в пустующую казарменную пристройку, в которой когда-то размещались штабные писари, а в последнее время она пустовала из-за аварийного состояния. По этой причине окна в пристройке были наглухо заколочены, на дверях висел солидный замок. Теперь к замку приставили еще двух охранников, и военнопленных несколько дней больше никто не видел. Три раза в день, как солдатам, прямо в пристройку им приносили пищу.
Шефнер уже не сомневался в том, что эти военнопленные также имеют какое-то отношение к тому, чем занимались на полигоне представители «Русланд-Норда». И все же пребывание этой шестерки на полигоне оставалось загадкой. Тем более что Пфлюкер скоро вернулся и в артхранилище снова началась стрельба.
Но вот в последних числах мая из бокса вдруг выгнали «кадиллак». А из пристройки, в которой под охраной сидели военнопленные, вывели одного из них и вместе с Этценом, Кранцем и еще двумя эсэсовцами усадили в машину. Военнопленного за руль, одного эсэсовца рядом с ним, остальные заняли места в отделении пассажиров. «Кадиллак» плавно тронулся с места и выехал на малую круговую трассу, на которой испытывали бронеавтомобили. «Кадиллак» проехал по ней несколько кругов и остановился возле бокса. К нему подбежал эсэсовец и открыл дверцы: сначала выпустил из машины офицеров, а потом солдата и военнопленного. Сами они из машины выйти не могли, потому что внутренние ручки с дверец кабины предварительно были сняты.
Пфлюкер наблюдал за движением машины на трассе из-за кустов. Потом его на мотоцикле тоже подвезли к боксу. Они обменялись с Этценом парой фраз и вернулись в артхранилище. А Кранц еще долго что-то объяснял военнопленному, которого потом увели в пристройку.
Этот маленький эпизод ни у кого на полигоне особого интереса не вызвал. Мало ли в каких делах использовали военнопленных. Но все это, вместе взятое, тоже расценили как следующий шаг к чему-то более серьезному.
В самом начале июня на полигон прибыла еще одна группа эсэсовцев с осветительной аппаратурой и киносъемочной камерой. Весь следующий день они лазили со своей кинотехникой по кольцу малой трассы, к чему-то примерялись, что-то выбирали. В конце концов остановились возле кустов, из-за которых за движением «кадиллака» наблюдал Пфлюкер, и там установили свою аппаратуру.
Следующий день выдался ненастным. Небо хмурилось, собиралось дождить. Установленные в кустах у трассы юпитеры накрыли чехлами. Но дождь так и не собрался. В «кадиллак» снова посадили военнопленного-водителя и заставили проехать по трассе несколько кругов. Его пустили даже без сопровождения охраны. Убежать, даже воспользовавшись машиной, пленный все равно не смог бы. Вдоль всей трассы тянулась широкая, заполненная водой канава, которую с трудом преодолевали во время испытаний даже гусеничные бронетранспортеры. Перемахнуть же через нее на колесном автомобиле нечего было и думать. Выскочить из машины и попытаться спастись бегством у пленного тоже не было никаких шансов. Во-первых, потому, что ему просто не удалось бы открыть изнутри дверцу. Во-вторых, вся кольцевая трасса просматривалась со сторожевых вышек как на ладони. И сделай водитель попытку выбраться из машины, его тут же пристрелили бы часовые.
Пленный, очевидно, ясно это понимал, и потому проезд по трассе обошелся без происшествий. Но на следующий день произошло такое, о чем на полигоне вспоминали потом шепотом до тех пор, пока Красная армия не выбила немцев из этих мест и полигон перестал существовать как таковой.
Утром следующего дня все началось и шло как обычно. Пленных покормили, из артхранилища доносились уже ставшие привычными шипение и взрывы. Но примерно в полдень все шумы вдруг прекратились, и из хранилища вышли все, кто был в нем: Этцен, Вёлер, Кранц, Пфлюкер и русоволосый гражданский. Все они выглядели как и прежде, и только на Политове было надето новенькое кожаное пальто из отличного хрома. Впрочем, если бы кто-нибудь имел возможность приглядеться к нему повнимательней, то, вполне возможно, заметил бы и такие несколько необычные детали: правый рукав у пальто был немного шире и длиннее левого. А на левом боку были сделаны не один, а два кармана. В левой руке Политов держал небольшой чемоданчик, в каких обычно спортсмены носили свою форму. У входа в хранилище их уже поджидал полигонный врач лейтенант Эльфельдт. Этцен, Пфлюкер, Политов и Эльфельдт сели в машину и поехали на кольцевую трассу туда, где уже разместилась съемочная группа. А Вёлер и Кранц направились к пристройке, в которой размещались пленные. Здесь уже стоял, поблескивая на солнце полированными боками, «кадиллак». Вскоре из пристройки, впервые за все время пребывания на полигоне, вывели всех пленных и построили перед машиной. К ним обратился Вёлер. Кранц переводил.
— Сейчас вы сядете в эту машину и проедете в ней по трассе несколько кругов. В это время наш кинооператор снимет вас на кинопленку. Ваш водитель уже знает, что ему надо делать. Он должен держать скорость не менее восьмидесяти километров в час. Когда съемка закончится, вам будет подана команда белым флажком. Машина остановится, вас выпустят из нее, и вы вернетесь сюда. Если съемка окажется неудачной, мы повторим ее снова. Если вы будете делать все, как надо, вам дадут отдохнуть и будут хорошо кормить. Если вы будете делать глупости, вас всех ждет расстрел на месте, — закончил инструктаж Вёлер.
После этого эсэсовцы усадили пленных в «кадиллак». А Вёлер и Кранц сели на мотоцикл и присоединились к Этцену и Пфлюкеру. Политова рядом с ними уже не было видно. «Кадиллак» тем временем выехал на трассу и уже заканчивал первый круг…
Шефнер выходил из штаба, когда Этцен, Пфлюкер и Политов садились в машину. Он проводил их взглядом до самой трассы. После этого он быстро зашел в свой домик, запер за собой входную дверь и поднялся на чердак. Отсюда кольцевая трасса хорошо просматривалась даже невооруженным глазом. А в бинокль все, что делалось на ней, можно было прекрасно разглядеть во всех деталях. Шефнер видел, как человек в кожаном пальто зачем-то ушел в кусты, как к киносъемочной группе подъехали Вёлер и Кранц, как на трассу выехал «кадиллак». Что-то необычное было во всей этой затее. Шефнер почувствовал, что наблюдает за происходящим с волнением. И предчувствие не обмануло его.
«Кадиллак» объехал круг, сделал второй, заканчивал третий. Шефнер видел, как оператор припал к окуляру съемочной камеры. «Кадиллак» почти поравнялся с ним. И в тот момент из кустов вдруг вышел человек в кожаном пальто. Он почти незаметно согнул в локте правую руку, и в тот же миг из правого рукава его пальто вылетела огненная молния и с грохотом вонзилась в черную лакированную дверцу «кадиллака». Машина сразу же свернула с трассы к канаве, влетела на глиняный бруствер и завалилась набок. «Вот кульминация всех испытаний! Вот он, наш родной немецкий педантизм! Все сделано так, как будет и при настоящей акции! Машина подлинная, люди живые, здоровые, даже форма на них та, в какой будут приговоренные жертвы!» — невольно подумал Шефнер, моментально вспомнив и как кормили пленных, и как они были одеты…
А возле «кадиллака» уже толпились эсэсовцы. Они вновь поставили его на колеса и открыли все четыре дверцы. Из машины вырвались клубы дыма. Эсэсовцы отпрянули. Но взрыва не последовало. И тогда из машины одного за другим вытащили уже не живых всех шестерых пленных и рядком уложили на траве. К ним подошел Эльфельдт, осмотрел каждого и что-то доложил Этцену.
Оператор снимал все это со всеми подробностями. Этцен пожал человеку в черном кожаном пальто руку. Очевидно, поздравил с метким выстрелом. К «кадиллаку» подъехал бронетранспортер, взял его на буксир и потащил с полигона. На этом же бронетранспортере, оставив возле убитых охрану, уехали и эсэсовцы. Офицеров увезли на легковой машине.
Шефнер слез с чердака, зашел в комнату. Увидел себя в зеркале и отвернулся. Сам себе показался противным. Снова в действие вступила память. Но на сей раз она услужливо напомнила майору о том, как он отказался встретиться с «триста тридцать третьим». Шефнеру сейчас стало стыдно за такое малодушие. Стыдно перед человеком, который ради встречи с ним пересекал линию фронта. Стыдно перед собой за собственную чрезмерную, как ему сейчас казалось, осторожность. Потому что так осторожничая, победить этих зверей было совершенно невозможно. Шефнер долго стоял посреди комнаты без движения. И все это время четко и ясно, как наяву, видел перед собой вонзившуюся в «кадиллак» молнию…
Думал он и о том, что о случившемся «триста тридцать третий» должен знать обязательно. Но возникал вопрос: а полностью ли эти господа из «Русланд-Норда» закончили свой эксперимент? Или они будут продолжать его и испытывать что-то еще? И тогда ему стоит объединить уже имеющиеся сведения с теми, которые он непременно добудет, и лишь после этого отправлять к партизанам Ермилова… Но кто мог ему хоть что-то сказать о дальнейших намерениях эсэсовцев? И тут неожиданно Шефнер вспомнил Эльфельдта. Лейтенант был на месте последнего испытания. Он мог кое-что слышать. Да и вообще Шефнеру стало вдруг интересно узнать о его реакции на происшедшее. Он надел фуражку, снова вышел из дома и направился в медпункт. Лейтенант лежал на кушетке, курил и смотрел в потолок остановившимся, ничего не видящим взглядом. Шефнер сел на стул. Эльфельдт бесспорно понял, кто к нему зашел. Но и головы не повернул.
— Что с тобой, Гейнц? — делая вид, что ничего не знает о случившемся, спросил Шефнер.
Лейтенант медленно, словно пробуждаясь от тяжелого сна, повернулся к нему.
— Они убили их. Сожгли, как спички, — сказал он.
— Кого? — продолжал темнить Шефнер.
— Этих пленных.
— Ну и что?
— Ничего, конечно. Но уж очень мерзко, — сказал Эльфельдт.
Эльфельдт, естественно, ничего не знал и даже не догадывался ни о существовании «триста тридцать третьего», ни о связях Шефнера с партизанами. Он лишь видел, что майор явно симпатизирует фрейлейн Зое, за которой, кстати сказать, были бы рады поухаживать многие офицеры полигона. В том числе и он сам. Но переходить дорогу старшему по званию было не положено. И лейтенант лишь приветливо улыбался обворожительной фрейлейн и всегда охотно оказывал ей всякие услуги. Никогда и нигде молодой врач не высказывался и против гитлеровского режима. Было даже похоже, что он принимал его как должное. Во всяком случае, идеи о расширении жизненного пространства на Востоке не были ему чужды. Но он был интеллигентным человеком, воспитывавшимся в добропорядочной немецкой семье. И сцена, свидетелем которой он только что стал, не могла оставить его равнодушным. И он назвал ее «мерзкой». Но больше не сказал ни слова. И Шефнер понял, что искать в нем союзника еще рано. И хочет он того или нет, но придется для установления связи решаться на крайние меры.
— Дай мне снотворного, — попросил он, чтобы как-то оправдать свой приход.
— Ты стал плохо спать? — удивился Эльфельдт. — Ты же никогда на это не жаловался.
— Нервишки, наверное, стали пошаливать, — сослался на самочувствие Шефнер.
Эльфельдт достал порошки, протянул их майору и улыбнулся.
— А может быть, сказывается столь долгое отсутствие фрейлейн Зои?
— Может, и это, — не стал возражать Шефнер.
— В таком случае могу вас обрадовать, дорогой Вальтер. Гости сегодня же уедут. И надо думать, все станет на свои места, — доверительно сообщил Эльфельдт.
— Откуда тебе это известно?
— Они сами об этом говорили. Я же был с ними там. Я сам слышал, — ответил Эльфельдт.
— Ну что ж, это их дело, — безразлично проговорил Шефнер и вышел из медпункта.
Информация Эльфельдта сразу же взбодрила его. Не думалось, что тот станет болтать лишь для того, чтобы просто порадовать приятеля.
И на самом деле, все произошло так, как сообщил Эльфельдт. Отобедав, гости начали разъезжаться. А пока они обедали и пили кофе, эсэсовцы сняли с «кадиллака» пробитую «пшикалкой» дверцу, собрали в артхранилище все вновь появившиеся осколки, а солдаты полигона закопали в траншее убитых пленных. Потом все эсэсовцы погрузились на бронетранспортеры, Этцен, Кранц, Пфлюкер и Политов сели в легковые машины, и вся колонна вместе с киногруппой уехала с полигона.
Глава 42
На следующий день оберст-лейтенант Гюнтер объявил на совещании офицеров, что особая зона вокруг полигона ликвидируется и «все возвращается на круги своя». В тот же день Шефнер встретился с Ермиловым. Вернул ему хвостовую часть «панцеркнакке» и сказал:
— Сегодня же отпрашивайся у Вёлера к молодой жене. Сообщение я подготовлю. Передашь его Зое вместе с осколком.
— Где я вас увижу? — спросил Ермилов.
— В столовой. Я буду обедать поздно, в четыре часа.
— Понял, — ответил Ермилов и побежал к шарфюреру.
Вёлер будто бы ждал его.
— А, молёдой мушь, — мягко подшепётывая, по-русски проговорил он. — Ты хотишь к молёдой шене?
— Так точно, герр шарфюрер, — отчеканил Ермилов.
— Когда хотишь?
— Если можно, сегодня после обеда, герр шарфюрер.
— Мошно. Теперь все мошно, — разрешил Вёлер. — Ты веть не отгулял тфа тня.
— Так точно, герр шарфюрер.
— Я отпускайт.
— Благодарю, герр шарфюрер, — поблагодарил Ермилов и вышел из комендатуры.
Шефнер тем временем готовил сообщение для «триста тридцать третьего». Он переписывал его несколько раз. Но все получалось очень длинно. В конце концов уложился в полстраницы.
— Ты же знаешь, что тут происходило? — спросил он Ермилова.
— Конечно, знаю, господин майор. Все знают. Что мы, слепые, что ли? — ответил Ермилов.
— Тогда подробно расскажешь все на словах. А тут только самое главное. Но это ни в коем случае не должно попасть в чужие руки, — предупредил Шефнер.
— Можете не беспокоиться, господин майор, — заверил Ермилов.
— Лещук и этот с ним — не вернулись?
— Никак нет, господин майор.
— Будьте осторожны, — напутствовал «старшего полицая» Шефнер.
Ермилов и сам чувствовал, что ухо надо держать востро, а смотреть в оба. Непонятно было, где пропадал со своим дружком Лещук. Да и улыбка на роже герра шарфюрера тоже сразу показалась Ермилову подозрительной. Что-то уж больно быстро его отпустил. Да еще вспомнил, сколько он недогулял. Очень уж стал добреньким. С чего бы это? С этими мыслями Ермилов и отправился в поселок.
Дорога за те дни, что они находились на особом положении, просохла. По ней было приятно идти. В пути Ермилов особо никаких подвохов не ожидал. Но на всякий случай сообщение майора обернул вокруг гранаты, а сверху обмотал проволокой. Но по дороге с ним действительно ничего не произошло, и он благополучно добрался до места. Однако в поселок не зашел и в дом к «молодой жене» не нагрянул. А обошел поселок со стороны леса и к Зоиному двору подобрался овражком. Этот маленький маневр он придумал, как только вышел с полигона. Его не оставляло предчувствие, что за Зоей следят и именно эти двое: Лещук и Свиблов. Ермилов прокрался к плетню и, раздвинув хворостины, пролез в огород. Тут, в правом дальнем от дома углу, за кустами малины и смородины была сооружена фанерная будка, служившая душевой. Над будкой громоздилось обыкновенное корыто с вделанным в его дно раструбом от лейки. За день солнце неплохо нагревало воду в корыте. И вечером после напряженного трудового дня, как это было до войны, под душем приятно было пополоскаться. В эту будку и залез Ермилов. И затаился. Тут он провел вечер. Тут его застала ночь. Она была светлой, теплой, тихой. Ермилов внимательно вглядывался во все углы двора, во все поленницы, за которыми можно было спрятаться, но никто не нарушал покоя. Ермилов тем не менее и дальше решил себя не обнаруживать. Он вылез из будки, осторожно пробрался вдоль плетня к задней стенке хлева и забрался по ней на сеновал. Спустился с него уже с другого конца в сени и постучал в дверь. Зоя, будто только этого и ждала, сразу спрыгнула с кровати, босиком прошлепала к дверям.
— Кто тут? — испуганно спросила она.
— Я это, Зоя, Ермилов, — негромко отозвался «молодой муж».
— Гаврилыч? — не поверила Зоя.
— Да я, я. Открывай, не бойся.
— Ты один? — отодвинула Зоя засов.
— А с кем же мне еще быть? — входя, усмехнулся Ермилов.
— Как же ты тут очутился? — ничего не могла понять Зоя.
— Ну как, как? Известно как: через сеновал, в сени и к тебе. Где Лещук?
— Ой, Гаврилыч, какой же ты сообразительный, что через крыльцо не пошел. Ведь они оба глаз с меня не сводят, — ответила Зоя.
— Откуда ж они наблюдают?
— Из дома напротив. Они за мной, а я за ними. Меня Настя предупредила, что Лещук с этим своим от нее ушли. Сказали, что на полигон возвращаются, а сами к соседке напротив. К бабке Анфисе. И как засели там, так и сидят.
— Значит, я как в воду глядел, знал, что так будет. Я ведь еще засветло вчера пришел. И в душе спрятался. За домом наблюдал. Думал, может, они, как зимой, под окнами где или за поленницей. А они, значит, Анфисину избу в НП превратили…
Ермилов присел за стол.
— Да ты раздевайся. Сними сапоги. Как хозяину положено. Я тебя сейчас покормлю, — засуетилась Зоя.
— Погоди, — остановил ее Ермилов. — Если такая ситуация, то, может, мне тут лучше не рассиживаться, а так же тихо да назад. А вот как с донесением быть?
— А оно есть?
— Еще какое. Майор даже на бумаге кое-что записал, — сказал Ермилов, достал гранату, размотал проволоку, развернул сообщение для «триста тридцать третьего» и передал его Зое.
Зоя быстро прочитала написанное.
— Живодеры, убийцы, проклятые. Ты видел все это? — спросила она.
— Как убивали, не видел. Слышал, что рассказывали те, кто убитых закапывал. Обгорели все, как головешки. На них, говорили, аж кожа полопалась… Майор велел обо всем остальном тебе рассказать, о чем он сам не написал.
Зоя присела за стол, напротив.
— Рассказывай.
Ермилов сообщил обо всем, что произошло на полигоне во время отсутствия Зои, и положил перед ней осколок «панцеркнакке».
— Это тоже надо в отряд передать. Чтобы в Москву послали.
— Как же передашь, если с меня глаз не спускают… Вере в такой обстановке ко мне заходить нельзя.
— А Настя еще зайдет?
— Ей передавать сообщение я не имею права, — объяснила Зоя, взяла спички и сожгла написанное Шефнером.
— Так он же сказал, это отдать надо, — испугался Ермилов.
— Не беспокойся. Я все запомнила. Так надо, — ответила Зоя. — Но как мне встретиться с Верой?
Ермилов задумался.
— Обдурить этих как-нибудь надо. Или споить, — решил он.
— Как я их обдурю, если ты собрался уходить?
— Значит, останусь. Вместе что-нибудь придумаем. Брось-ка зипун какой на печку. Прилягу я. Глаза что-то слипаются, — признался Ермилов.
— Да ты поешь, Гаврилыч! В печке картошка с постным маслом еще не остыла, — предложила Зоя.
— Посплю сначала. А уж потом, — зевнул Ермилов и, сняв сапоги и тужурку, полез на печь.
Утром, предварительно обсудив с Зоей, что и как делать дальше, Ермилов в сапогах, шароварах и рубахе вышел с топором в руках во двор и как ни в чем не бывало принялся за старые, не поддавшиеся женским рукам чурбаны. Играючи всаживал топор в полено, легко поднимал его над головой и с силой опускал топор обухом на плаху. Два-три таких удара — и непокорный чурбан разлетался пополам. А Ермилов брался за следующий. Колол и искоса поглядывал на окно Анфисиной избы. Поглядывал — и увидел то, что хотел увидеть. С противоположной стороны улицы на него уставились, вытаращив глаза и явно не веря им, Лещук и Свиблов. Выражения их лиц были настолько откровенны, что Ермилов чуть не рассмеялся. Ясно было, что прозевали они его, не заметили, как он пришел. И теперь от досады и злости потеряли всякую маскировку и осторожность. А Ермилов, дав им вволю наглядеться на себя, воткнул вдруг топор в плаху и, пристально смерив взглядом обоих полицаев, пошел к ним. И уже с середины улицы приветливо окликнул их:
— Как отдыхается?
Полицаев будто кнутом стегнули. Лещук даже сплюнул в сердцах.
— Спасибо господину шарфюреру, малость отоспались, — хмуро ответил он.
— А чего из своего дома ушли?
— Клопы заели. Развели родственнички, черт бы их унес. А тут вроде почище, — объяснил Лещук.
Ермилов подошел к избе, протянул к окну руку.
— Угостите сигареткой…
Свиблов протянул пачку немецких. Ермилов взял сигарету, закурил.
— Приглашай гостей в дом, Тима. А я быстренько, — раздался вдруг у него за спиной веселый голос Зои.
— Куда это она с утра пораньше? — спросил Лещук.
— Самогону раздобыть. На полигоне весь шнапс господа эсэсовцы выпили. А нам перед обедом надо ж для аппетита? — добродушно ответил Ермилов.
Полицаи промолчали. Но прищуренные глаза Лещука с головой выдали его внутреннее состояние. Снова их обвели вокруг пальца. Не так, по их расчетам, должен был вести себя Ермилов. Предполагалось, в дом он должен был входить открыто, а отлучаться незаметно. А получалось все наоборот. И Зойку они караулили, караулили, глаз с нее не спускали. И она носа никуда не высовывала. А выходит, и это все напрасно. Весь поселок сейчас обежит. И все, кому надо, скажет, и об этом потом ни от кого не узнаешь и шарфюреру ничего опять не доложишь.
Ермилов докурил сигарету, притушил окурок, сказал:
— Догулять надо свадьбу, господа. Не по нашей вине тогда перерыв получился. Так что прошу: собирайтесь и заходите. Будем рады.
Лещук попытался было отказаться, ссылаясь на то, что голова побаливает, но потом безнадежно махнул рукой и пообещал прийти. Ермилов, довольный тем, что все получается, как задумано, вернулся во двор и продолжал колоть дрова и складывать их в поленницу до тех пор, пока она не уперлась в стену сарая.
Зоя принесла целую четверть самогона. Но Ермилов сразу почувствовал, что она чем-то обеспокоена. Оказалось, что чутье не обмануло его.
— Веры дома нет. К родичу за реку ушла, — объявила она.
— Как? Без твоего разрешения?
— Говорила она мне, что ей надо туда. А я как могла запретить? От тебя нет ничего. Самого тебя так скоро я тоже не ждала, — объяснила Зоя.
— Почему же она не предупредила?
— Вызвать я ее не могла. Эти двое только того и ждали, чтобы узнать, кто у меня на связи. А без сигнала она ко мне не приходит.
— Неладно получилось, — поскреб затылок Ермилов. — А ушла-то надолго?
— Обещала завтра вернуться.
— А у старосты была?
— Была. Болен он. Не придет. А может, притворяется. Кто его знает…
Ермилов задумался.
— А может, в таком разе нам не ждать ее?
— Кого?
— Да Верку твою.
— А как же тогда?
— Да очень просто: погуляем, они к Анфисе, а мы дождемся ночи да в отряд.
— Что ты, Гаврилыч. Сразу оборвется вся связь с Шефнером. А он еще может понадобиться. О нем даже в Москве знают, — объяснила Зоя.
— А если она не придет? — резонно стоял на своем Ермилов.
— Быть такого не может. Должна прийти. Она знает, что обязательно здесь понадобится не сегодня так завтра.
— Да ты в толк возьми: может, она уже у них в руках. Перехватили на дороге, и ищи свищи ветра в поле.
Зоя покачала головой.
— Не пугай меня, Гаврилыч. Они еще меня могут в чем-то подозревать, я возле Шефнера там кручусь. А о Вере они совершенно ничего не знают. Ни разу еще так не было, чтобы она на глаза им попалась.
— Ладно. День еще есть в запасе. Подождем твою связную, — согласился Ермилов. — Накрывай на стол, не жалей ничего. Этих соглядатаев так упоить надо, чтобы на карачках отсюда выползали. Чтобы забыли, как мать родную зовут. Чтобы неделю потом рассолом отпаивались.
Зоя полезла в подпол за картошкой и капустой.
Обед получился на славу. Было и жаренное из консервов, которые принес Ермилов, было и пареное. А больше всего было всяких солений и самогона. Пили много. Но споить гостей, как намеревался Ермилов, на сей раз не удалось. Лещук вроде и хмелел. Но стоило Зоиной матери выйти в сени, взгляд его мигом настораживался, да и сам он немедленно подбирался, словно готовился рвануть из-за стола следом за ней. Ермилова это немало озадачило. Он чувствовал, что замысел его не удался. То и дело подливал гостям, провозглашал тосты, но задуманного так и не добился. Оставив в четверти самогона на ладонь ото дна, гости не сползли под стол, не стукались о косяки, а ушли на своих ногах, лишь чуть заметно покачиваясь. При этом прийти на следующий день и продолжить застолье оба наотрез отказались. И от Зои они пошли не к Анфисе, а куда-то по поселку. Ермилов пытался проследить, но луну, как назло, закрыли тучи, на улице сразу сгустилась темнота, полицаи пропали из виду, и только их негромкие голоса какое-то время еще разносились в сонной тишине.
Ермилов вернулся в дом. Зоя убирала со стола.
— Ну что? — спросила она.
— Наверняка к старосте подались.
— Почему так думаешь?
— А почему самогон до дна жрать не стали? Почему весь вечер ни мне, ни тебе в глаза не глядели? Почему завтра прийти не захотели? — сердито выпалил Ермилов. — Задумали они что-то, гады.
— Да что они могут задумать? Им же ничего конкретно не известно? А лезть наобум — только сорвут все дело…
— Э-э… — безнадежно махнул рукой Ермилов. — Тебе о них известно одно, а им о тебе совсем другое. А к старосте пошли либо за тем, чтобы с ним о чем надо договориться, либо по телефону что следует Вёлеру доложить, — решил Ермилов. — Ей-богу, напрасно ты думаешь, что они дурнее нас. Мотать отсюда надо. И самим, и мать с собой забирать.
— Успокойся, Гаврилыч. Я уже сказала тебе: нам и Шефнер, и полигон еще будут нужны.
— Не знаю, что будет, а боюсь, что это задание мы не выполним, — признался Ермилов.
— Выполним. Не имеем права не выполнить, — твердо ответила Зоя.
Ермилов закурил и в разговор больше не вступал. Спал он эту ночь на сеновале, не раздеваясь и прихватив с собой винтовку. Но ночь прошла спокойно и без происшествий. Ничего не случилось и утром. И днем. Все шло, как обычно. С той лишь разницей, что оба полицая на ночь к Анфисе не вернулись, их не было видно весь день, и было неизвестно, где они пропадали и чем занимались. Впрочем, Ермилов был абсолютно уверен в том, что из поселка они не уходили, а затаились где-нибудь поблизости от Зоиного дома и не спускали с него глаз.
Чтобы как-то это проверить, он сразу же после обеда отправился к старосте. Вроде бы справиться о здоровье, а на самом деле что-нибудь узнать о Лещуке и Свиблове. Но староста, хоть и принял Ермилова, как и полагалось встречать старшего полицейского — со всем уважением, даже предложил отведать яичницу с салом и выпить стакан самогона, о тех двоих ответил коротко и категорично:
— Видеть не видывал уже дней пять и знать про них ничего не знаю.
«Значит, ты, шкура продажная, с ними о чем-то уже договорился и действовать будешь заодно», — подумал Ермилов и, бросив взгляд на телефонный аппарат, спросил:
— Связь надежная?
— Да какая уж тут надёжа? Не успеют починить, партизаны опять рушат. Да разве только связь? Сами знаете: на прошлой неделе грузовик с солдатами на мосту в Троицы подорвали. Третьего дня две цистерны с бензином на станции сожгли, — пожаловался староста.
— Конечно, знаю. Потому и беспокоюсь о своих. Может, тоже на засаду где нарвались, — сказал Ермилов.
— Еще как может! Только того и жди, — согласился староста.
— Ничего. Слышал я, возьмутся за партизан скоро, как полагается, — доверительно сообщил Ермилов. — Так что в оба гляди. Услышишь, что они тут поблизости объявились, — немедленно в комендатуру давай знать. А проворонишь — с тебя первого спрос будет.
Староста услужливо поклонился.
— Телефон не будет работать, сам прибегу, — заверил он.
Ермилов ушел.
Дома сказал Зое:
— Скрытничает, гад ползучий. Ну да другого от такого холуя и ждать было нечего.
Время между тем незаметно подобралось к вечеру.
— Что делать будем? — спросил Ермилов.
— Ждать, Гаврилыч, — непреклонно ответила Зоя.
— Так я-то больше уже не могу! Мне уходить надо! Опоздаю, добра от Вёлера не жди!
— Знаю. Иди.
— А ты останешься?
— Останусь, Гаврилыч.
— Эх, девка, девка! Кабы не командир тебя надо мной начальником сделал, тикала бы ты у меня сейчас к лесу как нашпаренная, — в сердцах посетовал Ермилов.
Он достал из кармана шинели гранату и протянул ее Зое.
— Возьми на всякий случай.
— А если кто увидит ее у меня? — резонно спросила Зоя.
— Эка беда! Я оставил. И не у кого-нибудь, а у жены, в своем доме.
— Тогда давай, — согласилась Зоя и положила гранату в средний ящик комода, где лежало белье.
Ермилов залез в чердак и, благо, что ночь была лунная, светлая, осмотрел участок, проулки и огород. Стоял, пристально вглядываясь в фиолетовое марево. Но ничего подозрительного не увидел и вернулся в дом.
— Тихо, — сказал он. — А чувство такое, будто из-за каждого угла за домом следят.
— Устал ты, Гаврилыч. Нервы это, — попыталась успокоить его Зоя.
Ермилов спорить не стал.
— Может, и так, конечно. Но ты все же поосторожней тут, — сказал он и, взглянув на часы, заторопился: — Бежать надо.
И он на самом деле почти побежал. Но у околицы обернулся. Дом чернел занавешенными окнами. И почему-то показался Ермилову затаившимся живым существом.
Дорога от поселка до полигона почти на всем своем протяжении тянулась по опушке леса. С одной стороны вдоль нее расстелились поля. С другой — вплотную подступал могучий лес, который так не любил и боялся враг.
Поселок остался далеко позади. А Ермилову все еще казалось, что оглянись он, и даже отсюда увидит и Зоин дом, и его темные окна, и тех, кто в нем. И с каждым шагом, отдаляющим его от этого дома, он все отчетливее чувствовал охватывающее его беспокойство за Зою и ее мать. И уже не раз и не два крепко ругал себя за то, что не сумел уговорить Зою уйти в отряд. «И наплевать на весь полигон. Все равно скоро наши сюда придут, и никакого полигона тут не будет, как и не было. А может, немцы и дожидаться не станут, когда паленым запахнет. Эвакуируют всю эту контору еще раньше. Так каких же тут ждать еще испытаний?» — сердито думал он. В теплом воздухе неслышно носились летучие мыши, с жужжанием летали жуки. Ермилов отшагал уже одну треть пути, когда впереди увидел чей-то мелькнувший силуэт. Это произошло так неожиданно, что Ермилову в первый момент подумалось, что он просто ошибся, что ему это только показалось. Но мелькание повторилось. Тогда Ермилов остановился и прислушался. Над дорогой гудела мошкара, с поля доносилось стрекотание кузнечиков.
Ермилов хотел уже было двинуться дальше, но в этот момент ясно услышал, как кто-то глухо кашлянул. А потом и проговорил что-то невнятно и неразборчиво. Сомнения мгновенно исчезли. Навстречу ему кто-то шел; Ермилов, не теряя ни секунды, шагнул с дороги в кусты. Быстро отошел в чащу и затаился за деревом. Сделал он это очень своевременно. Потому что очень скоро услышал уже не один, а два голоса. А через минуту и увидел тех, кому они принадлежали. По дороге быстро, пожалуй, даже еще быстрее, чем шел он, шагали два полицая. Они торопились. Очень торопились. И тем не менее то и дело приостанавливались, вытягивали шеи и всматривались вперед, будто опасаясь кого-то пропустить и не заметить. «А ведь они, наверное, меня высматривают, — почему-то подумал Ермилов и еще плотнее прижался к сосне, за которой стоял. — И спешат, как на пожар. Что ж такое ночью делать в поселке?» Полицейские прошли мимо, не заметив его. Ермилов узнал обоих. Они были такими же отпетыми мерзавцами, как Лещук и Свиблов. Оба, как и та пара, неоднократно участвовали в карательных операциях и потом всегда похвалялись своими «подвигами». Ермилов еще не нашел ответ на свой вопрос, зачем спешат в поселок полицаи, но уже понял, что на полигон он не пойдет. Что бы там ни было, а без Лещука тут дело не обошлось, и, стало быть, эти двое спешат к нему. А раз так, то и он, Ермилов, не имеет права оставлять Зою одну против такой оравы. Он дал возможность полицаям отойти подальше и, стараясь не терять их из виду, повернул за ними обратно в поселок.
Пока дорога шла по опушке, Ермилов не боялся, что полицаи заметят его. Не они, а он наблюдал за ними. И вовремя успевал уйти с дороги в тень. Но перед самым поселком лес словно нарочно отступил в сторону, и ему почти с полкилометра предстояло пройти по полю. И остаться незамеченным на этом участке было очень трудно. А ненароком выдать себя было все равно что явиться в поселок безоружным. Впрочем, толку от него и тогда было бы больше. И Ермилов, хоть и понимал, что всякое промедление может оказаться роковым, все же решил не спешить, поотстать и дать полицаям возможность углубиться в темные, начавшие затягиваться легким туманом улицы поселка. А чтобы не терять времени впустую, на месте не остался, пошел дальше, но не следом за полицаями, а в обход, уже знакомым ему путем, по овражку, к плетню Зоиного двора и в будку душа.
Ермилов пробирался к будке и не знал, что в тот момент, когда он увидел на дороге впереди себя мелькнувший силуэт полицая, на крыльце в доме Зои послышались тяжелые шаги и кто-то громко и требовательно постучал в дверь. Зоя еще не ложилась и быстро подошла к окну. На крыльце стояли трое. Она узнала всех: Лещука, Свиблова и старосту. Так бесцеремонно они могли стучать, только хорошо зная, что Ермилов уже ушел из поселка. Значит, они специально ждали этого момента. Зоя медлила. Предчувствие чего-то недоброго и, может быть, даже страшного охватило душу. Стук повторился еще громче, еще требовательней. Притворяться, что она не слышит его, было глупо. Зоя вышла в сени, спросила:
— Кто там?
— Открывай, открывай. А то ты не знаешь кто! — хрипло ответил Лещук.
— Так муж уже ушел, — попыталась образумить непрошеных гостей Зоя.
— А нам наплевать, ушел он или нет! — рявкнул Лещук.
— Он те такой же муж, как мне твоя мать невеста! — захохотал Свиблов.
— Открывай, или зараз дверь выломаем! — пригрозил Лещук.
Зоя отодвинула засов. Дверь распахнулась, в лицо ей ударил свет карманного фонарика. Она перестала что-либо видеть и только почувствовала, как кто-то сильно подхватил ее под руку и втолкнул в дом.
— Вот тут и посидим тихонечко, — сказал Лещук и сел на лавку.
— Что случилось, Семен? — выражая удивление, спросила Зоя.
— Я те не Семен, — зло ответил Лещук. — Называй, как положено при новом порядке — господин Лещук.
— Хорошо, господин Лещук, — не стала спорить Зоя. — Так что же случилось?
— А ничего, — ухмыльнулся Лещук. — Что ж лампадки-то не зажигаешь? Аль сама идти собралась?
— Никуда я не собиралась. А в лампадках масло кончилось, — ответила Зоя.
Лещук подошел к образам, достал спички, чиркнул, поднес огонек к фитилю. Лампадка осветилась нежным светом. Потом он зажег и вторую.
— Врешь ты все, гадючка советская. Ну да недолго обоим вам осталось голову мне морочить. Не дурнее вас, — сказал он и снова сел на лавку.
Зоя поняла, что в опасности не только она, но и Ермилов. Но не зная, что предпринять, решила хоть как-то оправдать свое поведение.
— Мама, откуда ж масло в лампадках появилось? Вчера же еще кончилось? — спросила она.
— Слила я, Зоенька, все остатки из бутылки. Вот и набралось маленько, — ответила мать.
— А ты молчи, старая ведьма! Все вы тут одним миром мазаны! — прикрикнул Лещук. — Спустите-ка ее, хлопцы, под пол!
Свиблов чиркнул лучом фонарика по полу, нашел крышку подпола, открыл его, затолкал в него мать Зои и снова закрыл.
— А ты садись в угол. Нечего у окошка вертеться, — приказал Лещук Зое. — Нам теперича спешить некуда. Нам ожидать того, кто на огонек придет, надо.
Зоя приткнулась к комоду. «Значит, о Вере они ничего не знают», — подумала она и спросила:
— Что же я все-таки сделала, господин Лещук?
— Это тебе господин Вёлер объяснит, — ответил Лещук и предупредил: — А пока сиди и не вздумай дурить. А начнешь — враз прикладом по ребрам получишь.
— Был бы тут Тимофей, вы бы так со мной не разговаривали, — заметила Зоя.
— Тимофея твоего, наверно, тоже уже как полагается встретили, — злорадно усмехнулся Лещук. — Споить меня хотели. Думали, Лещук за бутылку себя продаст?.. Не такой я дурак, шоб так себя дешево ценить. А вот связника твоего выловим, он нам дорожку в лес покажет, вот за это меня наградят не бутылкой…
Он еще что-то говорил, чем-то хвастался. Но Зоя почти не слышала его. В голове у нее беспомощно билась только одна мысль: как спасти Веру? Билась и не получала ответа. Потому что Зоя даже не могла предупредить Веру, не могла вовремя крикнуть ей, потому что ничего не видела из угла, в котором сидела. Да и надо ли. Закричать — значило сразу же полностью выдать себя. А заодно и всех, кто связан с ней. А если это окажется всего лишь провокацией? Наглой, грубой, но провокацией! Что тогда? Но нет! На провокацию это было похоже слишком мало. Уж очень зол был Лещук. Зол естественно. Сыграть он так не смог бы. И значит, Веру надо было спасать. Любой ценой! Зоя должна, обязана, как старшая, это сделать! А время неслось вскачь. И Вера, если только она уже вернулась в поселок, могла появиться у нее в доме в любую минуту. О себе Зоя сейчас не думала. Понимала: о себе надо было думать раньше, когда ее предупреждал Ермилов. Но и тогда она беспокоилась не о себе. Ее связь с отрядом казалась ей законспирированной совершенно надежно. Значит, недооценили они в свое время Лещука. А он выследил их. И теперь смертельная угроза нависла не только над ними, но, вероятно, и над Шефнером. Начнутся допросы, пытки. Гестапо не пожалеет сил, не остановится ни перед чем, чтобы узнать точное место расположения партизанского лагеря. А кто, как не связник, прекрасно знает его? Веру надо спасать! Она ни за что не должна попасть в руки этих фашистских бандитов…
Эти мысли, разрозненные и поначалу не очень четкие, с каждой минутой теперь становились все яснее и все отчетливее формировались в жесткий, категоричный приказ самой себе: во что бы то ни стало спасти Веру.
Зоя не расслышала легких шагов на крыльце. Она только услыхала, как скрипнула, открываясь, входная дверь. А Веру не насторожило то, что входная дверь оказалась открытой. Даже наоборот, она восприняла это как дополнительный знак того, что ее ждут. Поэтому она в дом вошла без стука. Смело отворила вторую дверь и переступила через порог. И тотчас же, как тень, за спиной у нее появился Свиблов. А Лещук прямо из-за стола осветил ее фонариком.
— Проходи, проходи, — негромко пригласил он. — Вот, значит, кто к нам пожаловал.
Вера, не ожидая очутиться в такой ситуации, оторопела. Но быстро взяла себя в руки и сказала:
— Да никак у тебя гости, подруга. Так я в следующий раз забегу!
Она повернулась, чтобы немедленно выйти из дома, и, как на стену, налетела на Свиблова. Лещука это явно рассмешило. Он зажег лампу и поставил ее на край стола.
— Да куда ж ты так скоро? Пришла на огонек послушать, шо тебе скажут, и уже тикаешь?
Лещук вышел из-за стола и указал Вере на скамейку.
— Садись. Зараз мы с тобой побалакаем. А потом еще разные люди с тобой поговорят, — делано ухмыляясь, проговорил он.
— Так ведь поздно уже, — подходя к скамейке, ответила Вера.
— Вот и я тоже соображаю, куда это ты на ночь глядя и в плаще, и в сапогах? В поселке вроде сухо… Или, может, ты по лесу собралась прогуляться? Ты…
Он недоговорил. Воспользовавшись тем, что все внимание полицаев было обращено сейчас на Веру, Зоя быстро выдвинула ящик комода, выхватила из-под белья, гранату, вырвала предохранительную чеку и громко скомандовала:
— Ни с места всем! Вера, беги!
Полицаи от неожиданности опешили. А Вера, мгновенно сообразив, что это единственный шанс спастись ей, с силой оттолкнула от двери Свиблова и выскочила в сени.
— Стой! — схватился было за винтовку Лещук.
Но Зоя опередила его.
— Прощай, Вера! — крикнула она вслед подруге и бросила под ноги Лещуку гранату…
Ермилов незаметно пробрался в будку и оглядел двор. Он искал встреченных им на дороге полицаев и был уверен, что они наверняка где-нибудь здесь. Но не обнаружил никого. Потом он увидел, как кто-то одетый в плащ пересек улицу и быстро зашел в проулок Зоиного дома. Видел, как этот человек поднялся на крыльцо и зашел в дом. Но прошло еще несколько минут, и тот же, в плаще, снова появился на крыльце, скатился по ступенькам и стремглав бросился по проулку. А в доме грохнул взрыв. Ермилова будто взрывной волной выкинуло из будки. Но он не успел сделать к дому и шага, как из-за поленницы выскочил полицай и выстрелил в человека в плаще. Второй выстрел Ермилов не дал ему сделать. Его пуля наповал сразила полицая. Но почти одновременно с его выстрелом в кустах грохнул третий. И Ермилов почувствовал страшный удар в спину. Ноги сразу же перестали держать его. Винтовка выпала из рук. Он упал, уткнувшись лицом в грядку. Последней мыслью его было: «Как же я тебя, гада, не разглядел…»
Вера слышала раздавшийся за спиной приглушенный стенами дома грохот взрыва, выстрелы. Но не сразу поняла, что стреляют и в нее тоже. И только когда до слуха ее донесся хриплый, требовательный окрик: «Стой, стерва! Стой! Убью!» — сообразила, что ее преследуют. Чтобы легче было бежать, она на ходу сбросила тяжелый брезентовый плащ, одетый на случай дождя, и изо всех сил старалась оторваться от преследователей. Сколько их было, она не знала. Да это и не имело значения. Для нее и один был смертельно опасен. На ней было светлое платье, и те, кто гнался за ней, отчетливо видели его при лунном свете на фоне темной листвы мелколесья. Спасением для нее мог стать только глухой лес, начинавшийся за первым мостом по дороге на Троицы. Он был овражистым, поросшим кустами орешника, в нем нетрудно было уйти от погони даже днем. Но до моста было еще далеко. В сознании ее то воскресало, то снова мгновенно исчезало, будто перед ней демонстрировали обрывки киноленты, только что виденное и пережитое. Уснувший, залитый лунным светом поселок… крыльцо Зоиного дома… почему-то открытая дверь… Она еще тогда подумала, что это сделано специально, чтобы не стучаться… дверь из сеней в дом… знакомый запах жилья и чего-то вкусного, стоявшего на шестке… удар в глаза ослепительно яркого света… толчок в спину… лампа… стол… в углу комода бледное, сосредоточенное лицо Зои… ее резкий и непривычный крик… она буквально отбросила Свиблова… проулок… грохот выстрелов… а может, это удары собственного сердца… И вдруг, будто каленым прутом, ей обожгло плечо. Видения сразу пропали. Вера схватилась за плечо. А когда отняла ладонь — увидела, что вся она покрыта чем-то темным.
До цели оставалось еще метров триста. Но ноги уже плохо слушались ее. А перед глазами плыли яркие круги. И все же она собрала все силы и добежала до моста. И перебежала через него. И добралась до густого и плотного, как забор, подлеска. И рухнула тут. И уже не слышала и не видела больше ничего. Ни короткой автоматной очереди, на которую, как на вилы, напоролся полицай и свалился с моста в речушку. Ни то, как ее нашли двое партизан, как перевязали, не слышала, как один сказал другому:
— Это наша связная, Вера. В отряд ее нужно.
А другой ответил:
— Оставайся. А я ее доставлю.
Сознание возвращалось к ней несколько раз. Она поняла, что ее куда-то несут. Ей очень хотелось пить. Внутри все горело. Но она ни о чем не спрашивала, не просила воды, потому что не знала, кто ее спасает.
В отряде они появились уже утром. Вере сразу же сделали перевязку.
— Много крови потеряла, — сказал фельдшер, осмотрев ее. — Что же вы, даже замотать хорошенько не сумели.
— Ничего. Вылечим. Теперь лето, — ответил ему командир отряда и кого-то похлопал по плечу. — Молодец, парень. И помог вовремя, и живую донес. Молодец.
Глава 43
Политова прямо с полигона доставили в госпиталь. Решили даже не завозить в гостиницу. А среди обслуживающего его номер персонала распустили слух, что их постоялец попал под бомбежку и получил серьезное ранение.
В госпитале Политова поместили в отдельную палату. И в тот же день навестить его приехал оберштурмфюрер Делле. Он, как и следовало ожидать, был в курсе всего, что происходило на полигоне, и поздравил своего подопечного.
— Рад за вас, господин Политов, что вы так быстро и столь успешно овладели своим оружием, — сказал он, впервые называя Политова по фамилии.
В ответ Политов почтительно поклонился.
— Старался, как мог, господин оберштурмфюрер. Мне на второй выстрел рассчитывать не приходится.
— И правильно делаете, — одобрил Делле. — Второго выстрела просто может не быть. Но это, как говорится, по обстоятельствам. Итак, вы тут пролежите больше месяца. Вам это известно?
— Да, господин оберштурмфюрер. Врачи уже осмотрели меня и все мне рассказали, — ответил Политов.
— Я тоже имел с ними обстоятельную беседу. Операция вам предстоит неприятная, но несложная. Через два-три дня после нее вы уже сможете вставать, и садиться, и ходить. Так вот, господин Политов, все время, что вы будете в госпитале, и все последующее, до момента высадки вас на советскую территорию вам следует потратить на то, чтобы хорошенько войти в образ того человека, за которого вам предстоит выдавать себя в Москве, — сказал Делле и передал Политову объемистый кожаный портфель с замками и застежками-«молниями». — Берите. Тут ваше личное дело. Вам следует выучить его назубок. Надеюсь, вы представляете, чего вам будет стоить путаница имен, фамилий, дат, адресов и так далее?
— Отлично представляю, господин оберштурмфюрер, — ответил Политов.
— Прекрасно. Но это еще не все! Вам необходимо так же четко знать и все то, что касается вашей жены.
— Понял, господин оберштурмфюрер.
— В отдельной папке тут и ее личное дело. Она приедет к вам сюда и тоже будет заниматься вместе с вами, — сказал Делле, побарабанив мягкими толстенькими пальцами по столу. — От изучения биографии родителей я вас спас. Вы будете детдомовцем. Это в большей мере вызовет к вам симпатию и избавит вас от лишних вопросов. Как, неплохо?
— Благодарю вас, господин оберштурмфюрер, — снова поклонился Политов.
— Но и это еще не все! — поднял вверх указательный палец Делле. — Все, о чем мы только что говорили, вам придется учить в основном для допросов. Ну и для бесед, если можно так выразиться, в узком кругу. А ведь главное — это дело. Работа! Так вот, для нее вы обязаны безошибочно, досконально знать Москву в пределах Садового кольца и некоторые отдельные ее районы и пригороды. Такие, скажем, как Фили, Кунцево, Сетунь, Можайское шоссе, Дорогомиловскую улицу, ну и целый ряд других.
— Успею ли, господин оберштурмфюрер? — засомневался в собственных умственных возможностях Политов.
— Должны успеть. Не будет хватать светлого времени, посидите ночами, — непреклонно ответил Делле. — Скоро вы получите фотографии Арбата — улицы, по которой проезжают члены Ставки Верховного главнокомандования. И еще, господин Политов. Вашей жизни ни до, ни после операции ничто не угрожает, но все же держите двери палаты всегда на замке. Кстати, с сегодняшнего дня вашу палату будут охранять. Ни к чему, господин Политов, чтобы вас видели, да еще отрывали от работы всякими дурацкими разговорами.
Делле ушел. Пост выставили. Но не солдата с автоматом, как думал Политов, а двух фурий в эсэсовских мундирах и накинутых поверх них белых халатах, которые по очереди сменяли друг друга. А на следующий день в госпитале появился Палбицын. Очевидно, по его указанию в коридоре поставили столик с настольной лампой и телефоном, стул. Эсэсовкам во время дежурства разрешалось читать. Они же приносили в палату пищу и убирали посуду. Палбицын тоже навестил Политова.
— Петр Иваныч, хвалил тебя гауптштурмфюрер Этцен. Говорил, что ты человек дела. И на тебя вполне можно положиться, — сообщил он. — Это ценить надо. Этцен не отсюда, не наш. Он из Берлина.
— Стараюсь и сделаю все, что от меня требуется, — заверил Политов. — Сейчас бы еще потренироваться следовало. А тут лежи…
— Всему свое время, Петр Иваныч. Пока книжечками занимайся. А вернешься — технику осваивать станешь, — объяснил Палбицын.
— Какую технику, господин капитан? — не понял Политов.
— Мотоцикл для вас специальный готовят. Во-первых, ездить на нем надо будет научиться, как черту. А во-вторых, в нем столько всего понасовано, что разобраться во всем этом тоже время потребуется, — ответил Палбицын.
— Водить мотоцикл не приходилось, — признался Политов.
— Ничего. Не самолет. Освоишь. Он тебе вот так понадобится, — чиркнул себя по горлу Палбицын.
Еще через пару дней в госпиталь приехала Шилова. Супруги разыграли сцену трогательной встречи. Политов облобызал жену, сказал, что еле дождался ее, что без нее ему было очень плохо и одиноко. У Шиловой на глаза навернулись слезинки. Она ответила, что тоже буквально измучилась без него. «Оно и видно, — услышав это, подумал Политов. Шилова была великолепно одета. От нее пахло тонкими французскими духами. — Потешились господа офицеры, надо думать, сколько кому влезло. Оттого, поди, и ревешь, что жалко с ними расставаться было…»
Вскоре Политову сделали пластическую операцию: на животе и на руке. Операция была несложной, но тем не менее делали ее под общим наркозом. И пока раны подживали, в отделе VIф «Русланд-Норда» подготовили все необходимые медицинские документы: историю болезни, справки, выписки и все прочее. Но эта работа шла параллельно с выздоровлением. И ею занимались другие люди. А Политов и Шилова усиленно штудировали путеводители и планы Москвы.
Госпитальная жизнь очень нравилась ему. Это был отдых, какого Политов не имел не только за всю войну, но и за многие предвоенные годы, проведенные либо в бегах, либо в местах заключения. С этим отдыхом не могло сравниться даже его недавнее пребывание в охотничьем домике под Берлином. Но неожиданно этому иллюзорному благополучию пришел конец.
Двадцать третьего июня 1944 года Красная армия начала мощное наступление в Белоруссии. Оно развивалось так стремительно и успешно, что в скором времени привело к коренным изменениям стратегической обстановки на советско-германском фронте в целом. Впоследствии генерал Г. Гудериан скажет об этом так: «…на Восточном фронте развивались события, непосредственно приближавшие чудовищную катастрофу». События эти чувствительно перетряхнули все планы, вынашиваемые в штабах, учреждениях и службах рейха. Завертелись быстрее всякие маховики и шестеренки и в сложном механизме Главного управления имперской безопасности. И тут тоже многое стало урезаться, сокращаться, ужиматься. Дошла очередь и до Политова. Вместо обещанного месяца его выписали из госпиталя через две недели. Супруги вернулись в гостиницу «Эксельсиор», правда, уже в более скромный номер, и оба сразу приступили к занятиям.
Глава 44
Круклис дважды перечитал донесение командира партизанского отряда. Оно было кратким и убийственно бесповоротным: «Связь с полигоном прервана. Оба наших разведчика погибли. Судьба “четыреста сорок четвертого” неизвестна». Бланк шифротелеграммы вдруг потерял четкие очертания, стал бесформенным, а потом на него, будто из тумана, выплыли большие темные глаза и яркий, чуть заметно улыбающий рот Зои. Такими Круклис видел их тогда, в зимнем ночном лесу при свете фонарика. Такими запомнил их. И вот теперь сообщение: «Оба разведчика погибли». Но как? При каких обстоятельствах? Почему об этом не сказано ни слова?
— Жалко. Очень жалко. И второго разведчика жаль. Но Зою — особенно. Мужественная, умная была. И такая очаровательная женщина, — сказал Круклис. — Однако нам очень нужно знать, как это все произошло. Одно дело — погибли в бою. Другое — в застенках гестапо. Как этого не понимают в отряде. Свяжитесь с ними, запросите подробности.
— Будет сделано, товарищ полковник, — ответил Доронин.
— Что еще приготовили?
— Сообщение из Риги.
— Как у них обстановка?
— Все каналы связи действуют исправно. Можно сделать вывод, что там все идет нормально.
— Там опытные конспираторы. Азы подполья постигали еще в буржуазной Латвии. В годы войны под руководством ЦК партии республики создали надежные группы… Я знал там десятки людей еще с Гражданской войны. Знал, на кого из них можно опереться в самую трудную минуту. Скольких уже нет?.. Ну а что они сообщили конкретного?
— Прямых выходов на «Русланд-Норд» у них нет. Организация сильно засекречена и надежно охраняется, — доложил Доронин. — Но есть возможность получить интересующую нас информацию через промежуточные звенья.
— Какие? Насколько все это будет достоверно? Как часто мы будем эту информацию получать? — засыпал Доронина вопросами Круклис. — Нам сейчас срочно надо знать то, что должен был сообщить Шефнер. Зачем приезжал на полигон Краусс? Что и с какой целью он там испытывал?
— Мы же им такого задания не давали, товарищ полковник, — заметил Доронин.
— А если дадим? Как часто они выходят на связь?
— Раз в неделю.
— Вот то-то и оно! — задумчиво проговорил Круклис. — С такими темпами мы не только ничего не сможем предотвратить, мы даже узнавать все будем самыми последними.
— Сеансы связи можно организовать чаще.
Круклис отрицательно покачал головой.
— Не тот случай, Владимир Иванович. Не тот. Как бы часто мы с ними ни связывались, мы им все равно по радио никогда до конца не раскроем свои карты. Вы же это отлично понимаете. И они тоже…
— Давайте пошлем в Ригу связного, — предложил Доронин.
— Мне нужно туда пробраться, Владимир Иванович.
— Вам? — опешил Доронин.
— И только мне.
— Да кто вас пустит?
— Пустят, — уверенно ответил Круклис. — Другого выхода нет. А что слышно от Медведева?
— Ничего, товарищ полковник.
— Плохо. Это на него непохоже.
— Вероятно, здорово запутала следы эта Баранова, — сказал Доронин.
— Если следовать нашей версии о том, что она действовала по указанию «Племянника», то времени у нее для этого не было. Получила приказ— и снимайся с якоря. Боюсь, что уважаемый Дмитрий Николаевич просто не там ее ищет, — высказал свою догадку Круклис.
— Послать кого-нибудь к нему на помощь?
— Поговорите с ним по телефону. Посоветуйте — не мудрствовать. В аналогичных случаях бывает, что ларчик открывается очень просто. Не удивлюсь, если окажется, что она и на сей раз повторила свой старый классический трюк с замужеством. Не удивлюсь, что она уже где-то здесь: или в самом городе, или в ближайшем пригороде. Логика выполнения задуманной ими операции непременно должна потребовать концентрации сил, — сделал вывод Круклис.
Доронин, забрав бумаги, ушел. А Круклис сел за стол и закурил, что делал только в минуты большого душевного волнения. Он говорил с Дорониным о Риге, о Барановой, а в сознании его все кружились мысли о полигоне, о трагедии, разыгравшейся там. И сами собой снова и снова возникали вопросы: что же там все-таки случилось? Почему? По оплошности? Из-за предательства? В какой мере все это коснулось Шефнера? И чем больше возникало перед ним подобных вопросов, тем сильнее росла уверенность в том, что, какой бы дополнительный ответ на их запрос ни пришел из партизанского отряда, без Риги им все равно не обойтись и направить туда должны именно его. Аргументов в пользу такого вывода, и очень веских, было более чем достаточно. Полигон и Рига были связаны одним делом. Полигон что-то испытывал по заданию Риги. И если связь с полигоном оборвалась, то узнать о том, что конкретно испытывали на полигоне и с какой целью, можно было теперь только там. Это, во-первых. Во-вторых: только в Риге можно было получить сведения о подлинных намерениях «Русланд-Норда», проверить тот вывод, который относительно этих намерений они сделали вместе с Ефремовым, узнать о каких-то практических шагах по воплощению этих намерений в жизнь.
В тот же день Круклис доложил все эти соображения Ефремову. Генерал выслушал его с огромным вниманием. Он ничего не отрицал и вопреки ожиданиям Доронина ни в чем не возражал. Да и что он мог возразить против доводов Круклиса?
И тем не менее он вынужден был сказать:
— Ты же знаешь, Ян Францевич, что сам я единолично отправить тебя на такое задание не могу.
— Знаю, — ответил Круклис. — Но мне важно, чтобы вы меня поддержали.
Ефремов задумался.
— А если меня спросят: у тебя, кроме него, некого послать? Что я должен буду ответить? — спросил он.
— Скажите руководству, что мне это задание объективно выполнить будет легче. Многих подпольщиков я лично знаю. Встречался еще до войны. Так что контакт с ними у меня будет надежней. А значит, и результат совместной работы может быть достигнут более высокий, — посоветовал Круклис.
— В этом наверняка ни у кого никаких сомнений не возникнет, — заметил Ефремов. — Другое будут иметь в виду. Никто не захочет рисковать тобой. Это ведь даже не в партизанский отряд лететь! Ты же понимаешь, в каких условиях тебе придется действовать?
— В том-то и дело, что мне в этих условиях будет легче, чем кому бы то ни было, — упрямо повторил Круклис.
Ефремов снова помолчал.
— Ладно. Я доложу все твои соображения. Но сам особенно поддерживать тебя не стану. Ты и здесь ой как нужен, — откровенно ответил он.
— Спасибо и на этом, — поблагодарил Круклис.
— Пожалуйста! — в тон ему ответил Ефремов. — И что это у тебя за привычка: как что потруднее, так обязательно сам! Ты что, своим подчиненным не доверяешь?
— Очень даже доверяю, Василий Петрович.
— Так в чем же дело?
— Молодые они еще. У них вся жизнь впереди. Они еще наверняка столько всего хорошего смогут сделать. А там, как бы вам сказать…
— Э-э!.. — махнул рукой Ефремов. — Без тебя я не знаю, что там. У тебя двое сыновей на фронте воюют. О себе не думаешь, о Клавдии подумай.
Это был удар под ребро. И нанести его мог только такой старый и испытанный друг, как Ефремов. И, может быть, в каком-нибудь другом случае этот удар достиг бы цели. Но Круклис ничего не ответил и вышел из кабинета. Двое суток они не встречались. Ефремов куда-то выезжал. У Круклиса тоже было полно дел. Но утром третьего дня Ефремов сам зашел к нему в кабинет.
— Руководство одобрило твое предложение. Готовься. Но особо не торопись. Мне не сказали, но, очевидно, предстоят какие-то очень важные события на фронте, от которых будет многое зависеть, — объяснил ситуацию Ефремов.
— Понял, Василий Петрович. Благодарю за доверие, — ответил Круклис.
— Ну и дали же мне за это доверие, — усмехнулся Ефремов. — Чего только не наслушался. Как в воду глядел…
— Ничего. Все будет хорошо, — весело подмигнул ему Круклис.
Он засел за сообщения из Риги. Читал донесения, изучал обстановку. Через несколько дней Ефремов спросил его:
— Каким способом думаешь преодолевать линию фронта?
— Считаю, наиболее надежно — самолетом.
— Правильно, — одобрил Ефремов.
— Удастся — высадят на каком-нибудь партизанском аэродроме. Не удастся — прыгну с парашютом, — уточнил Круклис.
— А вот это исключено, у немцев в Прибалтике сейчас полно войск. И тебе будет очень трудно передвигаться у них в тылу. Поэтому я дал команду готовить для тебя другой вариант. Полетишь — но сядешь на море, в районе Айнажи. А там тебя встретят местные рыбаки. Они же доставят тебя в Ригу, — объяснил Ефремов.
— А не усложнит это все дело?
— Может, немного и усложнит. Но зато надежней. Наш флот еще заперт в Кронштадте. И немцы не очень-то пока беспокоятся за свои тылы со стороны моря. А мы это и используем.
— Пусть будет так, — не стал возражать Круклис. — Но чего ждем? Время-то идет…
— Недолго осталось, — заверил Ефремов.
И на сей раз был прав. Двадцать четвертого июня вся страна услышала зачитанные по радио Левитаном приказы Верховного главнокомандующего командующему войсками 3-го Белорусского фронта генералу армии Черняховскому и командующему войсками 1-го Прибалтийского фронта генералу армии Баграмяну. Началась, как потом стало известно, одна из крупнейших наступательных операций Красной армии — «Багратион».
«Вот чего ждали! Другого такого сильнейшего отвлекающего маневра, конечно, не придумаешь! Значит, через пару дней и мой черед», — решил Круклис. Но руководство наркомата не спешило. Операция развертывалась. В действие вступили 1-й и 2-й Белорусские фронты. Войска немецкой группы армий «Центр» несли колоссальный урон в живой силе и технике. Вот тогда-то, в конце первой недели июля, Круклис и вылетел в Лугу.
Перед отъездом на аэродром он еще раз напомнил Доронину:
— Рига Ригой. Но и здесь вражеские агенты непременно активизируют свои действия. Я убежден в том, что в самое ближайшее время следует ожидать очередного выхода в эфир «Племянника». Не проморгайте.
— На сей раз он не уйдет. Его ждут повсюду, — ответил Доронин.
— Потом нам может просто не представиться другой случай. А если и представится, то слишком поздно, — заметил Круклис.
— Вы же знаете, товарищ полковник, что у нас постоянная готовность номер один, — напомнил Доронин.
Круклис крепко пожал ему руку.
— Желаю успеха, Владимир Иванович.
— А вам — скорейшего возвращения, — ответил Доронин.
С военного аэродрома в Луге Круклиса на машине привезли в Гдов. Город был сильно разрушен. На противоположном берегу Чудского озера уже находился враг. Пришлось ждать темноты. И как только она достаточно сгустилась, на озеро приводнился самолет МБР-2.
Чтобы успеть затемно высадить пассажира и вернуться обратно, самолет взял курс на озеро Выртсьярв, на Пярну, углубился в сторону моря, свернул на юг, оставил слева по курсу Айнажи, Салацгриву и попал в туман.
— Вот так всегда: что-нибудь, да обязательно не слава богу! — посетовал командир экипажа.
— А далеко еще лететь? — спросил Круклис.
— Саулкрасты…
— Так это же совсем рядом!
— Да кто нас найдет в таком тумане…
Прошло еще несколько минут, и штурман доложил:
— Мы над местом.
— Будем садиться, — принял решение командир.
Самолет пошел на снижение. Над водой туман был не таким густым и с окнами. В одно из них командир и приводнил машину. Выключил двигатель, и над морем стало тихо.
— Не повезло, — вслушиваясь в глухую ватную темноту, сказал командир.
— Сколько от нас до берега? — спросил Круклис.
— Километров пятнадцать.
— Какие-нибудь опознавательные сигналы предусмотрены?
— Синие огни у самой поверхности воды. Но кто их в таком тумане увидит?
— А вы зажигайте. И увидят. Обязаны увидеть, — уверенно сказал Круклис.
Огни засветили. Но прошло не менее часа, прежде чем из тумана, словно из-под воды, появился рыбачий баркас. Его увидели и услышали на самолете почти одновременно. Туман не только застилал все сплошной пеленой, но и глушил все звуки.
На баркасе было пятеро. Подплывали осторожно, будто самолет был заминирован.
— Стойте! Кто такие? — как было условлено, по-немецки окликнул неизвестных Круклис.
По обоим бортам баркаса зажглись два зеленых фонаря. Это тоже был условный знак.
— Мы рыбаки! — по-латышски ответили с баркаса.
— Что вам надо? — по-латышски спросил Круклис.
— Помогите нам сориентироваться. У нас сломался компас, — уже по-русски последовал ответ.
— Какое направление вам нужно?
— Зюйд-зюйд ост!
— Подгребайте, — так же по-русски ответил Круклис.
Командир экипажа, штурман и стрелок-радист с облегчением опустили автоматы. Баркас мягко бортом пришвартовался к самолету.
— Еле вас нашли, — негромко сказал один из рыбаков. — Всего два часа как начал сгущаться этот туман. Где товарищ Сергеев?
— Я, — назвал себя Круклис.
— Моя фамилия Тальцис. Перебирайтесь скорее. Самолету надо взлетать. Всего полчаса тому назад нас остановил немецкий сторожевой катер.
Круклис наскоро попрощался с членами экипажа самолета.
— Спасибо, товарищи. Счастливого возвращения!
— Вам тоже, — крепко пожали ему руку летчики.
Движок баркаса басовито загудел, баркас отвалил от самолета и скрылся в тумане. Потом над морем послышался гул самолета, и скоро снова стало все тихо.
— Первым делом, товарищ Сергеев, вы уже не Сергеев, а Заринь. Гунар Августович Заринь. И вот вам ваш аусвайс, — передал Круклису документ Тальцис. — Быстро переодевайтесь. Вы должны быть таким же, как все мы. А вашу одежду мы сейчас пустим на дно.
Тальцис подавал Круклису поочередно тельняшку, брезентовые брюки, куртку, бахилы, а его одежду складывал в мешок. Потом сунул туда же увесистый булыжник, завязал мешок и опустил его за борт.
— Вам разрешают рыбачить, товарищ Тальцис? — спросил Круклис.
— Зовите меня просто Вилис, — попросил Тальцис. — Да. В море выпускают только по специальным разрешениям. Если охрана поймает в море без разрешения — сразу топит.
— И у вас разрешение?
— Конечно. И вы в нем вписаны, товарищ Заринь, — добродушно усмехнулся Тальцис.
— И вас проверяли?
— Обязательно. Нас было шестеро. Настоящий Заринь вернулся на берег вплавь. А вам оставил все свое: и одежду, и документ. Теперь вы Гунар Заринь. И мы с моря снова вернемся вшестером, — объяснил Тальцис.
Круклис остался доволен действиями подпольщиков.
— Мы возвращаемся в Саулкрасты? — снова спросил он.
— Нет. Прямо в Ригу. У нас есть немного хорошей рыбы. И это наше главное оправдание, что мы занимались в море делом. Кроме того, в Риге ни вас, ни нас никто не знает. А в Саулкрастах вы чужой, — ответил Тальцис.
— Все понятно, — и это одобрил Круклис. — Ну а как вообще обстановка на берегу?
— С того дня, как Красная армия начала новое наступление, немцы как с ума сошли. Мечутся, орут, в Риге полно новых частей, все госпитали и больницы забиты ранеными. Вы выбрали очень удачный момент. Похоже, что им сейчас ни до кого и ни до чего, — рассказывал Тальцис.
«С одной стороны, может, это и так. А с другой, какие сведения добудешь в таком кавардаке?» — подумал Круклис. Однако предсказания Тальциса оказались не совсем точными. Со стороны моря неожиданно послышался шум. За кормой баркаса взлетела ракета, мутным пятном, расплываясь в тумане, вспыхнул луч прожектора, над водой пронзительно завыла сирена.
— Немцы, — негромко сказал кто-то из рыбаков.
— Тот сторожевик, который не заметил вас в тумане, — определил Тальцис. — Глушите движок. Включайте огни.
Гул движка смолк. На мачте засветилась красная лампочка. Сирена раздавалась все ближе, и скоро из тумана с шумом вылетел сторожевик. Он в недозволенной близости на полном ходу пронесся мимо баркаса и, развернувшись, пошел прямо на него. Прожектор ослепил рыбаков.
— Всем встать и не двигаться! — послышалась команда на немецком языке. — Почему находитесь в море?
— У нас разрешение господина коменданта! — размахивая какой-то бумажкой, крикнул в ответ Тальцис. — Нам приказано привезти к утру свежей рыбы.
Сторожевик вплотную подошел к баркасу, грубо толкнув его бортом. На баркас спрыгнули обер-боцман и матрос.
— Аусвайс! — потребовал обер-боцман.
Тальцис подал разрешение на выход в море. Немец, подсвечивая фонариком, прочитал его, проверил документы у рыбаков. В это время матрос осмотрел баркас. Не нашел ничего недозволенного, доложил.
— Вы что-нибудь слышали в море? — спросил обер-боцман.
— Нам показалось, что в стороне пролетал самолет, — ответил Тальцис.
— Когда это было?
— С полчаса тому назад, герр обер-боцман.
— В каком направлении?
Тальцис указал рукой в сторону моря.
— Немедленно возвращайтесь на берег! На сегодня всякий лов отменяется! — приказал обер-боцман.
Сторожевик отвалил от баркаса и, взбив за кормой бурун, понесся на поиски самолета.
— Значит, они его тоже засекли, — заметил Тальцис.
— Спасибо, что вы нас вовремя нашли. Все могло бы быть гораздо хуже, — пожал Тальцису руку Круклис.
У берега туман заметно просветлел. Да и небо на востоке тоже по всему горизонту побелело, будто отмылось. У входа в бухту снова попали в луч прожектора. И снова береговая охрана, подскочив на катере, проверила документы. И снова Тальцис объяснил, что они выполняют приказ господина коменданта. И снова, как показалось Круклису, на немцев сильнее всего подействовал вид нескольких крупных свежевыловленных рыбин.
Очевидно, сторожевые катера прогнали с рыбалки не только их. Еще несколько рыбачьих баркасов и лодок одновременно с ними подходили к бухте. Их также проверяли и досматривали.
— Тут такой порядок: каждому, кому давали разрешение на лов, надо явиться в комендатуру и отметиться. Но вы не пойдете. Вместо вас пойдет настоящий Заринь. А мы с вами задержимся здесь. Будем караулить улов, — предупредил Тальцис.
— Надежно проверяют, — заметил Круклис.
— Это они умеют, — согласился Тальцис. — Но даже у них это не всегда получается.
Рыбу выгрузили и рассортировали в корзины, переложив предварительно листьями крапивы. Четверо рыбаков ушли отмечаться в комендатуру. Тальцис и Круклис остались вдвоем. Тальцис что-то мурлыкал себе под нос. Круклис, сортируя оставшуюся мелочь, думал о том, насколько все зависит от случая и, как ни старайся, все предусмотреть тем не менее невозможно. Соберись этот проклятый туман, которого, кстати, никто не ожидал, чуть погуще, и друзья никогда бы их не нашли, а сторожевик с его мощным прожектором наверняка бы на них напоролся, и дело приняло бы совсем иной оборот.
Вскоре четверо вернулись.
— Гунар был? — негромко осведомился Тальцис.
— Полный порядок, — ответили ему.
— Тогда подождите меня, — сказал Тальцис Круклису и тоже направился в комендатуру.
Его прождали час. Но он не вернулся.
— Больше не будем ждать. Наверное, что-нибудь случилось. И надо скорей уходить, — сказал Круклису тот, который выглядел по возрасту старше всех.
— А как же Вилис? — спросил Круклис.
— Мы в первую очередь отвечаем за вас. Здесь все происходит очень быстро. Идемте, — ответил старший.
Все четверо подхватили на плечи по корзине, Круклису дали два больших круглых сака, и быстро пошли вдоль берега.
Добрались до построек, свернули в первый проулок, остановились за каменным забором и прислушались. Из-за забора с улицы доносился гул машин. По улице двигалась колонна с пехотой, орудиями, минометами, инженерной техникой.
— Из порта и прямо на фронт, — сказал старший.
— Почему так думаете? — спросил Круклис.
— Ночами, когда не действует авиация, они очень много войск подвозят по морю.
— Наше командование об этом знает?
— В порту работают наши люди. И донесения посылаются регулярно, — ответил старший.
Колонна прошла. Подняв на плечи корзины с уловом, группа двинулась по улице дальше. Уже совсем рассвело, и начался новый день. Группа двигалась в обход центра — по переулкам, через проходные дворы, по небольшим улочкам. Круклис узнавал и не узнавал свою Ригу. Разрушен было немного. И в то же время город казался полумертвым. Его не украшала даже зелень. На всем лежала ясно видимая печать запустения и придавленности. И всюду немцы, немцы, немцы: на автомашинах, на бронетранспортерах, на мотоциклах, на лошадях, в пешем строю. И все куда-то спешат, будто гонит их какая-то неведомая сила…
Во дворе одного из домов зашли в подъезд. Поднялись на третий этаж и постучали в массивную дверь. Открыла хозяйка. Зашли в квартиру. В коридоре всех встретил хозяин — уже немолодой, с сединой в усах, несмотря на ранний час, уже гладковыбритый и одетый в легкий спортивный костюм. Круклис видел его, как, впрочем, и остальных, впервые.
— С хорошим уловом, — дружелюбно улыбаясь, пожимая руки гостям, приветствовал он их. — Как прошла встреча?
— В море — полный порядок. На берегу пропал Тальцис. Пошел отмечаться в комендатуру и не вернулся, — ответил старший.
— Долго ждали?
— Час.
— Неприятно. Надо обязательно выяснить, в чем дело. Займись этим ты, Айварс, — сказал хозяин квартиры и подошел к Круклису. — С благополучным прибытием, товарищ. Моя фамилия Виксна. Устали?
Круклис пожал ему руку.
— Не беспокойтесь.
— Тогда прошу в мою комнату. А вам, товарищи, до выяснения того, что случилось с Тальцисом, рекомендую разойтись и домой не возвращаться. С тобой, Айварс, встретимся у меня в лавке в два часа, — сказал Виксна.
Четверо ушли.
— А вам надо еще раз переодеться да заодно поменять «профессию» и документы, — открывая большой платяной шкаф, сказал Виксна. — Слава богу, мы с вами одного роста и комплекции. Теперь вы будете скромным конторским служащим Вальдемаром Яновичем Бирзе. Выбирайте здесь все, что вам подойдет, идите в ванну, перекусим, и я вас уведу в другое место.
Круклис знал, что Виксна это не тот человек, с которым ему предстояло говорить о деле. И он обменялся с ним лишь парой общих фраз. Спросил в том числе и о том, что Виксна думает о Тальцисе. Что, по его мнению, с ним могло случиться.
— Случиться могло все что угодно. Время такое, — ответил Виксна. — Но я думаю, ничего страшного не произошло. Раз вы ждали час и вас не схватили, значит, никакой особой опасности нет. А он, скорее всего, попал в облаву. Теперь это случается часто. Но проверят документы и отпустят. Так уже не раз было…
Перекусили жареной рыбы, выпили по чашке эрзацкофе и вышли из дома.
А через час, поплутав по улицам, они зашли в кафе через черный ход. Здесь их встретил официант, провел через кухню в разделочную комнату и спустил на грузовом лифте в подвал. Тут в небольшой комнате на мешках с луком и картошкой сидели трое. Официант и Виксна сразу ушли. А те трое поднялись навстречу Круклису. И один из них, лет сорока, широкоскулый и коренастый Лаймонт Берсонс, улыбаясь, сказал:
— Рады вас видеть, товарищ Сергеев. Я почему-то был уверен в том, что это будете именно вы.
Круклис познакомился и с двумя другими подпольщиками. Берсонс был именно тем человеком, который был ему нужен. Он летел на встречу с ним.
— Скажите хоть пару слов: как там Москва? И чем мы можем помочь Красной армии, чтобы она поскорее выбила отсюда проклятых оккупантов? — попросил Берсонс.
Круклис, понимая, как это важно для подполья, рассказал многое такое, что непременно должно было поддержать мужественных бойцов, борющихся в тылу захватчиков.
— А помочь Красной армии вы можете. И очень существенно. За этой вашей помощью я сюда и прилетел. Нужно, товарищи, сделать все возможное и даже невозможное, но узнать, какую акцию, какими силами и когда замышляет небезызвестный вам «Русланд-Норд» в нашем, советском тылу? — закончил свою информацию Круклис.
Подпольщики молчали.
— Трудная задача? — внимательно оглядев всех троих, спросил Круклис. И сам ответил: — Очень трудная. Но не безнадежная. Попробую дать совет, с чего лучше всего начинать. Давайте прежде всего установим через всех своих людей, какие у нас есть и какие могут быть точки соприкосновения с этой организацией. Ведь кто-то и обшивает сотрудников «Русланд-Норда», и обувает, и кормит их, оказывает им десятки других услуг. Кто-то выполняет заказы этой организации на предприятиях, в мастерских и так далее. Нужно все это узнать, вскрыть и проанализировать тщательнейшим образом. А когда мы это будем знать, мы сможем найти путь, по которому получим и ту информацию, которая нас интересует больше всего и о которой я уже говорил как о задаче первейшего значения.
Глава 45
Грейфе был недалек от истины, когда обвинял «двадцать второго» в пассивности и в желании сухим выйти из воды, потихоньку самоустраниться от дел и незаметно затеряться в суете событий. Таким образом, не подвергая себя риску быть разоблаченным, пережить это смутное время, а когда ситуация окончательно прояснится, начать новую жизнь. Потому что «двадцать второй», он же Помазков, он же Свиридочкин, он же «Племянник» намного раньше своих высокопоставленных шефов не только с Беркаерштрассе, но и с Принц-Альбрехтштрассе, 8 понял, что дело давно проиграно. И только никак не мог уразуметь одного, почему его шефы не могут сообразить того же и вместо серьезных заданий, подрывающих крепость советского тыла, его монолитность, его колоссальные экономические резервы, заставляют его, «двадцать второго», заниматься абсолютной ерундой: фотографировать какие-то подворотни, скупать зачем-то старые театральные билеты и так далее?
«Двадцать второй» был родом из Поволжья. Проживал в Энгельсе. Баранова завербовала его еще в тридцать седьмом году. Он переселился в Подмосковье летом следующего года и с того времени постоянно жил здесь. Он беспрепятственно ездил в столицу и не чужими, а своими собственными глазами видел, как простые советские люди безоговорочно, как один, встали в трудную минуту на защиту своего родного города. Был момент в самой середине осени сорок первого года, когда ему, «двадцать второму», показалось, что вот-вот, еще одно усилие вермахта, и в москвичах что-то сломается. Но они не дрогнули, а выстояли и победили. И даже в то поистине критическое время «двадцать второй» никогда не видел на их лицах ни растерянности, ни страха. А позднее, когда грозный «Тайфун» окончательно обессилел и остатки наступавшей лавины покатились назад, москвичи и вовсе воспряли духом.
Потом был Сталинград, было великое сражение на Курской дуге, но ни один из хваленого люфтваффе уже не сумел даже приблизиться к городу, не то что сбросить на него бомбы. Но самое сильное, неизгладимое впечатление произвел на «двадцать второго» вид колонны военнопленных, прошедших по Москве 17 июля 1944 года. Пятьдесят семь тысяч шестьсот человек, по двадцать в ряд, во главе со своими генералами. «Двадцать второй», затерявшись в толпе москвичей, тоже наблюдал за этим бесславным маршем. Он смотрел на них и мало верил тому, что видел. Шли здоровые, крепкие, недавно вышедшие из боя солдаты и офицеры. Их сопровождал реденький конвой, по одному красноармейцу на сотню пленных, а то и на две. С тротуаров на них смотрели женщины, старики, дети, то есть те, кто не был в эти часы занят на работе. Шла колонна три часа. И за все это время не произошло ни единого, даже самого маленького инцидента, ни намека на какую-то попытку вырваться из плена, разоружить конвой и завладеть его оружием! Ведь среди этих пятидесяти семи тысяч наверняка были смелые люди, умелые солдаты…
«Двадцать второй» стоял в толпе больше часа. Но не сразу понял, что дело вовсе не в смелости, что эти пленные вояки думают не о свободе и победе, которой бредит фюрер, а о том же, о чем и он сам: как бы только уцелеть и где угодно пересидеть живым это страшное время. Но тут же он ощутил и разницу между их и собственным своим положением. Они, похоже, своего уже добились окончательно и бесповоротно. Им уже не угрожало ничто. Потому они и шли как на прогулке, не подталкиваемые в спину автоматами, не облаеваемые собаками. А ему еще приказывали выполнять одно задание за другим. У него даже мелькнула бредовая мысль: «Вот снять бы вместо подворотен эту вчерашнюю надежду и опору рейха, как они тут движутся своим ходом почти без охраны, да и отправить в Берлин. Вот это заставило бы кое-кого почесать затылки. А то какие-то подворотни…» Но именно о выполнении задания по фотографированию подворотен ему и следовало завтра же сообщить по цепочке своему начальству. И сегодня он не столько приехал поглазеть на гренадеров Буша и Моделя, сколько затем, чтобы заложить в тайник отснятую пленку. А пленные все шли и шли.
И «двадцать второй», вдоволь насмотревшись на них, отправился на Собачью площадку. Тут у фонтана стояла скамейка. А рядом с ней небольшая деревянная будка, в которой хранили метлы, совки и прочий дворницкий инвентарь. К задней стенке будки из земли подходили две водопроводные трубы. Одна была действующая, во время поливки улиц к ней крепился шланг. Другая давно уже не использовалась. Но прятать в нее небольшие контейнеры с пленкой было очень удобно. Из рабочей трубы всегда можно было напиться. Можно было вымыть руки, ботинки. И незаметно для окружающих вложить во вторую трубу маленький контейнер. «Двадцать второй» все так и сделал. И еще какое-то время посидел на скамейке и почитал газету. Он не знал, кто придет за пленкой. Ему было совершенно безразлично. И дело было даже не в инструкции, запрещавшей в категорической форме входить в контакты со своими, если это не обуславливалось приказом свыше. Он сам никого не желал знать потому, что не хотел, чтобы кто-нибудь из своих знал и его. «Двадцать второй» читал газету, но думал не о прочитанном. Его занимало совсем другое.
Завтра он должен выходить на связь. И не принимать, а передавать. Сообщать в центр о том, что родственницу в Москву вызвал, посылку подготовил и положил в условленное место, гостей будет ждать к себе домой. Передача, поскольку ее каждый раз требовалось дублировать, должна была занять минут пять-шесть. Но для пеленгации этого было вполне достаточно. Во всяком случае, можно было ни на минуту не сомневаться в том, что за это время его не только засекут, но и успеют кое-что предпринять для того, чтобы задержать. И вот это-то последнее опасение не давало «двадцать второму» возможности ни на чем сосредоточиться. Он чувствовал, что нервы его сдают, но ничего не мог поделать с собой. Работать с каждым месяцем становилось все труднее, а там, в Берлине, казалось, совершенно не желали с этим считаться. Ему давно уже не присылали из центра ни денег, ни аппаратуры. И то и другое он получал только от Барановой. Деньги она переводила ему по почте. А запасные лампы для рации два раза ему привозил какой-то малосимпатичный пожилой субъект. В разговоры пожилой субъект при этом, как правило, не вступал. Передавал, что было положено, спрашивал, не будет ли обратных поручений, и так же тихо убывал, как и появлялся. Но даже и его визиты были не по душе «двадцать второму». Ему давно уже казалось, что за ним следят. Да и трудно было не думать об этом. Шла война. Все мужчины его возраста были в армии. А он уже четвертый год отсиживался в тылу, продолжая служить снабженцем и отбиваясь от медицинских комиссий военкоматов хорошо придуманной и искусно разыгрываемой олигофренией. Болезнь «требовала» выполнения определенных правил поведения и даже образа жизни. «Двадцать второй» отлично их знал: был нелюдим, мрачноват, старался ото всех держаться подальше. А тут вдруг, откуда ни возьмись, какой-то посетитель.
Работа обеспечивала ему надежное прикрытие на случай всяких передвижений. Он мотался по Подмосковью, а зачастую и дальше, куда хотел. И совершенно не боялся никаких проверок ни на железных дорогах, ни на шоссейных. Но стоило ему выехать на очередной сеанс связи, и хладнокровие мигом покидало его. Потому что всякий раз при нем непременно была и радиоаппаратура.
Вот и завтра ему предстояло отстучать в эфир шифровку. И он думал, из какого района это можно было бы сделать безопаснее всего. В конце концов пришел к выводу, что, пожалуй, стоит остановиться на станции Трудовая Савеловской железной дороги. Там в лесу, на участке между Дмитровским шоссе и каналом Москва — Волга, им давно уже была сооружена и не раз использована надежная антенна. Район вокруг был малонаселенным. Даже грибники там встречались не часто. К тому же ему было нужно по делам службы побывать в Яхроме. А это почти рядом. Во всяком случае, по пути. И командировочное удостоверение, всякие накладные, заявки, которыми всегда был набит его портфель, могли бы и на сей раз объяснить его появление здесь.
Утром следующего дня «двадцать второй» был уже на перроне. Доехал на электричке до Москвы, добрался трамваями до Савеловского вокзала, купил билет до Яхромы и сел в последний вагон. Но до Яхромы не доехал и сошел с поезда, как ему и было нужно, на Трудовой. Знакомая тропа привела его в лес. «Двадцать второй» убедился, что за ним никто не наблюдает, и свернул к небольшому оврагу. Обошел его стороной и скрылся в чаще. Здесь он спрятал вещмешок с передатчиком под корнями вывороченной буреломом ели и пошел к своей антенне. Она была неподалеку. Но осторожность требовала, прежде чем подключиться к ней, все осмотреть и проверить. «Двадцать второй» так и сделал. Обошел вокруг могучего дуба, в ветвях которого была спрятана антенна. Трава у подножия лесного великана нигде не была примята. Значит, никто тут не ходил, ничего не искал и ничем не интересовался. «Двадцать второй» поднялся по сучкам на дерево. Антенна была на месте. Тогда «двадцать второй» быстро вернулся за передатчиком, подключил его к антенне и передал радиограмму. Она ушла в эфир. «Двадцать второй» выждал небольшую паузу и повторил передачу. И уже не мог совладать с собой от волнения и напряжения. У него дрожали ноги. Стучали, будто на морозе, зубы. С ним происходило что-то похожее на истерику. И хотя никакая видимая опасность ему не грозила, ноги сами уносили его от дуба подальше. Будто не он со своим передатчиком, а этот обхвата в два красавец был источником всех его страхов. Он засовывал передатчик в вещмешок уже на ходу. И на ходу затягивал и застегивал вещмешок трясущимися руками.
Первой мыслью его было скорее вернуться на станцию, сесть в поезд, возвратиться в Москву и там затеряться в толпе, в трамваях, в автобусах, в метро. Но уже по дороге он отказался от нее. Он не знал, когда на Трудовую подойдет поезд из Дмитрова. А ждать его там, находясь на одном месте, он просто не смог бы. Поэтому уже в лесу он свернул от станции в сторону и пошел к шоссе. Быстрая ходьба успокаивала. И он был рад тому, что мог сейчас идти, двигаться.
«Двадцать второй» затратил на возвращение к станции немногим больше получаса. И примерно столько же на дорогу к шоссе. Но и этот сравнительно короткий срок оказался для него роковым. Уже подходя к шоссе, «двадцать второй» услышал шум машин. Это его насторожило, и он выглянул на шоссе из-за куста. Навстречу ему из города двигалась колонна грузовиков с солдатами. Колонна шла по шоссе. А по обочине дороги медленно ехала машина с вращающейся антенной на крыше. «Пеленгатор!» — молнией мелькнула догадка в голове у «двадцать второго». Он осторожно опустил ветку куста. Но прежде чем она закрыла его от тех, кто ехал в колонне, он успел заметить, как с последней машины спрыгнули несколько солдат и цепочкой растянулись вдоль шоссе. Все остальное «двадцать второй» запомнил плохо. Он отпрянул за куст, развернулся и бросился назад в лес. Он так спешил, что не заметил наблюдавших за ним ребят, собиравших на опушке малину. Даже не слышал, как один из них с восхищением заметил:
— Во рванул! Наверно, забыл что-нибудь…
— Чего забыл? На поезд опаздывает, — ответил другой.
Впрочем, «двадцать второму» было совершенно не до них. Он сорвал на бегу с плеч вещмешок с передатчиком и забросил его в чапыжник. Он так спешил, что не сразу сообразил, куда бежит. Лишь отмахав с километр, вспомнил, что он не в тайге, что участок между железной дорогой, шоссе и каналом совсем невелик и что бежать по прямой долго просто невозможно. Но куда было сворачивать? Куда? Он уже ни на йоту не сомневался в том, что и пеленгатор, и солдаты очутились здесь с единственной целью — чтобы поймать его, и то страшное, чего он боялся больше всего на свете, вот-вот произойдет, ибо оно уже началось и его уже ищут. И надо бежать! Бежать, пока хватит сил! Но куда? В какую сторону? В полном смятении он выскочил на тропу, по которой лишь час назад спокойно шел от станции к знакомому дубу. И, как назло, наткнулся на женщин, шедших со станции. У него был такой всклокоченный и растерянный вид, что женщины невольно остановились и вопросительно уставились на него. А он, не зная, как оправдать в их глазах свое замешательство и не вызвать каких-либо подозрений, спросил:
— Поезд-то скоро?
— А вам куда? — последовал ответ.
— Да на Яхрому…
— А только что прошел…
— Эх, жди теперь, — раздосадованно махнул он рукой и направился к станции. И когда встреченные им женщины пропали из виду, подумал: «А ведь мне и надо к железной дороге. Перескочу через путь, а там лес до самой Волги! Ищи в нем меня! Выставляй кордоны!»
Но ему и тут не повезло. Он и к железной дороге опоздал, вышел из леса правее станции. И сразу увидел на путях солдата. А метрах в двухстах от него второго. И понял, что и в этом направлении ему уже не пройти. И что для него оставался один путь — к каналу. И он, как затравленный зверь, побежал обратно.
На берегу канала оцепления не было видно. Сам канал лежал серьезной преградой на пути «двадцать второго». Преодолеть его вплавь нечего было и думать. В одежде он никогда бы не добрался до противоположного берега. А вылезти на том берегу в одних трусах значило бы сразу же вызвать к себе всеобщее внимание. Да и куда потом в таком виде можно было бы идти дальше? От отчаяния и чувства полной собственной беспомощности у «двадцать второго» ком к горлу подступил. И тут он вдруг увидел выплывавшую из-за мысочка лодку, в которой сидел парнишка. Он бросился к лодке и закричал:
— Эй! Дорогой! Давай сюда!
Парнишка услышал его, но спокойно продолжал делать свое дело.
— Да что ж ты, не слышишь, что ли? — взмолился «двадцать второй».
— А чего надо? — деловито осведомился парнишка.
— Перевези на ту сторону!
— Не могу, дяденька. Времени нет, — ответил юный рыбак.
— Да ведь тут дела-то пять минут! А я тебе заплачу! Хорошо заплачу! — пообещал «двадцать второй».
— А сколько дашь? — заинтересовался парнишка.
— Да сколько скажешь!
— Тридцатник дашь?
— Сто дам! Сто! Только давай быстрее!
— А не обманешь?
— Да что ты, право! Мне ведь вот так нужно! Давай скорее! — уговаривал «двадцать второй».
Парнишка смотал удочку и снова взялся за весла. Лодка быстро поплыла к берегу. «Двадцать второй» даже не дал ей уткнуться в песок, оттолкнул обратно и уже на ходу забрался сам.
— Давай-ка я сам на весла сяду. Так скорее будет! — предложил он.
Но парнишка чего-то испугался.
— Не, дядь, я сам. Я быстро, — ответил он.
И действительно, ловко развернув лодку, сделал несколько сильных гребков. «Двадцать второй» тяжело опустился на скамейку, зачерпнул ладонью воды и умыл лицо. В ушах у него тяжелым уханьем отдавались удары сердца, но плеск воды, ее свежесть, прохладный, тянувший над водой ветерок начали оказывать на него свое благотворное действие. Он уже стал спокойней дышать и, казалось, вот-вот начнет успокаиваться. Но тут до слуха его вдруг донесся гул работающего мотора. «Двадцать второй» даже не сразу сообразил, откуда этому гулу взяться тут, среди водной глади. А когда понял, что это, очевидно, катер, ему тотчас снова стало не по себе. «Двадцать второй» даже застонал. А катер между тем, не сбавляя хода, несся прямо на лодку. Рупор разнес над каналом громкую команду:
— Остановитесь на месте!
Парнишка сразу поднял весла. Катер описал возле лодки полукруг и начал подходить к ней бортом. На катере были трое милиционеров: капитан, лейтенант и старший сержант.
— Кто такие? — спросил капитан.
— Я местный, вон из деревни, — сказал парнишка и указал на темнеющие на взгорке крыши домов. — Витькой меня зовут. А фамилия Малов. Он попросил перевезти. А мне что, жалко?
— А вы, гражданин? — перевел взгляд на «двадцать второго» капитан.
— А я из Москвы, — ответил «двадцать второй».
— Прошу предъявить документы, — попросил капитан.
И тут «двадцать второй», к великому ужасу, вспомнил, что все его документы: и паспорт, и все прочие справки, и заявки, и командировочное удостоверение остались в вещмешке.
— А вы знаете, у меня, к сожалению, с собой ничего нет, — ответил он.
— Как же вы так, без документов? — удивился капитан.
— Да так вот, знаете, поехал покупаться и забыл все дома, — оправдывался «двадцать второй».
— В таком случае придется вас задержать до выяснения личности, — сказал капитан. — Прошу перейти на борт катера.
«Двадцать второй», переступая нетвердыми ногами, перешагнул с лодки на катер. Старший сержант тотчас же развернул катер и, с места дав полный ход, погнал его в отделение милиции.
А вскоре туда же доставили мальчиков, собиравших малину, женщин, которых «двадцать второй» встретил в лесу, и принесли его вещмешок с передатчиком и документами. Из Москвы приехал подполковник Доронин. «Двадцать второму» устроили очную ставку сначала с мальчишками, потом с женщинами. И те и другие сразу же его опознали и дали показания, где и при каких обстоятельствах видели его в лесу. Причем мальчишки клялись в том, что у дяденьки за спиной был мешок. А женщины упорно повторяли, что никакого мешка у него не было.
— Все правильно. Спасибо за помощь, — поблагодарил свидетелей Доронин и отпустил их. — А вам, — обратился он к «двадцать второму», — рекомендую с самого начала говорить правду и только правду. А чтобы заранее рассеять у вас всякие иллюзии насчет того, что вам все же может удастся в чем-то нас обмануть, хочу показать вот это.
Сказав, Доронин достал из папки фоторобот «Племянника» и протянул ему. «Двадцать второй» похолодел. Он не только сразу же узнал себя, но и поразился необычайному сходству.
— Мы давно вас знаем и давно за вами наблюдаем. Так что наша сегодняшняя встреча далеко не случайна, — продолжал Доронин. — Вот почему еще раз советую вам чистосердечно во всем признаться.
«Идиот! Почему не пришел к ним сам? Почему? Ведь все давно уже проиграно. И разве не это подтвердили всем своим видом те, кого вчера провели по Москве? — подумал “двадцать второй”. — А что я им расскажу? Что я знаю? Кем я был? Так, пешкой. Пешкой и полным идиотом!»
В город, на площадь Дзержинского, «двадцать второго» привезли на легковой машине. Заехали во двор здания. И когда проезжали под аркой, «двадцать второй» почему-то вспомнил черную кошку, которая так напугала его в квартире Барановой. «Такой верной примете не поверил! — с горечью подумал он. — Но ничего! Кое-что я все-таки знаю. И все выложу на допросе. Все! До последней буквы! И пусть мне зачтется хоть что-нибудь…»
Глава 46
Подполье предложило Круклису несколько дней не покидать конспиративной квартиры Виксны. Круклис вынужден был отнестись к этому предложению как к приказу. Но потребовал, чтобы связной приходил к нему каждый день и информировал его обо всем, что творилось в городе, а также о том, как выполняются его задания. Таким связным стал Тальцис. После встречи Круклиса он действительно был задержан, двое суток просидел в комендатуре, но за неимением улик был выпущен.
После покушения на Гитлера оккупационный режим в Риге значительно ужесточился. Закрылись некоторые увеселительные учреждения, но рынок остался. И Виксна, державший там рыбную лавку, пропадал на нем целыми днями. Это было в интересах подполья. А Тальцис, работая у него скупщиком, целыми днями мотался по всему городу, по всем рыбачьим пристаням. И это тоже очень было нужно подполью, потому что он все видел, все слышал, мог встретиться, с кем надо, и передать, что требовалось. Но в эти дни стало трудно работать и ему. В городе шли повальные облавы. Гестапо выискивало крамолу. Тальцис боялся ненароком навести на квартиру Виксны ищеек и сказал об этом Круклису.
— Очень опасно. Очень. Я не буду ходить к вам каждый день. Мы за вас, товарищ Сергеев, головой отвечаем.
Круклис в ответ невольно улыбнулся. Ему была понятна озабоченность рижских товарищей, и в то же время он совершенно не мог согласиться с доводами своего связного.
— Во-первых, дорогой Вилис, мы все прежде всего отвечаем за дело, которое нам поручили. А во-вторых, любая опасность — это совсем не повод для того, чтобы прекратить работу. Летчики, которые доставили меня сюда, рисковали в сто раз больше, чем мы с вами. Они точно летели к черту в зубы. Скажите, Вилис, кто-нибудь там, за линией фронта, или здесь мог дать им хоть маленькую гарантию в том, что они в этом проклятом тумане не сядут прямо на палубу немецкого сторожевика или какой-нибудь другой посудины, еще пострашней? Не мог! И тем не менее они и секунды не раздумывали, садиться им на воду или нет. А вы говорите — опасность. Да если бы ее не было, разве я прилетел бы сюда? Разве я понадобился бы тут?
Связной молчал. Он лишь выполнял указания своего руководства. Уж он-то рисковал больше всех. А секретарь подпольного комитета партии прямо сказал, что товарищу Сергееву должна быть оказана самая всесторонняя поддержка. И рижские рыбаки оберегали его.
— Конечно, мы не могли предвидеть, что они сами попытаются убрать своего бесноватого фюрера, — продолжал Круклис. — И не могли предполагать, что обстановка вот так значительно усложнится. Но передай Лаймонту, что я не имею возможности сидеть у моря и ждать погоды.
— Хорошо, товарищ Сергеев. Я понял ваше указание, — ответил тогда Тальцис.
Однако на следующий день он не появился. А через день неожиданно рано пришел сам Береонс.
— Ну как вы тут, дорогой товарищ Сергеев? — крепко пожимая Круклису руку, обеспокоенно спросил он.
— Великолепно! — всплеснул руками Круклис. — Лучше не придумаешь! Если начальство узнает, как я тут проводил время, оно справедливо запишет, что отпуск за сорок четвертый год я полностью отгулял.
— Ну, зачем такой сердитый юмор, товарищ Сергеев? Работа уже началась. Я как раз принес первую деловую информацию, — добродушно улыбнулся Берсонс. — Вы знаете, все получилось, как в пословице: на ловца и зверь бежит.
— Вот как? Все равно не одобряю такой пассивный метод охоты, — все еще недовольно ответил Круклис. — Но уж раз прибежал так прибежал. И что же за зверь?
— Вчера у меня была встреча с одним нашим товарищем. Он работает сейчас в пошивочном ателье. Такой же хозяин, как и я. Так вот, он сообщил, что к нему уже второй раз приходит человек с запиской от самого штурмбаннфюрера Краусса. И уже второй раз делает срочный заказ на пошив кожаного пальто. И при этом не совсем обычного, — рассказал Берсонс.
— От самого Краусса? — внимательно выслушав сообщение, переспросил Круклис.
— Именно. От самого начальника «Русланд-Норда». Вот она, — сказал Берсонс и из подкладки шляпы вынул вчетверо сложенный листок бумаги.
Круклис развернул ее. На ней по-латышски на машинке было напечатано следующее: «Хозяину ателье. Примите заказ и срочно изготовьте кожаное пальто из материала заказчика по указанному им фасону и дополнительным его требованиям. Оплата будет произведена немедленно. Штурмбаннфюрер Краусс». И дата: «03 марта 1944 г.».
— Так, сам начальник «Русланд-Норда» печется о каком-то клиенте. Любопытно, — вернул записку Берсонсу Круклис. — И вы говорите, что это делается уже второй раз?
— Да. По этой записке, как вы видите, шили первый раз, в марте. А два дня тому назад тот же человек пришел в ателье с аналогичной запиской снова. Мы сравнили тексты — полное совпадение. Только дата, естественно, другая. Я принес старую. А то вдруг новую они захотят забрать, — объяснил Берсонс.
— Правильно сделали, — одобрил Круклис. — А кто этот человек, на которого шьют?
— По описанию хозяина, это какой-то русский. Надо полагать, предатель. Ни имени, ни адреса своего он не называл. Но это можно узнать.
— Нужно. И обязательно, дорогой Берсонс. Что о нем известно еще?
— Они договорились, что он зайдет на примерку через три дня.
— Прекрасно. Охрана с ним была?
— Наш товарищ сказал, что он никакого сопровождения не заметил. Тот появился неожиданно, приехал на машине и уехал.
— Что за машина? Номер удалось записать?
— Об этом я не спрашивал, — признался Берсонс.
Круклис, как он это делал у себя в кабинете, прошелся по комнате.
— Русский клиент, опекаемый самим Крауссом. Это очень интересно и очень важно, — в раздумье проговорил он. — Я непременно, дорогой Берсонс, должен сам поговорить с хозяином ателье и посмотреть на этого столь опекаемого клиента.
— Он придет к вам сегодня же, — сказал Берсонс.
— Благодарю, Берсонс. Я и так слишком засиделся на месте. Я сам зайду к нему и попрошу перелицевать вот этот старый шевиотовый костюм. Кстати, это и будет паролем. Я спрошу хозяина: «Нельзя ли у вас перелицевать мой старый костюм?». — Круклис подпорол подкладку у пиджака и отстриг от задела шва на шевиоте небольшой кусочек. Отстриг не просто, а с особым вырезом, и передал этот кусочек Берсонсу. — Вручите его хозяину. Он возьмет пиджак, приставит кусочек на место, убедится в том, что я именно тот заказчик, которого он ждет, и скажет: «Мы охотно перелицуем ваш костюм».
— Может, мне проще проводить вас к нему? — предложил Берсонс.
— Зачем? Чтобы нас видели вместе? — вопросом на вопрос ответил Круклис. — Документы у меня в порядке. Ригу я знаю. Это далеко?
— Десять минут ходьбы отсюда.
— Тем более. Давайте адрес и предупредите хозяина, что я буду у него ровно в пятнадцать.
Берсонс улыбнулся.
— По какому времени? У нас тут берлинское, местное и московское, — заметил он.
— Конечно, по местному, — уточнил Круклис. — И давайте сверим часы.
Хозяин ателье произвел на Круклиса хорошее впечатление. Он был уже немолод, немногословен, почтителен и предусмотрителен. В ателье кроме Круклиса пришли еще несколько заказчиков. Поэтому хозяин первым делом опросил каждого:
— Что у вас?
И услышав просьбу Круклиса, спокойно сказал:
— С перелицовкой в последнюю очередь. Прошу подождать, почитать газеты. Последние берлинские новости.
Лишь когда все заказчики ушли, они обменялись паролем и отзывом по всем правилам, и хозяин, померив на Круклисе пиджак, предложил:
— Я боюсь, что после перелицовки он будет вам мал. Может быть, лучше сшить новый? Я могу предложить вам недорогой, вполне приличный материал. Хотите взглянуть?
Круклис согласился, и они прошли по длинному коридору в кабинет хозяина. Тут на манекене висело уже готовое к примерке кожаное пальто.
— Негромко можно разговаривать совершенно свободно. Здесь нас никто не слышит, — разрешил хозяин.
— Вы уверены? — усомнился Круклис.
— Да. Дверь в коридор закрыта, а других помещений тут нет.
— А всевозможные подслушивающие устройства?
— Как их можно поставить незаметно? Днем в ателье я. А по ночам его охраняют члены моей семьи, — объяснил хозяин.
— Предусмотрительно. Очень хорошо, — похвалил Круклис. — Так чем же второе пальто будет отличаться от первого?
— Первое было почти такое же. Но в этот раз клиент попросил сделать еще свободнее правый рукав и подшить в нем подкладку только до локтя, — объяснил хозяин ателье.
— Как предполагаете, чем это может быть вызвано? — спросил Круклис.
— Вероятно, в рукав что-то прячется. Возможно, пистолет. Возможно, граната. Возможно, еще что-нибудь. Но во всех случаях такое, что должно легко и свободно оттуда извлекаться. В первый раз в этом, очевидно, нужды не было. А сейчас появилась. Потому он и попросил расширить рукав и довести подкладку только до локтя, чтобы и она не мешала. Другого объяснения у меня нет, — высказал свое предположение хозяин.
Круклис согласно кивнул головой.
— Наверное, так оно и есть на самом деле. Вы не заметили, на какой машине приезжал этот заказчик?
— На синем «вандерере». Номер «АУФ 362–43». Но номера они часто меняют.
— Водитель в военном, в гражданском?
— В гражданском.
— Нельзя ли узнать: водитель немец или из местных? И если из местных, то кто он? — снова спросил Круклис.
Хозяин ателье на минуту задумался.
— Наверное, можно. Я поручу это своей дочери. Она очень хорошо умеет с ними разговаривать, — ответил он.
— Но это не главное. Основное — узнать, где проживает и кто такой сам заказчик.
— Сначала все выясним о водителе, — ответил хозяин.
— Мне сказали, что заказчик русский.
— Да. Во всяком случае, он не прибалт и очень скверно говорит по-немецки, — ответил хозяин.
— Он обещал прийти на примерку в четверг. Я мог бы его увидеть?
— Думаю, что это возможно. Он ни от кого не прятался. И пришел сюда, когда тут были другие заказчики. Мы сразу узнали друг друга, и я тотчас же пригласил его в свой кабинет.
Они говорили больше получаса. И все это время Круклиса не оставляло ощущение, что когда-то он уже встречался с этим человеком. Все ему казалось знакомым: голос, лицо, манеры. Но достоверно человека могут выдать только глаза. А вот тут Круклис мог поклясться, что в глаза друг другу они не смотрели никогда. Но почему? На этот вопрос Круклис ответить не мог. Хотя был абсолютно уверен в том, что и хозяин ателье узнал его. Выяснить это надо было непременно.
— Так что мне делать? — спросил Круклис.
— Я советую вам принести сюда какую-нибудь старую вещь, которую мы тут же при вас будем ремонтировать. Это может тянуться целый день, — предложил хозяин.
— Разумно. Благодарю, — ответил Круклис. — И последний вопрос: скажите, где мы с вами встречались?
Круклис спросил и пристально посмотрел на хозяина ателье. Но у того ни один мускул не дрогнул на лице. Он был самой невозмутимостью. Он лишь взглянул на дверь кабинета, будто ждал кого-то, и все тем же спокойным тоном ответил:
— В поезде.
— В каком? Маршрут следования?
— Тогда ходил такой экспресс — «Трансконтиненталь: Лиссабон — Мадрид — Париж — Берлин — Варшава — Рига». Вас безжалостно трепала лихорадка…
— И вы доставали мне новейшие лекарства, — четко вспомнил все Круклис.
— Вас тогда звали Максом Зейдлицем…
«Двадцать седьмой год…» — всплыло в памяти Круклиса. Расследование антисоветской деятельности крупного шпионско-диверсионного подпольного центра привело тогда его во Францию и Германию. Под фамилией Зейдлица Круклис работал в Париже, Берлине и ряде других городов Европы. Задание он выполнил успешно. Все необходимые данные передал в Москву. Можно было уже возвращаться домой. И тут его свалил тяжелейший приступ лихорадки. Круклиса доставили в лечебницу. И надо же было так случиться, что сюда же привезли для осмотра проституток. Одна из них, белоэмигрантка, опознала Круклиса. И он ее узнал. И успел сказать об этом приятелю. Из лечебницы срочно пришлось уходить. А из Парижа бежать. С величайшим трудом его усадили в экспресс, идущий до Риги. Тут-то Круклис и встретился со своим боевым другом по Гражданской войне Арнольдом Салтынем. Салтынь и его напарник, которого Круклис в полубреду даже не успел разглядеть, спасли его от жандармских ищеек и довезли почти до Риги. Но в городе Круклису появляться было нельзя. Ночью на лесном перегоне он выпрыгнул на ходу из экспресса и с тех пор больше не видел своих чудесных спасителей.
— Как вы стали хозяином этого заведения? — спросил Круклис.
— За сутки до прихода немцев меня вызвал наш второй секретарь райкома товарищ Салтынь, вручил мне тысячу долларов и дал задание обзавестись каким-нибудь частным делом. Уже в октябре сорок первого года я купил у магистрата это ателье, — ответил хозяин.
— Я даже не знаю, как вас зовут…
— Витольд. Витольд Валейнис. Это мое настоящее имя, товарищ.
— Спасибо, Витольд, — крепко пожал хозяину руку Круклис. — До четверга.
Неожиданная встреча взволновала Круклиса. Он никогда не забывал о том, что кроме Салтыня был обязан за свое спасение в поезде кому-то еще. Но кому именно, так и не смог узнать все последующие годы. Но не забывал о нем никогда. И лучшим доказательством этому стало то, что он, несмотря ни на что, почти сразу же узнал Валейниса. Он душой почувствовал, что это тот самый бесстрашный проводник, который помог ему в трудную минуту. И только предусмотрительная осторожность не позволила Круклису сказать об этом Валейнису сразу.
В четверг, как и условились, Круклис пришел в ателье к самому его открытию. Синего «вандерера» у входа не было. «Значит, не опоздал», — справедливо решил Круклис и зашел в примерочную. Дальше все происходило так, как и задумал Валейнис. С Круклиса сняли пиджак, на него надели какую-то пижаму и предложили подождать за газетным столиком. Однако ждать пришлось почти до вечера. И лишь перед самым закрытием к бровке тротуара у входа в ателье плавно припарковался синий лимузин. Из него вышли двое — мужчина и женщина и сразу прошли в ателье. Круклис увидел их через окно еще на улице. Успел разглядеть и номер машины. Все совпало. Но почему приехали вдвоем? И кто была эта женщина? Они зашли в примерочную, и мужчина громко спросил:
— А где хозяин?
Валейнис тотчас появился из-за портьеры.
— К вашим услугам, господа, — с поклоном ответил он.
— Время поджимает, — щелкнул по наручным часам мужчина.
— У нас все готово, господа. Мы ждем вас, — все так же гостеприимно ответил Валейнис. При этом он подошел к заказчику так, что тот был вынужден повернуться к нему. И Круклис имел возможность полностью рассмотреть мужчину. Повернулась лицом к окну и женщина. И ее тоже хоть и бегло, но рассмотрел Круклис. Конечно, в тот момент он не знал, что этим двоим уготована участь главных действующих лиц в предстоящей акции. Что это Политов и Шилова. Но то, что по крайней мере один из них, а именно тот, кому шили кожаное пальто, будет иметь к ней какое-то отношение, это показалось Круклису вполне возможным.
Пара вслед за Валейнисом проследовала в его кабинет. А в примерочную вышла высокая, очень интересная девушка в фартуке, какие поверх платья носят портные, с электрическим утюгом в руке и быстро выбежала на улицу. Круклис через окно видел, как она подошла к «вандереру» и заговорила с водителем. Потом водитель вылез из машины, взял у девушки утюг и что-то стал в нем налаживать. При этом они все время оживленно говорили. Круклис вспомнил о намерении Валейниса узнать необходимые сведения о водителе через дочь и понял, что лучшего варианта для этого даже трудно было бы представить себе. Минут через десять заказчик и его спутница еще раз прошли мимо Круклиса. Валейнис провожал их до дверей. На прощание поклонился и пообещал к следующему четвергу полностью закончить пошив.
— Хорошо, — ответил заказчик.
— Если господа оставят свой адрес, заказ доставят вам на дом, — предложил Валейнис.
— Я приеду за ним сам. Готовую вещь тоже надо померить, — сказал мужчина.
Они вышли из ателье, сели в машину и уехали. А дочь Валейниса вернулась в примерочную. Валейнис запер входную дверь.
— Ну что, дочка? — спросил он.
— Он немец, папа. И я, кажется, ему понравилась, — ответила девушка.
— Тебе это всегда кажется, — усмехнулся Валейнис.
— Правда, папа. Он пригласил меня в кино.
— В какое? В городе все закрыто…
— Он сказал, что у них есть зал при солдатском казино.
— Ты согласилась?
— Я сказала, что подумаю. Я хотела посоветоваться с тобой.
Валейнис вопросительно посмотрел на Круклиса.
— Думаю, что такую возможность не следует упускать, — высказал свое мнение Круклис.
— Как он узнает о твоем решении? — спросил дочь Валейнис.
— Он сказал, что через десять минут вернется сюда. Дочинит утюг, и мы еще поговорим.
— Через десять минут? Значит, в один конец всего пять минут езды? Конечный пункт где-то совсем неподалеку? Надо сказать Лаймонту, чтобы завтра же с утра под наблюдение были взяты все ближайшие перекрестки. Где-нибудь да обнаружится этот синий лимузин, — сказал Круклис.
— Дзидра сегодня же предупредит его об этом, — ответил Валейнис.
Круклис вернулся на квартиру Виксны и допоздна занимался тем, что по памяти составлял письменные портреты заказчика пальто и его спутницы.
Через два дня стало точно известно, что заказчик проживает в «Эксельсиоре». Фамилию его установить не удалось. Ни он, ни его спутница ни в каких книгах не регистрировались, нигде не расписывались и даже не расплачивались. Но зато удалось проследить, что каждый день синий «вандерер» подвозит их к воротам, возле которых круглосуточно маячит эсэсовец с автоматом. Занялись объектом за воротами. Вспомнили, что до войны тут размещалась небольшая механическая мастерская, в которой чинили велосипеды, детские коляски, могли сварить ограду для могилы, калитку для забора. Соседи утверждали, что и теперь в помещении мастерской то и дело слышатся удары железа и вспыхивает голубоватый свет электросварки. Вполне возможно было предположить, что немцы оставили мастерскую в том виде, в каком она была, и использовали ее теперь для каких-то своих секретных целей. Но вставал вопрос: что было делать здесь среди всякого железного хлама жильцам одной из лучших гостиниц города? Тем более не только мужчине, но и женщине? Ведь не ради компании приезжала она сюда на несколько часов ежедневно? Попробовали получить дополнительные сведения о том, что делается за железными воротами с охраной. Но оказалось, что это не так-то просто. Среди рабочего персонала мастерской или того, что там размещалось на самом деле, не было ни одного местного жителя. Там работали только немцы: как военные, так и гражданские. Причем военные, как правило, носили черную эсэсовскую форму. Они приезжали сюда на машинах, долго не задерживались и уезжали. Наблюдавший за воротами мастерской Тальцис заметил, что водитель синего «вандерера», пока ждет своих пассажиров, охотно общается с водителями других машин, такими же, как и он, немцами. Они вместе курят, что-то оживленно обсуждают. Все это давало возможность предположить, что они давно друг с другом знакомы и служат, вероятно, в одном подразделении, а само это подразделение как-то связано с ведомством Краусса. Однако дальше этих наблюдений и предположений дело не пошло, и Круклис решил устроить небольшое совещание с тем, чтобы посоветоваться и наметить путь, как разгадывать загадку дальше.
Глава 47
Уже на первом допросе «двадцать второй» дал очень важные показания. В том числе назвал и свое настоящее имя и фамилию. Рассказал всю свою не очень богатую биографию, а также подробно о том, как познакомился и был завербован Барановой. О том, что это была ее четвертая фамилия, он не имел ни малейшего представления, хотя и предполагал, что она скрывает от него не только это, но и многое другое.
На первом же допросе «двадцать второй» раскрыл содержание всех переданных им донесений и полученных от центра заданий. Рассказал и о системе определения времени выхода на связь. Он не пытался скрывать ничего, подробно отвечал на все вопросы и был серьезно обеспокоен только одним — зачтутся ли ему его чистосердечные признания. Он понимал, что за совершенные против советской власти преступления его как немецкого шпиона ждет суровое наказание. И он готов понести любое. Но высшую меру… О господи! Он готов рассказать и сделать все, что от него потребуется, лишь бы следственные органы сочли возможным не приговаривать его к ней. Ведь, в сущности, он никого не убивал, не выдавал никаких военных тайн, он их даже не добывал. А те мелкие задания, которые он получал от своих шефов, неужели они заслуживают такой суровой кары?
— Вы совершили самое тяжкое преступление перед Родиной. Вы изменили ей и стали на путь прислужничества ее врагу. На смягчение меры наказания себе вы можете надеяться только при добровольном оказании помощи следствию в полном раскрытии всех преступлений, совершенных как лично вами, так и вашими сообщниками, — неизменно отвечали ему.
— Конечно, конечно, — с готовностью соглашался «двадцать второй».
— О фотографиях каких объектов шла речь в радиограмме, посланной вам центром в сентябре минувшего года? — продолжал допрос следователь.
— Во всех радиограммах шла речь только о фотографиях некоторых ворот зданий и дворов на улице Арбат, гражданин следователь, — ответил «двадцать второй».
— Кто, когда и с какой целью фотографировал эти ворота и дворы?
— Мне известно, гражданин следователь, что еще летом сорокового года Баранова начала подробно изучать дома и дворы на Арбате. Она знакомилась с ними и тайно фотографировала их портативным фотоаппаратом, вмонтированным в зажигалку. С какой целью это делалось, мне неизвестно, — ответил «двадцать второй».
— А откуда вам известно о фотографировании?
— Я сам присутствовал во время этих съемок. Мы гуляли с ней по улице, заходили в магазины, останавливались там, где ей было надо, я предлагал ей папиросу, она прикуривала от зажигалки и таким образом фотографировала то, что считала нужным.
— Что делала она с этими фотографиями потом?
— Это мне неизвестно. Но думаю…
— Что?
— Что не делала ничего. Или, вернее, не сделала ничего, — поправился «двадцать второй».
— Почему?
— Потому что в самом конце сентября сорокового года я сам закладывал по просьбе Барановой уже готовые фотографии в тайник в ее новой квартире на Арбате.
— А вы не допускаете мысли, что это были уже вторые, а возможно, и третьи экземпляры?
— Об этом судить не берусь. Но то, что она не отправляла фотографии в Берлин, — это мне известно точно. Иначе я, как радист при Барановой, сообщил бы о готовой посылке в центр. Ибо только после моих радиограмм за посылкой прибывал тот, кто переправлял ее дальше, — ответил «двадцать второй». Но о чем-то подумав, добавил: — Не делал я этого и потом, вплоть до сентября сорок третьего года, когда получил неожиданно приказ выяснить, были ли сделаны эти фотографии и где они находятся.
И далее «двадцать второй» рассказал, как дважды ходил на квартиру Барановой, как оба раза его постигла полная неудача, как он долго ждал от Барановой с оказией ее зажигалку-фотоаппарат и наконец получив его, сделал нужные снимки, заложил пленку в тайник и сообщил об этом в центр.
Услышав о тайнике, следователь тотчас же прервал допрос. На Собачью площадку немедленно выехали люди. Тайник нашли. Не обнаружив себя, устроили засаду. Прождали двое суток. А потом, когда все же решили убедиться в наличии в нем контейнера, оказалось, что тайник пуст. Следователь сразу же заподозрил неладное и на очередном допросе сказал об этом «двадцать второму». «Двадцать второй» от страха, что ему не верят, даже начал заикаться.
— Я говорю правду. Поверьте мне: чистую правду, — бормотал он, умоляюще глядя на следователя. — Я закладывал пленку в неработающую трубу…
— Когда же ее оттуда успели изъять? — прищурившись, спросил следователь.
— Не знаю… Ведь сколько времени прошло…
— А может быть, вы закладывали ее в другой тайник? Вспомните!
— В этот, гражданин следователь. В трубу! В нее самую! Другими тайниками я никогда не пользовался. И, если хотите, я это докажу.
— Чем?
— Из центра должно поступить подтверждение о том, что посылка получена.
— Когда?
«Двадцать второй» быстро записал на листке бумаги рабочую и запасную волны, на которых принимала указания центра его рация.
— Я ждал от них сообщений по четным числам в первой половине дня. По нечетным — во второй, — сказал он. — Подтверждение через сутки дублируется. Подтверждение я не давал.
— Этого мало, — заметил присутствовавший на допросе Доронин. — И не очень убедительно. Они подтвердят, что получили пленку. А нам нужно подтверждение того, что для передачи был использован тайник на Собачьей площадке. Улавливаете разницу?
«Двадцать второй» совсем растерялся.
— Но я действительно использовал только этот тайник, — упавшим голосом проговорил он.
Доронин и следователь переглянулись.
— Вы знакомы со связным, который берет из тайника ваши посылки? — спросил Доронин.
— Никогда его в глаза не видел, — поклялся «двадцать второй».
— А с тем, кто передал вам фотоаппарат от Барановой?
— Того видел. И неоднократно.
— Опишите его.
«Двадцать второй» составил довольно подробный словесный портрет связного.
— Он не может оказаться одним и тем же лицом? — спросил следователь.
«Двадцать второй» неопределенно пожал плечами.
— А как ваш связной поддерживает контакт с Барановой? — спросил Доронин.
И на этот вопрос «двадцать второй» не смог дать ответа.
— Хорошо, — примирительно сказал Доронин. — Мы сами разберемся, насколько правдивы ваши показания. Мы составим текст сообщения о том, что вами подготовлена вторая посылка, а вы передадите это донесение в центр.
— Я все сделаю, как вы скажете, — с готовностью согласился «двадцать второй». — Но придется подождать срока выхода на связь.
— Подождем, — понял Доронин. — А теперь скажите, где Баранова?
И снова на лице у «двадцать второго» появилось выражение растерянности.
— Я не знаю, где она в данный момент.
— Но вы же получили от нее фотоаппарат, — напомнил Доронин.
— Мне передал его связной. А где она сама, мне неизвестно…
— Какая между вами установлена связь?
— Когда Баранова была в Ташкенте, мы обменивались телеграммами и изредка переговаривались по телефону. В начале марта я передал ей указание вернуться в Москву. После этого ко мне три раза приходил от нее связной. Спрашивал, что мне надо. Но где она — не сообщал, — объяснил «двадцать второй».
«Старая лиса не доверяет даже своему радисту, — подумал о Барановой Доронин. — Ну да теперь все равно никуда не денется. Не радист, так связной наведет на ее след».
— А если он придет четвертый раз и не застанет вас дома, что тогда? — спросил он.
— Тогда он оставит в потайном месте ключ.
— Какой ключ? От чего?
— Обыкновенный ключ от замка. Просто знак, что он был и станет заходить каждый день в три часа дня.
— Где это потайное место?
«Двадцать второй» снова взял ручку, нарисовал окно, наличник, указал место тайника.
Обыск на квартире у «двадцать второго» предусмотрительно пока не делали. Не хотели ненароком спугнуть тех, кто был с ним на связи. Теперь кое-что прояснилось. И сотрудники отдела уже вечером побывали в Софрине и проверили тайник за наличником. Ключ был уже там. За домом установили наблюдение. На следующий день в три пополудни возле крыльца появился пожилой человек, небритый, в темно-синем прорезиненном плаще, с портфелем в руках. Он поднялся на крыльцо, постучал в дверь, убедился, что в доме никого нет, спустился по ступенькам вниз, огляделся по сторонам, быстро подошел к угловому окну и сунул за наличник руку. В этот момент его сфотографировали. А пока он шел от дома к калитке, сфотографировали еще несколько раз. Пожилой мужчина пришел на станцию и сел в пригородный поезд, направляющийся в Москву. Два сотрудника отдела сели следом за ним в тот же вагон. Они проводили его до дома в Трубниковском переулке. Здесь пожилой мужчина зашел в парадное и скрылся за дверью. А сотрудники: один отошел во двор напротив двери, а второй поспешил в отдел, в фотолабораторию, проявлять только что отснятую пленку и печатать фотографии небритого связного.
На следующем допросе фотографии показали «двадцать второму».
— Узнаете?
— Он самый. Он всегда вот такой заросший, будто только проснулся, — сразу опознал связного «двадцать второй».
Фотографии отвезли в отделение милиции и показали участковому милиционеру.
— Знаю. Давно знаю. Инвалид еще с Гражданской. Живет один. Получает пенсию, — сообщил участковый. — А что, в чем-нибудь замешан?
— Пока неясно. Но говорить о том, что мы им интересуемся, категорически нельзя никому, — предупредили участкового.
На следующий день связной снова побывал в Софрино. Задержать его не составляло труда. Но не было никакой уверенности в том, что он знает, где Баранова. Больше того, существовало опасение, что Баранова вполне могла держать этого связного под постоянным контролем. И пропади он из поля ее зрения, она, заподозрив неладное, тут же запутает свои следы так, что их потом и за год не распутаешь. Но было крайне важно узнать и то, зачем связной ищет встречи с «двадцать вторым». Поэтому сделали так. «Двадцать второго» детально проинструктировали, привезли домой, а в доме устроили засаду. В тот же день, в начале четвертого, в дверь дома в Софрине постучали. «Двадцать второй», отодвинув занавеску, выглянул в окно и сделал связному знак: заходи. Связной вошел в дом. Он действительно был уже немолодым. Возраст подтверждали и голос, и манера говорить: глуховато, медленно, вполсилы.
Поздоровались.
— Третий раз уже к вам приезжаю, — будто жалуясь, проговорил связной.
— Командировка по работе. Обстоятельства заставляют, — объяснил ситуацию «двадцать второй».
— А она-то торопит. Ей квартиру подавай, — сказал связной.
— Да разве она уже здесь?
— Это нам неизвестно. Наше дело письмом ей сообщить.
— Да писать-то куда будешь? — так, чтобы слышали сотрудники отдела, продолжал расспрашивать «двадцать второй».
— А то вы не знаете, куда я пишу…
— Так она что, еще с места не сдвинулась?
— Точно не знаю. Но, наверное, сдвинулась. За письмом другой человек придет. Я другую фамилию пишу, — ответил связной.
— Тогда сообщи, что квартира для нее готова. У родственницы моей остановится. В проезде Соломенной Сторожки. Трамвай тот же — двадцать девятый. Она знает. Родственницу я уже предупредил. Когда будешь писать?
— Сегодня и отправлю.
— Ну, тогда все, — подвел итог «двадцать второй».
Связной потоптался на месте и виновато спросил:
— Деньгами меня не поддержите?
— Я ж тебе недавно давал…
— Так ведь дорого все. Разве уложишься…
— А ты не шикуй. Времена, сам понимаешь, не для этого.
— Как не понять? Семнадцатого на улице весь день простоял. Насмотрелся… Глаза бы не глядели.
— Ну, это, надо думать, дело временное, — попытался взбодрить связного «двадцать второй». — Будет еще и на нашей улице праздник.
— Оно конечно, — вздохнул связной. — Так как с деньгами-то?
— Много не дам. Сам на голодном пайке сижу, — недовольным тоном ответил «двадцать второй».
После этого он вытащил ящик из стола, высыпал из него ножи, вилки и ложки, отвинтил планку и поднял дно. Достал пачку сторублевок, отсчитал десять штук и протянул их связному.
— Это все, — сказал он. — Недели на две я опять уеду. Так что меня не будет.
Связной убрал деньги в карман, прошамкал что-то в ответ и вышел на улицу.
С этой минуты с него не спускали глаз. Надо было во что бы то ни стало узнать, как и через кого он общается с Барановой. А в квартире у «двадцать второго» провели обыск. Теперь это уже было нужно. Но прежде спросили:
— Оружие у вас есть?
— Имеется. Пистолет ТТ. И две пачки патронов к нему, — сообщил «двадцать второй» и поспешил добавить: — Но я никогда его не брал и вообще до него не дотрагивался.
— Сами покажете, где он?
— Конечно. Под печкой. Там вынимаются два кирпича.
Слазили под печку. Достали пистолет и патроны.
— Еще оружие есть?
— Нет. И никогда не было. И это-то я брать не хотел. Зачем оно мне? Я радист.
— Ладно. Проверим. Где радиоаппаратура?
— Передатчик у вас. Приемник — под полом, в подвале.
Открыли подвал.
— Одну минуточку, — попросил «двадцать второй». — Ключик необходимо взять.
Ему разрешили. Он слазил под печку в другой тайничок и достал ключ, каким открывают сейфы.
Спустились по лесенке под пол. Тут, за дверью, завешанной разным тряпьем и заставленной корзинами с овощами, оказалась уютная чистая комната с электрическим светом. В ней стоял столик, на котором лежали листы разлинованной бумаги и карандаши. Рядом со столиком стояло кресло и небольшой сундук. Сундук открыли. В нем лежали книги.
— Что за книги? — спросили «двадцать второго».
— Так, разные. Художественная литература, по садоводству, для вас ничего в них интересного нет. Отодвиньте сундучок в сторону, пожалуйста, — попросил «двадцать второй».
Сундук отодвинули. Под ним обнаружили крышку люка. Открыли ее. В люке помещался металлический ящик с сейфовым замком. «Двадцать второй» открыл его. Из ящика извлекли портативный приемник повышенной избирательности, запасные радиолампы, другие детали, кодовые таблицы, шифры, самые разнообразные средства тайнописи, фотоаапарат-зажигалку и пленку к нему. Тут же были и специальные химикаты для проявления пленки.
— Это все? — спросили «двадцать второго».
— Абсолютно все. Прошу учесть: все указал добровольно, — попросил «двадцать второй».
— Учтем. Что и где спрятано еще?
— Я все показал. Деньги видели. Оружие сдал. Остальное было в подвале. Доверьте мне.
«Двадцать второго» увезли. В доме и на участке провели самый тщательный обыск. Проверили щупами и миноискателями. Но ничего действительно не обнаружили.
В Москве тем временем следили за каждым шагом связного. Он вернулся к себе на Трубниковский, часа три просидел дома и уже вечером снова вышел на улицу. Прошел переулками до Патриарших прудов и тут опустил в ящик письмо. После этого он снова вернулся домой. А утром на третьи сутки к окошечку, где выдавалась корреспонденция на букву «Т», прихрамывая подошел человек в форме железнодорожника и протянул свой паспорт. Работница взяла паспорт, нашла письмо на имя Трушина и вручила его адресату. Тот, забрав письмо, ушел. А работница Главпочтамта зафиксировала сведения о его прописке. Трушин проживал в Костроме на улице Власьевской. Родился он в городе Галиче Костромской области в 1884 году. До этим данным в отделе уже через два часа знали, что Трушин лицо фактическое, паспорт у него не фиктивный. Он работает проводником в поезде Москва — Кострома и в данный момент находится в рейсе. Позвонили на вокзал. Получили справку. Поезд на Кострому ушел сорок минут назад. Можно было предполагать, что письмо связного тоже уехало с ним. Но было не ясно: в каком пункте по пути следования до Костромы Трушин передаст его Барановой? И будет ли вообще передавать его непосредственно ей самой? Учитывая это, решили Трушина с поезда не снимать, в пути не задерживать, а дать возможность добраться до дома. Сделали это только для того, чтобы не вызвать у Барановой никаких подозрений, потому что арестовывать ее на этом этапе было еще рано. О ней нужно было получить как можно больше информации. Но, разумеется, так, чтобы она даже не подозревала, что ее персоной уже давно занимаются серьезнейшим образом.
Самым близкостоящим к Барановой связным, по данным, которыми на тот момент располагал отдел, был Трушин. Работу с ним поручили Медведеву. Для этого майора немедленно перебросили из Ташкента в Кострому.
Чтобы Медведева побыстрее ввести в куре всех последних событий, из Москвы к нему на несколько дней послали Петренко.
Параллельно продолжалась работа с «двадцать вторым».
— В сентябре прошлого года вас видели возле дома Барановой в военной форме. А при обыске в вашем доме ее не обнаружили. Где она? — спросили его на очередном допросе.
— Есть форма. Цела. Хранится у родственницы, — ответил «двадцать второй».
— У какой родственницы?
— У той самой, которая проживает в проезде Соломенной Сторожки.
— Почему вы храните ее там?
— А где же мне было в нее переодеваться? Дома? Меня бы обязательно увидел в ней кто-нибудь из соседей. А это сразу бы вызвало всякие подозрения. А в Москве кому до меня есть дело?
— Где вы взяли форму?
— Все купил на толкучке.
— А документы, подтверждающие, что вы офицер? Где они? И где вы взяли их?
— И все документы тоже у родственницы. Мне их в начале сорок третьего года прислала Баранова.
— Какое участие принимала во враждебных Советскому государству делах ваша родственница?
— Абсолютно никакое. Она по старости лет ничего уже не понимает и только ждет, когда я к ней заеду и привезу какие-нибудь продукты и деньги.
— Что еще вы храните у родственницы?
— Ничего.
Обыск у родственницы делать не стали. И опять исключительно из-за Барановой. Ведь ей предстояло там поселиться. А разговоры о том, что квартиру недавно обыскивали, обязательно дошли бы до нее.
— Зачем вам понадобились билеты в Большой театр?
— Получил из центра задание собрать все имеющиеся образцы.
— Для чего?
— Мне это неизвестно, — ответил «двадцать второй» и посетовал: — Мне вообще никогда не объясняли «зачем». Мне только приказывали.
Между тем приближался срок выхода «двадцать второго» на связь со своим центром. К этому времени была собрана вся необходимая информация о связном, который приходил к нему в дом в Софрине и передавал поручения Барановой. Доронин изучал документы, собранные в заведенное на «двадцать второго» дело, и невольно отдавал должное хватке и сноровистости Барановой. Целиком и полностью ее заслугой было повторное вовлечение в активную антисоветскую деятельность этого человека, который уже однажды выступал с оружием в руках против советской власти. Да, Степин В.С. на самом деле был инвалидом Гражданской войны. Но до того как им стать, был унтер-офицером старой русской армии. Всю Первую мировую войну прослужил в тылу и принимал участие в подавлении народных выступлений. Революцию встретил враждебно. Во время Гражданской войны воевал на стороне белых в Поволжье. Когда Доронину стала известна эта деталь из биографии связного, он сразу вспомнил подполковника Судзиловского, первого мужа Барановой. Поднял в архиве собранные им по делу Судзиловского материалы и к удовлетворению своему обнаружил, что оба они, и подполковник, и унтер-офицер, служили в одних и тех же частях и учреждениях. И вполне могло быть, что Степин служил у Судзиловского денщиком. По крайней мере осуждены они были одним и тем же Сызраньским губернским судом и приговорены: подполковник как заклятый враг советской власти к расстрелу, а унтер-офицер, как личность хоть и злобствующая против трудового народа, но подчиненная, малограмотная да еще раненая, — к длительному сроку заключения. Отбыв наказание, Степин вернулся к жене в Москву. Тут его прошлого никто не знал. Он устроился истопником в котельной дома, в котором жил. Людям на глаза показывался редко, в разговоры о былом старался не вступать. После смерти жены остался один, со временем выхлопотал у гуманного Советского государства пенсию. Когда и как разыскала его Баранова, Доронин, естественно, узнать не мог. Но то, что в один прекрасный день она заявилась к нему в гости и вновь уговорила или принудила взяться за старое — в этом Доронин не сомневался нисколько. Но кто был вторым связным, который брал контейнеры из тайника в трубе и которого, как утверждал «двадцать второй», он никогда в глаза не видел, оставалось неясным. И именно с этой целью задумывался сеанс связи «двадцать второго» с центром. Впрочем, неясен был не только сам связной. Не менее важно было выяснить, каким образом он получал задания от центра вовремя забрать из тайника посылку.
Предположений на этот счет в отделе было много. Но требовалось все знать совершенно точно.
Если бы не график, по которому выходил на связь «двадцать второй», Доронин уже давно бы отправил в его центр нужную дезинформацию. И первой причиной его торопливости было то, что весь отдел с нетерпением ждал возвращения Круклиса. И всем хотелось к его появлению в Москве сделать как можно больше. Потому что все были абсолютно уверены в том, что полковник вернется не с пустыми руками, что он привезет и выложит на стол нечто очень важное. И что-то такое же важное для того дела, которое они делают сообща, должны подготовить и они, его подчиненные, его ученики.
Доронин составил текст радиограммы и понес его на утверждение Ефремову. Генерал завизировал текст.
— Будьте предельно осторожны. Помните, ваша задача лишь встать на след связного. Брать его будем потом, — напутствовал он Доронина.
— Так все и рассчитано, товарищ генерал, — заверил Ефремова Доронин.
Текст зашифровали по методу и таблицам «двадцать второго» и дали ему проверить. Он не нашел ошибок. Потом посадили его в машину и приказали сделать снимки ворот и дворов, которые он не снимал раньше. Это было оговорено в тексте радиограммы, рассчитано на то, чтобы поставить центр перед необходимостью выбора, а следовательно, дополнительных запросов и оживления работы канала связи и навязать ему таким образом свою волю. Съемку объектов «двадцать второй» производил своим портативным аппаратом-зажигалкой. Пленку проявили. Качество негатива получилось превосходным. Проявленную пленку заложили в патрон от ТТ, отсыпав из него немного пороху, и снова закрыли пулей. В таком виде ее после радиосообщения в центр опустили в тайник на Собачьей площадке. Но за сутки перед этим, как это делалось и раньше, «двадцать второго» вывезли на старое кладбище в Переделкино. Передатчик подключили к антенне. Включили контрольную аппаратуру.
— Не вздумайте добавить что-нибудь свое. Один лишний знак, и вам будет предъявлено обвинение в умышленном срыве операции. И тогда закон неумолимо покарает вас со всей строгостью, — предупредил Доронин.
— Я все понимаю. И все сделаю так, как надо. Я ведь еще ни разу не пытался вводить вас в заблуждение, — заверил Доронина «двадцать второй».
Он передал сообщение так, как этого требовали контрразведчики. И, сделав небольшой интервал, повторил передачу. После этого его снова увезли в следственный изолятор. А за тайником на Собачьей площадке установили круглосуточное наблюдение. И вот тут открылось вдруг совершенно неожиданное. Патрон с пленкой забрал из тайника в первую же ночь… Степин.
Когда Доронину сообщили об этом, он чуть не рассмеялся.
— Конечно! Он же и живет в двух шагах от тайника! Его и не заподозришь ни в чем — вышел погулять. Ну, Баранова! Ну, пройдоха! Вот придумала… Да, но кому и как гражданин Степин будет передавать эту посылочку? Надеюсь, сам-то он с такой оказией в Берлин не ездит?
Глава 48
Собрались в подвале кафе Берсонса. Пришли Тальцис, Валейнис, Круклис и еще трое незнакомых Круклису парней.
— Вы не беспокойтесь, это очень надежные люди, — представил хозяин Круклису парней.
— А чего мне беспокоиться? Я очень рад познакомиться с настоящими патриотами, — пожимая парням руки, ответил Круклис. — Еще кто-нибудь придет?
— Нет. Все тут.
— Тогда позвольте мне сказать пару слов, — попросил Круклис.
Возражений, естественно, не последовало.
— Я почему-то, товарищи, совершенно уверен в том, что мы напали на нужный нам след. Эти русские — он и она, это кожаное пальто точно такого же покроя, какие носят у нас, этот второй карман слева и широкий рукав — ей-богу, это все готовится к нам за линию фронта, — без тени сомнения сказал Круклис. И вздохнул: — И все-таки это только предположение. А нужны доказательства! И только неопровержимые!
— Мы тоже думаем об этом, — сказал Берсонс. — Но проникнуть в мастерскую практически невозможно.
— Кто занимался этим вопросом? — спросил Круклис.
— Вот они, — указал на парней Берсонс.
— Почему именно они?
— Потому что один из них, Альфон, работал в этой мастерской до войны. Он знает там все щели.
Парень с бородкой, как у шкиперов парусного флота, по имени Альфон, встал.
— Вы пробовали проникнуть туда? — спросил Круклис.
— Да. Но ничего не вышло.
— Почему?
— Они заложили все окна кирпичом с трех сторон до высоты четвертого этажа. Туда не только не заберешься, но и ничего не увидишь из соседних зданий, — объяснил Альфон.
— Плохо!
— Мы думаем, что можно сделать еще, — сказал Берсонс.
— Если вы так уверены, что эти двое русских будут переброшены через линию фронта, можно их уничтожить, — предложил Тальцис.
— Конечно, можно. А толку? Этих убьете, они других пошлют, — ответил Круклис.
— Но тех еще надо подготовить, — заметил Тальцис.
— Верно. Но почему вы думаете, что Краусс готовит только этих двоих? Нет, пока это не выход из положения. Вот если бы мы точно знали, что именно они будут главными действующими лицами, тогда еще можно было бы принять твое предложение, Вилис.
— Значит, будем еще думать, — сказал Берсонс.
— Послушай, Витольд, Дзидра встречалась с водителем этого русского? — спросил Валейниса Круклис.
— Да. Они уже два раза ходили на танцы.
— Ну и что он за человек, этот водитель?
— Она говорит, что он из тех болванов, которые на сто процентов верят в победу Германии.
— Победу! — усмехнулся Круклис. — А ему не кажется, что не сегодня завтра им придется уматывать из Риги ко всем чертям собачьим?
— Он говорит, что это временные неудачи.
— Действительно идиот.
— Но я думаю, пусть танцуют. Может, все же о чем-нибудь проговорится, — сказал Валейнис.
Круклис безнадежно махнул рукой.
— Такая дубина вряд ли что и знает. А вот у меня возник вопрос…
Присутствующие сразу насторожились.
— Немцы, работающие в этой мастерской, где живут?
Вопрос прозвучал неожиданно. Но не застал врасплох Тальциса.
— В разных местах живут.
— Интересовался?
— Было.
— Для чего?
— На всякий случай.
— Правильно. Так где же?
— Одни в гостиницах. Другие на частных квартирах.
— Почему так? Всем мест в гостиницах не хватает?
— На квартирах живут те, кого на машинах возят. А к гостинице для всех прочих автобус подают, — объяснил Тальцис.
— Значит, Вилис, и это самое важное: на частных квартирах живет начальство! — поднял кверху палец Круклис. — А оно наверняка знает то, что нам нужно. И если вы утверждаете, что нам самим в эту мастерскую не попасть никогда, значит, у нас выход только один: захватить кого-нибудь из этих начальников. Как это сделать? Сейчас будем думать. Но, повторяю, другого выхода у нас нет.
На какое-то время в подвале воцарилась тишина. Лица людей были сосредоточенны и даже угрюмы. Такого делать еще не приходилось.
— Я знаю только два дома, в которых живут эти немцы, — сказал Тальцис.
— Вполне достаточно. Что за дома? — сразу заинтересовался Круклис.
Тальцис обрисовал оба здания.
— Я думаю, то, которое в переулке и к которому примыкает другая пятиэтажка, нам подойдет больше, — остановил свой выбор Круклис. — На каком этаже он живет?
— Этого я не знаю, — признался Тальцис. — Мы ведь думали, если чего — так сделаем это на дороге.
— Стукнуть можно, конечно, и на дороге, — согласился Круклис. — Но захватывать «языка» на городской улице, да еще не имея надежной машины, — не получится. Значит, первое задание: узнать, где расположена квартира, что выше, что ниже? Кто живет в доме еще? Как пройти к квартире через чердак? И как попасть на чердак этого дома через чердак соседнего? Понятно?
— Понятно, — ответил за всех Берсонс.
— Сколько на это потребуется времени?
— Дня три…
— Много. Хватит двух. Кто будет участвовать в операции?
— Можем все.
— Не сомневаюсь. Но нужны четверо. Двое будут брать. Один внизу сторожить. Еще один на последней площадке. Я пятый, — подсчитал Круклис.
— Тогда Альфон, Андрис, ты, Вилис, и еще одного подберем, — заверил Берсонс.
Круклис посмотрел на парней. Были они крепкими, рослыми, производили самое надежное впечатление. Но Круклис их видел впервые. И потому спросил:
— Не хочу вас обидеть, товарищи, но, может быть, кто-нибудь не готов к выполнению этого задания?
— У нас военная дисциплина, — заметил Берсонс.
— И все же…
— Вы в нас не сомневайтесь, — сказал Тальцис.
— Тогда за дело. Ты, Вилис, будешь информировать меня каждый день, — предупредил Круклис. — И последнее. Если операция пройдет удачно, в тот же день мы все пятеро должны покинуть Ригу. Считаю, что лучше всего нам уйти к партизанам. Хорошо бы к Салтыню.
— Это можно. Мы успеем связаться с кем надо. Завтра вам скажут, когда и где вас будет ждать связной из отряда, — ответил Берсонс.
Вечером следующего дня Тальцис пришел на квартиру Виксны. Информация его была короткой, но конкретной.
— Немец проживает на четвертом этаже. На площадке еще две квартиры. Лифт работает. В вестибюле — консьержка. Сидит только днем. В восемь уходит. Дверь запирается на ключ. Жильцы ее открывают сами. Чердак забит. Но мы его откроем, — сообщил он.
— Все? — выжидающе посмотрел на него Круклис.
— А что еще?
— Маловато.
— Да нет, вроде все…
— А номер квартиры?
— Седьмая.
— А кто там хозяева?
— Старуха, немка.
— Вот видишь! Одна?
— Был муж. Были сын с женой. Муж умер в сорок втором. Сын с женой уехали в Германию. Недавно невестка вернулась. Сейчас они там вдвоем.
— Очень некстати, — что-то обдумывая, покачал головой Круклис. — Фамилию немца узнал?
— Зинкель. Зовут Куртом.
— Черт принес эту невестку, — выругался Круклис и прошелся по комнате. — Мне так хотелось поговорить с этим Зинкелем в уютной домашней обстановке. Но две свидетельницы!
— Да они такие же змеи, как и он. Вся семейка у них такая. В сорок первом своих с хлебом-солью встречали! — загорячился Тальцис. — Да мы их…
Он недоговорил.
— Не только их, но и Зинкеля надо оставить целехоньким, — предупредил Круклис.
— А если он ничего не скажет?
— Не скажет — другое дело. Но лучше до этого не доводить. Это не в наших интересах, — заметил Круклис. — Ну а что собой представляет соседняя пятиэтажка?
— Дом победнее. Лифта нет. На каждой площадке по шесть квартир. Входная дверь открыта постоянно. Чердак тоже был открыт. В доме есть черный ход, выходящий во двор. Дверь открыта. Но заходить в дом лучше с переулка. Во дворе небольшой скверик, и в нем часто кто-нибудь отдыхает, — объяснил Тальцис.
— Хорошо. А как чердаки соединяются?
— Никак. Глухая стена между ними.
— Прекрасно! — так и сел Круклис. — Вот это сюрприз! Да нам же обязательно соединить их нужно. Иначе мы вообще не сможем ничего сделать.
— Завтра пробьем ход, — пообещал Тальцис.
— Никаких ударов! Ни в коем случае! — сразу же запротестовал Круклис. — Удары обязательно услышат жильцы.
— Тогда выломаем по одному кирпичу.
— Как угодно: выламывайте, вырезайте, выскребайте! Но чтобы это ни у кого не вызвало ни малейшего подозрения. Ты понял?
— Понял.
— Когда закончите работу?
— Завтра все будет сделано, — пообещал Тальцис.
— Хорошо. Как со связным от партизан?
— Послезавтра начиная с восьми вечера в течение недели нас будет ждать человек на пригородной станции Сигулда.
— Как мы туда доберемся?
— Скорее всего, городским автобусом. Сядем за углом и прямо до места, — ответил Тальцис.
— Мы с одной остановки. Альфон и Андрис пусть садятся на другой.
— Так оно и получится.
— Куда от Сигулды?
— Я думаю, дальше поедем поездом. До Валги.
— Как ты опознаешь связного?
— Завтра доложу, — пообещал Тальцис.
— Ладно. Буду ждать твоего сообщения, — сказал Круклис и пожал Тальцису руку.
Спустя сутки Тальцис снова появился с докладом.
— Проход готов, — сообщил он.
— Вас никто не видел?
— Может, и видели, да не обращали внимания. Альфон для отвода глаз чистил на крыше трубы, а мы с Андрисом делали свое дело. А когда началась бомбежка железнодорожного узла, тут вообще можно было весь дом расколотить, — объяснил Тальцис.
— Бомбежка — это хорошо, — согласился Круклис. — Вот бы и завтра шарахнули как следует. Ну а как же нам все-таки не прозевать этого Зинкеля?
— Я думаю, мы с Андрисом возьмем на себя лифт. Он электрик, в этом деле разбирается. Вот мы и займемся профилактикой. И доставим вам этого Зинкеля прямо наверх, — предложил свой план Тальцис.
Круклису это понравилось.
— Неплохо. Вы в лифте. А мы, значит, уже наверху?
— Конечно.
— Совсем неплохо. А как же консьержка?
— А что она? Сама нам и откроет. Покажем ей бумагу. У нас есть чистые бланки со штампом комендатуры. Заполним. И приступим.
— Кстати, о бумаге, обязательно захватите парочку чистых листов, ручку с чернилами и карманный фонарик, — предупредил Круклис. — И давай уточним все подробности: кто где стоит, что слышит, что делает, куда идет.
— А можно один вопрос?
— Конечно.
— Но мне не разрешали.
— Какая ерунда. Спрашивай что вздумается.
— Вы латыш?
— Я? — опешил Круклис. И на момент задумавшись, вдруг расхохотался. — Мы же все время говорим по-русски! Мы земляки, Вилис. Я родился тут. Отсюда в Гражданскую войну ушел в Красную армию. Изъездил полсвета. И, как видишь, снова здесь. Потому что каждого кулика тянет в свое болото. И особенно, когда можно помочь из болота выгнать чертей.
Тальцис за все время их знакомства впервые улыбнулся.
— А если я расскажу об этом ребятам? — спросил он.
— А какой же в этом может быть секрет?
— Они за вас голову положат.
— Ну, Вилис, все мы дети одной большой Родины. И если потребуется, за нее положим головы. Ты это, наверное, хотел сказать? Поэтому давай-ка вернемся к нашим делам: кто где будет стоять и так далее.
В этот вечер они разработали и обговорили план всей операции до мелочей.
На следующий день Круклис вышел из дома в шесть часов вечера. Дошел до переулка, в котором стоял нужный дом. По пути видел две колонны мотопехоты. Они двигались по улицам со стороны порта. Немцы стягивали на фронт все новые и новые резервы. Особенно много везли противотанковых орудий. В обеих колоннах Круклис насчитал их более сорока.
На углу переулка его встретил Альфон. Вынырнул откуда-то, будто из-под земли, держа под мышкой ящик с инструментами, и, мельком обменявшись взглядом, пошел вперед. Круклис поспешил за ним. Зашли во двор. Вот и скверик, о котором говорил Тальцис. И действительно, две старушки на скамейке. Прошли мимо них, не оглядываясь и не оборачиваясь, как обычно ходят, когда точно знают, куда надо идти. Без происшествий поднялись на пятый этаж. Квартиры остались внизу. Отсюда бесшумно проскочили еще два пролета и скрылись за дверью чердака. Постояли, послушали, не увязался ли кто-нибудь следом. И, ничего не услышав, закрыли дверь, плотно подперев ее со стороны чердака колом. Альфон действовал так уверенно, будто бывал тут десятки раз. Очутившись в темноте, он включил фонарик и пошел вперед. Вот и пролом. Небольшой. Но на четвереньках пролезть было можно. Так и сделали. Прошли через второй чердак и остановились у приоткрытой двери. Тут их ждал еще один товарищ. С лестницы раздавались тяжелые шаги. Кто-то поднимался вверх. Дошел до пятого этажа, ворча что-то под нос, открыл дверь и с шумом её захлопнул. Так повторялось несколько раз. Жильцы под вечер собирались домой. Около девяти хождение по лестнице и хлопанье дверями прекратилось. Только снизу слышались негромкие удары о что-то железное. Это Тальцис и Андрис изображали ремонт.
— Теперь уже недолго, — шепотом предупредил Альфон.
— Дождемся, — так же шепотом ответил Круклис.
Прошло еще с полчаса, и внизу снова хлопнула дверь.
И сразу послышался чей-то сердитый голос. Слов разобрать было нельзя. Но интонация явно выражала недовольство. Можно было уловить и то, что кто-то говорил по-немецки. Ему что-то отвечали. Судя по всему, это говорил Андрис. Трое наверху замерли в напряжении, боясь пропустить что-нибудь очень важное. Вдруг послышался лязг металлической двери, и на чердаке загудела машина подъемника. Лифт с пассажиром и «ремонтниками» пошел вверх. В тот же момент Альфон перекусил саперными ножницами главный телефонный кабель. Дом сразу же остался без связи.
— Пошли, — прошептал Альфон, быстро вышел на чердачную площадку и, как на лыжах, скатился на пятый этаж. За ним, не отставая ни на шаг, спустился новый товарищ. Круклис остался на площадке перед чердаком.
Вариантов захвата Зинкеля было предусмотрено несколько. Все они были рассчитаны на то или иное его поведение. Но ни Круклис, ни его напарники не знали, какой же из них придется осуществить. А в кабине лифта между тем произошло следующее. Зинкелю сразу не понравилось то, что лифт стоит и ему придется подниматься на четвертый этаж пешком. Сам ремонт, судя по всему, не вызвал у него никакого подозрения. И он тут же довольно грубо выразил свое возмущение слесарями, которые ни черта не умеют делать, только все портят и копаются часами там, где можно все отремонтировать за пять минут.
Оба «слесаря» молча выслушали замечания. А потом Андрис извинился и сказал, что, если господин не возражает, они поднимут его без внутренней дверцы кабины на пятый этаж. А оттуда он спустится. Зинкель не возражал. Вошел в кабину и так же грубо оттолкнул ногой сумку Андриса с инструментами, которая стояла на полу. Тальцис захлопнул наружную дверь лифта, углубил деревянным бруском контакты, Андрис нажал кнопку с цифрой «пять», и лифт двинулся вверх. Молча миновали второй этаж. И тут Андрис вытащил пистолет, приставил его к груди немца и негромко сказал:
— Если ты, сволочь, пикнешь, — пристрелю на месте.
Зинкель ошалело вытаращил на него глаза.
— Что? — как бык проревел он, наливаясь кровью. — Что такое?..
В следующий момент он получил такой тумак ногой ниже пояса, что мгновенно задохнулся и обмяк. Андрису пришлось тут же подхватить его под руку. В таком положении, судорожно хватающего ртом воздух, Зинкеля доставили на площадку пятого этажа. Здесь его уже ждали, взяли под руку с другой стороны и затащили на чердак. На площадке перед чердаком остался Тальцис.
На чердаке Зинкелю связали руки, отвели подальше от двери, усадили на дымоход и как следует обыскали. У него изъяли пистолет, документы, деньги, письма. Деньги Круклис сунул ему обратно в карман. Документы просмотрел. Внимание его привлекли небольшая черная книжечка, удостоверяющая принадлежность Зинкеля к какой-то эсэсовской организации, и членский билет национал-социалиста. В графе даты вступления стоял 1940 год. Это был год вершины мощи рейха и национал-социализма. И обыватель, одурманенный и воодушевленный успехами вермахта, валил в наци, что называется, валом. Знать это было важно. Такие данные давали основание предполагать, что Зинкель вступил в партию, поддавшись общему порыву, а возможно, и за компанию с каким-нибудь таким же, как он, материально вполне обеспеченным технарем, что он вовсе не идейный фашист и тем более не фанатик, забродивший на пивной пене в одном из нюрнбергских кабаков в начале двадцатых годов.
А коль все это так и было на самом деле, то можно было надеяться на то, что погибать за идею и за фюрера тут, на чердаке, он не захочет и, спасая свою шкуру, даст необходимые сведения. Письма были из Кюстрина от жены и от дочери. Обе подписали их на один манер: жена: «Твоя маленькая Клара», дочь — «Твоя крошка Лорхен». Прочитав и запомнив то, что надо, Круклис оставил письма себе. Из документов выписал нужные ему данные, а сами документы вложил обратно Зинкелю в карман.
— Не вздумайте дурить, господин инженер. Ваша жизнь целиком будет зависеть от вашего поведения, — предупредил его Круклис. — Все для вас кончится очень хорошо, если вы ответите на наши вопросы. И больше того, мы обещаем вам, что никто и никогда не узнает об этой встрече. Вы поняли?
Зинкель малость пришел в себя.
— Кто вы такие? — прохрипел он.
— Можете не сомневаться, мы не гестаповские провокаторы и не собираемся проверять вас на лояльность вашему фюреру. Мы партизаны. И даем вам на все десять минут.
— Бандиты, — снова прохрипел Зинкель.
И тотчас же получил такой удар под ребра, от которого чуть не слетел с дымохода.
— Прекратите это! — сердито одернул парней Круклис.
— Они повесили мою сестренку в сорок первом году только за то, что нашли у нее подшивку «Комсомольской правды». А вы ему позволили дышать еще целых десять минут, — насупившись, ответил Андрис.
— Они ответят за все, когда придет время. А этот нам нужен совсем не для того, чтобы мы сводили с ним счеты, — сказал Круклис и обернулся к Зинкелю: — Я вас не запугиваю и не угрожаю вам. Но вы сами должны понимать, что без написанных вами лично нужных нам показаний мы не сможем оставить вас в живых. Кстати, в вашем распоряжении только восемь минут, — предупредил Круклис.
— Я ничего писать не буду, — буркнул Зинкель.
Круклис сделал небольшую паузу.
— Есть еще время подумать, — заметил он.
— Вы ничего от меня не добьетесь. Все равно мы уничтожим вас всех! Фюрер приведет нас к победе. За ним идет вся Германия, — повысил голос Зинкель.
— Пока он всех вас ведет в могилу. И не мы, а сами немцы, и отнюдь не коммунисты, попытались на днях избавиться от своего бесноватого вождя. Посмотрите на часы. Осталось пять минут…
— Я ничего больше не скажу. А вы побоитесь меня застрелить. По улицам ходит патруль. И ваш выстрел будет роковым для вас! — предрек Зинкель.
— Осталось четыре минуты!
— Пусть три! Пусть две! Пусть одна!.. И моя семья далеко от вас! Вы ничего…
— Ну что ж, очень жаль, что вы не хотите прислушаться к голосу разума, — прервал его Круклис. — Не обольщайтесь. Мы не станем тратить на вас патрон. И не будем пачкать о вас ножи. Мы повесим вас. А когда вас завтра или через пару дней найдут, на груди у вас будет висеть записка, в которой будет сказано, что вы повешены по приговору партизанского суда как предатель.
— Я никого не предавал!
— Вы, фашисты, предали свой народ, ввергнув его в пучину безмерных страданий! Вы предали все светлые идеалы человечества, безжалостно растоптав их повсюду, куда ступила ваша нога. А ваше вероломное бандитское нападение на нашу Родину, это не предательство? Хватит! Время истекло! — сказал Круклис и забрал с дымохода часы.
— Но гестапо истолкует это слово совсем не так! И тогда действительно мои жена и дочь…
— Раньше надо было думать о жене и дочери! — оборвал его Круклис. — Я давал вам время. А теперь оно истекло. Кончайте его, ребята!
Андрис набросил на шею Зинкелю веревку, Альфон перекинул другой ее конец через слегу под самой черепицей. И тут Зинкель не выдержал. Он бухнулся на колени перед Круклисом и завертел головой, хотя петля еще и не коснулась его бычьей шеи.
— Не надо! Не надо! — залепетал он осевшим от страха голосом. — Я все скажу, что знаю! Но я маленький человек! И мне мало что известно.
— Поднимите его, — приказал Круклис.
Андрис снова усадил Зинкеля на дымоход.
— Чем занимается ваша мастерская? — без промедления начал допрос Круклис.
— Мы целиком подчиняемся штурмбаннфюреру Крауссу и выполняем только его заказы, — ответил Зинкель.
— Другими словами, вы работаете на «Русланд-Норд»?
— Совершенно точно.
— Что же конкретно вы делаете?
— Маскируем под предметы обычного домашнего и канцелярского обихода «адские машинки», другие взрывные устройства, производим приспособления для подслушивания телефонных разговоров, монтируем портативную радио— и фототехнику.
— Что делаете сейчас?
— Снаряжаем и дооборудуем мотоцикл с коляской.
— Какой мотоцикл?
— Советский. Марки «М-72».
— Для кого и для чего он предназначается?
— Я не знаю точно, но к нему все время примеряются двое ваших…
— Что значит «ваших»? Кто такие?
— Я имею в виду двоих русских. Мужчина и женщина. Похоже, муж и жена.
— Опишите их портоеты.
Зинкель дал описание, по которому Круклис сразу же узнал тех, кого видел в ателье у Валейниса.
— В чем выражается дооборудование мотоцикла? — продолжал он допрос.
— Мы сделали двойное дно и двойные стенки у коляски.
— Что предстоит туда закладывать?
— Пока что мы уложили в носовую часть мощный заряд взрывчатки со взрывным устройством, управляемым по радио.
— Еще?
— Я не знаю. Очевидно, остальное место они будут заполнять сами. Я, честное слово, не знаю…
«Кожаное пальто особого покроя, советский мотоцикл, заряд большой мощности со взрывателем, управляемым по радио, арбатские подворотни — все выстраивается в одну линию, — мельком подумал Круклис. — И эти двое… Сомнения нет, для себя готовят технику, потому и примеряются. Наверняка будет еще и оружие, и деньги, и рация… О каком же еще специальном самолете сообщал тогда Пяткин?»
— Что вам известно о способе доставки мотоцикла и тех, для кого он предназначен, в советский тыл? — спросил Круклис.
— Мы этим не занимаемся, — ответил Зинкель. И, подумав, добавил: — Но я слышал, что через фронт их перебросят по воздуху, на самолете уникальной конструкции, который в самом ближайшем времени должен быть перегнан сюда, в Ригу.
— От кого вы это слышали?
— Об этом говорила по-немецки та русская с гауптштурмфюрером Этценом.
— Кто такой этот Этцен?
— Я не знаю. Он из Берлина, был тут по заданию самого оберштурмбаннфюрера Хенгельхаупта.
— И что ответил Этцен этой русской?
— Он пошутил, что фрау полетит на таком самолете, на каком еще не летала ни одна королева.
Линия, мысленно выстроенная Круклисом из известных ему фактов и упирающаяся одним концом в московский Арбат, другим сразу же дотянулась до берлинской Беркаерштрассе. Конечно, Круклис и раньше знал, что без восточного отдела VI управления РСХА тут дело явно не обходится. Но такого конкретного доказательства этому, какое он получил сейчас от Зинкеля, в его арсенале улик до сих пор еще не было. Картина прояснилась почти полностью. Правда, неясными оставались немаловажные детали. Когда прилетит самолет-доставщик в Ригу? Когда он возьмет старт из Риги в советский тыл? И где, хотя бы примерно, в каком районе, он высадит эту пару с мотоциклом? Но надеяться на то, что хоть на один из этих вопросов ответит Зинкель, было бессмысленно. Этих деталей он просто не знал, да и не мог знать. И поэтому Круклис справедливо посчитал допрос законченным. Но это было лишь полдела. Теперь надо было позаботиться о том, чтобы Зинкель никому и ни под каким страхом не рассказал о том, что с ним приключилось на чердаке, в десяти метрах от его квартиры.
— Развяжите ему руки, — сказал Круклис.
Альфон ловко перерезал веревку, стягивающую за спиной у Зинкеля руки.
— Разомните хорошенько пальцы, вам сейчас придется писать, — обращаясь к Зинкелю, сказал Круклис.
Немец, сопя и всхлипывая, послушно задвигал пальцами. Тем временем Круклис положил на дымоход тетрадку и самописку.
— Готовы? — спросил Круклис.
— Вполне, — закивал Зинкель.
— Вот так-то лучше, — одобряюще заметил Круклис. И начал диктовать: — Поставьте вверху дату: двадцать пятое июля 1944 года. Надеюсь, неделю тому назад вы уже занимались этим мотоциклом?
— Да, конечно, — подтвердил Зинкель.
— Пишите с абзаца. В ответ на ваш запрос сообщаю. В настоящий момент готовим мотоцикл «М-72» для заброски в советский тыл. Это мне удалось узнать у гауптштурмфюрера Этцена. Пока что успели только спрятать в коляске мотоцикла мощную мину с радиовзрывателем. Ждем прилета специального самолета из Берлина, на котором мотоцикл и шпионы будут переброшены в ваш тыл. Написали? Пишите с новой строки.
Благодарю за деньги, которые вы послали моей жене. Она их уже получила, о чем уведомила меня в письме. Просил бы по возможности увеличить мой гонорар. Сейчас в Германии все страшно дорого. А собирать интересующие вас сведения после известных вам недавних событий становится все трудней. Написали?
— Кому адресовано это письмо? — со страхом выдавил из себя инженер.
— Мне, Зинкель. Мне. И поверьте, оно не попадет в руки бригаденфюрера Мюллера до тех пор, пока вы сами не вздумаете рассказать кому-нибудь о нашей сегодняшней встрече, — ответил Круклис.
Он взял письмо, сложил его вчетверо и убрал в карман.
— И помните, Зинкель. Если даже вы и доложите о случившемся с вами своему начальству, нам вы уже не повредите. Но гестапо вряд ли похвалит вас за вашу откровенность. И уж особенно гауптштурмфюрер Этцен. Они наверняка захотят побольше узнать и у вас, и у вашей жены, а возможно, и у дочки, о чем вы еще успели поведать партизанам на чердаке своего дома. А когда им понадобится что-то узнать, они умеют добывать нужные им сведения. Так что молчите, Зинкель. Молчите до тех пор, пока не только в Риге, но и в Берлине не останется ни одного живого представителя вашей бандитской партии.
Сказав это, Круклис кивнул подпольщикам и быстро пошел к лазу на чердаке соседней пятиэтажки. Трое направились за ним. А Андрис остался еще на полчаса возле Зинкеля. Потом отпустил его восвояси и, пригрозив на прощание пистолетом, побежал догонять друзей, которые ждали его в условленном месте. Круклис и Тальцис в это время были уже на перроне в Сигулде. Тут их встретил пожилой человек в очках и, обменявшись паролями, предложил в ожидании поезда на Валгу зайти к его знакомому и выпить чаю. Время переждали. Потом они ехали. Потом шли пешком, потом снова ехали уже на лошади. И снова шли. И лишь к концу вторых суток добрались до партизанского отряда. И Круклис попал в объятия друга своей боевой молодости Арнольда Салтыня. Воспоминаниям друзей, казалось, не будет конца. Но Круклис спешил в Москву, и уже через сутки в расположении отряда приземлился По-2. Он привез медикаменты, боеприпасы, свежую почту, питание для рации. Погода стояла безветренная, теплая. Над лесом густыми космами стлался туман. Мерцали звезды. Но уже приближался рассвет, и пилот торопился улететь обратно. По дороге к самолету Круклис отдал Тальцису последнее распоряжение:
— Передай Валейнису, пусть его красавица Дзидра не порывает с тем водителем. Только через него можно будет теперь узнать, когда эта русская пара начнет ездить на аэродром. Это будет значить, что самолет уже пригнали и вот-вот нужно будет ждать у нас «гостей».
— Обязательно передам, товарищ Сергеев, — ответил Тальцис.
Круклиса провожало все командование отряда. Он тепло всем пожал руки, а комиссару отряда Салтыню сказал:
— Знаешь, Арнольд, у меня такое чувство, будто я знаком со всеми вами сто лет и расстаюсь, как с родными братьями. Передай всем товарищам, которые мне помогали, самое огромное спасибо.
— Какие благодарности, Ян? Передай в Москве, что мы тут жизней не пожалеем, чтобы помочь Красной армии поскорее освободить нашу землю. Желаем тебе всяческих успехов, и береги себя, — растроганно ответил Салтынь.
— А мы ненадолго расстаемся. Шяуляй уже наш. Елгава наша. Ейлайне уже наша. До Риги рукой подать! А освободят Ригу, сразу же приеду и непременно всех вас разыщу! — Круклис еще раз крепко пожал друзьям руки и забрался в кабину самолета.
Крутнули винт. Мотор, чихнув, заработал. Пилот прибавил обороты, и самолет, пробежав поляну почти до конца, взлетел. И как только лес остался внизу, сразу стало видно, что рассвет разлился уже широкой полосою над горизонтом.
Круклис перед полетом не успел обмолвиться с летчиком даже парой слов. И сейчас, придвинувшись к его кабине поближе, громко спросил:
— Сколько лету до фронта?
— Сюда добирался час двадцать, — прокричал в ответ летчик.
— Ну, домой даже лошадь бежит быстрее, — пошутил Круклис.
Внизу уже стали видны поляны, лужайки, уже можно было отличить кустарник от высокого леса. Четче обозначились прожилки лесных речушек. До фронта было еще далеко. Ни стрельбы, ни разрывов еще не было слышно. Еще мерили кое-где предутреннее сумеречное небо фиолетово-синие лучи прожекторов. Да едко чадили то тут, то там недогоревшие за ночь пожары.
Однако прошло минут сорок, и обстановка внизу значительно изменилась. И дыму, и огней несравненно стало больше. И летчику уже несколько раз приходилось нырять к самым верхушкам деревьев, чтобы увернуться от колючих огоньков трасс, стремительно вырывавшихся из леса в направлении ночного бомбардировщика. До линии фронта оставалось не так уж много…
Круклис поглядывал по сторонам и вдруг увидел на фоне самого предела светлой полосы рассвета летящих им навстречу пару самолетов. Он тут же указал на них летчику.
— «Лавочкины» на охоту отправились, — безошибочно определил тот. — И нам поспокойнее будет…
Истребители между тем неожиданно круто взмыли вверх. Круклису даже показалось, что он уловил натруженный звук их двигателей. Но это только показалось. Гудел в полную мощность мотор По-2, свистел в открытой кабине ветер, ухали где-то внизу зенитные орудия, встречавшие огнем советских истребителей. Круклис не отрывал взгляда от «лавочкиных». «Не мой ли Освальд в этой паре? Тоже ведь где-то тут воюет, — невольно подумал он. — Обязательно напишу, спрошу, чем занимался он в это утро?»
Ла-5, набрав высоту, вдруг резко перешли в пике. Круклис посмотрел вниз. Над лесом, почти на той же высоте, что и их По-2, в направлении линии фронта летели четыре немецких самолета.
— Смотри! Вон! — крикнул летчику Круклис.
— «Фоккеры»! Ну, будет сейчас дело! — сразу оценил обстановку летчик.
И словно в подтверждение его слов, «лавочкины», сделав разворот, оказались сзади «фокке-вульфов». Маневр обеспечил нашим истребителям выгодную позицию. Они немного перестроились, ведомый отошел вправо, и огненные трассы снарядов их пушек врезались в строй немецких истребителей. Но оба, очевидно, несколько поспешили. Строй «фокке-вульфов» распался. Но все они, уцелев от огня, полезли вверх.
— Ну что там? — нетерпеливо спросил летчик. Воздушный бой разгорался уже сзади По-2, и он не видел результата атаки «лавочкиных».
— Спуделяли ребята, — ответил Круклис и снова вспомнил сына. «Ну, если это Освальд! Задам я ему перцу, чертову сыну!»
В воздухе началось что-то невообразимое. Стреляли «фокке-вульфы», стреляли «лавочкины», с земли непрерывно били зенитные орудия и пулеметы. Истребители гонялись друг за другом, за ними было трудно уследить. И Круклис не увидел, как один из «фокке-вульфов» отвалил от этой карусели в сторону и погнался за их самолетом. Он набросился на него с высоты: открыл огонь. Но поспешил, не соразмерил скорости и промазал. Выпущенные им снаряды прошли впереди тихоходного По-2. Летчик, однако, сразу же их увидел и резко отвернул в сторону. «Фокке-вульф» с глухим завыванием пронесся в вышине и пошел на очередной заход для атаки.
— Наблюдайте за ним! Смотрите, что он будет делать! И сразу же говорите мне! — крикнул летчик Круклису.
Слева мелькнуло озеро Калли.
— Заходит нам в хвост! — предупредил Круклис.
Летчик совсем немного выждал и бросил самолет в новый крутой вираж. И сделал он это, исключительно точно рассчитав по времени. Очередная трасса снарядов прошла так же стороной. По-2 летел так низко, что казалось, вот-вот начнет задевать колесами верхушки деревьев. Но летчик увидел впереди просеку и, свернув в ее сторону, спустился над ней еще ниже. И третий заход «фокке-вульфа» остался безрезультатным.
Впереди показалась губа Чудского озера.
— Мы уже над линией фронта! — крикнул летчик.
— Давай, давай жми! — подбодрил его Круклис. — Это что там впереди, слева?
— Остров Пирисар. Он уже на нейтралке! Вы за «фоккером» смотрите! За «фоккером»!
Но смотреть было уже поздно. Перед озером лес внизу расступился, маленький По-2 стал виден как на ладони. Вражеский пилот воспользовался этим и длинной очередью растрепал и поджег верхнее крыло и хвост ночного бомбардировщика. Объятый пламенем самолет, практически потеряв управление, кое-как дотянул до противоположного берега и огненным клубком плюхнулся в камыши.
Глава 49
Разгром группы армий «Центр», вырвавший из рядов вермахта убитыми, ранеными и пленными более полумиллиона солдат и офицеров, 631 самолет, 2735 танков и штурмовых орудий и более четырнадцати тысяч артиллерийских орудий и минометов; потеря такого важнейшего стратегического, направленного прямо в сердце Советского Союза плацдарма, как Белоруссия и части Польши; вынужденный уход немецко-фашистских войск из восточных районов Литвы и Латвии и выход Красной армии на границу Восточной Пруссии — содрогнули рейх до основания. Гитлер, естественно, объяснил очередной провал на Восточном фронте бездарностью своих генералов, обвинив их во всех смертных грехах, и в том числе в измене. Для Гиммлера, для Кальтенбруннера, для Мюллера и иже с ними это был очередной приказ к действию. Гестаповцы и эсэсовцы, засучив рукава, с двойным рвением принялись за искоренение врагов фюрера.
Но демонстрация преданности в этот напряженный для рейха момент проводилась не только методом экзекуции над инакомыслящими. Получили дополнительное ускорение и те дела, которые по тем или иным причинам не были доведены до конца. И среди них в первую очередь скорейшее завершение подготовки и проведение акции в Москве. Кальтенбруннер сам довольно строго напомнил об этом Шелленбергу. А тот незамедлительно, еще более категорично, Хенгельхаупту. Оберштурмбаннфюрер же никому никаких нотаций читать не стал, а в тот же день военным самолетом улетел в Ригу.
Краусс не удивился его прибытию, но все-таки был несколько озадачен такой внезапностью. Из Берлина без предупреждения, как правило, не приезжали. Поэтому, уловив в его взгляде некоторую настороженность, Хенгельхаупт сразу же раскрыл перед ним все карты.
— В мире, дорогой Краусс, творится черт знает что. А начальство решило, что именно с нас надо начинать наводить порядок, — откровенно посетовал он.
— Я уж давно привык к тому, что на нас смотрят, как на двуликого Януса. С одной стороны, мы всегда и для всех козлы отпущения. С другой — непременная панацея, — так же откровенно ответил Краусс. — Так что мы готовы и к тому и к другому. Но не всегда удается угадать, какой стороной поворачиваться.
— С такими надежными людьми, как вы, приятно работать, — похлопал по плечу Краусса Хенгельхаупт. — Начальство, конечно, больше всего хочет сейчас, чтобы мы поскорее завершили эту акцию с русским руководством. И я, естественно, не уеду отсюда без доклада о том, что мы полностью готовы.
— К сожалению, далеко не все зависит только от нас, — осторожно заметил Краусс.
— Я знаю. Вы об этом хитром самолете, — понимающе кивнул Хенгельхаупт. — Перед выездом сюда я связался с производством по телефону. Они его уже облетывают. И обешали через неделю пригнать его сюда.
— Больше ждали. Подождем, — покорно ответил Краусс. — Но дело не только в самолете.
— Что же еще? — сразу насторожился Хенгельхаупт.
— Это русское наступление немало бед принесло и нам. Мы лишились целого ряда надежных связей и явок, — доложил Краусс. — И вот результат. Наш агент из Москвы сообщил, что подготовил для нас новые снимки интересующих нас объектов, связной забрал их из тайника, а взять их у него и доставить сюда мы не можем. Цепочка оборвалась.
— Пошлите кого-нибудь отсюда! — решительно посоветовал Хенгельхаупт.
— Куда, оберштурмбаннфюрер? В Москву? Теперь это втрое труднее. Да и сколько на это потребуется времени?
— Не знаю, Краусс. Не мне вас учить, как поступать в аналогичных случаях. А квартира для этой пары уже подобрана? Я знаю, что такой приказ в Москву отдавал еще мой предшественник, — напомнил Хенгельхаупт.
— Да оберштурмбаннфюрер. Мы получили от своего агента утвердительный ответ, — ответил Краусс.
— Адреса он, естественно, не сообщил?
— Разумеется. Но нам он известен, и мы своевременно сообщим его Политову.
— Ладно. Проверять не будем. Сейчас не до этого, — согласился Хенгельхаупт. — А дополнительные снимки нам обязательно пригодятся. Делайте что хотите, но доставьте их мне. Я непременно должен буду показать их в Берлине.
«Вот для этого они в первую очередь и нужны», — подумал Краусс и ответил:
— Я пошлю за ними того, кто доставлял нам все посылки и раньше. Его, к счастью, удалось вовремя эвакуировать из Минска.
— Прекрасно, — одобрил Хенгельхаупт. — Посылайте и не теряйте времени. И покажите мне все документы, которые вы подготовили для этой пары. Кстати, от Крюгера вы все получили?
— Да, в Берлин специально за этим заказом ездил начальник отдела VI ф.
— Кто такой?
— Капитан СД Палбицын, оберштурмбаннфюрер.
— Какая странная фамилия… Какой-нибудь славянин?
— Просто русский, оберштурмбаннфюрер. Он отвечает за всю документацию.
— Вот завтра он пусть и покажет мне все, с чем полетят эти двое в Москву, — распорядился Хенгельхаупт.
Он встал с кресла и подошел к окну. На взморье начинался бархатный сезон. Но об этом совершенно не хотелось думать. Оберштурмбаннфюрер вспомнил о том, как в сорок первом году он попал в Ригу уже на девятый день войны. Как тогда лихо все начиналось! С каким бодрым настроением, уверенностью в будущее взялись они тут за работу. Но прошло всего лишь чуть больше трех лет, и Рига, казавшаяся таким далеким тыловым городом, снова стала прифронтовой. И все же здесь было спокойнее. Жилые кварталы города русские не бомбили. А в Берлине ночи не проходило, чтобы не объявляли тревогу. И даже тогда, когда авиация союзников летела не на столицу рейха, а мимо, тревогу на всякий случай объявляли все равно. О, времечко!..
— Как чувствует себя несравненная Гретта? — спросил Хенгельхаупт, давая понять, что деловая часть их беседы уже закончилась.
Краусс, надо сказать, с нетерпением ожидал этого вопроса. Как бы ни был благосклонен к нему шеф, но начальство есть начальство. И угодить ему, даже при очень большом желании, удается далеко не всегда. Тем более в столь напряженное время, да еще в таком предельно щекотливом деле. И потому, скороговоркой объяснив оберштурмбаннфюреру, что Гретта, слава богу, еще месяц тому назад благополучно перебралась к матушке в Дрезден и пишет ему оттуда трогательные (писать другие Краусс ей просто запретил) письма, он тут же заверил оберштурмбаннфюрера в том, что на их сегодняшнем ужине это ни в коей степени не отразится и даже, пожалуй, может сыграть им на руку. И если шеф захочет немного расслабиться, то его желание будет немедленно удовлетворено. В офицерском варьете есть неплохие танцовщицы, и их ничего не стоит после выступления привезти сюда, на виллу в Дзинтари.
Хенгельхаупту мысль понравилась. Но подумал он почему-то не о танцовщицах, а о всеслышащих ушах коллеги Мюллера. И, вспомнив чрезвычайно нервозную обстановку, царившую в Берлине, посчитал за лучшее сослаться на крайнюю усталость и от приятного предложения провести время вчетвером отказался. Ужинали вдвоем с обилием спиртного.
Утром Хенгельхаупт внимательно выслушал доклад не только Палбицына, но и Делле.
Он придирчиво осмотрел форму, в том числе и нижнее белье, в которое должны были облачиться Политов и Шилова, и, оглядывая то ту, то эту вещь, непременно спрашивал:
— Вы уверены, что все это советского производства?
Потом он так же придирчиво рассматривал документы.
На него большое впечатление произвели орденские книжки и особенно удостоверение Героя Советского Союза, подписанное самим Председателем Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калининым.
Хенгельхаупт видел их, конечно, неоднократно и раньше. Но сейчас, собранные вместе для конкретного дела, они произвели на него особое впечатление.
— Но это не все подтверждения, оберштурмбаннфюрер, — предупредил Краусс.
Хенгельхаупт вопросительно посмотрел на него.
Краусс достал из папки и развернул перед ним две советские газеты: «Правду» и «Известия».
— Господин Палбицын вначале намеревался ограничиться лишь «Красной звездой». Но потом пересмотрел свое решение и подготовил обе советские центральные газеты. В номере «Правды» он напечатал портрет нашего агента в советской военной форме и материал о его боевом подвиге. А в номере «Известий» — Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза группе офицеров Красной армии, среди которых стоит и фамилия Таврина П. И., — объяснил он.
Хенгельхаупт одобрил такое усердие.
Он внимательно оглядел и все прочие подделки Крюгера и Палбицына: аттестаты, книжки, справки, выписки, заключения медкомиссий и многое другое. Придраться было не к чему. Фальшивопечатание поставляло продукцию только высокого качества.
Следующие два дня ушли на проверку умения Политова владеть оружием. Политов стрелял из пистолета, бросал гранаты. Но главное, в чем больше всего хотел убедиться Хенгельхаупт, показал, как он освоил «панцеркнакке».
— Вы, дорогой мой, можете с этой штукой выступать в цирке. Аплодисменты вам обеспечены, — остался доволен проверкой Хенгельхаупт.
— Стараюсь оправдать ваше доверие, герр оберштурмбаннфюрер, — ответил Политов.
— И правильно делаете. Вы знаете: мы, немцы, поощряем усердие. И могу сказать вам по секрету. — Хенгельхаупт поднял вверх указательный палец и взметнул брови: — Еще до вашей отправки в Москву я буду просить бригаденфюрера ходатайствовать перед обергруппенфюрером Кальтенбруннером о присвоении вам офицерского звания. Да-да!
— И впредь не пожалею себя, но докажу свою преданность моему новому отечеству и фюреру! — поклялся Политов.
Хенгельхаупт более часа беседовал с Политовым не только в доброжелательном, но и в многообещающем тоне. При этом он все время ссылался на своих высоких начальников. Политову в конце концов ничего больше не оставалось, как понять и поверить, что о его персоне говорят на самом верху РСХА. Оберштурмбаннфюреру же было важно выяснить настроение Политова и его моральную готовность к выполнению предстоящего задания.
О Шиловой начальник восточного отдела почему-то не спрашивал. В ней он почему-то был уверен. Уверен в том, что она не спасует, а если понадобится, то, как и было условлено, сама спокойненько прикончит своего дорогого супруга. Так что с ней он даже не разговаривал и никаких заверений от нее не слышал. А от Политова он выслушал кучу всяких слов и, в общем, остался доволен им, но тем не менее в нем такой надежности, как в его супруге, не ощутил. Впрочем, Хенгельхаупт до конца не доверял никогда и никому, в том числе и своему непосредственному начальнику. И даже начальнику начальника. И выше того — начальнику начальника начальника. И хотя Хенгельхаупт даже в рассуждениях на всякий случай никогда не называл их по имени, не потребовалось и года, чтобы он убедился в том, что был абсолютно прав.
Вечером, за очередным ужином на вилле в Дзинтари, он сказал Крауссу, что остался доволен натренированностью и настроением Политова. Что он видит в этом немалую заслугу Краусса и непременно доложит об этом в Берлине. И не кому-нибудь, а самому обергруппенфюреру Кальтенбруннеру. Поскольку именно ему Хенгельхаупт по возвращении в Берлин будет докладывать о готовности операции.
Краусс встал.
— Вы знаете, оберштурмбаннфюрер, о моей преданности фюреру и вам лично. И вы знаете, что я не жду ни наград, ни повышений. Но позвольте мне, как старому вашему сослуживцу, не касаться сегодня высоких материй, — попросил он разрешения.
Хенгельхаупт всплеснул руками.
— Что за азиатчина? Мы же европейцы. Свобода выражений мысли всегда была нашим кредо, — размахнулся Хенгельхаупт.
— Позвольте, оберштурмбаннфюрер, поднять этот бокал лично за вас! — торжественно произнес Краусс.
— О, мой бог, — смиренно улыбнулся Хенгельхаупт. — Позволяю. И только потому, что бесконечно верю в вашу искренность. Хайль Гитлер!
— Хайль! — ответил Краусс и осушил бокал до дна.
Хенгельхаупт тоже выпил.
— А вы не забыли отправить связного в Москву? — спросил он.
— Он уже летит туда, оберштурмбаннфюрер, — взглянул на часы Краусс. — И через два часа будет выброшен в районе Солнечногорска. Оттуда до Москвы всего шестьдесят пять километров. Сутки там…
— А назад?
— А назад у него есть несколько ходов. Но…
— Мне нужны фотографии.
— Я послал своего лучшего разведчика, оберштурмбаннфюрер. Он возвращался из России шесть раз. Будем молить бога, чтобы вернулся и седьмой.
— Когда?
— Когда фронт стоял под Пустошкой, Новоржевом и Псковом, ему для этого требовалось десять дней. Теперь же, когда русским пришлось отдать Мадону, я думаю, это может занять полмесяца, — подсчитал Краусс.
— Черт побери! — бросил на стол салфетку Хенгельхаупт. — Но в Берлине подумают бог знает что, если от меня не будет так долго никаких вестей.
— Но ведь и самолета еще нет, — заметил Краусс.
— В какой-то мере это нас еще спасает, — согласился Хенгельхаупт. — Но если он прилетит сюда завтра?
Краусс беспомощно развел руками.
— По нашей ли вине, оберштурмбаннфюрер, уже давным-давно многое делается совсем не так, как того хотелось бы…
Хенгельхаупт долго молча курил, глядя куда-то в окно. Потом спросил то ли Краусса, то ли самого себя:
— Значит, ждать?
— Ждать, оберштурмбаннфюрер. Но шифровку можно послать уже сейчас, — посоветовал Краусс.
— Какую?
— Все проверено. Подготовка практически закончена. Ждем средства доставки и окончательный приказ о начале операции, — мягко предложил вариант Краусс.
— А ведь это на самом деле так! — улыбнулся Хенгельхаупт. — Да и черт с ними, с этими дополнительными фотографиями. Кто о них в конце концов знает, кроме нас с вами?
— Никто, оберштурмбаннфюрер, — подтвердил Краусс.
— Ну а никто, так и будем считать, что дело действительно не за нами, — с облегчением вздохнул Хенгельхаупт и налил себе еще вина.
На следующий день в Берлин послали не одну, а две шифровки. Одну Шелленбергу с уведомлением о полной готовности, за исключением «Арадо-332». Вторую — в контору «Мессершмитта», с настойчивой просьбой как можно быстрее доставить заказ по месту назначения.
Двадцатого августа 1944 года Красная армия освободила Гостыни.
Двадцать второго советские войска перерезали железную и шоссейную дороги Валга — Тарту. Двадцать пятого немцев выбили из Тарту. Двадцать шестого Красная армия освободила Вереви, Палуперу и еще 70 населенных пунктов. Двадцать восьмого — железнодорожную станцию и город Гулбенэ и еще 40 населенных пунктов. Бои уже шли на самой границе с Восточной Пруссией. В помещении «Русланд-Норда» появились металлические и деревянные ящики, в которые начали упаковывать многочисленные дела шпионского ведомства. Двадцать девятого августа советские войска, продвигаясь юго-восточнее Валги, освободили Тахеву, Лывакас, Блюме и еще более 60 больших и малых населенных пунктов. Хенгельхаупт каждый день звонил в Берлин и на производство. Но только в ночь с двадцать девятого на тридцатое августа долгожданный «Арадо-332» приземлился на военный аэродром под Ригой. Утром тридцатого Хенгельхаупт, едва глянув на это чудо авиационно-шпионской техники, с первым же попутным самолетом умчался в Берлин. Сопровождавший его на аэродром Краусс заметил, что посланный в Москву агент через день-два должен вернуться и что оберштурмбаннфюреру, пожалуй, стоит немного задержаться. Но Хенгельхаупт в ответ только безнадежно махнул рукой.
— Какой агент? Кого ждать? Я думаю, как бы через пару дней мне самому не пришлось встречать вас в Темпельгофе, — сказал он и улетел. И в тот же день был принят для доклада Шелленбергом.
Вопреки ожиданиям бригаденфюрер был совсем не сердит. И даже невесело, но пошутил:
— Один или вместе со всем хозяйством пожаловали? — вопросом встретил он начальника восточного отдела.
— Один, бригаденфюрер. Но вся самая секретная документация уже подготовлена к эвакуации, — доложил Хенгельхаупт.
— Охо-хо, — вздохнул Шелленберг. — С чем же вы вернулись?
— Подготовка агентов полностью закончена. Операции можно давать зеленый свет, — доложил Хенгельхаупт.
— Вы проверили все лично?
— Абсолютно все, бригаденфюрер.
Шелленберг ни о чем больше не стал расспрашивать, а снял трубку с белого телефонного аппарата. Все знали, что это был аппарат прямой связи с шефом РСХА.
— Обергруппенфюрер, я готов доложить вам о результатах поездки Хенгельхаупта в Ригу, — сказал он. И добавил: — Мы зайдем с ним вместе.
Кальтенбруннер, очевидно, согласился принять их немедленно. Потому что, положив трубку на аппарат, Шелленберг объявил:
— Идемте, Хенгельхаупт, идемте. Нас ждут. И ждут уже давно…
Хенгельхаупт почтительно поклонился, пропуская начальника вперед. Поспешность, с которой они оба приняли его, была поразительной. И объяснить ее можно было только тем, что, очевидно, и Кальтенбруннеру не терпелось доложить обо всем рейхсфюреру.
В приемной начальника РСХА об их визите уже были предупреждены, потому что их не задержали ни на секунду. Перед Шелленбергом раскрыли дверь в кабинет и вытянулись по стойке «смирно». На Хенгельхаупта даже не взглянули. Но оберштурмбаннфюрера никогда не волновало, как он будет входить в кабинет начальника. Он всегда думал о том, как будет выходить оттуда. Формула древних: на щите или со щитом — оставалась для таких случаев исключительно современной.
Однако на сей раз эту формулу дополнили еще одним вариантом. Хенгельхаупта не вынесли на щите. Но и со щитом его выпустили из кабинета шефа РСХА, так сказать, под честное слово — что все будет, как задумано, как очень хочется, чтобы было только так и не иначе.
Обергруппенфюрер был, как всегда, холоден, строг, весьма озабочен, но на сей раз необычно разговорчив.
— Все ли сделано для того, чтобы обеспечить полный успех операции? — спросил он.
— Все, обергруппенфюрер, — четко ответил Хенгельхаупт.
— Вы в этом уверены?
— Абсолютно.
— Я могу об этом доложить рейхсфюреру?
— Так точно, обергруппенфюрер.
Кальтенбруннер подошел к портрету Гитлера и остановился под ним, скрестив на груди руки. Минуту он стоял молча. Потом заговорил:
— Год напряженнейшего труда. Четыре миллиона марок на подготовку. Усилия десятков первокласснейших специалистов в самых различных областях. По своим масштабам это намного превосходит любую из разрабатываемых нами операций в прошлом. Я повторяю: любую! И как бы дальше ни развернулись события, опыт, приобретенный нами, бесценен. Его будут изучать. Мы вернемся к нему еще не раз. Мы разгромим большевизм в Европе, покончим с Англией и все наши силы направим против Америки. И там, за океаном, в начальном периоде борьбы этот опыт поможет нам совершить то, что мы, к сожалению, не сделали на самых первых порах в России. Терроризм станет такой же открытой и могучей государственной политикой, как всякая другая вооруженная борьба. Да-да! Именно открытой. Тайными останутся только методы ее подготовки. Проводиться же она будет решительно, бескомпромиссно и, повторяю, открыто. Потому что терроризм, даже самый оголтелый, это еще не война, в том понимании, в каком ее привыкли понимать. Но это уже и не мир. Это политика на грани войны. Это такое состояние, которое уже само по себе может привести к большим победам, добытым затратой малых сил. А разве это не тот результат, к которому мы должны стремиться?
Кальтенбруннер высказал еще несколько соображений общего плана и снова перешел к конкретным делам.
— Когда практически можно начинать операцию?
— В любой момент, обергруппенфюрер, — ответил Хенгельхаупт.
— Готовьте проект приказа. Завтра я постараюсь увидеть рейхсфюрера, получу его согласие и подпишу приказ, — сказал Кальтенбруннер.
Но Гиммлер вернулся в Берлин только через три дня. И только четвертого сентября Хенгельхаупт послал Крауссу шифровку с приказом приступить к действию.
Краусс немедленно оповестил всех, кого это касалось, о начале операции. И уже на следующий день, пятого сентября, поздно вечером на военный аэродром неподалеку от Риги примчались три машины: две легковые и одна грузовая. В первой приехали Краусс, Шилова и Политов. Во второй — Палбицын и Делле. В третьей — охрана и мотоцикл марки «М-72» с коляской. Мотоцикл сгрузили, закатили по трапу в «Арадо» и закрепили в фюзеляже с помощью специальных оттяжек. После этого охрана отошла и встала вокруг самолета оцеплением. А Краусс, Политов, Шилова, Палбицын и Делле еще на какой-то момент задержались у самолета. Палбицын, подсвечивая фонариком, в последний раз оглядел Политова и Шилову. Советская военная форма на них сидела хорошо. Палбицын остался доволен своими учениками. Несколько более щекотливую миссию пришлось выполнять Крауссу. Он отвел Политова в сторону, передал ему ампулу с ядом и негромко сказал:
— Не придавайте этому особого значения. Это так, на самый крайний случай. Если вдруг создастся совершенно безвыходное положение. Понимаете? Уж лучше это, чем попасть в руки ЧК…
«Вот что вы мне уготовили вместо обещанных чинов и орденов, душегубы проклятые», — про себя подумал Политов, но ампулу взял. И даже поблагодарил за заботу.
— Конечно, еще как может пригодиться. Я ведь все понимаю…
После этого он вместе с Шиловой поднялся по трапу в самолет. Дверь фюзеляжа захлопнулась, двигатели «Арадо» взревели, прогреты они были уже заранее, самолет с короткой пробежки легко оторвался от земли и взял курс на Восток.
— Слава богу, началось, — глядя вслед удаляющемуся «Арадо», перекрестился Делле. — Два года тому назад эта операция имела бы на успех гораздо больше шансов.
— То-то и оно. Ну да теперь остается только ждать и надеяться, — в тон ему ответил Краусс.
Штурмбаннфюрер слукавил. Ждать результатов он, конечно, собирался. Ему иначе делать ничего не оставалось. Но надеяться на благополучный исход он и не думал. Опыт работы подсказывал, что шансов на успех операции слишком мало. А если они и были, то, как сказал об этом недобитый белогвардеец Делле, лишь года два тому назад. Теперь же надежды на успех почти не было. И первыми в этом убедились сами исполнители акции.
До линии фронта они добрались вполне благополучно. А вот дальше все пошло совсем не так, как предполагалось. Уже на маршруте дали сбой предсказания метеорологов. Буквально после двадцати-тридцати километров над советской территорией под самолетом появились сплошные поля облачности. Над ними косяками поползли тяжелые, черные тучи и пошел дождь. Об этом агентам сообщил бортрадист самолета. Он же информировал их и о прохождении маршрута.
Вдруг темную толщу неба, словно меч, рассек искрящийся луч прожектора. Справа и слева от него полыхнули разрывы зенитных снарядов. «Арадо» сразу же полез вверх, благо, возможность машины позволяла держать потолок более семи тысяч метров.
Разрывы снарядов скоро остались в стороне.
— Пролетели Смоленск, — объявил бортрадист. — Приближаемся к Вязьме. Пройдем севернее ее.
Луч прожектора на какое-то время тоже потух. Но потом появился снова и настойчиво пополз к «Арадо» все ближе и ближе. Самолет заметался, стараясь поскорее уйти от него. Но рядом с первым лучом появился второй, третий. Самолет взяли в клещи. Кабину залило ослепительным светом. Внутри нее будто сразу вспыхнули десятки тысячеваттных ламп. Шилова от страха побледнела и вся сжалась в комок. Политов тоже похолодел от неожиданности. Им обоим показалось, что в кабине уже начался пожар.
— Опустите жалюзи на окнах! — крикнул бортрадист.
Политов немедленно выполнил его совет. В кабине сразу стало темно. Но за бортом снова заухали снаряды. По фюзеляжу забарабанили осколки. Некоторые из них даже пробили стенки, и в дырки, как шпаги, снова просунулись упругие струи света.
Чтобы выйти из-под огня, пилот применил несколько маневров. Агентов бросало в кабине то вправо, то влево, будто в кузове грузовика, преодолевающего на большой скорости ухабы. В конце концов самолет благополучно вышел из-под обстрела. Но пробиться к намеченному месту посадки ему не удалось.
— Придется садиться на запасную площадку, — передал Политову командир корабля.
— Делайте что хотите. Только выпустите нас отсюда побыстрее, — мрачно ответил Политов.
Самолет сделал еще один разворот на северо-запад и скоро пошел на снижение. Агенты с облегчением вздохнули. Земля, хоть и чужая, хоть и таящая смертельную опасность на каждом шагу, за каждым кустом, была все же надежнее, чем это пустое, темное, со всех сторон простреливаемое небо.
— Будем садиться на луг возле деревни Куклово, — уточнил командир для ориентировки агентов.
— Нам все равно, лишь бы успеть в темноте, — ответил Политов.
«Арадо» включил мощные фары, пронесся над самыми верхушками деревьев и мягко приземлился на луг. Короткая пробежка по мокрой траве, и… вдруг страшный удар свалил на пол обоих агентов. В самолете что-то надрывно треснуло, и он замер как вкопанный. Политов и Шилова вскочили на ноги. Из пилотского отделения выскочил командир, второй пилот, бортрадист. Подсвечивая фонариками, они открыли дверь фюзеляжа и выпрыгнули из самолета. Политов и Шилова последовали за ними. «Арадо», беспомощно накренившись набок, уперся развороченным крылом в могучую ель. Крайний мотор на левом крыле от удара сорвало с места, он улетел вперед метров на тридцать и загорелся.
Политов понял: взлететь самолету, который так усердно конструировали и по винтику вручную собирали целый год на заводе прославленного Мессершмитта, с этого луга уже не удастся. Это поняли и все члены экипажа.
Но до них Политову не было никакого дела. Во всех случаях отсюда они должны были повернуть обратно, и если уж не на самолете, так пешком пробираться на запад. А ему и Шиловой предстоял совсем другой путь. И надо было начинать его как можно быстрее. Раз уж все пошло кувырком, спасение следовало искать только в стремительности действий.
— Опускайте трап! Выгоняйте мотоцикл! — приказал Политов.
Шилова перевела его приказ. Но члены экипажа и cами уже делали то, что было надо. Через несколько минут мотоцикл стоял на лугу. Политов и, Шилова быстро побросали в коляску свои вещи, туда же села Шилова, Политов завел мотор, и мотоцикл понесся по лугу подальше от злосчастного «Арадо», который из надежного помощника сразу превратился в злейшего врага, как неопровержимая улика. Прочь! Из леса! На шоссе! К Москве!
В лицо террористам ударил ветер и капли воды. Снова начинался дождь.
Глава 50
Круклиса спасли илистое дно и густой, как зубная щетка, прибрежный камыш. Влетев в него, как снаряд, объятый пламенем По-2 поднял в воздух высоченный бурун озерной воды и ткнулся в береговой обрыв. Это удержало его от капотирования, а обрушившаяся сверху вода частично притушила огонь. У Круклиса обгорела спина, оказалась сломанной ключица, были повреждены два ребра. Но он остался жив и даже нашел в себе силы не только самому выбраться из самолета, но и вытащить летчика. Однако поднять его на берег он уже не смог. Оттащил лишь от самолета шагов на пятьдесят и потерял сознание.
В тот же день Круклиса доставили в Москву. Клавдия Дмитриевна, его жена, настояла на том, чтобы его определили в Главный военный госпиталь и положили в отделение, которым она заведовала. Руководство наркомата поддержало ее просьбу. Для Круклиса нашли отдельную палату с телефоном.
Переносы, переезды, перелеты очень измучили Круклиса, к тому же еще оказалось, что у него сильно повреждена нога, и он, едва его уложили в палате на койку, сразу же уснул.
Но перед этим он все же успел дать несколько указаний Доронину, появившемуся в палате почти следом за Круклисом. Главным из них было — отныне круглосуточно слушать Ригу на известной волне. Сообщение об отправке мотоцикла из мастерской на аэродром могло поступить в любую минуту. А это означало, что операция по заброске террористов в Москву практически началась.
На следующий день с утра Круклиса возили на рентген. Потом, поскольку у него довольно сильно была обожжена спина, ему сделали переливание крови. Во второй половине дня к нему приехал Ефремов. Но прежде чем появиться в палате, он долго разговаривал с Клавдией Дмитриевной. А когда наконец зашел, то первым делом облобызал полковника. И искренне радуясь тому, что он остался жив, сказал:
— Больше ты у меня, пока вместе служим, не то что на самолете, на трамвае никуда не поедешь!
— Посмотрим, — усмехнулся Круклис.
— И смотреть нечего! Ведь как не хотел отпускать…
— Правильно сделали, что отпустили, Василий Петрович. Разрешите доложить?
— Да ты не докладывай, а рассказывай.
— Задание, товарищ генерал, выполнил. Наше предположение полностью подтвердилось. Действительно, готовится серьезнейшая террористическая акция. И со дня на день следует ожидать засылки террористов в Москву. Дело у них сейчас остановилось только из-за средства доставки. В Риге ждут прилета того самого специального самолета, о котором в свое время докладывал Пяткин…
И Круклис рассказал обо всем, что ему удалось узнать за линией фронта. Ефремов слушал его с повышенным вниманием. Не перебивая и не переспрашивая. И только один раз не выдержал, попросил подтвердить:
— Неужели своими глазами видел этих гадов?
— Видел, Василий Петрович, четко и ясно видел, как вас сейчас. И пальто кожаное, которое для него сшили, видел и даже щупал, и о мотоцикле, на котором они должны будут въехать в Москву, мне тоже кое-что известно, — подтвердил Круклис и рассказал о том, как удалось собрать все эти данные.
— Цены нет твоим сведениям, — сказал Ефремов. И усмехнулся: — Значит, надеются…
— Выходит, так, Василий Петрович.
— И думают, что всех перехитрили?
— Без этого не стали бы доводить дело до конца. Да теперь они уже и не отступятся от него. Если даже у кого-нибудь и появится мысль о том, что толку от этой затеи не будет, вслух высказывать ее не станут. Побоятся. На таком мудреце сразу же и отыграются. Его в первую очередь и обвинят в провале всей затеи, — высказал свои доводы Круклис. — Наверняка верхушка цепляется за эту акцию, как утопающий за соломинку. Так кто же из подчиненных осмелится эту соломинку вырвать из рук утопающего?
— И особенно сейчас, когда мы стоим на пороге Германии! Ты во всем совершенно прав, мой старый боевой друг, — полностью согласился с доводами Круклиса Ефремов. — Давай решим еще один очень важный вопрос.
Круклис приготовился слушать.
— Руководство наркомата полностью полагается на твое благоразумие, Ян, и дает тебе право самому решить, учитывая твое состояние: сможешь ты сейчас продолжать руководить операцией по обезвреживанию вражеской агентуры или нет?
Круклис ответил почти не раздумывая:
— В этих условиях, Василий Петрович, делать это будет очень трудно. А за чуткость благодарю…
— Да подожди ты благодарить, — не дал ему договорить Ефремов. — Условия изменим. Создадим. Перевезем и положим тебя прямо у себя, в медпункте. Комнатку там уже подобрали… Ты не об условиях думай. Ты свои силы хорошенько взвесь. Кстати, супруга твоя особо не возражала.
— А мне в таких вопросах ее согласия не требуется, — заметил Круклис. — И если действительно у меня все будет, что называется, под рукой и я со всеми смогу обо всем говорить, чего же тут взвешивать, Василий Петрович?
— Значит, ты сам доводишь дело до конца?
— Только так учили меня мои учителя.
— Ни секунды не сомневался в том, что ты их достойный ученик. Ладно. Тогда пока отдыхай и копи силы, — попрощался с ним Ефремов.
На следующий день Круклиса перевезли туда, куда обещал Ефремов. Здесь Круклис прежде всего в полном объеме, со всеми подробностями выслушал доклад Доронина. И тут же принял решение: агента, который явится в Москву за пленкой, не брать.
— Мы его вызовем и второй, и третий раз и в конце концов возьмем вместе с этим истопником прямо у него на квартире. А пока не надо лишний раз настораживать. Пусть думают, что все идет как надо, — объяснил он это решение.
— За Барановой установлено постоянное наблюдение. Она, как вы и предполагали, еще раз вышла замуж. Живет на квартире у мужа, некоего Тимофеева, но на сей раз фамилию не меняла, — докладывал Доронин.
— Не меняла… А почему? — подумав, спросил Круклис.
— Мы такой вопрос перед собой не ставили, — признался Доронин.
— Я вам отвечу на него. А потому, что там, в Ташкенте, не знала, да и сейчас еще не знает: с какой фамилией ей лучше вернуться в Москву. Ибо для нее еще неясно, на каком положении она собирается тут жить: на легальном, полулегальном или совсем нелегальном. И где: в проезде Соломенной Сторожки, если переезжать придется завтра, в Томилино, если предстоит жить на полулегальном положении, или на Арбате, естественно, через неделю после освобождения Риги, если каким-то путем удастся узнать, что квартиру не обыскивали и как после грабежа ее опечатали, так она и стоит нетронутой. Таково одно объяснение. Есть и второе. Но тут вы были правы, оно сейчас не так уж и нужно. Важнее другое: кто этот новый муж Барановой?
— Вполне лояльный человек. Уже пожилой. От воинской повинности освобожден по состоянию здоровья. Был вдов. В Ташкент выезжал к своей единственной родственнице — больной родной сестре. Прожил у нее три месяца, похоронил. Тут-то его, надо думать, и подцепила Баранова. Ни в какой деятельности, враждебной советской власти, никогда замешан не был, — дал справку Доронин.
— Ну и слава богу, что не был, — удовлетворенно ответил Круклис. — А то прямо страшно делается, сколько вокруг оказалось бы всяких мерзавцев. Значит, будем считать, что эта пройдоха охмурила в своих интересах ни в чем не повинного человека. В этом, я тебе скажу, тоже есть определенный смысл. Ну а как выглядит этот связник-проводник, которой привозил Барановой письма в Кострому?
— По биографии тоже чист. Коренной костромич. На транспорте работает с тридцатого года. По работе характеризуется положительно. В плену, в окружении не был. На оккупированной территории не проживал. Родственников за границей не имеет. Сам за границу никогда не выезжал. В сорок первом году был ранен при бомбежке. По инвалидности невоеннообязанный, — сообщил Доронин.
— Тоже хорошо, — одобрил Круклис. — А как попал в сети Барановой?
— Этого пока не знаем. Но с ней он практически не встречается.
— А как же передает письма?
— Привозит в Кострому, письмо перекладывает в чистый конверт и отправляет на главпочту до востребования, уже на ее имя, — ответил Доронин.
— Ну мошенница! И тут на всякий случай себя обезопасила! — не удержался от восхищения Круклис. — Но ведь хоть раз-то они встретились? Ведь когда-то она должна была научить его этой хитрости?
— Это, очевидно, можно будет узнать только от него или от нее.
— Пожалуй, — согласился Круклис. — Но тоже пока их трогать не станем. И будем терпеливо ждать развертывания дальнейших событий.
— Есть еще одно сообщение, уже несколько другого рода, — продолжал Доронин.
— Давай, — согласился Круклис.
— Местность, в которой вы были под Новый год у партизан, освободили. Мы сразу же связались с Центральным штабом партизанского движения и вышли на бывшего командира отряда. Он жив-здоров, на днях со всякими отчетами прибудет в Москву. Попросили его сразу же дать о себе знать.
— А ты знаешь, Владимир Иванович, я об этой истории, что у партизан произошла, пока был в Риге, много раз вспоминал, — задумчиво сказал Круклис. — И даже мысль была — по пути в Москву хоть на полдня заскочить к ним. Жаль, что время не позволило. Но почему-то думается, что все, что там произошло, непременно связано со всей этой акцией РСХА. Упорно, повторяю, думается…
— Вполне возможно, товарищ полковник. Приедет, узнаем точнее, — согласился Доронин.
— Приедет, может быть уже поздно. Нам сейчас надо знать. Поэтому вызови-ка его немедленно, — приказал Круклис.
Доронин взглянул на часы.
— Понял. Сегодня же. Сейчас же. Еще успею.
— И попроси, если у него нет готовых сведений о Шефнере, пусть специально поинтересуется, поговорит с людьми. Может быть, хоть что-нибудь все же о нем известно? Ведь если он остался жив, его не схватили и он в том, что у них произошло, ни в чем себя не запятнал и по-прежнему остался верен своим убеждениям, мы непременно должны будем его разыскать. Он еще понадобится и нам, и новой Германии. И еще как понадобится.
— В таком случае, может, кого-нибудь послать туда? — сразу предложил Доронин.
— Сначала давай с командиром отряда побеседуем, — не стал спешить Круклис.
Доронин хотел сообщить что-то еще. Но в комнату старшей сестры, в которой разместили Круклиса, неожиданно вошел врач и недвусмысленно дал понять, что на сегодня всякие разговоры заканчиваются. У него на этот счет имеются самые строгие указания руководства, и он не собирается их нарушать. Доронину волей-неволей пришлось ретироваться. Круклис поспал, а потом допоздна читал показания «двадцать второго».
Ночью небо над Москвой затянуло тучами. Они наплыли откуда-то с северо-запада, повисли над крышами. Круклис почувствовал, как голову у него сдавило, будто железными обручами. Заныли поломанная ключица и ребра. Но это еще как-то можно было терпеть. А голову разламывало на части. И Круклис позвал дежурную сестру. Она дала ему анальгин. Не помогло. Дала еще какие-то таблетки. Он промучился до рассвета и уснул тяжелым, сковывающим все тело сном, когда за окнами уже стали видны серые стены зданий. Пошел дождь. Где-то в районе Сокольников разразилась гроза. Но Круклис не слышал ее совершенно. Будить его не стали. А как только на работе появился Ефремов, немедленно доложили ему о резком ухудшении состояния полковника. Ефремов откровенно расстроился и вызвал на консультацию профессора, а заодно и Клавдию Дмитриевну.
Консультант приехал первым. И сразу же высказал свое профессорское неудовольствие по поводу медпункта.
— Как так можно? Кто до этого додумался? — гудел его бас. — При чем тут гипс?
Успокоило его лишь появление Клавдии Дмитриевны, мнением которой как специалиста он весьма дорожил. Они тут же подробно обсудили рецидив. Круклис к этому времени уже проснулся. И быстро сообразив, почему тут появился незнакомый ему пожилой мужчина в пенсне на золотой цепочке, с бородкой, в белоснежном колпаке и халате, так бесцеремонно со всеми разговаривающий, улыбнулся как можно приятней.
— Доброе утро, — поздоровался он со всеми сразу. — Кажется, я проспал все на свете?
— Как ты себя чувствуешь, Ян? — спросила Клавдия Дмитриевна.
— Нормально, — все так же улыбаясь, ответил Круклис. — А у вас что тут, выездная сессия?
— Вы угадали, мой дорогой, — ответил профессор, присел на койку Круклиса и привычным движением нащупал на руке у него пульс.
Потом он так же ловко открыл у него нижнее веко, попросил показать язык и откровенно признался, что ему все это не нравится.
Круклис понял, что, если он не отобьет эту атаку, минут через десять его из медпункта увезут куда-нибудь в госпиталь.
— А что случилось? — спросил он самым невинным тоном.
— А ты не помнишь? — в свою очередь, задала вопрос Клавдия Дмитриевна.
— Ничего не помню. Разве что под утро немного заболела голова…
— Немного? — усмехнулся профессор.
— Ну, как обычно.
— Я удивляюсь, как вы после такого количества всяких успокаивающих средств вообще сегодня проснулись, — укоризненно глядя на него, покачал головой профессор.
— Ерунда, — бодро ответил Круклис. — Моя дорогая супруга может вам подтвердить, что на меня все эти успокаивающие лекарства не действовали никогда.
— Это правда? — взглянул на Клавдию Дмитриевну профессор.
— Да. Это так, — ответила Клавдия Дмитриевна.
— А вы не верите! — подзадорил профессора Круклис.
— Допустим, — согласился профессор. — Я понимаю, что положить вас сюда ваше начальство заставили только какие-то чрезвычайные обстоятельства. Но произошедший сегодня рецидив показал, что это для вас небезопасно. И я должен сейчас решить, что с вами делать дальше. Поэтому отвечайте мне только правду.
— Правду! И только правду! Клянусь! — пообещал Круклис.
Профессор вздохнул и снова покачал головой.
— Сознание теряли? — задал он первый вопрос.
— Когда?
— После падения?
— Говорили, только на несколько минут сразу после падения.
— А потом?
— Боже упаси.
— А рвоты были?
— Никогда.
— Спазмы? Головокружение?
— Ничего похожего.
— Не верю!
— Ну как вам доказать?
— Никак не докажете.
— Спросите мою жену! — снова пошел на крайнюю меру Круклис. — Она все обо мне знает лучше меня.
— Только что с ней беседовал. Она, кстати, не заметила никаких симптомов сотрясения мозга, — признался профессор.
— Вот видите! — обрадовался Круклис. — А вы опять не верите…
— И не поверю никогда. Потому что так не бывает! — отрезал профессор. — Курите?
— Почти нет.
— Что значит «почти»?
— Ну, раз в неделю. Ну, два…
— Вот это вас и спасло. У вас не по возрасту эластичные сосуды. В чем заключается тут ваша работа?
— Раз в день выслушиваю доклады своего заместителя.
— И это все?
— Абсолютно.
— Долго он докладывает?
— Минут десять.
Профессор задал еще несколько вопросов и вышел с Клавдией Дмитриевной в коридор. Там они совещались не менее четверти часа. Потом вернулись, к удивлению Круклиса, уже вместе с Ефремовым. Генерал замыкал шествие медиков, приложив палец к губам. Круклис понял: надо молчать.
— Попробуем рискнуть, — обнадеживающе начал свой приговор профессор. — Но если что-нибудь подобное сегодняшнему повторится — безо всяких разговоров в госпиталь. Так, дорогой мой. Курить категорически запрещаю вам совсем. Читать — только что-нибудь этакое легонькое, лучше про природу. Доклады выслушивать через день, минут по пять, желательно во второй половине дня. Усиленное питание и витамины.
— Все будет выполнено, — ответили Круклис и Ефремов. И оба поблагодарили профессора за помощь.
Профессор попрощался. Оставив Круклиса с женой, за ним ушел Ефремов.
— Твоя работа? — пытливо взглянув на жену, спросил Круклис.
— Нет, Ян. Меня саму вызвал Ефремов.
— А кто же его надоумил тащить сюда этого деда?
— Это крупнейший невропатолог. Профессор…
— Предполагаю, что не коновал из деревни. Да что за нужда была? Подумаешь, голова заболела!
— Это очень серьезно, Ян. И я уверена, что у тебя есть сотрясение мозга. Но я же и упросила профессора оставить тебя тут. И это вовсе не потому, что я недооценила ситуацию. Просто из двух зол, зная тебя, я выбрала меньшее. Ведь в госпитале ты наверняка извел бы себя сам. Господи, и когда только ты уймешься? Поседел уже весь. Двое сыновей на фронте. Сам изранен, изломан, все не можешь найти покоя.
Круклис ласково погладил и поцеловал жене руку.
— Спасибо тебе за поддержку, за то, что правильно меня понимаешь. Даю слово, развяжемся с этой историей, и делай со мной, что хочешь. В госпиталь? В госпиталь. В санаторий? В санаторий. В сумасшедший дом? А черт с ним, где наша не пропадала!
— Не говори глупости. С сотрясением мозга туда не отправляют, — ответила Клавдия Дмитриевна и вызвала сестру. Она проинструктировала ее, оставила свои телефоны и попросила в случае ухудшения немедленно звонить и поспешила к своим больным. Круклис проследил через окно, как она села в машину, как выехала со двора, и тут же позвонил Доронину.
— Ну что там у нас сегодня, Владимир Иванович? — спросил он как ни в чем не бывало.
— Если ничего не отменяется, то художник, — напомнил Доронин.
— А что может отмениться? Давай его сюда, — приказал Круклис.
Остаток дня он занимался с художником созданием роботов обоих террористов. Зрительная память у него была на редкость цепкая. Он прекрасно запомнил их лица, со всеми характерными для обоих индивидуальными особенностями, и теперь старался добиться полного портретного сходства.
К вечеру, когда работа вполне удалась и была закончена, Круклис почувствовал, что немного устал. И решил вздремнуть. Но тут неожиданно явился Доронин и доложил о том, что к Степину прибыл гость. Всякую сонливость с Круклиса как рукой сняло.
— Кто такой? — сразу воспрянул он духом.
— Мужчина лет сорока пяти, в красноармейской форме: в обмотках, с вещмешком, со скаткой. Но без погон, — доложил Доронин.
— Почему решили, что он именно к Степину?
— Точно видели, спустился к нему, в его подвал. А через час Степин вышел из дома, доехал до Ярославского вокзала, побывал на квартире у «двадцать второго» в Софрине и оставил там в тайнике ключ, — доложил Доронин.
— Тогда вполне возможно, что это тот, кого мы ждем, и прибыл он по вашему вызову, — согласился с Дорониным Круклис. — И красноармейская форма тогда тоже очень кстати. Работает под фронтовика. Мало ли сейчас всякого люду возвращается по домам: и раненые, и больные, и уволенные в запас. И с документами для красноармейца проще. А раз помчался в Софрино, значит, либо гость что-то привез для «двадцать второго», либо сам пожелал увидеть его воочию. Второе — даже вероятнее. Проверить еще раз перед такой серьезной операцией, все ли тут в порядке, не мешает.
— Значит, встречу организовывать?
— Непременно. Но проинструктировать «двадцать второго» во всех деталях и строжайше предупредить: сорвет дело — возмездие наступит незамедлительно.
— Не сорвет, — ответил Доронин.
Круклис осуждающе взглянул на своего заместителя.
— Ох, Владимир Иванович, и откуда только в вас такая уверенность?
— Трус он, товарищ полковник. И, похоже, рад до смерти, что для него так дело обернулось.
— Ладно. Организовывайте, — не стал обсуждать эту тему полковник. — А главное, задание ему такое будет: узнать, и как можно точнее, когда прибудут те двое.
— Понял, — ответил Доронин.
На следующий день «двадцать второго» с утра пораньше отвезли в Софрино. В час дня из дома вышел Степин вместе с гостем. В три они уже были в поселке и стучали в дверь. «Двадцать второй» встретил их, как и обычно, без особой радости. Но выпроваживать не спешил и предложил чаю. Степин от угощения отказываться не стал. Но гость неожиданно возразил:
— Обстановка задерживаться не позволяет, — сказал он.
«Двадцать второй» сделал вид, что его удивляет такая обеспокоенность гостя.
— Да сюда даже в самое тревожное для них время ни один проверяющий не заглядывал, — объяснил он. — А если вдруг кто и заявится, так что за беда? Ходить в гости не возбраняется.
— И все же засиживаться не стоит, — ответил гость. — Береженого, как говорится, и бог бережет.
Он отошел в угол, расстегнул шаровары, снял с себя женский пояс с двумя молниями, открыл их и достал из-под подкладки две пачки сторублевок.
— Ровно двадцать пять тысяч, — протягивая деньги «двадцать второму», сказал он. — При очередном сеансе связи прошу подтвердить получение такими словами: благодарю двадцать пять раз.
— Да что это такое: неужели совсем перестали нам доверять? — развел руками «двадцать второй».
— Многое перестали, — заметил гость. — И еще приказано передать, чтобы в ближайшие десять дней из дома не отлучались.
— Это почему? Что случилось?
— Мне неизвестно, — ответил гость, застегивая шаровары.
— Но а как же мне не отлучаться? Я ведь работаю, — заметил «двадцать второй». — А за прогул тут по головке не гладят.
— Заболейте, — посоветовал гость.
— Легко сказать. Они для проверки врача пришлют на дом. Накладка может получиться.
— Не знаю. У меня от своих проблем голова кругом идет, — ответил гость и взглянул на Степина. — Идемте. Спешить надо.
Вернувшись в Москву, гость к Степину больше не заходил. А сразу же направился на Рижский вокзал. За ним проследили. Наблюдали, как он стоял в очереди к военному коменданту, как потом, сделав у него отметку и получив посадочный талон, еще часа два протолкался у кассы за билетом, как ждал поезда на Великие Луки, сел в вагон, следовавший до Резекне, и уехал. Как и было решено, задерживать его не стали. И лишь доложили обо всем Доронину. А тот Ефремову. А утром оба появились у Круклиса. Доронин был бодр. Все шло как надо. И полковника он об этом уже проинформировал. Ефремов кисло морщился. Круклис сразу заметил это, спросил:
— Что не так, Василий Петрович?
— Да думаю об этом мерзавце, которого вчера отпустили.
— Считаете, что неправильно сделали?
— Мало сделали, — усмехнулся Ефремов. — Надо было бы его, сукина сына, еще подстраховать на дорожку. А то они, чего доброго, еще сами разбомбят его где-нибудь в пути.
— Понимаю, послать ему в сопровождение пару истребителей было бы нелишне. Но не додумались. Извините, Василий Петрович, — в том же шутливом тоне ответил Круклис. — Но мы исправимся. Подтвердим радиограммой, что он тут был и именно так, как он об этом просил. Когда у «двадцать второго» очередной сеанс связи?
— Через два дня, — доложил Доронин.
— Вот тогда и подтвердим. А уж в следующий раз, а мы его вызовем, как только прибудут основные гости, можете быть уверены, он от нас не уйдет.
— Да уж, пока он на крючке, тянуть с этим не стоит, — согласился Ефремов. — Но я с другими сомнениями к вам пришел посоветоваться. Конечно, у нас все рассчитано и все пока идет так, как надо. Но неужели мы впустим в Москву этих двоих? Ведь вы подумайте, товарищи, они будут вооружены, что называется, до зубов. В том числе и минами дистанционного управления. И еще бог знает чем. Привезут какой-нибудь чумы, холеры. От этих гадов всего следует ожидать. А как они поведут себя в нашем городе, это мы можем только предполагать. Мы их ждем с одним заданием. А они могут прибыть сюда с совершенно другим. Заряды, которые они привезут, надо думать, будут умело замаскированы. Разложить их в разных местах, там, где ходит побольше народа, дело нетрудное. Взорвать по радио — еще легче. И вот вам уже эффект! Служба Шелленберга сумела сделать дело, а мы прохлопали. И где? В самом центре столицы. У себя под носом. А отсюда непременно политические выводы на весь белый свет. Геббельс не упустит случая, постарается объяснить: немецкая разведка сильна, как и прежде. Она все может и все умеет. Тут ведь игра-то простая. Что вы скажете по этому поводу?
— Опасения ваши вполне реальны, Василий Петрович. Мне они тоже в голову приходили, — ответил Круклис. — И все же, взвесив все имеющиеся в нашем распоряжении сведения, я думаю, что террористы не станут размениваться на мелочи.
— Это не мелочи, о чем я говорил, — заметил Ефремов.
— Но ведь все это: и взрывы мин, и прочие возможные диверсии, могли бы осуществить другие лица. Скажем, тот же вчерашний связной. Разве он не мог где-нибудь оставить любой сюрприз? Который, кстати сказать, взорвал бы, подав нужный сигнал, тот же «двадцать второй»?
— Резонно, — согласился Ефремов.
— Но тем не менее они этого не сделали…
— Хорошо, Ян. Но скажи, разве одно исключает другое? — спросил Ефремов. — Почему мы решили, что они прибудут сюда только с одним, с главным заданием?
— Совершенно не исключает.
— И еще вопрос на засыпку, — продолжал Ефремов. — Мы предполагаем, что, добравшись до Москвы, террористы прямиком махнут в Софрино, а уж оттуда будут выезжать непосредственно на задания. А если по каким-либо причинам, возможно, даже совершенно непредвиденным, им этот план придется переиграть? Где тогда мы будем их брать?
— Случиться, конечно, может всякое. Но жить они приедут, я уверен, именно в Софрино, — убежденно ответил Круклис.
— Почему уверен? — снова спросил Ефремов.
— Потому что, во-первых, жить им надо не где-нибудь, а в хорошо законспирированном месте. Это требуется для их же собственной безопасности. А Софрино в этом отношении просто идеально. Во-вторых, жить надо долго — не день, возможно, месяц, а то и два. Опять же потому, что то задание, с которым они сюда направлены, с ходу не выполнишь. Только на выбор позиции, обеспечивающей надежный выстрел и безопасный отход, уйдет неделя, а может, и больше…
— И все же, товарищи, появление террористов в Москве по возможности надо исключить полностью, — сказал Ефремов.
— Это другой вопрос. Другая задача, — ответил Круклис.
— Именно так, — подтвердил Ефремов. — И мы ее выполним. Естественно, не одни. Нам помогут.
— Два дня, чтобы обдумать все это, я считаю, у нас есть…
Это был приказ. И к его выполнению приступили немедленно. Но на звонки, на разного рода согласования ушла почти неделя. За это время пришлось еще раз свозить «двадцать второго» в Софрино и устроить ему встречу со Степиным. Связной привез «двадцать второму» письмо от Барановой. Она сообщала, что решила несколько задержаться в Костроме и в Москву не выезжать. При этом никаких причин такому решению она не указывала. Когда об этом сообщили Круклису, он задумался.
— Центр приказывал вернуться, — напомнил Доронин. — Впрочем, может быть, получила другое указание?
Круклис покачал головой.
— Ничего она не получала, Владимир Иванович. Просто по-настоящему запахло жареным, и она не захотела лезть в огонь. Вот и все объяснения, — решил он.
— А за невыполнение приказа?
Круклис безнадежно махнул рукой.
— Она великолепно учитывает, что сейчас не сорок первый год. И что ее еще надо найти. А вы думаете, она только от нас так тщательно запутывала свои следы? Нет, она все предусмотрела. Хитра, бестия. И осмотрительна… Ладно. Возьмем в Костроме.
Произошло и еще одно событие. В Москву приехал командир партизанского отряда. Его провели к Круклису. Встреча их, несмотря на состояние Круклиса, была теплой. Командир рассказал все, что ему было известно о гибели Зои и Ермилова. Сведения были достоверными. Командир отряда получил их от Веры и от матери Зои, которую местные жители, опасаясь мести карателей, в тот же день, когда все это произошло, переправили в партизанский отряд. Могилы Зои и Ермилова находятся в лесу. Но уже есть решение поселкового совета: прах героев-партизан перезахоронить в сквере в центре поселка.
— А вот о немецком майоре узнать удалось очень мало, — вынужден был признаться командир отряда. — Но когда немцы удирали, а вся полигонная команда эвакуировалась в тыл, его видели в легковой машине. Уезжал вместе со всеми. Отсюда можно сделать вывод, что его не забирали и он никаким репрессиям на тот период не подвергался.
— А точно это был он? Не перепутали? — спросил Круклис.
— Он, точно он. Его знали, — уверенно ответил командир отряда. — Он ведь и в поселке бывал, приезжал к Зоиной матери, и на полигоне его видели очень часто.
Что же касается сведений относительно его участия в истории гибели наших товарищей, то тут вам самим, пожалуй, может быть известно даже больше, чем нам.
— Каким образом? — удивился Круклис.
— Дело простое. Немцы, отступая, бросили полицаев, охранявших полигон, на произвол судьбы. Те — в лес. А там — мы. Короткая схватка. Четверых захватили. Остальных перебили. Тех, которых захватили, сдали в НКВД, — объяснил командир отряда.
— Кому сдали конкретно? Где? — попросил уточнить Круклис.
Командир отряда назвал по фамилиям всех. Доронин записал.
— Сегодня же свяжитесь по телефону или дайте телеграмму: пусть всех четверых доставят к нам, — приказал Доронину Круклис. И добавил, обращаясь уже к командиру отряда: — Тогда, безусловно, мы все узнаем сами. И очень хочется надеяться на то, что Шефнер остался честным антифашистом.
К исходу недели Ефремов утвердил план обезвреживания террористов на дальних подступах к Москве. Для непосредственного выполнения этой операции из Костромы были вызваны Медведев и Петренко.
Глава 51
В ночь с третьего на четвертое сентября поступило донесение из Риги: «Мотоцикл марки М-72 сегодня доставлен из мастерской на военный аэродром в Скульте». Это означало, что операция вступила в решающую фазу. По всем постам в треугольнике Москва — Смоленск — Нелидово было объявлено положение повышенной боевой готовности. Однако прошли почти сутки, а никаких сообщений от постов воздушного наблюдения о пролете неприятельских самолетов над советской территорией не поступало.
Запросили синоптиков относительно летной обстановки. Получили ответ: «Погода в полосе боевых действий войск 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов обеспечивает полеты без ограничений. В полосе боевых действий 3-го Белорусского фронта — полеты по минимуму погоды».
Ефремов позвонил Круклису:
— Молчат, Ян Францевич, друзья из ПВО.
— А что же они могут сообщить, если не летит никто? — ответил Круклис.
— Так и я о том же. Не обознались твои земляки?
— Мои нет. А вот за немцев — не ручаюсь.
— О сводке синоптиков тебе докладывали?
— Да. Я не знаю, что они там изобретали у этого Мессершмитта, но думаю, что погода их не напугает.
— Слушай! Ты можешь без дипломатии? Мне каждые три минуты с самого верха звонят!
— Могу, Василий Петрович. Скажите им, чтобы не звонили. А надо будет, мы сами доложим.
— Ну, спасибо. Другого, откровенно говоря, я от тебя и не ждал…
Круклис тотчас же вызвал Доронина.
— Что там, Владимир Иванович?
— Тишина, товарищ полковник.
— Ну, раз тишина, значит, обязательно прилетят. Сообщи тогда немедленно.
Круклис положил трубку на рычаги и подумал: «Темноты они ждут». Прошло еще часа полтора. И вдруг звонок Доронина.
— Товарищ полковник, с дальних постов докладывают, что вражеский самолет пересек линию фронта и держит курс в глубь нашей территории.
— Откуда пересек-то?
— Идет с территории Латвии.
— Значит, тот, кого мы ждем, — уверенно решил Круклис. — Куда летит?
— Предположительно на Смоленск.
— Следи, Владимир Иванович.
Прошло двадцать минут, и Доронин позвонил снова:
— Точно, товарищ полковник, долетел до Смоленска и был встречен сильным зенитным огнем, — доложил он.
— С ума они спятили! — так и взорвался Круклис. — Вот уж воистину, заставь богу молиться! Сшибут ведь!
— Да нет, вроде обошлось. Набрал высоту и идет дальше. На Вязьму, — сообщил Доронин.
На подлете к Вязьме неизвестный самолет снова встретили огнем зенитчики Особой московской армии ПВО. Об этом Круклису также сообщил Доронин. Он держал постоянную прямую связь с командным пунктом и был в курсе всех событий в зоне действия войск ПВО.
После второго обстрела самолет врага, несколько изменив курс, со снижением полетел в северо-западном направлении. Было похоже, что в этом направлении он и пойдет на посадку.
Вместе со всеми за действиями врага следили и воины роты, которой командовал капитан Травкин. Самолет явно снижался, и Травкин передал приказ на пост ВНОС, которым командовал старший сержант Мартынов:
— Сядут у тебя. Не упустите тех, кого они высадят!
— Мы готовы, товарищ капитан! — доложил Мартынов.
Через несколько минут на посту услышали гул моторов.
Потом в небе ярко вспыхнули три мощных луча и заскользили по лесу в направлении луга, раскинувшегося неподалеку от деревни Куклово. Мартынов и бывшие с ним четверо бойцов — Андреев, Селезнев, Абрамов и Балашев — со всех ног бросились за промелькнувшим над постом самолетом.
Но он пролетел еще километров десять, прежде чем приземлился.
Группе Мартынова пришлось поднажать. Спешили по направлению удалявшегося шума самолета, а потом вдруг увидели впереди озаренные отсветом пожара верхушки деревьев. Это было что-то непонятное. И Мартынов остановил бойцов.
— Что это там? — запыхавшись, спросил он.
— Горит что-то…
— Да что именно?
— Может, лес они подожгли?
Гадать не стали. Разбились на группы и поспешили к огню с двух сторон, охватом. Прошли еще с километр и очутились на поляне, в дальнем конце которой возвышалось что-то громоздкое и несуразное. Подобрались поближе. Стало понятно, что это самолет. Но такой, какого еще никто и никогда не видел. Метрах в тридцати пяти от него на земле что-то горело. А сам самолет как-то очень нелепо уткнулся одним крылом в могучую ель. И никого вокруг — ни живых, ни мертвых. Лишь на траве валялись разбросанные тут и там термосы, бинокли, сброшенные в спешке комбинезоны.
— Смылись, гады, — оценил ситуацию Мартынов.
— И до луга не дотянул, — заметил Андреев.
— Ошиблись они малость. За луг поляну эту приняли. А она коротковатой оказалась, — сказал Мартынов. — Поворачивай-ка ты, Андреев, назад и жми к ротному. Доложи, как тут и что, а мы покараулим эту технику. Может, еще вернется кто…
Андреев поспешил в подразделение. Но и в роте, и в полку уже знали, что самолет противника приземлился где-то неподалеку от Куклово. И туда уже с разных сторон на машинах и на мотоциклах спешили наши люди. Несколько поисковых групп перекрыли дороги, ведущие от места посадки самолета. Сделано это было совершенно своевременно. Только рассвело, и бойцы одной из групп заметили неподалеку от деревни Большие Триселы на дороге, ведущей к Ржеву, мотоцикл с коляской. Его остановили. За рулем мотоцикла сидел майор, Герой Советского Союза. В коляске — женщина в военной форме, с погонами младшего лейтенанта медицинской службы.
— Дорожный патруль. Прошу предъявить документы, — попросил майора старший группы.
Майор предъявил удостоверение личности и отпускной билет.
— Таврин Петр Иванович, — прочитал вслух старший группы. — Откуда следуете, товарищ майор?
— Из Демидова, — ответил Политов.
Старший группы, как, впрочем, и все другие лица, привлеченные в эти дни к операции по задержанию террористов, был подробно проинструктирован контрразведчиками, на кого из незнакомых лиц в первую очередь обращать особое внимание. Он, конечно, не знал того, что один из вражеских агентов будет одет в форму майора Красной армии, а другая — младшего лейтенанта медицинской службы. Тем более не думал он, что на груди у майора будет сиять Золотая Звезда Героя Советского Союза. Больше того, его даже предупреждали, что мужчина будет одет в коричневое кожаное пальто с прямыми плечами и двумя карманами на левой стороне. Не видел он и фотороботы, изображавшие ожидаемых террористов. Не дошел до него портрет, созданный по описаниям полковника Круклиса. Не хватило на всех фотографий. Но многое тем не менее старшему группы было известно. Знал он, например, точно, что агентов будет двое. Знал, что поедут они на мотоцикле. И не на каком-нибудь трофейном «цуидапе» или БМВ, а на нашем отечественном М-72. Знал, что появления этих двоих следует ожидать именно в этом районе. И не когда-нибудь, а вот-вот, с минуты на минуту.
А оно так и оказалось. И возникло неожиданно еще одно обстоятельство, которое сразу заставило вдвойне насторожиться старшего группы. Майор сказал, что едут они из Демидова. По самым скромным подсчетам это было отсюда километров за двести. Добираться оттуда надо было часов пять, а то и шесть. Все это время шел дождь. А они, эти двое, были совершенно сухими, будто только что выехали из-под крыши. И мотоцикл чист, даже колеса почти не запачканы. Тут явно что-то было не так. И старший группы сказал:
— Товарищ майор, вы выезжаете из прифронтового района. Вам следует отметиться в райвоенкомате.
— Пожалуйста, — не стал возражать Политов. — Только где он, этот райвоенкомат?
— А вас проводят, — ответил старший группы. — Можете даже проехать на нашей машине. А младший лейтенант медицинской службы вас тут подождет. Возьмите только с собой ее документы.
— Да нет, мы уж вместе. На своем транспорте. Зачем время терять? — резонно ответил Политов.
Старший группы скомандовал двум автоматчикам, те вскочили в кузов полуторки, и машина, подпрыгивая на ухабах размытой дождем дороги, покатила в райцентр, указывая путь мотоциклисту. Ехать пришлось почти час. Автоматчики ни на секунду не сводили с обоих глаз. Однако до райцентра добрались безо всяких осложнений. Похоже было, что террористы ничего не заподозрили, во всяком случае, внешне ничем своего беспокойства не выказывали. Да если бы они и попытались пустить в ход оружие и освободиться от своих провожатых, ничего бы у них из этого не получилось. И Политову, и Шиловой еще пришлось бы доставать оружие. А у автоматчиков оно уже было в руках и наготове. Да и старший группы, догадываясь, кого он сопровождает, тоже был готов в любую секунду выпрыгнуть из кабины и открыть огонь.
Возле райвоенкомата остановились. Старший группы и водитель вылезли из кабины.
На крыльцо из военкомата вышел дежурный.
— Военком у себя? — спросил старший группы.
— У себя, — ответил дежурный.
— Доложи: Герой Советского Союза майор Таврин из демидовского госпиталя, отметиться, — сказал старший группы.
Дежурный скрылся за дверью. А старший группы подошел к мотоциклу.
— Пойдемте, товарищ майор. Я вам покажу, где кабинет военкома. — сказал он.
Политов взял у Шиловой документы, недовольно спросил:
— Вы что же, всех так сопровождаете?
— Вас, товарищ майор, исключительно из уважения к вашим заслугам. Зачем вам во все двери толкаться?
— Тогда другое дело, — согласился Политов.
Они поднялись на второй этаж, прошли вдоль коридора, завернули за угол и очутились в маленькой приемной.
— Военком проводит инструктаж. Но вы заходите. Он разрешил. Вам же быстро… — сказал уже знакомый им дежурный.
Старший группы пропустил Политова вперед.
— Пожалуйста, товарищ майор.
Политов вошел в кабинет. Там было человек семь-восемь. На двоих была милицейская форма. Все вооружены. У двоих Политов увидел автоматы. У остальных на ремнях висели пистолеты. Все стояли перед столом А за столом военкома стоял майор Медведев и что-то им объяснял. В отличие от старшего группы, который задержал Политова только по подозрениям, Дмитрий Николаевич сразу же узнал его по изображению фоторобота. И в который раз невольно восхитился зрительной памятью своего начальника. Ведь Круклис видел этого человека в Риге всего несколько минут. А описал его художнику настолько точно, что тот сумел создать портрет, удивительно похожий на прототип.
— Здравия желаю! Говорят, у вас отметиться надо, — стараясь держаться свободнее, сказал Политов.
Присутствовавшие расступились, пропуская его к столу.
— Здравия желаю, товарищ майор, — ответил Медведев. — Совершенно верно. Таков порядок.
Политов протянул ему документы: свои и Шиловой.
— Вы что же, вдвоем? — спросил Медведев.
— Так точно. Едем вместе с младшим лейтенантом медицинской службы Лидией Яковлевной Шиловой. Она и меня сопровождает, и одновременно в командировке по каким-то госпитальным делам, — объяснил Политов.
— А почему же она сама сюда не явилась? — спросил Медведев.
— Да вы знаете, товарищ майор, порастрясло ее, устала. Оно понятно. Женщина. Да и чего вам на нее смотреть? Вот все ее документы, — попытался уговорить Медведева Политов.
Но Медведев держался сухо, подчеркнуто официально.
— Тем не менее придется потревожить. Дежурный! Пригласите младшего лейтенанта медицинской службы сюда! — приказал он.
Дежурный выбежал выполнять приказание. А Медведев продолжал как ни в чем не бывало:
— Оружие есть?
— А как же? В документах записано, — достал из кармана аттестат Политов.
— Я имею в виду кроме записанного ТТ еще что-нибудь везете?
— Что вы, товарищ майор! — развел руками Политов.
— А ваша попутчица?
— Да не должна бы, — замялся Политов.
— Вот видите, точно вам неизвестно. А нам это нужно знать. Потому я и попросил пригласить ее сюда, — объяснил Медведев. — А на мотоцикл документы у вас имеются?
— Конечно, товарищ майор. И технический паспорт, и права, — снова полез в карман Политов. Достал их и также протянул Медведеву.
Медведев проверил и то и другое, сказал:
— В вашем отпускном билете записано, что вы следуете к месту отдыха через Москву. При въезде в город вас обязательно будет проверять ГАИ. Поэтому мы тоже должны сверить номера на мотоцикле с номерами, указанными в документе.
Вот этого Политов не ожидал.
— Да зачем вам это? Мотоцикл грязный. Охота вам пачкаться. Пусть милиция и проверяет, — явно не желая никакой проверки, снова попытался он отговорить майора.
Но Медведев знал, что он делал.
— Вот милиция и проверит, — ответил он, передал технический паспорт одному из милиционеров и предупредил: — Проверьте все как положено.
— Послушай, майор! — еще больше заволновался Политов. — Там лежат личные вещи этой Шиловой. Мало ли чего потом она недосчитается?
— Все будет в порядке, — заверил Медведев и снова обратился к милиционерам: — Выполняйте.
— Вы в конце концов не имеете права этого делать! Я буду жаловаться! — теряя над собой контроль, повысил голос Политов.
— Мы имеем право делать все, что посчитаем нужным, — глядя в глаза Политову, ответил Медведев и добавил: — Тем более что мы ждем вас уже давно.
Сказав это, он выдвинул ящик из стола, взял фоторобот и протянул его Политову.
— Узнаете себя?
Политов мгновенно побледнел.
— Это провокация! — попытался рвануть он от стола.
Но было поздно. Окружавшие его люди не дали ему сделать и пол-оборота. Они схватили его за руки, заломили их ему за спину и защелкнули на них трофейные немецкие наручники.
— Вы арестованы. И не пытайтесь сопротивляться, — предупредил Медведев. — Обыщите его!
Политова общупали, достали из заднего кармана брюк короткоствольный «менц лилипут», расстегнули шаровары, размотали на животе повязку и достали из-под нее «вальтер», изъяли все документы, а из кармана для часов — маленькую ампулу с ядом — последний напутственный подарок Краусса…
Шилову на второй этаж не повели. Дежурный проводил ее в кабинет на первом этаже, в котором уже находились четверо мужчин.
— Посидите, — сказал дежурный. — Майор сейчас подойдет.
Шилова сразу почувствовала что-то неладное. Но, стараясь не выдать своего волнения, послушно села на стул. Сейчас ее больше всего тревожило то, что она оказалась одна. Политова тоже пригласили к военкому. Но почему-то в этой комнате его не было… Ждать, однако, пришлось недолго. Скоро в комнату действительно вошел майор, подошел к Шиловой и протянул ей ее фоторобот.
— Кто это? — спросил он.
Шилова сразу узнала себя. Но сделала вид, что ничего не поняла.
— Я не знаю, — недоуменно пожала она плечами.
— А вы посмотрите внимательнее, — посоветовал майор.
Шилова взглянула на фотографию еще раз.
— Но я не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете, — снова перевела она взгляд на майора.
— Все вы прекрасно понимаете, — сказал Медведев. — И себя вы сразу узнали. И мы вас тоже узнали. И сообщаем вам, что ваша миссия закончилась. Вы арестованы.
— Я? За что? — почти вскрикнула Шилова. — Это какое-то недоразумение? Где майор Таврин?
— Не шумите. Тот, кого вы называете Тавриным, тоже уже арестован, — ответил Медведев. — Чтобы убедить вас в том, что игра вами проиграна, я мог бы рассказать вам историю появления этой фотографии. Напомнить Ригу, ателье, заказ и примерку кожаного пальто для вашего напарника. Но более убедительным аргументом, я думаю, окажутся спрятанные в вашем мотоцикле вещи. Через несколько минут мы вам их покажем. И тогда вы, очевидно, поймете, что изворачиваться глупо.
В комнату вошла женщина в милицейской форме.
— Обыщите арестованную, — приказал Медведев.
Шилову обыскали. У нее не нашли ничего.
На улице тем временем, что называется, по винтику разбирали мотоцикл и коляску. Делается медленно, ломается быстро. И уже через час от М-72 остались лишь отдельные части. А на столе в кабинете военкома появились семь пистолетов, включая и те, что были отобраны у Политова, портативная радиостанция, «панцеркнакке» и двенадцать реактивных снарядов кумулятивного действия к нему, мина со взрывным устройством, управляемым по радио, ручные гранаты советского производства Ф-1, четыреста двадцать восемь тысяч рублей, сто шестнадцать подлинных и поддельных печатей и штампов, десяток различных бланков, обеспечивающих изготовление многих документов, действующих в СССР, шифровальные таблицы и коды, средства тайнописи и коричневое кожаное пальто с прямыми плечами и двумя карманами слева.
Политову ничего этого даже не стали показывать. А Шиловой, как и обещал Медведев, предъявили. Но, конечно, не ради данного слова. Она, как женщина, естественно, была морально послабее своего напарника. На нее убедительнее действовали всякие улики. Ее легче было сломить. И легче заставить говорить правду. А узнать от них обоих надо было очень много. Поэтому, подведя Шилову к столу, Медведев посоветовал:
— Отпираться глупо. Вашу участь может облегчить только чистосердечное признание и правдивые ответы на все вопросы, которые вам будут заданы во время следствия. Готовьтесь к этому.
В восемь утра Медведев позвонил Доронину. Доложил об успешном завершении дела.
— С шефом хочешь поговорить? — спросил Доронин.
— Конечно, — обрадовался Медведев. — Как он себя чувствует?
— Я думаю, твой доклад будет для него полезнее всяких лекарств. Сейчас соединю, — ответил Доронин.
Круклис уже не спал. И, взяв трубку и выслушав доклад Медведева, взволнованно проговорил:
— Молодец! Все молодцы! Такое дело сделали!
И, выдержав небольшую паузу, уже совсем другим голосом, озорным и довольным, будто сразу помолодевшим, спросил:
— Слушай, Дмитрий Николаевич, а правда на фотороботе они похожи?
— Еще как, товарищ полковник. Я только взглянул, сразу узнал. И они себя мгновенно узнали, — ответил Медведев.
— Ладно. Действуй, как разработано. Только смотри, чтобы они чего-нибудь с собой не натворили, — предостерег Круклис.
— У него яд сразу же отобрали. А у нее ничего не было. Так что бояться в этом отношении нечего, — успокоил полковника Медведев.
В тот же день террористы были доставлены в Москву. К Круклису пришли Ефремов и Доронин. От души поздравили друг друга.
— Что будем делать с остальными? — спросил Ефремов.
— Проведем первые допросы и решим, — ответил Круклис.
— А не затянем? Не отпугнем? — выразил беспокойство Ефремов.
— Да ведь мы действуем примерно с их же скоростью. Им ведь тоже надо было добраться до города, мало-мальски оглядеться, а уж потом и на связь выходить, — прикинул Круклис. — Я бы обязательно сообщил, что самолет потерпел при посадке аварию. Указал бы координаты, где он находится. И честное слово, для пользы дела даже разрешил бы их воздушной разведке убедиться в этом.
— Не уверен, что руководство поддержит эту мысль. Дать возможность врагу так глубоко залететь в наш тыл? — усомнился Ефремов.
— Какому врагу, Василий Петрович! Бомбардировщик для аэросъемки они посылать не станут. Истребитель — не дотянет. А если прилетит «рама» — что страшного сможет она сделать?
— Не знаю, — остался при своем мнении Ефремов. — Но доложу.
На первом же допросе Шилова дала важные показания. Она сообщила, что подтверждение об их благополучном прибытии на место должно было поступить в центр либо на третий, либо на пятый день только от нее самой. Ей предложили написать текст радиограммы.
«Мы там, где нас ждали. Птица не вернется. Приступаем к работе», — написала Шилова. И добавила устно:
— Первая фраза должна быть обязательно такой.
— Почему? — спросили ее.
— Это пароль, — объяснила Шилова.
— Ваш партнер что-нибудь знает о нем?
— Нет. Его в эти тонкости с целью конспирации не посвящали, — ответила Шилова.
— Кто вам сообщил этот пароль?
— Лично штурмбаннфюрер Краусс перед самым отлетом.
— Какие еще особые и дополнительные инструкции он вам дал?
Шилова задумалась.
— По связи — никаких, — сказала она.
— А вообще?
— Убрать Политова, если он струсит или начнет уклоняться от выполнения задания.
— Политов — это его настоящая фамилия?
— Это мне неизвестно. Но когда регистрировали наш брак, его фамилия была именно этой.
— Куда вы направлялись с места посадки самолета?
— Мы должны были прибыть в Москву и остановиться у нашего связного.
— Фамилия связного?
— Степин.
— Адрес, где он проживает.
Шилова указала Трубниковский переулок.
— А о загородной даче в Софрино вам ничего не говорили?
— Говорили.
— Что именно?
— По первому варианту плана мы должны были поселиться там.
— Почему же план изменился?
— Штурмбаннфюрер Краусс объяснил это тем, что ежедневные поездки из Софрина в Москву и обратно заняли бы слишком много времени. А с выполнением задания следовало спешить.
Сведения, полученные на допросе, сообщили Круклису.
— Ишь, как их прижали! Гляди, как они заторопились! И о безопасности забыли, — довольно ухмыльнулся он. — А змее этой все равно не стоит доверять. Ну ее к дьяволу. На мой взгляд, ее вообще надо вывести из игры. Такая тварь одним знаком может испортить нам все дело.
— Но они ждут подтверждения именно от нее, — напомнил Доронин.
— Мало ли чего они там ждут. Нет ее. Была и не стало. Убили. Стрельнул кто-то вдогонку и прихлопнул вместе со всеми паролями. А ее напарник благополучно добрался до связного. Но сам-то он не радист. Вот и пришлось опять использовать «двадцать второго».
Чтобы в создавшейся ситуации все выглядело правдивее, донесение в центр за линию фронта послали не на третий день и не на пятый, как было условлено, а на шестой. Текст донесения редактировал Круклис. «Начал работать. Живу на даче. Птица не вернется. Жену похоронил. Общаться будем по установленному графику», — отстучал «двадцать второй».
Ответ радисты приняли в тот же день. «Немедленно сообщите, что случилось с птицей? Где она?» — потребовал сведения Берлин.
Круклис позвонил Ефремову.
— Их больше всего заинтересовал самолет. Что с ним и где он? — сказал он. — Вы еще не докладывали относительно пропуска воздушного разведчика? Уверен, что они пошлют его немедленно.
— Ну раз они сами решили начинать проверку именно с самолета, доложу сейчас же, — пообещал Ефремов.
И доложил. И получил после согласования с командованием ПВО положительный ответ. Координаты посадки «Арадо» были тотчас посланы в Берлин. А уже на следующее утро над Кармановским районом было замечено появление немецкого разведывательного самолета. Он покружился над лесом возле Куклово и улетел. При перелете через линию фронта его, для порядка, обстреляли наши зенитчики, но особенно при этом не усердствовали, и неприятельский разведчик благополучно удалился за линию фронта в сторону Риги.
— На этом они не успокоятся. Раз что-то случилось, наверняка проверят и главного исполнителя. А вот куда толкнется проверяющий: на Трубниковский, в Софрино или еще в какое-нибудь третье, неизвестное нам место — это вопрос. Поэтому ждать будем и тут, и там и будем готовиться ко всяким неожиданностям, — поставил задачу своим подчиненным Круклис.
Однако судьбой террористов интересовался не только вражеский центр. Пришло письмо и из Костромы. Степин получил его по известной уже цепочке. Но с содержанием письма уже ознакомились, как только оно поступило в Костроме на главную почту на имя Трушина. Письмо следовало передать «двадцать второму», у которого Баранова спрашивала: «приезжал ли дядя и долго ли собирается гостить?»
— Ох, хитра! Ох, подла! Всех норовит околпачить. Все, мол, закончится, вот тогда я и появлюсь, — невольно воскликнул Круклис.
— А может, не с этой целью интересуется? — спросил Доронин. — Может, это и есть та самая проверка, о которой мы говорили.
Круклису вопрос показался разумным. Он задумался.
— Конечно, все может быть. И отказ ее вернуться тоже, вероятно, подстроен. Но я почему-то думаю по-другому. Все они сейчас так или иначе стараются выйти из воды сухими. Чувствуют неминуемый крах, мечутся, злобствуют, а сами потихоньку присматривают для себя нору поглубже да заводь потише. Ладно. Пусть хитрят. Скоро все узнаем в деталях. «Двадцать второму» надо дать возможность еще раз встретиться со Степиным. Пусть тот передаст ему письмо, пусть «двадцать второй» его прочитает и тут же напишет ответ, что, мол, дядя добрался благополучно и с месячишко наверняка поживет у него, и пусть Степин этот ответ отправит Барановой. Но я почти уверен, что это не проверка для центра. Тот проверяющий еще появится. И вот тогда мы покончим с ними со всеми разом. Выкорчуем весь этот поганый куст. И поручим мы это дело Леониду Сергеевичу. Пусть он им займется.
Все произошло так, как это предвидел Круклис. Письмо Барановой от «двадцать второго» ушло. А через неделю у дома в Трубниковском переулке появился уже известный контрразведчикам мужчина в красноармейской шинели. Степина дома не оказалось, контрразведчикам об этом было известно, и связной направился к фонтану на Собачьей площадке. Знал он о существовании тайника или не знал, но он не сделал даже попытки приблизиться к старой трубе. Он сидел на скамейке, курил, что-то даже пожевывал, читал газету, но к тайнику не подходил.
Часа через два он снова подошел к двери квартиры Степина. На этот раз истопник оказался дома. Он открыл гостю дверь, мельком оглядевшись, впустил его и тут же закрыл ее. Им дали поговорить. А точнее, дали возможность неизвестному поставить задачу Степину. Очевидно, она была короткой, как, впрочем, и вся их беседа. Потому что через полчаса Степин вышел из дома и направился в сторону станции метро Смоленская. Но до метро ему дойти не дали. На углу Трубниковского и Спасопесковской площади его остановили двое контрразведчиков.
— Вы Степин? — спросил его Петренко.
— Да. А что? — взметнул брови истопник.
— Вы арестованы!
— На каком основании? — сразу осип истопник.
Из Карманицкого переулка выехала машина, быстро подъехала к ним. Из нее выскочили еще двое в военной форме. Они подхватили истопника под руки и без лишней суеты усадили в машину.
— За что меня? Я ничего не делал… — хрипел истопник.
Его надо было сразу припереть фактами, потому что от него сейчас же требовались некоторые сведения, и Петренко объяснил:
— Вы арестованы за измену Родине! За антисоветскую деятельность! За пособничество вражеским шпионам Барановой и Помазкову. Достаточно?
— Барановой? — почти шепотом переспросил истопник.
— Да, Барановой. У мужа которой, подполковника царской армии Судзиловского, вы служили и вместе с которым вас судили в Сызрани. Забыли?
Степин ничего не ответил. Тогда к вопросам перешел Петренко:
— Кто в данный момент находится в вашей квартире?
— Я его не знаю, — ответил Степин.
— Не лгите! Он к вам приходит уже не первый раз!
— Ей-богу, не ведаю. Знаю только, что он с той стороны.
— Чем он сейчас может заниматься?
— Наверняка спит. У него еще при мне глаза слипались.
— Он вооружен?
— Сам видел, как он под подушку «лимонку» сунул.
— Ключ от квартиры у вас?
— Он оставил себе.
— Тогда пойдемте.
Степина снова привели домой. Наблюдавшие за подъездом сотрудники сообщили:
— В квартире. Не выходил.
Петренко кратко проинструктировал Степина:
— Постучитесь. Добудитесь. Попросите, чтобы открыл. Скажете, что забыли документы.
И предупредил:
— Малейшая попытка помочь врагу — и вы будете застрелены на месте, как при попытке к бегству!
Степин постучал в дверь. В квартире было тихо. Он постучал сильнее и попросил:
— Открой, слышь? Это я.
Ему не ответили. Он постучал еще сильнее. Даже ударил ногой. И снова попросил:
— Да открой же!
— Зачем тебе? — послышался глухой голос из-за двери.
— Документы я забыл. А без документов таперича куда? Открой… — торопливо объяснил истопник.
Ключ в дверях повернулся. Дверь приоткрылась. И в тот же момент двое контрразведчиков с силой распахнули ее и влетели в квартиру.
Но связной будто ждал подвоха. Он успел проворно отскочить в сторону. И, подняв над головой зажатую в руке гранату, зло прошипел:
— Ни с места! Всех в клочья разнесу!
И все же он не ждал, что к нему ворвутся люди. Иначе он либо заранее выдернул бы кольцо, либо держал бы его второй рукой. А он свободной левой рукой мертвой хваткой вцепился в спинку стула, будто в ней было теперь все его спасение. Это заметил один из контрразведчиков и бросился на связного. Но тот толкнул ему под ноги стул. И пока контрразведчик перепрыгивал через него, связной успел вырвать чеку и швырнуть гранату на пол. Четыре секунды были у контрразведчиков на то, чтобы принять решение и что-то успеть сделать, чтобы остаться живыми. И этого времени хватило. Петренко что было сил ударил гранату ногой и отшвырнул ее в открытую дверь кухни. Она, крутясь как волчок, улетела под кухонный шкаф и там взорвалась с оглушительным грохотом. Ударной волной вышибло входную дверь. В комнате и на кухне со звоном вылетели стекла. Но осколки гранаты ушли в стены. Только два из них вонзились в ногу Петренко. Но и он вместе со всеми вцепился в связного. Тому даже не дали подняться с пола. Скрутили ему руки за спину и оставили на полу, перевернув спиной кверху. После этого контрразведчики поспешили на помощь майору. Но тут Петренко вдруг спохватился:
— Стойте! А где Степин?
Контрразведчики оглянулись на дверь. Но не по годам оказавшегося проворным истопника и след простыл. Контрразведчики бросились за ним.
Выбежали на лестничную площадку и тут увидели беглеца. Его уже задержали те, кто наблюдал за квартирой снаружи.
Вскоре подошла специализированная машина, и обоих арестованных увезли.
Когда о подробностях ареста Степина и связного доложили Круклису, он сказал:
— Рано или поздно такое должно было случиться. Я, откровенно говоря, до сих пор не могу поверить тому, что все так благополучно обошлось с Тавриным. А Петренко молодец! Ай да Леонид Сергеевич! Не растерялся… Он в госпитале?
— Так точно. Увезли прямо с места захвата, — доложил Доронин.
Позднее Круклису позвонил Ефремов. Обсудили только что проведенную операцию. Круклис не упустил момента похвалить перед начальством своего подчиненного.
— Петренко-то как отличился. А!
— Слышал. Каждый раз как по ножу ходим. А ты представляй, представляй к поощрению. Не жди приглашения, — сказал Ефремов. — Ну а что думаешь делать с теми, кто в Костроме?
— Полагаю, что им тоже пора предъявлять счет.
— Когда?
— Теперь уже ждать нечего. Значит, сегодня же.
— Давай команду, — санкционировал Ефремов.
Он сделал небольшую паузу и уже другим тоном добавил:
— А ведь был бы на ногах, наверное, сам бы в Кострому съездил?
— Пожалуй, — согласился Круклис. — Довелось в девятнадцатом году иметь дело с отцом, любопытно было бы взглянуть и на дочь. Враг достойный. Ну да побеседуем уже здесь…
Но увидеть Баранову Яну Францевичу не удалось. И виной тому стала сама Баранова. Впрочем, события развивались так. Трушина сняли прямо с поезда, едва он возвратился в Кострому из очередного рейса. Он был страшно перепуган случившимся, совсем пал духом и всю дорогу пытался доказывать сопровождавшему его вместе с конвоем сотруднику НКГБ, что ни в чем не виноват. Что никого, кроме Барановой, не знает и в глаза никогда не видывал. А Барановой, ну так уж получилось, хотел помочь, вот и все…
— Попросила, понимаете, письмишко забросить… Ну, заплатила, само собой разумеется, маленько… Так разве жалко доброе дело сделать?.. Все возят… Нешто я один… — жалобно канючил он.
При аресте у Трушина изъяли письмо, которое он должен был переадресовать Барановой. Трушина заставили написать на конверте все, что в таких случаях полагалось, и сами отвезли письмо на главную почту. Конечно, можно было арестовать Баранову и у нее дома, и просто на улице. Но решили взять ее с поличным. Накануне Баранова уже наведывалась на почту. Но ушла ни с чем. Сегодня она должна была прийти снова. И она пришла. Предъявила паспорт и получила письмо. Взглянула на конверт, узнала почерк отправителя и сунула письмо в сумочку. И тут к ней подошли два милиционера, и один из них вежливо, чтобы не вызывать излишнее любопытство у окружающих, задал весьма трафаретный для таких случаев вопрос:
— Вы Баранова?
— Да, — спокойно, но несколько удивленно ответила она.
— Мария Кирилловна?
— Правильно. А в чем дело?
— У вас просрочена временная прописка.
— Знаю. Я уже получила разрешение на ее продление. Но почему вы говорите мне об этом здесь?
— А уж это пусть вам наш начальник разъяснит, — ответил милиционер. — Попрошу пройти в служебную комнату.
Баранова хотела сказать что-то еще, даже круто повела плечом, чтобы ее не касались, но непреклонность сотрудников милиции выглядела настолько очевидной, что она повиновалась и пошла, куда ей указали. В служебном помещении находились несколько человек, в том числе капитан с погонами сотрудника Наркомата госбезопасности и две женщины в милицейской форме.
— У вас паспорт с собой? — взглянув на Баранову, спросил капитан.
— Он всегда со мной, — ответила Баранова и полезла в сумочку. — Вот он, пожалуйста.
Капитан раскрыл паспорт, прочитал:
— Баранова Мария Кирилловна… Вы арестованы, гражданка Баранова, — четко проговорил он.
— Я? — широко раскрыла глаза Баранова. — За что? За просрочку прописки? Но это же…
— Вы арестованы органами государственной безопасности за шпионаж в пользу врага.
Баранова отшатнулась, строго взглянула на капитана и предупреждающе проговорила:
— Это неуместная шутка, товарищ капитан. И вам придется за нее отвечать.
— Не придется. Вот ордер на ваш арест, — ответил капитан и протянул бумагу Барановой.
Она прочитала написанное на ней и стиснула зубы так, что на щеках у нее обозначились тугие желваки.
К ней подошли женщины в милицейской форме и обыскали ее. Она не сопротивлялась. Но смотрела на всех с каким-то нескрываемым отчуждением, будто все происходящее не имело к ней ни малейшего отношения. У нее отобрали сумочку. Но никто при этом не обратил внимания на изящную бутоньерку, искусно вшитую в лацкан ее пиджака.
Потом Баранову посадили в машину и повезли в управление. Когда машина заехала во двор здания, где помещалась эта организация, Баранова вдруг вздохнула.
— До чего же я всех вас ненавижу, — негромко сказала она и, мгновенно приподняв лацкан, раздавила бутоньерку зубами.
Сидевший рядом с ней сотрудник с силой попытался вырвать лацкан у нее изо рта. Но цианистый калий уже сделал свое дело…
Так закончилась операция, которую РСХА готовило более года.
Эпилог
Тринадцатого октября 1944 года в двадцать три часа Москва салютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий доблестным войскам 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, освободившим от фашистских захватчиков столицу Латвии Ригу. Но Крукликс этого не видел. Он в это время долечивался и отдыхал в одном из подмосковных клинических санаториев. Клавдия Дмитриевна с единодушного согласия начальства Яна Францевича, как сам он охарактеризовал ее действия, «использовала свое служебное положение и без разговоров упрятала его туда, едва он поднялся с госпитальной койки». При этом ему было обещано, что все долечивание продлится не более двух недель. Но истек этот срок, и его в безапелляционной форме продлили ровно настолько же. А потом и еще наполовину. Круклис приуныл. Однако в начале декабря в санаторий неожиданно приехал Ефремов. Он нашел Круклиса в дальней беседке заснеженного сада и, дружески облобызав, проговорил с напускным недовольством:
— Это ж надо куда забрался! А мы его ищем, мы его ищем…
— Оно и видно… Нужен я вам… — с вполне серьезной обидой ответил Круклис.
Ефремов снова расплылся в улыбке, но продолжал уже серьезно:
— Еще как нужен, Ян. Потому и приехал. Через пару дней тебя выпишут. А поговорить надо сейчас. Дело не терпит.
Они вышли из беседки и пошли по аллее.
— Знаешь сколько наших людей было угнано в Германию? Сколько попало в плен? — спросил Ефремов.
— Точных данных не имею. Но предполагать могу, — ответил Круклис.
— Цифра со многими нулями. И всех их, в том числе, естественно, и военнопленных, надо возвращать на Родину, — продолжал Ефремов. — Между тем многие из них уже попали к нашим союзникам. А те не очень-то спешат отпускать их домой. Более того, есть сведения, что даже, наоборот, проводят среди них определенную работу, с тем чтобы уговорить их остаться на Западе. Для этого внедряют в их среду разного рода дезинформаторов, провокаторов, лазутчиков. Со всем этим предстоит разбираться. Работа, одни словом, предстоит большая. Совнарком принял решение о создании специального управления по репатриации советских граждан. Предстоит немалая работа и нам. Но с таким заданием справится не каждый…
Сказав это, Ефремов искоса посмотрел на Круклиса. И, не дожидаясь его ответа, продолжал:
— Да ты не ломай голову, не думай о кандидатурах. Не за этим я к тебе нагрянул. Скажи, сам поедешь?
Круклис ответил сразу:
— Что меня, Василий Петрович, спрашиваешь? Я всегда готов выполнить любое задание. Другое дело, доверит ли руководство?
— Ну, тогда считай вопрос решенным. Против твоей кандидатуры не возражал никто, — заверил его Ефремов.
В середине декабря на транспортном самолете ВВС Круклис вылетел на очередное задание.
Сноски
1
Когда дело касается нас (лат.).
(обратно)2
Ум двигает массу (лат.).
(обратно)3
Военно-воздушный флот Германии.
(обратно)4
Управление по деятельности СД вне Германии. Начальная АМТ-VI период описываемых событий бригаденфюрер В. Шелленберг.
(обратно)5
Главное административно-хозяйственное управление СС.
(обратно)6
Облако А-I.
(обратно)

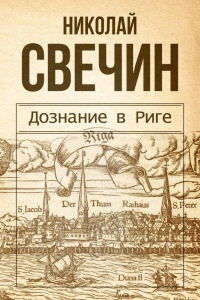

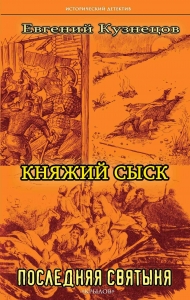



Комментарии к книге «Покушение», Александр Павлович Беляев
Всего 0 комментариев