Наталья Александрова Батумский связной
Памяти генералов А. И. Деникина и Я. А. Слащева, поручиков Сергея Мамонтова и Павла Макарова, сестры милосердия Софьи Федорченко и многих других известных и безымянных участников и свидетелей описываемых событий, без чьих бесценных воспоминаний эта книга не могла бы появиться.
Глава первая
Борису снилось, будто дикие негры собираются изжарить его на костре и бьют в свои огромные барабаны. Этот ужасный грохот переполнял его сон, гудел жуткой болью в голове, и наконец от боли этой Борис проснулся. Однако ни грохот, ни боль не прекратились.
Борис лежал в одежде и ботинках поперек жесткой гостиничной койки, а в дверь его номера стучали какие-то люди. Голова болела невыносимо. Смутно вспоминался вчерашний вечер, невзрачный назойливый человек в неуместной черкеске… кажется, они играли… кажется, пили… Для Бориса это было странно — он никогда не играл, да и пил мало… но уж больно назойливым был вчерашний господин… И нахлынула вчера вечером жуткая тоска, так что он даже рад был случайной компании… Но пили-то ведь немного, отчего же голова так раскалывается…
Борис с тяжелым стенанием поднялся с койки, повернулся к дверям. Господи помилуй, ну что же они так стучат? Да и рань-то какая. Еще даже не рассвело!
— Откройте сию минуту! — надрывался за дверью командный дребезжащий голос. — Открывайте, не то выломаем дверь! Антонов, ломай!
Борис прошел к двери, мутным тоскливым взглядом окидывая бедную и уродливую гостиничную комнату. Железная скрипучая кровать, кривой умывальник в углу с треснутым фаянсовым тазом, хозяйская гордость — кресло с высокой резной спинкой… В кресле сидел кто-то, плохо различимый в предрассветной полутьме, — неужто вчерашний назойливый господин?
Борис откинул щеколду, и в комнату, сразу сделав ее тесной, ввалились какие-то разгоряченные и злые — видно, от раннего времени — люди: парусиновый, полотняный, с хитрыми маленькими глазками лакей — вчера Борис видел его и немалые деньги на чай дал, — двое бородатых заспанных солдат и офицер, штабс-капитан с бледным горячечным лицом и воспаленными красноватыми глазами. Сзади жался хозяин — маленький, плешивый, полуодетый. Вытащили его рано из теплой постели, и пошел он, только чтобы скандал на корню притушить. Завязки кальсон нахально выглядывали из-под края штанин, а в глазах светился давнишний, еще в семнадцатом году зажегшийся испуг.
— Что вам угодно, господа? — растерянно спросил Борис, обступленный и зажатый пришедшими.
— Что нам угодно? — с горячим ехидным возмущением переспросил офицер.
Он поднял высоко керосиновую горящую лампу и осветил человека в кресле. Это был вчерашний назойливый господин в неопрятной грязно-белой черкеске, залитой чем-то темным. Голова его была странно запрокинута, редкая козлиная бороденка вздымалась кверху, и под этой бороденкой темнела роговая рукоять кинжала.
Керосиновая лампа пыхнула неожиданно ярким светом, и Борис разглядел, как при вспышке молнии, лицо этого господина — удивленное и как бы заспанное, а также бурые пятна крови на черкеске. Кинжалом, по рукоять воткнутым в горло, господин был приколот к спинке кресла, как диковинный жук в коллекции энтомолога.
В детстве — в той, прежней, жизни, задолго до всех этих белых, красных, зеленых — Борис заходил в кабинет к отцу и тот сажал его к себе на колено — колкая щека, запах хорошего одеколона и дорогого табака — и показывал ему плоские прозрачные ящички, в которых удивленные и заспанные жуки сидели на булавках…
— Что нам угодно? — яростно повторил штабс-капитан. — Нам угодно, милостивый государь, чтобы вы рассказали, как и почему убили этого господина!
Борис растерянно огляделся.
— Я его не убивал, даю вам слово!
— Ваше слово недорого стоит! — презрительно оборвал его штабс-капитан. — Сами посудите: мы застаем вас возле трупа, комната ваша была заперта изнутри на засов. Орудие убийства налицо. Чего же еще?
— Подумайте сами, господин штабс-капитан, — безнадежным голосом проговорил Борис, — ну неужто бы я остался ночевать подле трупа, если бы сам этого господина убил? И потом, что за корысть мне его убивать?
Зрачки офицера расширились, отчего глаза его яростно потемнели. Злым свистящим шепотом, склонившись к Борису, он прошипел:
— Это уж мы с вами знаем, какая у вас была корысть! — И, видя, что Борис недоуменно заморгал глазами, и еще больше разозлившись, добавил: — И на допросе вы мне расскажете все! В подробностях! — И тут же, распрямившись, будто пружина, возвысил голос и скомандовал: — Сидорчук! Протокол задержания!
В комнату прошмыгнул плюгавый молодой человек в довоенном лоснящемся костюме с гимназическими чахлыми усиками и картонной папкой под мышкой. Пристроившись бочком на гостиничной койке и развернув папку, изготовился писать.
— Мною, контрразведки Добровольческой армии[1] капитаном Карновичем, произведено задержание, — напевно продиктовал офицер привычную фразу, доставляющую ему, по всей видимости, немалое удовольствие, а дальше задумался и продолжил без прежнего радостного напева, деловой сбивчивой скороговоркой: — Задержание подозреваемого в убийстве, именующего себя… — Он поднял глаза на Бориса, выжидательно кашлянув.
Борис возмущенно дернулся и проговорил:
— Никого я не убивал. Зовут меня Ордынцев Борис Андреевич, я из Петербурга… то есть из Петрограда, не привыкну никак… юридического факультета бывший студент…
— Именующего себя Борисом Ордынцевым, — продолжил диктовать штабс-капитан, — задержан оный с поличным, возле трупа неизвестного… неизвестного господина, личность которого устанавливается… убитого оным Ордынцевым путем пронзения кинжалом.
Сидорчук поднял было глаза на офицера — видимо, его грамотную писарскую душу не устроило «пронзение кинжалом», но после смирился и продолжил писать.
— Свидетелями чего являются господин Кастелаки, хозяин гостиницы «Париж», и лакей оной гостиницы Просвирин, коего лакея своевременный донос послужил к данному задержанию…
Грамотный Сидорчук недовольно поморщился, но ничего не сказал и продолжал писать далее.
— Чьи собственноручные подписи к данному протоколу прилагаются. Август, 4-го числа 1919 года, Феодосия. И подпись — штабс-капитан Карнович.
Запуганный хозяин написал на листе — «Кастелаки», лакей Просвирин, гаденько ухмыляясь, поставил рядом жирный крупный крест.
— Ну-с, — расправил плечи офицер, — не будем больше утомлять господина Кастелаки своим присутствием. Вещи можете с собой взять, — милостиво добавил он.
Борис наклонился, собирая разбросанные по полу вещи. Вообще в номере был жуткий беспорядок, как будто что-то искали.
Писарь в это время, прочитав протокол, шептал что-то на ухо штабс-капитану. Тот встрепенулся и приказал:
— Антонов! Обыскать задержанного!
Борис кусал губы от брезгливости, когда грубые руки шарили по телу. Антонов нашел паспорт, немного денег и золотой медальон с порванной цепочкой, где была фотография Вари. Офицер повертел в руках медальон и бросил Борису. От неожиданности Борис схватил рукой воздух, и медальон покатился под кровать. Борис наклонился, преодолевая головокружение. Под кроватью в пыли лежал медальон и белый кусочек картона, что-то вроде визитной карточки. Борис автоматически поднял ее и пихнул в карман.
Большие бородатые солдаты встали по сторонам Бориса и подтолкнули к выходу. Борис пошел в полной растерянности. Дикое обвинение в убийстве казалось ему несуразным, оно сейчас же должно рассеяться как дым.
Одноэтажное розовое здание контрразведки стыдливо пряталось в саду неподалеку от торговой Итальянской улицы. Бориса провели в пустую чистую комнату с одиноким столом в углу. Один из солдат вытянулся возле дверей, второй ушел куда-то. Штабс-капитан картинно потянулся, хрустнув суставами, и неожиданно заорал истеричным базарным голосом:
— Шпион! Сволочь турецкая!
Борис вздрогнул больше от неожиданности, чем от испуга и посмотрел на офицера как на сумасшедшего. Тот, однако, коротким шагом стремительно приблизился к Борису и резко ударил в живот. Борис охнул, как бы поперхнувшись воздухом, в глазах у него потемнело, и минуту он не мог вздохнуть, воздух стал тверд, как стекло, и жгуч, как черный перец.
Лицо штабс-капитана оказалось близко-близко, оно было неестественно бледно, глаза из светлых стали черными от того, что зрачки расширились мертвыми пистолетными дулами.
«Он кокаинист», — отстраненно думал Борис как о чем-то совершенно его не касающемся, например о государственной системе Эфиопии. Штабс-капитан зашел сбоку и ударил Бориса по почкам. Боль была такая, что комната качнулась, как пароходная палуба, и стала маленькой и далекой. Оттуда, издалека, Борис услышал чей-то стон и с удивлением понял, что это стонет он сам.
— Ты мне расскажешь, ты мне все расскажешь, — тихо и даже как-то ласково приговаривал Карнович.
Боль от побоев придавала удивительную достоверность его диким словам.
«Шпион? — без прежнего удивления подумал Борис. — Я — турецкий шпион? Должно быть, мне придется в это поверить, чтобы прекратилась эта ужасная боль».
Карнович отошел на шаг и посмотрел на Бориса, чуть склонив набок голову, как художник смотрит на незаконченное полотно. Найдя в своей работе некоторую незавершенность, он быстрым и точным взмахом ударил Бориса в лицо. Рот наполнился теплым и соленым, Борис вынул выбитый зуб и посмотрел на него, как на лишнюю чужую вещь.
Штабс-капитан удовлетворенно откинул голову, с удовольствием втянул воздух, как будто вышел из душной накуренной комнаты на легкий морозец, и с хрустом потянулся. Затем он достал из кармана кителя сложенную вчетверо бумажку, поднес ее к носу…
«Точно, кокаин нюхает», — мысленно подтвердил Борис свою прежнюю догадку, наблюдая, как черные зрачки Карновича сужаются в точки.
— Ну-с, — радостно и даже доброжелательно продолжил Карнович, — я жду.
— Чего? — глупо переспросил Борис, выпустив при этом изо рта кровавый пузырь.
— Признания, милостивый государь, вашего чистосердечного признания. Как вы, судя по всему, русский дворянин, вступили в сношения с турецкой шпионской сетью, какие задания выполняли для врага, какой вред причинили Отечеству. Наконец, как и почему вы убили того господина в гостинице «Париж».
— Однако, — попробовал Борис прервать Карновича, — какие у вас причины считать меня турецким шпионом? Я и к убийству непричастен, но здесь я по крайней мере понимаю, на чем основаны ваши подозрения, но уж по части шпионажа… увольте, никак не понимаю!
Говорить было больно, разбитые губы плохо слушались, кровь наполняла рот, поэтому слова выходили шепелявы и самому Борису казались неубедительны. Но он торопился говорить, чтобы полоумный штабс-капитан опять не начал его бить.
Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появился господин средних лет в золотом пенсне и форме подполковника. Форма не вязалась с чрезвычайно штатским и как бы довоенным обликом вошедшего. Чуть седые, слегка редеющие волосы, острая — клинышком — профессорская бородка… Борис немедленно вспомнил это лицо — в прежней, петроградской, жизни господин этот звался профессором Горецким и читал на юридическом факультете уголовное право. Борис встретился с профессором взглядом и прочитал в его глазах встречное узнавание. Он собрался было обратиться к Горецкому и открыл уже для этого рот, но профессор сделал едва уловимое движение бровью, остановив его, и повернулся к штабс-капитану:
— Что я вижу, Карнович? Вы за старое принялись? Этот мордобой, эти ваши методы! Мы с вами не в махновском застенке! Вы мараете священный добровольческий мундир!
Борис с удивлением наблюдал, как переменился при этих словах мягкий и штатский с виду профессор: лицо его застыло и отчеканилось в бронзовую свирепую маску, пенсне слетело, заболтавшись на черном шелковом шнурке, и оттого глаза Горецкого приобрели неожиданный холодный презрительный блеск. Даже фигура его вылилась в мощную и напряженную форму, к которой удивительно шел строгий офицерский френч.
— Ваше высокоблагородие! — растерянно и зло проговорил Карнович. — Это же турецкий шпион и убийца! С поличным пойман! Какие тут могут быть антимонии! Выбить из него признание, пока с мыслями не собрался да не выдумал себе каких-нибудь оправданий!
— Господин штабс-капитан! — оборвал его сурово подполковник. — Извольте не называть подозреваемого шпионом и убийцей, пока ни то ни другое обвинение не доказано! Какие у вас есть основания к такому скоропалительному вердикту?
— Господин подполковник! Ваше высокоблагородие! — Карнович подошел ближе, и Борис увидел, что зрачки его снова болезненно расширились. — Ваше высокоблагородие, мы ведь не в суде присяжных, мы в контрразведке, здесь всякое промедление смерти подобно!
— Вот-вот, любезнейший Людвиг Карлович, вы мне и объясните, почему человек, обвиняющийся в заурядном убийстве, попал к нам, в контрразведку?
— Сегодня на рассвете поступил сигнал от лакея гостиницы «Париж», некоего Просвирина, о подозрительных звуках в номере этого господина. При обыске обнаружили его там наедине с трупом неизвестного, заколотого кинжалом. Комната изнутри закрыта была на засов, так что, кроме него, некому…
Подполковник, который тем временем присел к столу и что-то быстро написал на листке бумаги, поднял глаза на Карновича и спросил:
— При чем же здесь контрразведка?
Штабс-капитан быстрыми шагами пересек комнату, склонился к подполковнику и что-то прошептал ему на ухо. Тот вздел пенсне на положенное место, внимательно посмотрел на Карновича, потом на Бориса, встал и подошел к арестованному. Легким касанием руки повернул его к свету и вгляделся в его лицо, а после обернулся к штабс-капитану и назидательно произнес:
— Как бы там ни было, Людвиг Карлович, мы с вами не должны забывать, что служим в Добровольческой армии, и мундир наш должен быть незапятнан. Благородному делу можно служить только благородными средствами, фраза «цель оправдывает средства» выдумана низкими людьми. Извольте сейчас отправить арестованного в камеру, а мы с вами покуда разберем все детали дела.
Горецкий развернулся и, тяжело печатая шаг по скрипучим половицам, покинул комнату. Борис смотрел ему вслед с удивлением: во-первых, его поразила происшедшая за несколько лет с профессором метаморфоза, Горецкий приобрел новую силу и энергию и как бы помолодел, словно кровавая сила революции и войны омыла его живой водой. Во-вторых, когда Горецкий прикоснулся к Борису, он незаметно опустил что-то в карман молодого человека.
Карнович с неудовольствием посмотрел вслед Горецкому, снова вынул из кармана сложенную бумажку, поднес ее к носу и втянул воздух… Затем он обернулся к солдату у дверей и скомандовал:
— Отконвоировать в тюрьму!
Из-за двери появился второй солдат, видимо, карауливший снаружи. Прежним порядком сжав Бориса с двух сторон, солдаты вывели его на улицу.
Тюрьма была довольно далеко от контрразведки, Бориса вели через Итальянскую, потом мимо рынка, где кипела уже обычная дневная жизнь. Народ кишмя кишел. Торговки суетились, расхваливая свой товар. Старухи шмыгали от телег к горшкам, от горшков к огурцам и капусте, а татарские мальчишки шныряли взад и вперед, бросая камешки в голодных разношерстных собак. В мясных лавках телячьи головы выглядывали из кадок, выставляя языки покупателям. Среди рыночных лотков с яркой и ароматной южной снедью плыл огромный и величественный повар с английского броненосца «Мальборо». Толстым красным пальцем тыкая в корзины с помидорами или капустой, он говорил единственное русское слово, которое сумел выучить:
— Этого! — и плыл дальше, могущественный и важный среди рыночной мелюзги, как его родной броненосец среди мелких турецких фелюг и плоскодонок. На вывеске духанщика злобный баран скалил страшные зубы, похожий на волка в перманентной завивке, косясь на выразительную надпись: «Чебурек — шашлик. Продажи вина, различных водок и напиток».
Борису ужасно захотелось есть.
— Господа солдаты, — по-хорошему обратился он к конвоирам, — нельзя ли мне съестного какого-нибудь купить? И на вашу бы долю пришлось!
— Другому бы человеку, — назидательно ответил старший солдат, обращаясь как бы не к Борису, а к своему напарнику, — другому разве ж мы не дозволили? Что ж мы, не христиане? С милой душой! Но на этого шпиёна мне даже смотреть-то и то противно! Отправил бы его к Троцкому в штаб, да и дело с концом! Так ведь охвицеры наши покуда бумаги все оформят… Вот у красных с энтим просто — отвели в овраг, да и угобзили бы по самые микитки…
Борис вздрогнул — приходилось ему слышать все эти словечки, пока ехал поездом до Орла. У красных говорят — «к Духонину в штаб», «к Колчаку для связи», у этих — «к Троцкому», а суть одна — к кирпичной стенке и залп…
«Что б тебя, сволочь бородатую, самого комиссары к стенке поставили!» — в сердцах пожелал он.
Мимо по улице прошла, печатая шаг, колонна гвардейцев-корниловцев — офицерская выправка, новенькая форма, нашивка на рукаве с мертвой головой и скрещенными костями — Молодая гвардия, участники Ледяного похода[2]…
С этих гвардейских именных частей — вначале полки дроздовцев, корниловцев и марковцев, потом дивизии — началась в восемнадцатом году Добровольческая армия. Они совершили в феврале восемнадцатого легендарный Ледяной поход. Их называли в Добрармии Молодой гвардией, они считались самыми надежными частями, их бросали на самые трудные участки фронта.
— Ишь, маршируют, — покосился на корниловцев тот же самый вредный солдат, что не позволил Борису купить еды, — гвардия, так ее разэтак… Коли ты гвардия, так ты на фронт иди, красных воюй, а то они тут, в покое, ошиваются.
— Ну ты, Митрич, уж на всех зол. Эти-то, видно, только для передышки сюда присланы, раны залечить, а после опять на фронт…
— На фронт, на фронт! Я тебе, Антонов, вот что скажу, мне верный человек сказывал, при кухне кашевар, а уж они-то все первые знают: сейчас приказ такой вышел от самых главных енералов — как красных в плен-то возьмут, им нарочно таку форму надевают, с мертвой-то головой. И погоны, и енблему-то эту мертвую так крепко пришивают, чтобы никак уж не отодрать было.
— А для чего ж такое, Митрич? — с уважительным интересом спросил Антонов.
— Дурья ты, Антонов, башка, как тебя от сохи-то взяли, так ты и не поумнел нисколько. Они же в этой форме к своим перебечь не могут, потому как красные таку Молодую гвардию в плен не берут, что корниловцев, что дроздовцев… Сразу расстреливают, к Духонину, говорят, в штаб. Вот пленным и приходится в той форме против своих воевать.
— Ой, Митрич, — недоверчиво пробасил Антонов, — может, я от сохи, да только ты-то тоже не больно учен. Ты погляди-то, как они идут, как выступают, — какие же это красные? Самые что ни на есть корниловцы. И в личность видать: не наш брат, лапотник, охвицерье…
— А все равно, ты умных людей слушай, — стоял на своем Митрич. — Эти, может, и настоящие корниловцы, а есть и липовые, из красных понаделанные.
Тяжелая дверь захлопнулась за Борисом, и он оказался в душном полумраке. Камера была небольшая, но полностью набита людьми. Пахло потом и рвотой. Борис сделал шаг вперед, наступил на чьи-то ноги, хриплый бас обложил его матом. Окошко было маленькое, к тому же закрыто ставнями, так что ни свет, ни воздух не проникали в тюрьму. Понемногу глаза привыкли к темноте, и призрачные фигуры обрели очертания. Борис прикоснулся к скользкой стене и пошел вдоль нее, ища свободное место. Каменный пол был такой грязный, что шаги звучали на нем глухо. Борис нашел наконец свободное место и осторожно опустился рядом со стариком, одетым в лохмотья. По другую сторону бритый татарин искал в рубашке вшей и почесывался. В дальнем углу кто-то надсадно стонал, видимо, в бреду.
«Гиблое дело, — думал Борис, посасывая ранку на месте выбитого зуба, — этот штабс-капитан, кокаинист ненормальный, теперь не отвяжется. С чего он взял, что я турецкий шпион? И всего-то в Феодосии я несколько дней, а уже в контрразведке сижу».
Он осторожно нащупал в кармане пакетик, что сунул ему Аркадий Петрович Горецкий. Ого, деньги — деникинские «колокола»[3] — и еще записка. В полумраке было не прочитать мелкие буквы.
Ладно, будем рассуждать логически. Горецкий не признался Борису, но, несомненно, его узнал. Не хотел, значит, при всех говорить, что они знакомы и что Борис никакой не турецкий шпион, а честный человек. Но денег дал, а в записке, наверное, адрес. Деньги нужно использовать для побега, потому что если чертов штабс-капитан, как его… Карнович… так если он к вечеру кокаина нанюхается, то при следующем допросе если не убьет, то изувечить может. Сюда, в тюрьму, из контрразведки его вели те же два солдата. От двоих не уйти, и денег двоим не предложишь — они перетрусят. Значит, ежели к вечеру придет за ним один солдат, следовательно, Горецкий посодействовал, тогда можно попробовать.
Старик рядом зашевелился и шепотом забормотал молитву. Под его бормотание Борис забылся тяжелым сном.
Двумя неделями ранее около очень респектабельного, очень закрытого, очень труднодоступного клуба на Риджен-стрит в Лондоне остановился сверкающий лаком и хромом автомобиль. Шофер в кожаной фуражке и очках-консервах выскочил первым и открыл дверцу своему пассажиру — безукоризненно одетому джентльмену невысокого роста, склонному к полноте и излучающему энергию, как шаровая молния. Энергичный джентльмен проскользнул в двери клуба с характерными ужимками человека, скрывающегося от прессы.
В дверях клуба энергичного джентльмена остановил швейцар Дженкинс, столь же респектабельный, как сам клуб, и непоколебимый, как Гибралтарская скала.
— Сэр, вас ждут? — спросил он энергичного джентльмена корректно, но непреклонно.
— Да, меня ждет мистер Солсбери, — ответил энергичный джентльмен без тени обиды или неудовольствия.
В этот миг Дженкинс разглядел и узнал посетителя. Как и полагается настоящему английскому швейцару, Дженкинс отнюдь не показал этого на своем лице, но голос его стал несколько теплее, и можно было бы сказать, что в нем появились нотки подобострастия — разумеется, если настоящий английский швейцар знает, что это такое.
— О, сэр, — сказал Дженкинс, — прошу вас, сэр. Мистер Солсбери давно уже здесь. Вероятно, он уже перешел к портвейну… сэр.
Энергичный джентльмен кивнул, бросил Дженкинсу свой котелок и проследовал в святая святых клуба. Мистера Солсбери он нашел в Георгианском зале, возле камина, в глубоком и массивном резном кресле мореного дуба. Мистер Солсбери действительно маленькими глотками пил портвейн, задумчиво глядя на огонь, и одновременно с этими двумя весьма достойными занятиями умудрялся обсуждать с мистером Лестером из министерства иностранных дел достоинства некоей Джеральдины, причем по их репликам невозможно было определить, является ли упомянутая Джеральдина театральной примадонной или скаковой лошадью.
— У нее такой царственный изгиб шеи… О, сэр Уинстон, как вы поживаете? Еще один портвейн, Типсон!
Типсон, которого секунду назад не было в обозримых окрестностях, материализовался и принял заказ. Тактичный Лестер столь же молниеносно дематериализовался, предоставив мистеру Солсбери и вновь прибывшему энергичному джентльмену обсудить без помех свои дела — ведь всякому понятно, что только очень важные дела могут заставить настоящего джентльмена приехать в клуб не к обеду, а к портвейну.
— Не правда ли, сэр Уинстон, — прервал мистер Солсбери затянувшееся молчание, — не правда ли, здесь неплохой портвейн?
— Да, вы правы, — ответил энергичный джентльмен, со вздохом отставив бокал, — весьма, весьма недурен.
— Позвольте предложить вам сигару.
Мистер Солсбери открыл палисандровый ящичек, и запах прекрасных сигар смешался с запахом благородного портвейна и веселым запахом сосновых поленьев.
— М-да, это прекрасно, — проговорил энергичный джентльмен, пожевывая сигару, — но боюсь, что ближайшие месяцы вы будете лишены этих скромных радостей.
— Россия, сэр?
— Россия, мистер Солсбери. Точнее, юг России, территория, контролируемая генералом Деникиным.
— Что ж, я всегда любил эти места, у меня там надежная агентура, прекрасные контакты…
— Да, безусловно. Имейте в виду, однако, следующие соображения. Наш премьер-министр — либерал, и этим все сказано. Он — марионетка профсоюзных лидеров и под их давлением проводит политику уменьшения нашего присутствия в России и Закавказье. Он пошел даже на сепаратные переговоры с большевиками.
— Миссия Буллита?[4]
— Да, миссия Буллита.
— Но ведь Буллит — американец!
— Совершенно верно. Но инициатором его поездки в Россию был Ллойд Джордж. Франция была категорически против любых переговоров с Советами, и эта позиция представляется мне единственно правильной. Если бы предложения Ллойд Джорджа и Вильсона были приняты, войска Антанты немедленно ушли бы из России и большевики получили возможность провести тотальную мобилизацию, собрать силы и последовательно подавить все очаги сопротивления на юге и востоке страны. Неудивительно, что Ленин и Троцкий охотно пошли на переговоры с Буллитом. Мартовские переговоры были весьма успешны, и реализация достигнутых договоренностей привела бы к полной утрате наших позиций в регионе… Я использовал все свое влияние, организовал давление со стороны французского руководства. Большую роль сыграло весеннее наступление Колчака, и миссия Буллита была дезавуирована. Вы помните, конечно, выступление премьера в парламенте 16 апреля…
— Да, сэр Дэвид отрекся от своего участия в организации переговоров с большевиками.
— Естественно.
Мистер Солсбери покачал головой и произнес:
— В такой критический момент истории во главе Британии должен стоять более твердый, более решительный политик. — И он выразительно посмотрел на своего собеседника.
— Вы подводите меня к основной теме нашего сегодняшнего разговора. Как вы справедливо заметили, в критические моменты истории во главе государств и политических движений должны стоять люди энергичные, решительные. По имеющейся у меня информации, генерал Деникин не таков. Он такой же либерал, как наш Ллойд Джордж, марионетка в руках своего окружения. Наиболее подходящей фигурой на пост главнокомандующего Вооруженными силами Юга России мне представляется генерал Лукомский, начальник военного управления Особого совещания[5]. Поэтому одной из основных задач вашей поездки будет встреча с представителем Лукомского. Сам генерал не пойдет на открытые контакты с представителями союзных государств через голову Деникина, поэтому вы встретитесь с его доверенным лицом в Крыму. Этот человек вам хорошо знаком, вы сталкивались с ним в шестнадцатом году в Петрограде…
— А, кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите.
— Вот и прекрасно. Обратите внимание на то, что ваш знакомый избрал своей резиденцией Феодосию. Крым сейчас — наиболее важная стратегически точка юга России. Он дает возможность контроля морских путей, близок к Закавказью, оттуда рукой подать до Батума… Обратите внимание на состояние дел в нашей батумской резидентуре. Батум на какое-то время станет важнейшим узлом Закавказья — важный и удобный порт, выход к бакинской нефти… Там чрезвычайно сильна турецкая агентура — турки традиционно считают Батумскую область зоной своего влияния, воспринимают английское присутствие как временное. Учитывая, что в правительстве Ллойд Джорджа вынашивают планы вывода наших войск из Закавказья, важность Батумской области для нашей политики в регионе еще более возрастает. Следует поддерживать аджарских кадетов во главе с Масловым, которые проводят политику сближения с деникинским Особым совещанием. Однако следует учесть, что активные связи батумских кадетов с югом России могут привести к проникновению в Добрармию турецких агентов. Борьба с этой агентурой, ее выявление — это еще одна задача вашей миссии…
— Совершенно верно, сэр Уинстон, — прервал мистер Солсбери затянувшийся монолог своего энергичного собеседника. — Я получил шифрованное сообщение о том, что наш резидент в Батуме раздобыл список засланных турками в Крым агентов. Этот список в ближайшие дни будет доставлен секретным связным в Крым, так что к моему приезду я смогу передать его человеку Лукомского. Это было бы крайне удачно с точки зрения придания генералу Лукомскому еще большего политического веса…
— Прекрасно. — Сэр Уинстон допил портвейн и откинулся на спинку кресла. — Кстати, если вы увидите командующего Добровольческой армией генерала Май-Маевского, сообщите ему о том, что его величество намерен в ближайшее время пожаловать генералу титул лорда.
— О-о! — Мистер Солсбери удивленно поднял брови.
— Ничего удивительного. Май-Маевский — замечательный тактик. Он прекрасно использует возможности современного транспорта — перебрасывая относительно небольшие контингенты войск по железной дороге, он вводит их в бой зачастую в один и тот же день на разных участках фронта, тем самым успешно преодолевая сопротивление значительно превосходящих по численности сил противника. Не забывайте, что Добрармии приходится воевать и с красными, и с зелеными, и с Петлюрой…
Сэр Уинстон посмотрел на часы и встал.
— Должен откланяться. Меня ждут в адмиралтействе. Желаю вам успехов и надеюсь на прекрасные результаты вашей миссии.
Он колобком выкатился из Георгианского зала и мгновенно на его месте возник мистер Лестер, тактично ожидавший завершения разговора в соседней комнате.
Опустившись в кресло, он с любопытством взглянул на мистера Солсбери.
— Не правда ли, — заговорил он, чувствуя, что молчание затягивается, — Первый лорд адмиралтейства — весьма перспективный политик? Если бы консерваторы пришли к власти, сэр Уинстон Черчилль[6] мог бы стать премьером… Хотя англичане не любят аристократов в политике, а сэр Уинстон — виконт, в родстве с герцогами Мальборо… И вообще, такой твердый и энергичный человек нужен у власти только в критические моменты истории, в период войн и политических потрясений. В относительно благополучные времена такие люди могут быть опасны, так что сэр Уинстон может стать премьером только в случае новой войны, а этого, даст Бог, не случится…
— Не правда ли, — прервал приятеля мистер Солсбери, не склонный сегодня говорить о политике, — в походке Джеральдины есть та грациозная царственная легкость, которая говорит нам о подлинном аристократизме, о многих поколениях родовитых предков… Я уверен, что на скачках в Аскоте она придет первой.
Глава вторая
Борису снилось, что он умирает от тифа. С тех пор как он с трудом выжил, ему часто снилась болезнь. Опять во сне он ехал в поезде, в набитом вагоне. В его распоряжении оказалась вся верхняя полка, потому что никто не хотел сидеть рядом — боялись заразиться. Задыхаясь от жара, Борис под унылый стук колес терял сознание, потом ненадолго приходил в себя, просил пить, никто не подходил к нему, тогда он опять начинал бредить. Смутно помнит Борис, как поезд остановился в чистом поле, слышались крики, выстрелы, ржание лошадей. Всплыло и загуляло по вагону страшное слово «махновцы». Сунулась наверх страшная рожа в мохнатой шапке с заплывшим глазом, грозила револьвером. Последнее, что помнит Борис, — это как его тащили за ноги по вагону и выбросили на подтаявшую мартовскую землю.
Через некоторое время от холода он пришел в себя. Махновцы к тому времени нагрузили подводы награбленным добром и ускакали. Поезд тоже потихоньку тронулся к ближайшей станции. У полотна валялось несколько трупов — мужчина в офицерской форме без сапог, старик, раздетый до белья, еще какие-то люди, одна женщина…
Борис встал на ноги и, шатаясь, побрел вдоль полотна вслед поезду. В будке путевого обходчика старуха напоила его чаем с малиной и разрешила отлежаться несколько дней. Тифа она не боялась. Борис сам удивлялся, как выжил, видно, не судьба была ему тогда умереть.
Разбудил его скрип открываемой двери. Надзиратель принес ведро воды с кружкой, привешенной на цепочке. Обитатели камеры, как муравьи, поползли на водопой. Борис выпил кружку теплой железистой воды и почувствовал себя лучше. Голова прошла, пока он спал. Дверь снова открылась, впустив немолодого приземистого солдатика.
— А вот который Ордынцев! — весело крикнул он. — Выходи!
Борис поднялся и молча пошел к выходу. По камере пронесся тяжкий вздох.
На улице солнце клонилось к закату. Было жарко и пыльно, каменные дома выпускали накопленный за день зной.
— Куда, дядя, пойдем? — спросил Борис хмуро.
— Известно куда, — охотно отвечал солдат, — в контрразведку, вот куда.
— Тогда веди подольше, — вздохнул Борис, — мне спешить некуда.
Они пошли через пустеющий базар, где солдат разрешил Борису купить у припозднившейся торговки пирог с луком и яйцами, причем Борис, доставая деньги, встал так, чтобы солдат их видел.
— И-и, матушка, ты мне так не говори, что у меня пемадоры дороже! Это у тебя такое сумнение! — втолковывала толстая загорелая торговка унылой женщине в черном. — Ты-то, матушка, тут недолочко, а мы уж всякого повидавши. И при курултае[7] ихнем, татарском, в Крыму жили, и при Сулькевиче, и при господине Крыме жили, и при красных, прости Господи, привелось… Вот уж когда, матушка, не то что дорого, а и вовсе нечего было на зуб положить! Куда что подевалось — ни тебе хлебца даже купить. А как энти-то, деникинцы, пришли, тут тебе сразу и булки белые появились. А ты говоришь — пемадоры тебе дорогие! Вон, господин повар английский, тот уж если берет, то не торгуется ни трошечки. Хороший такой господин, даром что по-нашему ни слова, а в провизии понимает… Может, кавунчика недорогого хочешь?
— На что мне твой кавунчик? — подала голос унылая вдовица. — Это коли бы я в удовольствие свое жила, взяла бы я у тебя кавунчика. Раньше, когда в Курске жили, мы с Авдеем Микитичем покупали кавунчика, уважал покойник. С чаем любил пить. Сядет, полсамовара усидит и цельный кавун… Была-то жизнь, да нисколько не осталось. А что сюда нас Деникин евакуировал, то это только для того, чтобы нам здесь помирать… Что тут за места такие — одни татаре кругом да другие всякие разные… Земля, как доска, сухая, лесу не видать, зверя-птицы не слыхать, коровок и тех редко когда увидишь… Одни тебе овцы да козы, прости Господи! Да и козы как-то не по-русски блеют, видно, татаре их по-своему научили… Ладно, матушка, давай свои пемадоры.
— А что, дядя, денег-то небось мало вашему брату солдату платят? — спросил Борис.
— И-и, барин, куда там много! — вздохнул солдат. — При царе-то платили семь рублей пятьдесят копеек в месяц, а нынче, если на «колокольчики» пересчитывать, то меньше выходит…
Борис жевал пирог, поглядывая по сторонам. Базар прошли, начались грязные узкие улочки, поднимающиеся постепенно вверх, к центру. Борис скосил глаза назад. Солдат закинул винтовку за плечо и вытирал разгоряченный лоб.
— Ты вот что, дядя, — повернулся Борис к конвойному, — ты отведи меня тут, в сторонку куда-нибудь. Приспичило мне, а на улице-то ведь не будешь…
— Знамо дело, — откликнулся солдат, — на улице несподручно…
Они зашли в небольшой тупичок, отгороженный с двух сторон высоким забором. Борис вынул деньги и протянул их солдату. Тот выпучил глаза и взял с сомнением, а Борис уже, не тратя времени даром, рванул с его плеча винтовку.
— Ты погоди, погоди, — забормотал солдат, — ты дай мне по носу. Слабый у меня нос, чуть что — сразу кровища хлещет…
Борис, не примериваясь, двинул солдата кулаком по носу. Кровь и верно хлынула сразу. Солдат упал на колени, выпустив винтовку. Борис перебросил винтовку через высокий забор и услышал, убегая, как она шлепнулась на каменные плиты двора.
Он выскочил из тупичка на узкую улочку, в конце ее показались два юнкера. Борис замедлил было шаг, но в это время солдат показался из тупичка, весь в крови, и, заметив юнкеров, заверещал тонко, по-бабьи:
— Уби-или! Держи вора!
— Стой! — закричал юнкер, и вслед Борису рассыпались револьверные выстрелы.
«Принесла же их нелегкая! — думал Борис на бегу. — Ох, возьмут меня мальчишки эти…»
— Заходи с той стороны! — донеслось сзади. — В обход его возьмем!
Борис свернул в первый попавшийся проход, пробежал, топая и поднимая пыль, затем нырнул в открытую калитку чьего-то двора, пролез с трудом под веревками, завешанными свежевыстиранными простынями, рубашками и исподним, с размаху заскочил на забор и спрыгнул вниз, на другую улицу, столкнувшись нос к носу с мальчишкой-юнкером. Тот с испугу выстрелил, и пуля обожгла Борису руку возле плеча. Борис взглянул в румяное, почти девичье, лицо, в глаза, наполненные ужасом и восторгом, и с размаху ударил крепким английским ботинком юнкера под дых. Тот икнул странно и осел в пыль.
— Будешь знать, паршивец, как в людей стрелять, — пробормотал Борис и побежал прочь не оглядываясь.
Он долго блуждал по лабиринтам переулков, никто его не преследовал. Борис старался забирать выше, к центру. Солнце садилось в море, дома отбрасывали длинные кривые тени, жар спадал понемногу. Руку возле плеча жгло, и Борис чувствовал, как под рукавом тужурки течет кровь и впитывается в рубашку.
«Чертов юнкеришка, мало ему досталось!» — злобно думал Борис.
Он достал из кармана записку Аркадия Петровича и остатки денег. В записке было несколько слов: «Карантинная слободка, пятый дом от солеварни, Марфа Ипатьевна». Под руку попала и та карточка, что подобрал Борис под кроватью в номере гостиницы. Теперь в косых лучах солнца Борис прочел: «Батум. Мариинская улица. Кофейня Сандаракиса». И на обороте карандашом было нацарапано имя — «Исмаил-бей».
Борис засунул карточку подальше в карман, потому что сейчас некогда было о ней думать. Пройдя еще немного, он отважился спросить дорогу у торговки, которая сидела в своем доме и торговала прямо из окна всякой всячиной. Торговка предложила ему ведро помидоров, но Борис предпочел за ту же цену две самодельные папиросы.
— А ты иди по Итальянской, — зачастила баба, — все прямо и прямо, а потом вверх и влево забирай. Там увидишь на холме водокачку. Это и будет Карантинная слободка, мимо не пройдешь, не сомневайся!
— А где Итальянская-то? — не подумав, ляпнул было Борис, но встретил полный изумления взгляд торговки и прикусил язык.
Главная улица города, Итальянская, по мнению горожан, должна быть известна всем. И человек, задавший такой невежливый вопрос, выглядел подозрительно. Так что Борис, прихватив свои папиросы, скорее устремился прочь и, весьма удивленный, вышел-таки вскоре на Итальянскую и пошел мимо закрывающихся магазинов, мимо старой колоннады Гостиного двора, где раньше был огромный ковровый торг. Он очень неудачно выбрался на Итальянскую, теперь придется пройти ее всю, чтобы найти Карантинную слободку. Не дело это — тащиться открыто по главной улице города, когда его, наверное, уже ищут. Но поскольку магазины понемногу закрывались, то народу становилось все меньше, и Борис решил рискнуть. Рубашка заскорузла от крови и теперь больно царапала кожу. Руку по-прежнему жгло, и голова снова начала болеть. Он шел по Итальянской, держась ближе к домам, и читал вывески, чтобы иметь вид более беззаботный. «Кондитерский магазин „Бликнер и Робинзон“. Шоколад, печенье и конфекты». «Дамская парикмахерская ЖОЗЕФ», и внизу помельче и не таким красивым шрифтом: «Художественное исполнение дамских причесок, разного постиша и маникюр по последним парижским модам». У ювелирного магазина прямо под вывеской «Михаил Серафимчик. Продажа и покупка бриллиантов, золота, серебра и часов» сидел солдат с винтовкой и скучал. Заметив Бориса, он посмотрел на него лениво и отвернулся. Борис сжал зубы и собрал волю в кулак, чтобы не побежать опрометью от того места. Мимо проехал фаэтон, набитый офицерами и визжащими дамами. Борис миновал дамскую мастерскую «Изящные корсеты, удобные бандажи, модные подвязки и бюстодержатели по моделям Парижа, мастерская мадам Коко». У дверей стояла, надо полагать, сама мадам, необъятных размеров, и грубым голосом выговаривала за что-то сторожу. Сторож, пожилой татарин в войлочной шапке, кивал почтительно и кланялся, тряся жидкой бороденкой.
Время шло, темнело, магазины закрывались. Оживленная часть Итальянской закончилась. Народу совсем не стало. Пахнуло дешевой едой. Вот и трактир, из тех дешевых трактиров, где лестница облита сверху донизу не то водой, не то помоями. Буфетчик с курчавыми волосами, портреты, намалеванные смелой твердой русской рукой, которая не привыкла ни над чем задумываться, зеркала, украшенные паутиной, и сам паук, целеустремленно спускающийся на грязную салфетку. Половые и мальчики, диваны с протертой до дыр обивкой, а сверху над потолком успели уже намалевать портрет Деникина во весь рост с окладистой бородой.
У крыльца трактира стоял пьяный и некрасиво показывал всем, что водку он только что закусывал винегретом. Выскочил половой и замахнулся на пьяного щеткой.
От запаха ли обжорки, от раны ли, но Бориса замутило. Слабость накатывала волнами, очевидно, он потерял все же достаточно крови. Улица наконец пошла вверх, да так круто, что он с трудом передвигал ноги. Последний освещенный домик оказался аптекой, и Борис, плохо уже соображая от слабости, решился зайти туда. «Аптека Гринбаума», — прочел он машинально на двери, и дребезжащий колокольчик пригласил его войти.
На звук вышел из внутреннего помещения старый еврей с грустными глазами больной собаки и вопросительно уставился на Бориса.
— Укрепляющего какого-нибудь и рану перевязать. — Борису показалось, что он произнес эти слова громко, но на самом деле он едва прошептал.
— В вашем возрасте, милостивый государь, нужно— таки заботиться о своем здоровье, — скрипучим голосом начал хозяин аптеки. — Потому что в моем возрасте о нем заботиться уже поздно. У вас отечность под глазами и желтый цвет лица, это говорит о плохой работе почек.
«Еще бы, когда так по почкам бить!» — подумал Борис.
— Правда, учитывая все эти неприятности, — старый еврей красноречиво повел рукой вокруг себя, — вы вряд ли доживете до моих лет.
Аптекарь подвигал бровями, побренчал склянками и налил Борису в рюмочку чего-то противно пахнущего. Борис выпил залпом. В глазах потемнело, он пошатнулся и сел на лавку. Аптекарь достал из шкафчика бинт, вату и удалился внутрь. Борис вытер выступившую на лбу испарину и расположился поудобнее. Тошнота прошла, в глазах больше не плясали злые мухи. Даже рану жгло не так сильно. Он поймал себя на том, что задремывает и стал читать плакатики, развешанные по стенам. Плакатики были старые, выцветшие, из прежней довоенной жизни. На одном предлагали от запоров, катара, геморроя, вялости кишок чудодейственное средство КООРИН, утверждали, что он абсолютно безвреден и поможет оздоровиться. На другой картинке была нарисована дама в паричке и предлагали требовать всюду духи, цветочный одеколон и мыло «БУКЕТ МАРКИЗЫ» (чудный, тонкий аромат цветов, парфюмерной фабрики товарищества С. И. Чепелевецкой с сыновьями). Дама была бы хороша, если бы какой-то шутник не пририсовал ей кавалергардские усы. Третий плакат рекламировал АРМАТИН — радикальное средство против гонореи, излечивающее окончательно и в короткий срок.
Борис с интересом исследовал плакаты. Слабость прошла, и он сообразил, какую сделал глупость, что зашел в аптеку. Вдруг он спохватился, что прошло уже много времени, а аптекарь все не выходит. И что он там делает? И не послал ли он кого-то предупредить полицию, и теперь, пока Борис тут благодушествует, в аптеку нагрянет контрразведка и возьмут его здесь как миленького…
Борис вскочил на ноги и прислушался. Из внутреннего помещения доносилось звяканье инструментов и звон стекла.
«Непременно он, подлец, нарочно время тянет», — подумал Борис, перегнулся через прилавок, схватил пук ваты побольше и вышел, придержав колокольчик, чтобы не звякнул. На улице, расстегнув тужурку и рубашку, он приложил вату к ране. Идти стало легче — мягкая вата не царапала рану. Кроме того, ему помогло средство, что дал аптекарь, — прибавилось сил, голова не болела и не кружилась.
Солнце село, и в городе быстро становилось темно. Освещенная часть Итальянской осталась позади, домики стали ниже и стояли реже. Окна прикрывали ставни, так что Борис едва видел перед собой дорогу.
«Черта ли найдешь в такой темноте, а не водокачку!» — сердито подумал он и зашагал быстрее.
Дорога забирала влево и в гору, и наконец он увидел на холме силуэт водокачки. Внизу у холма белели мазанки, каждая окружена была забором в человеческий рост. Борис запутался, с какого края от солеварни отсчитывать пятый дом, сунулся наугад, наткнулся на колючий куст и был облаян собакой. Слыша в собачьем лае угрозу, залились все собаки Карантинной слободки. Заборы были высоки, калитки все заперты — в слободке не любили случайных гостей.
Обычно в слободках живут старухи, которые гадают на картах и кофе, старухи, которые пьянствуют, и старухи, которые берутся вылечивать всевозможные болезни. В этой же Карантинной слободке жили железнодорожники, которых деникинское командование сняло с насиженных мест под Курском, их посадили семьями в теплушки и прикатили к Черному морю. Теперь эти железнодорожные куряне обжились в Феодосии на карантине, стали там совсем своими и обратно ехать не собирались. Теперь они занимались или продажей овощей, ягод, молока, или перетаскиванием тряпок из слободки на толкучий, где за гривенник сбрасывается весь этот хлам и покупаются продукты, необходимые для поддержания своей жизни.
Чувствуя, что опять теряет силы, Борис отсчитал от того места, где стоял, пятый дом и стукнул в калитку.
— Чего надо? — прорвался сквозь лай мужской голос.
— К Марфе Ипатьевне, — безнадежно ответил Борис и не успел удивиться, когда калитка отворилась и тот же невидимый голос пригласил:
— Заходи уж!
Опомнился он уже сидя в крошечной прохладной кухоньке на стуле. Ласковые женские руки разрезали на нем рукава тужурки и рубашки.
— Водички бы, тетенька, — простонал Борис.
Хозяйка подала ему ковш воды и наклонилась низко. Борис со стыдом увидел, что она еще женщина не старая, несмотря на по самые брови повязанный платок и две скорбные складки у рта.
— Тоже еще нашел тетеньку, — сердито гудел мужской голос.
— Да не бубни ты, Саенко, а посвети лучше, — рассердилась хозяйка.
Она обмыла рану, наложила какой-то мази и туго завязала чистой холстиной.
— Что там?
— Да ничего, царапина сильная, до свадьбы заживет. Ахметка, на-ка, во двор отнеси, завтра сжечь надо. — Она протянула в угол остатки Борисовой одежды.
В углу кухни шевельнулось что-то — собака или еще какой зверь, но оказалось это мальчишкой лет десяти. Мальчишка посматривал хитрыми раскосыми глазенками и улыбался.
— Иди, иди, басурман. — Саенко нагнулся, чтобы легонько шлепнуть мальчишку, от резкого движения керосиновая лампа в его руке зачадила и чуть не погасла.
— Тише ты, черт косолапый! — вскрикнула хозяйка.
Марфа Ипатьевна усадила Бориса на лавке, сама вышла куда-то и вернулась с чистой рубашкой и форменным кителем железнодорожника.
— Надень-ка, милый, — обратилась она к Борису, — в самую пору тебе будет. Это мужа моего покойного вещи, не для кого беречь-то теперь…
Борис перехватил ревнивый взгляд Саенко, тот засопел сердито и уселся в углу чистить картошку. Хозяйка помогла Борису надеть рубашку, он благодарно погладил ее руку. Женщина улыбнулась ему белозубо и сразу помолодела лет на десять, потом подошла к столу и прикрутила чадящую лампу.
— Ох, и подлый народ эти караимы, — гудел в углу Саенко, по-старушечьи тонко срезая кожуру с крупной картофелины, — ведь клялся, что керосин хороший. Я ему говорю: если опять плохого керосина продашь, сволоку тебя в контрразведку. Клянется, бородой своей трясет… Но я так думаю, что все равно разбавляет. Ох, и подлая же нация…
Вернулся со двора Ахметка, сощурил глаза на свет лампы и замычал что-то быстро, размахивая руками.
— Немой он, — пояснила хозяйка в ответ на вопросительный взгляд Бориса, — но слышит и все понимает. Подобрал его Саенко в порту, сирота он. Аркадий Петрович с ним занимается иногда, говорит, что вылечить можно. Что, Ахметушка, идет он?
В ответ раздался скрип калитки. Собака на Горецкого не залаяла, видно, знала, что свои.
Борис поднял тяжелую голову и увидел в дверях Аркадия Петровича.
— Сидите, сидите, Борис Андреевич. — Горецкий понял его движение как попытку встать при появлении старшего. — Сидите, вы устали и, как я вижу, ранены. Саенко, ужин готов?
— Так точно, ваше высокоблагородие! — гаркнул Саенко.
«Высокоблагородие» он выговаривал скороговоркой, и получалось у него «сковородие». Горецкий кивком пригласил Бориса пройти в комнату. Комнатка тоже была маленькая, но очень чистая, и пахло в ней свежестью и душистыми травами.
— Однако, Аркадий Петрович, неужели вы помните мое имя? Как, кстати, прикажете вас называть — по прежнему званию вас следовало титуловать «ваше высокородие», как статского советника, теперь вы стали ниже чином, когда в военную службу перешли, — «высокоблагородием» величать?
— Ах, голубчик, оставьте, я и раньше-то этих величаний не любил. Что чин теперь ниже, так ничего удивительного — в Добровольческой армии полковники рядовыми служат. А зовите меня Аркадием Петровичем — проще и не подлежит уценке. Вот Саенко — человек традиций, зовет меня «сковородием» и ни на какие новации не поддается. Правда, Саенко?
Саенко вошел следом за хозяйкой, неся в руках миску с дымящейся картошкой. Марфа Ипатьевна собрала на стол, ступая неслышно, но уверенно. Чувствовалось, что, не будь здесь Бориса, она села бы за стол на свое хозяйское место, как случалось не раз. Но сегодня она только внимательно окинула глазами стол, проверяя, не забыла ли чего, и вышла, повинуясь невысказанному желанию подполковника.
— А насчет того, что имя ваше помню, — продолжал Горецкий, — так это у меня профессиональное. Хороший преподаватель каждого своего ученика должен помнить, иначе грош ему цена. Если в ученике личность видишь — как же можно его забыть? Вы ешьте, ешьте, в тюрьме нашей гостеприимство известное.
Борис вспомнил, что голоден, и набросился на еду. Однако, немного утолив голод, он не удержался от вопроса:
— Отчего… отчего вы помогли мне, Аркадий Петрович?
Горецкий вздел на нос пенсне, сразу став как будто домашнее и знакомее, и проговорил с некоторой долей смущения:
— Как же мне не помочь одному из прежних своих учеников? — Затем, снова сбросив пенсне и став из профессора подполковником, продолжил: — Ситуация у нас непростая. Мы в Крыму только второй месяц, здесь действует множество подпольных групп и организаций самого разного толка — кто-то не вполне враждебен Добровольческому движению, но есть и крайне опасные. Здесь же, в Крыму, действует агентура многих иностранных держав. Антон Иванович — я имею в виду Деникина — наиболее близок с англичанами, они весьма помогают нам деньгами и оружием. Турецко-германские агенты, напротив, ведут здесь опасную и враждебную нам игру. От нас рукой подать до Батума, и хоть оттуда турки ушли в январе, там, разумеется, их агентура чувствует себя как дома. Генерал Кук-Коллис, английский генерал-губернатор Батума и прилегающих к нему областей, давно пытается покончить с турецким влиянием в Аджарии, и мы всемерно стараемся ему помочь. Но турки не теряют надежду опять занять Батумскую область, ведь ровно год назад, в августе восемнадцатого, она была отдана Турции приказом султана «на вечные времена». И вот из Батума прибыл связной английской секретной службы со списком турецких агентов в Крыму, и по иронии судьбы его-то как раз и находят убитым в вашем номере… Понятно, что контрразведка не может остаться в стороне. Произведенный на месте убийства обыск не дал результатов: список агентуры пропал.
Борис порывисто поднялся. Кровь прилила к его лицу.
— Аркадий Петрович, Богом клянусь, не убивал я этого человека и про список ничего не знаю!
— Не волнуйтесь, голубчик! — Горецкий успокоительно похлопал Бориса по руке. Он снова стал профессором, пенсне посверкивало у него на носу. — Я вам верю. Я научился в людях разбираться, поэтому и попал на теперешнюю свою службу. Но внешние обстоятельства дела говорят, к сожалению, не в вашу пользу. Как случилось, что убитый господин оказался в одной с вами комнате?
Борис смущенно развел руками и ответил:
— Я и сам порядком удивлен… Несколько дней назад только прибыл в Феодосию из Ялты, никого здесь не знаю…
— А позвольте спросить, с какой целью путешествуете? — Горецкий задал этот вопрос тоном скучающего попутчика, но Борис видел, с каким интересом смотрели его глаза сквозь пенсне.
«Не верит, — пронеслось у него в голове, — считает подозрительным».
— Я не путешествую, я сестру ищу, — сухо ответил Борис. — Видите ли, так получилось, что летом семнадцатого Варя, сестра моя младшая, гостила у тетки в имении Горенки Орловской губернии. Она болела зимой сильно, вот тетка и увезла ее на лето на воздухе пожить. А осенью сами знаете, что случилось, от них никаких вестей, я сам застрял в Петрограде — мать слегла, никак ее не мог оставить. Прошлым летом мать похоронил и решил сестру искать, у нас с ней больше никого нет. Как добирался — страшно вспомнить. По дороге тифом болел, еле выжил. Под Орлом чуть красные не мобилизовали. Приезжаю в Горенки — а там ни Вари, ни тетки Аглаи, ни самого дома уж нет. Егерь знакомый рассказал, что усадьбу летом восемнадцатого сожгли, но тетка с Варей еще раньше на юг решили подаваться. Решил и я — на юг. По дороге махновцы три раза поезд грабили, в степи спасался. Так ползком и фронт перешел. В Николаеве встретил жучка одного — клянется, что видел Варвару. Якобы тетка Аглая Тихоновна от сыпняка померла, а Варю взяло к себе семейство одно, Романовские… Вроде бы они в Ялту собирались. Обыскал я все гостиницы в Ялте — безрезультатно… Теперь вот сюда приехал… Ох, простите, отвлекся я. Так вот, остановился я третьего дня в этой, с позволения сказать, гостинице, а вчера привязался ко мне этот господин. Представился Георгием Махарадзе, но по его речи я сомневаюсь, что он грузин. И стал он меня всячески уговаривать сесть с ним в карты… Я вообще не играю, а в нынешнее время совершенно уже не до карт, но отвязаться от него не было никакой возможности. Пришлось играть… После лакей гостиничный — тот самый Просвирин, что позже привел штабс-капитана с его разбойниками, — принес нам вина. Махарадзе заказал. И выпили-то совсем немного, а только я больше ровным счетом ничего не помню…
— Так-так, — Аркадий Петрович сочувственно покачал головой, — трудненько вам будет убедить непредвзятых людей в истинности такой истории… Единственно, что могло бы спасти вас и оправдать в глазах властей, — это поимка настоящего убийцы. Однако боюсь, что не так это будет просто. Честно скажу, что нет у нас в этом деле никакой зацепки.
Саенко постучал деликатно и внес большой кипящий самовар. Аркадий Петрович налил себе и Борису крепкого чаю.
— Чрезвычайно удачно было бы, — продолжал он, накалывая сахар маленькими кусочками, — если бы самому вам удалось содействовать в поимке виновника, но для этого вы должны быть на свободе, с развязанными руками. Как этого добиться — ума не приложу. Хотя у меня и есть некоторое влияние в контрразведке, однако же не так оно велико, чтобы под одно мое слово отпустили человека, против которого свидетельствуют такие весомые улики.
Борис открыл было рот, чтобы спросить, какой же все-таки пост занимает подполковник Горецкий в контрразведке, но передумал. Он чувствовал в словах Горецкого какую-то подоплеку и двойственность. Несомненно же, что еще там, в контрразведке, подполковник Горецкий, увидев Бориса, уже принял решение ему помочь таким нетрадиционным способом, то есть он дал ему незаметно денег для побега. Для чего же теперь он затеял весь разговор? К чему он, собственно, клонит?
Аркадий Петрович задумался на некоторое время. Опять Борис поразился перемене, происшедшей с его лицом: черты потеряли мягкость и приобрели чеканность профилей на старых римских монетах.
— Позвольте полюбопытствовать, — неожиданно спросил Борис, — а почему вы в такой, простите, дыре живете? Ведь вам, Аркадий Петрович, по должности-то вполне приличная квартира полагается, в центре города.
— А мне, голубчик Борис Андреевич, здесь удобнее, чтобы не на виду. Мало ли какой гость зайдет…
Голос был профессорский, а вид — совсем другой, и от этого обычные слова приобретали иной смысл.
— Итак, слушайте и не перебивайте. Здесь, в Феодосии, несчетное число контрабандистов, которые за плату отвезут человека хоть к черту в пекло, а уж в Батум — и говорить нечего: там сейчас для них просто рай. Я дам вам еще денег, только теперь уже не «колоколов», контрабандисты их не возьмут, им теперь турецкие лиры подавай. И с документами что-нибудь придумаем.
Аркадий Петрович вытащил из портмоне несколько хрустящих купюр и протянул их Борису. От такого оборота дела Борис несколько растерялся и спросил:
— Но почему в Батум? Что мне там делать?
— Первое дело, дорогой мой, — там вы будете свободны.
— Но зачем мне свобода в Батуме? Мне нужна свобода передвижения здесь, в Крыму, мне нужно найти хоть какой-то след Вари… или получить твердую уверенность, что искать более незачем, — закончил Борис дрогнувшим голосом.
— От вас зависит, — прервал его Горецкий, — как вы воспользуетесь своей свободой. Судя по тому, что вы мне рассказали, человек вы неглупый, решительный, а главное — везучий. В скольких переделках бывали, а сумели вырваться и от красных, и от бандитов… Зачем в Батум, говорите? Да ведь агент-то из Батума прибыл. В Батуме и кроются корни сегодняшнего преступления. Но об этом, дорогой мой, мы еще потолкуем. Есть у меня кое-какие предположения, после я их вам изложу, когда вы выспитесь и отдохнете. А пока вы в Батуме будете, я уж тут постараюсь справки навести про сестрицу вашу, Варвару Андреевну…
Борис взглянул на Горецкого с благодарностью и уже открыл было рот, чтобы рассказать о карточке, что нашел под кроватью в номере гостиницы «Париж», но усталость брала свое, с трудом уже удерживал он глаза свои открытыми, неудержимо клонило его в сон. Он хотел извиниться перед Горецким и устроиться где-нибудь на сеновале или хоть на кухонной лавке, как вдруг злобно залился кобель во дворе, стукнула калитка, раздался топот нескольких человек по двору и бряцанье винтовок. Борис успел только мигнуть, окончательно просыпаясь, а Горецкий уже вскочил, прикрутив лампу на столе, и в руке его сам собой оказался «наган». В дверь забарабанили прикладами:
— Открывай!
— Кто такие? Это подполковника Горецкого квартира! — отлаивался в сенях Саенко.
— Открывай немедленно! — раздался знакомый голос штабс-капитана Карновича. — Беглого ищем, из контрразведки!
— Черт знает что! — воскликнул Горецкий. — Карнович, вы что, с ума сошли? Не волнуйтесь, я все улажу, — шепотом обратился он к Борису.
— Ну уж нет! — мгновенно озверел тот. — Хватит уже, посидел у вас в контрразведке. Не знаю, что вы за игру ведете, но я сам во всем разберусь.
Дверь между тем трещала под ударами прикладов, Горецкий сделал шаг в сени, Борис же в это время ловко проскочил у него под рукой, выхватив «наган», на который Горецкий уже не обращал внимания, услышав голос Карновича. В сенях Борис заметался, заскочил в другую комнату, где простоволосая хозяйка в одной рубашке схватила его за руку и подвела к окошку, что выходило в огород. Бесшумно растворив окно, она перекрестила Бориса и отошла. Борис спрыгнул в цветы, пробежался по грядкам с помидорами и затаился. Входную дверь отворили, на пороге возник сам Горецкий с фонарем.
Освещенная фигура его выглядела грозно.
— Как сметь… ко мне? — спрашивал он сдавленным от сдерживаемой ярости голосом.
— Ваше высокоблагородие, поступило донесение… видели его в этих краях… прикажите обыскать слободку… — бормотал Карнович.
— Да вы что себе позволяете? Завтра же на фронт! — Голос Горецкого набирал силу.
Борис почувствовал, как кто-то дернул его за штанину. Ахметка поблескивал в темноте узкими глазенками и манил за собой. Они проползли в самый темный угол двора, там у забора были сложены какие-то кули, прикрытые рогожей. Ахметка вскарабкался на кули, а Борис легко подтянулся и перемахнул через забор. Мальчишка приземлился рядом бесшумно. Они осторожно выглянули из-за угла. У калитки стоял солдат, остальные находились внутри дома и на дворе. Борис вытащил «наган», но Ахметка потянул его за рукав в сторону.
«Вот так-то, господин Карнович, — думал Борис, прибавляя шагу, — больше мы с вами не встретимся, а если встретимся, то один из нас этот свет вскоре покинет. Очень я не люблю, когда по почкам бьют».
Он сам удивился своим мыслям. Никогда раньше не был он агрессивным. Просто надоело ему бегать как заяц по всей России и прятаться от всех. Но сейчас-то он тоже бежит, возразил сам себе Борис. Но это в последний раз. Черт его знает, Горецкого этого, что он за игру затеял. И хоть помнил его Борис по довоенной жизни в Петербурге как человека несомненно порядочного, но столько всего случилось за эти годы, люди меняются и от меньшего. Устроил Борису побег, привел к себе, чтобы вызвать доверие… Борис сдуру наболтал ему про сестру… А если Горецкий не поверил ему и считает, что он причастен к преступлению? Упорно посылал в Батум… Что ж, в Батум так в Батум, там на месте определимся. А здесь все равно нельзя оставаться, земля под ногами горит.
Ахметка забирал вправо, стремясь дойти до моря, миновав город. Дорога шла вниз. Последние домики слободки остались позади. В глухой предрассветной темноте не было видно ни зги, и, если бы не Ахметка, чудом находивший дорогу, Борис давно бы сломал себе шею на крутой козьей тропе. Все ближе и ближе раздавалось сонное дыхание моря, наплывал теплый йодистый запах, запах свободы, запах дальних странствий. Еще несколько минут головокружительного спуска, и перед Борисом открылась маленькая бухта. От близости моря стало светлее. Прибой ровно и мощно бился о камни. Прячась в тени скалы, раскачивалась на волнах турецкая фелюга. На борту раздавались приглушенные голоса, мерцали тусклые огоньки тлеющих трубок.
Борис споткнулся на склоне, камень покатился из-под его ноги и с плеском упал в воду. С фелюги послышался тревожный окрик на незнакомом Борису языке. Татарчонок в ответ громко замычал.
— Ахметка, ты, что ли? — крикнули из темноты по-русски.
По шатким сходням легкой танцующей походкой сбежал рослый плечистый мужчина и подошел к пришельцам. Лицо его до самых глаз было закутано концами башлыка, в руке темнел «маузер». Мальчик замычал что-то свое, и удивительно, но мужчина в башлыке его понял. Он внимательно, насколько позволял скудный свет крупных августовских звезд, всмотрелся в лицо Бориса и произнес с сильным певучим акцентом:
— Деньги давай. Не «колокола» — лиры. Батум плывем. Сейчас плывем. Пока темно.
Борис вытащил из кармана тужурки несколько хрустящих бумажек, контрабандист взглянул, не взял и отрицательно покачал головой. Борис прибавил еще несколько, тогда грек кивнул и побежал обратно на фелюгу, махнув Борису рукой — мол, давай за мной!
Борис погладил подвернувшуюся под руку стриженую голову татарчонка, пробормотал:
— Ну, прощай, Ахметка, спасибо тебе! — и пошел обратно к сходням.
Узкая качающаяся доска привела его в сомнение. Глядя, как ловко пробежал по доске контрабандист, он усомнился в его человеческой природе, но делать было нечего, достоинство уронить никак нельзя, и Борис скрепя сердце шагнул на шаткую доску.
Чудом он перебрался на фелюгу. Утлое суденышко, лишенное палубы, было завалено тюками и ящиками, на корме имелась крошечная дощатая каютка, более напоминающая собачью конуру. Возле мачты стоял знакомый контрабандист и еще двое: один — совершенно разбойничьего вида субъект, а другой — юноша, почти мальчик, глядя на которого Борис вспомнил эрмитажную мраморную статую греческого бога Пана. Первый — главный на корабле — скомандовал по-своему, парень втащил на фелюгу сходни, Ахметка отвязал от сваи у берега швартовочный конец. Затем двое моряков развернули косой парус, подвешенный к рейку. Капитан встал у рулевого весла, и фелюга, неровно подпрыгивая на волнах, отошла от берега.
Позади темными громадинами виднелись холмистые уступы, позади остались Феодосия, Крым, контрразведка Деникина. На море опускался туман, которого и дожидались контрабандисты, чтобы незамеченными уйти в открытое море. Главный разбойник подошел к Борису и, нещадно коверкая русские слова, сказал:
— Га-аспадин хароший, ты в каюта ступай. Григорий Степаныч придет, смотреть будет. Григорий Степаныч — хароший человек, свой человек, только не надо ему тебя видеть.
— Кто такой Григорий Степаныч? — удивленно спросил Борис, не понимая, как кто-то может прийти к ним посреди моря.
— Таможня, — коротко ответил контрабандист, потом добавил: — Красные были — Григорий Степаныч плавал, белые были — Григорий Степаныч плавал… Деньги брал, но жить давал. Хароший человек.
— А как же он нас увидит, когда туман? — поинтересовался Борис.
— Он и в тумане увидит, и ночью увидит… Такой он, Григорий Степаныч! Хароший человек! А ты в каюта ступай, Григорий Степаныч уже идет.
Борис не видел и не слышал никаких признаков — только плеск волн и скрип мачты, но послушно ушел в каюту. Согнувшись в три погибели, он пробрался в тесную конуру. Контрабандист пролез следом и указал ему лечь в угол на маленький сундучок, прикрытый полуистлевшей овчиной. Когда Борис устроился с трудом, капитан закрыл его дощатой перегородкой и повесил сверху плетеную циновку, так что со стороны казалось, что каюта пуста. Борис затих, прислушиваясь. Некоторое время спустя сквозь шум моря послышалось мерное тарахтение мотора.
Освоившись в своей каморке, Борис нашел щелку, через которую мог видеть хотя бы отчасти то, что происходит на фелюге. Он слышал, как с ровным тарахтением к паруснику подошел моторный катер. Мотор приглушили, фелюга дрогнула от толчка.
— Здоров, Спиридон! — раздался басовитый окрик.
— Бог в помощь, Григорий Степаныч! — ответил контрабандист. — Сами-то здоровы ли?
Голос капитана фелюги звучал теперь не так грубо, как раньше, и даже акцент стал меньше. Фелюга ощутимо качнулась — пресловутый Григорий Степаныч перебрался на борт. Не разглядеть его было нельзя — уж очень много его было. Григорий Степаныч был дородный пузатый мужчина за пятьдесят, с загорелым, обветренным лицом и длинными висячими усами, похожий на одного из запорожцев с известной картины Репина.
— Ну что, Спиридон? Что сейчас везешь?
— Гостинец тебе везу, Григорий Степаныч! — Спиридон протянул таможеннику увесистый узелок.
Узел тут же исчез в одном из бездонных карманов засаленных шаровар.
— Люблю греков! — довольно пробасил Григорий Степаныч. — Понимающие вы люди! Знаете, чем старику угодить! Людишек-то не везешь?
— Как можно, Григорий Степаныч! — Спиридон ударил себя кулаком правой руки в грудь, в то же время засовывая левой рукой в карман запорожцу одну из хрустящих бумажек Бориса. — Как можно? Что ж я, не понимаю…
— Понимаешь, Спиридон, понимаешь, — Григорий Степаныч ласково похлопал контрабандиста по плечу, — иначе большие неприятности от контрразведки можешь поиметь…
В это самое время возле них появился напарник Спиридона с двумя стаканчиками в руках. Григорий Степаныч ловко прихватил стаканчик двумя пальцами огромной волосатой руки, Спиридон принял второй, они чокнулись и выпили, не расплескав ни капли, несмотря на то что фелюга ощутимо раскачивалась на волнах.
— Будь здоров, Спиридон! — рявкнул старый запорожец. — Ну, пошел я. Обратно из Батума пойдешь — увидимся! Белые тут, красные или зеленые — хоть полосатые, а мы с тобой, Спиридон, всегда тут, в море! — С такими словами он перебрался в свой катер.
Фелюга снова качнулась, будто с нее скинули половину груза. Греки снова распустили подтянутый к рейку парус, и фелюга рванулась вперед, как почувствовавший шпоры конь.
Весь день Борис промаялся в душной тесной каюте и только вечером, когда стемнело, капитан разрешил ему выйти на волю. А днем Борис лежал, раздевшись, истекая потом, и проклинал все на свете. Рана под повязкой не болела, и Борис помянул добрым словом Марфу Ипатьевну и ее целебную мазь. Но совершенно неожиданно воспалился зуб, то есть ранка, что осталась на месте выбитого Карновичем зуба. Щеку дергало и даже, насколько мог определить Борис на ощупь, разнесло. Голова горела, и непонятно было, от внутреннего или от внешнего жара. Сквозь щели в досках Борис мог видеть, что творится на фелюге. Спиридон и его подручный по очереди сменялись у руля. Мальчишка по случаю жары разделся догола, повязал чресла какой-то тряпкой, сверкал на солнце безупречного сложения бронзовым телом и от этого еще больше походил на греческого бога.
Вечером Спиридон открыл тайник и выпустил своего пассажира. Глядя на измученного Бориса с раздутой щекой, капитан поцокал языком, отвязал от пояса фляжку и налил ему такой же стаканчик, как те, что пили они с Григорием Степанычем.
— Ну, господин хороший, ты теперь тоже моряк. Пей, это наша водка, греческая. Да сразу не глотай, во рту подержать надо.
Борис с сомнением взял в рот коричневую жидкость, рану обожгло огнем, а когда он от неожиданности проглотил, глаза вылезли на лоб: показалось, что он выпил стакан расплавленного свинца да еще к тому же в желудке разорвалась граната-лимонка. Спиридон смотрел на него, усмехаясь:
— Что, крепка водка? Какова наша жизнь, такова и водка. Привыкай: жизнь сейчас у всех крепко настояна.
Грек развеселился и протянул ему полкалача, несколько помидоров и сосуд с вином. После еды Борису стало лучше, безумно хотелось только курить. Спиридон отсыпал ему табаку и дал кусок газеты «Крымский курьер», выходившей в Симферополе. В газете было напечатано стихотворение местного рифмоплета, воспевающее Деникина. Борису достались такие строчки:
Деникин пришел, как мессия, Над миром парит, как орел. Его дожидалась Россия, И вот наконец он обрел…Что обрел Деникин, осталось неизвестным. Борис пожал плечами и свернул папироску. Лежа на тюках под небом, усыпанным крупными яркими звездами, Борис предался невеселым размышлениям. Его настораживало то, что слишком легко удался побег. Ведь Горецкий говорил, что они еще обсудят многие вещи, что Борис должен отдохнуть, выспаться. И тут очень кстати приходит Карнович, Борису помогают бежать. Фелюга стоит наготове. Да, но контрабандисты-то настоящие… Ну так и что же, они небось давно у Горецкого прикормлены, не зря Ахметку знают. А может быть, это ловкий ход? Выпустить его в Батум без документов и считай что без денег — почти все он отдал грекам, — а потом наблюдать за ним и смотреть, куда побежит? К англичанам ли, к туркам, либо вообще в советскую миссию? Только за каким чертом Борису делать у них у всех, ему в Крым надо…
В одном Горецкий прав: корни вчерашнего преступления, несомненно, в Батуме. Об этом говорит карточка, что Борис нашел в номере. Абсолютно точно, что потерял ее убитый, этот Георгий Махарадзе… Потому что под кроватью лежал слой пыли толщиной в палец, а карточка была абсолютно чистой, то есть попала туда недавно. Ладно, будем искать кофейню Сандаракиса, а там спрашивать Исмаил-бея, это единственная зацепка.
Звезды опускались все ниже и ниже, было такое чувство, что скоро небо сольется с морем и Борис поплывет в этой субстанции, разгоняя руками звезды, как светящиеся медузы…
Глава третья
Опять во сне встали перед ним дни его скитаний по охваченной пламенем Гражданской войны России.
Товарным поездом добрался Борис до станции Зерново. Дальше — Украина, дальше — Петлюра, а тут — красные, голод, а главное — там Варя. Он уверил себя, что она там, на юге…
Борис побродил вдоль путей, наткнулся на подозрительного красноармейца и от греха пошел на рынок. Там он потолкался среди продающих и покупающих, послушал разговоры… Около него остановился кривоносый бородатый мужик.
— Не надобно ли чего панычу? — спросил мужик вполголоса.
— Нет… — Борис нерешительно огляделся. — Мне ничего не надо покупать… а мне бы…
— Панычу треба до Украйны? — Мужик перешел совсем на шепот. — Мы это могем… Мы сами с Украйны будем…
Борис подошел к мужику вплотную и прошептал:
— Добрый человек, проведешь на Украину? Знаешь, как посты обойти?
— Знамо дело, — мужик радостно осклабился, — каждую ночь, почитай, ходим. Сто рубликов извольте, паныч, — и все будет в лучшем виде.
— Как же — я тебе деньги дам, а ты и сбежишь?
— Не извольте сомневаться, паныч, вечером с местечка в хлеба тикайте, подле дороги ждите, как меня завидите — выходьте. Туточки дадите мне пятьдесят рубликов, а как до места вас доведу — еще пятьдесят пожалуйте.
Борис прошатался по местечку до сумерек, стараясь не попадаться на глаза красным, а в сумерках спрятался возле дороги в высокой пшенице.
Когда стемнело, послышался скрип колес и на дороге показалась телега. Борис опасливо выбрался на дорогу, всмотрелся — возле телеги шел тот самый бородатый мужик, а на телеге сидело еще несколько.
— Здоров, паныч? — вполголоса окликнул Бориса знакомец. — Извольте гроши.
Борис протянул мужику деньги и пошел рядом с телегой. Шли молча несколько минут, потом с телеги донесся скрипучий голос:
— Зря ты, Матвей, паныча взял. Из-за него и нас красные постреляют.
— Типун те на язык, Васька! — вполголоса отругался провожатый. — Кажную ночь ходим, ни разу красным не попались!
— Прежде — не попадались, — проскрипел тот же голос, — а нынче — обязательно попадемся.
— Умолкни ты, окаянный! — Матвей в сердцах повысил голос. — Сглазить ты, что ли, хочешь? Всего-то версты три пройти, и обойдем все посты ихние!
— Умолкнуть? — ядовито проскрипел Васька. — А чтой-то я молчать должен? Ты-то с паныча гроши взял, вот ты и молчи, а мне ни жменечки не перепало, так я хоть покалякаю!
— Сволочь ты, Васька! — со слезой в голосе заговорил Матвей. — Что же ты, сволочь, делаешь? Мы же все через тебя пропадем! Я же тебя на телегу посадил и мешок твой взял, сам пешком тащусь — и тебе же еще и деньги плати?
— Не хочешь — не плати! — Васька заговорил нарочно громко, в голосе его зазвучала истерическая нотка. — А только точно тебе говорю — сегодня нас из-за твоего паныча красные постреляют!
Рядом с Васькой на телеге приподнялась чья-то голова, блеснули в темноте яркие белки глаз, женский молодой голос тихо произнес:
— Ты, шкура барабанная, только еще пикни — я тебе железом нутро-то прополосну!
Борис вгляделся: на телеге рядом с Васькой приподнялась молодая цыганка, в руке ее тускло отсвечивал в лунном свете нож.
— У, ведьма! — трусливо визгнул Васька, отодвигаясь от цыганки. — Креста на тебе нет, проклятое племя!
И в это мгновение впереди раздался самый страшный звук — звук передергиваемого затвора.
— Вот же ты сволочь какая, — вполголоса произнес Матвей, — накликал же Васька нелегкую!
Васька хотел было что-то сказать, но цыганка прижала нож к его боку и прошептала:
— Только пикнешь, шкура драная, зарежу и глазом не моргну!
Васька покосился на цыганку, поверил в серьезность ее слов и окончательно замолчал. Со всех сторон из пшеницы выступили солдаты.
— Кто такие, куда идете? — спросил комиссар-большевик в кожаной куртке.
— На Украйну, за мучицей, батюшка товарищ, а то голодно! — быстро ответил за всех Матвей, пока кто-нибудь не ляпнул чего лишнего.
— Все за мукой? — недоверчиво переспросил комиссар.
— Все, батюшка товарищ!
— Ладно, можете идти… кроме тебя. — Комиссар ткнул пальцем в Бориса.
— Почему же мне — нельзя? — спросил Борис, по возможности спокойно. — Мы ведь одна ватага.
— Правду он говорит? — Комиссар повернулся к людям на телеге.
— Правду, правду, батюшка товарищ! — торопливо подтвердил Матвей.
— Не тебя спрашиваю, — отмахнулся комиссар.
— Правду! — вразнобой подтвердили попутчики.
Васька покосился на цыганку и промолчал.
— Все равно, вы идите дальше, а этот останется.
Борис безнадежно смотрел вслед удаляющейся телеге.
— Почему же мне нельзя, товарищ большевик? — спросил он тоскливо, предчувствуя ответ.
— Личностью не вышел, — коротко ответил комиссар, — морда у тебя белая.
— Какой я белый? — запротестовал Борис. — С голоду за мукой иду…
— А вот в штаб тебя сведу — там и поглядят, какой ты взаправду. Стороженко, Храпцов — а ну, отведите этого в штаб!
Двое солдат вышли из общей массы, встали чуть сзади от Бориса и повели его по дороге обратно к станции.
— Братцы, — начал Борис, когда комиссар с остальными солдатами пропал из виду, — вы сами-то откуда будете?
— А тебе-то не все равно? — ответил один. — Я вот, допустим, псковский…
— А из какой же деревни?
— А тебе-то что? Ну из Надворья…
— Так я ведь в Надворье бывал, у меня там родня… — начал Борис вдохновенно врать, — дядя Ваня, что возле околицы живет, он мне родственник…
— Дядя Ваня? — заинтересовался солдат. — Это хромой, что ли?
— Во-во, он самый, хромой и есть.
— Так он не у околицы, а у пруда…
— Точно, возле пруда, это я запамятовал по малолетству… Мы в этом пруду мальчишками карасей ловили.
— Ха! — развеселился солдат. — Я ведь тоже карасей в том пруду ловил!
— Может, мы с тобой вместе их и ловили-то… то-то я смотрю, вроде человек знакомый!
— Ну надо же! — Солдат растрогался. — Где Бог свидиться дал…
— Хорошие караси в пруду были! А что в штабе-то, небось со мной и разбираться не станут: шлепнут — и все разговоры?
— Это как водится, — вздохнул солдат, — в штабе у них разговор короткий…
— Братцы, — пожалобнее начал Борис, — может, вы меня… того…
— Ты это брось, контра, — вступил в разговор второй солдат, до сих пор хранивший молчание. — Вишь, на жалость берет! Велено в штаб, значит, в штаб и поведем!
— А я бы… на водку вам… и по-человечески, земляки все ж таки… Карасей мальчишками вместе ловили…
— А сколько бы, допустим, ты нам на водку? — задумчиво проговорил «земляк».
— Да хоть бы сто рублей, — наудачу предложил Борис.
— Сто рублей — это хорошо… а то ведь правда в штабе шлепнут его без всяких разговоров… и земляки опять же…
Борис скосил глаза на небо: к луне подбиралась большая туча.
— Вот они, сто рубликов-то, — протянул он солдату деньги.
— Сто рублей — это хорошо… только комиссар-то нам… — начал раздумчиво «земляк», для верности спрятав деньги.
В это время туча наползла на щербатый диск луны, и Борис, не дожидаясь, пока размышления солдата придут в последнюю, явно неблагоприятную фазу, сложился пополам и резко нырнул в пшеницу.
— Стой, земляк! — недовольно окликнул его солдат и сдернул с плеча винтовку.
— Черт тебе земляк, — пробурчал Борис себе под нос, зигзагами улепетывая в хлеба.
— Стой, дура, я же тебя не трону! — истошно вопил солдат.
Борис бежал согнувшись, ожидая выстрелов. Пшеница предательски шуршала, обозначая его передвижение. Звук этот казался Борису непомерно громким.
— Стой же, контра проклятая! — Оба солдата начали палить по хлебам, но в сгустившейся темноте это было совершенно безнадежно.
Борис проснулся и долго лежал, глядя в ночное звездное небо, вспоминая наяву, что случилось дальше. Солдаты, постреляв, ушли, переругиваясь, а Борис, отлежавшись, потихоньку пошел прямо по полю в том направлении, куда уехала телега. Версты через полторы он отважился выйти на дорогу, а к рассвету вдали показались дома и железнодорожная станция.
— Какое село? — спросил он у мальчишки, что гнал в поле четырех коров.
— Отрадное, — бросил тот не оглянувшись.
У Бориса отлегло от сердца — Отрадное было уже на Украине.
Хозяин гостиницы «Париж» Ипполит Кастелаки был вдов, немолод и неизлечимо болен. Дела в гостинице шли плохо, хоть Феодосия и набита была приезжими. Но платили они неаккуратно, ломали мебель и рвали и без того дырявые простыни, а некоторые вообще норовили съехать, не заплатив. В этот вечер Кастелаки долго подсчитывал убытки и вздыхал сам себе. В комнате была страшная жара, потому что он боялся раскрыть окно, чтобы не влезли и не украли кассу.
Наконец хозяин гостиницы закрыл учетную книгу, убрал в потайное место тонкую пачку денег, горестно пожевав над ней губами, и разделся до кальсон. Напоследок он приоткрыл дверь и прислушался. Была глубокая ночь, все постояльцы гостиницы «Париж» давно спали. Кастелаки с облегчением запер дверь в свою комнату и сел на кровать, скрипнув пружинами. Не глядя протянул руку, взял с комода графин с несвежей третьегоднишней водой и растворил в стакане порошок, что дал ему аптекарь Гринбаум. Порошок якобы помогал от печени. Кастелаки выпил лекарство поморщившись, привычно ругнув Гринбаума, погасил лампу и долго еще сидел на кровати, почесываясь и вздыхая. Наконец его сморил тяжелый сон — не иначе Гринбаум подмешивал в порошок снотворное.
Проснулся Кастелаки от того, что почувствовал в комнате присутствие чужих людей. Не открывая глаз, он с ужасом понял, что сбылись самые страшные его опасения: воры проникли в гостиницу и теперь ищут деньги. Он лежал, обливаясь холодным потом, и думал, что делать: закричать — авось кто-нибудь услышит и придет на помощь — или же притвориться спящим, пускай они забирают кассу, а его оставят в покое. Его колебания были прерваны самым недвусмысленным образом: мощная рука отбросила одеяло и встряхнула несчастного хозяина гостиницы так, что у того клацнули немногие оставшиеся зубы.
Кастелаки открыл глаза. Прямо перед собой увидел он равнодушное бритое лицо. Голова тоже была обрита наголо. Глаза, и без того узкие, прятались в складках век.
«Татарин!» — понял Кастелаки.
Одет был человек в кожаную жилетку, под кожей голых рук, как змеи, перекатывались мускулы.
— Ну? — спросил страшный татарин.
Кастелаки молчал, потому что от ужаса у него перехватило горло.
— Ну? — повторил татарин.
— Д-деньги там, — прохрипел несчастный Кастелаки, указывая пальцем укромное место.
Две руки протянулись сзади, подняли его за плечи и опять швырнули на кровать. На удар болью отозвались все внутренности и жалобно скрипнули старые пружины.
— Говори, овечье дерьмо, кто позавчера убил этого, в черкеске, который у тебя номер брал.
— Его же забрали в контрразведку! — в полном изумлении пролепетал Кастелаки. — Сказали ту… — тут несчастный хозяин икнул от страха, — турецкий шпион.
— Значит, он его убил, а сам тут же в номере спать лег? — издевательски продолжал бритый. — А ты небось ничего не видел и ничего не знаешь?
— Так точно. — От страха Кастелаки стал выражаться по-военному.
— Что нашли при нем?
— Ни… ничего не нашли, — ответил чистую правду хозяин, — они, из контрразведки-то, ругались очень, что не нашли.
— Кто еще был с ними вечером?
— Никого, — испуганно бормотал хозяин, — они только вдвоем сидели, в карты играли…
Страшный татарин быстро ткнул хозяина кулаком в живот. Больную печень пронзила ужасная боль, и Кастелаки закричал громко, по-звериному. Стоявший сзади слишком поздно успел зажать ему рот.
На крик где-то наверху хлопнула дверь, чей-то голос спросил сонно, будет ли покой в этом клоповнике, потом кто-то нервный потребовал хозяина.
Кастелаки смотрел бессмысленными глазами, ничего не соображая от боли. Стоявший сзади вышел на свет, подошел к двери, прислушиваясь, потом быстро замотал Кастелаки рот тряпкой, а на голову натянул мешок. Они подхватили слабо сопротивляющееся тело и вытащили его в открытое окно. Кастелаки чувствовал, что его тащат, потом фыркнула лошадь, и его погрузили на повозку. Мотаясь по дну арбы и подпрыгивая на ухабах, Кастелаки вспомнил, что нужно было сказать похитителям про лакея Просвирина, что тот разговаривал с убитым, приносил вино в номер, а он ничего не знает. Но печень болела невыносимо, к тому же он начал задыхаться под тряпкой. Сердце поднималось к горлу, он чувствовал, что оно хочет выскочить из груди. Наконец при сильном толчке в голове у несчастного хозяина гостиницы «Париж» вспыхнул яркий неестественно белый свет, и он перестал ощущать боль и неудобства.
Арба остановилась на берегу моря, татары вынесли бесчувственное тело на обрыв и сняли мешок. Ипполиту Кастелаки было уже все равно. Бритый вытащил нож, приложил его ко рту своей жертвы, убедился, что Кастелаки не дышит, и огорченно поцокал языком. Потом он привязал к телу большой камень и выбросил труп в море.
После полудня Спиридон, напряженно вглядывавшийся в горизонт, вдруг закричал что-то по-гречески. Его подручные засуетились, фелюга развернулась и стремительно понеслась к видневшемуся вдалеке берегу.
— Что случилось? — встревоженно спросил Борис.
Тот отвечал неохотно, было видно, как он озабочен:
— Кто его знает… Плохие люди… Грабить могут, убивать могут…
— Пираты, что ли? — изумленно спросил Борис.
— Не знаю, какие такие пираты. Плохие люди. Прятаться надо.
Берег рос на глазах. Фелюга скользнула мимо крутого утеса и плавно вошла в укромную бухту, отгороженную от моря скалой. Греки свернули парус, скатав его на реек. Спиридон перепрыгнул с борта фелюги на выступ, нависающий над водой, и ловко, как большая обезьяна, вскарабкался на утес, откуда просматривалось море. Там он лег, слившись со скалой, и замер. Борис долго наблюдал за ним, пока глаза не начали слезиться от утомления. Дав им на несколько секунд передышку, он снова взглянул в прежнем направлении, но уже не смог найти контрабандиста — тот непонятным образом слился с камнями и стал совершенно невидим. Борис откинулся, привалился к мягкому тюку и задремал незаметно. Когда он снова проснулся, солнце прошло уже большую часть своего дневного пути. Двое контрабандистов тоже валялись на дне фелюги в полудреме, Спиридона не было видно. Вдруг он возник на скале за бортом — совершенно беззвучно, будто материализовавшийся дух. Легко перескочив в лодку, он только коснулся рукой плеча юноши, похожего на греческого бога, и тот, мгновенно проснувшись, взялся за парус. Борис, на которого беззвучное появление Спиридона произвело сильное впечатление, спросил шепотом:
— Пираты ушли?
— Не знаю я никаких пиратов, — негромко отвечал Спиридон, — плохих людей не видно. А что ты шепотом говоришь?
— Так ведь ты, Спиридон, тоже… тихо так появился, тихо своих разбудил.
— Я всегда тихо хожу, — ответил Спиридон, — зачем мне шуметь? Я шум не люблю. Я и мотор не хочу ставить, мотор шумит сильно. А парус — вот он: тихий, быстрый…
Фелюга, словно подтверждая его слова, беззвучно и стремительно вышла из бухты и, словно чайка, полетела вдоль скалистого берега.
Прошло около часа в тишине и покое разомлевшего моря. Солнце медленно клонилось к закату. Фелюга постепенно удалялась от берега, как вдруг, резко разорвав тишину, раздалось почти рядом тарахтение внезапно заработавшего мотора. Спиридон, мрачный как туча, громко выругался по-гречески и схватился за рулевое весло.
Из укромной бухты, мимо которой только что прошла фелюга, стремительно вылетел моторный катер. Спиридон безнадежно огляделся, сказал что-то своей немногочисленной команде, затем обернулся к Борису:
— Га-аспадин хароший, быстро прячься туда, где сидел, — в каюту. Мы бедные греки, нас, может, и не тронут, а кто ты такой — не знаю, тебя плохие люди точно убьют.
Борис послушно полез обратно в тайник, Спиридон снова прикрыл его циновкой и ушел на корму фелюги, проверив «маузер», спрятанный за пазухой.
Борис прильнул к отверстию в стенке каюты, через которое прежде наблюдал встречу с Григорием Степанычем.
Быстро увеличиваясь в размерах, моторный катер приближался к суденышку контрабандистов. На носу катера, тускло отсвечивая на солнце, медленно поворачивался ствол пулемета «максим». Рядом с пулеметчиком показался зверского вида детина в матросском бушлате, опоясанный пулеметными лентами. Размахивая огромным «маузером», он заорал, перекрывая шум мотора:
— Греки, мать вашу, стой! А то сейчас из пулемета потоплю ваше корыто к чертовой матери, отправитесь свою кефаль кормить!
Спиридон мрачно смотрел на приближающийся катер и молчал. Матрос взмахнул рукой, и пулеметчик дал короткую очередь, взбив фонтаны брызг возле самого корпуса фелюги. Спиридон бросил несколько греческих слов своей команде, и те свернули парус.
Катер подошел вплотную, матрос забросил на борт суденышка железные крючья, подтянул катер, вплотную притершись бортами.
Борис в щелочку разглядывал экипаж пиратского катера. Кроме матроса — таких он достаточно насмотрелся в революционном Петрограде: тот же бушлат, те же неимоверной ширины брюки клеш, те же пулеметные ленты, которые матросы, по-видимому, считали просто деталью своего парадного костюма, — на катере было еще двое. Первый — дикого вида джигит, не то черкес, не то лезгин, лежавший за пулеметом. Несмотря на адову жару, он был в косматой меховой шапке, надвинутой на один глаз, что делало его похожим на циклопа. Второй, как ни странно, была женщина. Женщина эта показалась Борису страшнее всех. Хотя и матрос производил мрачное впечатление — давно не бритая широкоскулая рожа, пересеченная плохо зарубцевавшимся кривым сабельным шрамом, маленькие злобные глазки, щербатый рот с золотыми фиксами, — но женщина выглядела куда опаснее. Одетая в галифе и офицерский френч без погон, коротко стриженная, она смотрела на экипаж греческого суденышка с таким злобным наслаждением, с такой радостной ненавистью, с какой, должно быть, хищный зверь смотрит на пойманную жертву, чьими предсмертными муками хочет позабавиться больше, чем съесть. Садизм и наркомания ясно читались в блеклых безумных глазах пиратки.
— Что везем? — с обманчиво грубой симпатией спросил матрос, поводя из стороны в сторону стволом «маузера», направляя его то на Спиридона, то на его команду.
— Мы бедные гре-еки, — жалобно, нараспев проговорил Спиридон тоном вокзального нищего, — что мы можем везти? Немножко поесть, немножко выпить… Хотите греческой водки, добрые га-аспада?
Матрос сглотнул слюну, сплюнул и прорычал:
— Водки — само собой. А как насчет опиума, грек?
— Опиум? — переспросил Спиридон таким тоном, будто слышал это слово впервые. — Опиум? Ну, немножко для гаспадина матроса найдется.
— Кончай ты их, — низким, хрипловатым голосом сказала женщина, подходя ближе к борту катера и расстегивая кобуру «нагана». Она сказала это так буднично, словно просила у своего товарища закурить. — Кончай их, Махра, там разберемся, что у них есть на фелюге.
— Ну, Сонька, ты даешь! — восхищенно присвистнул матрос. — Сразу в расход! Сперва надо среди них эту… егитацию провести! Мы же не бандиты какие, мы — вольные анархо-революционеры Черного моря! Мы вот сейчас выявим ихнюю классовую сучность — а тогда уже и кончим как врагов вольной анархии!
Лицо женщины перекосилось злобной гримасой. Она вытащила «наган» из кобуры со словами:
— Пошел ты, Махра, со своей агитацией! Я крови хочу!
Борис понял, что сейчас начнется кровавая бойня. Все последующее заняло какие-то доли секунды. Он вытащил из-за пазухи холодивший его грудь «наган» Горецкого и прямо сквозь доски каюты выстрелил в матроса. Времени на раздумья у него не было. Сработал инстинкт: женщина, при всей ее опасности, была дальше, она еще не успела изготовить оружие к бою, между ней и греками стоял матрос, который не позволял ей вести прицельный огонь. Пулеметчик вообще был в данный момент не опасен, поскольку, подтянув катер к борту фелюги, пираты развернулись так, что греки оказались в мертвой зоне пулемета, а чтобы развернуть пулемет, понадобилось бы немало времени. Все эти длинные рассуждения промелькнули в голове Бориса в ничтожную долю секунды — откуда только что взялось, ведь всегда он был человеком сугубо штатским.
Он выстрелил сквозь стенку, и его выстрел достиг цели. Матрос заревел, как раненый бык, изо рта у него хлынула кровь, и он как подкошенный свалился за борт фелюги. Прежде чем тело его коснулось воды, младший грек метнул в женщину невесть откуда взявшийся в его руке тяжелый рыбацкий нож. Лезвие вошло ей чуть ниже уха, и анархистка упала на спину, обливаясь кровью. Лезгин-пулеметчик, громко ругаясь, пытался развернуть «максим» стволом к фелюге, но Спиридон уже перепрыгнул на борт катера и из своего «маузера» дважды в упор выстрелил кавказцу в голову.
Наступила та особенная тишина, что бывает только после боя. Несколько секунд все оставались на тех же местах, каждый боялся шевельнуться, будто страшно было разбить эту тишину. Первым нарушил ее юный грек. Он затянул торжествующую песню чистым мальчишеским голосом и легко перепрыгнул на катер пиратов. Там он вытащил нож из шеи убитой женщины и потянулся за ее «наганом», но Спиридон остановил его резким окриком. Между ними произошла горячая перебранка, и обиженный мальчишка вернулся обратно на фелюгу.
Борис ползком выбрался из каюты, потому что в ногах была противная слабость, и наклонился над бортом. Его вырвало. Греки тактично делали вид, что ничего не замечают, кстати, у них было чем заняться. Спиридон отдал несколько коротких распоряжений, и его подручные начали быстро сбрасывать в воду вещи с пиратского катера. Туда же последовали мертвая женщина и пулеметчик. Борис очухался немного и удивленно спросил, зачем они это делают.
— Отдаем все морю. Катер тоже отдадим морю. Нельзя ничего оставлять себе. У плохих людей есть друзья. Кто-то из них может опознать вещи, одежду… А так — мы ничего не видели и не знаем — те плохие люди пропали — и все.
Помолчав немного, Спиридон сказал серьезно:
— Тебе спасибо. Если бы не ты, нас всех убили бы.
Он протянул Борису руку, и тот с радостью пожал ее. Помощник Спиридона маленьким топориком прорубил дыру в днище катера и поспешно перепрыгнул на фелюгу. Греки распустили парус, и суденышко легло на прежний курс. Борис смотрел за корму и увидел, как катер медленно погружался, а затем резко нырнул и исчез под водой, оставив на поверхности моря пузыри и масляные пятна. Спиридон произнес, не поворачивая головы и будто ни к кому не обращаясь:
— Первый раз человека убить тяжело и страшно. Не думай об этом: это был плохой человек, и, если бы ты его не убил, он бы убил всех нас.
— А тебе часто приходилось убивать, Спиридон? — спросил Борис, помолчав.
— Случалось. Я помню каждого, и иногда они приходят во сне.
Борис вспомнил зверское лицо убитого им матроса и подумал, что сны его станут страшными. Но был ли у него выбор? Два года, два года чертовой свистопляски в стране, и за это время он только бегал и спасался. А его били и унижали все: красные, махновцы, деникинская контрразведка. Не пора ли начать давать отпор? И сегодня он это сделал.
Всего плавание продолжалось пять дней. За все время один раз пристали к берегу в уединенном месте. Берег был низкий, так что пришлось бросить якорь. Мальчишка прыгнул в воду и понес на берег два тюка. На узкую полоску пляжа из зарослей вышла живописная группа: осел, нагруженный бурдюками, старик в соломенной шляпе и молодая женщина, по обычаю гречанок вся в черном.
— Родственники, — пояснил Спиридон.
— У вас, греков, везде родственники, — согласился Борис. — А ты в Константинополе был, Спиридон?
— Был, — ответил тот, — на Черном море я везде был.
Юноша передал тюки, поговорил о чем-то со стариком. Тот отвязал бурдюк с вином и отдал парню. Девушка взяла корзинку, наполненную виноградом и персиками, и смело вошла в воду, переступая смуглыми ногами по острым камешкам и не морщась. Вода доходила ей до колен, но до фелюги еще было далеко. Она крикнула что-то звонко.
— Пойди помоги сестре, — повернулся Спиридон к Борису.
Тот по пояс в воде пошел к берегу. Из-под платка на него глянули черные глаза в пол-лица, губы, вырезанные лепестками, улыбались и говорили что-то по-своему… Борис обмер, глядя на такую красоту, но тут же вспомнил, что по разбитому Карновичем лицу пошли уже, верно, желтые и фиолетовые синяки, что он не мылся пять дней, а не брился еще дольше, что от него несет рыбой и мерзкой овчиной, и помрачнел. Красавица засмеялась и протянула ему корзинку. Борис взял, поблагодарил кивком головы и пошел не оглядываясь к фелюге.
— У аппарата Деникин.
— У аппарата Май-Маевский.
— Владимир Зенонович, поздравляю вас с освобождением Киева от красной нечисти. Чрезвычайно важным считаю отступление Петлюры перед нашими доблестными войсками — мы стали еще на шаг ближе к единой и неделимой России. Украинским сепаратистам — никакой пощады! Теперь все силы сосредоточьте на Орловском направлении. Орел — орлам!
— Антон Иванович, для успешности операций поторопите прислать обмундирование и боеприпасы. Корпус Юзефовича скверно укомплектован, почти раздет, много больных. Наблюдается рост дезертирства. Крестьянство враждебно настроено. Еще раз настаиваю на скорейшем разрешении аграрного вопроса.
— Владимир Зенонович, обмундирование вышлю. Как ведет себя Шкуро?[8]
— Шкуро неуправляем, в его корпусе пьянство и оргии. На мой взгляд, необходимо под предлогом повышения отозвать его в ставку. Еще раз настаиваю на разрешении аграрного вопроса.
— Напоминаю вам, Владимир Зенонович, свою июньскую директиву: наша главная цель — Москва. Когда мы займем Москву — решим все второстепенные вопросы, в том числе и аграрный. Относительно Шкуро я приму решение. Его недисциплинированность крайне опасна для нашей политики, с другой стороны, его корпус чрезвычайно боеспособен, а в условиях современной войны и того театра военных действий, на котором мы продвигаемся, кавалерия играет решающую роль. Терцы и кубанцы Шкуро весьма преданны… Вопрос непростой.
— Антон Иванович, я не считаю аграрный вопрос второстепенным. Обещания потеряли свое значение, фураж приходится брать силой под угрозой казни. Я опасаюсь массовых беспорядков среди крестьян, возникновения партизанского движения. Аграрная реформа необходима!
— Еще раз повторяю: этот вопрос решится в Москве. Необходимо предупреждать беспорядки всеми возможными средствами и не допускать ослабления власти. Сегодня ваша главная задача — продвижение на Орловском направлении.
— Антон Иванович, надежны ли донцы? Не повторится ли история, подобная Купнянской?[9]
— Не беспокойтесь, Владимир Зенонович, Богаевский[10] надежно держит Дон в руках.
— Антон Иванович, стоит ли держать под Царицыном такие силы, терять людей ради одного только соединения с Колчаком? Следовало ли вам принимать верховное командование адмирала?
— Не будем снова возвращаться к этой теме! Итак достаточно честолюбцев, которые ради личных амбиций не останавливаются перед расчленением Великой Единой России. Я подчинился адмиралу Колчаку, как Верховному Главнокомандующему русских армий и Верховному правителю Русского государства, поскольку спасение нашей Родины заключается в единой власти… Впрочем, вы сами знаете, что все будет решаться в Москве, а сегодня мы неуклонно движемся к Белокаменной, а войска адмирала отступают. Кроме того, подчинение это чисто формальное, вы сами знаете, что телеграммы между Омском и Екатеринодаром идут через Париж, а военные сводки Сибирского фронта мы получаем от англичан через Лондон. Курьеры следуют через Владивосток три месяца, а когда генерал Гришин-Алмазов попытался прорваться через Каспий в мае, его катер наткнулся на красный миноносец, ему самому пришлось застрелиться, а военные сводки и мое личное письмо к Колчаку попали в руки большевиков… В таких условиях можно ли говорить о непосредственном подчинении? Важно только соблюдение принципа единоначалия! Еще раз жду от вас скорейшего продвижения на Орловском направлении, желаю полного успеха.
Глава четвертая
В Батум приплыли ночью. Еще издали, в темноте, в стороне города, Борис заметил зарево.
— Пожар?
— Увидишь, — усмехнулся Спиридон.
И Борис вскоре увидел. Город был раскален от массы электрического света, словно огромная корзина, сотканная из светящихся вольфрамовых нитей. После полутемной подслеповатой Феодосии, где даже на центральной Итальянской жизнь затухает к ночи и освещенными остаются только аптеки, Борису показалось, что он плывет в сказку.
— Мы тебя в стороне высадим, — обратился к нему Спиридон, — версты три до города будет. Сразу в центр не суйся, в таком-то виде.
— Сам знаю, — кивнул Борис.
— Ну, бывай здоров. — Спиридон протянул руку. — Греки добро не забывают, если что нужно, узнавай про меня в лавке Костаропулоса, в порту, возле моря. Костаропулос — мой брат, знает, где меня искать. А назад в Крым, если надумаешь, бесплатно доставлю.
Опять с опаской ступил Борис на шаткие сходни, но за пять дней на море он научился держать равновесие, так что обошлось без неприятностей. Тропинка меж каменных осыпей нашлась с трудом. Борис сделал несколько шагов по ней и обернулся. Фелюги он уже не увидел.
Тропинка круто шла в гору, но идти по ней можно было в полный рост, а не ползти на четвереньках, как в Феодосии. Вообще, насколько мог заметить Борис в темноте, берег здесь был более пологим. Когда он наверху вышел на дорогу, начинало светать. Вокруг дороги дремали мандариновые деревья, усеянные желто-зелеными плодами. Борис из любопытства сорвал один мандарин, но есть не стал — скулы свело от кислоты. Мандарины собирают в октябре, говорил ему Спиридон. Борис поднялся на холм и огляделся. Впереди лежал город, силуэты домов смутно просматривались в предрассветной мгле. Чуть в стороне Борис заметил полотно железной дороги и станцию — казавшийся издалека игрушечным домик, выкрашенный бело-голубой краской. Внезапно Борис почувствовал такой пронзительный запах еды, что желудок свело судорогой. Он вспомнил, что не ел со вчерашнего дня, и ноги сами повели его на запах.
Маленькая деревушка уходила в сторону от главной дороги, из первого домика и доносился запах еды. Борис отворил низенькую дверь и спустился в полуподвальное темное помещение. Какие-то люди — все мужчины — сидели за длинным столом и хлебали из мисок дивно пахнущий суп. К Борису подскочил человек, в котором безошибочно можно было узнать слугу. Он указал место за столом и принес такую же миску, как другим.
— Что это? — полюбопытствовал Борис, окуная ложку.
— Как, дорогой, ты не знаешь? Хаши!
Густое горячее варево пахло специями и приятно обожгло желудок.
— Постой, дорогой, постой, как же можно просто так хаши кушать? — суетился слуга, ставя перед Борисом стакан с водкой. — Так просто нельзя…
Водка была крепкая, но до Спиридоновой греческой ей было далеко, так что Борис хватил полстакана не моргнув глазом. Он думал, что его развезет от водки и сытной горячей пищи, но наоборот: прибавилось сил, и в организме появилась бодрость. Люди за длинным столом поднялись и ушли, не глядя на Бориса; судя по тяжелой походке и натруженным рукам, это были крестьяне либо грузчики.
Борис выбрал из оставшихся денег купюру поменьше и дал слуге. По тому, как тот оживился, он понял, что дал слишком много, но прохиндей, как все официанты, ни за что не признается и не даст ему сдачу. Он решил воспользоваться ситуацией и получить кое-какую информацию.
— А что, скажи-ка мне, где можно в Батуме комнату снять?
Слуга так удивился, что даже выронил грязную посуду.
— Дорогой, ты не знаешь? В Батуме не живут, в Батуме ночуют! В городе народу очень много, всем места не хватает. Лавочники со всей семьей так в лавках и спят, приезжие — кто где. Я сам в хашной ночую. Вот тут ночью хозяин хаши варит, а вот тут, на лавке, я сплю…
Он еще долго бы распространялся по поводу батумского жилищного кризиса, но Борис перебил его и спросил, как найти ему где-нибудь тут поближе лавку подержанной одежды. Слуга посерьезнел, оглядел Бориса внимательным взглядом и вывел на дорогу, рассказав, куда идти. Не пройдя и двухсот шагов, Борис услышал в небольшом овражке журчание ручья и спустился. Там он разделся и вымылся прохладной водой. Рана под повязкой покрылась розовой кожицей. Борис выбросил грязную холстину подальше в овраг. Морщась, он снова надел несвежую одежду и зашагал к городу.
Незадолго до этого, когда в городе было еще смутно, фелюга неслышно подплыла к берегу. Это был квартал лавок у моря. Дома и склады стояли темные, с наглухо запертыми железными ставнями. Где-то в стороне слышалась трещотка сторожа. Спиридон пристал с самого краю, где находились не огромные склады крупных иностранных фирм — «Валацци», «Ллойд-Триестина», «Витали», «Камхи», а крошечные лавчонки. В Батуме, где естественным состоянием человека считалась только торговля, к контрабандистам относились нестрого, поэтому Спиридон пристал прямо к нужной лавке, чтобы не таскать тяжелые тюки зря. Услышав его тихий свист, одно окошко в лавке осветилось, появился хозяин, залопотал по-гречески. Спустили сходни, быстро и споро перетаскали тюки в лавку. Спиридон удалился с хозяином в дом для расчетов, его команда, предвкушая отдых и приятное времяпрепровождение, нетерпеливо топталась на берегу.
Завершив сложные переговоры, Спиридон вышел на берег, и тут от угла склада отделилась тень и шагнула к нему.
— Здравствуй, Спиридон! — окликнули негромко.
— А, это ты. — Спиридон недобро блеснул глазами, разглядев человека в светлой рубахе, подвязанной ремешком, и аджарской шапочке.
— Вижу, что плавание твое в этот раз закончилось благополучно. Однако где пассажир? Тебе было велено высадить его здесь…
— Он спас мне жизнь, — глухо ответил Спиридон. — Я высадил его в другом месте.
— Вот как? Смотри, Спиридон, у тебя могут быть неприятности. Кое-кому может не понравиться, что ты не выполнил задание.
— Я на вас не работаю. — Спиридон повернулся к своему собеседнику боком, чтобы тот увидел у него «маузер».
Невесть откуда взявшийся мальчишка из его команды неслышно возник сзади человека в белой рубахе с ножом наготове, но Спиридон отрицательно покачал головой. Человек обернулся резко и встретил ненавидящий взгляд мальчишки.
— Иди отсюда, — медленно сказал Спиридон, — и не приходи больше.
В полном молчании греки на веслах отплыли от берега. Человек в белой рубахе выругался сквозь зубы и скрылся в переулке.
В крошечной неопрятной лавочке Борис долго торговался с пожилым турком, но выменял-таки свой железнодорожный френч на парусиновую блузу грязно-белого цвета. Штаны турок продал ему из странной материи, которую Борис определил как чертову кожу, во всяком случае, на черте она была бы более уместна, чем на брюках. Английские ботинки ничуть не пострадали ни от лазанья по горам, ни от морской воды. В парусине Борис почувствовал себя человеком, потому что воздух по мере восхода солнца все больше напоминал парную. После лавчонки Борис зашел в первую же парикмахерскую, попросил подстричь коротко и побрить. По окончании процедуры брадобрей сунул ему под нос зеркало. Борис внимательно оглядел себя и остался доволен: царапины на лице зажили, желтеющих синяков не было заметно под загоревшей кожей, коротко стриженные волосы придавали ему более мужественный вид. Выбитый подлецом Карновичем зуб был не передний, так что ничто не портило внешности. Борис с грустью пересчитал оставшиеся деньги, кинул парикмахеру мелочь и вышел на воздух. К тому времени окружающая среда напоминала уже не парную, а скорее оранжерею ботанического сада. Этому способствовали еще и разные тропические растения, даже пальмы. На главных улицах — Греческой, Мариинской — пальмы росли в кадках, и это еще больше напоминало оранжерею. На улицах попроще пальмы росли прямо так, и казалось, что они этого стесняются.
Город полностью пробудился и жил своей обычной суматошной жизнью портового и торгового города. На деловой Греческой, где располагаются конторы крупных иностранных фирм, а также все остальные, носились коммерсанты, на всех лицах написана была озабоченность делом. Борис разглядел солидных немногословных турок, экспансивных, живых итальянцев — эти жестикулировали и бегали, казалось, больше всех. На набережной все двери лавок были открыты и видно было, как владельцы — все толстые персы — важно и тихо беседуют о своем либо спят прямо тут, в лавке. Над всем городом витал прочный дух крепкого турецкого кофе. Кофеен было великое множество. На приличной Мариинской улице кофейни были шикарные, с оркестрами, с зеркалами, с медными дверными ручками и светильниками, начищенными до рези в глазах. Публика в них была соответствующая: английские офицеры, моряки в белоснежных кителях, дамы в шикарных туалетах.
Борис свернул в сторону и посидел немного в кофейне попроще, где в полумраке светилась угольками жаровня и хозяин, как дьявол или алхимик, колдовал над удивительным напитком, а слуга, сбиваясь с ног, носил и носил крошечные дымящиеся чашечки, сопровождаемые по турецкому обычаю стаканом холодной воды.
По сравнению с улицами в кофейне было тихо. Борис сидел, отхлебывая потрясающе вкусный кофе, и размышлял о своем. Во-первых, денег осталось всего чуть-чуть, так что он понятия не имеет даже, где будет сегодня спать. Во-вторых, документов нет, так что если местные власти или англичане поинтересуются его документами, то живо загребут. Ему рассказали, что в порту есть такая специальная тюрьма для подозрительных лиц и всех русских высылают обратно в Крым. А в Крыму Бориса встретят нелюбезно, уж это точно.
Теперь хорошее. Если и были у подполковника Горецкого какие-то планы насчет Бориса, то им не суждено сбыться, потому что никто Бориса не встретил в Батуме и никто за ним не следил. Спиридон высадил его в пустынном месте, Борис заметил бы слежку. А в этаком содоме, что творится здесь, в Батуме, найти кого-то невозможно.
Борис посидел еще немного, потягивая кофе, принимая решение. Если верить Горецкому, то убитый Махарадзе вез список турецких агентов в Крыму и предназначался список представителям английской разведки там же, в Крыму. Тогда возникают два вопроса: почему Махарадзе не передал список английскому резиденту и откуда в контрразведке Добрармии знали про список? Хорошо бы задать эти вопросы Горецкому и самое главное — получить на них правдивые ответы. Потому что в голове у Бориса сидело предположение, что Горецкий очень даже просто мог ввести его в заблуждение по поводу агента, списка и нужно было ему, чтобы Борис попал в Батум для чего-то другого. Стало быть, постулат первый: никому нельзя верить в наше сумасшедшее время. Из всех бумаг у него в кармане одна только карточка с именем неизвестного Исмаил-бея. Карточку эту Борис нашел сам, никто в Феодосии про нее не знает. Значит, ему следует идти в кофейню Сандаракиса, уповая на Бога и свою везучесть, иного выхода у него нет. Только так он сможет узнать, что же на самом деле случилось в гостинице «Париж».
Он не знал, что человек в белой шелковой рубахе и аджарской шапочке развил с утра бешеную деятельность. Прикинув приблизительно, где греки могли ссадить Бориса на берег, он обошел все подходящие забегаловки и лавчонки, постепенно сужая круг поисков. Лавку старьевщика он миновал, но зато побывал с расспросами в хашной. Слуга вспомнил молодого человека в потертом железнодорожном френче, небритого и пахнущего морем. Но он вспомнил также, что человек этот дал ему приличную купюру, и ничего не ответил на расспросы — грузинам присуще чувство благодарности.
— Вы позволите?
Борис буркнул что-то нечленораздельное, что было воспринято как разрешение, и к нему за столик подсел субъект с жалкими остатками благородного происхождения на давно не мытом и давно не трезвом лице.
— Официант! — махнул он рукой. — Водки!
Борис чуть поморщился и слегка отодвинулся от соседа — не слишком сильно, чтобы этой демонстрацией не оскорбить его чувств, — мало ли, еще нарвешься на неприятности.
Сосед демонстрации не заметил, но, получив ожидаемую водку, по всегдашней русской привычке захотел поговорить.
— Я вижу в вас русского человека, — начал он издалека, — в этом густопсовом городе вокруг одни азиаты… Турки, персы, греки, итальянцы…
— Какие же итальянцы азиаты? — не утерпел Борис, хотя и понимал, что ответить соседу — большая ошибка: теперь уж точно привяжется.
— Азиаты-с! Как есть азиаты! Я вам больше скажу: даже и англичане здесь — азиаты! Потому только блюдут свою густопсовую азиатскую коммерцию. А мы с вами — русские люди! И место нам — в России! Там сейчас великое очищение происходит, Армагеддон, можно сказать. Россия наша кровью умывается… Как сказал поэт: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» А мы с вами здесь, в этой густопсовости азиатской.
— Что вы мне-то проповедь читаете? Ехали бы сами в Россию, коли так не терпится причаститься святых тайн!
— И поеду! — Лицо соседа загорелось лихорадочным нетрезвым энтузиазмом. — И непременно поеду! Поправлю только свое изношенное здоровье — и тут же поеду!
Борис хотел было сказать, что нищета и пьянство не слишком способствуют поправлению здоровья, но решил не усугублять ответной репликой нездорового красноречия своего соседа. Тому, однако, ничего и не требовалось — уж тем был доволен, что рядом с ним кто-то есть, и завелся пуще прежнего:
— Я ведь всю жизнь так в народ верил! И богоносец-то он, народ наш, и подлинной правды хранитель… А в восемнадцатом году разъяснили мне пьяные матросы да дезертиры всю эту подлинную правду… Как только жив остался — ума не приложу… Говорят, двум смертям не бывать, а одной — не миновать, так вот я в восемнадцатом четырьмя смертями умирал, четыре раза воскрес. И после этого моего четвертого воскресения попал я к каким-то новым бандитам, а у них главный — старичок такой сухонький, с маленькими глазками. Так вот выстроили перед ним всех, кого банда его поймала, а старичок ходит перед пленными и что-то себе под нос шепчет, а потом на меня пальцем указал: «Порите его, ребятушки, крахмальный его воротничок!» Как уж он после тифа, после четырех моих смертей, после того, как меня дезертиры в землю живого закопали, — как он после всего этого разглядел крахмальный воротничок — ума не приложу. Видимо, какое-то у него уже чутье развилось, классовое, что ли, чутье и классовая ненависть. И видел же, мерзавец, что я и без него бит-порот, убит-расстрелян, похоронен и обратно выкопан, что места на мне живого нет, так все ему мало показалось: порите его, ребятушки. Может, и вправду — такие грехи на меня предки мои навесили, что и четырьмя смертями мне их не искупить?
— А как же вы сюда-то в Батум попали? Каким ветром вас занесло? — поинтересовался Борис.
— А и сам не пойму. Прибился я в Крым, раны свои залечивал да думал, как дальше жить, что делать, как чужие грехи искупать, а тут ко мне контрразведка добровольческая привязалась. Если старичок тот во мне полумертвом крахмальный воротничок разглядел, то этим я, наоборот, чуть не красным шпионом показался. И как-то они меня убедили сюда ехать, на «Пестеля» посадили, и — прощай, Россия… Как я теперь догадываюсь, они посмотреть хотели, что я здесь делать буду, куда побегу. У них со здешними властями связь налаженная, сюда из Крыма приезжают, здешние за ними присматривают и добровольцам быстренько доносят… А не поставите ли мне косушку, как русский русскому? Как мытарства свои вспомнил, так душа запылала, будто хутор в степи, — только водкой можно тот пожар загасить.
Борису сразу стало скучно: как он и подозревал, вся душещипательная история была рассказана случайному человеку с одной только целью — выклянчить на выпивку… Он дал соседу одну лиру и по радостному изумлению в его глазах понял, что дал много. Однако он считал эти деньги потраченными не зря: случайный собеседник подтвердил собственное его предположение, что Горецкий неспроста устроил ему побег в Батум. Значит, Горецкий ему не верит, подозревает в нем убийцу и шпиона? Ну что ж, Борис ему тоже не верит.
День пошел на вторую половину — в южном городе время течет незаметно. Борис Ордынцев шел по Мариинской, спрашивая кофейню. И хоть все обитатели города — грузины, армяне, греки, персы, англичане, итальянцы — понимали по-русски, никто не мог указать ему дорогу. Наконец попался соотечественник, которого Борис угадал по выражению решительного недоверия ко всему, что он видит перед собой. Узнав про кофейню, русский сделал пренебрежительную гримасу и ткнул пальцем в сторону. Дом и верно стоял на Мариинской, но дверь кофейни выходила в маленький тупичок. Кофейня располагалась в полуподвале, и когда Борис спустился по каменным ступенькам, выщербленным тысячами подошв, ему показалось, что он находится не то в трюме пиратского корабля, не то в преддверии мусульманского ада. Полутемное помещение было наполнено сладковатым туманом, в котором смешивались запахи кофе, коньяка и опиума. Кофейня была полна разномастного разноплеменного люда — персы, турки, итальянцы. Все они говорили по-русски, потому что каждый попавший в Батум иностранец начинал разговаривать на этом языке через два дня. И столь же общим языком был язык турецкой лиры. Турецкая лира была кровью этого города, его воздухом, главным предметом торговли. Курс лиры знал каждый мальчишка на улице, каждый чистильщик сапог, каждый разносчик газет. Объявляли курс лиры ранним утром булочники — вежливые спокойные турки. Откуда они узнавали его — одному Богу известно, однако в каждой булочной всего города утром сообщался один и тот же новый курс.
Не успел Борис спуститься, как к нему подлетел какой-то скользкий тип и промурлыкал на ухо:
— Могу предложить четыре вагона английской тушенки! Очень, очень дешево! Сказочно дешево! Прямо с военного склада!
В ту же минуту счастливого обладателя тушенки оттер рыхлый желтолицый коротышка и хрипло прокаркал:
— Не верьте, не верьте! У него и тушенки-то этой нет, у него одни накладные. Вам нужна тушенка на бумаге? Вот я вам могу предложить транспорт настоящего сенегальского индиго! — Увидев недовольство в глазах Бориса, коротышка мгновенно перестроился: — Впрочем, если вас интересуют только накладные, я вам этого тоже сколько угодно достану… на накладных тоже можно сделать очень хорошие деньги…
Борис с трудом вырвался из цепких лап коммерсантов и, пробившись к худому смуглому официанту, негромко его спросил:
— Где я могу найти Исмаил-бея?
Официант шарахнулся так, будто перед ним вдруг из шляпной коробки вылезла гремучая змея. Борис пожал плечами и стал оглядываться в поисках менее нервного информатора. Официант, опомнившись и испугавшись, что Борис продолжит свои расспросы, осторожно взял его за плечо, прижал палец к губам и указал на дремавшего в углу с кальяном старого турка. И хоть все это начинало Борису сильно не нравиться, он подошел к старику и, наклонившись, повторил свой вопрос. Турок поднял к нему изрезанное морщинами смуглое лицо и открыл глаза. Борис отшатнулся от неожиданности: глаза старика были закрыты бельмами, он был совершенно слеп. Рука турка приняла красноречивое положение, и Борис вложил в нее лиру. Ощупав бумажку и одобрив ее, турок щелкнул пальцами. Рядом с ним в стене открылась маленькая дверка, оттуда высунулась огромная волосатая лапа и втащила Бориса в темный коридор. Там его куда-то волокли, куда-то толкали и наконец втолкнули в маленькую полутемную комнату.
Если кофейня показалась Борису преддверием ада, то здесь был уже сам ад. Более разбойничьих физиономий ему еще не приходилось встречать, хоть он сталкивался и с красными, и с зелеными, и с черноморскими пиратами. Тусклый свет коптилки, освещавший комнату, вырывал из темноты то чей-то черный, беззубо усмехающийся рот, то глаз, закрытый грязной повязкой, то провалившийся от дурной болезни нос.
К ногам Бориса подкатился пузатый рыжий карлик с непомерно большими руками и отвратительно писклявым голоском спросил:
— Ну, золотой-серебряный, это ты хотел увидеть Исмаил-бея?
— Уж не ты ли это будешь? — насмешливо ответил Борис вопросом на вопрос.
Ему было очень неуютно. Эти дьяволы могут зарезать просто так, к примеру, понравятся им его английские ботинки. Комната между тем затряслась от дружного хриплого хохота.
— Черевичка — Исмаил-бей! — раздавались отдельные голоса. — Ну, уморил!
— Да, я — Исмаил-бей! — надменно пропищал карлик и встал в горделивую позу, высоко задрав уродливый дегенеративный подбородок.
Но долго так не простоял, потому что сам залился отвратительным визгливым хохотом.
— Ладно попусту языком трепать, — раздался в глубине темного помещения глухой повелительный голос, — заприте этого в подвале, Исмаил-бей придет — разберется. Черевичка, проводи гостя.
Рыжий карлик выкатил белки глаз, издевательски хихикнул и чувствительно ткнул Бориса узким ножом под ребро:
— А ну, золотой-серебряный, пошел вперед!
Борис двинулся по очередному темному коридору. Коридор изгибался самым непредсказуемым образом, темнота была несусветная, Борис то и дело спотыкался и утратил уже всякое представление о том, куда его ведут. Если бы не злобные окрики топочущего сзади карлика да не постоянные покалывания ножа, он давно бы остановился. Наконец они оказались в тесной пустой каморке, слабо освещенной масляным светильником. Всю обстановку каморки составляла грубая деревянная скамья. Карлик указал на скамью:
— Сиди, жди Исмаила. Он придет, с тобой разберется. Если ты зря его побеспокоил… — Черевичка закатил глаза и выразительно провел рукой по горлу.
Борис сел на скамью, привалился спиной к холодной сырой стене и закрыл глаза. Карлик выскользнул из комнаты, закрыв за собой дверь. Лязгнули запоры.
Усталость взяла свое, и, несмотря на неудобства и волнения, Борис задремал. Ему снился огромный восточный базар, полный самого фантастического сброда: вокруг сновали индусы в белых чалмах, негры, цыгане, махновцы, красный командир в папахе с саблей… Какой-то смуглый человек в костюме опереточного пирата схватил Бориса за рукав и проникновенно зашептал:
— Не хотите приобрести пароход натуральных восточных одалисок? Или четыре вагона отрезанных человеческих голов? Или не изволите проснуться? Нашел время спать!
— Нашел время спать! — повторил мужской голос.
Борис понял, что с ним разговаривают наяву, и проснулся. Рядом с ним стоял лощеный щеголь в шляпе канотье, лайковых перчатках и белых гетрах. Тоненькие — в ниточку — черные усики над плотно сжатыми узкими губами довершали портрет.
— Ты хотел видеть Исмаил-бея? — спросил щеголь.
Борис сделал вид, что ничего не соображает со сна. Он очумело глядел на человека, склонившегося над ним, а сам внимательно его рассматривал. С виду — совершенно опереточный тип, амплуа неудачливых злодеев, таким обычно в финале герой-любовник дает пинка в зад под хохот зрителей, но глаза были явно не из оперетты. Глаза у Исмаил-бея были как две бритвы.
По его угрожающему виду было ясно, что если он сочтет причину, по которой Борис добивался с ним встречи, недостаточно серьезной, за жизнь Ордынцева никто не даст и ломаного гроша.
— Я прибыл из Крыма, — по возможности спокойно начал Борис. — Там, в Феодосии, я сидел в тюрьме. Попал туда совершенно случайно, по пустому в общем-то делу. И там я встретил одного человека по фамилии Махарадзе.
Произнеся эту фамилию, Борис кинул быстрый взгляд на Исмаил-бея, но ни один мускул не дрогнул в лице его собеседника.
— Его взяли по нехорошему делу. В гостинице, где он ночевал, случилось убийство. И подозрение пало на него, потому что номера того человека и Махарадзе находились рядом.
— Что за человек был убит?
— Подробности я не знаю, какой-то коммерсант из Киева, — продолжал врать Борис.
Ему показалось, что при последних словах Исмаил-бей ослабил напряжение плотно сжатых губ.
— Делом занималась уголовная полиция, — продолжал Борис, — но Махарадзе почему-то очень боялся, что его переведут в контрразведку.
— Он объяснил почему? — отрывисто спросил Исмаил-бей.
— Нет, меня такие вещи не интересуют, — невозмутимо ответил Борис. — Он сказал только, что у него при себе ничего нет.
Услышав такое, Исмаил огляделся, как будто здесь, в крошечной каморке, мог быть кто-то, кроме них двоих. Затем он открыл дверь и убедился, что за ней тоже никто не подслушивает. После этого он подошел к Борису ближе и дал понять, что заинтересован разговором.
— Он сказал, что при себе ничего нет, — повторил Борис, — что он спрятал это — он не уточнял что — в надежном месте, но если его будет допрашивать контрразведка, то он не будет запираться и расскажет, где он спрятал это.
Глаза Исмаил-бея сверкнули, еще больше напоминая две бритвы.
— Ближе к делу, — прошипел он.
— Куда уж ближе? — удивился Борис. — Итак, еще раз повторяю, меня взяли за нарушение паспортного режима, а проще говоря — украли у меня паспорт и все деньги да еще и избили. Вон, видите, синяки заживают? — Борис поднял коптилку к лицу. — Никого я в Феодосии не знаю, и за меня никто поручиться не может, думал уже, что помру там в тюрьме с голоду. А потом прошел слух, что будут тюрьму чистить, потому что переполнена она, много всякого сброда сидит. И тогда Георгий решил обратиться ко мне, очевидно, у него не было другого выхода. Он дал мне денег — немного, все, что удалось пронести в тюрьму, велел после того, как меня отпустят, ехать в Батум и найти там Исмаил-бея, то есть вас. И еще он дал мне вот это. — Борис протянул Исмаил-бею пресловутую карточку.
Исмаил поднес карточку к свету и внимательно осмотрел ее.
— Да, это мой почерк. Я сам писал это. Так что вас просил передать Махарадзе?
— Чтобы вы любым способом вытаскивали его из феодосийской тюрьмы, иначе та вещь, что он вез для передачи, никогда не найдет своего адресата! — единым духом выпалил Борис.
— Вот как? — Исмаил-бей поднял брови. — И больше ничего? А скажите, какой вы сами делаете из всего этого вывод? И почему вы согласились помочь Махарадзе?
— Не почему, а за что, — поправил Борис. — За деньги. Махарадзе обещал мне, что вы дадите мне денег и поможете с документами. Видите ли, в Феодосии мне не к кому было обратиться.
Борис подумал немного и решил рискнуть.
— Махарадзе намекнул мне, что вы работаете на англичан и у вас тут довольно большие возможности.
— Кое-какие возможности у меня есть, — согласился Исмаил-бей. — Махарадзе был моим агентом, он вез очень важную вещь для передачи в Феодосии одному человеку. По моим сведениям человек этот ничего не получил, стало быть, тут вы говорите правду. Теперь еще один нюанс. Вы производите впечатление достаточно образованного человека. Стало быть, умеете анализировать обстановку.
— В некоторой степени, — согласился Борис.
— Тогда скажите мне, вас не насторожило, что человек, работающий на англичан, так боится деникинской контрразведки? Ведь англичане всемерно помогают Добровольческой армии. Такова тактика Антанты, а английское правительство в особенности заинтересовано в стабильности положения в Крыму и на Кавказе, потому что британские капиталовложения в этих регионах очень велики. По логике вещей деникинцы должны быть очень благодарны англичанам и всячески привечать их сотрудников.
— Еще раз вам повторяю, что меня мало это интересует, — ответил Борис, — мой интерес в этом деле — чисто коммерческий.
— А вас не удивляет, что я с вами так откровенен? — продолжал Исмаил-бей, как бы не слыша ответа Бориса. — Посудите сами, вы приходите ко мне, показываете кусочек картона, который вы, конечно, получили от Махарадзе, но вот каким способом? Я вам скажу, почему Махарадзе так боится контрразведки. По нашим сведениям, кто-то там работает на турок… Так хотите знать, почему я с вами так откровенен? Дело в том, что это помещение очень подходит для того, чтобы разбираться с лишними людьми.
От этих слов могильный холодок пробежал по спине Бориса. Исмаил-бей явно и недвусмысленно дал понять, что считает его «лишним человеком».
«Конец! — пронеслось в голове. — Попал я, можно сказать, как кур во щи. И главное: сам, своими ногами притащился в это ужасное место… Теперь уж никто не спасет».
— Но вы же сами убедились, что я говорю правду, что адресат не получил… той вещи. — От страха Борис чуть не ляпнул про список. — И потом, если бы я представлял какую-то организацию… турок например, то неужели вы думаете, что они не снабдили бы меня подходящими документами? Ведь я здорово рискую, расхаживая по городу без паспорта.
— Каким образом вы добрались до Батума? — отрывисто спросил Исмаил-бей.
— Меня доставили контрабандисты, — ответил Борис чистую правду.
— Не понимаю… — задумчиво бормотал Исмаил-бей, — турки могли выколотить из Махарадзе всю правду, да и не нужен им… не нужна эта вещь.
Внезапно он замер, прислушиваясь. Борису тоже послышалось какое-то движение за дверью. Исмаил-бей что-то сделал со своей тростью, и вот уже в руках у него был тонкий стилет.
— Ты их навел, сволочь, — прошипел он.
Внезапно потянуло сквозняком, тусклая и без того чадящая коптилка погасла, и в комнате наступила кромешная тьма. От неожиданности Борис застыл на месте. В стороне Исмаила слышалась возня, потом стон, падение тела и хриплое шипение: «Шейс-с-с». Звук напоминал шипение рассерженной змеи. Потом все стихло. Когда глаза Бориса привыкли к темноте, он заметил, что Исмаил-бей как-то странно скорчился за столом. Борис подошел к нему, чиркнул спичкой и в свете крошечного дрожащего язычка пламени увидел, что из спины Исмаил-бея торчит рукоятка ножа. Стилет у него в руке тоже был в крови. За дверью проскрежетал задвигаемый снаружи засов. Ситуация была до боли знакома.
«Хорошо хоть не в горло!» — мелькнула мысль, хотя что тут хорошего, и сам Борис затруднился бы объяснить.
Борис понял, что вот теперь-то дела его действительно плохи. Тот, кто убил Исмаил-бея, сделал это намеренно и именно здесь, чтобы опять все свалить на Бориса, и к тому же Борис ничего не сумел выяснить про список и про то, кто работает на турок в деникинской контрразведке. И отсюда он не сможет выбраться незамеченным. Он отсюда вообще не сможет выбраться. Он будет сидеть здесь рядом с трупом Исмаил-бея и ждать. А когда придет жуткий карлик и увидит, что случилось, вот тогда-то и наступят для Бориса адовы муки. Ему послышался легкий шум, как будто кто-то отодвинул засов на двери. Одним прыжком Борис приблизился и приложил ухо к щели. Ему показалось, что он слышит звук легких удаляющихся шагов. Он открыл маленькую дверцу, через которую они прошли сюда вместе с Исмаил-беем, и осторожно выглянул в коридор. Никого не было, очевидно, убийцы ускользнули другим ходом. В конце небольшого коридорчика вдруг возник гибкий силуэт. На женщине была турецкая длинная рубашка из белой кисеи, из-под которой виднелись шаровары и туфельки с загнутыми носками. Турчанка подняла выше фонарь, что держала в руке, и широкий рукав рубашки упал, оголив руку до плеча. Другую руку она прижала к губам, показывая Борису, чтобы молчал. Он и сам не собирался кричать и звать на помощь. Стараясь идти не топая, он приблизился к женщине, заметив, что она молода, — кожа на плече была хоть и смуглая, но нежная, а сама рука красивой формы.
— Идем со мной, — прошептала женщина и пошла вперед, легко ступая.
Борис без колебаний отправился за ней, потому что выбора у него не было. Они прошли мимо того помещения, где собирались бандиты. Какой-то громила издевался там над карликом, тот страшно визжал, остальные гоготали. Это дало Борису и женщине возможность пройти незамеченными. Она свернула в боковой проход, поднялась по узкой лесенке на несколько ступенек, а потом Борис уже потерял способность ориентироваться. По его предположениям, они шли под землей через смежные подвалы. Женщина погасила фонарь, поставила его в небольшую нишу над дверью, обитой железными скобами, и толкнула дверь. Открылся довольно широкий коридор, покрытый вытертой в некоторых местах ковровой дорожкой. Доносились пьяные выкрики и женский визг. Борис ощутил, что женщина вдруг вся напряглась, схватила его за руку и потянула за собой куда-то вбок. Мимо них по коридору проковылял пьяный в феске. Опять поднялись по шаткой лесенке и вошли в крошечную комнатку под крышей. Там стояли продавленная кушетка, столик с флаконами и баночками, в углу притулился умывальник.
Женщина заложила дверь на щеколду и повернулась к Борису. Лицо ее было сильно нарумянено, глаза подведены и губы накрашены красным. В комнате пахло дешевыми духами, душистыми, странного пряного запаха папиросами и еще мужчинами. Десятки, если не сотни, мужчин побывали в этой комнате, лежали на этой кушетке и оставили на ней свой запах. Борис понял, что находится в увеселительном заведении и в комнате пахло пороком. Женщина смотрела на него молча.
— Почему вы мне помогли? — начал Борис, только чтобы что-то сказать.
— Здравствуй, Борис, — ответила она тихо, — вот и встретились…
Он с изумлением вскинул голову: по голосу и по речи ее он понял, что никакая она не турчанка, а русская. Голос был удивительно ему знаком.
— Ты не узнаешь меня? — Она подавила всхлип, потом бросилась к умывальнику и уткнулась в несвежее полотенце.
Борис отвернулся — как и все мужчины, он не выносил вида плачущих женщин. Но девушка не плакала, она умывалась.
— Ну вот. — Теперь голос ее был спокоен, она смотрела на него, улыбаясь очень знакомо.
Борис почувствовал, что сердце поднялось и забилось где-то у горла. Где же и когда он видел эти замечательные темно-карие глаза?
— Лиза… — прошептал он хрипло не веря своим глазам. — Лиза Басманова…
Это была она, подруга его сестры, бойкая, неистощимая на всяческие выдумки Лиза Басманова. Теперь, когда она смыла с себя всю краску, он сразу ее узнал. Он вспомнил, как мать в детстве часто бранила Варю за то, что та поддается на уговоры и участвует в сомнительных Лизиных проделках. Лиза обожала всяческие представления с переодеваниями и на святки наряжалась то цыганкой, то арабской принцессой, потому что была от природы смугла и темноглаза. Однажды представляли живые картины, похищение полонянок, и Лиза в образе страшного турка в чалме, с кинжалом и нарисованными ужасными усами произвела фурор.
— Лиза, — повторил Борис и шагнул к ней, — девочка…
Она обняла его крепко, спрятала лицо на его груди и затихла.
— Девочка моя, как же так? — шептал он растерянно. — Сколько же мы не виделись?
Он вспомнил благотворительный бал на Рождество. Встречали новый, 1917 год, и хоть шла война, это было последнее счастливое Рождество… Борис был не любитель танцев, но Варвара и слышать ничего не хотела.
«Не могут же они упустить такого кавалера», — поддержала сестру мать.
Там он увидел новую Лизу — похудевшую, со взрослой прической. Борис любовался ее прекрасными карими глазами, они даже снились ему однажды ночью. Потом он занялся своими делами — ведь он был взрослый, студент, некогда было обращать внимание на девчоночьи глупости.
Потом грянула революция, Петербург закрутила политическая карусель, и Лизин отец, профессор Басманов, увез свое семейство в Москву.
Борис очнулся и обвел глазами комнату.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он глухо.
— Живу, — усмехнулась Лиза и отстранилась от него, — живу и… работаю.
И все, пропала прежняя девочка, перед ним стояла взрослая, повидавшая жизнь женщина с горькой складкой у рта.
— Но где твои родители? — не удержался он от расспросов.
— Их нет, — поспешно ответила Лиза.
Она отошла к столу и закурила там странно пахнущую папиросу.
— Когда в восемнадцатом ехали на юг, — начала она хрипло, — поезд остановился ночью в степи. Какие-то люди вывели нас всех из вагонов, отобрали вещи… Мама споткнулась в темноте, упала… Один такой… я не помню его лица… ударил ее, повалил с ног… отец заступился за маму, не мог же он оставить ее лежать… — Лиза помолчала, потом сделала глубокую затяжку. — Они его не расстреляли, они забили его прикладами насмерть, на глазах у меня и мамы. Маме повезло, у нее было больное сердце. Она умерла там же.
— А ты? — некстати спросил Борис.
— Я? — Она засмеялась неприятно и встала спиной к лампе, так что сквозь прозрачную кисею Борис четко увидел всю ее гибкую фигурку. — Я ведь красивая и молодая, таких не убивают… Но тогда мне было уже все равно. И… самое ужасное, я не помню их лиц, никого…
Он сел на кушетку, тяжело дыша. Лиза загасила папиросу и приблизилась.
— Сюда привез меня один грек из Ялты полгода назад. Бросил тут и уехал. Теперь вот крыша над головой хоть есть. Я видела тебя в кофейне и поняла, что дела у тебя плохи.
— Если бы не ты… — Он привлек ее к себе.
Лиза присела возле него легко, погладила волосы, скулы, провела пальцем по губам. Потом медленно, пуговка за пуговкой, расстегнула одежду. Ее теплые пальцы легко пробежались по плечам, по груди. Она коснулась своей щекой его подбородка, губы ее нашли ямку у него на шее и приникли к ней, а руки мягко, но настойчиво освобождали его плечи от ненужной одежды. Борис отстраненно отметил, как умело она это делает, но тело его уже погружалось понемногу в сладкую истому, а ее губы блуждали по его груди, спускаясь все ниже… как вдруг словно кол забили ему в сердце. Нежные девичьи руки, шелковистая кожа — и жуткие румяна, запах сотни мужчин, которые ласкали, насиловали, издевались над женским телом.
Где-то там, в Крыму или черт уже теперь знает где, Варька, маленькая его сестренка, с вечно удивленно распахнутыми синими глазами, одна, беспомощная, беззащитная… И чтобы с ней — так? И чтобы она — так же?
Он вскочил с кушетки, задыхаясь, стараясь разорвать на груди уже снятую рубашку. Понемногу боль отпустила.
— Прости меня, Лиза, прости, — бормотал он, стуча зубами.
Тело его била крупная дрожь. Лиза молчала, она никак не показала своего отношения к происходящему.
Борис сжал руками виски. Лиза подошла и прикоснулась к его лицу легкими пальцами, потом прошептала:
— На, покури, тебе станет легче…
Она протянула ему толстую, странно пахнущую папиросу. Борис взял ее машинально, затянулся… Теплая розоватая волна разлилась по всему телу, качнула комнату… Борис поплыл куда-то, легко покачиваясь. Душевная боль, только что казавшаяся невыносимой, притупилась, смягчилась, отступила. Мир вокруг слегка дрожал, как дрожит воздух над нагретой полуденным солнцем землей…
Девушка прильнула к Борису всем телом. Ее влекло к нему той же розовой нежной волной, тем же теплым потоком. Она скользила по его телу душистым шелком волос, осыпала его мелкими горячими поцелуями, шептала безумные ласковые слова. Она взяла всю инициативу на себя, нежно опустившись на его тело и постепенно, понемногу ускоряя темп движений, пока они не превратились в бешеный неистовый танец. Окутывающий их наркотический туман придавал всему нереальный оттенок, необыкновенный, пьянящий аромат.
Борису казалось, что он то погружается в морскую пучину, то взлетает к облакам…
Лиза была необыкновенно искусна в любви, но Борис не думал сейчас о том, где она обучилась этому искусству, о том, сколько мужчин до него погружались в те же пучины, возносились в те же небеса… Он летел в головокружительной бездне, и наконец ослепительный, всепоглощающий свет залил все его существо, пронзил его позвоночник, рассыпавшись миллиардами сверкающих искр…
Они лежали рядом, счастливые и опустошенные. Розовый наркотический туман все еще плыл вокруг них, не давая реальности запустить когти в их израненные души. Лиза приблизила губы к уху Бориса и прошептала что-то. Смысл ее слов не доходил до него, он ощущал только нежное, щекотное прикосновение ее губ, ее волнующее дыхание на своей щеке. Он почувствовал, что желание снова заполняет все его существо — неожиданное, дикое, ошеломляющее. Он набросился на нее и овладел яростно, бешено — так, как махновская конница овладевает маленькими степными городками, возникая на горизонте в облаке пыли, налетая с диким воем и улюлюканьем, сметая все на своем пути…
Потом он опомнился, отрезвел и увидел Лизины глаза. В них был страх и отчаяние. Борис понял, что она почувствовала в нем такого же насильника, завоевателя, как все те мужчины, которые владели ее телом, начиная с той страшной ночи в степи… Она испугалась, что Борис такой же, как все.
Он прижал к себе девочку из той, довоенной, жизни, он осушил поцелуями ее слезы, он просил у нее прощения за всех, кто причинил ей боль…
Они снова лежали рядом и говорили, говорили… Они вспоминали Петербург-Петроград, свежий запах первого снега, скрип санок, огоньки на берегу Екатерининского канала, рождественские елки, пасхальный благовест…
Лиза встала, раскурила опять душистую папиросу и протянула Борису.
— Пожалуй, мне нужно сохранить ясную голову, — неуверенно отказался Борис.
— Да, действительно, — согласилась Лиза. — Итак, расскажи мне, как ты здесь очутился?
— Случайно. — Он отвел глаза.
— Случайно заплыл в Батум, случайно зашел в кофейню Сандаракиса, случайно встретился там с Исмаил-беем, — саркастически продолжила Лиза. — Знаешь, я поверю, что тебя случайно прибило к батумскому берегу, как Робинзона Крузо, но что ты случайно встретился с Исмаил-беем — никогда! Это, знаешь ли, не такой был человек, чтобы встречаться с кем бы то ни было случайно, за чашечкой кофе.
— А что он был за человек?
— Таинственный и жестокий. Каким-то образом он сумел подчинить себе тот ужасный сброд в кофейне. Так что тебе пришлось бы худо, если бы они застали тебя на месте убийства.
— Но кто его убил? — встрепенулся Борис. — Надеюсь ты не думаешь, что это я? Ты видела кого-нибудь?
— Я видела двоих, но не узнала. — Борису показалось, что голос Лизы звучал неуверенно.
— Лиза, — Борис взял ее руки в свои и заглянул в глаза, — ты веришь, что я не убийца? Все случилось так быстро, я только слышал в темноте странный такой звук, как змея шипит…
— Ты думаешь, если бы я знала, что это ты убил Исмаил-бея, то стала бы хуже к тебе относиться? — Она сопроводила свои слова пренебрежительным смешком.
— Ну хорошо, можешь не верить. Но у меня действительно положение хуже губернаторского. У меня нет ни денег, ни документов, меня ищут в Крыму за убийство, которого я не совершал, и теперь будут искать здесь, в Батуме, по тому же поводу.
— Я достану тебе денег и документы и переправлю в надежное место!
— Я не могу брать от тебя денег, — решительно воспротивился Борис.
— Ты что, с ума сошел? — поинтересовалась она спокойно. — Как будто у тебя есть выбор…
— Мне нечего делать в твоем надежном месте! — Борис повысил голос. — Мне нужно быть здесь, чтобы… выяснить одну вещь, а потом мне нужно вернуться в Крым, чтобы искать там Варю…
— Но ты не можешь долго здесь находиться, и выйти отсюда ты тоже не сможешь незамеченным, потому что те, в кофейне, должно быть, уже нашли тело и подняли тревогу. Тебе нужно скрыться хотя бы на несколько дней. Я знаю, что нужно делать, и ты со мной не спорь. Борис, — она мгновенно сменила тон, заметив, что он нахмурился, — ты не представляешь, как здесь опасно. Хотя что я говорю, раз ты пришел в кофейню, значит, знал, чем рискуешь. Сейчас у тебя просто нет иного выхода, как довериться мне.
Она обвила руками его шею и заглянула в глаза.
— Ну хорошо, — улыбнулся Борис. — Не думай, что я тебе не доверяю, ты уже один раз вытащила меня из того подвала, просто…
Он хотел сказать, что ему ужасно стыдно брать у женщины деньги, заработанные таким путем, что он чувствует себя альфонсом, но вовремя прикусил язык — незачем еще больше обижать Лизу.
— Слушай, — Лиза вскочила с кушетки и уселась за столик наводить красоту, — скоро придет сюда один такой человек… Он вообще-то с гор, так что немного диковатый. Но неплохой, и если я попрошу, то все для меня сделает.
— А что он в горах делает — пастух, что ли?
— Нет, он абрек. Вроде как разбойник, сидят они там в горах и грабят честных путешественников, — смеясь пояснила Лиза.
— Кто же сейчас по горам путешествует? — удивился Борис.
— Турки-контрабандисты опиум везут из Турции, еще кто-нибудь… Они редко убивают, товар только отберут. Конечно, если большой обоз или поезд на железной дороге, они не трогают — опасно, солдаты охраняют, а так, по мелочи…
— А у нас на Украине поездами уже и ездить нельзя — всех грабят и убивают, — вздохнул Борис.
— Так вот, Самвел раз в неделю спускается в город за продовольствием, ну и ко мне заходит. Уедешь с ним в горы, переждешь там дня три, а потом я весть пришлю, когда тут все успокоится. Да еще постараюсь разузнать кое-что…
— Будь осторожна, Лиза. — Борис сжал ее руки.
Она посмотрела на него с легкой полуулыбкой, и тут раздался стук в дверь.
— Открывай, красавица, свет очей моих! — заревело за дверью.
Лиза еле успела отодвинуть щеколду, и в маленькую комнатку протиснулось что-то огромное и зычное. Чудо сняло папаху и оказалось волосатым грузином в черкеске и мягких сапогах.
— Здравствуй, моя козочка, как Самвел тосковал по тебе, зорька моего сердца!
Борис откровенно вылупил глаза на такое театральное зрелище, Лиза засмеялась звонко и поцеловала Самвела в обе щеки.
— Здравствуй, горный ветер моей души!
В маленькой комнатке и раньше-то было тесно, а теперь стало совершенно не повернуться. Самвел наконец заметил постороннего мужчину, встал во весь свой огромный рост, выкатил горящие глаза и взялся даже за кинжал.
«Черт знает что! — подумал Борис. — Какая-то тысяча и одна ночь получается!»
— Не кипятись, Самвел! — спокойно сказала Лиза. — Убери свой кинжал, это мой брат из России.
Самвел вопросительно взглянул на Бориса, потом нехотя задвинул кинжал в ножны.
— Ты говорил, что все для меня сделаешь? — требовательно продолжала Лиза.
— Говорил, — согласился Самвел.
— Тогда возьми его с собой в горы, прямо сейчас.
— Сейчас? — изумился Самвел.
— Сейчас, — сурово подтвердила Лиза. — У него большие неприятности, ему нельзя нисколько здесь оставаться.
Видя, что он колеблется, Лиза подошла к огромному горцу, обняла и зашептала что-то на ухо. Борис отвернулся, чувствуя злость и отвращение.
— Завтра? — пробасил Самвел. — Ну ладно.
Он вышел и вернулся с большим мучным мешком.
— Полезай, генацвале.
— В мешок? — удивился Борис. — Зачем в мешок?
— Не бойся, дорогой, — хохотнул Самвел, — шашлык из тебя делать не буду. Хочешь жить — полезай, я тебя в мешке увезу — никто не догадается. Лаваш везу, барашек везу, вино везу. Если Исмаила убили — тебя искать будут, у меня в горах переждешь. В горах хорошо, ты увидишь. Полезай, генацвале.
Борис со вздохом влез в мешок, сопровождаемый смеющимся Лизиным взглядом. Самвел завязал горловину, легко подхватил мешок, как будто в нем был не взрослый мужчина, а трехлетний ребенок, вышел на улицу, взвалил на коня, вскочил сам верхом и тронулся неспешной рысью.
Борису казалось, что он не доживет до конца дороги — каждый шаг коня, каждый камень на дороге отдавался болью в боках.
«Это не хуже, чем обработка штабс-капитана Карновича», — думал он, подлетая на очередном ухабе.
Когда Самвел выехал из города и началась каменистая горная дорога, Борису стало совсем плохо. Он с трудом сдерживал стон. Все тело превратилось в один сплошной синяк. Однако всему приходит конец, и вскоре Самвел остановил коня и спустил мешок на землю.
— Ну, джигит, вылезай! Мой конь устал.
Он развязал мешок и, увидев измученное и вымазанное мукой лицо Бориса, не удержался от смеха.
— Ну, генацвале, в муке тебя обваляли, отбили как следует — придется теперь жарить.
И пока Борис морщился и потирал бока, он вывел из крошечной хибарки другого коня, оседлал его и подвел к Борису, не спросив, ездит ли он верхом, — мысль о том, что кто-то не умеет ездить верхом, не приходила в голову отважному абреку. Борис верхом ездить умел — в детстве научился в поместье у тетки. К тому же после поездки в мешке он готов был ехать как угодно, хоть на слоне, хоть на верблюде.
Они ехали долго, целый день, только раз остановились напоить коней.
В наступающих сумерках лошади шли не спеша. Видимо, дорога была им хорошо знакома — Самвел отпустил узду и дремал в седле. Борис последовал его примеру. Невдалеке печально и язвительно захохотал филин. Самвел встрепенулся и, приложив ладонь ко рту, ответил таким же хохотом. На тропу выскочил коренастый джигит в черной черкеске, сказал что-то по-грузински, Самвел ответил ему, похлопав лошадь Бориса по крупу.
— Кто это? — очнулся Борис от дремы.
— Часовой.
— А почему он смеялся?
— Я сказал, что везу барашка на шашлык.
Тропа привела на просторную лесную поляну. В одном ее конце струился ручей, чуть поодаль был разбит шатер. Из шатра, услышав подъезжающих, выскочили несколько мужчин, передергивая на ходу затворы винтовок. Узнав Самвела, они опустили винтовки, заговорили по-грузински.
— Ну вот, генацвале, — сказал Самвел, расседлывая коня, — мы и дома. Здесь тебя никто не тронет — ни бандиты, ни турки, ни англичане. И паспорт тебе здесь в горах не понадобится. Здесь — свобода.
Борис посмотрел в лицо Самвела и заметил, что тот изменился. В повадках его исчезла суетливость, теперь весь он был на месте, среди себе подобных в этих строгих горах. Неподалеку, в зарослях, раздалось жалобное душераздирающее мяуканье.
— Что это? — вздрогнув, спросил Борис.
— Это? — равнодушно оглянулся Самвел. — Как это по-русски называется… Большая кошка, в лесу живет…
— Рысь, что ли?
— Да-да, рыс.
Стемнело. На поляне разожгли костер, принесли бурдюк домашнего вина, лаваш, овечий соленый сыр. Мужчины расселись у костра, выпили темно-красного терпкого вина и запели. Многоголосая грузинская песня, мужественная и печальная, наполнила лесную поляну, как церковный предел. Небо усыпали крупные южные звезды.
Борис осознал, что давно уже не чувствовал такого покоя, такой безопасности, как здесь, в горах, среди аджарских разбойников.
Самвел понял его чувства, отразившиеся на лице. Прервал пение и сказал:
— Эх, генацвале, оставайся здесь. Здесь никого нет — только горы и свобода… — Но тут же сам себе ответил: — Нет, не сможешь ты здесь жить: абреком нужно родиться. Поживешь два-три дня, пока там не затихнет, потом отвезу тебя в город, а там уж — твоя воля.
Мужские голоса снова слились в прекрасную песню, и где-то в чаще этой песне ответила рысь.
Глава пятая
В Феодосии бушевала ночная гроза. Гроза была сухая, без дождя. И от этого казалась особенно сильной. Молнии вспыхивали одна за другой и зигзагами падали в море, которое шумело грозно, гася их в высоких волнах.
Подполковник Горецкий не спал, он ждал гостя, а пока курил трубку, задумчиво глядя в окно на грозное небо. Вот стукнула калитка, собака тявкнула радостно — свои, — послышалось приветственное бормотание Саенко: «Сюда пожалуйте, его высокородие давно ждут…»
Горецкий вышел в сени.
— Как дошли, Саенко? Без приключений?
— Все в полном порядке, ваше сковородие! — отрапортовал Саенко, вызвав улыбку на губах прибывшего.
Человек одет был скромно, в темное. Он снял картуз, пригладил волосы, и тут стало заметно, что лицо у него в пыли — сухая гроза вместо воды гнала целые потоки пыли. Он оглянулся привычно, ища в сенях рукомойник. Тут же неслышно возникла хозяйка Марфа Ипатьевна с чистым вышитым полотенцем в руках. Вытирая лицо, гость метнул из-под полотенца быстрый взгляд на женщину, оценил ее неторопливые повадки и зрелую красоту, после чего поблагодарил скромно и прошел в комнату.
За это время Саенко успел в кухне перемолвиться парой слов с подполковником.
— Какие вести из Батума, Саенко?
— Так что, ваше сковородие, вести неважные. Пропал он, пропал совсем, затерялся в городе где-то. Греки, прощелыги этакие, высадили его не в порту возле лавок, где сами пристают, а в стороне где-то. Обыскались его в городе — пропал, как в море канул. Ох, и подлый же народ греки!..
— Однако, — помрачнел Горецкий, — один, без связей, без документов далеко он не уйдет. Пусть справки наведут, нет ли его в тюрьме тамошней.
— Искали и там — пока нету…
Горецкий придал лицу выражение спокойной приветливости и вышел. Прибывший в комнате рассматривал его трубку и встретил Горецкого таким же приветливым взглядом. Был он возраста неопределенного, как говорят — средних лет, но у мужчины это понятие включает большой промежуток. Темные влажные волосы серебрились у висков, вокруг глаз теснились морщинки. Одет он был чисто, и сидело все на нем как свое. Горецкий знал про этого человека, что родился он в туманном Альбионе, что много жил и работал нелегально в России и странах Востока и что, несмотря на простоватый вид, этот человек занимает высокое положение в Интеллидженс сервис.
— Рад видеть вас в добром здравии, мистер Солсбери.
— Я также весьма рад встрече с вами, мистер Горецкий. Здоров ли генерал?
— Вы имеете в виду Александра Сергеевича?
— Конечно, генерала Лукомского.
— Благодарю, и он, и Деникин благополучны.
Мужчины прошли в комнату, где накрыт был по русскому обычаю стол с водкой и закуской.
— Не обессудьте, — пригласил Горецкий, — живу сейчас скромно.
— Это даже хорошо, — улыбнулся гость, — я, знаете ли, привык в России к вашей еде.
— Итак, — начал гость, когда выпили, — вы знаете, что мое руководство с большим доверием относится к вашему шефу, генералу Лукомскому, чем к главнокомандующему. Именно поэтому я встречаюсь сегодня с вами. Честно вам скажу, если бы Лукомский занял пост командующего Вооруженными силами Юга России, помощь его величества короля Георга стала бы еще существеннее.
— Мистер Солсбери, — Горецкий слегка поморщился, — должен вам сказать, что Александр Сергеевич не пойдет ни на какую авантюру…
— По-моему, — прервал Горецкого англичанин, — руководители Белого движения должны считаться с интересами правительства его величества. Мы поставили Добрармии уже более 100 тысяч винтовок, 2000 пулеметов, 315 орудий, 200 самолетов, 12 танков и намереваемся значительно увеличить эти поставки. Английское правительство открыло Деникину кредит в 15 миллионов фунтов стерлингов. Я не говорю уж о присутствии нашего флота, который при необходимости может производить артиллерийскую поддержку ваших военных операций…
— Простите, сэр, — вмешался Горецкий в горячий монолог англичанина, — мы безмерно ценим вашу поддержку и ни на минуту не забываем, как многим вам обязаны. Однако какие бы то ни было перемены власти в Особом совещании всем — и генералу Лукомскому в частности — кажутся крайне нежелательными.
Возьмите пример Колчака. Омский переворот 18 ноября и вручение Александру Васильевичу Колчаку диктаторской власти казались вначале почти всем спасением Белого дела в Сибири, но в действительности низложение Директории заставило отвернуться от адмирала эсеров, а вместе с ними — значительную часть крестьянства… Как бы то ни было, Директория сохраняла хоть какую-то видимость законно избранного правительства, оставляла надежду на переход власти к Учредительному собранию… Фактически Колчак сделал в Омске то же самое, что Ленин в Петрограде, — разогнал Учредительное собрание… И вы видите, что первоначально его успехи продлились недолго! Сейчас уже пали Екатеринбург, Кунгур, Пермь… Что будет дальше? Нет, в ситуации, сложившейся сегодня в нашей стране, разумный человек должен стремиться к сохранению статус-кво.
Горецкий отложил вилку и даже забыл на время о своих обязанностях хозяина, впрочем, тому тоже было не до еды.
— Однако Деникин кажется нам недостаточно твердым и решительным человеком для того, чтобы сломать хребет большевизму. В некоторых случаях он проявляет излишнюю мягкость. Он терпим к перебежчикам…
— Вы имеете в виду генерала Болховитинова?
— В частности.
— Болховитинов — храбрый человек, настоящий боевой генерал. То, что он служил красным, было лишь уступкой безвыходным обстоятельствам. При первой же возможности он перешел фронт. И вы знаете, что Антон Иванович разжаловал его, и только после того, как Болховитинов геройским поведением искупил вину, он восстановил его в звании.
— Допустим. — Англичанин кивнул и продолжил: — Беда перебежчиков в том, что им не будут никогда до конца доверять… А если доверять им безоговорочно — вы можете приобрести в своем руководстве шпионов.
После деликатного стука открылась дверь, и хозяйка внесла на блюде высокий пирог.
— Отведайте, — она поклонилась, — это курник.
— Марфа Ипатьевна большая мастерица! — оживился Горецкий.
Гость попробовал пирога, похвалил, не отказался еще выпить. Какое-то время в комнате было тихо, слышно было, как ветер бросает в окно горсти пыли и песка.
— Кстати, друг мой, — обратился мистер Солсбери внешне мягко к Горецкому, — какова судьба списка турецкой агентуры, которую наш батумский резидент отправил в Феодосию?
Горецкий помрачнел. Он встал, прошелся по комнате и проговорил:
— Мистер Солсбери, не будем играть, как у нас говорят, в кошки-мышки. Вы прекрасно осведомлены о том, что связной убит, а список пропал.
— И что же убийца? Мне говорили, что ему удалось бежать. Неужели это правда?
«Хорошо же у тебя поставлен сбор информации, — сердито подумал Горецкий. — Только что же тогда своего агента вы вовремя не перехватили?»
— Это не совсем так… бежал не убийца, а человек, случайно оказавшийся на месте преступления. Вина его не была доказана.
— Разве то, что он сбежал, не доказывает его вину? — прищурился мистер Солсбери, но тут же стал серьезным и посмотрел открыто в лицо Горецкому. — Разумеется, я понимаю, что дело это сложное. Я сам допустил здесь некоторые ошибки. Нужно было приехать в Феодосию раньше и перехватить агента сразу с парохода. Но непредвиденные дела задержали меня. Здесь, в России, никогда нельзя ничего рассчитывать.
— Честно говоря, я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности этого дела, — хмуро проговорил Горецкий.
— Понимаю, — протянул гость. — Понимаю также, что в Феодосию вы приехали не только затем, чтобы вдали от ставки встретиться со мной для приватного разговора. Можно было бы выбрать место поближе. У вас свои сложности с турками. Происходит утечка информации.
Горецкий встал из-за стола и сделал вид, что занят выколачиванием трубки.
— Не буду настаивать, как это говорят у вас в России, вы не хотите «выносить сор из избы».
Мистер Солсбери говорил по-русски очень хорошо, но последние слова нарочно произнес с сильным акцентом.
— Смею лишь уверить вас, что следствие ведется, и я надеюсь в ближайшее время найти подлинных виновников, — повернулся к нему Горецкий.
— Надеюсь, — промолвил англичанин несколько сухо.
Горецкий понял, что ему следует срочно разрядить атмосферу.
— Видите ли, в чем дело, господин Солсбери, — начал он, осторожно подбирая слова, — ситуация с батумским связным весьма сложная. На первый взгляд все просто: он вез список турецких агентов для передачи вам, и раз список пропал, то, следовательно, убили его турки. Каким образом им стало известно, что агент везет список?
— В Батуме ничего не случилось, — строго сказал мистер Солсбери. — Однако была информация, что утечка здесь у вас, в контрразведке.
— Допустим, — нехотя согласился Горецкий, — допустим, что турки узнали про список от предателя из контрразведки. Но если туркам стало известно, что Махарадзе везет список для передачи вам, то почему же они не подождали с убийством и не выследили человека, который придет на встречу с Махарадзе? Они, конечно, не предполагали, что это будете вы, но все равно, английский резидент в Крыму представляет для них большую ценность.
— М-да, в убийстве Махарадзе нет логики, — задумчиво проговорил Солсбери. — И что же вы предприняли в таком случае?
— Человека, которого мы задержали за убийство, элементарно подставили. Все шито белыми нитками — его усыпили с помощью кокаина, который добавили в вино, чтобы он не смог очнуться и уйти из номера.
— Что собой представляет этот человек? — заинтересовался англичанин.
— По иронии судьбы я оказался с ним знаком по прошлой, довоенной, жизни. Итак, это молодой человек, лет ему кажется 26–27. Прибыл в Феодосию несколько дней назад совершенно один, без семьи, без друзей и без денег. Он здоров, хорош собой, достаточно силен и, как я помню по прошлому, далеко не глуп. В Крым прибыл якобы для розысков пропавшей сестры.
— Удачный повод, — вставил мистер Солсбери.
— Я наводил справки, ничего про сестру его не известно. Само по себе это не так подозрительно — одинокая молодая девушка могла сгинуть в этом котле без следа, но подозрительны совпадения. Я сам в Феодосии недавно и вот сразу встречаю старого знакомого, своего ученика, да еще при таких подозрительных обстоятельствах. Что было делать? Оставить его в контрразведке? Есть там у них… заплечных дел мастера, выколотят любое признание. А если и вправду Ордынцев не виноват ни в чем? Тогда его расстреляют как турецкого шпиона и мы никогда не увидим списка и не узнаем, кто же убил Махарадзе. И вот я решил сделать так, чтобы этот человек, за кем никто не стоит и которого никто не знает, попал в Батум. Турецкая резидентура базируется в Батуме, корни этого дела — там. Устроить ему побег и оставить здесь — было бы неосторожно, потому что рано или поздно он опять попал бы в контрразведку. Что делает человек, оказавшийся в Батуме без денег и документов? Ищет своих. Вот я и дал задание своему человеку в Батуме, чтобы он по прибытии Ордынцева в Батум устроил за ним слежку, постарался выяснить, не выйдут ли с ним на связь турки и не укажет ли он сам каких-либо контактов. Если же Ордынцев является действительно тем человеком, за которого себя выдает, и оказался он замешанным в убийстве батумского связного случайно, то моему человеку даны инструкции с ним связаться и позаботиться о нем.
— И каковы известия из Батума? — поинтересовался Солсбери.
— Пока никаких, — развел руками Горецкий.
Он не собирался рассказывать настырному англичанину, что его человек в Батуме упустил Ордынцева, что тот как в воду канул. Не собирался он также информировать своего гостя о том, что хозяин гостиницы «Париж» Ипполит Кастелаки исчез бесследно из дома три дня назад.
Гроза ушла, так и не пролившись дождем. Зарницы вспыхивали теперь далеко за морем. Горецкий с гостем выпили по русскому обычаю чаю из самовара, поговорили о политике, и мистер Солсбери собрался уходить.
— Беседа наша не закончилась, — сказал он на прощание, — у меня в Феодосии еще кое-какие дела, если будут известия из Батума — вы всегда можете найти меня на броненосце «Мальборо». Там, знаете, как-то спокойнее жить, чем в гостинице, даже самой приличной.
— Совершенно верно, — согласился Аркадий Петрович. — Саенко, проводи гостя!
Саенко повел мистера Солсбери в порт через весь город. Улицы на рассвете были пустынны, только раз остановил их патруль, но Саенко предъявил документ, и солдаты придираться не стали.
«Ох, и здоров этот мистер! — уважительно размышлял Саенко, глядя, как англичанин вышагивает своими длинными ногами по мощеным улицам. — Туда в слободку версты четыре будет все в гору да обратно столько же. Вроде бы по повадкам из богатых, а идет себе да идет, да как ходко. Я сам скоро задыхаться начну».
В порту англичанина караулил катер, и Саенко не стал ждать отплытия, а свернул вбок, вдоль самого берега, быстро проскочил пакгаузы, пролез через дыру в заборе и вышел с территории порта. Потом он прытко устремился по берегу моря, стремясь найти тропинку вверх, чтобы миновать город и сразу оказаться в Карантинной слободке.
Он шел ходко, ворча по дороге себе под нос, что рассвет вот уже скоро, а он, Саенко, в эту ночь не спал нисколечко хоть вполглаза. Дойдя до маленькой бухточки, он услышал голоса, мелькал свет керосиновых фонарей. На берегу суетились какие-то люди, среди которых Саенко узнал знакомого рыбака Андрона Салова. Остальные были полицейские. Любопытный Саенко пристроился за камнем и стал наблюдать. На берег вытащили рыбацкие сети, в них болталось что-то большое, опутанное водорослями.
— Так что, ваше благородие, не извольте сумлеваться, я его не трогал, — бормотал Андрон, оглядываясь на пристава. — Как увидел, что утопленник, так сразу к вам побежал. Сети, конечно, жалко, ведь порежете их.
— Да уж не будем мы покойника из твоих сетей выпутывать! — сердился пристав, видно было, что ему хочется спать и злится он на Андрона за то, что прибежал в полицию ночью, не мог до утра подождать.
Труп освободили от сетей и водорослей, пристав склонился над ним, брезгливо кривя губы.
— Лицо не попорчено, хоть и раздулся в теплой воде здорово… Да это никак Кастелаки, из гостиницы. Как раз он третьего дня пропал… С чего это он топиться вздумал? Пьян был, что ли…
«Не пил он, потому что печенью маялся», — подумал Саенко, по-прежнему не высовывая носа из-за камня, совершенно не нужно ему было, чтобы пристав заметил, как он крутится поблизости.
Труп завернули в рогожу, и солдаты, ругаясь, потащили его наверх, в гору, куда можно было уже подать телегу. Полицейское начальство, кряхтя, полезло следом, на берегу остался рыбак Андрон Салов причитать над разорванными сетями.
Выждав некоторое время, Саенко тоже отправился в слободку сообщать подполковнику Горецкому интересные новости.
Наутро штабс-капитан Карнович встретил подполковника Горецкого пушкинской фразой «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!».
— Чему вы радуетесь? — укоризненно проворчал Горецкий. — Вот не допросили хозяина сразу, вцепились в одного подозреваемого, возможно, упустили что-то важное.
Вышло распоряжение забрать утопленника из уголовной полиции в контрразведку, что и было сделано незамедлительно: хмурый возчик, сопровождаемый двумя солдатами, пригнал телегу, на которой лежало тело, прикрытое рогожей. Спешно вызвали врача из госпиталя — при августовской крымской жаре невозможно было долго держать утопленника, трое суток проболтавшегося в море.
— Ну что, доктор, — вскричал томившийся Горецкий, увидев, как доктор появился из здания морга, закуривая на ходу папиросу, — что вы можете сказать, сам он утопился, либо же ему помогли?
— Думаю, что помогли. И не утопился он, а умер от разрыва сердца — от страха, надо думать. Привязали ему камень на шею и бросили в море. Рыбы веревку перегрызли, вот он и всплыл, покойничек-то.
— Да-а, если принять во внимание, что умерший от разрыва сердца человек не может сам привязать себе на шею веревку с камнем, то можно предположить, что это убийство, — пробормотал Горецкий.
— Вот-вот, и еще скажу вам, что либо убийцы торопились, либо случайные это были люди. Я ведь много лет в этом госпитале работаю, и всегда на вскрытие меня вызывают. И утопленников повидал на своем веку множество, раз город-то наш на море стоит. Осмелюсь подробности привести: вот ежели нужно какого-либо человечка утопить бесследно, то, извиняюсь, распарывают покойнику брюхо и вместо кишок набивают камнями, а потом не поленятся и снова зашить. И тогда уже никоим образом такой утопленник всплыть не может, — оживленно рассказывал доктор.
— Господи помилуй! — не удержался Аркадий Петрович.
Он вспомнил пропавшего в Батуме Бориса Ордынцева и надолго помрачнел.
В маленьком белом домике на окраине Батума явно собирались гости. Кто-то приехал на пролетке, кто-то — на новомодном автомобиле, кто-то просто пришел пешком. Но пролетки и автомобили оставляли за два-три квартала и к самому дому шли поодиночке, оглядываясь, чтобы избежать слежки.
У калитки гостей встречали два плечистых смуглых молодых человека с военной выправкой.
— Салям аллейкум, эфенди, — вежливо приветствовал приходящих один из молодцев, — оставьте, пожалуйста, ваше оружие.
Гости отдавали привратникам оружие, но после этого все равно приходилось подвергаться унизительной процедуре обыска.
Наконец за последним гостем затворилась калитка. Все собрались в большой, плохо освещенной комнате.
— Итак, господа, — заговорил по-турецки человек, который сидел в самом темном углу, так что лица его не было видно никому из присутствующих, — итак, господа, начнем. К сожалению, нам с вами приходится тайно пробираться на наши совещания, как будто мы находимся не на священной турецкой земле… А ведь Аджария — законная часть империи, навечно включенная в ее состав указом его величества султана… Впрочем, это так, из области чувств. Военное счастье отвернулось от нас, и мы с вами находимся на территории, временно захваченной врагами. Но от нас зависит очень многое. Расскажите, уважаемый Азиз-эфенди, то, что вам удалось узнать!
Дородный представительный турок в золотом пенсне откашлялся и начал:
— Вы знаете, что английские собаки собираются выводить свои войска из Грузии. Часть оккупационного корпуса уже погрузилась на корабли и отправляется восвояси. Но грузинские шакалы пытаются…
— Уважаемый Азиз-эфенди, — прервал выступление худощавый подвижный брюнет средних лет, — мы все здесь уважаем и разделяем ваши чувства, но не могли бы вы исключить из вашей речи эту зоологическую терминологию? Вопрос затронут серьезный, а все эти «собаки» и «шакалы» не вызывают ничего, кроме насмешки!
— Как будет угодно, почтеннейший, — недовольно оглянулся Азиз, — позвольте мне продолжить. Так вот, грузины пытаются убедить англичан оставить в Грузии и Аджарии хотя бы часть своих войск. Они знают, что без этого правительству Грузинской Республики трудно будет удержать власть. Они боятся беспорядков, ну и нас, разумеется. Напрямую с англичанами им договориться не удалось: те твердо намерены уходить и помогать Деникину в борьбе с красными только деньгами и оружием. И теперь они направляют на Парижскую мирную конференцию[11] своих представителей.
— Что сможет сделать Парижская мирная конференция? — раздались голоса.
— Сделать-то она может многое, — ответил Азиз, — и как раз сейчас удобный случай. Не забывайте, что после разгрома царской России она не признает правительства Советов, а также официально не принимает представителей Деникина, мотивируя это тем, что в России нет твердо установленного строя и нет правительства. Но правительство Грузинской Республики, а также Армянской и Азербайджанской конференция признала, так что если представителям этих республик удастся уговорить Совет Пяти[12], то он может повлиять на Ллойда Джорджа, и тот приостановит вывод английских войск из Закавказья.
Азиз замолчал, и сидевший в тени человек, как бы не давая установиться тишине, не давая присутствующим задуматься и сделать из сказанного собственные выводы, подхватил:
— Понятно, что если им удастся добиться от стран Антанты сохранения оккупационных войск, нам намного труднее будет выполнить наш священный долг — добиться возвращения Аджарии в лоно Османской империи.
— Каковы же ваши предложения? — снова подал голос нетерпеливый худощавый брюнет.
— Мое предложение, уважаемый Басри-бей, — продолжал голос из темноты, — заключается в следующем… — говоривший встал, каким-то образом оставаясь в тени, и мягкой, скользящей походкой пересек комнату, оказавшись за креслом Басри-бея, — заключается в следующем, — повторил он и вдруг молниеносным движением захлестнул шею Басри-бея тонким шелковым шнурком.
Басри-бей попробовал вскочить, но тело его только судорожно напряглось, глаза вылезли из орбит, и лицо стало багрово-синим. Он захрипел и обмяк в кресле. Человек в тени аккуратно снял шнурок с его шеи и спокойно пояснил:
— Нам стало достоверно известно, что Басри-бей симпатизирует… вернее, симпатизировал сторонникам политических уступок, проповедовал пораженческие настроения. Более того, имеются сильные подозрения, что Басри-бей искал контакты с англичанами. Он был недостоин называться подлинным турком, а следовательно, недостоин жить. От таких пораженческих настроений один шаг до прямого предательства, и кто знает — возможно, он его уже совершил. Таким образом, мы никак не могли обсуждать при нем наши планы. А планы наши таковы… — Человек в тени поправил булавку на галстуке и, видимо, укололся. — Шейс-с… — злобно прошипел он так, как шипит потревоженная змея.
Участники совещания в полном молчании внимательно выслушали его план действий. Никаких возражений не последовало — убедительнее всяких доводов рассудка действовало на присутствующих молчание одного из них — худощавого темноволосого Басри-бея, неподвижно лежавшего в глубоком низком кресле.
У Лизы бывали такие гости, которых она терпела, такие гости, которых она терпела с трудом, и такие, которых она терпеть не могла, но все равно приходилось — в ее положении не покапризничаешь.
Господина Вэнса она терпеть не могла. Он был ей так отвратителен, что после его ухода она долго-долго отмывалась и долго-долго проветривала свою комнату, чтобы избавиться от его запаха — сладковатого, парфюмерного, отталкивающего… Господин Вэнс казался ей похожим на паука-тарантула — маленький, ядовитый, очень опасный.
Никто не знал, какого он происхождения, вероисповедания и национальности. Рыжий, веснушчатый, с узкими блекло-голубыми глазами, он мог быть и англичанином, и турком, и немцем, и евреем… Его бледная, несмотря на жизнь под южным солнцем, кожа была покрыта густыми рыжими волосами — они выбивались из-под манжет рубашки, покрывали его шею, густо росли на груди… Одевался он претенциозно — роскошные вышитые жилеты, яркие шелковые галстуки с бриллиантовыми заколками.
Увидев, как в дверь просунулась рыжая шевелюра, Лиза отвернулась, чтобы скрыть гримасу отвращения. Господин Вэнс перехватил это ее движение и усмехнулся.
— Почему не в зале? — задал он вопрос, улыбаясь одними губами, в то время как его глаза продолжали буравить ее насквозь.
— У хозяина спросите, — буркнула Лиза.
— Спрашивал, — кивнул Вэнс, — он сказал, что тебе нездоровится и что ты сегодня не принимаешь.
— Так в чем же дело? — холодно поинтересовалась Лиза. — Зачем тогда вы пришли?
Вэнс, не обращая внимания на ее тон, прошел в комнату, плотно притворив за собой дверь.
— Так даже лучше, — сказал он, — поговорим о деле, ни на что не отвлекаясь.
— У нас с вами не может быть никаких дел, — угрюмо пробормотала Лиза.
После сегодняшней бессонной ночи она устала, болела голова, ей хотелось лечь, затянуться папиросой и грезить о Борисе, как будто не было двух лет мучений и страха, как будто она мечтала о нем там, в прошлой жизни, девчонкой… И вот он пришел как по волшебству. Ей хотелось перенестись еще раз в мечтах в те счастливые мгновения, когда они были вместе ночью.
Лиза открыла глаза и с ненавистью посмотрела на господина Вэнса.
— Хочешь, я расскажу тебе, чем ты кончишь? — Он спросил это вкрадчиво, но мягкость в его голосе была подобна мягкости кошки, которая на секунду отпустила пойманную мышь, чтобы поиграть.
— Не хочу. — Лиза пожала плечами и отвернулась.
Но господин Вэнс сделал вид, что не слышал пренебрежительного ответа.
— Ты перекуришься гашиша, станешь законченной наркоманкой, и хозяин выставит тебя на улицу. Если, конечно, до этого не помрешь сама.
Лиза улыбнулась и села на узкой кушетке, подобрав под себя ноги.
— Либо кто-нибудь заразит тебя сифилисом, и хозяин опять-таки выгонит тебя на улицу.
Она по-прежнему смотрела на него с загадочной полуулыбкой, только чуть вздрагивали опущенные длинные ресницы.
— Либо тебя зарежет пьяный матрос, — жестко продолжал Вэнс, прохаживаясь по комнате от двери к столику.
— Как зарезали вчера ночью Исмаил-бея? — проворковала она.
Вэнс споткнулся о невидимый порог, потом повернулся и посмотрел пристально на Лизу.
— Приблизительно так. — Он сел напротив на низенький стульчик, продолжая внимательно изучать девушку.
Сегодня она выглядела не так, как всегда, — очевидно, потому, что не было ни румян, ни ярко накрашенных губ. Оттого, что видно было только чистое лицо, которое не было еще отмечено печатью порока, сразу стала понятна неуместность ее в этом дешевом борделе.
— Не стану утверждать, что меня очень волнует твоя судьба, — продолжал Вэнс, — но ты мне нужна для кое-каких дел. Согласись на меня работать и получишь много денег. Сможешь уйти отсюда и даже уехать в Константинополь, например, или в Париж.
— Я не хочу уезжать, мне нечего делать в Париже. Мне вообще не нужны деньги.
— Каждому человеку нужны деньги, — наставительно проговорил господин Вэнс. — Один с помощью богатства добывает себе власть, ну, это тебя не интересует, другой — получает любовь, — при этих словах Лиза пренебрежительно фыркнула и потянулась к столику за папиросой, — третий с помощью денег может осуществить свою месть…
— Месть? — Лиза стремительно оттолкнула Вэнса и вскочила с кушетки. — Месть? У меня есть кому мстить, но скажи, разве твои деньги помогут мне отыскать тех людей, что убили моего отца и мать, и тех, я даже не помню, сколько их было, которые изнасиловали меня прямо там, возле их трупов… Скажи, если бы у меня были миллионы, смогла бы я отыскать хоть одного из них, привезти его мать и убивать ее медленно, у него на глазах, и чтобы насиловали его малолетнюю дочь… И самое главное: разве я могу быть уверена, что у того человека вообще когда-нибудь была мать и что ему было бы так же больно наблюдать за ее смертью, как и мне, когда умирала мама…
В глазах господина Вэнса на миг мелькнуло удивление, никогда он еще не слышал от Лизы ничего подобного. Но ее откровенность доказывала, что девчонка неглупа, смела и решительна. Она будет ему полезна, она просто необходима ему в предстоящем деле.
— Если не хочешь по-хорошему, — вкрадчиво начал он, — я поговорю с хозяином, и тебя выставят вон. Очутишься очень скоро в сточной канаве.
— Ты не понял, что меня это ни капельки не волнует? — устало спросила Лиза и взяла в рот папиросу.
Чувствуя, что инициатива ускользает из его рук, Вэнс вырвал у Лизы папиросу, схватил со столика остальные и растоптал их ногами. Глаза у Лизы из темно-карих стали черными, что свидетельствовало о сдерживаемой ярости. Еще бы, гашиш стоит дорого, и никто не смеет отнимать у нее то, что принадлежит ей.
Лиза понуро опустила голову, чтобы обмануть бдительность Вэнса, а затем вдруг резко выпрямилась и вонзила ему острые ногти правой руки в щеку. Она метила в глаза, но Вэнс успел отвернуться.
— Шейс-с-с, — процедил он непонятное слово. Звук его голоса напоминал шипение рассерженной змеи.
Лиза окаменела. Так вот что слышал Борис там, в подвале, когда убивали Исмаил-бея! Именно этот звук. А это значит, что Вэнс зарезал Исмаил-бея. И теперь Борису грозит опасность из-за этого негодяя. Вэнс закрывал лицо рукой, и под задравшимся рукавом Лиза увидела глубокий порез. Ну да, ведь Исмаил-бей защищался.
Вэнс оторвал руку от лица, увидел на ней кровь и отвесил Лизе здоровенную пощечину. Она не отшатнулась, не вскрикнула, а продолжала сидеть, глядя мимо него. Она размышляла. Если она даст согласие работать на Вэнса, сможет ли она помочь Борису? Как жаль, что она не успела расспросить подробнее, зачем Борис встречался с Исмаил-беем, тогда бы она знала, чего можно ждать от Вэнса. Тот между тем посмотрел на себя в маленькое зеркальце, стоящее на столике, увидел кровоточащие царапины, повернулся и еще раз ударил Лизу по щеке.
— Если вы хотите, чтобы я на вас работала, то перестаньте бить, — спокойно сказала Лиза, — мистеру Морли могут не понравиться синяки на моем лице.
— Так ты передумала? — Вэнс отдернул занесенную было руку. — Ладно, девочка, потом я дам тебе столько денег, что сможешь купить вагон гашиша. Ты, моя дорогая, быстро соображаешь: меня действительно интересует твоя связь с этим англичанином из миссии. Значит, когда он к тебе приходит?
— Вы же знаете, — усмехнулась Лиза, — по вторникам и пятницам.
— Сегодня вторник, стало быть, на него твое нездоровье не распространяется.
— Он любит постоянство и хорошо платит.
— Так вот, сделай так, чтобы не он, а ты к нему ходила. Устрой ему сцену, скажи, что не будешь больше принимать его здесь, что хочешь от него большего. Судя по тому, что он выбирает в этом борделе только тебя, ты его устраиваешь.
— Еще бы, — снова усмехнулась Лиза.
— Так сможешь сделать так, чтобы он привел тебя в миссию?
— Смогу.
— И еще постарайся сделать так, чтобы часовой при входе тебя запомнил.
— Постараюсь. — Она намочила ватку духами и прижгла царапины на лице у Вэнса.
Оказавшись близко, Вэнс заглянул в ее глаза, но ничего там не увидел: темные Лизины глаза были непроницаемы.
* * *
Артур Морли был юноша из хорошей британской семьи. Он был бы настоящим джентльменом, перед ним открылась бы прекрасная дипломатическая карьера, если бы не кое-какие пятна в его биографии.
Артур родился в семье потомственного офицера, его отец, как многие строители Британской империи, почти всю свою жизнь провел в беспокойных утомительных странах Востока — и этому юный Артур был обязан знанием многих языков: турецкого, арабского, армянского. Позже он выучил и грузинский.
Карьера молодого Морли складывалась удачно, но вдруг в определенных кругах о нем пошли крайне двусмысленные слухи. В конце концов кое-кто стал поговаривать, что Морли — не джентльмен. По общему мнению, беда была не столько в его нетрадиционных сексуальных наклонностях, сколько в том, что он допустил, что об этом стало известно.
Дошло до того, что единственное место, которое Артур Морли сумел получить, было место секретаря-переводчика в английской миссии в опасном и нездоровом Батуме. Даже эта должность не досталась бы ему, но, на его счастье, под рукой у чиновника в Лондоне, занимавшегося кадровыми вопросами, не оказалось ни одного молодого человека из приличной семьи, знающего нужные в Батуме языки. Настоящие джентльмены, конечно, были, но один из них знал только итальянский, а двое других — вообще ни одного языка, кроме родного, английского. Чиновник поморщился, вспомнив слухи о молодом Морли, но вынужден был остановиться на его кандидатуре. Дело в том, что генерал-губернатор Кук-Коллис категорически настаивал на том, чтобы секретарь-переводчик знал языки.
Надо сказать, что молодой Морли неплохо чувствовал себя на новом месте службы. Здесь, вдали от метрополии, многие настоящие джентльмены позволяли себе несколько «ослабить галстук» и посему сквозь пальцы смотрели на чужие шалости. Кроме того, в здешних «веселых домах» девушки были куда более сообразительны и покладисты, чем в туманном и чопорном Лондоне.
Как всякий истинный англичанин, Морли был человеком удивительного постоянства. Лиза знала, что каждый вторник и каждую пятницу ей придется потакать утомительным наклонностям молодого английского переводчика. Впрочем, ей пришлось за последний год столкнуться с таким бесконечным разнообразием мужского скотства, что те клиенты, которые хотя бы не причиняли ей боли, казались ей вполне терпимыми.
Артур торопливо вошел в ее комнату. Его незагорелое, несмотря на южное горячее солнце, лицо покрылось пятнами нездорового румянца.
— Госпожа! — заныл он с порога свою обычную песню. — Твой нерадивый раб опять у твоих ног! Накажи, накажи меня как можно строже! Я виновен перед тобой! Я достоин самого сурового наказания!
С этими словами он уже протягивал девушке длинную кожаную плетку и расстегивал пуговицы своего белого колониального сюртука.
Лиза с ходу включилась в сладострастную игру бледного мазохиста, внося собственные поправки в порядком надоевший сценарий:
— Отвратительный раб! Ты недостоин даже моих побоев! Ты хочешь, чтобы я строго наказала тебя, а сам прячешься от своих знакомых в этом притоне! Настоящее наказание должно быть публичным, в нем должна быть не только боль, но и унижение! Веди меня к себе домой, туда, где все тебя знают, и там я так жестоко накажу тебя, что ты запомнишь это на всю жизнь!
Артур смотрел на Лизу с удивлением и интересом. Обычно она равнодушно исполняла его прихоти, но не проявляла никакой инициативы. Ее идея показалась ему интересной, но публичные садомазохистские развлечения даже здесь, на краю света, стоили бы ему работы… Но желание было так сильно, что оно повлияло на мыслительный процесс.
Лиза увидела, что на его лице отражается мучительная борьба желания и осторожности, и прошептала англичанину в самое ухо, для большей убедительности укусив за мочку:
— Никто ничего не заметит, не бойся, но игра будет восхитительной! Ты запомнишь сегодняшнюю ночь на всю жизнь!
Сладострастная дрожь охватила англичанина. Он отбросил всякие сомнения и надел шляпу, коротко бросив Лизе:
— Идем!
По турецкому обычаю Лиза закуталась с ног до головы в темно-лиловое покрывало. На улице Морли свистнул, и к ним подкатил фаэтон.
— Гони! — закричал нетерпеливый англичанин.
Фаэтон несся по вечерним улицам Батума, грохоча колесами по мостовой, Лиза смеялась, Морли дрожал крупной дрожью. Подходя к воротам английской миссии, Лиза отбросила со своего лица покрывало и состроила глазки невозмутимому британскому солдату:
— Обожаю военных! Особенно ваших. Английских.
Солдат ни слова не понимал по-русски, но хорошо разглядел блестящие смеющиеся глаза, алые манящие губы и маленькую ножку в сафьяновой туфельке, ненароком выставленную. Кроме того, интонация в словах девушки не требовала перевода. Морли ревниво покосился на Лизу, но она так замечательно вонзила свои ноготки в его руку, что он все ей простил и хриплым от волнения голосом сказал часовому:
— Девушка со мной.
— Есть, сэр! — ответил невозмутимый Томми.
— Ну просто душка! — прощебетала Лиза и послала часовому такой взгляд, что если не до конца своих дней, то уж до следующего дежурства он его точно не забудет.
Войдя в комнату Артура Морли, Лиза приступила ко второй части своего плана: ей нужно было, чтобы английский переводчик тоже был от нее без ума. Закрыв за собой дверь, она повернула ключ и откинула свое покрывало. Кроме шелковых шаровар, подвязанных широким поясом, и мягких туфелек с загнутыми носками, на ней ничего не было. И в то время как мистер Морли, путаясь в пуговицах, расстегивал свой сюртук, Лиза выхватила у него из рук плетку и сурово приказала:
— На колени, подлый раб! Ползи к своей госпоже на коленях! Ты будешь сегодня сурово наказан за все твои бесчисленные грехи! Немедленно сними свою презренную одежду и ползи ко мне.
Артур Морли был на седьмом небе от восторга. Голый, тощий, покрытый шрамами от прежних экзекуций, он полз на коленях к своей прекрасной госпоже, которая ожидала его, гневно сверкая яркими карими очами и щелкая кожаным хлыстом. Он подполз к ней, униженно всхлипывая, и она поставила свою маленькую ножку ему на спину. Несколько ударов плети довели его до совершенного возбуждения, и тогда госпожа опрокинула Артура на спину и вскочила на него верхом. Дикая сладострастная скачка сопровождалась новыми восхитительными ударами плети и умопомрачительными щипками. Артуру хотелось выть и кричать от восторга, но, помня даже в такой миг о своих чопорных англосаксонских соседях, он сдерживал свои крики, и эта необходимость сдерживаться, закусывая губы, приводила его в еще больший восторг. Наконец безумная скачка разразилась оглушительной, опустошающей и освежающей грозой финала, и Артур Морли без сил распластался на ковре, едва не потеряв сознание.
Когда он пришел в себя, Лиза уже закуталась в покрывало и собиралась уходить.
— Прекрасная госпожа! — заныл Артур. — Накажи своего раба еще раз!
— Во-первых, ты забыл про деньги, — невозмутимо напомнила Лиза, и когда Артур, не пожадничав, заплатил ей втрое, продолжила: — На сегодня хватит, хорошенького понемножку. Побереги силы до пятницы. Приходи ко мне.
— В пятницу? — переспросил Артур. — В пятницу я, наверное, не смогу… У нас в миссии будет очень важный прием, я должен буду переводить…
— Что еще за важность? — Лиза недовольно пожала плечами. — У вас, англичан, вечно все важное. Они будут жевать, а ты переводить?
— Ты не понимаешь, — несколько самодовольно начал Морли, — это очень важно. Будет прием по поводу отъезда в Париж представителей грузинского правительства. — Тут он понял, что говорит лишнее, и замолчал.
— Ну, это дело твое, — деланно равнодушным тоном протянула Лиза и коснулась носком туфельки брошенной на полу плетки.
— Послушай, я приду в субботу, — оживился Морли.
Лиза насторожилась. Чтобы педантичный англичанин с его постоянством изменил день! Для этого должны быть очень веские причины. Очевидно, прием в пятницу и правда очень важен.
— В субботу я уезжаю надолго к одному промышленнику на дачу, — соврала она. — Он очень богат и хорошо платит.
Морли поверил и испугался. Его щеки снова покрылись лихорадочным румянцем, и он проговорил хриплым от волнения голосом:
— Нет. Я обязательно приду в пятницу… Я не смогу так долго ждать. Я приду пораньше, до приема.
— Как хочешь, — с тем же деланным равнодушием ответила Лиза и отправилась восвояси.
Проходя мимо часового, она сделала ему глазки, послала воздушный поцелуй и томно прошептала:
— Пока, красавчик! Увидимся в пятницу!
Глава шестая
Самвел уезжал в город и вернулся оттуда веселый и довольный. Борис предпочитал не думать, отчего так блестят глаза абрека. Самвел привез газеты и письмо от Лизы. Она писала, что есть новости, чтобы Борис возвращался скорее в город, чтобы по приезде шел на Греческую улицу в фотографическое ателье Зеленковского, там ему сделают документы, и что днем, в два часа, она ждет его в кофейне у кинотеатра «Паризиана».
Выехать предполагали вечером, так что Борис пока валялся на кошме и от скуки читал газеты. Самвел привез «Батумский вестник», «Батумскую жизнь» и «Эхо Батума». Ничего такого интересного в газетах Борис не обнаружил, хотя внимательно просмотрел криминальную хронику. Никакого трупа в кофейне Сандаракиса не нашли, очевидно, бандиты позаботились вовремя избавиться от тела Исмаил-бея.
Целый подвал «Эха Батума» занимала перепечатанная из тифлисской газеты статья о председателе меньшевистского правительства Грузинской Демократической Республики Ное Николаевиче Жордания[13]. В общем, рассказывалось, какой он замечательный, а в конце Борис с изумлением прочел строчки местного рифмоплета:
Ты наконец пришел, Жордания, Паришь над миром, как орел, Прекрасной Грузии страдания, Превозмогая, ты обрел…Дальше опять было оборвано, потому что Самвел по дороге скрутил именно из этого куска газеты самокрутку. Борис вспомнил почти такие же стихи про Деникина и поразился, насколько одинаково мыслят плохие поэты.
До города добрались без приключений. Не доезжая версты две, Самвел остановился.
— Дальше сам пойдешь, пешком.
— Спасибо тебе, Самвел. — Борис соскочил с коня и протянул поводья абреку.
— Э, генацвале, я не ради тебя это делал. — Самвел отвернулся и пришпорил коня.
Борис зашагал к городу, навстречу солнцу, вдыхая прохладный утренний воздух.
* * *
Фотографию он нашел без труда, всего два раза спросил дорогу. Маленький черненький человечек, шустростью движений похожий на жука-водомерку, отворил Борису дверь ателье.
— Господин Зеленковский?
— Слушаю вас! — Человечек раздвинул в улыбке розовые губы.
— Автандил просил передать, что виноград нынче кислый, — вполголоса, но очень четко проговорил Борис.
Человечек мгновенно переменился в лице, всплеснул руками и закивал головой:
— Тише, тише! Вот вы, оказывается, по какому делу. Стало быть, желаете документ?
— Именно, и, если можно, поскорее.
— Так-так-так. — Человечек усадил Бориса в кресло и забегал вокруг. — Значит, блондин, но не светлый, а скорее пепельный, глаза серые, рост…
— Скажите, а какое значение для документа имеет мой рост? — полюбопытствовал Борис.
— О, вы не понимаете! В таком деле все имеет значение! Прежде всего давайте выберем вашу национальность.
— Что?
— Ну, кем вы хотите быть: грузином, аджарцем, турком, итальянским коммерсантом… греком, наконец?
— Видите ли, в чем дело, — Борис не ожидал такой постановки вопроса и несколько растерялся, — вряд ли я похож на грузина, сами вы только что заметили, что я блондин.
— Вот если бы вы были рыжий, — мечтательно протянул человечек, — я сделал бы из вас распрелестного армянина… но, знаете, в Грузии лучше не надо. Из иностранцев тянете вы на немца, но немцев здесь не любят… Вот если по торговой части, турком…
— Я, уж простите, ни по-турецки, ни по-итальянски не говорю, — прервал его Борис. — Так что давайте сделаем меня русским. И фамилию какую-нибудь попроще…
— Вот это вы правильно! — обрадовался человечек. — Никаких знаменитых фамилий, Голицыных там или Юсуповых. А то некоторых гордыня обуревает, заказывают такое! На иного клиента смотришь — ну жулик жуликом, а туда же — Юсупов!
Выбрали фамилию Расплюев. Зеленковский крикнул мальчишку и велел ему отнести все данные Карлу Ивановичу.
— Вы не сомневайтесь, Карл Иванович — это талант, каллиграф отменнейший! Все сделает как надо, а вы, может быть, пока желаете сняться на память?
— Спасибо, не стоит.
— Может быть, вы желаете сняться в костюме, который носил сам Зелимхан, известнейший из самых страшных кавказских разбойников?.. Вы не желаете? Напрасно! Вы, может быть, сомневаетесь, что этот костюм был на нем? Так я даю вам честное слово комиссионера, что это правда!
— Позвольте, — удивленно проговорил Борис, — какой же вы комиссионер, ведь вы фотограф, это не считая другой вашей профессии…
Человечек опять испуганно замахал руками:
— О той, второй, — ни слова!.. Я был в Польше комиссионером, стал беженцем, а беженец может стать кем угодно! Я лично знал одного беженца, который на родине был клоуном, а в Петрограде стал кучером на катафалке. Веселенькая профессия! Как раз наоборот вышло… Я никогда в жизни не имел своей фотографической карточки, теперь, когда судьба забросила меня на Кавказ, я купил по случаю эту крошечную фотографию и, работая с мальчишкой-ретушером, имею себя в двадцати позах! Вы, может быть, хотите сняться на набережной на фоне «Франца-Фердинанда»? Он как раз только что пришел из Константинополя.
— Нет, не хочу, — улыбаясь, сказал Борис.
— Напрасно… Верьте мне, жалеть будете. Белоснежный красавец пароход, синее море… Вы сам — мужчина интересный, так что дамы от такой вашей фотографии окончательно потеряют голову.
— Благодарю вас, нет желания.
Зеленковский вздохнул, прикрыл верхнюю губу нижней, насколько мог, потом еще раз вздохнул и сказал:
— Если не желаете на набережной, то снимитесь в горах.
— Благодарю вас, не стоит.
— Я, если желаете, поставлю за вашей спиной Арарат, у меня есть картонный. Вы не сомневайтесь, я сам писал его с натуры, когда был в Армении… это очень легко… вы напрасно сомневаетесь… Вы берете кусок картона, делаете на нем два неправильных конуса углем и все внутри замазываете белилами… И Арарат в снежной одежде как на ладони!.. Желаете?
— Благодарю вас! — Бориса начал утомлять назойливый человечек, но уйти он не мог — нужно было ждать документов.
— Значит, вы согласны сняться на фоне горы?
— Нет, значит, не согласен.
— Напрасно!
— Может быть!
— Ага, очень рад, что вы уже говорите «может быть», стало быть, еще немножко, и вы со мной согласитесь!
— Нет, еще очень много до того, чтобы я с вами согласился.
— Право, не знаю, что вам еще предложить? — задумался Зеленковский.
— Да ничего не надо, — теряя терпение, сказал Борис, — я подожду, пока принесут документы, и пойду.
— Вы не волнуйтесь. Карл Иванович работает хорошо, но медленно. Сами посудите: документ должен быть как настоящий… Ах, я забыл вас спросить: может быть, вы хотите купить дачу?
Борис взглянул в лицо Зеленковского: оно было абсолютно серьезно.
— Хочу, — сказал Борис, с любопытством ожидая, каково будет продолжение разговора.
— Ну вот и отлично! — Зеленковский забегал по комнате, радостно потирая руки. — Наконец-то я вас хоть чем-нибудь заинтересовал! Возьмем фаэтон и едем!
— Куда?
— На дачу Чечулия!
— Зачем?
— Посмотреть!
— Зачем?
— Ведь вы желаете купить!
— А разве этого достаточно?
— Я думаю: раз он хочет продать, то какой тут еще может быть разговор?
— Денежный.
— Ну, это само собой: без этого нельзя, не обойдешься без разговора, так как без денег тоже не обойдешься… Но вы же хотите серьезно купить?
— Очень серьезно! — Произнеся это, Борис отвернулся, чтобы Зеленковский не заметил, что он едва сдерживает смех.
— Так за чем же дело стало? — вопрошал Зеленковский.
— За деньгами.
— У вас не найдется семидесяти тысяч турецких лир?
— Я очень рад, что произвожу на вас впечатление обеспеченного человека, но у меня не найдется и половины.
— Отлично! Я вам предложу за двадцать тысяч прелестную дачку, и, по совести говоря, она гораздо лучше той, дорогой… И с какой стати покупать за семьдесят, когда можно за двадцать?
— У меня нет и двадцати.
— Может быть, у вас нет свободных двадцати, так я вам устрою рассрочку…
— У меня нет и занятых двадцати: не у кого здесь, в Батуме, занять, — вздохнул Борис.
— Я найду вам и деньги, и дачу.
— Не проще ли будет, если вы найдете мне даровую дачу? — Борис чувствовал, что от энергии Зеленковского начинает теряться.
Тот задумался, лицо его покрылось тенью. Борис вздохнул с облегчением, радуясь, что припер назойливого человечка к стенке. Но вдруг лицо Зеленковского стало светлеть подобно горам под лучами восходящего солнца, начиная со лба: разгладились морщины, затем прояснились глаза, и углы рта отошли в стороны в улыбке.
— Могу! Чудная дачка на Зеленом Мысу, прекрасный вид на горы, балкон стеклянный, мандариновый сад, электричество, водопровод, ванна… Близко ботанический парк… чудная обстановка и… догадайтесь!
— Лошади?
— Нет!
— Коровы?
— Нет!
— Бараны? — теряя терпение, заорал Борис.
— Нет… Хозяйка!
— Что?
— Готовая хозяйка… Одна не очень молодая, но очень богатая дама скучает.
— Что-о?
— Послушайте, вы, может быть, думаете, что она грузинка? — зашептал Зеленковский. — Немолодые грузинки все похожи на ведьм, это точно, я вам такого ни за что бы не посоветовал. Но она — русская. Муж был не то турок, не то аджарец, но какая нам с вами разница? Важно одно: он давно умер, а был очень богат. И теперь она одна на такой чудной дачке. Послушайте, что стоит вам постоять часочек под венцом? Будь я моложе и не женат — я бы не задумался!
— А я вот задумываюсь.
— Подумайте немножко, если хотите… Если желаете, я поговорю с ней о гражданском браке… Вот ваши документы и готовы! Ну, господин Расплюев, оцените работу? Не правда ли, Карл Иванович — исключительный мастер? Так как же насчет дачки? Куда же вы?! Постойте! — Зеленковский вошел в раж и кричал вслед Борису в полный голос: — Чудный вид на горы! Мандариновый сад! От счастья отказываетесь! Больше пяти процентов я с вас не возьму!
Он схватил Бориса за руку и бежал по улице, запыхавшись.
— Да отстаньте же вы наконец! — разозлился Борис, потому что на них оборачивались прохожие.
— Но если вы не согласны, то снимитесь хотя бы в костюме Зелимхана… — уныло прошептал вслед Зеленковский.
Борис долго оглядывался в кофейне, пока Лиза сама не поманила его. Сегодня она была в белом полотняном костюме, в шляпке и выглядела свежей и прелестной.
— Выйдем на воздух, тут слишком душно.
Они сели за столик в тени деревьев, Борис взял Лизу за руку и дал волю своему восхищению:
— До чего же ты хороша! Как будто не было этих страшных лет!
По тому, как потемнели ее глаза, он понял, что сказал жуткую глупость, и покраснел от досады. Он поймал себя на мысли, что не знает, как себя вести с Лизой. Волей-неволей в голову лезли мысли про Самвела, который вернулся в горы довольный, как кот, объевшийся сметаной, про других Лизиных клиентов, про деньги, которыми он заплатил за паспорт, — деньги были Лизины, и Борис знал, как она их заработала.
Лиза первой нарушила затянувшееся молчание:
— У меня есть для тебя новости. Я точно знаю, что Исмаила убил один скользкий тип, господин Вэнс. Это он говорит «Шейс-с-с», как змея шипит.
— Да, так и было, — подтвердил Борис. — Стало быть, это он работает на турок…
— Ты не хочешь мне рассказать, зачем ты приехал в Батум? — спокойно спросила Лиза.
Борис оглянулся и шепотом поведал ей про убийство в феодосийской гостинице «Париж», про то, как он сбежал из контрразведки и контрабандисты привезли его в Батум.
— Мне очень нужно узнать кое-что у этого Вэнса.
— Не надейся, что он сам, по собственной воле расскажет тебе что-то, — предупредила Лиза. — Думаю, что и за деньги тоже ничего от него не добиться.
— А что ему вообще от тебя надо? — неприязненно спросил Борис.
— Не то, что ты думаешь, — усмехнулась Лиза. — Ему нужно, чтобы в пятницу, то есть послезавтра, я провела его в английскую миссию. У меня там есть знакомый, переводчик мистер Морли. И вот в пятницу у них там важное событие, англичане принимают каких-то важных людей из правительства Грузии.
— И этому Вэнсу нужно попасть на прием? — недоверчиво спросил Борис.
— Зная Вэнса, я думаю, что ему нужно кого-то из них убить, — честно ответила Лиза. — Очевидно, в пятницу, при большом скопище гостей, в миссию будет легче пройти, а потом… знаешь, не уплывают ли они в субботу утром на «Франце-Фердинанде» в Константинополь? Он как раз уходит в субботу… И Морли сказал, что в субботу он будет уже свободен…
— Ты уверена, что это он убил Исмаил-бея?
— Уверена, — твердо ответила Лиза. — Я видела у него порез на руке, от стилета, и это его шипение. Нужно отдать его бандитам из кофейни! — решительно добавила она. — А чтобы они тебе поверили, покажешь им вот это. — Лиза протянула Борису мужскую булавку с черной жемчужиной. — Скажешь, что нашел ее возле трупа Исмаил-бея.
— Лиза, — в отчаянии сказал Борис, — когда все это кончится, я увезу тебя.
— Куда? — грустно улыбнулась Лиза. — Насколько я поняла, ты отсюда собираешься в Феодосию, а там уж мне точно нечего делать. Здесь по крайней мере при англичанах хоть какой-то порядок. Людей не хватают на улице и не тащат в контрразведку. И какое положение будет у тебя там, в Крыму?
— Если мне удастся добыть доказательства моей невиновности, у контрразведки не будет ко мне никаких претензий, я смогу заняться поисками сестры, мне помогут. — Борис замолчал, он не говорил Лизе про Горецкого, потому что сам был в нем не уверен. — Но тебе не место в этом… в этом аду!
— Ад был там, — вздохнула Лиза, — а здесь только чистилище…
У входа в ненавистный Лизе развеселый дом ей встретился господин Вэнс.
«Легок на помине», — с ненавистью подумала Лиза.
— Куда это наша девочка ходила в таком цивильном виде? — осведомился Вэнс, улыбаясь одними губами.
— На фильму, — ответила Лиза, ничуть не смущаясь. — В «Паризиане» идет замечательная итальянская фильма из русской жизни. Называется «Ванда Варенина», не видели?
— Я ждал тебя, — сказал Вэнс, — пойдем наверх.
Лиза дернула плечом, но пошла.
— Как прошло вчера свидание с Морли? — спросил Вэнс, запирая за собой дверь Лизиной комнатки.
— Удачно, — ответила Лиза.
— Когда он придет в пятницу?
— Пораньше, хочет успеть перед приемом в миссии.
— Успеет, — злорадно, как показалось Лизе, произнес Вэнс.
Он подошел к Лизе очень близко, рассматривая ее пристально. Определенно в девчонке появилось что-то новое. Возможно, это от того, что сегодня на ней надето не турецкое платье, а приличный костюм, в котором она выглядит как благородная дама. Но хороша, очень хороша. Приодеть бы еще получше, камешки в уши и на шею — будет очаровательна! Жаль, что придется с ней расстаться. Но рисковать нельзя — слишком много знает…
Заметив, что в глазах его появилась жадная похоть, Лиза стиснула зубы и спокойно сказала:
— Господин Вэнс, раз уж у нас с вами установились деловые отношения, то избавьте меня от всего остального.
— Я тебе не нравлюсь? — Он приблизил свое лицо и оскалил зубы.
— Вы мне отвратительны, — ответила Лиза и невозмутимо добавила: — Но хорошо, что вы зашли, нам нужно поговорить о деньгах.
— Вот как? — Вэнс поднял брови.
— По моим предположениям, вы задумали нечто очень серьезное, связанное с мистером Морли, — сказала Лиза, тщательно подбирая слова. — Стало быть, я очень рискую, ведь меня видели в миссии, и вообще он часто сюда приходит. А опыт всей моей жизни говорит мне, что если рисковать — то не даром.
— Ты хочешь денег?
— Да, денег, — кивнула Лиза. — И много.
Вэнс задумался. Он не ошибся, девчонка изменилась. Исчезло равнодушие, она перестала увлекаться гашишем, теперь она производит впечатление человека, который твердо знает, чего хочет.
— Я же сказал, что заплачу.
— Разумеется, заплатите, — спокойно кивнула Лиза. — И сделаете это сегодня, пока я вам нужна, потому что потом, когда в пятницу вы сделаете все, что хотели, вряд ли от вас можно будет что-нибудь получить.
«Кое-что ты от меня в пятницу получишь», — злорадно подумал Вэнс и спросил:
— Сколько ты хочешь?
— Десять тысяч турецких лир, — отчеканила она.
— Ого! — Вэнс поднял брови. — Откуда же я возьму тебе сейчас столько денег?
— Я подожду до вечера, — согласилась Лиза. — Если к девяти часам вы не положите на этот столик десять тысяч турецких лир, я приму меры.
— Пойдешь в полицию? — усмехнулся господин Вэнс.
— Нет, я обо всем расскажу мистеру Морли. Поверят мне в миссии или не поверят, но Морли никак не сможет прийти сюда в пятницу, и весь ваш тщательно продуманный план сорвется.
Опять он уставился на нее в упор. Но Лиза совершенно спокойно выдержала его взгляд.
— Хорошо, — медленно кивнул Вэнс, — вечером деньги будут у тебя.
Борис спустился по каменным ступеням кофейни Сандаракиса. Тот же сладковатый туман, запах кофе, опиума и кальяна, та же разноплеменная публика, но с появлением Ордынцева в кофейне ненадолго наступила тишина. Ни один торговец не подошел к нему, никто не предлагал сомнительной коммерции, вокруг Бориса образовалась пустота, полоса отчуждения. Посетители кофейни шарахались от него как от зачумленного.
Не обращая на это внимания, Борис направился к слепому турку, который, как всегда, дремал в углу со своим кальяном.
— Салям, эфенди, — вежливо обратился Борис к старику, — я пришел поговорить с вашими друзьями.
Старик, услышав его голос, удивленно поднял к нему слепые белые глаза и прошамкал беззубым ртом:
— Шам пришел?
Затем, видимо, смирившись с непостижимостью поступков этих странных русских, он щелкнул пальцами. Дверца в стене отворилась, оттуда, как и в прошлый раз, высунулась волосатая лапа, Бориса втащили в темноту. Как и прежде, несколько минут его тащили, толкали, и наконец он оказался в каморке, освещенной тусклой масляной коптилкой, среди злобных бандитских физиономий. Но если в прошлый раз Бориса встретили здесь с веселым злым любопытством, то сейчас злобы вокруг прибавилось вдесятеро, а весельем и не пахло.
Возле Бориса появился рыжий пузатый карлик Черевичка с огромным кривым ножом в руке и, задыхаясь от злобы, пропищал:
— Ну, золотой-серебряный, что скажешь? Мало тебе, что Исмаила разменял, еще за чьей-то душой пришел?
— Что ты с ним болтаешь, Черевичка? — послышался глухой бас из-за угла. — Кончай его без разговора, да зашьем в мешок!
Стараясь сохранить внешнее спокойствие, Борис заговорил:
— Господа бандиты, я к вам сам пришел, стало быть, у меня есть что вам сказать. Так будьте любезны, сначала выслушайте. А уж потом решайте, что со мной делать.
В комнате воцарилась на несколько мгновений напряженная тишина. Черевичка проверил пальцами лезвие ножа и поводил вокруг круглыми выпуклыми глазами, стараясь угадать настроение своих товарищей.
— Пусть говорит, — пробасил тот же голос, который минуту назад настаивал на немедленной казни, — пускай говорит, послушаем, какую пулю он отольет, в расход пустить гада всегда успеем.
— Разумные слова, — кивнул Борис в темноту, — в расход пустить меня вы всегда успеете, было бы за что.
— За Исмаила! — злобно пропищал снизу Черевичка.
— Господа бандиты, уважаемого Исмаил-бея, да будет мир и покой его праху, — театрально заговорил Борис, надеясь, что так будет доходчивее, — убил вовсе не я. Сами посудите, я искал его долго, плыл аж из самой Феодосии, добивался встречи — и для чего? Чтобы убить его, не успев перемолвиться парой слов? Да сами сообразите: Исмаил-бей был человеком ловким, сильным, опасным — разве мог я справиться с ним?
Среди бандитов начались негромкие разговоры: хоть и с трудом, но доходило до них очевидное. Исмаил-бей был для них непререкаемым авторитетом, полубогом, и тут вдруг его прирезали как ягненка. Да еще кто? Какой-то чужак, русский… И хоть на вид он выглядел довольно крепким, но не было в его глазах той звериной повадки, по которой узнают друг друга лихие люди. Так что последний аргумент Бориса показался бандитскому собранию убедительным.
— Кто же убил его? — послышалась из угла саркастическая реплика. — Вы там были вдвоем! И почему же ты тогда сбежал, если не убивал Исмаил-бея?
— Господа бандиты! — Для большей убедительности Борис прижал руки к сердцу. — Представьте, что вы застали бы меня возле трупа. Вы бы меня на клочки разорвали, не дав и слова сказать в свое оправдание! А кто убил — возможно, вы сами ответите. Когда мы разговаривали с Исмаилом, светильник внезапно погас, в темноте я услышал звуки борьбы и кто-то прошипел, как змея, «Шейс-с» — видимо, Исмаил сумел ранить его стилетом. Больше я ничего не слышал, а когда сумел осветить комнату, Исмаил-бей был уже мертв. Клянусь вам, то, что я говорю, — чистая правда. Вы ведь видели в тот день, что на стилете Исмаила была кровь? Он ранил своего убийцу, а у меня нет свежих ран и царапин, можете проверить.
Бандиты загалдели, обсуждая слова Бориса. Гул голосов был не такой враждебный, как вначале. Желая поскорее склонить колеблющуюся чашу весов в свою пользу, Борис выложил последний, хотя и крапленый козырь:
— И вот что я нашел тогда, возле трупа Исмаил-бея! — Он раскрыл ладонь и показал зажатую в ней булавку для галстука с маленькой черной жемчужиной.
Бандиты, отпихивая друг друга, проталкивались к нему, чтобы рассмотреть булавку. Как и во всяком другом случае, вещественное доказательство оказалось убедительнее любых слов.
— Вэнс, — прозвучало глухо.
И следом послышались выкрики из разных мест:
— Вэнс! Вэнс! Вэнс!
— Вы сами назвали это имя, — негромко произнес Борис.
Несмотря на тихий голос, бандиты его слушали и смотрели на него более благожелательно, чем прежде.
— У меня есть к вам деловое предложение, господа бандиты, — начал Борис, но, начав свою речь обращением ко всему воровскому сходу, он выделил среди окружающих его физиономий самую зверскую, внутренним чувством определив лидера, и обратился уже к нему: — Нельзя ли переговорить с вами с глазу на глаз?
— У меня от ватаги секретов нету! — отрезал бандит, но в ответе его не чувствовалось окончательной враждебности.
— Упаси Боже, никаких секретов! Просто вопрос тонкий и отчасти денежный, так что удобнее было бы именно с вами его обсудить.
Борис знал по опыту последних страшных лет, что, столкнувшись с любым опасным угрожающим сообществом — будь то толпа пьяных матросов, или шайка зеленых, или разбойничья ватага, или даже стая озверевших и одичавших с голоду собак, — нужно выделить в этой банде лидера — обычно это просто самая угрожающая личность — и разговаривать уже только с ним, стараясь польстить его самолюбию, подчеркивая свое к нему уважение и отличая его от остальной злобной массы: они, мол, тупая сволочь, но мы-то с вами, умные люди, знаем, чего хотим… Обычно такое срабатывало, и сейчас тоже звероподобный бандит с огромным животом и длинными волосатыми лапами мигнул своим соратникам и уединился с Борисом в укромном уголке.
— Так об чем речь? — спросил бандит.
— О десяти тысячах турецких лир, — ответил Борис, стараясь попасть в тон собеседнику.
— О десяти тысячах лир поговорить завсегда интересно. — Бандит оживился. — Что нужно сделать за эту симпатичную сумму?
— Подложить жирную свинью нашему общему другу Вэнсу.
— Вот что я больше всего люблю, — мечтательно протянул бандит, — это когда дело соединяют с удовольствием.
— Так слушайте. — Борис еще ближе придвинулся к собеседнику. — Вы знаете английскую миссию на Мариинской?
— Кто же может не знать английскую миссию на Мариинской! Хорошее место. Одно там плохо: его стерегут сытые английские солдаты. Туда на арапа не пролезешь.
— Об этом — после. Итак, в английской миссии в эту пятницу будет прием…
В пятницу Артур Морли пришел к Лизе раньше обычного. Щеки его пылали от возбуждения, с порога он завел обычное:
— О, моя повелительница, накажи, накажи своего отвратительного раба! Накажи его так же сурово, как в прошлый раз! — При этом глаза его покрылись мечтательной поволокой.
— Что уж с тобой поделаешь, — вздохнула Лиза.
Что-то подсказывало ей, что сегодня английский переводчик в последний раз играет в свою любимую игру. Эта мысль не вызвала у нее угрызений совести: каждый сам должен заботиться о собственном благополучии; раз уж она согласилась помогать Вэнсу, то глупо было бы поддаваться чувству жалости к тощему извращенцу. К тому же Лиза испытывала облегчение от того, что не нужно будет больше его ублажать…
— Становись на колени, подлый раб! — сурово приказала она, замахиваясь плеткой. — Ползи к своей госпоже!
Артур радостно выполнил ее приказ. И все продолжалось по установленному сценарию, сегодня Лиза не баловала Морли разнообразием. Когда англичанин был уже на полпути к неземному блаженству, из-за занавески вышел господин Вэнс. Мягкими, неслышными шагами двинулся он к ничего не подозревающему, сладострастно пыхтящему Морли.
Увидев его, Лиза сделала знак глазами: подожди! Подожди еще немного!
Вэнс скорчил презрительно-насмешливую гримасу, но остановился. Артур Морли с истошным криком добрался наконец до вершины наслаждения и без сил откинулся на кушетку. Тогда господин Вэнс, уже не скрываясь, подошел к нему, накинул на шею блаженно расслабившегося англичанина тонкий шелковый шнурок и сильным движением затянул его.
Тело Артура Морли судорожно напряглось, глаза на мгновение открылись — в них промелькнуло удивление, растерянность… и, кажется, восторг наслаждения. Возможно, даже собственную смерть несчастный мазохист сумел превратить в финал сладострастной игры.
Лиза вскочила с кушетки, передернувшись от отвращения.
— Какая гадость!
— Отчего же? — с иронической улыбкой спросил Вэнс, сворачивая свой шнурок. — Ведь я не стал спешить, дал бедному идиоту получить последнее наслаждение в жизни! Не каждый на моем месте был бы так щедр.
— Так он по крайней мере умер счастливым, — заметила Лиза, одеваясь.
Вэнс пригляделся к ней. Держится отлично — ни криков, ни обморока, никакой истерики.
— Можешь выкурить одну папиросу, — разрешил он.
— Не нужно, — отмахнулась Лиза. — Я хочу иметь ясную голову.
Она отвернулась, чтобы Вэнс не заметил ее дрожащих рук.
— И что же мне теперь делать с покойником? Ведь его обнаружат вскоре.
— Не волнуйся, о его трупе позаботятся мои люди.
— Да, но многие видели, как он вошел ко мне.
— Многие увидят и как он от тебя выйдет. — С этими словами господин Вэнс открыл небольшой кожаный чемоданчик и присел к Лизиному туалетному зеркалу. Из чемоданчика он достал парик, баночки с гримом, кисточки, белила и множество тюбиков, коробочек и непонятного назначения инструментов.
Лизу била нервная дрожь. Только что у нее на глазах убили человека. Это случилось не впервые, но в этот раз смерть прошла так близко. Как ни был ей противен Морли, но только что они были с ним в постели. Труп его еще не остыл. Убийца же сидел рядом и хладнокровно, как ни в чем не бывало занимался своим лицом. Тут было от чего свихнуться.
— Не тяни время, приводи себя в порядок, скоро пойдем в миссию, — услышала она голос убийцы.
— Вы думаете, когда клиента душат прямо на тебе — это приятно? — не сдержалась Лиза.
— Это пройдет, — проговорил Вэнс не оглядываясь — очевидно, он догадался, что с ней происходит.
Лиза взглянула на Вэнса. Метаморфоза, происходящая с ним, была удивительна. Слой грима сделал его лет на десять моложе и бледнее. На щеках появились пятна нездорового румянца. Постепенно его лицо становилось все больше и больше похоже на лицо Артура Морли. Только сейчас Лиза заметила, что господин Вэнс так же худ, как Морли, примерно такого же роста и одет сегодня в такой же белый сюртук… Наложив еще несколько мазков белил, господин Вэнс, видимо, остался доволен своей работой и надел парик. Лиза вздрогнула: сходство стало потрясающим. Один Морли — голый, мертвый и счастливый — лежал на кушетке, другой — сидел за столиком у зеркала, придирчиво осматривая свое лицо.
Покосившись на Лизу и увидев выражение ее глаз, Вэнс остался доволен произведенным эффектом. Он встал, надел валявшуюся в углу шляпу Артура и кивнул Лизе:
— Ты готова? Пора идти.
— А это? — покосилась Лиза на труп.
— Не беспокойся, я же сказал — это уберут.
Вэнс осторожно выглянул в коридор, тихонько свистнул. В комнату бесшумно проскользнули двое плечистых смуглых молодых людей. Изменившаяся внешность господина Вэнса нисколько их не удивила — Лиза поняла, что такие превращения были для него в порядке вещей, и окончательно уверилась, что господин Вэнс хочет попасть в миссию с очень серьезной целью. Вэнс приказал своим людям что-то по-турецки. Лиза за время жизни в Батуме научилась различать распространенные здесь языки, но понимала по-турецки еще не много — те несколько фраз, которых хватало, чтобы объясниться с солидными турецкими клиентами. Молодые люди развернули принесенный с собой ковер, закатали в него труп и ушли с ним.
— Как они вынесут труп отсюда? — поинтересовалась Лиза.
— Нет ничего проще: они торгуют коврами, принесли один показать здешнему хозяину. Ковер ему без надобности, так что они сейчас с ковром спокойно уйдут. И хватит задавать вопросы, собирайся, мы тоже уходим!
Глава седьмая
Накануне важного приема в Британской миссии случилось страшное: заболел шеф-повар, знаменитый на весь Батум Левон. Хуже этого ничего не могло случиться: если бы заболел глава миссии — его мог заменить кто-то из заместителей, но приготовить молодого барашка по-имеретински так, как делал это Левон, и вообще так, как он, управиться на кухне было некому. Оказалось, что именно шеф-повар — единственный незаменимый человек в миссии.
Обычно невозмутимые англичане стонали и пили успокоительные капли.
Левон тоже стонал, держась за свой необъятный живот, и сквозь стоны уверял окружающих, что жить ему осталось недолго, а заменить его на кухне не может ни одна живая душа, вот только согласится разве некий Ибрагим, которого следует спросить в кофейне Сандаракиса.
Адрес у Ибрагима был несколько странный, рекомендаций не было вовсе, но англичане оказались в безвыходном положении и посмотрели на эти детали сквозь пальцы.
Когда Ибрагим появился в миссии, англичане ужаснулись. Единственное, что делало этого человека похожим на шеф-повара, был такой же необъятный, как у Левона, живот. В остальном это был человек совершенно не респектабельный. У него были такие огромные волосатые руки и такая зверская физиономия, что третий советник миссии вспомнил дикую обезьяну Оранг-Утан, которую он видел на острове Борнео в 1898 году.
Однако бурно умирающий Левон упорно настаивал на том, что только Ибрагим может заменить его на кухне, и англичанам пришлось смириться. Звероподобный Ибрагим, в свою очередь, привел с собой таких же ужасных помощников, заявив, что без них он никак не справится. Помощники были один другого отвратнее. С некоторым удовлетворением восприняли было мальчика-поваренка и светловолосого русского парня, но при ближайшем рассмотрении поваренок оказался вовсе не мальчиком, а гадостным рыжим карликом с длинными руками и писклявым голоском, а русский держался в тени, и видно было, что в команде человек он не главный.
Делать было нечего. Англичане смирились с неизбежным и ждали скандала. Левон удовлетворенно вздохнул, сказал, что, возможно, поживет еще немного, и заснул сном праведника.
В пятницу утром к миссии, подняв невообразимый шум и чудовищную пыль, подъехали два открытых автомобиля и восемь мотоциклетов. Это были посланцы Грузии на Парижскую мирную конференцию с почетной охраной. После приема и торжественного обеда в миссии посланцы намеревались проследовать на английский миноносец «Энтерпрайз», который должен был доставить их в Марсель.
Делегатов встретил генерал-губернатор Кук-Коллис, который произнес торжественную и прочувствованную речь о старинной дружбе Великобритании и Грузии, о том, какую огромную роль в процветании Закавказья играет присутствие английского оккупационного корпуса и как важна, следовательно, миссия закавказских делегатов, которые намеревались убедить конференцию в необходимости оставить английских солдат в Закавказье — или как минимум в Батумской области, которая, по сути, является воротами в это самое Закавказье.
Один из участников делегации, который, к счастью, владел английским, ответил на губернаторскую речь столь же торжественно, но, в духе грузинского застольного красноречия, еще более цветисто. В его речи гордо парили горные орлы и грозно рычали британские львы, гнусные вражеские шакалы трусливо прятались в зарослях… Словом, это была не речь, а, скорее, тост, и после нее все участники церемонии дружно повалили за стол.
В это время у ворот миссии появилась забавная парочка — худой бледный господин в белом сюртуке и шляпе, в котором часовые узнали переводчика Артура Морли, и его разбитная подружка, которая уже приходила с ним недавно и напропалую кокетничала с солдатами… Такую смазливую и веселую мисс трудно было забыть!
Мистер Морли прикрывал лицо платком — видимо, он умудрился простудиться — в такую-то жару!
Он вообще был несколько странный, поговаривали, что он не джентльмен… Тем не менее он сотрудник миссии. Солдаты взяли на караул, привратник открыл калитку и пропустил переводчика и его пассию.
Стол был по-кавказски обилен и разнообразен — здесь были и дымящиеся шашлыки, и ароматные кебабы, и знаменитый барашек по-имеретински, и сациви в ореховой подливке, и душистая зелень… но когда от созерцания всего этого великолепия гости перешли к трапезе, за столом вместо обычной в Грузии оживленной беседы воцарилось натянутое молчание.
Есть все, что украшало стол, было невозможно.
Шашлыки были жесткими, как подошва. И отдавали не ароматом благородного вина, в котором хороший повар вымачивает баранину, а какой-то тухлятиной.
Куры из сациви помнили, по-видимому, восстание Шамиля, и разгрызть кусок такой долгожительницы без риска потерять несколько зубов было невозможно, тем более что в ореховой подливке попадались камешки, а по вкусу она напоминала не то татарское средство для чистки медной посуды, не то сапожную ваксу, не то персидский порошок от насекомых. Хуже всего обстояло дело со знаменитым барашком. Он был не только почти сырым, но даже плохо освежеванным — кое-кому из гостей попадались куски с шерстью, а одному из сотрудников миссии показалось даже, что несчастное животное подает признаки жизни…
Разумеется, знаменитые грузинские вина были выше всяческих похвал, но с закусками вышло явное фиаско.
Третий советник подумал, что ему не зря вспомнился остров Борнео и дикая обезьяна Оранг-Утан, и распорядился, чтобы во избежание дипломатического скандала принесли восточные сладости.
Тем временем у ворот миссии разворачивалось следующее действие драмы.
По подъездной аллее, украшенной темными свечами кипарисов, к воротам медленно приближалась странная процессия: на нескольких ослах ехали закутанные в грубые холщовые покрывала нищенки, еще несколько человек — видимо, слепые — брели следом, держась друг за друга… Бравые Томми возле ворот не повели и бровью, сохраняя традиционное британское хладнокровие. И что, собственно, за невидаль — в этой дикой восточной стране всякого навидаешься, а уж нищих-то здесь пруд пруди…
Поравнявшись с воротами, процессия остановилась. Один из убогих — глава этого увечного сообщества — подошел к часовым и, протянув, как и полагается нищему, руку, произнес что-то жалостливое на неизвестном солдатам короля языке.
Впрочем, солдаты его величества не знали ни одного языка, кроме английского, и считали, что все эти дикари должны научиться говорить по-человечески, то есть по-английски. Ближайший к нахальному нищему часовой выучил одну очень полезную русскую фразу, которую он и произнес немедленно:
— Пошел вон!
На это отвратительный попрошайка ответил злобным ругательством на своем варварском языке. В то же мгновение в руке у него оказалось, словно вылившаяся из рукава живая ртуть, короткое широкое лезвие. Нищий резко взмахнул рукой, которую только что протягивал за подаянием, и располосовал горло несчастного Томми от уха до уха. Англичанин широко открыл голубые глаза от изумления — он никак не ожидал от грязного дикаря такой наглости — и хотел сурово прикрикнуть на мерзавца… Но вместо крика из его рта вылетели только кровавые пузыри, а из широко разошедшейся раны хлынула на мундир алая кипящая кровь… Несчастный англичанин грянулся оземь в полный рост, окропив пыльную батумскую землю чистой британской кровью. Второй часовой схватился за винтовку — замечательный английский карабин «ли-энфилд», приставленный к ноге, но не успел закончить это движение, потому что еще один убогий с несвойственной для калеки ловкостью метнул тяжелый вороненый клинок, который вонзился чуть ниже правого уха англичанина, прервав в самом начале его военную карьеру.
Нищие преобразились: они побросали свои костыли и палки, сбросили холщовые рубища и лохмотья и превратились в крепких молодцеватых мужчин, смуглых и темноволосых, одетых в аккуратную полувоенную форму без знаков различия. Они быстро разобрали поклажу осликов, в которой оказались короткоствольные немецкие карабины «маузер».
В то время, когда за стенами миссии разворачивалась почти безмолвная, но кровавая драма, изнутри к воротам мягкой пружинистой походкой приблизился худощавый бледный человек в белом сюртуке и шляпе. Привратник, которого слегка разморило на жарком батумском солнце, привстал и протер глаза. Опять этот Морли, на этот раз один… Где он оставил свою пассию и почему выходит из миссии, когда там происходит такой важный прием? Эти вопросы, может быть, и мелькнули в голове привратника, но кто он такой, чтобы задавать вопросы? Он повернулся спиной к переводчику, чтобы открыть ему калитку, и в то же мгновение на его шее захлестнулся тонкий шелковый шнурок.
Привратник захрипел, забился в конвульсиях… он попытался вывернуться, освободиться от ужасной удавки, но она глубоко врезалась в горло. Последним усилием он развернулся лицом к своему убийце… Это страшное, хищное, напряженное лицо, этот человек — вовсе не переводчик Артур Морли!
С этой мыслью привратник расстался с жизнью.
Бледный мужчина в белом сюртуке вгляделся в его глаза и, убедившись, что привратник мертв, оттолкнул в сторону его тяжелое обмякшее тело и потянулся к запору калитки. Открывая щеколду, он нечаянно защемил руку. Слегка поморщившись от боли, он зашипел, как рассерженная змея, и произнес странное короткое слово:
— Шейс-с-с!
Калитка отворилась, и на территорию миссии один за другим пробежали несколько смуглых темноволосых мужчин в полувоенной форме без знаков различия, вооруженных короткоствольными немецкими карабинами.
Главное здание миссии и несколько служебных построек были живописно разбросаны среди роскошного субтропического сада. Перебегая от дерева к дереву, нападавшие начали постепенно приближаться к резиденции генерал-губернатора. Они двигались, стараясь не выходить на центральную аллею, поэтому на пути у них оказалось одноэтажное белое строение кухни. Один из нищих обошел кухню и, передергивая затвор, выглянул из-за угла. Там он увидел сидящего на корточках ребенка. Он собрался было ударить мальчишку прикладом, чтобы тот не известил англичан испуганным криком о нападении, но сорванец поднял на янычара лицо, и тот на долю секунды растерялся, увидев совершенно взрослую и крайне злобную физиономию толстого рыжего карлика. Черевичка выразительно прижал палец к губам, и тут же растерянный турок упал как подкошенный — на затылок ему обрушилась короткая дубовая дубинка. Плечистый одноглазый разбойник с лицом евангельского Вараввы тихо хихикнул и подмигнул Черевичке: на пару они убили таким манером не одного зазевавшегося олуха.
В ту же минуту на турок, кравшихся мимо здания кухни, было совершено абсолютно неожиданное нападение.
Окна кухни разом отворились, и на затаившихся воинов султана обрушились потоки кипящего супа, который, кстати, ни на что другое не годился, потому что был совершенно несъедобен. Котлы с этим супом заранее кипели на огромной плите, и теперь, по команде звероподобного Ибрагима, их содержимое выплеснули на крадущихся янычар.
Обваренные турки с истошными воплями шарахнулись от окон. Их командир, счастливо избежавший кипящей напасти, ругаясь последними турецкими словами, собирал свой изувеченный и деморализованный отряд. Страшные вопли ошпаренных сделали невозможным дальнейшее бесшумное продвижение, и турки попытались обстрелять неизвестных врагов, но за окнами кухни уже никого не было видно. Тогда главный янычар распорядился взять кухню штурмом — продвигаться дальше к резиденции генерал-губернатора, оставив противника в тылу, было слишком опасно.
Турки распахнули дверь кухни и стремительно ворвались внутрь.
К своему удивлению, в огромном помещении кухни они никого не увидели.
На больших дровяных плитах кипели котлы, на сковородах скворчало мясо, что-то варилось и тушилось, но людей не было.
Турки медленно и осторожно прошли внутрь, держа наготове карабины. Жара была неимоверная, пот заливал глаза. В жарком безлюдном помещении чувствовалась таящаяся угроза, подстерегающая опасность… Бойцы разошлись в стороны, чтобы обследовать все здание, — ведь тут только что были люди, все говорило об этом — не могли же они исчезнуть без следа?
В помещении царила тишина, нарушаемая только бульканьем воды в котлах и скворчанием жира на сковородках.
И вдруг эта напряженная тишина разрядилась страшно и неожиданно. Сверху, с потолка, на турок посыпались страшные существа — не то люди, не то обезьяны, не то сказочные демоны, — заросшие, небритые, со злобными разбойничьими физиономиями… Они подкарауливали турок, уцепившись за темные закопченные потолочные балки, и теперь обрушились на них, как горная лавина. Турки сопротивлялись отчаянно, они стреляли в упор из карабинов, отбивались прикладами и штыками. Разбойники действовали привычным оружием — огромными кривыми ножами, короткими тяжелыми дубинками, свинцовыми кастетами, обрезками труб… В тесном помещении такое оружие было удобнее, чем карабины, кроме того, на стороне разбойников была внезапность — турки были растеряны, обварены кипятком, деморализованы внезапным нападением, рассредоточены…
В самой гуще битвы возвышалась огромная туша Ибрагима. Он швырял в турок тяжелую кухонную утварь, орудовал большой чугунной сковородой, как боевой секирой, и после каждого удачного удара разражался громоподобным хохотом, приговаривая:
— Ну, на кухне-то меня никто не одолеет! Нет, мне очень нравится работать поваром!
Борис Ордынцев тоже был здесь. Он стрелял в турок из своего «нагана», хотя в дыму и чаду кухни редко удавалось сделать прицельный выстрел и велик был риск попасть в своих. Однако главной его целью было найти среди сумасшествия и неразберихи рукопашного боя господина Вэнса. Он никогда не видел этого человека, как не видел и покойного англичанина Морли. Оставалось надеяться только на интуицию. Однако когда он заметил, как худощавый гибкий человек в белом сюртуке, перепачканном кровью, выскользнул в дверь и побежал в сторону главного здания Британской миссии, Борис понял, что это и есть интересующий его господин Вэнс. Борис вырвался из кровавой духоты кухни, где среди дыма и чада невозможно было понять, кто же выиграл эту битву, и бросился вслед удаляющейся фигуре в белом.
Вэнс бежал к главному корпусу миссии, почти не скрываясь. Его душила злоба. Блестящая, тонко продуманная операция срывалась на глазах. Кто же привел сюда этих бандитов? Вэнс узнал их, эти уголовники обитались обычно в кофейне Сандаракиса, известного в городе воровского притона. Что таким личностям делать в Британской миссии? Они никогда не лезли в политику, значит, кто-то просто их нанял за деньги, но кто? И даже если они узнали, что это он причастен к убийству Исмаил-бея, их кумира, то ни за что не пошли бы сами мстить, не такой это народ. А вот если им предложили за это деньги… Пораженный внезапной мыслью, Вэнс даже замедлил шаг. Девчонка! Вот для чего ей срочно понадобились десять тысяч турецких лир! Определенно это она или люди, связанные с ней.
Ну ладно, опомнился Вэнс, это вопрос второй, сейчас важно одно: убить закавказских представителей, сорвать их выступление на Парижской мирной конференции, сделать все для того, чтобы англичане ушли отсюда, освободив место для турецкой армии.
Вэнс не был турком, он не был даже мусульманином. Он сам не мог бы сказать, какой он национальности, а о религии при его профессии и его характере лучше было не думать. Он с трудом даже мог бы сказать, какой у него родной язык, — он знал их с десяток и мог думать на некоторых из них. Он служил разным правительствам, разным хозяевам, но с какого-то времени он служил немцам и туркам. Он поставил свою жизнь на эту карту — и, похоже, ставка оказалась неудачной. Войну его хозяева проиграли. Теперь оставалась надежда выиграть эндшпиль — послевоенный раздел мира. И он, Вэнс, делал все, чтобы выиграть для своих хозяев этот маленький, но прекрасный и стратегически важный кусок земли — Аджарию, Батум с прилегающей областью и самым важным и дорогим, что здесь было, — нефтью. И вот теперь в чистую и большую игру влезли своими грязными волосатыми лапами эти жалкие бандиты — и все испортили!
Вэнс торопливо подошел к высоким французским окнам резиденции, за которыми был виден банкетный зал — огромный, празднично накрытый стол, мужчины в строгих черных костюмах, дамы в вечерних туалетах… Отсюда ему не было видно закавказских представителей, их закрывала публика на ближнем конце стола. Вэнс огляделся и увидел высокую стеклянную оранжерею. Оттуда, с крыши, банкетный зал был бы виден под нужным углом, там была отличная огневая позиция. Вэнс обошел оранжерею и увидел оставленную садовником лесенку, прислоненную к стене. Вэнс быстро вскарабкался по лесенке сколько можно, потом подтянулся и достаточно устойчиво устроился на верхней ступеньке. Потом он снял с плеча карабин и стал готовиться к стрельбе. Короткоствольный карабин не обладает высокой точностью боя, поэтому Вэнсу очень важно было тщательно подготовить позицию.
Борис Ордынцев крадучись вышел из-за угла оранжереи. Он всю дорогу шел по следам Вэнса, пытаясь разгадать его следующий ход.
Нападение группы турецких террористов сорвалось, и Вэнс, очевидно, от отчаяния пытается предпринять террористический ход в одиночку. Увидев Вэнса с карабином на крыше оранжереи, Борис все понял. Зная, что сам он — стрелок неважный, Борис решил и не пытаться подстрелить Вэнса снизу из «нагана»: он все равно только спугнул бы его, не причинив вреда. Подниматься вслед по лестнице — тоже не выход, потому что Вэнс успеет за это время выполнить свою задачу. Счет в данном случае идет уже на секунды.
И тут неподалеку Борис увидел тележку садовника с запряженным в нее небольшим аккуратным осликом. Несмотря на окружающую его грозную атмосферу, ослик стоял спокойно, ожидая хозяина. В тележке валялась смотанная веревка, определенно Борису везло! Он подскочил к тележке, закрепил веревку за ось, а другой конец петлей накинул на нижнюю ступеньку лесенки. Затем он изо всех сил хлестнул по-прежнему невозмутимого осла, моля, чтобы тот не заупрямился в самый нужный момент.
Осел не стал упрямиться, он рванулся с места рывком, потянув за собой тележку, лягнув напоследок Бориса в бок так сильно, что тот свалился как подкошенный в колючие кусты роз.
Поскольку лестница покачнулась, то Вэнс, громко ругаясь на четырех европейских языках, рухнул в оранжерею со страшным звоном и грохотом, пробив стеклянную крышу.
В банкетном зале публика поднялась с мест, привлеченная звоном стекла. Бежали к оранжерее английские солдаты. Потирая бок, Борис видел из кустов, что попытка террористического акта окончательно провалилась.
Однако солдаты в оранжерее ничего не нашли, кроме разбитых горшков.
Всеми вульгарными житейскими делами в Британской миссии занимался мистер Тьюздом. Никто, собственно, не знал, кем мистер Тьюздом является по должности, но если кому-нибудь из высокопоставленных сотрудников вдруг требовалась какая-нибудь мелочь вроде лошади, автомобиля или туземного слуги, ему следовало обратиться к мистеру Тьюздому. Соответственно мистер Тьюздом обладал в миссии большим весом, хотя и был невысок ростом, худощав и узкоплеч.
Когда кто-нибудь из низшего персонала пытался слишком много о себе возомнить, достаточно было мистеру Тьюздому приподнять левую бровь, чтобы поставить наглеца на место. Это движение левой брови весьма хорошо удавалось мистеру Тьюздому. Также если кто-то из персонала проявлял ничтожные поползновения к недостойному поведению, его легко было призвать к порядку, пообещав сообщить о нем (поползновении) мистеру Тьюздому. Честно говоря, в некоторых вопросах авторитет мистера Тьюздома был даже выше авторитета генерал-губернатора.
Когда мистер Тьюздом понял, что торжественный обед в честь закавказских делегатов явно не удался, он решил лично взглянуть в глаза виновным.
Не привлекая ничьего внимания — как говорится, по-английски, — он покинул банкетный зал и в самом решительном расположении духа направился в сторону кухни.
Не пройдя и полпути, он услышал, что на кухне что-то неладно. Оттуда доносились звуки, которые человек, переживший мировую войну и еще более напряженный послевоенный год, не мог перепутать ни с чем. На кухне стреляли.
Господин Тьюздом слегка приостановился, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги, но затем с самым решительным видом продолжил движение. Он решил лично навести порядок среди совершенно распустившегося низшего персонала и, если в этом возникнет необходимость, даже поднять свою левую бровь.
Однако, несмотря на решительность намерений, мистер Тьюздом шел несколько неторопливо — видимо, какая-то потусторонняя сила слегка сдерживала его шаги. В самом деле, нельзя же предположить, что мистер Тьюздом был испуган доносящимися из кухни выстрелами!
Как бы то ни было, но обстоятельства сложились таким образом, что к тому времени, когда мистер Тьюздом решительно распахнул двери кухни, там уже царила абсолютная тишина.
Мистер Тьюздом подумал было, что низший персонал своевременно осознал недопустимость своего развязного поведения и взял себя в руки, но тут же отказался от этой мысли.
На кухне творилось такое, чему в английском языке мистера Тьюздома просто невозможно было подобрать достойного описания. На полу валялось огромное количество совершенно посторонних людей, безусловно, не имеющих права находиться на территории миссии. Мало того: эти посторонние люди имели наглость быть мертвыми или тяжело раненными. Стены кухни, плиты и хозяйственный инвентарь были залиты кровью и омерзительным туземным супом. Значительная часть инвентаря была злостно повреждена.
Пройдя в следующее помещение, мистер Тьюздом обнаружил там картину еще большего разгрома. Правда, кроме мертвых и раненых людей, он застал там и несколько живых. Эти последние поспешно вылезали в окна. Поспешность их бегства мистер Тьюздом вполне понимал: учитывая состояние, в которое они привели имущество его величества, они вполне законно ожидали, что мистер Тьюздом будет разгневан.
Один из убегающих повернулся к мистеру Тьюздому лицом, и тот узнал шеф-повара Ибрагима, временно нанятого ввиду болезни Левона.
Мистер Тьюздом владел русским языком — иначе ему было бы трудно решать некоторые вопросы с низшим персоналом. Конечно, большинство вопросов удавалось решить просто суровым взглядом или значительным движением бровей, но бывали и такие случаи, когда настоятельно требовалось знание русского языка. Сегодняшний был из их числа.
Мистер Тьюздом употребил все самые сильные средства из своего арсенала. Он смерил Ибрагима необычайно холодным и удивительно суровым взглядом, чрезвычайно высоко поднял свою левую бровь и медленно произнес на своем безукоризненном русском языке:
— Ви уфолены, сюдарь!
На что ужасный человек имел наглость совершенно вульгарно расхохотаться и сказал по-русски такую фразу, которую мистер Тьюздом совершенно не понял, но тем не менее впервые в своей жизни покраснел.
После этого, с возмущением наблюдая, как ужасный вульгарный человек вылезает в окно, мистер Тьюздом дал себе слово никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каком самом безвыходном положении, не принимать на службу персонал, не имеющий надежных, тщательно проверенных рекомендаций.
Видимо, стрельбу на кухне услышал не только мистер Тьюздом, потому что по территории миссии уже бежали во всех направлениях английские солдаты.
Никого из подозрительной кухонной челяди задержать не удалось, но ворота миссии были снова взяты под контроль, около них выставили двойную охрану. Разумеется, была усилена и охрана гостей миссии — представителей Грузинской Республики на Парижской мирной конференции.
Лиза очнулась на кровати в комнате Морли. Ноги ее были туго связаны, так что веревки больно врезались в кожу, а руки привязаны к спинке кровати. Вэнс застал ее врасплох, оглушил, едва они вошли в комнату, и связал бесчувственную. Она, конечно, ожидала от него всякой подлости, но все случилось слишком быстро. Да и для защиты у нее был с собой только маленький нож, спрятанный под одеждой в широком поясе. Лиза пошевелилась, потом со стоном перевернулась на другой бок, что было очень трудно. Рот ее был свободен, Вэнс совершенно правильно рассчитал, что кричать Лиза не осмелится, — это значило бы подписать себе смертный приговор, потому что англичане после сегодняшних беспорядков в миссии будут безжалостны. Следовало срочно выбираться из неприятностей своими силами, потом найти там внизу Бориса и сообщить ему, что Вэнс выглядит сегодня как мистер Морли, иначе его не узнают.
Лиза с трудом повела бедрами. В бок уперлось что-то твердое. Так и есть: Вэнс в спешке не стал ее обыскивать, и нож остался на месте. Лиза подергала веревку осторожно, чтобы не затянуть еще больше. Аккуратными движениями ей удалось сдвинуть узел ближе к матрацу. Рукам стало не так больно. Немыслимо изогнувшись, она постаралась прижаться животом к связанным рукам, и после третьей попытки ей это удалось. Нож выпал из пояса, Лиза уперла его в подушку и стала перетирать веревки. Следовало запастись терпением, торопливостью тут не поможешь. Наконец веревка поддалась, с ногами дело пошло быстрее. Лиза вскочила с кровати. Она не связана, но и не свободна, потому что дверь была заперта и ключ Вэнс унес с собой. Лиза попробовала открыть замок с помощью шпильки, но замок не поддался.
Почему Вэнс ее не убил? Очевидно, она ему нужна. Стало быть, он обязательно вернется либо за тем, чтобы взять ее с собой, либо чтобы убить. И в это время она услышала шаги по коридору, и в замке повернулся ключ.
Лиза метнулась к двери, встала так, чтобы ее не было видно, когда Вэнс откроет дверь, схватила со столика тяжелую фаянсовую вазу и застыла. Дверь открылась, Лиза повернулась и наугад с силой опустила вазу туда, где, по ее предположениям, находилась голова ненавистного Вэнса. Но тот уже бросил мгновенный взгляд на постель, увидел, что она пуста, и успел отклониться в сторону, руководствуясь инстинктом.
Удар пришелся Вэнсу в плечо и не причинил ему особого вреда. Правой рукой он как клещами сжал Лизе горло, а левой аккуратно прикрыл дверь — в его планы не входило, чтобы англичане застали его здесь. Он хотел с помощью Лизы выйти из миссии, но, взглянув на нее, понял, что она ни за что ему не поможет, даже ценой собственной жизни.
Лиза, как пойманная рыбка, билась под его рукой, а глаза ее пылали темным огнем. И было в ее глазах что-то кроме ненависти — Вэнс определил это как злорадство. Он и так еле сдерживал ярость, а теперь дал ей волю. Подумать только, сорвалась такая важная операция, кроме того, он потерял много людей и денег. Теперь он сидит в этой чертовой миссии, как загнанный зверь, и из-за кого? Из-за девчонки, жалкой шлюхи! Это она расстроила все его планы, она привела бандитов из кофейни Сандаракиса.
— Зачем? Зачем ты это сделала? — добивался Вэнс, все сильнее сжимая Лизино горло.
Она вдруг перестала биться в его руках и обмякла. Вэнс сдержал последнее усилие — переломить ей позвонки он всегда успеет — и бросил девушку на кровать. Лиза медленно пришла в себя.
— Если поможешь мне выбраться отсюда, я тебя не трону, — процедил Вэнс.
Глаза ее были непроницаемы, но губы усмехнулись презрительно. Разумеется, она ему не верит — умна, стерва! И ни капельки его не боится, то есть не боится смерти. Ну да, она ведь ему это уже говорила. Он явно недооценил девчонку. Еще тогда, когда она вдруг согласилась на него работать, он заподозрил неладное, но пренебрег своими подозрениями. И вот, вся операция пошла прахом. До представителей ему не удалось добраться, и их вечером отвезут на корабль. Стало быть, до Парижской мирной конференции они доберутся живыми и здоровыми. Тут полный провал, и теперь ему нужно подумать о собственной безопасности. Только бы выскользнуть из миссии, а там, возможно, придется исчезнуть из Батума на некоторое время. Ничего, Турция близко, оказаться там не составит труда!
Лиза делала вид, что все еще находится в полубессознательном состоянии, а сама напряженно размышляла, глядя на Вэнса из-под опущенных ресниц. Раз он пришел, то там, в главном здании, все кончилось, хорошо ли, плохо ли, но кончилось. Борис не появился, а ведь она описала ему, как найти флигель, где жили сотрудники миссии, где находилась комната Морли. Очевидно, Борис погиб или ранен. Вэнс пришел, чтобы ее убить, но почему-то медлит. Хочет, чтобы она вывела его из миссии. Можно согласиться, а потом выдать его англичанам. Но хитрая бестия Вэнс сможет как-нибудь ускользнуть, тогда, даже если она останется в живых, он все равно ее найдет, достанет со дна морского. «Знать бы, что случилось с Борисом…» — с тоской подумала Лиза.
Вэнс в это время с усмешкой взял в руки маленький Лизин ножик и отбросил его в сторону. Он принял решение.
— Сейчас я переоденусь, ты тоже приведи себя в порядок, и мы пойдем потихоньку.
Он достал из ящика стола английский паспорт покойного Морли — это может пригодиться, не сейчас, так потом. Лиза смолчала о том, что сейчас господин Вэнс совсем уже не походил на мистера Морли — грим сошел, сюртук испачкан чужой кровью…
Краем глаза наблюдая за Лизой, Вэнс достал из шкафа точно такой же белый сюртук, только чистый. Он проверил револьвер и выругался сквозь зубы: там кончились все патроны. Из оружия оставался при нем неизменный шнурок и хороший немецкий нож фирмы «Золлинген». Ножом господин Вэнс владел неплохо, но предпочитал шелковый шнурок — крови нет, почище…
Лиза медлила, не зная, что предпринять.
— Ну, ты готова? — требовательно спросил Вэнс.
Они подошли к двери, и в это время Лиза услышала шаги бегущего по коридору человека.
— Борис! Бере… — Но Вэнс уже зажал ей рот.
Она оттолкнула его обеими руками с неизвестно откуда взявшейся силой, а сама пыталась вырваться из комнаты. Вэнс одним прыжком настиг ее и отшвырнул в сторону. В глазах у Лизы потемнело от удара, но, пока Вэнс напряженно прислушивался у двери, она сумела подняться, опираясь о стену. Шаги в коридоре стихли. С перекошенным от ярости лицом Вэнс повернулся к Лизе:
— Шлюха!
Ему хотелось ее избить, только так он дал бы выход накопившейся бессильной ярости. Господин Вэнс очень не любил, когда нарушали его планы.
— Говори, кто такой Борис? Это твой любовник? Зачем ты ему помогала? Я же с тебя живой сдеру кожу!
Выпрямившись и не опуская пылающих черных глаз, она смотрела на него, и губы застыли в презрительной усмешке. При виде ножа, тускло блеснувшего у него в руке, Лиза не шелохнулась.
— Как ты мне опротивел, мерзкое, гнусное насекомое, — пробормотала она и осела на пол после удара.
Он ударил Лизу ножом, потому что некогда было доставать и распутывать шелковый шнурок. К тому же от ярости у него сильно дрожали руки. После этого, не оглядываясь, он пошел к двери и осторожно выглянул в коридор. Там никого не было, но поблизости раздавались голоса. Господин Вэнс сделал несколько крадущихся шагов по коридору и скрылся из виду.
Борису пришлось довольно долго сидеть в колючих кустах, потому что выйти не было никакой возможности — кругом сновало множество солдат. Вэнса, разумеется, не нашли, и понемногу переполох утих. Тогда Борис ползком отодвинулся подальше и осторожно встал на ноги. Вряд ли при такой охране Вэнс решится повторить свою попытку.
Сейчас нужно найти Лизу и выбираться отсюда своими силами, потому что с бандитами из кофейни у него теперь нет ничего общего. За деньги, десять тысяч турецких лир, они полностью выполнили свои обязательства — перебили нападавших на миссию турок. Разумеется, есть и среди них раненые и убитые, но потери в таком деле неизбежны, господа бандиты относятся к этому философски.
Борис сориентировался на местности и побежал к флигелю, где жили сотрудники миссии. На улице к тому времени совсем стемнело, никто его не заметил. Флигель никто не охранял, да там и никого не было, потому что все побежали к главному зданию миссии, привлеченные переполохом. Длинный безлюдный коридор, третья комната от угла…
Он осторожно приоткрыл дверь и позвал:
— Лиза…
Ответом ему был слабый стон.
Она лежала на полу возле окна — маленькая скорчившаяся фигурка в турецком платье. Руки ее пытались что-то делать с поясом.
— Борис, — прошелестела она, — ты пришел…
— Что с тобой, что? — Он наклонился резко, видимо, причинив ей боль, потому что Лиза закусила губы, сдерживая стон.
— Помоги мне… Вытащи его…
Только тут он увидел, что выше широкого пояса, прямо под грудью, торчит рукоятка ножа.
— Вэнс?
Она прикрыла глаза, подтверждая. Горькое отчаяние охватило Бориса. Опять он пришел слишком поздно, не сумел защитить единственное в мире существо, которое его любило.
— Вытащи его, — шептала Лиза, — мне так мешает.
Он сдернул с постели все подушки и подложил Лизе под голову. Потом ухватился за нож и одним рывком вытащил его. Кровь хлынула из раны. Он присел возле девушки на колени, понимая, что сделать уже ничего нельзя, с такой раной Лиза проживет не больше пятнадцати минут — Вэнс бил наверняка.
— Не больно, — прошелестела Лиза и вздохнула.
— Девочка моя, Лиза… — Голос его дрогнул.
— Поцелуй меня, — попросила она одними губами.
Борис наклонился к ней и вдруг увидел в ее глазах ужас и опасность. Он схватил в руки валявшийся рядом нож, но обернуться не успел, потому что шею его захлестнул тонкий шелковый шнурок.
Вэнс, выйдя из флигеля, увидел, что на улице стемнело, и сообразил, что в темноте его белый колониальный сюртук будет слишком заметен, поэтому он решил вернуться в комнату Морли, пересидеть там до ночи, переодеться, а потом уходить незаметно ночью, когда все вокруг успокоится.
Не ожидая, пока шнурок затянется насмерть, Борис на долю секунды раньше забросил нож за плечо и полоснул наугад, стараясь попасть в руку, которая держала шнурок. Очевидно, ему это удалось, потому что сзади послышалось «Шейс-с-с!» — как будто шипела разъяренная змея.
Бог ли решил в этот раз позаботиться о жизни Бориса, либо же господину Вэнсу изменила его всегдашняя сноровка, но он на секунду выпустил из порезанной руки шелковый шнурок. Этой секунды Борису было достаточно, чтобы обернуться, вскочить на ноги и с размаху всадить широкий немецкий нож прямо Вэнсу в живот. Закаленная сталь вошла в человеческую плоть, мягко преодолевая упругое сопротивление.
Борис подержал в руках нож, потом отпустил его и оттолкнул от себя тело Вэнса. Тот упал на пол уже мертвым. Борис посмотрел на его лицо, на остатки грима, из-под которого выглядывали рыжие волоски, и отвернулся к Лизе. Она смотрела на Бориса открытыми глазами, в которых не было жизни. Она умерла.
Борис посидел немного возле девушки, потом прикрыл ей глаза, поцеловал в лоб и перекрестил. Он переложил ее на постель и закрыл покрывалом. Вряд ли англичане пригласят священника, но похоронят все же, не бросят так.
Затем Борис подошел к Вэнсу и посмотрел на свои руки. Вот этими руками он только что всадил нож в живого человека. Борис вспомнил это ощущение, когда нож мягко входил в тело. Он, Борис, стал убийцей…
И ничего, у него не случилось обморока, его даже не тошнит, как тогда в море, когда он пристрелил анархиста. Мало того, если бы понадобилось, он зарезал бы Вэнса еще раз, без колебаний.
М-да, очевидно, после смерти Лизы он стал другим человеком. Но сейчас некогда заниматься самокопанием. Плохо одно: Вэнс убит, а это была единственная связь с турками. И теперь Борис так и не узнает, кто же предатель, как имя турецкого агента, что служит в деникинской контрразведке. Хорошо было бы Вэнса допросить, но он не дал Борису времени.
Борис расстегнул сюртук на мертвом теле и вытащил из кармана бумажник. Так, английский паспорт на имя Морли, это он взял здесь, а вот и бумаги самого Вэнса. Удостоверение итальянского коммерсанта, тут что-то по-грузински. Среди множества визитных карточек и разных бумажек Борис нашел почтовую открытку. Написана она была по-русски, и это привлекло его внимание. Борис поднес открытку ближе к свету. Характерным, необычным почерком, с сильным наклоном влево на открытке было написано:
«Графиня прибыла третьего, наутро скончалась от инфлюэнцы. Завещание утеряно.
Кузен».
Внимательно рассмотрев открытку, Ордынцев нашел на ней почтовый штемпель Феодосии с датой четвертого августа. Очень интересно, открытка из Феодосии, отправлена четвертого числа. Именно тогда Бориса и взяли в контрразведку по подозрению в убийстве Махарадзе. Не следует ли читать открытку так:
«Махарадзе прибыл третьего, наутро убит. Список турецких агентов, что был при нем, пропал. Кузен».
То есть не Кузен, а имя человека, который служит в деникинской контрразведке и работает на Вэнса, то есть на турок. Очевидно, между Феодосией и Батумом у турок есть постоянная связь, но данный случай был неординарный, и агент воспользовался почтой, понадеялся на шифр. И действительно, если бы Борис не нашел эту открытку именно у Вэнса и не знал всей подоплеки, никому бы и в голову не пришли никакие подозрения. Подумаешь, старуха графиня скончалась! Эка невидаль! Сейчас в Крыму умирает столько старых графинь — хоть каждый день «Пиковую даму» ставить!
Как бы там ни было, эта открытка — единственное, что есть у Бориса, что можно предъявить Горецкому в Феодосии. Да, после смерти Лизы и Вэнса ему больше нечего делать в Батуме. Он вспомнил своего случайного собеседника в кофейне, который клянчил на косушку, и поморщился. Как бы не кончить тем же! Нет уж, он поедет в Крым. И разберется с Горецким, поможет ему найти предателя и этим снимет с себя подозрение в убийстве Махарадзе. А там займется поисками Вари.
Он открыл шкаф и обнаружил там военную форму, надо полагать, она принадлежала мистеру Морли. Френч был узковат в плечах, и рукава коротки, но в темноте авось никто не заметит. Зато бриджи пришлись впору — в бедрах Борис был узок, а поскольку бриджам положена была длина по колено, то и не видно было, что коротки. Борис надел еще чистые гетры, а ботинки и так у него были английские, форменные. Это оказалось очень удачно. Потому что обувь мистера Морли не подошла бы ему никак — несчастный задушенный переводчик имел маленькие, почти женские, ноги.
Борис сунул в карман френча бумажник Вэнса, свой «наган», а нож прикрепил к поясу. Жалко было оставлять такое отличное оружие, оно может ему пригодиться. Усмехнувшись, прихватил он и шелковый шнурок — на память. Бросив последний взгляд на тело Лизы, накрытое покрывалом, он осторожно приоткрыл дверь.
В коридоре по-прежнему никого не было, но голоса звучали близко. Вот пробежали несколько солдат, гремя ботинками. Борис дождался, когда они скрылись за углом, поглубже надвинул на лоб фуражку, которая тоже была маловата, и устремился следом. Поскольку от всеобщего переполоха все в миссии передвигались только бегом, вид бегущего офицера никого не удивил. На улице было совсем темно, Борис быстро миновал освещенные участки и скрылся за деревьями парка.
Вот показался каменный забор, белеющий в темноте. Забор был высокий, метра два высотой. Борис перешел на шаг и осторожно продвигался вдоль забора. Никакой колючей проволоки он наверху не заметил — англичане понадеялись на высоту забора, да и вообще были достаточно легкомысленны. Наконец Борис нашел то, что искал, — рядом с забором росло дерево, судя по шуршанию жестких листьев — магнолия. Она давно отцвела, сбросила белые цветы размером с тарелку и теперь отдыхала, дожидаясь следующего лета. Если бы такое большое дерево росло снаружи, англичане приняли бы меры, но поскольку магнолия росла внутри, никого не беспокоила ее близость к ограде.
Борис без труда взобрался на дерево, перебрался с него на забор и огляделся. Был виден вход, при нем — куча солдат, подъехали мотоциклисты. Очевидно, все были заняты отъездом грузинских представителей. Сочтя момент удобным, Борис повис на руках и спрыгнул на мостовую. Никто его не окликнул, и он пошел в сторону порта, выбирая улицы потемнее.
Долго блуждал он по городу. Прошло возбуждение от боя, и теперь Борисом овладела огромная усталость. К тому же смерть Лизы была на его совести. Разумеется, она сама хотела ему помогать, да и неоднократно давала понять Борису, что жизнью своей не дорожит нисколько, но все же точил душу Бориса настойчивый червячок: «Не уберег, не уберег…»
Боясь встречи с английскими солдатами, Борис пробирался к порту окольными путями, и к тому времени как он дошел до кварталов лавок и складов у самого моря, они все уже были пусты и никого не было на улицах, чтобы спросить дорогу. В некоторых оконцах, прикрытых ставнями, мерцал слабый свет — в Батуме народу много, а жилья мало, так что многие лавочники и живут в своих лавках, но никак нельзя было ломиться в лавку в английской военной форме — никто не откроет, да и под подозрение попадешь.
Борис устал до изнеможения, ноги гудели от ходьбы. Кружа между лавками, он потерял уже ориентацию, слышал только, как внизу шумит море. Он не заметил, как свернул в сторону и оказался вовсе уж в необитаемом пространстве. Его окружали длинные дощатые сараи без окон. Вокруг не было ни души. Наконец он выбрал закуток между строением непонятного вида и сваленными в кучу досками, лег прямо на землю, подложив под голову чурбачок, прикрыл лицо фуражкой и провалился в глубокий и тяжелый сон.
Глава восьмая
Борису снился Петроград, февраль семнадцатого. Он сидел в коридоре университета на подоконнике и зубрил римское право. До экзамена оставалось больше двух дней, а эта допотопная дрянь совершенно не запоминалась.
За окном раздалось громкое тарахтение. Борис обрадовался передышке и выглянул в окно. По улице ехал странный грузовик, за ним — еще один, набитый вооруженными людьми. Люди были самые разные — рядом сидели солдаты и студенты, солидные господа и серьезные, добротно одетые путиловские рабочие…
По коридору пробежал знакомый студент, крикнул на бегу, что в городе беспорядки. Потом прозвучало куда более грозное слово «революция».
Борис отложил учебник с облегчением — надо полагать, экзамена теперь не будет… Этот мелкий повод заставил его обрадоваться революции.
Все высыпали на улицы. Вдалеке раздавались редкие выстрелы, проходили группами и поодиночке расхлябанные солдаты в расстегнутых шинелях, у многих штатских были красные банты на груди.
Рядом посыпались и зазвенели вдруг стекла. Люди рассыпались в стороны, один Борис замешкался, пока не дошло до него, что это ударила пулеметная очередь. Все смотрели на него с уважением, будто это от смелости он стоял, не шелохнувшись под огнем, а не от глупости и неопытности.
Борис шел по городу, удивленно оглядываясь по сторонам. В воздухе было странное радостное возбуждение — чувство, будто начались какие-то неожиданные каникулы. Об экзамене можно было забыть надолго.
Он шел и понемногу, сквозь радость и опьянение свободой, почувствовал во всех почти встречных людях злую разнузданность. Начали бить витрины, грабить магазины, избивать целой толпой кого-нибудь одного, беззащитного, беспомощного. На каждом шагу стояли ораторы и говорили, говорили пламенными лживыми голосами — говорили откровенную льстивую ложь, бесконечно спекулировали красивыми словами — «народ», «Россия», «свобода»…
Народа Борис не видел — на улицах были только разные темные личности, дезертиры, уголовники, пьяные хулиганы.
«И это та самая революция, о которой так долго мечтали, так много говорили? Неужели революция — это только возможность безнаказанно грабить и избивать тех, кто слабее тебя? И неужели каждый человек остается человеком только до тех пор, пока за ним присматривает государство, пока ему угрожает наказание, — а чуть угроза наказания отступает, как в человеке просыпается первозданная ненасытная дикость?»
Борис шел по улице, не разбирая дороги, подгоняемый горячечным возбуждением, и видел всюду одно и то же: напыщенные речи лживых ораторов, бесчинства пьяных толп, грабежи.
Возле большого, красивого недавно магазина он замедлил шаг. Зеркальные витрины были вдребезги разбиты, осколки сверкали под ногами как бриллианты. Из низкого окна, хрустя сапогами по этим бриллиантам, выбрался здоровенный небритый детина, согнувшийся под тяжестью награбленных вещей. Он нес какие-то кофты, платки, материи целыми штуками и радостно, плотоядно улыбался. Борису он подмигнул как своему и проговорил сиплым баском:
— Что смотришь? Иди бери тоже. Там много всего, тебе хватит. Что не идешь-то? — Он повысил голос, видя, что Борис окаменело стоит перед ним. — Ты что, спишь, что ли?
Разбудили его чей-то кашель и негромкие голоса. Не открывая глаз, Борис мгновенно вспомнил все, что произошло накануне, и, хоть шею, затекшую от неудобного положения (еще бы, деревянная чурка никак не может считаться мягкой подушкой), невыносимо ломило, сдержался и не стал шевелиться.
— И лежит, и лежит, — слышал он хриплый шепот. — Давно я за ним смотрю. Не то спит, не то пьяный сильно, не то по голове ему дали.
— Если бы по голове дали, то и раздели бы, — авторитетно возразил простуженный бас. — А так все обмундирование цело. А ботинки на ем хорошие, крепкие… Я бы взял ботинки-то.
Голоса послышались явственнее, видно, их обладатели понемногу придвигались ближе. Борис приоткрыл один глаз и взглянул из-под фуражки. Рядом с ним сидели двое портовых нищих — из тех, кого жизнь загнала на самое дно. Один прокашлялся и засипел:
— Погоди ты с ботинками-то. Карманы бы обшарить да тикать, пока не очухался. Иди, пошарь, а я посторожу.
— Ишь какой скорый нашелся! А вдруг он очувствуется да драться начнет? Англичане хороши драться-то, они все больше боксой… Третьего дня один солдат ихний троих итальяшек возле веселого дома отделал.
— Может… дать ему доской по голове для верности-то, — нерешительно предложил сиплый.
— И так хорошо. Вон лежит, не шевелится. Давай, ищи деньги.
Чужая рука неуверенно полезла в карман френча. Борис вдруг сел рывком, схватив чужую руку и встряхнув как следует ее обладателя.
— Пусти! — заныл тот и не пытаясь вырваться — силы у него были не те.
— Спокойно, ребята, ничего вам плохого не сделаю.
Услышав чистую русскую речь, нищие от удивления успокоились.
— Вот и мне повезло, на соотечественников нарвался, — усмехнулся Борис. — Значит, так сделаем. За то, что вы меня обокрасть хотели, я на вас не обижаюсь. А только денег у меня все равно нет. Ботинки мне самому нужны, а вот если проводите меня к лавке Костаропулуса, то френч отдам и фуражку.
— На что нам фуражка? — заныл было сиплый, но Борис достал из кармана шелковый шнурок покойного Вэнса и примотал рукав нищего к своей руке.
— Не хочешь фуражку — не бери, — покладисто согласился он, показав как будто случайно широкий немецкий нож.
Это решило дело — нищие безропотно поковыляли рядом. Идти до лавки Костаропулуса было далеко — ночью Борис все равно не нашел бы ее. Наконец дошли. Лавка по раннему времени была еще закрыта. Борис поверил на слово своим новым знакомцам, развязал шнурок и без слова снял с себя английский френч, вытащив предварительно все из карманов. Взамен сиплый протянул ему свою старую робу.
Борис не хотел появляться в лавке в английской военной форме — неизвестно, как отнесутся контрабандисты к английскому офицеру, вернее, известно как — плохо.
Нищие юркнули в переулок и растворились. Борис тихонько стукнул в окошко. Выглянул заспанный грек и сделал вид, что не понимает русскую речь. Однако он, несомненно, отреагировал на имя Спиридон, пролопотав что-то, и махнул рукой в сторону моря.
Борис спустился к берегу моря и сел, глядя на волны. Там, в пяти днях плавания, Феодосия. Ему нужно туда.
— Здравствуй, гаспадин хороший! — окликнул его знакомый голос.
— Спиридон! — Борис вскочил на ноги. — Ты когда отплываешь? Меня возьми с собой.
— С отплытием пока неясно, — нахмурился Спиридон. — Команды не хватает. Косту позавчера сильно порезали в кабаке, не сможет он скоро в море выйти. А без матроса никак, двоих на фелюгу мало.
— Возьми меня третьим, — неожиданно для самого себя предложил Борис.
— А сможешь? — серьезно спросил Спиридон.
Он окинул Бориса внимательным взглядом, прищурился насмешливо при виде рваной нищенской робы, потом заглянул в глаза и, очевидно, заметил в них что-то новое, потому что, не дожидаясь ответа, сам сказал:
— Сможешь, — и пошел к лавке.
Борис двинулся за ним.
Плавание прошло спокойно. Сначала мальчишка, так похожий на греческого бога Пана, сердился на неумелость Бориса и покрикивал на него по-гречески. Но поскольку Борис по-гречески не понимал, а оттого и не обижался, то мальчишке быстро надоело ругаться. Все время дул ровный попутный ветер, и фелюга, распустив парус, летела как на крыльях. Борис с радостью отдавался физической работе, она помогала ему прийти в себя. Ночами он лежал, глядя на звезды. Здесь, наедине с морем, он обрел если не покой, то жизненный стержень. Соленый ветер выдул из души все метания и страхи недоучившегося студента. Давно пора было перестать плыть в мутных волнах революционного хаоса и обрести цель. Поиски сестры до сих пор были его целью. Но что он сделает, когда найдет Варю? Куда он приведет ее, на что будет кормить и одевать? Как защитит ее от всех — белых, красных, зеленых? Возвращаться в Петроград, в их старую квартиру? Пустят ли туда, небось заняли уже большевички… Да не в этом же дело! Жить под властью большевиков, ждать все время, что придут или заберут прямо на улице… Не понравится этим харям — пьяным матросам, бородатым дезертирам, — что одет чисто, что бреется каждый день, что носовым платком мама с детства пользоваться научила… Нет, туда он ни за что не вернется. Ладно, об этом у него еще будет время подумать. Ясно одно: теперь со всеми он будет разговаривать только с позиции силы. Никто не посмеет бить и издеваться над ним, Борис Ордынцев этого не допустит.
Так прошло четыре дня. В свободное время мальчишка-грек учил Бориса метать нож. Он закрепил на наружной стене крошечной каютки старый бурдюк и метал нож по-разному, но результат был всегда один — нож аккуратно протыкал остатки бурдюка и вонзался в дерево. У Бориса долго не получалось, но он тренировался упорно и наконец дождался от мальчишки одобрения. Спиридон, глядя на их занятия, только посмеивался.
В наступающих сумерках греки высадили его на том же месте феодосийского берега, откуда три недели назад бежал он в смятении, избитый штабс-капитаном Карновичем и гонимый всеми. Борис карабкался вверх по круче, торопясь преодолеть опасное место до наступления полной темноты. Он сам удивился, что нашел верную дорогу в Карантинную слободку, хотя и шел этим путем всего один раз в сопровождении татарчонка Ахметки.
Вот показалась водокачка, смутно различимая на фоне темнеющего неба, а вот и нужный дом.
Борис зашел с подветренной стороны, чтобы собака раньше времени не подняла шум. Ему повезло, вдруг он услышал, как отворилась дверь в доме и голос Саенко пробормотал что-то.
Кобель тявкнул неодобрительно, учуяв Бориса, но Саенко не обратил на это внимания. Он отворил дверь калитки и, крикнув в дом: «Марфа, запри за мной!» — зашагал деловито по улице.
«Ох, эти женщины, — думал Борис, проскальзывая в открытую калитку, — так ведь кого угодно впустят, а потом будут ахать и охать, ограбили, мол…»
Хозяйка показалась на крыльце, привлеченная злобным лаем собаки.
— Кто там?
— Я это, Марфа Ипатьевна. — Борис возник перед ней неожиданно, так что она вздрогнула. — Не забыли еще меня?
— Помню, — медленно ответила женщина. — Как рана твоя, зажила?
— Вам спасибо, здоров. Что же в дом не приглашаете, или боитесь меня? — настойчиво спрашивал Борис.
— Чего мне тебя бояться? — спокойно, но несколько настороженно ответила женщина.
— Верно, ничего я вам плохого не сделаю. Хочу вот только с квартирантом вашим побеседовать по душам. Есть у меня что ему рассказать, да и его послушать хочется.
— Заходите, — неохотно посторонилась хозяйка, — он скоро придет.
Борис шагнул за ней в кухню, сел на знакомую лавку, оглядываясь по сторонам.
— Где же ваш татарчонок?
— Сбежал, верно, — ответила женщина, — не сиделось ему на одном месте. Умыться не хотите ли?
Борис потрогал щеки, на которых скрипела пыль пополам с солью, и согласился. Он вышел в сени к рукомойнику и вдруг увидел в осколочке зеркальца, прислоненного к полочке, отражение Саенко с занесенным над головой здоровым поленом. В ту же секунду Борис уронил мыло и нагнулся за ним еще быстрее, чем мыло упало на пол. Саенко по инерции сделал шаг вперед, но там, куда он целил поленом, не было ни головы врага, ни вообще никаких частей его тела.
Борис изо всех сил дернул Саенко за ноги, и тот грохнулся на пол, сметая за собой рукомойник и еще какой-то скарб, стоящий в сенях.
Кряхтя и охая, почесывая разбитые места, Саенко поднялся на ноги, и в глаза ему глянули три дула. Одно дуло действительно было от «нагана», направленного прямо Саенко в грудь, а два других при ближайшем рассмотрении оказались глазами Бориса.
— На кухню, — сказал он, почти не разжимая губ, но Саенко его понял.
Марфа Ипатьевна отнеслась к происшедшему довольно спокойно, не визжала и не пыталась подсчитывать ущерб. Ничуть не обманываясь виновато-растерянным видом Саенко, Борис кивнул ему на лавку, а сам сел напротив.
— Экий ты, сразу драться, — обиженно сопя, завел разговор хитрый Саенко.
— А ты ко мне по-хорошему, с поленом, — прищурился Борис.
— И что будем делать? — спросил Саенко. — Я, между прочим, по делу шел — его высокородие встречать. В темноте-то мало ли что может случиться, а коляска до слободки не довезет…
— Вот и шел бы по своему делу, — подала голос Марфа Ипатьевна, — чего ж вернулся?
— Неспокойно мне что-то показалось, — признался Саенко. — Но ты не думай, что я так сидеть буду, когда господин подполковник сюда придет. Я его в обиду не дам.
— Не «ты», а «ваше благородие, господин Ордынцев»! — жестко сказал Борис. — А с подполковником мы сами разберемся, без твоей, брат, помощи.
— Да, ну и как же вы, ваше благородие, в Батуме побыли? — Саенко решил сменить тактику. — Что-то недолго погостили.
— А я в Батум не в гости ездил, — буркнул Борис.
— Да, очень Аркадий Петрович за вас переживали…
И поскольку Борис эту тему не поддержал, Саенко продолжал преувеличенно весело:
— Да и что там, в Батуме-то, хорошего? Одни, прости Господи, нехристи… Турки там или еще кто. Здесь, в Крыму, все-таки к России ближе. Конечно, татаре тут, но это не то что турки. Хорошо у татар здешних хозяйство, — бойко сыпал скороговоркой Саенко, поглядывая на Бориса. — Сразу дом, небольшой, ладненький, с галереечкой такой. Горница в доме невысокая, в стене печь не печь — навроде шкаф такой, — это баня ихняя домашняя. По стенам лавки, коврами пестрыми все крытые и с подушками мягкими. На потолке по веревочкам вышивки развешаны. Посуда вся медная, как золото горит. Хорошо так в доме кофеем пахнет. Жена ходит на тихих туфлях, вся в кисею замотана, только глаза черные видать, и думается — что красавица она. — Тут Саенко покосился на хозяйку, но та и бровью не повела. — А за домом сразу ручеек журчит, для тени виноградный куст разведен по решеточкам, и кисти тяжелые синие висят, сами в рот просятся. И над всем домом, над всем садом орех стоит — до того велик, до того зелен и развесист, прямо как дуб столетний в России. А выгляни за низенький такой заборчик — и весь тебе белый свет налицо, и море синее без края…
Не случайно хитрый хохол забалтывал Бориса, прислушиваясь к тому, что происходило на улице. Вот едва слышно скрипнула калитка, Саенко вскочил…
— Сидеть! — рявкнул Борис, как выстрелил, и Саенко опустился на лавку, обалдело хлопая глазами.
Калитку оставили незапертой, и Горецкий возник на пороге кухни, удивленно сверкая пенсне.
— Борис Андреевич, голубчик! — неподдельно обрадовался он, окидывая взглядом всю живописную компанию. При виде револьвера, кстати, его собственного, он поднял брови.
— Пройдемте, Аркадий Петрович, в комнату, поговорим. Только учти, Саенко, если опять, как в прошлый раз, вдруг из контрразведки кстати подоспеют, то мне в Батум бежать больше не надо. И в контрразведку я ни за что не попаду. Так что «наган» у меня заряжен, устрою тут пальбу, как бы вас ненароком не подстрелить. — Борис перевел «наган» на Горецкого.
— Так-таки и выстрелите, Борис Андреевич? — Горецкий уселся в комнате на стул и с любопытством приглядывался к Борису.
— Не скажу, что мне это будет приятно, — честно ответил Борис, — но рука у меня не дрогнет. Жизнь, знаете ли, научила.
— М-да, быстро же вы переменились, — пробормотал Горецкий.
— Дело давно к тому шло. Надоело, как заяц, от каждого шума в кусты прятаться. И не понравилось мне, что вы из меня подопытную мышь сделали. Знаете, как ученые — засунут мышь в лабиринт, а сами смотрят, куда животное побежит, из этого потом научные теории разрабатывают. Так и подполковник Горецкий вспомнил годы преподавания в университете и решил посмотреть, куда же его бывший студент господин Ордынцев из Батума побежит. И не врет ли оный Ордынцев насчет того, что совесть его чиста, и что к убийству агента он не имеет никакого отношения, и что ни одного знакомого турка у него нет.
— Верно, — улыбнулся Горецкий, — а вы что же думали, что я вам на слово поверю? И не забыли ли вы, Борис Андреевич, что из контрразведки-то я вас все же вытащил? И кстати, в Батуме должны были вас встретить, конечно, если бы вы и вправду оказались не связанным с турками. Только греки все карты мне спутали — высадили вас в другом месте.
— Ну-ну — усмехнулся Борис, — тактика не новая. Контрразведка деникинская всегда так делает. И не пришло вам в голову, что до Батума мы с греками могли просто не доплыть — всякое в пути случается.
— Верно, — согласился Горецкий. — Вот что, Борис Андреевич, давайте-ка мы с вами предположим, что оба мы порядочные люди, что я, устроив ваш побег из контрразведки, действительно хотел этим дать вам шанс. Я же со своей стороны готов поверить, что вы не турецкий шпион, если вы представите мне в этом доказательство.
— А с чего вы взяли, что у меня есть доказательство?
— А иначе зачем бы вы вернулись? Ну, рассказывайте, я вас внимательно слушаю. И спрячьте же наконец револьвер, а то Саенко на кухне волнуется.
— Распустили вы Саенко, — буркнул Борис, но револьвер убрал, потому что Горецкий нисколько его не боялся.
Открылась дверь, и Марфа Ипатьевна внесла на подносе графинчик водки и немудреную закуску. Бесшумно накрыв на стол, она удалилась, обменявшись в дверях взглядом с Борисом. Глаза ее блестели по-молодому; увидев топтавшегося в дверях Саенко, она низко наклонилась, чтобы скрыть улыбку.
Мужчины выпили, после чего Борис откашлялся и рассказал Аркадию Петровичу про то, как он нашел под кроватью в гостинице «Париж» карточку с адресом кофейни Сандаракиса, как встретился в кофейне с Исмаил-беем и как того убили прямо, можно сказать, у Бориса на глазах.
— Исмаил-бей работал на англичан, перед смертью он успел мне только сказать, что это он послал Махарадзе со списком в Феодосию и что тридцатого июля Махарадзе сел на пароход «Пестель», который курсирует между Феодосией и Батумом.
— Ну и дальше? — Горецкий внимательно смотрел на Бориса через пенсне.
— Дальше Исмаил-бея убили, а я волею случая спасся из того подвала, где пытались подставить меня, как и здесь, в Феодосии.
— Убийцу Исмаил-бея не нашли? — живо спросил Горецкий.
— Нашли, — медленно ответил Борис. — Вам придется поверить мне на слово, потому что подробности я рассказывать не буду. Убийца выдал себя неосторожным словом. Его нашли и наказали.
— И кто же это сделал? — прищурился Горецкий.
— Это сделал я, — ответил Борис. — Я зарезал его вот этим ножом.
— Отличная сталь! — присовокупил Аркадий Петрович. — Но позвольте поинтересоваться, кто же убил Исмаил-бея?
— Некий господин Вэнс.
— Как вы сказали? — встрепенулся Горецкий. — Вэнс убит?
— Вне всякого сомнения, — невозмутимо ответил Борис.
— Вэнс в Батуме личность известная, — бормотал Горецкий.
— И у него в бумажнике я нашел вот это письмо, — продолжал Борис, держа открытку в руках, но не давая ее Горецкому. — А теперь, Аркадий Петрович, давайте заключим соглашение. Я отдаю вам вот это открытое письмо, на котором вы сможете опознать почерк предателя, служащего в контрразведке, а вы мне — мой паспорт. И еще вы сообщаете мне сведения о местонахождении моей сестры Варвары Ордынцевой. После этого мы с вами сердечно прощаемся, и каждый начинает заниматься своим делом: вы — выводить на чистую воду предателя, а я — искать сестру.
— Видите ли, в чем дело, голубчик, — Горецкий не отрывал взгляда от письма, — о местонахождении вашей сестрицы мне ничего не удалось выяснить. Как в воду канула девица. И семейства этого, Романовских, что якобы ее взяли на попечение, нет в Крыму, и куда делись — неизвестно. Послал я запрос в Одессу — возможно, туда их занесло. Так что у меня к вам предложение. — Горецкий оторвал глаза от письма и поднял их на Бориса. — Давайте с вами сотрудничать временно, пока ответ из Одессы не пришел.
«И пока ты не проверишь все то, что я тебе тут рассказал, — подумал Борис, — и про Вэнса, и про Исмаил-бея…»
Он молча протянул Горецкому почтовую открытку, тот впился в нее глазами.
— Очень, очень интересно, — бормотал он. — Несомненно, шифр, причем весьма легкий. Стало быть, сношение это у них было экстренным, в противном случае предусмотрели бы более сложный шифр. Такое впечатление, что человек Вэнса сам в растерянности от убийства Махарадзе. Очень мне это не нравится… Значит, Борис Андреевич, сегодня отдыхайте, а завтра с утра — пожалуйте со мной в контрразведку, будем искать предателя.
Наутро в кабинете Горецкий внимательно еще раз рассмотрел открытку, поднес ее к лампе.
— Да, — сказал он уверенно, — этот почерк мне знаком.
Затем он отпер своими ключами сейф, достал оттуда журнал, в котором отмечались дежурные офицеры контрразведки, и несколько минут сравнивал открытку с записями в журнале. Потом он поднял утомленные глаза, решительно захлопнул журнал и встал.
— Борис Андреевич, прошу вас, пройдите на какое-то время в соседнюю комнату — я не хочу, чтобы вас заметили раньше времени.
Борис неохотно поднялся и зашел в тесную комнатку, которая по своим размерам напоминала скорее шкаф. Там с трудом помещался колченогий стул. Борис присел и стал ждать. Ему был слышен каждый звук из кабинета Горецкого.
Аркадий Петрович распахнул дверь в коридор и приказал вестовому вызвать дежурного офицера. Через несколько минут в кабинете раздались шаги, и Борис услышал ненавистный голос штабс-капитана Карновича.
— Людвиг Карлович, голубчик, — сугубо по-штатски обратился к вошедшему Горецкий, — не в службу, а в дружбу найдите поручика Ковалева и приведите его ко мне.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — Уставной ответ Карновича прозвучал резким контрастом просьбе подполковника.
Борис сидел в томительном ожидании, привалившись к стене. Ему непонятно было, зачем Горецкий заставил его подслушивать, но, судя по всему, Аркадий Петрович хотел именно этого, была у него своя игра.
Минут через десять в кабинете снова послышались шаги, раздался незнакомый голос:
— Вызывали, господин подполковник?
— Да, господин поручик, — ответил Горецкий сухо, — не изволите ли взглянуть на эту запись. Не ваша ли это рука?
Борис услышал шуршание страниц и затем удивленный голос:
— Нет, ваше высокоблагородие, не моя!
— Людвиг Карлович, голубчик, взгляните, как, на ваш взгляд, не его?
Видимо, Карнович подошел к столу и нагнулся над журналом.
— Затрудняюсь… это ведь, господин подполковник…
— Да, голубчик, это ведь ваша рука. Объясните, милейший, каким образом тот же самый почерк видим мы на этом открытом письме?
Борис услышал в соседней комнате глухой звук удара, короткий хриплый крик, звук падающего тела и властный окрик Горецкого:
— Вестовой!
В ту же секунду Ордынцев распахнул дверь и ворвался в кабинет Горецкого. Там он увидел картину, достойную кисти баталиста.
Рослый мужчина в красно-черной форме корниловского полка, с погонами поручика, лежал на полу, издавая слабые стоны. Из его разбитой головы сочилась кровь. Возле стола боролись Горецкий и Карнович — штабс-капитан пытался вырвать у Горецкого револьвер. Борис в один прыжок оказался возле борющихся и с размаху ударил Карновича в челюсть. В этот удар он вложил воспоминания о своем первом допросе в Феодосийской контрразведке, и, должно быть, воспоминание оказалось достаточно ярким, потому что штабс-капитан отлетел на другой конец комнаты и, съехав спиной по стене, устроился на полу в явном нокауте, как называют такое положение спортивные англичане.
Дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался запыхавшийся вестовой.
— Двоих солдат сюда и фельдшера! — отрывисто приказал Горецкий.
Через несколько минут фельдшер хлопотал над поручиком Ковалевым, а солдаты поднимали очухавшегося Карновича.
— Ну что поручик? — сокрушенно спросил Горецкий.
— Ничего, мужчина он крепкий, рана заживет, вскоре будет как огурчик.
— За это я его и выбрал. — Горецкий снял пенсне и потер переносицу. — Неудобно перед человеком, пострадал ни за что. Видно, врасплох его Карнович застал, а я-то думал, что он сумеет удар отбить… Вижу, Борис Андреич, что хотите объяснений, — обратился он к Борису, хотя тот стоял молча, — сейчас все разъясню, вот только с этого иуды допрос снимем…
Карнович уже пришел в себя. Он стоял между солдатами и злобно косился на Бориса.
— Ничего я вам не скажу! — воскликнул он истерическим высоким голосом.
— Скажете, милейший, скажете, — в голосе Горецкого под наигранно дружелюбной интонацией звучал металл, — посидите сутки в камере без кокаина — все скажете.
Карнович грязно выругался.
— Вас ведь, Карнович, турки, верно, на кокаин и купили? Вы ведь русский человек с католическими шляхетскими добавками, никаких мусульманских корней не имеете, следовательно, возможны или деньги, или шантаж. Или наркотики… Увести его! — обратился он к солдатам. — Да как следует обыскать, чтобы никакого кокаина в камеру не пронес!
Солдаты с Карновичем двинулись к двери, но на пути у них стоял Борис.
— Моя бы воля, — сказал он Карновичу усмехаясь, — я бы тебе и воды в камере не давал, но господин подполковник гуманист, на такое не пойдет. А так бы быстрее дело вышло…
— Мало я тебя на допросе бил, — прошипел Карнович, — нужно было вообще изувечить.
— А ты, борода, — обратился Борис к одному из солдат, узнав в нем своего знакомого вредного Митрича, — головой ответишь, если арестованный сбежит или что в камере над собой сделает. Ремень у него отобрать, шнурки от ботинок и все такое прочее. Если что не так — своими руками тебя расстреляю…
— Слушаюсь, ваше благородие! — рявкнул Митрич, скосив глаза на Горецкого.
Тот молча кивнул, подтверждая слова Бориса.
— Однако, — проговорил он, когда солдаты увели Карновича, — обещания, голубчик, нужно выполнять. Если что не так, придется вам с этим солдатиком разбираться.
— Бросьте, подполковник, эти интеллигентские замашки, — разозлился Борис. — Вам нужно быстрее с этим делом покончить, а вы тянете, сутки ждать собираетесь.
— Не думаю, — невозмутимо ответил Горецкий, — что Карнович протянет сутки, он и нескольких часов без кокаина не проживет. Так что вечером мы сможем задать ему все интересующие нас вопросы.
Кабинет Горецкого опустел, Борис остался с глазу на глаз с Аркадием Петровичем. Он поглядывал на подполковника, который, в свою очередь, задумчиво разглядывал карту дислокации войск. Наконец, прервав затянувшееся молчание, Горецкий заговорил:
— Открытое письмо, которое вы привезли, — это, выражаясь юридическим языком, косвенная улика. Строго говоря, она ничего не доказывает. Да, почерк, безусловно, Карновича, но содержание письма совершенно безобидно — возможно, и правда какая-нибудь графиня прибыла третьего и скончалась от инфлюэнцы. В Крыму сейчас собрался такой человеческий муравейник, что уследить за всеми невозможно. Посему единственная возможность уличить Карновича — заставить его раскрыться, выдать себя самому. Впрочем, с ним это проще, чем с кем-нибудь другим. Он кокаинист, поэтому вполне собой не владеет, неуравновешен, легко срывается. На это и был мой расчет.
— А для чего вы пригласили поручика Ковалева?
— Это психология, дорогой мой, важнейшая наука для человека, имеющего дело с раскрытием преступлений… А мы ведь с вами юристы, значит, к раскрытию преступлений причастны.
— Сейчас, в такое время… — начал Борис недовольно, но Горецкий быстро прервал его:
— Преступления, голубчик, совершаются всегда, и в такие роковые моменты истории их становится только больше — люди, к сожалению, таковы, что, если за ними не присматривает строгий городовой с шашкой, они проявляют худшие стороны своей натуры… Поэтому сейчас тоже нужно бороться с преступлениями. Кроме того, сейчас происходят такие преступления, которые редки в мирной жизни. Например, предательство, шпионаж в обычные времена — явление возможное, но исключительное, а сейчас они происходят сплошь и рядом.
— Так вы начали о психологии, — напомнил Борис из вежливости, чтобы поддержать разговор, который, откровенно говоря, продолжать ему совсем не хотелось.
Ему хотелось поскорее допросить штабс-капитана Карновича, выяснить, как и зачем он убил Георгия Махарадзе и куда он дел проклятый список турецких агентов. Если Карнович успел список уничтожить, а скорее всего так и есть, то ему, Борису, наплевать. Он получит от Горецкого паспорт и какую-нибудь бумагу, чтобы не трогала его контрразведка в дальнейшем, а там уж — прощайте, господин подполковник!
— Да, голубчик, — ответил Горецкий, не замечая, а скорее всего делая вид, что не замечает недовольства Бориса, — я пригласил поручика Ковалева, чтобы отвлечь Карновича, притупить его внимание, дабы после неожиданность обвинения резче ударила его по нервам, заставила поддаться первой, импульсивной, реакции. Чуть всю операцию мне этот Ковалев не провалил — с виду сильный, крепкий мужчина, а едва не позволил Карновичу бежать, свою даже голову не уберег. Распустились тут от спокойной жизни, их бы на фронт, сразу бы реакция стала отличная… Хорошо хоть вы, Борис Андреич, вовремя подоспели и очень мне помогли…
«Нарочно льстит, — сообразил Борис, — он бы и сам с Карновичем справился, а если бы не справился, то все равно тому бежать некуда — кругом офицеры, до выхода бы не успел добраться. Привечает меня господин подполковник, зачем-то я ему нужен».
— Простите старика, голубчик, — продолжал Горецкий, — но мне хотелось взглянуть, как вы будете вести себя в острой ситуации. Дело в том, что в предыдущую нашу встречу у меня сложилось впечатление, что невзгоды вас несколько ошеломили и вы перед ними растерялись… В поведении вашем я усмотрел нерешительность, вы позволили событиям развиваться помимо вашей воли, вели себя подобно щепке в бурном потоке.
После поездки в Батум вы сильно изменились, точнее, думаю, просто раскрылись подлинные черты вашего характера. Вы человек молодой, умный, энергичный; вы юрист, что для меня значит очень многое: юридическое образование определенным образом тренирует и оттачивает ум, дисциплинирует его… Кроме того, вы человек чрезвычайно везучий. Через тысячи опасностей прошли вы, что называется, без единой царапины. Сегодня на рассвете я разговаривал о вас с нашим общим знакомым…
— Спиридоном? — догадался Борис.
— Совершенно верно. И Спиридон рассказал мне, какой опасности вам удалось избежать по пути в Батум… Знаете, контрабандисты — народ очень суеверный, так вот Спиридон тоже считает вас везучим. Поэтому он и взял вас охотно в свою команду на обратном пути…
Борису надоело вести пустой разговор.
— К чему вы клоните, Аркадий Петрович? Для чего все эти дифирамбы?
— Это не дифирамбы, голубчик, это объективная оценка. А клоню я к тому, что хочу предложить вам работу. Знаю, все знаю про сестру, — заторопился он, видя, что Борис сделал протестующий жест, — но, Борис Андреевич, будем реально смотреть на вещи: шансов найти ее у вас очень и очень мало. Ну, допустим, придет ответ из Одессы, что не удалось ее там отыскать, что, вы так и будете болтаться по всему Крыму? А если ее вообще нет в Крыму? А если… — Горецкий осекся.
— Вы хотите сказать, что ее вообще нет в живых? Вы что-то знаете?
— Ничего я не знаю наверняка, — отвернулся Горецкий, — а если бы знал, то сказал бы вам. Не в моих правилах морочить человеку голову призрачной надеждой.
— Я думал об этом, — глухо проговорил Борис. — Но прежде скажите, вы хотели предложить мне службу в контрразведке? Благодарю покорно!
— Ох, Борис Андреевич, опять-таки я знаю все, что вы мне можете сказать о контрразведке, и гораздо больше! Скажу, что никогда еще этот институт не получал такого широкого применения, как в период Гражданской войны. Контрразведку создают у себя не только высшие штабы, но каждая воинская часть. Да вы и сами видите: в каждом городе она есть. Прямо какая-то болезненная мания, созданная взаимным недоверием и подозрительностью. Командование знает, что там творится, да сделать-то мало может. Сплошные провокации, да вот и мы с вами — нашли предателя в контрразведке.
— Да уж, — вздохнул Борис, — воспоминания у меня от вашей контрразведки самые неприятные остались.
— И что вы предлагаете? — агрессивно спросил Горецкий. — Упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащитной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, большевистской агитацией и организованной работой разложения?
Борис пожал плечами.
— Молчите? — наступал на него Горецкий. — А ведь есть и другой путь — совершенно изменить материал, комплектующий контрразведку. Скажу вам, потому что секрета в этом уже нет, что генерал-квартирмейстер штаба ВСЮР, ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армий, настоятельно советовал Антону Ивановичу привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. Деникин на это не пошел, а решил для оздоровления больного института контрразведки влить в него новую струю в лице чинов судебного ведомства. То есть вы как раз очень подходите, голубчик.
— Нет уж, увольте, — буркнул Борис.
— Но успокойтесь. Неволить вас никто не станет. Начать с того, что сам я служу отнюдь не в контрразведке.
— А где же? — недоверчиво спросил Борис, выразительно оглядев кабинет Аркадия Петровича.
— Служба в контрразведке — это, как иногда говорят, мое официальное прикрытие. В действительности я служу в военном управлении Особого совещания… Впрочем, я не могу полностью обрисовать вам характер своей работы до тех пор, пока не получу вашего согласия сотрудничать со мной. Так как же, Борис Андреевич? В такое смутное тяжелое время молодой, здоровый, а главное — честный человек не может оставаться вне борьбы.
— Я думал об этом, — повторил Борис. — Если вы считаете, что надежды найти Варвару больше нет, то я, разумеется, не буду, как вы изволили выразиться, болтаться по Крыму. Я вступлю в Добровольческую армию и буду сражаться с красными, с Махно, с кем придется. Я считаю, что это честнее, чем мучить пленных в контрразведке.
— М-да, во-первых, в той работе, что я хочу вам предложить, вы сможете принести России большую пользу, чем с винтовкой в окопе. Во-вторых, эта работа позволит вам продолжить поиски Варвары Андреевны, руки у вас не будут связаны. А в-третьих, мы покуда отложим этот разговор, вы еще обдумаете мое предложение. Сейчас есть задача более насущная: нам нужно допросить Карновича…
Как бы в ответ на это в кабинет заглянул вестовой:
— Так что, ваше высокоблагородие, разрешите доложить: арестованный на допрос просится!
Горецкий взглянул на часы.
— Вот видите, Борис Андреевич, за разговором-то как время быстро прошло. Без малого два часа Карнович продержался. Однако подождем еще немного для верности, чтобы он окончательно дозрел, а там и допросим.
Борис не сразу увидел Карновича. Штабс-капитан забился в угол камеры, сжался в комок, пытаясь слиться со стеной. Этот рослый, на первый взгляд сильный мужчина за несколько часов будто усох, уменьшился в размерах. Поза его напоминала позу младенца в утробе матери, но в лице не было ничего детского — лицо его стало лицом измученного, изможденного старика. Он смотрел на вошедших одновременно с ужасом и мольбой.
— К-кто такие? — В голосе Карновича прорезались остатки прежней агрессии. — Не сметь ко мне входить! Это моя квартира. Я ее первый занял, идите в другие избы!
— Людвиг Карлович, — Горецкий придал своему голосу мягкую убедительность, — Людвиг Карлович, возьмите себя в руки! Это я, подполковник Горецкий. Мне нужны ваши показания.
— Ва-ваше высокоблагородие, — Карнович подпустил в голос слезу, — на вас… на вас вся надежда… будучи изранен в боях за Отечество… немножко бы хоть кокаину, а? Самую крошечку, иначе смерть моя приходит!
Горецкий скривился от омерзения, снял пенсне и жестко произнес:
— Немедленно возьмите себя в руки! Дайте показания о вашем предательстве, о работе на турок, об убийстве английского связного — получите свой кокаин, черт с вами!
Карнович на коленях подполз к Горецкому и, глядя ему в глаза снизу вверх с жалкой собачьей преданностью во взоре, забормотал:
— Все расскажу, все, все! Все, что прикажете… Завербован турецким шпионом Вэнсом в марте месяце…
Горецкий махнул рукой писарю Сидорчуку, тот пристроился на скамье, разложил листы протокола и начал поспешно писать мелким аккуратным почерком.
Карнович охотно и будто бы даже с радостью рассказывал о том, как передавал Вэнсу сведения о количестве и оснащенности добровольческих войск, о контактах командования с англичанами и французами. Он подробно описывал свои встречи с Вэнсом и его связным, который несколько раз приезжал к нему вместо Вэнса из Батума под видом турецкого торговца…
Горецкий внимательно слушал его, следил, чтобы писарь записывал слово в слово. Наконец Карнович закончил говорить и обмяк, будто из него вместе со словами вышел весь воздух.
— Все, ваше высокоблагородие… я вам все рассказал… Теперь бы мне кокаинчику, как изволили обещать.
Горецкого передернуло от этой жалкой угодливости, Борис же отстранил его и спросил жестко:
— Как — все? А про убийство Махарадзе — забыл? Рассказывай, сволочь, как связного убивал и куда дел список турецкой агентуры!
Карнович затравленно переводил глаза с Горецкого на Ордынцева и обратно. Жалобным и одновременно истеричным голосом он заскулил:
— Обещали… обещали мне крошечку… Сил нет больше терпеть. Вы этому подлецу, господин подполковник, зря доверяете — он сам наверняка шпион, он и убил связного этого… А я его не убивал, Христом-Богом клянусь…
— Хватит врать-то! — зло крикнул Борис. — Божьим именем прикрываешься, в аду за это гореть будешь!
— В аду? — Карнович истерично расхохотался. — Да что мне ад! Я сейчас в таком аду горю, что перед ним геенна огненная недорого стоит! Адом он меня пугать вздумал! Вот он мой ад — здесь, в этой камере!
Карнович действительно был страшен. Лицо его было невероятно бледно — казалось, так бледно может быть только лицо мертвеца, но никак не живого человека. Жилы на лбу его вздулись, пот катился градом, руки так тряслись, что он не смог бы выпить стакан воды. Глаза казались совершенно черными, так были расширены его зрачки.
— Вы сами, Карнович, — медленно и сурово заговорил Горецкий, — вы сами в день убийства сказали мне о том, что Махарадзе — английский связной, чем и объяснили участие в этом деле контрразведки. Так кто же еще мог его убить?
— Клянусь, ваше высокоблагородие, — еле слышно произнес Карнович бледными до синевы губами, — Вэнс не давал мне знать о приезде связного, я узнал об этом, только когда информация пришла в контрразведку. Если бы Вэнс знал об этом в Батуме, он бы просто не выпустил Махарадзе в Феодосию. Мне следовало обезвредить Махарадзе, но я не успел в ту ночь, меня солдаты сопровождали, Антонов и Федоренко, их спросите, ваше высокоблагородие…
Голос Карновича стал еще тише, его передернуло судорогой, потом он затрясся от крупной тяжелой дрожи. Горецкий поморщился и протянул ему пакетик белого порошка. Карнович схватился за кокаин как утопающий за соломинку. Он торопливо втянул в себя содержание бумажки, просыпал несколько крупинок и ткнулся на пол, чтобы втянуть их носом с грязного тюремного пола.
Горецкий плюнул от отвращения и вышел из комнаты, жестом позвав за собой Ордынцева и писаря.
— Вы ему верите? — обратился Борис к подполковнику, когда они вернулись в кабинет.
— Несомненно, он работал на турок. Но по всему выходит, что Махарадзе он не убивал.
— Но кому, кроме него, могло понадобиться убийство связного?
— Видите ли, в чем дело, голубчик, — Горецкий раскрыл журнал дежурств, лежавший у него на столе, — пока я сличал почерка офицеров контрразведки с почерком на открытом письме, я, естественно, просмотрел записи их дежурств. И вот — вы сами можете в этом сейчас убедиться. — Аркадий Петрович пододвинул раскрытый журнал к Ордынцеву и показал ему запись. — Штабс-капитан Карнович заступил на дежурство по контрразведке в полдень третьего августа и сдал дежурство ротмистру Енукидзе в полдень же четвертого. То, что он дежурил той ночью, вы и так прекрасно помните — именно он арестовал вас в гостинице. И позвольте вам сообщить, что дежурный офицер никогда не остается один, при нем всегда находятся солдаты караула…
— Значит, все напрасно! — Борис зло откинулся на спинку стула. — Значит, моя поездка в Батум ничего не дала!
— Вы не правы, друг мой, — Горецкий снял пенсне, и лицо его приобрело чеканную твердость, — ваша поездка принесла огромные результаты. В значительной степени благодаря вам сорваны планы турецкой агентуры, и представители Закавказья плывут сейчас на Парижскую мирную конференцию. Я связывался с батумской Британской миссией. Англичане несколько растеряны и не понимают, что, собственно, произошло у них под боком, но я совместил их сообщение с вашим рассказом и теперь достоверно представляю себе всю картину… Кроме того, вам удалось уничтожить одного из опаснейших агентов султана…
— Вэнс… — проговорил Борис и потрогал в кармане шелковый шнурок.
Аркадий Петрович кивнул и продолжил:
— Вряд ли какой-нибудь хорошо подготовленный профессиональный агент мог бы на вашем месте добиться таких значительных результатов. Но наша работа такова, что никакой, самый значительный успех не позволяет успокоиться и почить на лаврах. Мы все еще не знаем, кто убил Махарадзе и куда делся список турецких агентов. Разумеется, я проверю весь вечер третьего августа и всю ночь с третьего на четвертое, чтобы убедиться, не было ли у Карновича возможности совершить убийство. Но я уверен, что не было у него возможности, то есть Карнович не врет.
— Стало быть, он прибыл на «Пестеле»… — задумчиво сказал Борис.
— Было уклончивое сообщение англичан, что якобы прибывает агент, но кто и когда — мы не знали, поэтому и Карнович выследил Махарадзе не сразу.
— Значит, тридцатого июля он сел на «Пестеля» в Батуме, это мы знаем точно, — гнул свое Борис. — Тридцатое была среда, потому что «Пестель» отбывает из Батума регулярно по средам через две недели, расписание его неизменно. И прибывает он в Феодосию…
— Через три дня в субботу, — подхватил Горецкий, — затем отправляется в Ялту, потом в Севастополь, потом сразу же — обратно. То есть в Батум он прибывает обратно через две недели. И потом опять в среду — в Феодосию.
— Если тридцатое была среда, то в субботу было второе августа. То есть Махарадзе должен был прибыть второго августа.
— Он и прибыл, — продолжал Горецкий, — потому что деться с «Пестеля» ему было некуда, пароход остановок до Феодосии не делает. Прибыл и поселился в гостинице «Париж».
— Но позвольте, — Борис от возбуждения вскочил на ноги, — я же точно помню, что в гостиницу Махарадзе приехал третьего поздно вечером. Я сам видел, как он разговаривал с хозяином. И потом, я в той гостинице все время торчал, как сам из Ялты приехал. А там все постояльцы на виду, уж если бы жил там Махарадзе сутки, кто-нибудь бы его заметил.
— В регистрационной книге записано, что он прибыл второго августа, — жестко произнес Горецкий.
— Хозяин? — вопросительно сказал Борис. — Как его… Кастелаки…
— Труп найден прибитым к берегу через несколько дней после вашего отплытия в Батум.
— Что же вы его не допрашивали? — разозлился Борис.
— Допрашивал, но не я. И потом, он твердо стоял на том, что ничего не знает.
— Лакей? — вспомнил Борис. — Мерзкий такой типчик…
— Просвирин. Исчез, как только нашли труп хозяина гостиницы. Допрашивал и хозяина, и лакея Карнович.
— Значит, плохо допрашивал! — рассердился Борис.
— Да, очевидно, он был уверен, что это вы причастны к убийству, и не очень обращал внимание на то, что скажет хозяин гостиницы. А после того как нашли труп Кастелаки, лакея допросить не успели. Я, конечно, тоже дал маху, но был очень занят, ведь прибыл я в Феодосию со своей важной миссией, а дело со списком только тут возникло. Так вот, Борис Андреевич, послушайте мое предложение: возьмите-ка вы это дело на себя. Подите на пристань, расспросите капитана и обслугу «Пестеля», он как раз завтра прибывает. Поищите каких-нибудь следов Махарадзе, возможно, его кто-нибудь вспомнит. Выясните, куда он мог направиться после прибытия, что делал потом. Попробуйте восстановить весь его день. Что-то подсказывает мне, что если мы сумеем узнать, что делал Махарадзе в течение суток со второго по третье августа, то сможем и найти его убийцу. Ну так как, согласны? Обещаю, что после завершения этого дела не буду иметь к вам никаких претензий.
— Согласен, — пробормотал Борис. — Это в моих интересах.
Глава девятая
На следующее утро он был уже на пристани. «Пестель» ждали к двенадцати, обычно он не опаздывал. Борис потолкался среди портового люда, посмотрел на броненосец «Мальборо», что стоял на рейде далеко от берега. Вот прибыл с броненосца капитанский катер, и сошел с него не капитан, а кто-то в штатском, на первый взгляд незаметный, но уж слишком почтительно обращались с ним матросы и слишком свободно он держался — видно, что человек не простой. Тем временем подошла и шлюпка с броненосца. Из нее выгрузился, ругаясь по-английски, повар, такой же монументальный, как его броненосец, и отправился на рынок в сопровождении четырех матросов с пустыми корзинами.
В стороне стояли грузовые пароходы. Там раздавались шум, грохот лебедок, крики на разных языках. Грузчики в робах, испачканных такой белой пылью, что она казалась мукой, сновали по сходням с мешками на спинах. Увозили зерно на английских, французских, итальянских пароходах. Взамен помощи деньгами, оружием и обмундированием, а также медикаментами Антанта требовала из Закавказья нефть, а из Крыма — зерно.
Борис посмотрел на пароходы, на ближайшем стоял на палубе негр, черный как вакса, с десятками туго заплетенных косичек на голове и, скаля сахарные зубы, перешучивался с грузчиками.
Раздался хриплый гудок, это «Пестель» предупреждал о своем прибытии. Вышел ленивый матрос, разогнал мальчишек и собак. «Пестель» приближался не спеша, как старик, на которого давит груз прожитых лет и ему давно уже стало неинтересно все, что делается вокруг. Встречающих было немного, в основном зеваки, которые встречают все пароходы от нечего делать. Их можно было отличить от людей, действительно встречающих. Те волновались, вставали на цыпочки, вытягивали шеи и махали платками. Зеваки же держались спокойно, наблюдая с ленивым любопытством, как «Пестель», стуча старенькой машиной, подходил к берегу.
Борис пригляделся внимательнее к маленькой группе зевак. Если они приходят сюда каждый раз, то и тогда могли видеть и запомнить Махарадзе. Вот человек непонятного возраста и национальности в продранной на локтях рубахе. Глядит в море слезящимися глазами, руки трясутся. Не то больной, не то пьяный, с таким толкового разговора не получится. Две женщины простого вида, эти небось ничего не запоминают, глядят бездумно, старуха нищенка…
Хотя Аркадий Петрович и советовал Борису прежде всего идти к капитану и даже дал для этой цели соответствующую бумагу, но Борис рассудил, что у каждого нормального человека при виде бумаги из контрразведки возникает к подателю бумаги стойкое отвращение и что никто ничего ему не расскажет, отопрутся: не помним, мол, и не знаем. Поэтому Борис решил потолкаться на пристани среди простого народа: авось какая-нибудь умная мысль придет в голову.
Рассеянно обводя взглядом группу встречающих, Борис заметил в толпе мальчишку. То есть мальчишек-то было достаточно — этот народец вечно обитается в порту да на рынке. Но мальчишка, привлекший внимание Бориса, находился здесь явно по делу: он воровал. Вот он шмыгнул под боком у дородного господина в полотняном сюртуке, задний карман брюк у господина приятно оттопыривался пухлым бумажником. Борис загляделся на мальчишку, стараясь не упустить момент самой кражи, но тот вдруг отошел от господина, зыркнув бедовыми черными глазами в сторону Бориса. Борис еле успел отвернуться к морю, чтобы не встретиться глазами с воришкой.
Мальчишка почувствовал неладное и не стал красть. Он мог взять бумажник, но не стал этого делать, потому что почувствовал опасность. «Далеко пойдет!» — мысленно восхитился Борис.
«Пестель» пришвартовался к берегу, и по выложенным сходням прежде всего пронесли почту. На берегу у сходней встал матрос и еще один человек — он проверял паспорта, потому что все же пароход прибыл из другой страны. Потом по сходням сошел военный курьер, очевидно, в чемоданчике у него были важные депеши от англичан из Батума. Курьера ждали в стороне двое солдат. Потом потянулись пассажиры.
На «Пестеле» было семь кают, остальные пассажиры проводили все дни плавания на палубе, прикрываясь парусиной от ветра и дождя. Впрочем, летом дождей не было. Сошли два-три турецких коммерсанта, толстый грек с женой, замотанной в черное, огромный мужчина в косоворотке — по виду помещик. Так уж получалось, что в Батум из Феодосии ездило больше народу, чем из Батума в Крым.
После того как приличные пассажиры предъявили свои паспорта чиновнику и удалились в сторону маленькой площадки, где стояли извозчики и частные экипажи, хлынули обитатели палубы. Их было больше. Штатские потертого вида, одинокая дама с ребенком на руках, татарское семейство — муж, жена и трое одинаковых мальчишек, два дагестанца в бурках, несмотря на жару, даже несколько цыганок в ярких платьях — эти везде себя чувствовали как дома.
Борис готов был поклясться, что половина этих людей несколько недель назад уезжала в Батум с надеждой на лучшее, но их выслали обратно в Крым. Он подумал, что, судя по несвежей черкеске убитого Георгия Махарадзе, тот тоже прибыл из Батума в качестве палубного пассажира, а это значит, что ни капитан, ни кто-то из пароходной обслуги не мог сказать о нем ничего определенного. Махарадзе этого и добивался, ему нужно было выглядеть незаметным.
Борис снова присмотрелся к зевакам. К ним прибавилась еще одна колоритная личность. Высокий худой старик с прямой спиной опирался на суковатую палку. Одет старик был в чистый парусиновый китель, на голове — поношенная белая фуражка. Зоркими не по возрасту глазами старик смотрел на море, на фелюги контрабандистов, на шлюпки, шныряющие между кораблями, на разноцветные флаги. Потом он перевел взгляд на сходни, теперь уже пустые.
— Что ж, встретили, — пробормотал он и переглянулся с Борисом.
В тот же миг глаза его расширились, и он слегка похлопал себя свободной рукой по карману. Борис тоже ощутил какое-то движение в своем собственном кармане, отреагировал быстро и схватил не глядя чью-то маленькую шуструю руку.
— Ах ты, паршивец! — возмутился старик.
В карман к Борису залез тот самый шустрый воришка. Очевидно, он сделал это из мести за то, что Борис спугнул его и не дал утащить пухлый бумажник у господина в полотняном сюртуке. Мальчишка смотрел волком и молчал, потом вдруг быстро-быстро закрутился в руках Бориса и заверещал тонко. От неожиданности Борис выпустил его, и тот, отпрыгнув в сторону, мгновенно юркнул в какую-то щель и пропал с глаз.
— Зря вы его отпустили, — укоризненно проговорил старик.
— Да пусть бежит, — засмеялся Борис, — уж очень шустрый. Но благодаря вам ничего он у меня не украл.
Старик махнул рукой, отказываясь от благодарности, и отвернулся, глядя на пароход. Сошел капитан и направился с бумагами в контору порта. Проходя мимо соседа Бориса, капитан взял под козырек. Пассажиры побогаче к тому времени разобрали извозчиков, а те, кто попроще, потянулись в город пешком. Зеваки тоже рассосались. Старик двинулся к выходу, опираясь на палку.
— Не сочтите меня назойливым, — начал Борис, идя за ним, — но позвольте представиться: Ордынцев Борис Андреевич, из Петербурга. Здесь оказался случайно, жду вестей от сестры из Одессы, — добавил он чистую правду.
— Капитан Орест Николаевич Васнецов, — ответил старик и протянул Борису руку. — Бывший капитан, как вы могли догадаться, теперь на покое.
Борис с удовольствием пожал сухую, но все еще сильную руку старика. Бывший капитан ему нравился.
— Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что указали мне на воришку, — начал Борис. — Денег у меня в данный момент немного, все на счету.
— Знаю я этого Ваську, — махнул рукой бывший капитан, — все время здесь промышляет. Но вы все правильно сделали, что в участок его не свели. Там избили бы парнишку сильно, вот и все воспитание.
— Господин капитан, — нерешительно начал Борис, — не откажитесь посидеть со мной в заведении. Человек я здесь чужой, знакомых нет никаких, побеседуем о том о сем…
Борис правильно рассчитал, что старику тоже скучно, иначе не ходил бы так часто в порт встречать пароходы. Они вошли в трактир, тут же подскочил половой:
— Пожалуйте, Орест Николаич, милости просим!
Трактир был неказист, и бывший капитан извинился:
— Вы же сами говорили, что несколько стеснены в средствах, так что не обессудьте.
В большом зале было пыльно и накурено, а также стоял крик. Пузатый господин жаловался буфетчику, что его оскорбили юнкера в бильярдной, да не только оскорбили, а еще и ударили шаром в живот, якобы нарочно.
— Какие-то невежды играют, право слово, — громко жаловался пузатый.
Буфетчик, семеня, побежал в бильярдную, откуда послышался его грозный голос:
— Господа! Здесь не какое-нибудь, значит, заведение, чтобы бесчинствовать… Вот этот господин с жалобой, якобы его обидели…
Подвыпившие юнкера загалдели, оправдываясь.
— Да он сам все время играть мешал. И кто виноват, что он свой живот подставляет? Мы за бильярд платили и за вино, а будешь за него заступаться, так и тебе достанется!
Буфетчик мигом сменил тон и повернулся к пузатому:
— Так зачем же вы с жалобой, если сами виноваты? Меня только от буфета отнимаете! Это, почтеннейший, не годится так делать… Коли пришли в примерное заведение, значит, и соблюдать должны… Это неладно: сами живот свой подставляете, а сами жалуетесь. А лучше бы вы ушли, коли ничего вам не требуется!
Тут на глаза наглому буфетчику попался бывший капитан. Заметив его, буфетчик сразу съежился и поубавил наглого тону.
— Орест Николаич! Рады вас видеть!
— Ты что же это, мерзавец, делаешь? — тихо и как бы даже ласково начал Васнецов. — Ты за что приличного человека обидел? Мало ему от юнкеров досталось? Знаю я шалопаев этих: небось нарочно шаром в него попали!
— Они же юнкера-с, как с ними свяжешься, — боязливо шептал буфетчик. — Так для блезиру с ними во всем соглашаться должен. У нас такой порядок хозяином заведен. Военными дорожим-с. У них оружие, еще рассердятся и палить начнут, а в торговом заведении этого никак нельзя.
— Оружие, — ворчал капитан. — С оружием нужно на фронте воевать за Отечество, а они тут пьянствуют и к посетителям пристают. Прикажи нам пирожков подать, — обратился он к буфетчику.
— Пожалуйте, судари, в общую, вам сейчас и подадут… А к пирожкам водочки не прикажете?
— Давай, братец, по рюмочке, — вмешался Борис.
— Пожалуйте в общую: мы вам графинчик отпустим-с, а там уж сколько выпьете-с…
Когда уселись в относительно чистом месте под неизменно присутствующей в каждом трактире пальмой, Орест Николаевич вздохнул:
— Вот так время теперь провожу. Жену в прошлом году схоронил, так от скуки и хожу в трактир да «Пестеля» встречать.
— А почему именно «Пестелю» такая честь? — не удержался Борис.
— А потому, милостивый государь, что я всю жизнь на таком же вот пароходе прослужил. Раньше, до «Пестеля», «Димитрий» ходил из Крыма в Батум, вот там я и был капитаном. Не всем же океанские просторы бороздить, — добавил бывший капитан обидчиво.
— Что вы, что вы, — заторопился Борис, одновременно думая, как бы половчее расспросить старого капитана о пассажирах «Пестеля».
Несомненно, старик обладал наблюдательностью и хорошей памятью на лица, он мог быть полезен. Принесли водку и закуску.
— А скажите, Орест Николаевич, много пассажиров сейчас из Батума приезжает?
— Мало, — помрачнел старик, — кому сейчас ездить-то? Вот раньше многие постоянно ездили… ну да что об этом теперь… — Он выпил рюмку водки.
— Но есть которые и сейчас постоянно курсируют? Вы их небось и в лица всех знаете?
— Не только в лица, но и по именам, — гордо произнес бывший капитан. — Да я вообще полгорода по именам знаю, раз всю жизнь здесь прожил. Теперь, конечно, много разного люда понаехало, мотает народ война-то…
— А вот, примерно, в прошлый раз, две недели назад, вы «Пестеля» встречали?
— А как же! — воскликнул бывший капитан, оживившись при виде пирожков и графинчика водки. — Вы, Борис Андреевич, ешьте, не сомневайтесь: здесь в трактире буфетчик хоть и жулик, но пирожки подают приличные.
Выпили за встречу и за знакомство, после чего Борис вернулся к расспросам:
— А месяц назад, в позапрошлый раз, вы в порту были?
— За все время два раза пропустил по болезни, а так каждый раз бываю, такая у меня привычка, — смеясь, ответил капитан Васнецов.
— А скажите, Орест Николаич, — настойчиво спрашивал Борис, разливая водку, — не видели ли вы в тот раз такого пассажира: средних лет, среднего же роста, в черно-белой черкеске…
Борис осекся на полуслове, заметив, как изменилось лицо бывшего капитана.
— В сыскной изволите служить, милостивый государь? — спросил он, грозно нахмурив кустистые брови и брезгливо дергая губами.
— С чего вы это взяли? — фальшиво удивился Борис.
— Меня не обманете, — старик понемногу накалялся, — сразу вашу породу подлую вижу. Как посмели ко мне подойти? Чтобы Васнецова — в доносители? Человек! — крикнул он громко. — Сколько с меня?
Борис успокаивающе махнул рукой буфетчику: не спеши, мол, братец, мы еще посидим и водки выпьем, — потом не таясь посмотрел твердо в сердитые глаза старика.
— Сядьте, Орест Николаевич, и не нужно так беспокоиться. Я вас ничем не обидел, а вы сразу — в крик. В сыскной я не служу, и вы со своей наблюдательностью могли бы это заметить. Разве похож я на филера?
Старик засопел сердито, но промолчал.
— Вы же пошли со мной в трактир, значит, посчитали порядочным человеком? — продолжал Борис.
— А зачем вы… интересуетесь, — обиженно бурчал старик.
— Дело у меня есть, это верно, — согласился Борис. — Никого я не выслеживаю и доносить ни на кого не прошу. Только скажите мне, видели вы в тот раз описываемого мной человека?
— Видел, он был в числе палубных пассажиров. — Старый капитан отвернулся.
— Ну вот, я вам скажу, что через сутки его убили. Вы можете это проверить: на следующий день в «Симферопольском курьере» было сообщение, что в гостинице обнаружили его труп. Так вот, если я отыщу его след, если узнаю, с кем виделся и говорил накануне, то, возможно, найду и его убийц. Вы ведь согласны, что убийцу нужно найти и наказать?
— Согласен, — вздохнул старик. — Но я мало чем могу вам помочь. Видел я того человека мельком и, куда он пошел, сойдя с парохода, не заметил, потому что в тот день в порту разгорелся грандиозный скандал. Есть тут у нас одна барынька… Анна Евграфовна, — капитан помолчал неодобрительно, — уж очень суровая… Все не по ней, что ни сделать. Но — княгиня, так что все ее боятся. Прибыла она тогда из Батума, родня у нее там, так она раза два в год норовит съездить, погостить. Те-то, конечно, не очень зовут — не такое сейчас время, чтобы гостевать, но Анна Евграфовна уж раз решила, то непременно поедет. И вот как раз она тем рейсом обратно прибыла. А надо сказать, что вещей у нее всегда тьма-тьмущая, да собачка, да две приживалки… в общем, компания приличная. И тут вдруг, — Орест Николаевич рассмеялся, — попался собачке этой котище портовый. Не то он мимо пробегал, а она давай из корзинки тявкать, не то другое что, но только такой скандал случился! Анна Евграфовна дама с характером, а тут такой повод. До начальника порта дошло бы, но приживалке одной плохо стало, побоялись, что помрет тут на месте от страха. Они все и уехали, коляска Анну Евграфовну ожидала. В суматохе все пассажиры разбежались. И знаете, что я заметил? — Старик хитро прищурился. — Определенно в этом деле не обошлось без вашего знакомца Васьки. Ну, того, который в карман-то к вам залезал. Все время он там поблизости вертелся, и уж очень глазенки у него блестели…
Посидели еще немного, разговор перекинулся на всякую всячину. Капитан, выпив, как все старики, погрузился в воспоминания. Борис, улыбаясь и машинально поддакивая, раздумывал над его словами. Ничего больше старик не вспомнит про Махарадзе. Он подтвердил только то, что второго августа Махарадзе сошел на берег в числе других пассажиров.
Борис подумал еще немножко и, распрощавшись с капитаном, отправился на рынок искать Ваську-воришку. Нельзя сказать, что он сильно рассчитывал на то, что мальчишка вспомнит пассажира в черно-белой черкеске, просто он совершенно не представлял себе, что делать дальше, потому что след Георгия Махарадзе затерялся.
Борис неторопливо прохаживался между рыночными торговками, прицениваясь где к необъятному кавуну, где — к истерично визжащему молочному поросенку, заранее чувствующему скорую свою кончину и посмертное торжество посредине стола, в звездочках укропа и с яблоком в невинном рыльце.
— А вот, барин, не надо ли творожку свежего, сметанки?
— Панычу цыбули не треба? Може, бульбочки? А канталупа гарнэнька?
— А вот, гаспадын хороший, не желаем чурчхели? Бахлава-бузинаки! Вай, хорош!
Борис где отшучивался, где отмахивался, где пробовал кусочек приторной восточной сладости или кисточку душистой резкой черемши, прислушивался к разноязычному базарному гвалту и внимательно посматривал по сторонам — пониже основной человеческой массы, отыскивая своего малолетнего вороватого знакомца Ваську. У старой грузинки, до самых глаз закутанной в черное, несмотря на жару, он купил кулек козинаков и четыре сладкие сосульки ореховых чурчхел, после чего продолжил свой неспешный рейд, помаленьку отщипывая жесткие приторные кусочки.
Примерно через час он различил в общем рыночном шуме резкую скандальную ноту.
— Лови! Держи! Уйдет, дьяволенок! Холера его разбери! — кричал визгливый бабий голос неподалеку.
Борис насторожился, двинулся в направлении криков и вскоре заметил вынырнувшую из-под прилавка чумазую рожицу. Точно рассчитав траекторию мальчишки, он скользнул наперерез, как шар скользит навстречу другому шару по зеленому бильярдному сукну. Траектории их пересеклись, и Борис как клещами ухватил свободной рукой оттопыренное красное ухо.
— Ой, дяденька, пусти! — завопил мальчишка, однако не очень громко — с оглядкой на недавно обокраденную торговку — и тут же попытался вывернуться или укусить скверного дядьку за руку.
— Тише, махновец будущий! — прикрикнул Борис. — А ну тише, не то тетку позову.
— Какую еще тетку? — возмущенно пробасил «махновец», впрочем, несколько притихший.
— Сам знаешь какую! У которой ты что стянул-то?
— А ты видел? — завелся мальчишка.
— Ладно, давай мирно побеседуем. Козинаков хочешь? — Борис протянул постреленку кулек, не отпуская ухо.
Тот глянул подозрительно, но взял. Козинаки пошли в ход, и чурчхела тоже не была оставлена без внимания после того, как парнишка убедился, что Борис не будет звать обокраденную тетку.
— Ты ухо-то отпусти, — пробасил мальчишка набитым ртом, скосив на Бориса чрезвычайно предприимчивые глаза.
— Ага. Я ухо отпущу, а тебя тут же поминай как звали. Ты мне лучше вот что скажи: рубль хочешь?
— Лучше три, — немедленно ответил «махновец», доедая последнюю чурчхелу.
— Я слышу речь не мальчика, но мужа, — констатировал Борис, — ладно, я не жадный, три так три. Пойдем-ка, Васька, в трактир, я тебя еще и накормлю.
— Ты откуда знаешь, что меня Васькой звать? — подозрительно спросил мальчишка.
С одной стороны, ему хотелось есть, с другой — бездомная, сиротская жизнь научила его ждать от незнакомых, да и от знакомых людей только плохого.
— Мне тебя Орест Николаевич рекомендовал, — усмехнулся Борис. — Капитана старого знаешь?
— Ну, знаю, — насупился «махновец». — Он вообще-то дед хороший.
Тут он скосил на Бориса по-прежнему недоверчивый взгляд и, получив долгожданную свободу, потер еще более покрасневшее ухо, но убегать не стал.
Борис препроводил своего нового знакомого в тот же трактир, где недавно беседовал с отставным капитаном. Половой, увидев оборванного посетителя, хотел было вымести его метлой, но Борис пресек этот естественный порыв покровительственным жестом и краткой рекомендацией:
— Мальчик — со мной. Извольте накормить.
Половой пожал плечами, пробормотал под нос, что некоторые господа совершенно понятиев не имеют и тащат с улицы в приличное заведение всякую дрянь, однако на открытое неповиновение не решился и приступил к выполнению своих прямых обязанностей.
Надо сказать, что обещание Бориса накормить «махновца» оказалось трудновыполнимым. Половой сбился с ног, поднося одну тарелку за другой, а неуемный мальчуган требовал еще и еще. Наконец Борис решил прекратить эксперимент, опасаясь за здоровье ребенка. Ребенок был явно разочарован.
— Расскажи-ка ты мне, братец… — начал Борис, но был тут же прерван:
— Три рубля.
— Ну, брат, я ведь обещал тебе, значит, будут тебе эти три рубля, только после того, как поговорим, а то ведь я тебя знаю: получишь деньги и тут же удерешь.
— Это уж как водится. — Мальчишка довольно зыркнул глазами.
— Ну, так поэтому ты сначала расскажешь, что мне надо, а уж потом — деньги.
Признав такой подход логичным, мальчишка приготовился к допросу.
— Ты «Пестеля» всегда встречаешь?
— А то! Там вечно суета такая. Самое милое дело лопатник слямзить!
— Так. А вот четыре недели назад — помнишь, как его встречал?
— Ой, дяденька, почем я знаю — три недели, четыре недели… мне на эти твои недели…
— Ладно-ладно, — прервал Ордынцев, поняв неверную постановку вопроса. — А вот ты вспомни, как скандал такой на пристани случился… барыня старая, толстая кричала?
— Ха! — довольно расплылся мальчишка. — Еще бы мне не помнить! Это же я ей сам такую шкоду сделал! И тоже мне дядька вроде тебя хотел рубль дать, а я с него три слупил. Ха!
— Ну-ка, ну-ка… — Заинтересованный Борис наклонился к парнишке поближе. — Рассказывай подробно все про шкоду и за что тебе дядька рубль обещал.
— А дал три, — гордо поправил малолетний разбойник.
— Рассказывай, еще три рубля получишь.
— Ну вот, значит, подошел этот дядька…
— Какой из себя дядька-то был?
— Обычный, в черкеске…
— Что-что? — крикнул Борис. — В черкеске черно-белой с газырями, но сам на грузина не похож? Ты подробнее мне его опиши.
— Точно, он. И еще усики у него были небольшие. Подошел и так же, как ты, схватил за ухо и давай крутить.
— Так-таки ни с того ни с сего подошел и давай за ухо? Нет, братец, ты уж рассказывай все как было.
— Ну, хотел я у него карман почистить, экс… экспра…
— Экспроприацию произвести? Ты таких слов у красных, что ли, нахватался? Не доведут они тебя до добра!.. Ну рассказывай дальше, да ничего не пропускай!
— Ну вот, он меня и схватил и стал ухо крутить, очень больно. — При этих словах мальчишка потер ухо и мстительно притормозил рассказ, припомнив Борису недавнее уховерчение. Борис погрозил пальцем, и хитрец продолжил: — И тоже говорит мне: вон барыня с парохода спускается, если устроишь ей хорошую шкоду, дам тебе рубль. А я ему говорю — три. Он спорить не стал, некогда было. А я тогда поймал кота, — при таком приятном воспоминании глаза начинающего террориста заблестели, — поймал кота, здоровый такой котище, черный, и приволок его к сходням. Тут эта барыня идет, и ее тетка за ручку поддерживает, а рядом другая тетка собачонку тащит. Собачонка — тьфу, одно название: тощенькая, лапки кривые — смотреть не на что, только что ленточка шелковая на шее. Ну, я кота-то к этой собачонке и брось! Я его за шкирку нес и так и швырнул!
На таком героическом моменте рассказа мальчишка пришел в такой восторг, что вскочил из-за стола и начал так активно жестикулировать, что Борис, опасаясь повреждения трактирной утвари, силой усадил его обратно.
— Что тут началось! Кот шипит, собачонка визжит, барыня ревет, ровно пароходная труба, те две тетки, что при ней, подвывают — в общем, давно так весело на пристани не было!
— Ну а дальше-то что было?
— А дальше этот дядька, что три рубля дал, сам все испортил. Сам же шкоду заказал, а сам и помешал. Кота за шкирку схватил и выбросил, собачонку поймал, барыню успокоил… никакого больше веселья. Да мне-то что, я свои три рубля с него наперед получил.
— А что этот дядька в черкеске дальше сделал? — Борис слушал Ваську со все возрастающим интересом.
— Да ничего. — Мальчишка пожал плечами. — Сел в коляску и укатил.
— В какую коляску? — спросил Борис, боясь, что в ответ его юный информатор снова пожмет плечами.
— Как — в какую? — удивленно переспросил Васька. — Так в ее же коляску. Барыни этой толстой. За ней же коляска приехала из имения.
— Точно? — взволнованно спросил Борис. — Ты ничего не перепутал? Тот в черкеске сел к барыне в коляску и уехал?
— Чего мне путать-то? — обиделся мальчишка. — Она ему говорит: «Пожалуйте, батюшка, ко мне в коляску, довезу куда надо, а можете и в имении переночевать». А он ей: благодарствуйте, мол, матушка княгиня, за доброту вашу спасибо. Сели и поехали. Я ее коляску хорошо знаю, она часто в городе бывает.
— Кто она-то? — в раздумье спросил Борис. — Зовут ее как, княгиню эту?
— Княгиня Аблеухова. Ты про три рубля-то не забыл? — спохватился мальчишка.
— Да я-то не забыл. А вот ты не забыл еще что-нибудь мне рассказать? — на всякий случай спросил Борис, помахивая перед Васькиным лицом трехрублевкой.
— Вот слушай… — Глаза Васьки неотрывно следили за деньгами. — Я этого… который в черкеске, раньше тоже видел. Он несколько раз на «Пестеле» приезжал.
— А чего же ты его не запомнил?
— Запомнил… — Васька смотрел серьезно. — Только сейчас сообразил. Он раньше не в черкеске был и без усов.
— А что же на нем надето было? — поинтересовался Борис.
— Один раз вроде длинный сюртук, другой раз — френч английский без погон, по-разному, в общем.
— А не врешь ли ты, братец? — скептически спросил Борис.
— А зачем мне врать? — искренне удивился Васька. — Я же с тебя за это дополнительную плату не требую.
— Верно, — согласился Борис. — Так с чего ты взял, что это один и тот же человек был?
— Со спины он похож и сбоку, — серьезно ответил Васька. — Ходит одинаково, ногой загребает. Мне снизу видать хорошо.
— Ага, значит, у всех этих дядек была одинаковая походка, и ты, хоть они и были одеты по-разному и на лицо не очень похожи, сделал вывод, что это один и тот же человек?
— Что из пустого в порожнее-то переливать, — досадливо хмыкнул Васька, — давай три рубля, и дело с концом. Недосуг мне.
— А когда примерно ты этого человека видел?
— В прошлом месяце видел… в позапрошлом тоже, — подумав, сообщил Васька. — А раньше не присматривался я. Да и так сейчас случайно вспомнил.
— Ну ладно, вот они, твои три рубля, заработал.
Через секунду предприимчивого молодого человека и след простыл, а Борис посидел еще немного в осточертевшем трактире, размышляя. Стало быть, Махарадзе заплатил мальчишке, чтобы втереться в доверие к старухе княгине и уехать с ней. Для чего ему это было нужно? Чтобы пересидеть сутки, не маячить в городе, ибо он боялся турок? Либо же у него были еще какие-то дела, помимо поручения Исмаил-бея. И если принять за правду то, что сказал мальчишка относительно похожих мужчин, примерно раз в месяц приезжающих из Батума, то можно предположить, что Махарадзе занимался еще какими-то незаконными, а потому опасными делами. И не из-за этих ли дел его и убили?
Борис взглянул на часы. Было около пяти. Если сейчас искать Горецкого, чтобы изложить ему всю информацию, время пройдет и поехать к княгине можно будет только завтра. Но и так уже потеряно столько дней. С каждым днем возрастает вероятность того, что люди вообще забудут о человеке в грязной черкеске, сошедшем однажды с парохода.
Выяснить у полового адрес княгини не составило труда — деньги освежают память прислуги. Имение «Кипарисы» находилось в шести верстах от города, если ехать по дороге вдоль моря.
Борис посмотрел на косые лучи солнца и принял решение. За небольшую плату он подсел к татарину в арбу, заполненную пустыми корзинами. И хоть волы плелись еле-еле и татарин всю дорогу тянул что-то заунывное, но вот уже показалось вдали имение.
Шлюпка мягко ткнулась в транцы у борта броненосца «Мальборо». Горецкий ловко вскарабкался по шторм-трапу. На борту его ждал мистер Солсбери, необычайно импозантный в форме капитана третьего ранга флота его величества.
Горецкий, поздоровавшись с англичанином, выразительно посмотрел на его погоны. Тот, перехватив этот взгляд, усмехнулся и сказал:
— Легенда, легенда, мистер Горецкий. Ведь вы, как я понимаю, тоже не совсем подполковник?
Обменявшись улыбками, старые знакомцы проследовали в салон, где, как и всюду на необозримых просторах Британской империи, в пять часов был накрыт чай.
— О, «Эрл Грэй»! — отметил Горецкий, уловив легкий аромат бергамота. — Мой любимый сорт!
— Если позволите, я пришлю вам ящик.
Стюард подал крекеры и удалился.
— Как я понял, вы до сих пор не нашли список турецких агентов. — Солсбери с ходу перешел к деловой части разговора.
Горецкий помрачнел:
— Да, к сожалению, это так. Однако нам удалось разоблачить одного агента, работавшего прямо у меня под носом в контрразведке.
— Я слышал об этом. Кажется, в этом есть заслуга молодого человека, который был у вас на подозрении и которому вы организовали «побег» в Батум?
— Да, и, должен сказать вам, его «побег» оказался необыкновенно удачным. Вы, разумеется, знаете о попытке нападения на вашу миссию в Батуме?
— Еще бы! Генерал Кук-Коллис устроил всем службам жестокий разнос: мало того что прямо на территории Британской миссии едва не убили закавказских дипломатических представителей, даже уничтожили турецкую террористическую группу вовсе не англичане, а какой-то невесть откуда взявшийся сброд…
Горецкий негромко засмеялся и сказал:
— Вы должны быть по гроб жизни благодарны моему молодому «беглецу». Уничтожение турецкой группы — его рук дело, а что до сброда — он использовал тех людей, которых смог найти. Кроме того, при этой операции он убил нашего с вами старого знакомого.
Солсбери удивленно поднял брови:
— Так это он убил Вэнса, новичок?! Я поздравляю вас: у этого молодого человека блестящее будущее.
— К сожалению, я еще не сумел убедить его работать на нашу службу, — со вздохом произнес Горецкий.
— Что ж, я в вас верю — убеждать людей вы всегда умели. Что же касается списка агентуры…
Горецкий чертыхнулся про себя и сухо произнес:
— Что касается списка агентуры — мы продолжаем поиски.
Мистер Солсбери согласно прикрыл глаза, потом отхлебнул чаю.
— К сожалению, моя миссия скоро закончится, я должен буду вернуться в Лондон. Сэр Уинстон ждет моего доклада.
— Как я понимаю, твердая позиция Первого лорда адмиралтейства не находит сейчас понимания в вашем правительстве? — Аркадий Петрович, в свою очередь, отхлебнул чаю и приготовился к неспешной беседе.
— К сожалению, Ллойд Джордж находится в зависимости от профсоюзных лидеров. Мы выводим свои войска из Закавказья. Счастье еще, что убедительное выступление закавказских делегатов на Парижской мирной конференции заставило премьер-министра сохранить контингент в Батумской области. Наши солдаты придадут некоторую уверенность либеральному правительству Грузии.
— Я думаю, батумская нефть также была достаточно убедительным аргументом, — вставил Горецкий.
Он откусил кусочек крекера, намазанного мармеладом из жестяной банки, и поморщился украдкой. Мармелад отдавал горечью апельсиновой корки.
— Конечно, это так, — продолжал Солсбери. — Немаловажную роль сыграли ваши последние успехи на фронте…
Горецкий помрачнел и заговорил:
— Наши армии[14] продвигаются вперед, но, боюсь, это продлится недолго. Тылы наши плохо организованы и заворовались, снабжение войск поставлено из рук вон плохо, а красные проводят мобилизацию за мобилизацией, собирают против нас колоссальные силы. Конечно у них большой недостаток опытных военных кадров, но огромный численный перевес, большое преимущество в артиллерии. Сейчас, когда Колчак отброшен, Южный фронт стал для Троцкого и Ленина направлением главного удара.
— Я говорил вам, что генерал Деникин не справится со стоящей перед ним огромной задачей. Если бы на его месте был Лукомский…
— Александр Сергеевич не пойдет на это, — твердо произнес Горецкий, — да кроме этого, его кандидатуру не поддержат высшие офицерские круги. Насколько мне удалось прощупать настроения генералов, они скорее согласились бы с кандидатурой барона Врангеля.
Жуя невкусный крекер, он вспомнил пироги Марфы Ипатьевны, а также варенье — абрикосовое, кизиловое, алычовое — и посмотрел на англичанина с плохо скрытым чувством превосходства.
Солсбери поднял на своего собеседника внимательный взгляд:
— Может быть, это действительно интересный вариант. Петр Николаевич Врангель — сильный, решительный человек, прекрасный организатор. Либералом его не назовешь. Но вместе с тем он готов в случае политической необходимости пойти на серьезные реформы. В войсках у него огромный авторитет…
— Я смотрю, вы прекрасно осведомлены обо всех наших делах, — констатировал Горецкий.
— Ноблес оближ, — ответил Солсбери и тут же повторил по-русски: — Положение обязывает. Что ж, немедленно по прибытии в Лондон я передам Первому лорду адмиралтейства то, что вы мне сообщили.
Борис прошел по ухоженной подъездной аллее, обрамленной кипарисами, и вышел к белому дому в мавританском стиле. Дом был невелик, причудливой архитектуры. После бесчисленных разграбленных имений России и Украины этот прекрасно сохранившийся богатый и ухоженный дом и парк казались Борису удивительными, словно он попал в дореволюционное, а то и в довоенное время.
Дальше чудеса продолжались. Когда Борис ударил в дверь прекрасно начищенным медным дверным молотком, перед ним возник на пороге самый настоящий дворецкий в сильно потертой, но все же ливрее. Борис почувствовал себя даже не в довоенной эпохе, а чуть ли не в XVIII веке.
— К госпоже княгине, — сказал он дворецкому, невольно стушевавшись перед его потертым великолепием.
Дворецкий, не шелохнувшись, внимательно осмотрел Бориса с ног до головы и чуть неприязненно спросил:
— Как доложить?
— Ордынцев Борис Андреевич, из Петербурга.
— Извольте подождать. — И дверь захлопнулась перед носом.
Ждать пришлось достаточно долго, Борис уже подумал, что о нем забыли. Наконец дверь снова отворилась, тот же дворецкий взглянул на Бориса еще более высокомерно и вымолвил:
— Пожалуйте! — таким тоном, что всем становилось ясно: его бы, дворецкого, воля, он бы такого ничтожного посетителя и на порог не пустил.
Княгиня ожидала посетителя в небольшой, полутемной из-за опущенных штор комнате, сплошь заставленной фарфоровыми безделушками и пыльными рамочками с фотографиями. Сама хозяйка царственно восседала в высоком кресле XVIII века и казалась едва ли не его ровесницей. Она была толста, величественна и надменна.
Взглянув на вошедшего гостя через лорнет, как на редкостное насекомое, она пробасила голосом, мощным, как пароходная труба:
— Ордынцев… Это из каких же Ордынцевых?
— Андрея Никитича Ордынцева сын, — отрекомендовался Борис, с трудом сдержав невольное побуждение щелкнуть каблуками.
— Андрея Никитича? — переспросила старуха, пожевала губами и протрубила: — Не помню.
Еще немного подумав, она снова заговорила, с силой впечатывая слова:
— Нет, не помню. Но коли уж приехали к старухе, то погостите денек-другой… Все-таки Петербург вспомню за разговором-то… Какие бывали балы, приемы! Да, впрочем, что я говорю — вы еще слишком молоды, тех, настоящих, балов не помните, это ведь еще при государе Александре Николаевиче…
Старуха ушла в свои воспоминания, посчитав Бориса за своего. Как видно, ее не очень беспокоило, было ли у них родство или молодой человек придумал его (как и было на самом деле). В смутное время не нужно было никаких особенных рекомендаций, а Борис на всякий случай решил сказать, что письмо, которым его снабдили родственники, пришлось уничтожить по дороге, чтобы не попалось на глаза красным. Старуха приняла его, и это было хорошо. Но в данный момент она совершенно забыла гостя, возможно, просто задремала. Борис, чтобы напомнить о своем существовании, слегка откашлялся.
— Да-да, — невпопад пробасила княгиня, — это вы верно заметили, хорошую прислугу сейчас нипочем не найдешь… Так что бишь вы хотели?
— Хотел спросить вас, — начал Борис издалека, — возможно, кто-нибудь говорил вам… может быть, хоть какой-то след… Видите ли, я разыскиваю сестру свою, Варю. Дошли до меня слухи, что видели ее в Крыму, а вы здесь, должно быть, всех знаете…
Княгиня снова задумалась, и Борис уверился было, что она точно спит, как вдруг совершенно бодрым голосом старуха ответила:
— Ордынцева Варвара Андреевна? Не слышала, ни от кого не слышала…
— А вот еще: мне говорили, что у вас в имении гостил некий Махарадзе из Батума, так вот он как будто может что-то знать…
Княгиню будто подменили. Она окончательно проснулась, вытаращила на Бориса круглые, выпуклые, как у попугая, глаза и поджала губы. Лицо ее стало так подозрительно-недовольно, будто она по нечаянности проглотила лягушку и еще не разобралась в своих чувствах по этому поводу.
— Какой еще Махарадзе? Не знаю такого! — И тут же она позвонила в колокольчик и протрубила мгновенно возникшей девушке: — Покажи гостю его комнату! Ту, красную, в дальнем крыле!
К этому времени уже изрядно стемнело. Хотя в доме было электричество, длинные извилистые коридоры не освещались, и девушка вела по ним Бориса со свечой в руке. Неровное пламя свечи вызывало к жизни странные живые тени, создавало ощущение тайны и неясного страха.
Девушка вдруг обернулась к Борису, прикрывая свечу рукой. Ее некрасивое блеклое лицо от слабого колеблющегося освещения стало совсем уродливым и каким-то зловещим.
— Зря вы, барин, здесь ночевать остались, — еле слышно проговорила девушка, — нехороший здесь дом. Особенно в том крыле, где вас поселили, — там и вовсе не хорошо…
— Что ты, милая, выдумываешь! — усмехнулся Борис, стараясь напускной веселостью развеять мрачное настроение дома. — Что же здесь такого нехорошего?
Горничная расслышала легкую насмешку в его голосе и обиженно произнесла:
— Вот вы, барин, насмехаетесь, а как Егор Егорыч-то старого барина увидел, так еле его в чувства привели! Сперва водой брызгали, а потом уж, как очувствовался, чаю чуть не целый самовар выпил, тогда только успокоился!
— Кто это — Егор Егорыч?
Девушка посмотрела на него как на дикого: как можно не знать таких общеизвестных вещей!
— Егор Егорыч — дворецкий! Вы же его видели.
Борис представил себе внушительного важного дворецкого, лежащего на полу без чувств, и восхитился.
— Кого, говоришь, он увидел?
— Да старого барина же! Идет по коридору, как на портрете!
— А что же барина самого в живых нет?
Девушка снова поразилась неосведомленности Бориса:
— Да что вы! Его уж лет пятнадцать как похоронили. Здесь же, в имении, возле часовни, — знаете, часовня на краю парка, на утесе? Возле этой часовни похоронили и памятник поставили… Около часовни этой ночью никто не пройдет, ни за какие коврижки!
— А что, там тоже нехорошо? — догадался Борис.
Девушка подозрительно на него покосилась — опять, что ли, насмехается, — но, не заметив усмешки, ответила:
— Еще как нехорошо! Там иногда и старого барина видят, и женщину белую… Там совсем плохое место! Егор Егорыч говорил, что оттуда барышня молодая бросилась, от любви… прямо из окна — и в море! Часовня же на утесе стоит, прямо над морем…
Борису надоели местные ужасы, и он решил направить словоохотливость прислуги в более интересное русло:
— А ты не видела ли, красавица, с месяц назад, когда барыня из Батума вернулась, с ней вместе гость приехал на коляске — с усиками, в черкеске…
Девушка оглянулась, будто проверила, не подслушивает ли ее кто, и почти шепотом ответила:
— Барыня не велит никому про ее гостей рассказывать, сердится очень! А только я вам точно скажу, что гость этот был нехорош!
— Что ж он, призрак, что ли, был?
— Да полно вам, барин, насмехаться-то! Какой же он призрак? Разве призраки-то на колясках ездят да арбузы едят?
— Так чем же он был нехорош? — настойчиво расспрашивал Борис, потому что только сейчас разговор становился интересным.
— А тем и нехорош, что к часовне ходил…
— К той, где белая женщина? — Борис почувствовал разочарование — скорее всего девчонка врет, чтобы поболтать с ним подольше.
— К той самой! — с торжествующим видом произнесла горничная, думая, что теперь уж скептику-барину крыть нечем.
— Так, может, у него с этой белой женщиной свидание было уговорено?
— Да полно вам! — Девушка с досадой махнула рукой, чуть не погасив свечу. — Экий вы насмешник!
— Когда же он к часовне ходил?
— Да вот как приехал, так вечерком и пошел. Я в окошко выглянула — смотрю, идет по парку, и прямо к часовне — видно, дорогу знает…
— И долго он у вас гостил?
— Нисколько и не побыл. Утром к мечети пошел, а уж оттуда не вернулся. А барыня не велели никому про гостей рассказывать… ой, батюшки, а я-то разболталась!
— Ты не бойся, красавица! — успокоил девушку Борис. — Барыня не узнает. А только ты мне еще скажи. Что за мечеть такая?
— Что за мечеть? Известно какая — татарская. Татары в ней Аллаху своему молятся…
— Это я знаю. Где же мечеть та, куда гость ваш ушел?
— Недалеко. От ворот версту пройти — там мечеть и будет. А вот и комната ваша. — Девушка отворила скрипучую дверь и провела Бориса в комнату, вид которой при слабом таинственном отблеске свечи мог действительно вызвать мысли о привидениях и вампирах.
Узкое окно, разделенное на мелкие клетки свинцовым переплетом сложного и фантастического рисунка, неохотно пропускало лунный свет и отбрасывало на стены и пол причудливые блики. Частично окно это было завешано темными тяжелыми шторами, и такие же темные драпировки украшали частью стены комнаты и необычно широкую кровать с деревянной резной спинкой.
Горничная поспешно дернула широкую шелковую ленту возле двери, и комнату залил электрический свет. Все готические страхи моментально рассеялись. Действительно, комната была красной — темно-красные портьеры, такие же шторы на окнах, бордовые штофные обои стен. Вид у комнаты был достаточно нежилой, но это Бориса не огорчило. Постель была свежей, и он изрядно устал, так что, едва девушка закрыла за собой дверь, лег и заснул как убитый.
Глава десятая
Борису снилась ранняя весна. Он подъезжал на крестьянской телеге к старинному имению своей тетки. Неужели Вари нет уже здесь?
— Вот, барин, вот они — Горенки! — повернулся к нему заросший до самых глаз возница, — дальше уж ты сам иди, мне несподручно.
Борис спрыгнул с телеги, крестьянин хлестнул свою клячу вожжами и поехал своим путем.
Борис вспоминал эти места. В детстве они жили здесь с сестрой два или три лета. Вот огромный дуб, посаженный после Полтавского сражения… возле него нужно свернуть направо, и скоро будет виден господский дом.
И дом показался. От него еще кое-что осталось — стены были целы, и крыша тоже. Окна выбиты все до одного, да и рамы выломаны. Двери разрублены на куски — видно, для крестьянских хат они слишком велики, а на дрова неудобны.
С тяжелым чувством Борис поднялся на крыльцо. Вот большой зал, где устраивались званые вечера. На этом рояле Варя играла менуэт Моцарта… Рояль разрублен топором. Зачем, зачем это? Из той бессмысленной, дикой злобы, которая овладевает грабителем? Если мне не унести эти вещи, то я их уничтожу, чтобы они не достались никому? Что за дикая, извращенная, людоедская логика!
Узорный паркет весь взломан — искали, что ли, какой-нибудь тайник?
Вдруг в дальнем конце зала послышалось странное цоканье. Борис повернул голову. К нему, громко цокая копытами по паркету, шла коза. Изо рта у нее торчали бумажные листы, которые она ритмично пережевывала. Борис подошел ближе, наклонился и увидел, что коза жует страницы французской книги XVIII века.
Случайно уцелело одно из зеркал, и Борис увидел в нем дикую картину — разгромленный зал усадьбы, козу, жующую французский роман, и себя, заросшего, грязного, изможденного…
* * *
Никто его не будил, Борис проснулся сам, нашел в комнате кувшин с водой и таз для умывания. Потом он оделся и, с трудом найдя выход, пошел по саду к воротам, никем не остановленный.
На солнцепеке возле мечети мирно беседовали три солидных пожилых татарина. Борис подошел к ним и, вежливо поздоровавшись, спросил:
— Вы ведь часто здесь бываете?
— А как же, — ответил за всех седобородый патриарх, — мы ведь правоверные, мечеть — наш второй дом.
— А не помните ли вы, случайно, месяц назад, в начале августа, сюда приходил господин лет тридцати, в черно-белой черкеске, с маленькими усиками? Мне хотелось бы знать, к кому он приходил?
Татары посовещались и не вспомнили такого господина, Борис их за это не винил — уж больно мало примет он дал, да и времени много прошло. Однако следовало еще раз попытать счастья, потому что твердо известно, что в мечети Махарадзе был. Что ему там было нужно?
Пока Борис оглядывался в поисках нужного человека, его самого тихонько окликнули. Маленького роста хромой татарин подметал дорожки возле мечети, он-то и обратился к Борису:
— Ваше благородие, можно вас обеспокоить?
Борис подошел к хромому — уж кто-кто, а уборщики и слуги всегда замечают больше других.
— Что ты хотел, любезный?
Татарин прижал палец к губам и, поманив Бориса за собой, пошел, сильно хромая, куда-то вбок от мечети.
— Ты куда это, любезный? — Борис остановился в сомнении.
— Идемте, ваше благородие, не сомневайтесь! Все вам сейчас расскажу. Я этого господина в черкеске видел, все знаю, зачем он приходил.
Борис прибавил шагу, посчитав, что хромой хочет получить деньги за информацию и для этой цели ведет его подальше от любопытных глаз. Уборщик, хоть и хромал, но шел достаточно быстро. Они обошли мечеть, завернули за неказистый домик — должно быть, сторожка, прошли между сараями…
— Стой! — крикнул Борис. — Дальше не пойду. Говори, что знаешь, а не то… — Он, движимый неясной тревогой, схватил хромого за плечи.
Татарин начал вдруг бурно жестикулировать, будто был глухонемым, и так скривил свою физиономию, что смотреть на него без отвращения было невозможно.
Борис хотел было плюнуть и уйти, но в тот самый момент, когда эта здравая мысль пришла ему в голову, по ней (голове) кто-то ударил так сильно, что Борис утратил контакт с окружающей действительностью, успев подумать только, какого он свалял дурака, позволив уроду-уборщику заманить его в ловушку и отвлечь внимание дурацкими гримасами.
Борис пришел в себя от холода. Холод в Крыму летом — явление необычное, и от удивления Борис открыл глаза. Холодно ему было от того, что лежал на каменном полу. Оглядевшись, Ордынцев увидел вокруг что-то вроде запущенной, давно не посещаемой часовни псевдоготического стиля. Он вспомнил, что накануне горничная княгини что-то говорила ему насчет часовни… Стало быть, это та самая часовня и есть, где обитают привидения старого барина и белой дамы…
Борис попытался подняться. Голова болела, но кости были целы, и значительных повреждений в своем организме он не обнаружил. Он встал и подошел к двери… Дверь, естественно, оказалась запертой. Следующим побуждением было выбраться через окно. Окно было большое, стрельчатое, как полагается, без всяких стекол… но когда Борис осторожно выглянул в него, то сразу же отшатнулся: за окном стена часовни переходила в почти отвесный головокружительный обрыв, уходивший прямо в море. По обрыву кое-где цеплялись корнями чахлые кустики, море снизу Борис не видел, но оно напоминало о себе грозным шумом.
Он отважился высунуть голову подальше и увидел, как подножие обрыва бесконечным приступом берут волны в белых казацких папахах бурунов. Он осторожно пытался просунуть голову обратно, чтобы не порезаться остатками стекол, застрявших в раме. Фуражка зацепилась, ее подхватило ветром и понесло вниз. На середине обрыва она застряла в ветках колючего куста.
Борис с грустью подумал, что он не птица и этот выход для него тоже закрыт. Снова вернувшись к двери, он дергал ее так и этак, но дверь была невероятно толста, крепка и совершенно непоколебима. Он обошел все помещение и не нашел больше никаких дверей и лазеек. Он не знал, что за люди оглушили его и заперли в часовне, мог только догадываться, что тут не обошлось без хромого уборщика, которого он встретил у мечети. Причиной нападения, безусловно, были расспросы о Махарадзе. Хуже всего была неизвестность. Вряд ли его заперли здесь просто так, без дальнейших планов, очевидно, скоро эти люди вернутся, и тогда… Борис поежился.
Он поднял голову и осмотрел верхнюю часть стен и потолок часовни. По верху стены шла узкая декоративная галерейка — слишком узкая для человека. Она изображала хоры готического собора. Еще выше, под самым сводом, было маленькое круглое слуховое окошко. Окошко это выходило не в сторону моря, так что небольшой шанс выбраться из него все же был. Борис решил попытать счастья. Потому что больше ему ничего не оставалось.
Он встал на подоконник, стараясь не смотреть в окно, чтобы голова не закружилась от вида бездонной пропасти. С подоконника он переставил ногу на окружающую окно декоративную лепнину, уцепился пальцами за щель между каменными плитами и начал медленно, вершок за вершком, карабкаться по стене. Его целью была галерейка — по ней он рассчитывал без особого труда добраться до слухового окна.
Прежде Борису не случалось лазать по скалам, и подъем по стене давался ему с огромным трудом. То одна, то другая нога соскальзывала с неровностей кладки, и он изо всех сил вцеплялся в стену пальцами. Пальцы были уже исцарапаны в кровь, когда ему наконец удалось зацепиться за балюстраду декоративной галереи. Напрягая последние силы, он влез на галерею и отдышался. Галерея была слишком узкой, чтобы по ней можно было идти, но ползти по ней было гораздо легче, чем карабкаться по отвесной стене.
Борис дал короткий отдых утомленным мышцам и собирался уже продолжить движение к слуховому окну, как вдруг услышал звук ключа, поворачивающегося в замке. Он застыл и покрылся холодным потом. Это возвращались те, кто запер его здесь, предварительно оглушив!
Одно было хорошо: то, что он успел добраться до галереи. Если бы он карабкался сейчас по стене, то от леденящего душу звука открывающегося замка он бы неминуемо сорвался. Да и на стене его тут же заметили бы. Узкая галерейка хоть и плохо, но скрывала распластавшегося на ней человека, кроме того, на руку ему играло то, что он находился на стене прямо над окном, то есть в хуже всего освещенном месте часовни. Косые вечерние лучи солнца лились из окна и слепили людей в часовне. Они не давали рассмотреть как следует стену, да вошедшим и не приходило в голову ее рассматривать. Зато Борис очень хорошо их видел.
Их было трое: один — тот самый хромой уборщик, который заманил Бориса в ловушку, второй — рослый, плечистый, с выбритой наголо головой. Под кожей оголенных рук перекатывались, как змеи, мускулы. Бритая голова, смуглая кожа, миндалевидный разрез темных глаз выдавали в нем такого же, как и его хромой спутник, татарина, старинного хозяина благословенной Тавриды. Третий человек, судя по одежде и повадкам, был русский.
— Ну и где этот ваш шпион? — язвительно спросил по-русски господин в белой шляпе.
Татары переглянулись и горячо заспорили на своем языке. Потом, обернувшись на худощавого господина, вспомнили, что он не понимает по-татарски, и уборщик сказал:
— Здесь мы его оставили, когда за тобой пошли. Куда он мог отсюда подеваться? Дверь заперта, из окна не выбраться, там обрыв…
Худощавый господин подошел к окну. Некоторое время он внимательно всматривался в кусты на обрыве, потом обернулся к татарам и сказал:
— Здесь он и выпорхнул. Только крыльев-то у него нет, вот и сорвался.
Татарин плечом оттер его от окна и сам уставился вниз. Видимо, он заметил фуражку Бориса, зацепившуюся за куст, и подтвердил вывод русского:
— Разбился, и концы в воду. Все равно мы его прикончить собирались, так он сам прыгнул, хлопот меньше…
— Удивительно только, как это барчук на верную погибель полез? — задумчиво проговорил уборщик, тоже подходя к окну. — Ума, что ли, лишился? Видно, ты его, Керим, так по башке огрел, что все мозги вышиб!
— Кто ж его знает? — Керим пожал широкими плечами. — Может, думал, что все равно пропадать, так хоть на вольный свет вылезти напоследок?
— Ладно вам, — прервал их русский, — разбился, так и черт с ним, заботы меньше. Скажите лучше, когда вы его тащили, вас никто не видел?
— Нет, господин Вольский, — ответил за обоих мусульман уборщик, — мы его в мешок засунули, будто барашка, так и то хоронились, несли задами в зарослях, а к этой часовне вовсе никто не ходит, боятся все. Говорят, что здесь нечисто.
— Разумеется, нечисто, — усмехнулся Вольский, — здесь вы с Керимом хозяйничайте, а вы похуже всякой нечисти будете.
— Ты так не говори, господин, — зло прошипел Керим, — мы не злодеи, мы с дядей Мустафой дело делаем, угодное Аллаху, и с нечистым не знаемся!
— Ладно уж, не обижайтесь, воины Аллаха, — примирительно заговорил Вольский, — у нас с вами дел много, на ссоры времени нет. Кто такой был шпион, зачем он приходил — теперь уж не узнать, завтра новый человек приезжает, взамен прежнего, убитого. Встретите его в южной бухте после полуночи, ваши татары его привезут.
— Не на «Пестеле» теперь? — переспросил Керим.
— На «Пестеле» опасно, опять выследить могут… Встретите нового — скажете: салон в четверг, пароль «В Петербурге сейчас уже осень». Ответ — «А в Константинополе еще жарче, чем здесь». Запомнил?
— В Петербурге уже осень, — повторил Керим.
— В Петербурге сейчас уже осень, — поправил Вольский, — в пароле ни одного слова нельзя переврать.
— Хорошо, запомнил.
— Пора расходиться. Пока меня не хватились. Я первым уйду, чтобы нас с вами не видели.
Вольский первым покинул помещение, за ним ушли татары, к великому облегчению Бориса, оставив дверь незапертой. Борис осторожно перевел дух. Все это время он боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия, и все тело его страшно затекло. Выждав для верности некоторое время, он начал осторожно спускаться по стене. Спуск оказался еще сложнее, чем подъем, — он не видел, куда ступать, и при каждом крошечном шажке долго шарил по стене ногой в крепком английском ботинке.
Наконец он добрался до лепнины, окружающей окно. Здесь дело пошло легче, и вскоре он уже спрыгнул с подоконника на пол.
Осторожно открыв дверь часовни, Борис выглянул наружу. К часовне вела широкая полузаросшая тропа среди неухоженных кустов. Идти прямо по тропе было опасно — там его могли заметить татарские друзья, поэтому Борис пошел сквозь кусты позади часовни, рассчитывая, что парк не слишком велик и рано или поздно он выберется за его пределы.
Путь пошел под уклон. Борис уже не шел, а бежал, придерживаясь руками за кусты, потом споткнулся и кубарем покатился по склону в овраг. Камни и колючки царапали тело. Одежда рвалась на глазах. К счастью, овраг оказался не слишком глубоким, и Борис докатился до его дна без особенных повреждений, но шлепнулся на дне в неглубокую лужу соленой воды — видимо, во время прилива сюда доходили морские волны.
Отплевавшись от попавшей в рот соли, Борис побрел по оврагу и увидел поднимающуюся вверх тропинку. С трудом поднявшись, потому что силы уже оставляли его, он оказался на полянке, скрытой от татарских и вообще от любых любопытных глаз. Он посидел на траве, дождавшись темноты и восхода луны.
Рассвет Борис встретил, плетясь по дороге в город. Море шумело внизу, но Борису страшно было смотреть вниз. Все тело болело, как будто по нему проскакал конный корпус генерала Врангеля. В ссадины и царапины попала морская вода, и теперь они нестерпимо зудели. Одежда превратилась в лохмотья. Голова гудела, как чугунный котел. С усилием переставляя ноги, он шел и шел, загребая пыль у обочины дороги. Его обгоняли телеги и татарские арбы, наполненные всевозможной провизией — крестьяне из пригородов ехали на базар. Борис и не пытался попроситься на телегу — при виде его лошади шарахались, начинали хрипеть и косить глазом. Так, следуя за телегами, добрел он до базара. Нужно было миновать торговые ряды, потом крестьянские обозы, потом пройти через весь город и только тогда свернуть к Карантинной слободке. Хотелось есть и пить, у него не было во рту ни крошки со вчерашнего утра.
Мужик с корзиной натолкнулся на Бориса, оступился и чуть не уронил свой груз. Не оглядываясь, он выругался. Борис счел за лучшее не связываться, уж очень гудела голова. Он присел в тени чьей-то телеги и вдруг услышал знакомый говорок:
— Ох, и подлый же народ эти татаре! Я ему давеча говорю: давай этот кавун! И какая ему разница? Так норовит подсунуть другой! А если я этот наметил? И желаю получить! Так все равно не тот подсунул! Ох, и подлая же нация…
— Саенко! — хрипло крикнул Борис и закашлялся от попавшей в горло пыли. — Саенко, братец, как же хорошо, что ты мне попался!
Саенко собственной персоной изумленно воззрился на грязного оборванца, что чуть ли не кинулся ему на шею. Потом он снял фуражку, вытер потный лоб, после чего в глазах его появилось осмысленное выражение.
— Батюшки! — закричал он. — Борис Андреич! Эк вас разобрало-то! Откуда ж вы в таком, извиняюсь, расхристанном виде идете? Где ж вас, прошу прощения, черти драли? — добавил хитрый хохол вроде бы сочувственно, но Борис заметил, что глаза его ехидно поблескивали.
— Ох, Саенко, вези ты меня скорее домой, сил моих нет больше. Аркадия Петровича застанем ли?
— Как не застать, дома они, кофий пьют, это я с утра пораньше на рынок вышел.
Саенко крикнул фаэтон. Подкатил расхлябанный экипаж, возница покосился на Бориса, но ничего не сказал, внимая грозному взгляду Саенко.
— А мы уж с его сковородием думали, куда это вы подевались? — болтал Саенко по дороге. — Уж не завелась ли, думаем, у него зазноба? Ночки темные, а кровь молодая, горячая…
— Ту зазнобу, у которой я ночевал, давно на том свете ждут не дождутся, — в сердцах сказал Борис, вспомнив старуху княгиню.
Не понравилось ему, как спровадила она его быстро, как только услышала фамилию Махарадзе. Даже в лице переменилась. Определенно неспроста это. Но настырно лезущий в уши голос Саенко мешал думать, и Борис откинулся на сиденье, прикрыв глаза.
Горецкий, увидев Бориса, только поднял брови, зато Марфа Ипатьевна всполошилась не на шутку. Она провела Бориса в свою комнату, усадила к свету и долго вытаскивала колючки и смазывала многочисленные ранки. Борис с удовольствием отдался ее заботам. Так продолжалось до тех пор, пока Аркадий Петрович не крикнул в открытую дверь:
— Да будет уже вам, Марфа Ипатьевна! Он все же не ребенок малый, подумаешь, занозы.
Как ни был измучен Борис, он все же удивился, услышав в голосе Горецкого недовольные нотки. Хозяйка тотчас послушно собрала свои склянки и отпустила Бориса. Когда умытый и переодетый в чистое он вошел в кухню, его ожидала большая кружка молока и два ломтя хлеба.
— Ну-с, Борис Андреевич, извольте рассказать подробно, где вы пропадали? — Горецкий был строг.
Борис жевал хлеб не торопясь, обдумывая, что рассказывать Горецкому. Если рассказывать все по порядку, то, во-первых, это займет много времени, а во-вторых, он, Борис, во всей истории предстанет форменным олухом. Сам позволил заманить себя в ловушку. Тем не менее он добросовестно пересказал Аркадию Петровичу все свои приключения, начиная со вчерашнего утра, когда он отправился на пристань встречать пароход «Пестель».
— Открылись вы старому капитану зря, — недовольно сказал Горецкий, — человек он одинокий, болтается в порту да по трактирам, выпьет и будет болтать.
Борис упрямо наклонил голову и промолчал. Старик ему понравился, он вовсе не производил впечатления пьяницы и болтуна.
— Нельзя надеяться на хорошее отношение свидетелей, — поучал Горецкий, — это непрофессионально.
— А я вовсе не профессионал, — огрызнулся Борис, его раздражал профессорский тон.
— С мальчишкой вы построили беседу правильно, — как бы не слыша, продолжал подполковник, — с таким народом нужно разговаривать при помощи денег, а вот дальше, Борис Андреевич, вы действовали просто вопиюще безграмотно. Наобум ринуться расспрашивать старуху княгиню, это крайне неосторожно! Да вам еще повезло, что она вас ночевать оставила, видно, силен у помещицы дух гостеприимства. А вы уж очень беззаботны. Я понимаю: в молодости все кажется не важным, но ведь видели же вы, что старуха сердится. Стало быть, нужно было как можно скорее уносить оттуда ноги. Вы же вместо этого начинаете расспрашивать служанку…
— И узнаю от нее интереснейшие вещи, — ехидно вставил Борис, но Горецкий опять не отреагировал.
— И уж совершенно глупо было лезть в мечеть просто так, что называется, с улицы. И лежать бы вам сейчас на дне моря, если бы не ваша феноменальная везучесть. Везение у вас просто потрясающее, но, Борис Андреевич, голубчик, нельзя же все время испытывать судьбу! Когда-нибудь вашему ангелу-хранителю надоест за вами присматривать, и все кончится очень печально.
— Во всяком случае, дело сдвинулось с мертвой точки, — примиряюще заговорил Борис. — Теперь мы знаем, что покойный Махарадзе занимался еще какими-то сомнительными делами, помимо того, что был курьером Исмаил-бея. Значит, он сошел на берег с «Пестеля» и заметил за собой слежку или просто боялся оставаться в городе надолго. Тогда он устроил так, чтобы познакомиться с княгиней, и подсел к ней в коляску, переночевал в имении «Кипарисы», а затем отправился в мечеть, где было у него какое-то дело. После этого след его снова теряется до вечера этого же дня, когда он появился в гостинице «Париж».
— И что мы имеем дальше? — недовольно начал Горецкий. — В мечети вы все испортили. Переполошили тамошних татар, так что туда теперь соваться никому нельзя. Теперь они будут опасаться, а возможно, и вообще исчезнут — следов не найдем.
— След у нас какой-то есть, — возразил Борис. — Не забывайте, что те трое считают меня разбившимся насмерть, то есть никакой угрозы я для них не представляю. Кроме того, они же не знают, кто я такой и с какой целью разыскивал следы покойного Махарадзе. Вряд ли они свяжут мой визит с контрразведкой.
— М-да, если бы в дело вмешалась контрразведка, то не послали бы вас одного, — согласился Горецкий.
— Далее, разговор в часовне шел о каком-то салоне. Возможно, именно туда направился Махарадзе после беседы с кем-то в мечети.
— Почему он не направился туда раньше… — задумчиво бормотал Горецкий. — Значит, так. Если предположить, что ваш портовый постреленок ничего не напутал и Махарадзе приезжал из Батума в Феодосию примерно раз в месяц, то с какой целью он это делал? Человек прибывает, проводит в городе один-два дня и отплывает обратно в Батум или еще куда-нибудь. Проверить, отплывал ли он, у нас нет возможности, потому что, по-видимому, он пользовался различными паспортами. Но все же напрашивается мысль, что Махарадзе работал курьером — перевозил какие-то материалы или деньги… Поскольку англичане категорически утверждают, что использовали Махарадзе единственный и последний раз, то возможно предположить, что он являлся двойным агентом, то есть работал и на турок тоже. Но тогда почему он их так боялся?
— Опасался разоблачения, — неуверенно предположил Борис, — турки, да и другие тоже, не любят двойных агентов.
— Не знаю, не знаю, — бормотал подполковник, — тут еще примешались татары… Очень это мне не нравится. Вы, голубчик, представляете себе, какое значение имеют в Крыму татарские националисты?
— Откровенно говоря, не очень, — признался Борис.
— Основное население Крыма — татары, процент — русских, процент — греков, процент — итальянцев, еще из средних веков. Но татары мечтают о независимости Крыма. В декабре семнадцатого они созвали в Бахчисарае свой парламент — курултай и избрали Крымско-татарское национальное правительство под председательством своего лидера Сейдамета. В январе восемнадцатого года татарская конница пыталась нанести удар по красному центру Крыма — Севастополю, но потерпела поражение. В Крым пришли ненадолго красные, но потом в апреле восемнадцатого немцы двинулись через Перекоп и захватили Крым. Под эгидой немцев образовалось Крымское краевое правительство Сулькевича, в котором министром иностранных дел опять-таки был Сейдамет. Потом Крым занял Деникин. Формально татары с нами, в Добрармии есть татарские батальоны, они успешно воюют против красных, но кто знает, что они думают на самом деле?
— Гм, — осторожно прервал Борис рассуждения Горецкого, — не кажется ли вам, Аркадий Петрович, что сейчас нужно действовать решительно? Сегодня вечером прибывает новый человек, сказал некий господин Вольский. То есть можно предположить, что сегодня вечером после полуночи прибывает новый курьер. Что он везет или собирается забрать отсюда — мы выясним, когда возьмем его.
— Мы? — прищурился Горецкий. — Да вам, голубчик, надобно сидеть здесь, с Марфой Ипатьевной и носу не показывать в город.
— Не думаю, — невозмутимо ответил Борис. — Господин Вольский, который, судя по всему, у них главный, меня в лицо не знает. Знают меня двое татар, так их нужно нейтрализовать, а курьера в южной бухте мы встретим сами. Солдат дадите несколько человек?
— Солдат-то дадим, — медленно проговорил Горецкий. — Ладно, Борис Андреевич, мы вот как поступим. Я прямо сейчас поговорю тут с одним человеком в контрразведке, он специалист по татарам. Думаю, по вашему описанию он этих двух татар опознает. Судя по всему, люди это среди татар известные. Дальше, перехватим их в городе и арестуем по какому-нибудь мелкому поводу. Тогда можно будет вечером спокойно встречать курьера. Возьмем его, узнаем, что это за салон такой, чем там занимаются и какое отношение он имеет к татарам. Сейчас вы отдыхайте, в порядок себя приведите, отдайтесь в руки Марфе Ипатьевне — уж очень она над вами хлопочет. — Горецкий недовольно усмехнулся, чему Борис снова удивился, но сделал вид, что ничего не произошло.
— Так что мне пора уходить. Саенко с инструкциями пришлю. — И Горецкий торопливо вышел.
Керим и дядя Мустафа пришли в город по своим делам. Они не спеша лавировали в рыночной толпе, прицениваясь для вида к баранине и овощам. Неожиданно какой-то плюгавый господинчик гнусной наружности схватил дядю Мустафу за руку и истошно завопил высоким бабьим голосом:
— Вор! Держи вора! Кошелек украл!
Окружающие еще растерянно оглядывались, не зная, чью сторону принять, — уж больно гнусен был обворованный, а уже двое крепких молодчиков хватали дядю Мустафу за руки и тащили его вон из толпы.
Рослый и плечистый Керим бросился было на помощь родственнику, но потом, сообразив что происходит что-то странное, никак не похожее на обычную базарную сцену, попытался убежать, но его уже окружили целой толпой и поволокли следом за дядей.
Обоих татар под усиленной охраной привели к зданию тюрьмы, и сопровождавший всю процессию поручик из контрразведки, который и сам толком ничего не знал, передал их с рук на руки начальнику тюрьмы, лаконично предупредив:
— Воры. Задержаны на рынке. Продержать не меньше недели. Если сбегут — головой ответите.
Начальник тюрьмы совершенно ничего не понял: почему рыночных воров приводят под такой многочисленной охраной, почему их нужно держать в тюрьме именно неделю… одно он понял ясно: что ответит за них головой, и приставил к камере, куда определил дядю и племянника Мислюмовых, постоянный пост охраны.
Моторный катер татар-контрабандистов заглушил двигатель на мелководье, не доходя до берега саженей сто. Дальше было так мелко, что катер пропорол бы себе днище. Ночь была безлунна, только бесчисленные крупные южные звезды густо усыпали черное бархатное небо, как бриллианты в витрине ювелирного магазина Михаила Серафимчика.
Человек спрыгнул с борта катера и побрел в сторону берега по пояс в воде, держа над головой вещевой мешок. Татары завели мотор и ушли от греха.
Человек медленно брел к берегу, ощупывая ногой дно, чтобы не свалиться в яму, и одновременно всматриваясь в темную массу берега.
Когда он наконец выбрался на сушу, неподалеку из кустов его тихо окликнули:
— Сюда господин, сюда!
Курьер пошел на голос, но внезапно чуть в стороне он услышал звук передернутого затвора. Поняв звериным чутьем, что попал в засаду, курьер бросил на землю мешок и стрелой бросился вдоль берега.
— Стой, стой! — закричали сзади. — Стой! Уйдет!
— Не стрелять! — раздался чей-то командный голос, но выстрел уже прогремел, опередив приказ.
Тяжело топая сапогами по камням, казаки бежали по берегу. Вдруг один из них остановился над чем-то еще более темным, чем окружающая ночь.
— Так что позвольте доложить, ваше благородие, — смущенно сказал казак подбежавшему офицеру, — не убег. Кажись, мертвый.
Офицер наклонился над телом, пощупал пульс, выпрямился:
— Сказано же было — не стрелять!
— Так что, сбег бы, ваше благородие! Темень же, хоть глаз выколи. Точно бы сбег. Только до кустов бы добежал — и все.
— Это ты его уложил, Угловой?
— Так точно, ваше благородие.
— Хороший выстрел. В темноте… ты на звук его, что ли?
— Известное дело, на звук, ваше благородие. Мы на охоте приучены — зверь, он же завсегда прячется, только на звук его и достанешь…
— Ладно, Угловой, что с тобой поделаешь… берите его, несите в город. И мешок его тоже прихватите.
— Ну-с, Борис Андреевич, подведем итоги, — достаточно кисло заметил Аркадий Петрович Горецкий на следующее утро, сидя за завтраком. — Перестарались эти, из контрразведки. Сказано им было — взять живым, а они, видно, чтобы не возиться…
— Сказать легко, — не выдержал Борис, — а если темень была кромешная…
Открылась дверь, и Саенко внес аппетитно скворчащую яичницу на огромной сковороде. Борис потянул носом и замолчал. Минут десять в комнате царило молчание: Горецкий хмурился недовольно, ковыряя в тарелке, а Борис просто ел с аппетитом. Нельзя сказать, что он был рад давешней неприятности, просто Горецкий порядочно надоел ему своими поучениями и менторским тоном.
— Итак, что мы имеем? — скрипучим голосом начал Горецкий.
Борис нехотя отложил вилку и посмотрел на него.
— Курьер убит, татары ничего не говорят, да скорее всего и не знают.
— Они должны знать, в какой салон им велено было проводить прибывшего человека.
— Но не пытать же их, в самом деле! — пробурчал Горецкий. — Это вам не кокаинист Карнович, мужики крепкие. Но салон попробуем вычислить.
— Вряд ли вы сможете там что-то узнать. — Борис пожал плечами и взялся за вилку.
— Я — нет, а вы — может быть.
Борис поднял голову и встретился с серьезным взглядом Горецкого. Глаза хорошо были видны, потому что пенсне Аркадий Петрович снял, и в глазах этих Борис увидел жесткость.
— Завтра четверг, — произнес Горецкий, — а что там говорил этот… господин Вольский? В салоне в четверг… Дело в том, Борис Андреевич, что я видел труп курьера. Это достаточно молодой человек, телосложением похожий на вас.
— А что? — усмехнулся Борис. — Пароль я помню, могу сойти за курьера, вот только знать бы, какой салон и что я должен перевозить?
— Да, тем более что пароль к вашей удаче как раз насчет Петербурга. Насчет того, что будете перевозить, выясним после. А теперь слушайте. — Горецкий крикнул Саенко, чтобы убрал посуду, и разложил на чистой скатерти листки бумаг. — В Феодосии несколько салонов, среди них один большой шляпный госпожи Матильды Занг, то есть просто магазин головных дамских уборов на заказ, якобы по парижским моделям.
— Даже если это тот салон, что нам нужен, меня туда и на порог не пустят! — засмеялся Борис.
— Курьера из Батума тоже бы не пустили, — согласился Аркадий Петрович, — тем более в сопровождении татар.
— Далее, куча мелких магазинчиков, именующих себя салонами, но это, думаю, тоже не то, что нам нужно. Есть еще салон мадам Бабайчук, это местное увеселительное заведение. Я наводил справки, сама мадам — милейшая женщина, дела ведет честно. В полиции девушки ее известны трезвым поведением и патриотизмом. Военным у нее в заведении всегда скидка, и даже в долг верят. Никаких татар там и близко не подпустят, у моего человека из контрразведки там осведомитель есть. Он утверждает, что там все на виду, никаких тайн.
— А что с последним салоном? — нетерпеливо спросил Борис.
— Последний салон… Есть у нас тут такой салон ОДИ — Общество деятелей искусства. Туда ходят господа, которые испытывают высшие потребности, кое-что для души. Устраиваются там выставки сомнительных живописцев, скупают потом их картины оптом богатые греки. Один Бог знает, зачем им это нужно. Местные эстеты в основном дамы немолодые, расхаживают под раскрашенными лубками, считая, что они на настоящем вернисаже. Поэты частенько захаживают, и те же дамы восхищаются их изысканными опусами. Бесконечно принимают они там в своем ОДИ каких-то заезжих творческих личностей. То профессор читает лекцию «О передаче сновидений по проволоке», то гипнотизер какой-нибудь внушает отставным военным, что они все поголовно Александры Македонские…
— И верят? — с интересом спросил Борис.
— Черт их там разберет, — отмахнулся Горецкий. — А недавно, мне рассказывали, приехал один господин и устроил публичный суд над Иудой Искариотом. Все было театрализовано, с музыкой и танцами, причем он еще самовольно объявил в афишах, что в суде примут участие местные полицейские власти.
— И что сказали по этому поводу полицейские власти? — Борис веселился вовсю.
— Натурально все всполошились: какой суд, какой Иуда Искариот? В общем, забрали этого лектора в каталажку на всякий случай, а потом по-тихому выпроводили из города, чтобы не мутил воду. Я к чему веду речь: в салоне этом разные личности бывают, там никто ничему не удивляется. Пускают туда всех, без рекомендаций и пропусков, был бы только одет чисто. Так что, Борис Андреевич, я вам выдам денег на экипировку и представительство, а вы уж постарайтесь выглядеть получше. Не беспокойтесь, деньги эти казенные, я располагаю некоторыми суммами для таких вот случаев.
И Борис, чувствуя себя фатом и щеголем, отправился по магазинам и парикмахерским. Высвободившись из рук армянина-парикмахера, он не узнал сам себя. Волосы выгорели на крымском солнце и лежали мягкой пшеничной волной, глаза отливали стальным блеском, и даже морщинка на переносице, появившаяся после поездки в Батум, придавала ему мужественности. Когда в серой визитке, шелковом галстухе и мягкой светлой шляпе он появился на пороге домика в Карантинной слободке, Марфа Ипатьевна вскрикнула и выронила чашку:
— Вот так кавалер! Прямо погибель на нашу сестру!
Горецкий только усмехнулся:
— Не ожидал таких результатов, голубчик, не ожидал… Пожалуй, и вправду проходу вам дамы не дадут… Ну что ж, рискнем отправить вас в салон ОДИ. Я навел справки: всем заправляет там некая баронесса Штраум.
— Она что — действительно немка?
— Она такая же немка, как мы с вами — японцы, — резко ответил Горецкий, — а впрочем, кто теперь разберет, возможно, по мужу… Хотя сейчас она одинока и вся отдается искусству… или делает вид. Между прочим, интересная женщина, ну да и вы у нас лицом в грязь не ударите. Потолкайтесь в салоне, послушайте, выясните обстановку. Но, голубчик, помните об осторожности, никаких лишних слов.
Борис отдал открывшему дверь слуге шляпу и отрекомендовался:
— Борис Ордынцев, из Петербурга. В Феодосии недавно. Наслышан о вечерах у госпожи баронессы и хотел бы присутствовать.
Слуга молча поклонился, проводил до дверей просторной гостиной, громко сообщил:
— Господин Ордынцев из Петербурга.
Навстречу Борису, лучезарно улыбаясь, вышла хозяйка — пепельная блондинка лет тридцати пяти с выразительными фиалковыми глазами.
— Господин Ордынцев, я рада приветствовать вас, человека, вырвавшегося из большевистского ада, в нашем маленьком черноморском раю! Конечно, наше общество покажется вам очень провинциальным после былых блестящих салонов Петербурга, но мы стараемся в меру своих скромных сил служить музам… У нас здесь почти ничего не изменилось, все совсем так, как было до всех этих неприятностей. — Баронесса сделала рукой широкий жест, будто обведя этим жестом войну, революцию, крушение целого мира. — Мы собираемся каждую неделю, слушаем драмы, стихи… Начальник обсерватории — господин Сарандинаки — замечательный поэт, и директор банка господин Мабо…
— А господин Волошин[15]? — спросил Борис. — Он у вас бывает?
Баронесса поскучнела, Борис понял, что сказал бестактность.
— Максимилиан Александрович… он живет таким затворником… он совершенно нигде не бывает…
Борис вспомнил, как крупный кудрявый Волошин шел по щербатой мостовой в бархатной куртке и плисовых штанах, улыбаясь прохожим и угощая мальчишек конфетами из кулька, и подумал, что на отшельника поэт не очень похож.
— Будьте как дома. — Баронесса одарила его еще одной лучезарной улыбкой и отошла к другим гостям.
Как видно, баронесса вовсю старалась и умела быть очаровательной.
Борис огляделся. В гостиной было человек двадцать — двадцать пять. К чтению стихов еще не приступали, все оживленно беседовали по двое, по трое. Кто из присутствующих замешан в заговоре? Борис переводил взгляд с одного лица на другое. Счастье еще, что пароль так нейтрален — о погоде можно поговорить с кем угодно, это не вызовет подозрений. Он подошел к невысокому полному господину со смешными длинными усами и сказал без предисловий:
— В Петербурге сейчас уже осень.
— Давно вы из Петербурга? — оживился усатый господин. — Правда ли, что там часты случаи людоедства?
— Нет, неправда, — резко ответил Ордынцев и отошел от усатого, утратив к нему интерес.
На этот раз к Борису сама устремилась пышнотелая рыжеволосая дама в причудливом головном уборе, похожем на тюрбан индийского магараджи.
— Софи сказала мне, что вы недавно прибыли из Петербурга. Что там сейчас творится?
— В Петербурге сейчас уже осень, — проговорил Борис и выжидательно замолчал, слушая ответ.
— Я имела в виду другое, — поморщилась дама, — вовсе не погоду…
— Да, я понимаю вас, — кивнул Борис, — там сейчас голод, разруха, нищета… но в людях чувствуется какой-то энтузиазм…
— Энтузиазм?! — возмущенно переспросила дама. — Да вы никак прониклись большевистским духом? Что же вы тогда уехали?
— Отнюдь, мадам, — ответил Ордынцев, но уже в пространство — собеседница его мигом переметнулась к другой группе.
Борис снова огляделся. В углу стоял высокий худощавый брюнет с горящими глазами, очень подходящий на роль заговорщика. Ордынцев пересек комнату, подошел к брюнету и повторил свою магическую фразу:
— В Петербурге сейчас уже осень.
Брюнет необычайно оживился. Он схватил Бориса за пуговицу и воскликнул:
— В Петербурге такие женщины, такие женщины… А правда ли, что большевики провели национализацию женщин и жены теперь у всех общие?
— Не знаю, не слышал, — ответил Борис сухо и отошел.
Он обратился с той же фразой к томному молодому армянину с влажными миндалевидными глазами, но получил в ответ только взгляд, полный левантинской тоски и глубокого непонимания.
Боясь показаться идиотом и испортить все дело, Борис решил на какое-то время прекратить поиски и просто понаблюдать за гостями.
Тем временем хозяйка объявила, что собравшихся осчастливит своими стихами несравненный Исидор Купидония. К роялю подошел уже знакомый Борису худощавый брюнет, озабоченный положением женщин в Советской России. Он встал в картинную позу и прочел длинное и нудное стихотворение, в котором сам Деникин и половина генералов его штаба неумеренно восхвалялись и сравнивались с античными персонажами. Борис ожидал, когда же в этих стихах появится парящий орел — и дождался. Он хотел было спросить Купидонию, он ли пишет все стихи подобного рода под разными псевдонимами для сотни мелких газетенок юга России и Закавказья или же у него десятки братьев-близнецов по перу, но в это время к нему снова подплыла очаровательная хозяйка.
— Нравится ли вам у нас, господин Ордынцев? — Глаза ее влажно блестели, полные губы улыбались. Заметив, что Борис не ответил на ее вопрос, баронесса сделала вид, что смутилась и продолжала: — Разумеется, сегодня не самый удачный вечер в смысле поэзии… Этот Купидония… Но в молодом человеке столько чувства!
«Зато ни на грош таланта», — подумал Борис, потом взял холеную руку баронессы в свои и произнес, глядя в фиалковые глаза:
— Мадам, я готов выслушивать вирши в сто раз более худших авторов, чем Купидония, но только рядом с вами.
Хозяйка, смеясь, приложила пальчик к его губам:
— Молчите! Он может услышать и обидеться…
— Дорогая баронесса! — с чувством продолжал Борис. — Вы своим присутствием украсили бы любой салон Санкт-Петербурга. Я жажду бывать у вас как можно чаще.
— Салон бывает раз в неделю, по четвергам.
— Неужели так редко? — простонал Борис, опасаясь, не перегибает ли он палку.
Но нет, кажется, баронесса приняла его комплименты как должное.
— Разумеется, вы сможете видеть меня чаще — мы ведь живем в одном городе, — томно проворковала она.
— У вас всегда так много народу? — поинтересовался Борис, стараясь, чтобы вопрос его имел несколько интимную окраску.
— Да, почти всегда. Это ведь все завсегдатаи, редко когда заглянет к нам новый интересный человек.
— Мадам. — Борис склонился к ее руке.
— Друзья называют меня просто Софи, — прошептала она улыбаясь. — А теперь простите меня, я должна вернуться к обязанностям хозяйки.
Борис проводил ее страстным взглядом, потом обвел глазами присутствующих и не рискнул подходить еще к кому-нибудь с рассказом о петербургской осени, чтобы не возбудить подозрений.
«В салоне в четверг», — сказал Вольский. Здесь Вольского нет, Борис бы его узнал. Тому возможны две причины. Первая самая простая: это не тот салон. Вторая: Вольский, несомненно, узнал, что арестовали Керима с дядей, а возможно, и слышал выстрелы в южной бухте. Стало быть, он думает, что курьера либо убили, либо взяли, и не ждет его сегодня вечером в салоне. Горецкий прав: надо Борису быть осторожнее.
Вошел слуга с подносом, на котором теснились бокалы с шампанским. Борис не спеша фланировал по залу, рассматривая картины на стенах и вежливо улыбаясь дамам. Тем временем хозяйка объявила о выступлении нового таланта.
— Сейчас перед нами выступит всем нам хорошо известный прославленный во всех городах юга России Афанасий Крымский.
К роялю подошел высокий обрюзгший мужчина с отвислой нижней губой и мешками под глазами. Вид у него был такой, будто он пьет не переставая уже не первый год. Откашлявшись и обведя присутствующих мутно-наглым взглядом, поэт запрокинул голову и начал заунывным гнусавым голосом:
В фортепьянном концерте Зябко кутаясь в мех Ты получишь в конверте Запечатанный смех, Словно книгу раскроешь Беспросветную даль И на слезы настроишь Бирюзовый рояль…Под жидкие аплодисменты Борис ушел не прощаясь, по-английски.
Горецкий ждал его с докладом. Услышав о неудаче, он поморщился и отвернулся.
— Возможно, это не тот салон, — пробормотал Борис, — зря я в парикмахерской торчал. Но в пользу того, что это именно тот салон, говорит то, что третьего августа тоже был четверг, стало быть, салон имел место. Завтра с утра иду к баронессе с визитом, авось не прогонит.
— Посчитает наглецом, да такому красавцу все простит! — вздохнул Аркадий Петрович. — Поздно уже, давайте ложиться, голубчик.
Глава одиннадцатая
На следующее утро Борис, опять-таки посетив парикмахерскую и благоухая одеколоном, прикоснулся к кнопке звонка дома, где располагался салон ОДИ и где, как он выяснил, в верхних комнатах жила баронесса Штраум. На звонок открыла немолодая горничная по утреннему времени в довольно затрапезном платье, без белого фартучка и наколки. В руке у нее была щетка, горничная занималась уборкой. Она застыла в дверях, глядя на Бориса немигающим взглядом.
— К госпоже баронессе, — улыбнулся Борис как можно обаятельнее.
— Госпожа утром не принимают, — буркнула горничная и попыталась закрыть дверь.
— А ты, милая, доложи, — настойчиво попросил Борис, и тут же перед горничной появилась денежная купюра с изображением Царь-колокола.
Горничная поджала губы и перевела глаза с купюры на Бориса. Взгляд его был ласков, но настойчив. Горничная облизнула губы, и купюра исчезла у нее в кулаке.
— Иди, милая, иди, — Борис слегка подтолкнул ее в спину, — замолви там за меня словечко.
Горничная удалилась, впустив Бориса и заперев за ним дверь изнутри. Вернулась она быстро.
— Барыня просили обождать, — коротко сказала она.
Борис понял, что госпожа баронесса до его прихода находилась в постели. И тем не менее она согласилась его принять. Что это может означать? Баронесса явно испытывает к нему интерес, только вот какого рода?
— Не беспокойся, милая, — обратился Борис к горничной, — не обращай на меня внимания, занимайся своим делом, у тебя, я вижу, работы много.
В том зале, где вчера был салон, стулья и диваны отодвинули от стен, и горничная вытирала пыль.
— Еще бы не много работы, — ворчала она себе под нос, — когда здесь убирать, да еще наверху у баронессы квартира.
— А где же лакей вчерашний? — удивился Борис. — И вроде бы швейцара я в дверях еще видел…
— Вот еще забота была — лакеев да швейцаров кормить задаром! — фыркнула горничная. — Да их только раз в неделю нанимают, по четвергам, когда салон. Один у дверей стоит, другой — шампанским гостей обносит, а убирать — мне.
— Откуда же таких молодцов берут? — со скучающим любопытством спросил Борис, в то время как в голове его вертелась определенная мысль.
— Из «Тавриды» берут, из «Крымского приюта» берут, — охотно перечисляла горничная, радуясь передышке в работе, — из «Савоя»-то к нам не больно идут, гордые очень. Да и то сказать, там гостиница приличная, и лакеи высоко себя ставят.
— А из гостиницы «Париж» что же не берут? — рискнул спросить Борис.
— Брали раньше оттуда Порфишку Просвирина, — неохотно заговорила горничная, — да только пропал он куда-то в последнее время. А как там хозяин-то утопился, то и вовсе в гостинице дела плохо пошли. Постояльцы все разбежались, гнусное, говорят, место… А что это вы, барин, все спрашиваете и спрашиваете. — В голосе горничной появились подозрительные нотки, и снова она уставилась на Бориса немигающим взглядом.
— А ты сходи, спроси, долго еще ждать-то? — перевел Борис разговор на другое и снова протянул горничной купюру, но помельче.
Пока та ходила наверх, Борис лихорадочно размышлял. Стало быть, нанимали на вечер лакея Просвирина из гостиницы «Париж». И очень может быть, что именно тогда, третьего числа, Просвирин тут служил. Он, Борис, помнит, что вечером не было его в гостинице, немногочисленных постояльцев принимал сам хозяин и вещи даже наверх сам относил. А появился Просвирин значительно позже, когда уже Борис с Георгием Махарадзе играли в карты. Принес лакей вино, а потом Борис увидел его, только когда пришел Карнович с солдатами. Лакей вызвал солдат, якобы его насторожил шум в номере Бориса. Но Борис точно помнит, что играли они с Махарадзе внизу, в холле, в номер свой он никого не приглашал.
Из всего этого можно сделать предположение, что салон этот — то самое место, где был Махарадзе вечером накануне своей смерти. Что-то ему тут дали или сказали, из-за чего потом его в гостинице «Париж» убили… Доказательств у Бориса пока нет, но настораживают совпадения — тут Просвирин, там Просвирин… Эх, Горецкий дал маху, не допросил как следует Просвирина в свое время, а теперь ищи-свищи его…
— Наверх пожалуйте, — прервал размышления Бориса нелюбезный голос горничной.
Баронесса приняла его в утреннем простом платье, но волосы ее были тщательно уложены и лицо припудрено. Борис приложился к ручке, думая, как бы начать разговор половчее, потому что, откровенно говоря, дела у него к баронессе не было никакого. Однако она не казалась удивленной его приходом и сама завязала пустой разговор о вчерашнем салоне, о городе, о море, близость которого делает жизнь в городе совершенно особенной, и так далее. Ее фиалковые глаза подернулись томной поволокой, она забыла или сделала вид, что забыла отнять у Бориса свою руку, так что ему ничего не оставалось, как почтительно запечатлеть на ней еще один поцелуй…
«Однако, — думал Борис, сохраняя на лице глуповато-восторженное выражение, — похоже, что она просто положила на меня глаз. Это, конечно, не противно, ибо дама она интересная, но в данный момент не входит в мои планы. Мне бы выйти на Вольского поскорее, если, конечно, он связан именно с этим салоном…»
— Куда же вы вчера так стремительно исчезли? — вполголоса проговорила баронесса. — Для близких друзей у меня всегда найдется чашечка кофе после того, как уходят обычные гости.
Борис шумно вздохнул. Пора было переходить к решительным действиям, иначе она примет его за окончательного идиота. Пришел к женщине, находится с ней наедине в интимной обстановке и мнется, как семнадцатилетний гимназист на первом свидании.
— Как у вас жарко? — Действительно, у него выступила на лбу испарина.
— Да, для начала сентября нынче в Крыму ужасная жара, — согласилась баронесса.
— Софи! — воскликнул он, проникновенно глядя в фиалковые глаза.
— Расскажите мне про Петербург, вы ведь приехали из Петербурга?
Что-то насторожило его в ее словах, вернее, в тоне, которым она их произнесла.
— В Петербурге сейчас уже осень, — медленно произнес он, отпустив ее руку.
— А в Константинополе еще жарче, чем здесь…
Он бросил быстрый взгляд на женщину рядом и увидел, как она изменилась. Из глаз исчезла томная поволока, и все черты ее стали жестче, словно проступил сквозь них совершенно другой человек, расчетливый и жестокий. Но эти изменения он мог наблюдать только несколько секунд, баронесса улыбнулась и опять стала прежней.
— Почему же вы вчера ушли?
— Потому что мне не понравилось у вас в салоне, — отрывисто ответил Борис, — слишком много народу.
— Наоборот, когда много народу, это гораздо лучше для дела, — возразила она.
— Так когда же мы приступим к делу? — парировал Борис. — Не сочтите меня неблагодарным, но…
— Но дело прежде всего, — закончила она и поднялась. — Хорошо, идемте гулять. — И она удалилась в спальню.
Борис не рискнул расспрашивать, причем тут прогулка, он надеялся, что она отведет его к Вольскому, который, судя по всему, был в этой компании главным. Но чем же они занимаются? При убитом вчера ночью курьере не нашли ничего, даже документов. Стало быть, все это ему должны были предоставить здесь. Баронесса не удивилась тому, что Борис, то есть курьер из Батума, пришел в салон самостоятельно — очевидно, тот знал о существовании салона. Что еще знал курьер и не знает Борис? Борис понадеялся на свое везение и предложил руку появившейся баронессе.
Они пошли пешком по Итальянской мимо открывшихся магазинов и кондитерских. Город сбегал с горы к морю ручейками улиц, голубыми и серыми стайками домов. Но они не пошли к морю. Они свернули с Итальянской вбок, потом еще раз, Борис пытался запомнить дорогу, но тщетно. Наконец баронесса остановилась возле небольшого двухэтажного домика и, засмеявшись и оглянувшись по сторонам, бросила камешек в окно наверху, закрытое ставнями. Окно скрипнуло, но не видно было, кто смотрит на них из-за занавески.
— Пойдемте туда. — Баронесса потянула Бориса в сторону маленькой кофейни напротив.
В кофейне, кроме обязательного хозяина — жирного грека, — за обшарпанными столиками сидели два караима, да еще один грек спал в углу, прикрывшись «Симферопольским вестником».
Они сели за столик у стены, покрытой грязными потеками, Борис едва сдержал брезгливую гримасу, баронесса же смотрела невозмутимо. Слуга принес две крошечные черные чашечки, сопровождаемые запотевшими стаканами железистой крымской воды, — в Феодосии предпочитали пить кофе по-турецки, запивая холодной водой. Не успел Борис сделать глоток, как открылась дверь и появился худощавый человек невысокого роста — господин Вольский. Борис сделал невозмутимое лицо, вовремя сообразив, что курьер, впервые прибывший из Батума, не может знать Вольского в лицо.
Баронесса представила их друг другу и незаметно исчезла, оставив нетронутой чашечку кофе.
— Почему вы не объявились вчера? — отрывисто спросил Вольский вместо приветствия. — И что это за щегольской наряд? В этой части города вы обращаете на себя внимание. Неужели так и плыли в таком виде от самого Батума?
— Вы еще спрашиваете, почему я не объявился вчера? — зло прошипел Борис. — А почему вы не спросите, каким образом я вообще добрался? Татары высадили меня, не подходя к берегу. Я не боюсь промочить ноги, но вместо ваших провожатых меня встретили выстрелы. Там была засада!
Вольский внимательно посмотрел на Бориса и отвел глаза.
— Как же вам удалось уйти?
— А почему вы не ответите на мой вопрос: почему меня встретили выстрелами? Что у вас происходит? Насколько я знаю, мой предшественник был убит при невыясненных обстоятельствах. Вы что — решили прекратить сотрудничество? Тогда я сообщу…
Борис блефовал и намеренно сделал паузу, потому что не знал имени человека в Батуме. Но Вольский нервничал, это было видно по тому, как он заговорил торопливо и сбивчиво:
— Послушайте, совершенно ни к чему сообщать в Батум. Это наша, местная, проблема, и мы ее непременно решим. Прекращать сотрудничество мы не собираемся, напротив, будем расширяться…
— Но тогда нужно тщательно проверить канал, по которому вы переправляете курьеров. — Борис намеренно говорил агрессивно, не давая Вольскому усомниться в том, что он настоящий курьер.
— Вы подозреваете, что вас выдали татары?
— Не могу сказать с уверенностью, но обратно я с ними ни за что не поеду. Дождусь «Пестеля», вернусь нормальным пассажиром. Если вы сделаете мне хорошие документы, то я ни у кого не вызову подозрений.
— Но у вас будут камни, за месяц скопилась большая партия…
— Тем более, ни за что не выйду в море с татарами! Они могут просто утопить меня за камни, как котенка.
— Не нужно так говорить. — Вольский понизил голос. — Вы же знаете, что это все делается для татар. Мы с вами в данном случае — только наемные работники.
Борис держал ушки на макушке, стараясь, во-первых, не проговориться Вольскому, что он никакой не курьер, а во-вторых, узнать побольше о том, что же это за странная организация. С одной стороны — камни, то есть драгоценные камни тайно переправляют в Батум. С другой стороны — татары. Непонятное сочетание…
— Я не доверяю татарам, — упрямо повторил он, — хотя здесь, в Крыму, они основное население.
— В этом все дело! — горячо начал Вольский, но оглянулся на обитателей кофейни и замолчал. — Вашего предшественника убили прямо здесь, в городе, и татары не имеют к этому никакого отношения.
— Вам ничего не удалось узнать о его смерти?
— Абсолютно ничего, — вздохнул Вольский. — Мои люди допрашивали хозяина гостиницы, но он умер.
— Они запытали его до смерти? — презрительно процедил Борис.
— Не совсем так. Они даже не начали допрос, у него просто оказалось слабое сердце.
Борис отметил про себя, что о лакее Просвирине Вольский не сказал ни слова, и задал еще один вопрос:
— Так за месяц и не выяснилось, почему его убили?
Вольский посмотрел на Бориса удивленно:
— Почему его убили — понятно, ведь при нем были камни, то есть в тот раз один бриллиант, а после его не нашли…
— Ах вот как? — пробормотал Борис.
— Поэтому мы и считаем, что ждать «Пестеля» рискованно, он прибудет из Ялты только через три дня… Мы хотели бы, чтобы вы отправились этой ночью.
— Об этом не может быть и речи, — твердо ответил Борис. — Пока вы не обезопасите канал, я буду пользоваться «Пестелем». Кстати, вы так и не сказали, куда делись ваши люди, которые должны были меня встретить на берегу.
— Это случайность, роковая случайность, — забормотал Вольский, — их взяли на рынке по подозрению в мелкой краже…
— Вы держите у себя на службе мелких воришек? — Борис презрительно поднял брови.
— Нет, — твердо ответил Вольский, — но…
— Но тогда не пора ли сменить способы и персонал? Или это решаете не вы?
Борис попал в точку. Вольский как-то съежился и побледнел.
— Итак, решено: я буду ждать «Пестеля».
— Связь будем держать через баронессу, — буркнул Вольский и ушел не прощаясь.
Борис посидел еще немного в кофейне, допил кофе и тоже вышел. Не спеша добрел он до гостиницы «Таврида», в «Париж» решил не соваться, и снял там номер. При входе налетел на него какой-то развеселый мелкий торговец с коробом, в котором Борис узнал Саенко.
— Я извиняюсь, господин хороший, — улыбался во весь рот Саенко, — не желаете ли приобрести?
— Давай, неси ко мне, — распорядился Борис.
В номере Саенко раскрыл короб и выдал Борису белую грузинскую рубаху навыпуск и картуз.
— А штаны и ботинки ваши я из слободки принес. Они крепкие, а то чего ж новые покупать-то, денег не напасешься, — ворчал тихонько прижимистый хохол. — Сейчас в этой одежонке дуйте прямо к Аркадию Петровичу в контрразведку, а я послежу, нет ли хвоста за вами.
Операция прошла удачно, никто за Борисом не следил. Горецкий ожидал его в кабинете с нетерпением.
— Знаю, что не дело это — в контрразведке нам встречаться, но в следующий раз придумаем другое.
Горецкий внимательно выслушал рассказ Бориса и задумался.
— Значит, они переправляют в Батум бриллианты. Именно этим занимался Махарадзе. И с таким человеком связался Исмаил-бей. Какая неосторожность!
— Он за это поплатился, — спокойно заметил Борис. — Вопрос: откуда они их берут, бриллианты эти?
— Здесь, в Крыму, бриллиантов у людей полно. Уж не знаю, как они их через красных провозят, это отдельная история…
— Зато я знаю, — усмехнулся Борис, — уж не в кармане. Некоторые аж в задницу прячут.
— Вот именно. И никто не собирается здесь эти бриллианты продавать — берегут на случай эвакуации. Стало быть, бриллианты эти наша компания получает незаконным путем — грабят людей или обворовывают. Но кто — сам Вольский? Очаровательная баронесса Штраум?
— Татары, — подсказал Борис. — Как хотите, все дело в татарах. Вольский мне намекнул. И потом, когда я пугнул его, что нажалуюсь там, в Батуме, и те свернут дело, он просто испугался. Очевидно, те люди, на которых он работает, шутить не любят и ошибок не прощают.
— Говорите, у Махарадзе был в тот раз один бриллиант, очень крупный, в двадцать каратов?
— Вольский уверен, что его убили из-за него. Но за каким чертом они еще и список прихватили? Обошлись бы бриллиантом, сколько бы нам времени сэкономили, — злился Борис.
— Да, в общем-то с бриллиантами было бы обычное уголовное дело, если бы не замешались тут татары, — произнес Горецкий. — До чего глупы люди! Думают, раз сбежали от красных, то все беды позади. И начинает дама какая-нибудь блистать в театре или в военном собрании, где каждую субботу оркестр играет. С таким трудом через красных пронесли, а тут понавешают на всеобщее обозрение драгоценностей и радуются! Думают, опять все стало как раньше. Никогда уже не будет как раньше! — жестко произнес Горецкий.
Борис опять удивился перемене его лица. Опять в глазах была грозная сила, скрываемая пенсне, и профиль приобрел чеканность, как на старых римских монетах.
— Значит, так, Борис Андреевич, — Горецкий опять надел пенсне и стал похож на профессора, — я тут посовещаюсь с этим самым специалистом по татарскому вопросу, возможно, он сумеет прояснить ситуацию. Вопрос напрашивается сам собой: они переправляют бриллианты в Батум и там продают, но вот что они получают взамен?
Они встретились вечером в Карантинной слободке. Горецкий был мрачен и не скрывал этого.
— Ну, Борис Андреевич, подозревал я нечто подобное, но действительность превзошла все мои самые мрачные ожидания. Оказывается, давно уже в городе действует, и весьма успешно, целая банда. Они грабят и убивают людей, причем от остальных бандитов отличаются тем, что охотятся только за драгоценностями, преимущественно бриллиантами. Просмотрел я записи в полицейском участке, любопытные вещи узнал. И что самое ужасное — ни одно дело не раскрыто! А насчет того бриллианта, что у Махарадзе забрали, то вот, смотрите. — Горецкий протянул Борису листок бумаги.
«Дело об убийстве статского советника господина Романовского А. Ф. с супругой, каковое имело место июля семнадцатого дня сего года в Очаковском переулке.
Мною, полицейским приставом Ахромеевым, обследованы два мертвых тела, обнаруженные дворником Сейфутдиновым в гостиной наемной квартиры. Оба мертвые тела имеют следы ножевых ранений в области груди и шеи, каковые ранения и послужили причиною смерти…»
Листок, как живой, задрожал в руках Бориса.
— Что? — закричал он. — Их убили? Романовского Александра Федоровича и жену его? А Варя? Ведь она же была с ними, мне точно говорили…
— Не было с ними никакой девушки. — Горецкий успокаивающе положил руку на плечо Бориса. — Известно точно, что приехали они в Феодосию вдвоем, снимали квартиру в Очаковском переулке. Там их и убили. Забрали драгоценности и деньги, причем из драгоценностей был у жены Романовского замечательной работы старинный кулон с бриллиантом карат в двадцать. Свидетели показали, что видели его на ней незадолго до убийства в Дворянском собрании. Эх, суетность женская! — горестно вздохнул Аркадий Петрович.
— Но где же сестра моя, Варвара где? — вопрошал Борис. — Теперь уже никто не узнает, где они с ней расстались…
Они посидели немного молча, потом Горецкий кашлянул и спросил разрешения продолжать.
— Что касается татарского вопроса, то там дело обстоит так: в деле замешана Милли-Фирка.
— Это что еще за зверь? — неподдельно удивился Борис.
— Так называется национальная партия крымских татар. Они основали ее в 1917 году и объединили в ней членов татарского общества «Джеимэт-Хайрие», образованного в Турции, и членов нелегальной татарской организации в Анкаре. Сейдамет, лидер татарских националистов — один из главных людей в Милли-Фирке. Исповедуют они джадидизм — такое новое течение, лозунг у них — «Крым для крымцев», то есть упорно хотят оторвать Крым от России. С этой целью они поддерживали тесное сотрудничество с Турцией и Германией. А когда немцы вынуждены были уйти, то формально они согласились не препятствовать армии Деникина и даже воюют вместе — в Добрармии есть татарские полки. Но Милли-Фирка всегда стояла за независимое Крымское ханство. Очевидно, для этой святой, как они говорят, цели они и переправляют бриллианты в Батум, а потом в Турцию, а оттуда получают оружие и деньги. Сейчас на открытый мятеж против Деникина они не решатся, но вот если, не дай Бог, красные начнут одерживать верх и займут Крым — вот тогда, в суматохе, в мутной воде, Милли-Фирка и собирается захватить власть. А если не удастся, она уйдет в подполье, как было уже, когда Крым ненадолго заняли красные в восемнадцатом году. С красными-то у них никогда альянса не получится — в восемнадцатом татары захватили и расстреляли весь Совет народных комиссаров Красной республики Таврии.
— Какое отношение мы с вами имеем ко всему этому? — прервал Горецкого Борис.
Пока тот говорил, Борис справился со слабостью, которая охватила его при мысли, что если бы Варя была с Романовскими, ее бы тоже убили. Но ее не было, а где она теперь — никто не знает. Почему она не приехала с Романовскими в Феодосию? Заболела? Умерла? Или, паче чаяния, решила ехать назад, в Петербург, чтобы искать там его, Бориса?
Никогда он этого не узнает.
— Все эти дела я передам в контрразведку, — согласился Горецкий, — у нас с вами другие заботы. Нам нужно узнать, кто убил в гостинице Махарадзе.
— Слушайте, я вам говорил про Просвирина? — оживился Борис. — Забыл, кажется. Так вот, лакеев баронесса Штраум нанимает только по четвергам, когда публика приходит в салон. Приглашает их из гостиниц попроще, из приличных-то не идут, за место держатся.
— Экономная женщина, — усмехнулся Горецкий, — зря деньги не тратит.
— Брала она и Просвирина из «Парижа», это мне известно от горничной. Горничная не помнит точно, служил ли Просвирин третьего августа, но баронесса, как вы верно изволили заметить, дама весьма хозяйственная, сама ведет все счета и все записывает. Можно у нее как-нибудь в записях порыться, но я и так могу предположить такую вещь: Просвирин случайно видел, как третьего вечером Махарадзе получил от Вольского или от баронессы бриллиант, затем сообщил кому-то об этом, знакомому бандиту. Тот пришел в гостиницу, убил Махарадзе и забрал бриллиант и наш список — последний случайно. Просвирин же подмешал в вино кокаину, чтобы и я, и Махарадзе были сонными и одурманенными. До этого он доставил нас обоих в мой номер, а потом, зная в гостинице все ходы и выходы, запер дверь номера изнутри, а сам удалился каким-то иным способом. Он же вызвал полицию прямо ночью, чтобы я не успел проспаться и не сбежал.
— М-да, вполне вероятно, — задумчиво пробормотал Горецкий. — Насколько я помню, лакей Просвирин был хитрой бестией. Такие везде шмыгают, всюду проникают. Вполне мог он в салоне разглядеть бриллиант. И заметили ли вы, Борис Андреевич, что татары после убийства Махарадзе интересовались только хозяином гостиницы? Про лакея они и не вспомнили, лакеев никто не замечает.
— Но он-то испугался после смерти хозяина и скрылся.
— Вот по этому поводу давайте-ка послушаем Саенко, — оживился Горецкий, — дело в том, что когда нашли труп хозяина гостиницы, я поручил Саенко понаблюдать за квартирой Просвирина, поспрашивать соседей. Рассуждал я так, что Просвирин не станет убегать из города. Сами посудите: он тут вырос, дом у него здесь, куда ему бежать? В Батуме нечего ему делать без документов, да и денег, думаю, у него немного.
— А бриллиант?
— Что — бриллиант? Бриллиант забрал убийца, потому что Просвирин на роль главного злодея никак не годится. Так, на подхвате был… Вокруг Феодосии в основном татарские деревни, туда бы он не сунулся, татары его прятать не станут. В Ялту, в Одессу уехать? Так опять-таки денег мало, а работу сейчас найти непросто. К тому же он рассчитывал, что время сейчас смутное, убийств всяких происходит множество, понемногу забудется и это, в гостинице. Он же не предполагал, что Махарадзе еще и на англичан работал и что мы теперь весь город переворачиваем, чтобы проклятый список найти. Саенко! — крикнул Аркадий Петрович. — Зайди-ка, голубчик, к нам. Садись, голубчик, — кивнул Горецкий на стул, когда Саенко вошел и почтительно остановился на пороге. — Расскажи-ка нам, что ты успел выяснить насчет лакея Просвирина.
— Так что, ваше сковородие, — привычно начал Саенко, — на своей квартире он точно не живет. У него свой домик маленький, там мать — старуха глухая. Она ничего про него не знает с тех пор, как утопленного хозяина гостиницы нашли, он дома не появляется.
— Не было у него ни жены, ни детей? — полюбопытствовал Горецкий.
— Жены, детей не было, а была полюбовница, мещанка Голосова Авдотья Лаврентьевна. Проживает она вот в такой же примерно слободке, как эта, на окраине, только если по Итальянской идти, то совсем в другую сторону забирать надо. Живет она тем, что гадает на картах, потерянное ищет, боль заговаривает — в общем, ворожит, как может.
— Ты у нее был?
Саенко слегка поморщился:
— Да к ней одни бабы ходят, но в последнее время, говорят, что соседок она не очень привечает. Эта Авдотья — та еще шельма, тертая… Побоялся я прямо к ней соваться, как бы не спугнуть.
— Бабы, говоришь, одни ходят? — оживился Борис. — А давайте к ней Марфу Ипатьевну подошлем… — И, не дожидаясь согласия опешившего Горецкого, крикнул: — Хозяюшка! Марфа Ипатьевна! Пожалуйте к нам для разговора!
Хозяйка возникла в дверях, как всегда, неслышно.
— Марфа Ипатьевна! Вы такую Авдотью Лаврентьевну знаете?
— Ворожею, что ли? Кто же ее не знает.
— И что, правда хорошо ворожит?
— Кто ее знает, — Марфа Ипатьевна пожала плечами, — сказывали на базаре, что одной бабы мужа она от водки отвратила, а тот, почитай, лет пятнадцать пил. Детям, говорят, грыжу заговаривает или икоту. Ну и на картах гадает, конечно. Сейчас война людей по свету разметала, вот и ходят к ней бабы: погадай, мол, Лаврентьевна, вернется ли мой живой-здоровый? Та карты разложит и говорит, что вернется, мол, но через год. А кто его знает, что через год-то будет? Или просто на короля гадают.
— А вот вы, к примеру, могли бы к этой ворожее сходить завтра и на картах погадать?
— Что ты, что ты, — хозяйка смутилась и досадливо махнула рукой, — мое положенье вдовье, разве пристало мне по гадалкам ходить да на королей гадать?
— А вы сходите, Марфа Ипатьевна, — мягко вмешался Горецкий, — понимаете, имеем мы подозрение, что интересующего нас человека эта ворожея прячет. Вот вы и поглядите внимательно, может, что и заметите.
— Ну, и на какого же мне короля гадать прикажете? — с улыбкой спросила хозяйка.
— Да вот хоть на Саенко! — захохотал Борис. — Ишь молодец какой, когда форму наденет.
Борис не заметил, как хозяйка сердито блеснула глазами. Горецкий промолчал.
— Что ж, на трефового, значит, — тихо сказала Марфа Ипатьевна и отвернулась.
— М-да, — пробормотал Аркадий Петрович, — а я попробую узнать что-то о бриллиантах, для этого нужно обратиться к специалисту.
— Здесь, в Феодосии, есть сейчас специалисты по драгоценным камням? — удивился Борис.
— Один есть, — кивнул Горецкий, поправив пенсне. — Вы много раз проходили мимо его магазина. Михаил Серафимчик, солидный человек, у него в свое время был прекрасный магазин в Москве. К нему я пойду сам, боюсь, что вам он не окажет доверия — человек вы малоизвестный, да и привлекать внимания к себе сейчас вам совершенно не стоит.
— Однако пойдемте, ваше благородие господин Ордынцев, — прогудел Саенко, — я вас провожу маленько.
— И то верно, — спохватился Борис, — мне ведь нужно в гостинице ночевать.
— Уж вы меня, ваше благородие, извините, но получаетесь вы форменный дурак! — напустился Саенко на Бориса, как только они оказались на улице. — Меня вздумали рядом с такой женщиной поставить. Да она на меня и не глядит вовсе…
— Да я же пошутил, Саенко, — удивился Борис.
— Пошутил он, да она же на господина подполковника заглядывается!
— Чего? Да он же старый!
— Старый… — ворчал Саенко. — Это ты молодой, дак тебе все, кто старше сорока, стариками кажутся. Он и не старый вовсе, всего-то пятьдесят годочков будет…
— Ну надо же! А он-то как?
— Как-как, — досадливо бубнил Саенко, — она женщина видная, красивая еще. А что из простых, так теперь, в такое-то время страшное, это и не важно. А вообще-то я ничего не знаю, — рассердился Саенко, — ничего я не видел…
— Ладно, Саенко, — примирительно начал Борис, — они уж сами между собой разберутся, а Марфа Ипатьевна не рассердится, она меня любит.
— За что только? — проворчал Саенко, чтобы оставить за собой последнее слово.
На следующее утро в одном из домиков на окраине города сидела мещанка Авдотья Лаврентьевна Голосова с колодой карт в руке. При ближайшем рассмотрении видно было, что Саенко, называя Авдотью шельмой, ничуть не ошибся, да кроме этого, была она еще и, что называется, ухарь на все руки — мигом примечала зорким глазом все вокруг себя, оттого и гадание ее часто удавалось.
— Ну, матушка, Марфа Ипатьевна, пошепчи на короля-то, вернее выйдет.
— Шепчу, Авдотья, шепчу, — ответила Марфа Ипатьевна.
Король был никакой не трефовый, а пиковый красавец, что по гаданию означает: солидный человек, в годах, но крепкий — военный, а если штатский, то в большом чине. Авдотья Лаврентьевна ловко раскидывала карты.
— Ну вот видишь, матушка, как он о тебе думает… так на него и легла… А в головах-то поздняя дорога с тузом…
— Да куда ж мне ехать-то? — удивилась Марфа Ипатьевна, внимательно оглядывая тесную комнатку.
То же самое она проделала в сенях, даже споткнулась нарочно, чтобы заглянуть под лавку.
— Да не тебе дорога-то, ему… Но ты не беспокойся, он возвратится скоро… Четыре дамы собрались… ну, это сплетни. Валет пиковый — хлопоты, да все попусту… тут еще король бубновый вертится — к чему бы он возле тебя… Да ты, мать моя, меня и не слушаешь? — вдруг неприязненно спросила Авдотья.
— Как не слушать, Авдотья Лаврентьевна, — спохватилась гостья, — затем и пришла к тебе, чтобы послушать да поглядеть, как карты лягут. Больше и спросить некого, одна ты у нас на весь город знаменита, — льстиво добавила Марфа Ипатьевна.
Авдотья поджала губы, но от таких слов помаленьку растаяла.
— Так что не сумлевайся, Марфа, король этот, военный-то, — дело верное, вот он весь возле тебя. Сама видишь.
— Так-то оно так… — в сомнении протянула Марфа Ипатьевна, — да только боязно мне. Но тебе спасибо, Авдотья Лаврентьевна, за добрые вести. Прими уж, не побрезгуй. — Она протянула гадалке деньги, зажатые в кулаке.
— Да зря ты беспокоишься, — деланно равнодушно ответила Авдотья, но деньги взяла со словами: — Ну разве что в церковь завтра пойду, так бедным раздам.
Аркадий Петрович в лучшем своем штатском костюме (накануне Марфа Ипатьевна долго трудилась над ним с утюгом и потом любовалась делом рук своих) вошел в магазин Серафимчика на Итальянской.
Навстречу солидному посетителю кинулся шустрый приказчик, но не успел сказать и двух слов, как из своего кабинета вышел сам хозяин, за долгие годы занятий своим серьезным делом выработавший особенное шестое чувство, позволяющее ему по шагам отличать серьезных людей от просто зашедших в магазин полюбоваться драгоценностями. Сложив руки на огромном животе, обтянутом жилеткой из белого пике, Серафимчик неторопливо и величественно двинулся навстречу Аркадию Петровичу, приветливо улыбаясь в пушистые усы:
— Рад приветствовать, рад приветствовать. — Он сделал еле уловимый жест левой рукой, после которого приказчик исчез, как будто его спрятали в шляпу фокусника, а хозяин еще раз повторил чуть тише: — Рад приветствовать, господин полковник.
— Подполковник, — вполголоса поправил его Горецкий, который привык уже не удивляться, что все в городе каким-то непостижимым образом знают его чин, хоть он старался не показываться в форме в людных местах.
— Я так понимаю, судя по вашему прекрасному костюму, вы хотите, чтобы вас не узнали, а тогда какая разница — полковник, подполковник… Пусть хоть генерал-фельдмаршал. Для меня важно только одно: вы солидный человек, и я готов служить вам в меру своих слабых сил.
— Увы, Михаил Исаевич, я сегодня не намерен у вас что-либо покупать.
— Какая разница. — Серафимчик пожал полными плечами. — Не сегодня так завтра или в следующем году… Если мы все будем живы. Да и вообще — коммерсант не может позволить себе ссориться с могущественными людьми. Итак, чем могу служить?
— Я так понимаю, Михаил Исаевич, что в этом городе вряд ли кто-то больше вас знает о бриллиантах?
Серафимчик скромно потупился и проворковал:
— Смею надеяться, что не только в этом. По-моему, в Новороссийске открыл магазин Рубинштейн из Петербурга — он, конечно, тоже неплохо разбирается в камнях…
— Новороссийск — это уже не Крым, — улыбнулся Горецкий, чтобы смягчить нетерпение, с которым он собирался прервать ювелира, — так вот я хотел спросить вас как специалиста: если бы здесь, в Феодосии, появился крупный бриллиант…
— Насколько крупный? — с интересом перебил ювелир Аркадия Петровича.
— Ну, карат двадцать…
— Двадцать? Уж не о кулоне ли госпожи Романовской идет речь?
— Возможно. Об этом мы с вами еще поговорим. А пока я хотел бы знать — если бы здесь появился такой камень, как его могли бы реализовать?
Серафимчик выпучил темные маслины глаз и почти прошептал:
— Разумеется, купить такой камень за его настоящую цену мог бы только я… С другой стороны, весь город знает, что бриллиант забрали, убив его хозяев, а я с уголовниками никаких дел никогда не имею… Есть еще один вариант — камень могли распилить на несколько более мелких и продать разным людям… Ах, как это было бы обидно! Я хорошо знаю эту вещь, держал ее в руках… Ах, как было бы обидно! Но темными делами я не занимаюсь. А что, камень действительно появился?
Горецкий чуть заметно поморщился:
— Что у вас за манера, право, Михаил Исаевич, вопросом на вопрос… А если бы его действительно распилили на несколько частей — кто бы это мог сделать?
— Кто бы мог? Так я вам сейчас покажу всех, кто бы это мог. — Ювелир жестом пригласил Горецкого следовать за собой и направился в глубь магазина.
Миновав сам торговый зал, уставленный горками и витринами красного дерева, внутри которых на черном и красном бархате сверкали камни и украшения, чудом провезенные владельцами через Россию и Украину, через красных, махновцев, петлюровцев и обыкновенных бандитов, миновав темный коридор, в который выходили двери жилых комнат и служебных помещений, Горецкий и Серафимчик оказались в просторном помещении ювелирной мастерской.
— Работайте, работайте, — махнул рукой Серафимчик своим мастерам и подмастерьям, — господин — новый санитарный инспектор при полицмейстере. — И, повернувшись к Горецкому, ювелир продолжил будто бы начатый разговор: — Здесь тоже, как видите, помещение вполне просторно, хорошо проветривается, нет никакой скученности…
Горецкий, мгновенно приняв правила игры, подхватил:
— Согласен с вами, условия вполне удовлетворительные, — а сам тем временем под видом осмотра помещения внимательно оглядел всех сотрудников мастерской.
Как он мог понять, главных мастеров было двое: аккуратный маленький старичок с тщательно расчесанными седыми усами и детским румянцем во всю щеку и худощавый брюнет лет тридцати пяти с густыми сросшимися бровями и жесткой иссиня-черной шевелюрой. Возле рабочего стола брюнета были прислонены костыли. Он увлеченно шлифовал камень, не обращая внимания на посетителя. Остальные работники, перешептывающиеся и с любопытством косящиеся на посетителя, явно были подмастерьями.
Внимательно осмотрев мастерскую, Горецкий кивнул ювелиру, и они не спеша прошли в просторный кабинет Серафимчика, несколько помпезно обставленный тяжеловесной мебелью резного дерева в стиле рюсс.
Аркадий Петрович расположился в массивном кресле, ювелир предложил ему сигару, и разговор был продолжен.
— Итак, Михаил Исаевич, вы сказали мне, что распилить и огранить камни могли бы ваши мастера…
— Да, я, конечно, надеюсь, что они этого не делали, но факты скрывать нельзя, а они говорят нам, что в этом городе нет другой хорошо оснащенной ювелирной мастерской.
— Но разве вы не знаете, над какими изделиями работают ваши мастера?
— Я знаю, разумеется, я знаю, — Серафимчик отложил сигару и закатил глаза, — но ведь я не Господь Бог и не господин подполковник. Я отдыхаю, я сплю, я обедаю, я езжу с визитами, я посещаю концерты. А мои мастера часто работают допоздна. Я им доверяю, но чисто теоретически — они могут вечерами сделать одну-две левые работы, и я об этом никогда не узнаю.
— Вот как, — протянул Горецкий. — А не могли бы вы подробно рассказать мне о своих мастерах?
— Право не знаю, — замялся Серафимчик, — как-то это… но если посмотреть на дело с другой стороны, то ведь владельцев того бриллианта Романовских убили, а я…
— Держитесь подальше от уголовщины, — подсказал Горецкий. — Вот и посмотрите на дело с другой стороны и расскажите мне про мастеров.
— Ну, если вы так ставите вопрос… Пожилой, с усами — Фаддей Борисович — работает в моей фирме сорок пять лет. Когда он начинал, я был еще мальчишкой. Мой покойный отец очень ценил Фаддея, и я его тоже очень ценю. Правда, сейчас он начал понемногу сдавать, но это строго между нами… На мое счастье, весной ко мне вернулся Арсений…
— Этот брюнет с костылями — Арсений?
— Да, его изувечили махновцы. Он замечательный мастер, такие, как он, рождаются раз в двадцать лет. Он еще молод, в Москве работал у меня, но недолго, в революцию исчез, ну, тогда все куда-то пропадали, можно сказать, вся жизнь куда-то пропала. А весной он появился здесь, в Крыму, и я с радостью взял его мастером. Руки у него золотые, и глаз отличный.
— А подмастерья не могли бы распилить драгоценный камень?
— Нет. — Серафимчик энергично мотнул головой. — Ключи есть только у мастеров, и кто-нибудь из них всегда присматривает за тем, что делается в мастерской. Сами понимаете, время сейчас опасное, доверять особенно никому нельзя, да еще в моем деле… Так вот я вам говорю: если такую работу действительно могли сделать, то это либо Фаддей Борисович, либо Арсений.
— А где живут ваши мастера?
— Здесь же, при магазине, у каждого своя комната.
— Не замечали ли вы у них каких-либо сомнительных знакомств?
— Что вы, что вы, господин подполковник! Я не потерпел бы такого. Фаддей Борисович — человек старый, чрезвычайно религиозен; Арсений же, как видите, инвалид — куда ему на своих костылях! Он из своей комнаты да из мастерской почитай вообще не выходит.
Глава двенадцатая
С утра Борис опять разоделся щеголем и вышел на прогулку. Он зашел в кондитерскую «Бликнер и Робинзон» на Итальянской, что рядом с ювелирным магазином Серафимчика, выпил там кофе и съел два приторных пирожных.
Выйдя на улицу и обводя рассеянным взглядом витрины, он заметил в одной из них отражение молодого человека, хоть и одетого в европейское платье, но явно татарской наружности. Само по себе это не вызвало бы у Бориса никаких подозрений, если бы он не вспомнил, что видел уже этого молодого человека один раз вчера возле гостиницы. Совершенно очевидно, что Вольский приставил к нему наблюдателя, а поскольку людей в его организации немного (много людей в таком опасном деле, как незаконный вывоз бриллиантов, использовать никак нельзя — не будет соблюдена секретность, обязательно просочатся какие-то сведения), то Борис вычислил наблюдающего за ним очень скоро, да тот не очень-то и таился.
Борис пошел дальше в направлении салона и встретил баронессу Штраум, не доходя до места два квартала. Баронесса, вся в белом, была хороша. Она обрадовалась Борису, словно старому знакомому, и протянула для поцелуя руку красивой формы. Они уселись на скамейке в тени большого ореха, и баронесса отдала Борису его новый паспорт. В паспорте Борис значился коммерсантом из Одессы и имел фамилию Жалейко.
— «Пестель» отбывает послезавтра, — осторожно начал Борис.
— Да-да. Вы получите камни послезавтра перед отплытием. Вольский считает, что ночевать с ними в гостинице опасно.
— Он абсолютно прав, — согласился Борис.
Он проводил свою спутницу до салона и вернулся в гостиницу, где его уже поджидал Саенко, пробравшийся в его номер тайком, с помощью знакомого мальчишки, что на кухне драил котлы и убирал мусор.
— Аркадий Петрович велел идти вам в слободку, Марфа Ипатьевна вернулась.
Опять Борис переоделся попроще, описал Саенко молодого человека, что следил за ним по поручению Вольского, и спустился по лестнице. Саенко взял свой короб, припрятанный в укромном месте с помощью все того же кухонного мальчишки, открыто вышел из дверей гостиницы и направился прямо к молодому татарину, который стоял напротив гостиницы в тенечке и делал вид, что внимательно читает «Симферопольский курьер». Саенко поставил тяжелый короб чуть не на ногу татарину, правильно рассудив, что тот не станет скандалить, чтобы не привлекать к себе внимания. После этого Саенко утер обильный пот со лба, встал так, чтобы заслонить от обзора читателя «Симферопольского курьера» двери гостиницы, и вступил с ним в долгий и обстоятельный разговор, то есть так повел дело, что не ответить ему было невозможно. Это дало Борису время выскользнуть из дверей гостиницы незамеченным.
В слободку он поспел к обеду. Марфа Ипатьевна накрывала на стол. Была она, как обычно, в темном ситцевом платье, но голову покрывал сегодня яркий цветастый платок.
— Что, Марфа Ипатьевна, погадали на короля? — вполголоса спросил Борис, заглядывая в кухню.
— На всех погадала, — смеясь, ответила хозяйка, но в глазах ее мелькнула затаенная грусть, — все про вас теперь знаю.
— Ну и что нас всех ожидает?
— Ожидает вас поздняя дорога и казенные хлопоты. Про тебя точно не знаю, а про него, — она кивнула на дверь комнаты, — уверена.
— Хорошая гадалка оказалась? Мне бы кто на сестру мою погадал — жива ли?
— Вот этого не надо, — серьезно заметила Марфа Ипатьевна, — не нужно случайным людям судьбу родного человека доверять. Одно дело — на зазнобу или на милого дружка гадать: любит, не любит, помнит али забыл давно, а другое дело — на родного человека, жив ли он.
Борис в который раз поразился рассудительности своей хозяйки.
Аркадий Петрович отодвинул тарелку.
— Ну, Марфа, не томи душу: удалось выяснить что-нибудь важное?
Борис отметил про себя, что Горецкий впервые при нем назвал хозяйку просто по имени.
— Нашли следы Просвирина? — поддержал он подполковника.
— Про Просвирина вашего ничего не знаю, а мужик в доме у Авдотьи Лаврентьевны определенно есть, — посмеиваясь, ответила хозяйка.
— Из чего же вы вывод такой сделали? Использовали дедуктивный метод? — пошутил Борис.
— Не знаю никакого такого метода, а только глаза-то у меня всегда при себе. Ну, сами посудите, живет Авдотья якобы одна, а в сенях чугун борща стоит — вот такой! — Она показала какой. — Одному человеку нипочем такое количество за день не съесть, а впрок варить при жаре нынешней — все ж прокиснет. Дальше смотрю — сапоги мужские под лавкой спрятаны.
— Мало ли от кого сапоги остались! Может, от бывшего полюбовника!
— Если бы они бесхозные были, то не валялись бы под лавкой, — резонно возразила Марфа Ипатьевна. — Авдотья выжига такая, ничего у нее не пропадает. Живо бы сапоги эти на толкучку снесла.
— Значит, думаете, у сапог хозяин есть?
— Верно, и в доме у Авдотьи чуть табаком припахивает. Вроде бы не только что курили и проветрено, а все же дух остался. Конечно, сейчас и некоторые бабы курят, не спорю, но Авдотья не из таких, уж это точно.
— М-да, Марфа Ипатьевна, вам бы сыщиком быть! — не унимался Борис. — Ната Пинкертона за пояс заткнули бы!
— Чур, ты, насмешник! — Она слегка ударила его по руке. — Можете не верить, но я-то знаю: есть у Авдотьи мужик, прячет она его в доме. Как заметила, что я по сторонам гляжу, так на меня зыркнула! Видно, что деньги нужны, оттого и гадает, а так бы взашей вытолкала. Так что уверена я: там он. Мы, женщины, такие вещи про свою сестру всегда почуем.
— Так и она, выходит, могла вас в подозрении держать, раз женщины такие вещи чувствуют: есть, мол, кто или нет? — неосторожно начал Борис и тут же остановился, потому что хозяйка так гневно на него посмотрела, что язык присох к гортани.
Он оглянулся на Горецкого, но тот думал о чем-то своем, рассеянно глядя в окно. Борис виновато развел руками и опустил повинную голову, потом глазами и руками изобразил, какой же Аркадий Петрович глупый, что пренебрегает такой женщиной, и будь он, Борис, на его месте, то он бы… После чего Марфа Ипатьевна не выдержала и засмеялась. Горецкий очнулся от дум, посмотрел с неудовольствием на веселую компанию и спросил:
— И как думаете, Марфа Ипатьевна, где она Просвирина прячет — в подполе?
— Кто же знает… В доме тесно, все заставлено комодами разными, буфетами…
— Что ж, надо действовать, — решил Горецкий. — Если Просвирин что-то заподозрит, то средь бела дня не отважится выйти на улицу, будет темноты ждать. До этого мы его и возьмем.
— А если он так и будет у Авдотьи в кладовке сидеть? Баба хитрая, так запрячет, что с обыском не найдешь…
— А мы ему поможем, — загадочно усмехнулся Горецкий. — Такое представление устроим, что сам к нам выскочит как миленький. Куда это Саенко запропастился?
— Тут я, — донеслось из сеней, — только вошел.
— Давай, голубчик, сходи-ка вот по поручениям. — Аркадий Петрович махнул рукой, приглашая Саенко в комнату поговорить.
— Что за жизнь! — вздохнул Саенко. — Ни тебе поесть, ни тебе попить, ни тебе отдохнуть в тенечке. Таскайся по этакой жаре туда-сюда. Эх, грехи мои тяжкие!
Перекусив наскоро и вылив на голову ведро воды, Саенко отправился обратно в город, чтобы к вечеру успеть выполнить многочисленные поручения подполковника Горецкого.
Феодосия — город небольшой. И все важные учреждения находятся в центре. А также магазины, аптеки и почта. Еще полиция, комендатура и здание контрразведки.
Молодой татарин, что следил за Борисом, по-прежнему стоял напротив дверей гостиницы. Время шло к трем часам, солнце нещадно накалило мостовую, казалось, что камни плавились в его лучах. Тень ушла, и соглядатай, измучившись, рискнул уйти со своего поста, чтобы выпить прохладительного в кофейне за углом, посчитав, что в этакую жару ни один нормальный человек не выйдет из дома. Машинально оглядывая улицу в окно, он вдруг заметил знакомую фигуру. Сегодняшний коробейник, что привязался к нему утром как банный лист с разговорами, шел по улице деловым шагом. Короба у него татарин не увидел и, приглядевшись, с изумлением заметил на нем военную форму. Он протер глаза, думая, что привиделось от жары, но не зря же битых полчаса он отвечал на вопросы настырного коробейника — лицо его он запомнил очень даже хорошо.
Саенко специально свернул в переулок, чтобы не идти мимо гостиницы, так надо же было такому случиться, что именно в этом переулке находилась кофейня! Татарин смекнул, что дело нечисто и осторожно отправился вслед за Саенко. Тот торопился выполнить многочисленные поручения подполковника Горецкого и не очень смотрел по сторонам, так что преследователь побывал вместе с ним и у здания контрразведки, и у комендатуры, и на складе боеприпасов, после чего зоркие глаза хохла приметили какое-то движение сзади, и он не раздумывая нырнул в ближайший переулок, да и пропал из виду. Преследовавший же его татарин побежал в гостиницу, сунул коридорному денег, чтобы тот стукнул в номер Бориса. В номере, как и предполагал татарин, никого не оказалось. Смуглая от природы и от солнца кожа на лице татарина посерела от волнения, он мигом сообразил, что курьер подставной, из контрразведки, и побежал докладывать, но не Вольскому, как думал Борис, а своим, потому что послала его следить за подозрительным курьером Милли-Фирка, где давно уже перестали доверять Вольскому и баронессе.
Авдотья Лаврентьевна не спеша возвращалась домой с рынка. Сегодня она припозднилась, потому что зашла еще в лавку и купила ситцу. На душе у нее было спокойно: корзинка с помидорами, баклажанами и курицей приятно оттягивала руку, и она уже мысленно прикидывала, какой знатный ужин приготовит сегодня для Порфирия Кузьмича. Впервые за долгие годы одиночества Авдотья испытывала ни с чем не сравнимое чувство замужней женщины. Хотя Порфирий Кузьмич жил в ее доме не совсем по сердечной склонности, а единственно от безвыходности своего положения, однако, как бы то ни было, мужчина в доме был, ее собственный мужчина, и это было приятно.
Вот и домик показался из-за поворота. Ах ты, Господи, да что же это такое! Из окна домика валили клубы черного дыма. Батюшки, да никак пожар!
Вот тебе и гадалка — шла с базара довольная, беды не чуяла, самой себе предсказать не могла!
Авдотья бросила корзину и со всех ног кинулась к дому: там ведь Порфишенька сердешный, взаперти сидит, сгорит же за здорово живешь!
Охая и причитая, она распахнула дверь. Густой черный дым наполнил сени. Авдотья обмотала лицо краем вышитой темно-красной шали и очертя голову бросилась в дым. Кашляя и задыхаясь, она вбежала в горницу, отодвинула сундучок… Снизу уже колотил несчастный Просвирин, потерявший всякую надежду на спасение. Авдотья подняла крышку люка, Порфирий Кузьмич, бледный от страха, с трудом вскарабкался по лесенке, Авдотья подхватила его под руки и, как малого ребенка, потащила через дым на вольный воздух.
Выбравшись в сад, она без сил плюхнулась своим немалым весом на скамью, Порфишенька повалился рядом, выпучив глаза и отдуваясь.
Авдотья же уставилась на дом. Неужели сгорит все, что она заработала за долгие годы колодой засаленных карт и хорошо подвешенным языком? Сделав первое, что подсказало ей женское сердце — вытащив из горящего дома любимого человека (какой никакой, а все же таки мужчина), — Авдотья пришла в ужас от ожидаемых потерь, от утраты хозяйства, достатка, крыши над головой…
За забором слышался шум, крики, но в садик никто почему-то не входил и к дому не приближался. Авдотья вгляделась лучше. Да полно, пожар ли? Что-то тут не так! Говорят ведь — нет дыма без огня, а тут — дым валит из окон, а огня-то не видать! И жара нет! Что за чертовщина такая. И пока Авдотья Лаврентьевна изумленно пялилась на свой домишко, Порфирий Кузьмич, малость очувствовавшись, заподозрил неладное и беспокойно бегал глазами по сторонам.
И не напрасно.
В калитку не торопясь входил представительный господин средних лет в форме подполковника… Просвирин вскочил было — бежать, но из-за домика выходили уже с двух сторон двое казаков-донцов… Порфирий Кузьмич еще не вполне отдышался после перенесенного потрясения. От казаков не удерешь… Он тяжело вздохнул и поднялся навстречу офицеру.
— Сидите, сидите, Просвирин, — насмешливо произнес Аркадий Петрович Горецкий. — Вы, должно быть, от длительного сидения в подполе у мадам Голосовой совсем обессилели!
— Ваше благородие, — залепетал Просвирин, — не почему другому, а только сильно испугамшись… С перепугу, значит, спрятался, хотел переждать… Злые люди охотятся, хозяина утопили… а мы ничего не знаем, ничего не видели, за что же помирать не своей смертью?
— Здорово, Просвирин! — окликнул его веселый голос. — Прокашлялся?
Просвирин оглянулся, и в глазах у него потемнело: он узнал того постояльца, которого месяц назад подвел под убийство, оставив в номере сонного с мертвецом.
— В-ваше благородие, — заикаясь пробормотал он.
— Знаю, ничего не видел, ничего не знаешь, и не ты мне кокаина в вино подсыпал, и не ты в салоне про бриллиант узнал, и не ты…
— Не я! — заверещал Просвирин и повалился в ноги Горецкому. — Ваше благородие, злые люди оклеветали, а мы ни сном ни духом…
— Берите его, ребята, — обратился Горецкий к казакам, — скоро стемнеет, время дорого.
Авдотья Лаврентьевна все это время молчала — очевидно, от изумления, во всяком случае, такое поведение раньше было ей совершенно несвойственно. Наконец она слегка оправилась от пережитого шока и огляделась по сторонам. Все рушилось: у нее горел дом и отбирали любимого человека. Однако, прикинув, что Порфирия Кузьмича она вряд ли получит назад, раз за него взялась контрразведка, Авдотья решила сосредоточиться на главном. Она набрала в легкие побольше дымного воздуха и приступила к подполковнику с кулаками.
— Почто дом пожгли? — визгливо закричала она.
Однако вместо подполковника у нее на пути оказался плотненький такой хохол с хитро поблескивающими глазками.
— Тише, тише, хозяюшка, — уговаривал хохол, пытаясь схватить Авдотью за руки, — ничего твоему домишке не сделалось. Шашку дымовую мы подложили, ты уж не обессудь. Выйдет дым, повоняет немножко, и все пройдет. Сама виновата: нечего всяких сомнительных личностей в подполе прятать.
Авдотья, успокоившись насчет дома, пришла в дикую ярость, что у нее отбирают Порфирия Кузьмича, и набросилась на Саенко, норовя вцепиться ему в глаза, но он успел отвернуться, так что она только сбила с него фуражку и мазнула по лицу.
— Ты, ведьма старая, радуйся, что тебя в контрразведку не забрали! — закричал разозленный Саенко. — Ваше сковородие, что же это получается, мне же еще и от бабы попало!
— Оставь ее, Саенко, идем уже.
Через минуту все стихло. Робко заглядывающие во двор соседки видели только заливающуюся слезами Авдотью Лаврентьевну. Женскому счастью пришел конец.
* * *
В здании контрразведки Аркадий Петрович увидел у дверей своего кабинета позднего посетителя. Ювелир Михаил Серафимчик, толстый и потный, сидел в коридоре на венском стуле, свисая с него объемистым задом. Вид он имел достаточно смущенный.
— Михаил Исаевич! — воскликнул Горецкий. — Чем обязан в столь поздний час? Я думал, в такое время вы уже почиваете.
— Какое там! — Серафимчик махнул рукой. — У меня в мастерской неприятное событие произошло, и я, учитывая наш утренний разговор, счел своим долгом поставить вас в известность.
Горецкий пропустил ювелира в свой кабинет, плотно закрыл за собой дверь, указал на достаточно просторное кресло и только тогда спросил:
— Что же у вас случилось?
— Сбежал!
— Кто сбежал, Михаил Исаевич? — Горецкий почувствовал неладное, но держал себя в руках. — Прошу вас, не волнуйтесь, но рассказывайте быстро и по порядку.
— С обеда сегодня Арсения нет в мастерской. Сроду такого не бывало, чтобы не предупредил. Мне докладывать сразу не стали, пошли к нему в комнату, а там все вещи разбросаны, видно, спешил. Окно нараспашку, а костыли-то стоят, к кровати прислоненные!
— Выходит, липовый у вас инвалид-то был?
Серафимчик смущенно пожал толстыми плечами:
— Вы думаете, он строил из себя калеку?
— А как же еще понимать сие событие? Раз через окно убежал, костыли оставил — значит, никакой не калека. Выходит, спугнул я его своим появлением. Не поверил господин симулянт в мое санитарное звание, почувствовал опасность — и в бега…
Серафимчик помрачнел и даже как-то обвис своими необъятными телесами.
— Выходит, рыльце-то у него было в пушку!
— Не без этого, — жестко проговорил Горецкий. — Так что, Михаил Исаевич, впредь осторожнее за своих людей ручайтесь. Если не хотите быть замешанным в уголовном деле, — еще суше добавил он.
Серафимчик горько вздохнул и вышел из кабинета, волоча ноги.
Привели Просвирина. Он дрожал мелкой дрожью и вид имел самый что ни на есть жалкий. Борису хотелось пнуть его ногой и раздавить каблуком, как таракана. В общем, было противно.
— Быстро, Просвирин, рассказывайте все, что произошло в ночь с третьего на четвертое августа в гостинице «Париж», — резко приказал Горецкий. — Имеете возможность облегчить свою участь. И чтобы никаких запирательств, мы и так многое про вас знаем.
Ему в ответ раздалось только клацанье зубов.
— Тогда упрощу вам задачу, — терпеливо сказал Горецкий профессорским голосом. — Ответьте мне только на два вопроса: кого вы привели в гостиницу, чтобы убить Махарадзе, и что еще, кроме бриллианта, вы нашли в карманах убитого?
— Ничего, — забормотал Просвирин, захлебываясь и брызгая слюной, — ничего не нашли и ничего не взяли… Ваше благородие, господин полковник, как на духу говорю: бес попутал, бес попутал связаться с извергом этим, душегубом окаянным. Если бы знал, если бы ведал я, что он грузина того убьет…
— А ты думал, он у того грузина бриллиант вежливо попросит, тот и отдаст, — закричал потерявший терпение Борис. — Хватит дурачком прикидываться! Говори, кто он?
— Уж не Арсений ли, Серафимчика мастер? — присовокупил Горецкий.
— Он, ваше благородие, он, аспид, — Просвирин повалился в ноги Бориса и Горецкого, — из-за него все несчастия мои…
При этих словах окончательно разозлившийся Горецкий так рявкнул на Просвирина, что тот мигом поднялся и, глядя в угол кабинета, достаточно толково поведал, как он подсмотрел в четверг третьего августа, когда служил у баронессы в салоне, передачу крупного бриллианта некоему грузину, как проследил за этим грузином до гостиницы, как сообщил обо всем ювелирному мастеру. Борис подумал тут, что уж больно гладко организована была операция, можно предположить, что это был не первый раз. Просвирин рассказывал уже, как он подсыпал кокаина в вино.
— А когда они изволили задремать, то я им помог до номера дойти, вроде как они сильно пьяные… — бормотал Просвирин, стараясь не встречаться глазами с Борисом. — Он, Арсюшка, в номере уже был, там и убил грузина. И бриллиант забрал.
— А ты что же, задаром старался?
— Он сказал, что распилит его и продаст… а потом хозяина гостиницы татары убили, я испугался, что и меня тоже…
— Что еще взяли у убитого? — прервал Горецкий завывания Просвирина.
— Бумажник мы ему оставили, — деловито начал Просвирин, — чтобы на их благородие подумали, что они его из-за карт прирезали.
— Что еще у него было — портсигар, мелочь какая-нибудь, бумаги листок? — перечислял Горецкий, но Просвирин только мотал головой.
— Мог он, Арсений, что-то забрать, чтобы ты не видел?
— Он все может, — понурился Просвирин. — Он страшный человек, он кого хочешь достанет, сквозь стены пройдет.
— А не врешь ты, не наговариваешь на человека зря? — сказал Горецкий, снимая пенсне и внимательно глядя лакею в глаза. — Ведь Арсений-то сбежал, так что на него теперь все свалить можно. Может, все-таки ты грузина убил?
Просвирин затравленно оглянулся, будто за спиной у него кто-то прятался:
— Не сбежит он никуда, аспид. Он от камней этих, бриллиантов проклятых, сам не свой делается. Будто нечистый в него вселяется. Сам говорил, как в руки берет, так ровно пьяный делается. Руки трясутся, глаза горят… Боюсь я его, он человека за камешек зарежет, глазом не моргнет. Куда же он отсюда денется, когда здесь, почитай, у каждой старухи камней энтих немерено… А главное, у хозяина его, Серафимчика этого, золотая палата. Он вокруг магазина этого так и будет ходить, как собака на привязи…
— Вот оно что, — задумчиво произнес Горецкий, — а скажи-ка ты, мил друг Порфирий, хочешь ты, чтобы я тебя отпустил подобру-поздорову к гадалке твоей разлюбезной?
— Ваше благородие! Всю жизнь за вас Бога молить буду!
— Тогда сделаешь, что я тебе велю.
Дверь распахнулась со стуком, на пороге возник запыхавшийся Саенко.
— Ваше сковородие! Беда! В тюрьме событие произошло!
— Тише. — Горецкий выскочил в коридор, откуда послышалось гудение голоса Саенко.
Посреди ночи в тюрьме поднялся шум. В дверь одной из камер колотили изнутри, доносился истошный крик:
— Помирает! Человек помирает!
Дежурный надзиратель, гремя ключами, подошел к камере, открыл маленькое зарешеченное окошечко и недовольным заспанным голосом спросил:
— Ну чего вы, дьяволы, горланите? До утра, что ли, подождать нельзя?
— Нельзя, нельзя, никак нельзя, господин начальник офицер! — жалобным голосом, нещадно коверкая русские слова, запричитал рослый бритый татарин. — Дядя мой помирать, совсем помирать!
— Вот еще нелегкая, — тяжело вздохнул надзиратель, — чего еще там с твоим дядей стряслось?
— Падучая у татарина, — подал голос из угла босяк, задержанный за бродяжничество.
Надзиратель крикнул в глубину коридора своему напарнику, чтобы подошел и подстраховал его, и с ленивым вздохом отворил скрипучую дверь камеры.
Старый татарин действительно бился на полу в конвульсиях, изо рта у него шла белая пена.
— Палку ему какую-нибудь надо в зубы сунуть, — подсказал из угла босяк, обладатель большого жизненного опыта, — а не то зубы все себе покрошит в песок.
Бритый племянник сел в углу на корточки и тихо подвывал, глядя вперед бессмысленными глазами.
— Черт с ними, с зубами его, — отмахнулся надзиратель и окликнул напарника: — Кузьмич, иди сюда, вынесем старого, да в лазарет! А не то так и будет до утра тут биться, уснуть не даст.
Кузьмич внимательно оглядел камеру, скользнул взглядом по бритому татарину, вся поза которого изображала немую скорбь, пренебрежительно отвернулся от бродяги, но все медлил.
— Да идешь ты или нет! — заорал первый надзиратель, торопясь скорее избавиться от хлопотного заключенного и идти досыпать.
Кузьмич вошел в камеру неохотно — как-никак нарушение правил — и наклонился к припадочному, собираясь взять его за ноги. Но в это время широкоплечий «племянник» в мгновение ока очутился рядом, сгреб обоих надзирателей за воротники гимнастерок и с размаху сшиб их головами. Надзиратели, лишившись чувств, упали на пол камеры, а припадочный дядя вскочил мгновенно и выплюнул кусок мыла. Татары бросились к двери. Перед тем как выскочить из камеры, Керим оглянулся на босяка и спросил:
— Ну ты, беспаспортный, бежишь с нами?
— Не-а, — помотал головой босяк, — куда мне бежать? Меня завтра обратно сюда приволокут…
— Ну и шайтан с тобой! — Керим захлопнул дверь камеры и запер ее реквизированным у надзирателя ключом.
Татары крадучись пробрались по тюремному коридору. В конце его перед большой решетчатой дверью дремал пожилой солдат. Винтовка его была прислонена к стене чуть поодаль. Керим сделал дяде Мустафе знак держаться сзади и, стараясь не разбудить солдата, тихонько подобрался к нему как можно ближе. Вдруг часовой схватил винтовку и закричал:
— Стой! Кто идет?
Керим в один прыжок подскочил к нему и схватился за винтовку. Старый солдат, однако, оказался силен и достаточно проворен и не отдавал оружие, одновременно громким голосом подзывая подмогу.
Тем временем сзади к часовому подобрался дядя Мустафа и огрел беднягу по голове огромной связкой ключей от камер. Солдат обмяк и повалился на пол, но вдали по коридорам уже с топотом бежала подмога.
Татары поспешно один за другим перебирали ключи, стараясь найти нужный. Наконец замок поддался, дверь тяжело со скрипом распахнулась, и беглецы выскочили во двор. На их счастье, калитка перед дверью была в это время открыта — в тюрьму возвращался кто-то из надзирателей дневной смены. Керим с разбегу оттолкнул двоих солдат в воротах, и татары выскочили в темный кривой переулок.
— Стой, стой! — слышалось сзади. — Стой, сволочь, стрелять буду!
Вслед за угрозой действительно прогремело несколько винтовочных выстрелов.
Керим, заворачивая за угол, оглянулся и увидел, как дядя Мустафа резко остановился, будто налетел на каменную стену. Ноги его подогнулись, и старик упал лицом в уличную пыль.
— Прощай, дядя, — прошептал Керим, — прощай и прости меня… Не могу я вернуться, не могу попасть в руки неверным…
И Керим побежал дальше хорошо знакомыми ему кривыми переулками городских окраин.
— Вот что я вам скажу, голубчик. — Горецкий задумчиво смотрел на Бориса, выбивая пальцами на крышке стола Турецкий марш Моцарта.
Они были в кабинете вдвоем, ночь подходила к концу, за окном наступила особенная глухая предрассветная тишина.
— Вот что я вам скажу. Мы должны господ конспираторов, вашу красавицу баронессу вместе с Вольским, напугать, заставить их перейти к активным действиям. Они хотят отдать вам бриллианты в последний момент, перед самым отходом «Пестеля», поскольку считают, что это менее рискованно. А мы должны сделать так, чтобы у них земля горела под ногами. Тогда они отдадут бриллианты вам, и мы убьем, что называется, двух зайцев сразу — и конспираторов возьмем с поличным, и ловушку устроим для нашего хромого ювелира. И кроме того, непрерывная грубая слежка не даст сбежавшему Кериму возможности связаться с ними и опознать вас.
— Что будет с конспираторами, как вы их называете? — поинтересовался Борис.
— Контрразведка ими займется, и татарской Милли-Фиркой тоже. Дело политическое, тонкое. С татарами ссориться тоже не с руки. Но эти, Вольский и компания, кроме того, причастны еще и к уголовщине. Потом, я думаю, их расстреляют.
Борис расстроился. На Вольского ему было наплевать, но красавица баронесса с фиалковыми глазами вовсе не заслуживала того, чтобы ее поставили к стенке. Но… на войне как на войне, Борис для нее ничего не сможет сделать…
— А что Просвирин? — спохватился Борис. — Неужели вы его отпустили?
— Отпустил, отпустил, да только не одного, а с Саенко. Тот за ним издали следит, ни на минуту из виду не выпускает. Вы Саенко не знаете, он в человека как клещ вцепится. Да Просвирин и сам никуда не денется — некуда ему уходить, он теперь все сделает, что мы ему велели.
— А почему, Аркадий Петрович, вы так уверены, что помощник ювелира с Просвириным непременно свяжется?
— Из двух соображений, и самых сильных на свете: из мести и жадности. С одной стороны, он думает, что это Просвирин его предал, поэтому я появился у Серафимчика, и захочет прояснить с ним отношения. С другой стороны, по описанию Просвирина он настоящий маньяк, ради бриллиантов готов на любое злодейство и чувствует их издалека, как верблюд чувствует воду. Поэтому Просвирин легко сможет его убедить, что бриллианты, которые передаст вам Вольский, только его и дожидаются. Представим дело так, как было месяц назад. Вы — курьер, перевозящий бриллианты, утром вы отплываете на «Пестеле», а поселитесь на эту ночь снова в гостинице «Париж», чтобы все было как в прошлый раз. Уверен, что ювелир не сможет удержаться от ограбления, ведь он же маньяк.
На следующее утро господин Вольский поднял занавеску и выглянул в окно. Точно так же, как и полчаса назад, на противоположном углу улицы стоял, прислонившись к фонарному столбу, мордатый тип с незажженной папиросой в углу рта. У него, можно сказать, на лбу было написано слово «филер». Нахальные глаза филера вылупились на окошко, так что Вольский предпочел тут же опустить занавеску. Что делать? Связаться с баронессой? Но чем она сможет ему помочь? Связаться с татарами? Сбежать из города?
Татарам Вольский не доверял. Точнее было бы сказать, что они ему не доверяли — он был для них чужаком: не татарин, даже не мусульманин — человек далекий от пантюркизма.[16]
Это недоверие естественным образом стало взаимным. Пока их объединяли финансовые интересы, все еще было терпимо, но теперь, при первых признаках провала, Вольскому пришла в голову мысль — а не татары ли его провалили как чужака? Что им какой-то неверный?
И что теперь ему делать? Сбежать из города? Но у него на руках находилась партия бриллиантов, а в Крыму сейчас, за пределами городов, впрочем, как и везде в России, неспокойно, пошаливают банды зеленых и красно-зеленых, не то что за бриллианты — за хорошие сапоги убьют и не поморщатся. Да и татары не простят ему похищения бриллиантов, они найдут его везде, у них тут всюду свои. Скверно, как скверно все получилось. Татары и так смотрят на него косо с тех пор, как в прошлом месяце операция провалилась из-за убийства курьера. Пропал крупный бриллиант…
Немного успокоившись, Вольский решил, что глупо сидеть и ждать ареста, нужно как-то действовать. Возможно, слежка существует только в его воспаленном воображении, а мордатый тип за окном — обычный приказчик из лавки, поджидающий свою зазнобу. Вольский взял трость и шляпу и вышел из дома неторопливым вальяжным шагом, будто собрался просто пройтись по улицам. И разумеется, мордатый тут же потащился следом. Вольский прошел два-три квартала, остановился, осторожно оглянулся. Филер был тут как тут, в десяти шагах, разглядывал афишу летнего кафе-шантана.
Мимо ехал извозчик. Вольский быстро пересек улицу, вскочил в пролетку и крикнул:
— В порт! Быстро! Заплачу вдвое!
Он надеялся затеряться в портовой суете, уйти от преследования. Извозчик нахлестывал лошадей. Но, оглянувшись, Вольский заметил, что сзади за ним едет, не отставая, такая же извозчичья пролетка и в ней, хамски ухмыляясь, сидит все тот же мордатый тип.
Вольский попытался собраться с ускользающими мыслями. Если его преследует полиция, а, судя по беспардонности слежки, это так и есть, то главное сейчас — это избавиться от бриллиантов. Черный замшевый мешочек во внутреннем кармане сюртука жег его тело, как раскаленный уголь. Отдать бриллианты татарам? Где их сейчас искать, да и если он наведет на них полицию, то от татар потом нигде не спасешься, со дна Черного моря достанут. Оставалось одно: наиболее естественным было передать бриллианты курьеру, не дожидаясь завтрашнего дня и прихода «Пестеля». Раньше они с баронессой считали, что у Вольского бриллианты будут в большей безопасности, но какая уж тут баронесса, когда земля горит под ногами! Если он сдаст бриллианты курьеру, то этим развяжет себе руки, с поличным полиция его уже не возьмет.
В людской толчее возле порта пролетка сбавила ход. Преследовавший экипаж немного отстал, и Вольский, улучив минутку, сунул извозчику деньги, соскочил на землю и смешался с толпой. Он сам удивился, насколько ловко у него получилось уйти от слежки, но отмахнулся от шевельнувшегося в голове подозрения, что не все ладно. Поминутно оглядываясь, он пошел быстрым шагом к гостинице «Таврида», в которой остановился курьер. Слежки пока не было видно, значит, ему удалось на некоторое время обрести свободу. Однако не следует обольщаться — если уж сели ему на хвост, то скоро снова обнаружат: Феодосия — город маленький. Но за это время он сможет отдать курьеру камни.
Перед входом в гостиницу Вольский наклонился, как будто завязывал шнурок, и внимательно оглядел улицу. Не заметив никого подозрительного, он вошел в обшарпанное здание и поднялся на второй этаж. Постучал в дверь седьмого номера.
— Войдите! — услышал он знакомый голос курьера.
Борис был в номере и наблюдал из окна за улицей. Недавно он видел, как напротив гостиницы появился вчерашний молодой татарин, к нему сразу же подошли двое дюжих молодцов из контрразведки, подхватили под руки и уволокли в переулок.
— Господин Вольский? Чем обязан?
Вольский трясущимися руками стал расстегивать пуговицы сюртука.
— Послушайте, обстоятельства изменились. Посылку я передам вам сейчас.
— Но вы утверждали, что это опасно, из чего я понял, что вы не доверяете мне и отдадите камни только завтра перед отправкой «Пестеля»? — В голосе Бориса послышались подозрительные нотки.
— Я повторяю — обстоятельства изменились. За мной следят, полиция, — неохотно признался Вольский.
— И вы не нашли ничего лучшего, как привести их сюда? — Борис схватил Вольского за лацканы сюртука и встряхнул.
— Не волнуйтесь, мне удалось оторваться, полиция действует грубо и непрофессионально. — Произнеся эти слова вслух, Вольский сам поразился, как неправдоподобно они звучат, но достал из потайного кармана черный замшевый мешочек, наблюдая за улицей в окно.
Показалось ему или нет, что мелькнула вдалеке бритая голова Керима? Он моргнул, но голова уже исчезла. Вольский оглянулся и увидел, что курьер направил на него револьвер и взвел предохранитель. Подставили! — осенило Вольского. Подставили проклятые татары! Теперь всю уголовщину свалят на него, а сами останутся в стороне… И курьера заменили они…
В то же мгновение дверь номера распахнулась, и на пороге появился представительный офицер средних лет в пенсне, сзади него протискивались двое казаков.
— Господин Вольский, он же Стоценко, он же Алпатов, — жестким голосом произнес офицер, — вы арестовываетесь военной контрразведкой по целому ряду обвинений. Извольте передать мне пакет. — И Горецкий протянул руку к проклятому замшевому мешочку.
Вольский переводил глаза с Бориса на офицера. Вот черт, подвело чутье! Прошляпил подставного курьера. Он скосил глаза на окно, но один из казаков уже стоял рядом, и, безнадежно махнув рукой, Вольский протянул камни контрразведчику.
Баронесса Штраум проснулась поздним утром. Сегодня никакие нежеланные посетители не тревожили сладкий утренний сон прелестной Софи. Баронесса потянулась в постели и постаралась вспомнить что-нибудь приятное. Тогда с утра будет хорошее настроение, день пройдет гладко, и не отложится на лице ни единой морщинки. Однако сегодня что-то не вспоминалось ничего приятного. Ее жизнь в этом городе была трудной и опасной, знакомые в салоне все ужасно надоели. Несколько оживляло скучное существование присутствие симпатичного молодого человека, но он оказался курьером, так что и с ним теперь могли связывать баронессу только деловые отношения. Она на минуту прислушалась к себе, что-то безотчетно тревожило ее с утра, какая-то тень бродила в мозгу.
Софи тряхнула головой, выпрыгнула из постели и, прежде чем крикнуть снизу горничную с умыванием, подошла к окну, но по давно установившейся привычке не стала отдергивать кружевную занавеску, а осторожно приподняла краешек. Как только она оглядела улицу напротив дома, так сразу поняла причину своего беспокойства после пробуждения. Напротив ее окон стоял черномазый вертлявый молодой человек с тросточкой — филер. Он прохаживался по тротуару и время от времени демонстративно поглядывал на окна баронессы.
Софи подавила в себе желание опрометью отскочить от окна. Она медленно отпустила занавеску, отошла обратно к кровати и задумалась. Не татарин, те бы не стали следить, а просто пришли бы в дом и узнали все, что им надо. Скорее всего этот из полиции — в контрразведке действовали бы осторожнее. Что нужно от нее феодосийской полиции? Ни в каких ограблениях и кражах она не принимала непосредственного участия, Вольский использовал ее исключительно для связи и особых поручений. Контрразведка арестовала Вольского и курьера, пришел ее черед? Но тогда при чем тут полиция?
Так или иначе, она будет действовать быстро. Бриллианты у Вольского, так что татары не будут иметь к ней никаких претензий, все остальное ее не касается, Вольский пусть выпутывается как сможет.
Баронесса позвала служанку, умылась, выпила утренний кофе, стараясь не выглядеть озабоченной. Затем она оделась для утренней прогулки в белое, прихватила зонтик и крошечный ридикюль и вышла на улицу, где было уже довольно жарко. Филер, не скрываясь, двинулся за ней.
Красавица с фиалковыми глазами, улыбаясь знакомым, прогуливалась по Итальянской. Глядя в витрины магазинов, она выяснила, что филер, преследующий ее, является единственным. Это вызвало у нее прилив бодрости. Она зашла в кондитерскую «Бликнер и Робинзон», поболтала там с хозяином и попробовала новый сорт шоколадных конфет. Там она встретила знакомого по салону и долго говорила с ним о пустяках, делая серьезное озабоченное лицо, а сама посмеивалась, думая, какие его ожидают неприятности завтра в полиции.
После этого баронесса посетила шляпный салон, магазин тканей, парфюмерную лавку и наконец зашла в мастерскую мадам Коко «Изящные корсеты, удобные бандажи и бюстодержатели».
Филер, как и в остальных случаях, оставался на улице. Баронесса не знала, что, кроме филера, за ней следит еще один человек, и делает это не напоказ. Но в мастерскую корсетов даже очень большому мастеру слежки вход был закрыт, если он не женщина.
В помещении мастерской баронесса Штраум кивнула девушке за прилавком и прошла за перегородку, откуда слышался стук швейных машин. Поманив рукой одну мастерицу, баронесса удалилась в кабинку для примерки.
Через пять минут в маленьком дворике открылась дверка, из нее, крадучись и испуганно оглядываясь, вышла женщина в белом летнем платье. Надвинув на лицо шляпу, женщина почти побежала из двора в соседний переулок. Филер по-прежнему стоял у дверей магазина. Неизвестный же из контрразведки усмехнулся и устремился за женщиной в белом. Во дворе стало тихо. Через некоторое время опять тихонько раскрылась маленькая дверца, из нее вышла старуха татарка, закутанная в поношенное покрывало, и отправилась прочь, сгорбившись и глядя себе под ноги.
Преследователь почти догнал баронессу, и тут вблизи ему показалось что-то не то в ее осанке и походке. Предчувствуя неладное, он не скрываясь обогнал ее и заглянул в лицо — так и есть, это была вовсе не баронесса Штраум. Он схватил самозванку за руку, та завизжала. Полчаса ушло на то, чтобы притащить ее в мастерскую, утихомирить визжащих девушек-швей и объясниться с хозяйкой мадам Коко. Баронессы к тому времени, естественно, и след простыл.
Глава тринадцатая
Борис сложил гостиничное одеяло валиком и устроил его на кровати таким образом, что со стороны в плохо освещенном номере казалось — в постели спит человек.
Сам Борис устроился в кресле. Он положил на колени револьвер, а сигнальный шнур взял в руки.
Гостиница «Париж» постепенно затихла. Время в темноте тянулось удивительно медленно, и когда слабый отблеск лунного света упал через окно на настенные часы, Борис увидел, что всего лишь полночь. Он дернул сигнальный шнур один раз, что означало проверку. В ответ шнур дернулся точно так же — люди Горецкого в соседней комнате бодрствовали, в любую минуту готовые прийти Борису на помощь. Это успокаивало.
Борис устроился в кресле поудобнее. В углу комнаты вдруг поднялась половица, и из-под нее полезли один за другим смуглые усатые турки с огромными кривыми ятаганами. Борис в ужасе вскочил — и проснулся. Он протер глаза, чтобы отогнать сон, и осторожно сел в кресло. Всмотрелся в настенные часы — они показывали полпервого. В комнате было так же тихо и пусто, как прежде. Борис снова дернул шнурок и получил ответ с небольшим запозданием, видимо, агенты в соседнем номере тоже слегка задремывали от нечего делать.
Тогда он сел как можно неудобнее, чтобы снова не сморил сон.
За окном прошла, горланя песни, подвыпившая компания юнкеров, затем снова все стихло. Время тянулось мучительно медленно. Казалось, близится уже рассвет, но, всмотревшись в часы, Борис увидел, что еще только двадцать минут второго. По улице с неимоверным скрипом колес проехала татарская арба, хозяин гортанным окриком подгонял своих сонных волов. Снова наступила тишина — вязкая, тягучая, утомительная.
Вдруг Борис почувствовал непонятную, необъяснимую тревогу. Его ладони стали влажными от пота, холодные капли потекли по спине. Все его тело напряглось от предчувствия опасности, смертельной опасности.
Он дернул шнур, чтобы убедиться в присутствии людей за стеной, но ответного сигнала не было. Он дернул еще раз, гораздо сильнее, и вместо ответа почувствовал тяжелое пассивное сопротивление, будто к другому концу шнура был подвешен тяжелый неживой груз…
Стараясь не поддаться панике, Борис несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, сжал и разжал кулаки. Главное было — не зашуметь раньше времени, тогда вся с таким трудом подготовленная ловушка рухнет. Пальцы правой руки нащупали в кармане тонкий шелковый шнурок. Борис вспомнил, что это тот самый шнурок, которым орудовал Вэнс в Батуме, тот самый, которым он задушил многих. Борис вынул шнурок из кармана — все же это было оружие, да к тому же бесшумное, а пока он будет доставать «наган» да взводить курок, может быть поздно. Напряженно всматриваясь в темноту, он не замечал ничего подозрительного, но чувство опасности до такой степени наэлектризовало воздух в комнате, что у Бориса зашевелились волосы на голове.
И тогда он услышал тихий, едва слышный скрип. Скосив глаза в сторону этого звука, Борис увидел, как медленно, едва заметно открывается дверца платяного шкафа. Борис замер, стараясь вообще не дышать. Слабый свет луны, сочащийся с улицы, не попадал в тот угол комнаты, где стояло кресло, и Борис был невидим в темноте.
Дверца шкафа открылась наполовину, и в образовавшемся проеме возникла человеческая фигура.
Человеческая ли?
В этой гибкой, упруго двигающейся тени чувствовалась огромная звериная сила и смертоносная грация хищника. Это был убийца, настоящий убийца. Выскользнув в комнату, он в два мягких крадущихся шага подошел к кровати и поднял руку. В облаке лунного света вспыхнула серебристая полоска лезвия. С коротким шумным выдохом убийца вонзил это лезвие в то, что он считал человеком, лежащим на кровати. И тут же по звуку, с которым нож вонзился в свернутое одеяло, убийца понял свою ошибку.
Все дальнейшее заняло ничтожную долю секунды.
Убийца еще только начал оборачиваться, пытаясь одновременно выдернуть нож, застрявший в металлических пружинах кровати, а Борис, выброшенный из кресла неизвестной силой, в один огромный прыжок подскочил сзади к своему невидимому противнику. Им руководил древний инстинкт, и поэтому он даже не притронулся к револьверу, лежавшему уже на коленях, а воспользовался тем самым шелковым шнурком. Он успел захлестнуть его на шее убийцы прежде, чем тот повернулся, чтобы отбить нападение. Борьба была страшной и совершенно беззвучной. Борис чувствовал, что противник намного сильнее, но помогло то, что ему так и не удалось вытащить застрявший нож, и то, что Борис напал первым и успел уже затянуть шнурок.
Постепенно сопротивление противника слабело, он начал хрипеть, задыхаясь. Борис хотел сохранить ему жизнь — у них с Горецким накопились вопросы к этому человеку, поэтому он ослабил шнурок и быстро, пока убийца не пришел в себя, этим же шнурком туго связал за спиной его руки. Затем он огляделся и, не найдя подходящей веревки, обрезал кусок сигнального шнура и связал убийце ноги. Убедившись, что тот совершенно беспомощен, Борис уложил его, как куклу, на свою койку и побежал в соседний номер за подмогой.
Его удивляло то, что агенты из соседней комнаты не появились на шум борьбы, но когда он открыл дверь, удивление прошло, сменившись ужасом и отвращением. Один агент лежал на полу в луже крови с перерезанным от уха до уха горлом. Второй сидел в кресле, намотав на кисть руки свой конец сигнального шнура. Его поза была совершенно идентична позе убитого месяц назад в этой гостинице батумского курьера Махарадзе, и, подойдя ближе, Борис увидел, что в горле у него точно так же, как у Махарадзе, торчит рукоятка кинжала, которым он приколот к спинке кресла, словно жук в коллекции энтомолога.
Борис огляделся, и в его мозгу мелькнула догадка. Он подошел к платяному шкафу, который стоял в этом номере у стены, смежной с номером Бориса. Открыв дверцу шкафа, он убедился в том, что догадка его подтвердилась: задняя стенка шкафа была отодвинута в сторону, и через образовавшийся проем можно было попасть в такой же шкаф в соседнем номере. Именно так и проник сейчас к Борису убийца, именно так он проник в тот же номер месяц назад и тем же путем ушел с места преступления, оставив в номере, закрытом изнутри, мертвого Махарадзе и бесчувственного Бориса, на которого естественным образом и пало подозрение.
Гостиничный номер заполнился людьми. Врач, писарь Сидорчук, несколько солдат, унылый и заспанный полицейский… Горецкий вошел одним из последних. Лицо его было мрачно, даже фигура утратила обычную осанку. Он подошел к Борису и произнес виноватым расстроенным голосом:
— Борис Андреевич, я виноват перед вами…
— В чем же? О чем вы говорите, Аркадий Петрович?
— Я подверг вас неоправданному риску. Мне не казалось, что этот человек так опасен. Жизни тех двоих людей, — Горецкий кивнул на соседнюю комнату, — на моей совести. А если бы что-то случилось с вами…
Они, не сговариваясь, повернулись к Арсению. Он сидел в кресле, по-прежнему связанный, и лицо его было абсолютно спокойно — ни страха, ни растерянности. Из обычных человеческих чувств на нем читалась только ненависть — если, конечно, ненависть можно считать обычным человеческим чувством. Увидев, что на него обратили внимание, Арсений ухмыльнулся и проговорил:
— Ну что, барин, доволен? Думаешь, изловил Арсюшу? Нет еще таких веревок, чтобы Арсюшу удержали!
Казалось, он обращается к одному Борису и вообще никого, кроме него, не замечает. Борис почувствовал эту странную связь и включился в разговор:
— Однако же я тебя одолел!
— Дьявол тебе помог, сатана тебе пособил! Один бы ты со мной нипочем не сладил!
— Не тебе сатану-то поминать! Сатана таким, как ты, помогает — злодеям да убийцам!
— Не злодей я! — воскликнул Арсений. — Только камешки мне нужны были, а люди эти у меня на дороге стояли! Камешки мне сердце радуют, душу греют! Когда смотрю, как они сверкают-переливаются, — будто заново жить начинаю…
Лицо у него удивительно переменилось, он страшно побледнел, глаза лихорадочно заблестели.
«Страшный человек! — подумал Борис. — Совершенный маньяк! Не дай Бог оказаться на пути его больной страсти!»
— А месяц назад, когда в этой же комнате ты убил человека — помнишь человека в черно-белой черкеске, ты приколол его кинжалом к спинке кресла, этого самого кресла, в котором ты сейчас сидишь… — Борис замолчал, потому что увидел — Арсений его не слушает, ему просто неинтересно, и тогда он начал вопрос по-другому: — Помнишь человека, у которого ты взял один, только один камень, но очень большой?
Ювелир сразу оживился, в глазах его появилось осмысленное выражение.
— Помню, хороший бриллиант, чистый как слеза и без дефектов. Надо мне было его распилить, да жалко… Жалко красоту такую губить.
— Если ты помнишь камень, вспомни и человека!
— Да помню я, помню. — Арсений скривился, как от жужжания назойливой мухи, — что он тебе дался, этот грузин?
— Ах, значит, помнишь? Так скажи, что ты взял у него, кроме бриллианта?
Арсений взглянул на Ордынцева удивленно:
— Что мне у него брать, кроме камушка? Мне больше ничего не нужно…
— А список! Бумажка, записка? Ничего такого у него не было?
Арсений пожал плечами:
— Ничего не видел, на что мне ваша бумажка?
Борис повернулся к Горецкому и сказал:
— Аркадий Петрович, по-моему, он не врет.
Горецкий, который во все время разговора не спускал с Арсения глаз, кивнул:
— Да, я думаю, что он говорит правду. Я не вмешивался в ваш допрос — он никому, кроме вас, не стал бы отвечать. У вас с ним после сегодняшней ночи сложились отношения особенные, какие бывают у противников после поединка. Сейчас он вам не солгал бы…
— Выходит, все зря?
— Нет, не зря, конечно. Мы поймали с поличным опаснейшего преступника. Это Арсений Лопахин. Я слышал о нем. Одно время был в окружении Махно, но анархисты прогнали его — они простили бы ему идейные зверства, но у этого маньяка все зверства были на почве его патологической страсти к драгоценностям, и батьке это не понравилось. — Горецкий повернулся к полицейскому чину и сказал: — Передаю этого человека в ваши руки. Это грабитель и убийца, контрразведке он не нужен. — После этого он прибавил: — Советую вам немедленно его обыскать. По моим соображениям, при нем может быть большое количество драгоценных камней, и если их сейчас у него не изъять, он позже найдет случай где-нибудь камни припрятать.
Полицейский важно кивнул и направился к креслу. Арсений забился, как эпилептик, лицо его перекосилось судорогой животной ненависти.
— Не смейте, собаки, не подходите ко мне! Не отдам! Мое это все, мое!
Двое дюжих солдат прижали его руки и ноги, а полицейский ловкими движениями обшарил одежду. Через минуту он выпрямился, держа в руке извлеченный из потайного кармана тяжелый кожаный кисет.
— Извольте взглянуть! — На обшарпанный гостиничный стол полились сверкающим ручейком искрящиеся сверкающие камни.
Среди них попадались очень крупные, а один, должно быть, тот самый, за который поплатился жизнью Махарадзе, был просто огромен.
Присутствующие заахали, обступили стол.
— Сейчас же сделайте опись! — решительным тоном сказал Горецкий. — Иначе многое может пропасть. Эти камни чрезвычайно скверно действуют на человеческую мораль. Для грамотного составления описи пригласите ювелира Серафимчика… Да, господа, страшно даже подумать, сколько жизней отнято за содержимое этого кисета!
Все присутствующие толпились вокруг стола с бриллиантами. Борис, движимый неясным чувством, оглянулся. Арсений, пользуясь утратой интереса к своей персоне, сумел чудом развязать руки и ноги и бросился к окну.
— Стой, стой, мерзавец! — Борис вытащил револьвер и направил его на беглеца, но раньше чем он успел снять оружие с предохранителя, рядом с ним прогремел выстрел. Арсений остановился, словно наткнувшись на невидимую стену, и рухнул как подкошенный.
Аркадий Петрович Горецкий спрятал дымящийся револьвер, надел пенсне и снова стал похож на профессора.
— Правильно, голубчик, — сказал он одобрительно Борису, — никогда не нужно смотреть в ту же сторону, куда смотрят все остальные. А реакция… реакция она придет.
— Что ж, — Борис открыл окно и полной грудью вдохнул свежий предрассветный воздух, — что ж, Аркадий Петрович, убийца Махарадзе найден, значит, с меня подозрения окончательно сняты.
— Ну, голубчик, с вас подозрения сняты давным-давно, да я вас на самом деле никогда и не подозревал. Вы ведь петербургский студент, юрист, мы с вами, что называется, свои по духу. — Горецкий поправил пенсне.
Опять вид у него был совершенно профессорский, безобидный, и офицерская форма казалась на нем с чужого плеча. Лицо его было уютным, но несколько отечным после бессонной ночи. Борис подумал, что Горецкий опять слегка кривит душой. Вряд ли он снял бы все подозрения с Бориса, руководствуясь только тем, что тот петербургский студент и «свой по духу». Если бы Горецкий давал оценки людям, руководствуясь такими субъективными представлениями, он не достиг бы такого положения, какое занимает сейчас. А кстати, кто же он все-таки? Но на этом размышления Бориса были прерваны Аркадием Петровичем, который продолжал:
— Но дело все же мы не закончили. Список, голубчик, список, — пояснил он.
— Ну уж я и не знаю, Аркадий Петрович, где же его искать. Был ли он вообще, этот список?
— Был, голубчик, был. Причем я уверен, что Махарадзе держал его при себе, никуда не спрятал.
— Но ведь вы тщательно обыскали труп?
— Тщательнее не бывает. Одежду по нитке прощупали, полость рта обследовали… уж не буду в подробности вдаваться, только поверьте: обыскали на совесть. Так что простите старика за назойливость, — при этих словах Борис хотел возразить, но Горецкий остановил его повелительным жестом, — еще раз попрошу вас вспомнить все, что удастся, из того вечера, когда вы с Махарадзе познакомились.
— Да я вам уже рассказывал, он сам ко мне подошел…
— Не важно, голубчик, что рассказывали. Повторите еще раз, возможно, что-то всплывет, на что раньше внимание не обращали…
— Подошел ко мне… Я еще удивился, что он нервничал. То есть тогда я просто подумал, что странный какой-то господин, назойливый очень, а теперь понимаю — это он от страха нервничал очень.
— Это понятно. Очевидно, он чувствовал за собой слежку, боялся турецких агентов… А нужно было ждать, ждать сутки или двое. Список жег ему ладони, фигурально выражаясь, но куда он мог его спрятать? Человек он был всем незнакомый…
— Ну, и он стал буквально навязывать мне игру. Чуть не силой заставлял играть. Я отнекиваюсь, мол, не умею даже играть-то, а он как банный лист — хоть одну игру, время скоротать. Что ему так приспичило — ума не приложу, компания нужна была, что ли… Я ему говорю, что мне, мол, и не на что играть-то, денег совсем мало, а он — да у меня, говорит, и вовсе денег нет, я на мели…
— Как — денег нет? — прервал Бориса насторожившийся Горецкий. — У него при обыске деньги найдены, не бог весть какие, но были у него деньги. Да вы и сами слышали, как Просвирин рассказывал, что деньги они у Махарадзе не взяли, чтобы не подумали, что его ограбили, чтобы вы под подозрением были. Это в первый момент и сработало. А вы говорите — денег нет.
— Я говорю как было, теперь точно вспомнил. Не было у него денег, — упрямо твердил Борис.
Горецкий вынул из кармана лист бумаги:
— Вот опись вещей, что при покойнике найдены были. Читайте: турецкие лиры в количестве пятидесяти трех, а также деникинские «колокола» — двести семьдесят рублей.
— Вот как, а он предложил мне сыграть на вещи. Поставил свои ботинки против моего портсигара. Он был так назойлив, что я решил: проще согласиться, ну, проиграю портсигар, он недорогой. Тем более что ботинки у него были хорошие, крепкие, английские, а мои ни к черту не годились, а размер у нас одинаковый оказался… — Борис осекся, увидев, каким взглядом смотрит на него Горецкий.
— Раньше про ботинки сказать не могли? — грозным голосом спросил он.
И все: исчез скромный рассеянный профессор, опять перед Борисом стоял жесткий человек с чеканным профилем.
— А вы не спрашивали, — огрызнулся Борис, не в силах поверить в очевидное.
— Это они и есть? — Горецкий кивнул на желтые английские ботинки Бориса.
— Ну да… А вы думаете?..
— Думаю. — Горецкий хищно смотрел на ботинки. — Иначе зачем ему было настаивать на дурацкой игре в карты? К чему было ставить на кон свои хорошие ботинки, когда у него были деньги? Все становится понятным. Махарадзе чувствовал, что за ним наблюдают. У таких людей, у курьеров, очень, знаете ли, развито чувство опасности. И естественно, он подумал, что за ним следят турки, что охотятся за списком, потому что операцию с бриллиантами он проводил не в первый раз и все проходило гладко. Ругал себя небось Махарадзе, что связался с англичанами, из жадности связался, хотел за один рейс больше денег заработать. И решил, пока суть да дело, спрятать список там, где никто его искать не станет — у вас, у случайного человека.
— А потом?
— А уж это, дорогой мой, я не знаю. Как уж он рассчитывал назад ботинки получить — эта тайна с ним вместе умерла. Так что позвольте ботиночки, Борис Андреевич…
Взгляд Горецкого стал еще более хищным. Борис расшнуровывал ботинки, руки от волнения дрожали, он путался в узлах.
— Не волнуйтесь, голубчик, — ехидно, как показалось Борису, приговаривал Горецкий, — если уж он там есть и никуда не делся за все это время, то лишние две минуты ничего не изменят. А насчет ботиночек не переживайте, босой не останетесь, вам на складе интендантства не хуже подберу.
Он достал перочинный нож и принялся варварски разделывать ботинки. Он отодрал стельки, затем надрезал твердую кожу каблука — и глазам взволнованных мужчин представилась пустота, в которой белел плотно скрученный рулончик папиросной бумаги.
— Вот он! — прошептал Горецкий. — А мы где только его не искали…
— И он здесь был все время… Переплыл со мной море, путешествовал по Аджарии, вернулся в Крым… Но я ведь мог вообще не вернуться…
— Пути Господни неисповедимы, — философски заметил Аркадий Петрович, развернул рулончик, вооружился остро заточенным карандашом и сказал: — Против одной фамилии можно уже сделать пометку, — и поставил аккуратную птичку около фамилии Карнович.
— И что вы теперь будете делать со списком?
— Список, Борис Андреевич, я буду внимательно читать. Англичанам я его не отдам, потому что человек, для которого этот список предназначался, мистер Солсбери, позавчера отбыл в родную Британию. Англичанам сейчас вообще уже не до списка. Они выводят свои войска, как вы слышали. Контингент остается только в Батуме, надолго ли, никто не знает[17]… Кроме того, для англичан этот список — всего лишь карта в дипломатической игре, а для нас с вами перечисленные в нем люди — враги, предатели. От того, как решительно мы избавимся от них, зависит, может быть, судьба Отечества.
Борис посмотрел на Горецкого с некоторым подозрением.
— Вы хотите сказать… без суда? Без следствия?
— Какой суд, голубчик?! Многие из них занимают важные, ключевые посты, некоторые в большом доверии у своего начальства. А попробуйте договориться, например, с генералом Шкуро! С ним главнокомандующий-то не всегда может найти общий язык! Пока мы будем тянуть со следствием, сколько вреда они могут еще причинить! Да кроме того, у нас ведь нет никаких доказательств, достаточно веских для суда, даже военного. Мы должны действовать быстро и решительно.
За окном начали подавать голос первые птицы. Наступал рассвет.
В штабном вагоне генерала Шкуро гуляли. Надо сказать, что гуляли здесь часто, чуть не каждый день, но сегодня повод был особенный, достойный был повод: батька Андрей обмывал свою третью звездочку. Накануне по телеграфу из ставки пришел приказ о присвоении ему звания генерал-лейтенанта.[18]
Шкуро полулежал на диване, полуобняв левой рукой певицу Дормидонтову, и вполголоса подпевал цыганам «Невечернюю». Напротив сидел его любимец, есаул Сайдачный. И лениво перебирал струны гитары.
— Скучно гуляем, хлопцы! — воскликнул вдруг Шкуро, прервав песню. — А ну, Степка, еще шампанского!
В салон вошел молодой казак в черной черкеске и папахе из волчьего меха — отличительный знак «волчьей сотни» генерала Шкуро. На подносе казак нес бокалы с шампанским.
— А где Степка? — недоверчиво спросил Шкуро.
— Хлебнул лишку, батьку, пьян свалился! — отвечал казак. — Я за него послужу, я ему сродственник.
— Проснется — выдеру скотину! — рявкнул молодой генерал. — А ты, сродственник, запомни: казаку прислуживать не след! У казака в руке должна быть шашка и нагайка, а не поднос и полотенце! Ну ладно, давай, шампанское выдыхается!
Казак ловко подскочил к генералу, повернул к нему поднос. Шкуро двумя пальцами взял бокал, подал его Дормидонтовой, второй взял для себя. Казак шагнул к Сайдачному, повернув поднос снова, так что перед есаулом оказался бокал с двойным золотым ободочком. Есаул схватил бокал, поднял и выпил одним глотком с возгласом: «За тебя, батьку!»
Казак раздал оставшиеся бокалы и выскользнул из салона.
Цыгане снова затянули песню. Минуту спустя Сайдачный поднялся, будто хотел пойти в пляс, протянул руку к своему генералу, открыл рот, но не успел ничего сказать, а грянулся на пол, вытянувшись в полный свой богатырский рост.
Шкуро вскочил:
— Что с тобой? Или перебрал? Куда больше нам с тобой выпивать случалось!
Молодая цыганка нагнулась над есаулом, поднесла зеркальце к его губам и, чуть подождав, подняла глаза на генерала:
— Умер он, батюшка! Мертвехонек лежит!
Шкуро огляделся по сторонам, увидел разбитый бокал на полу, вытащил шашку из ножен и заорал:
— Где этот казак проклятый, что выпивку нам приносил? На куски изрублю!
Кинулись искать казака, но его и след простыл. В соседнем с салоном купе, где хозяйничал денщик генерала Степан, нашли денщика — он тяжело стонал, держась за разбитую голову. Неизвестного казака искали по всему корпусу, Шкуро избил четверых вестовых и одного поручика, но все впустую: найти казака в казачьем корпусе — то же самое, что найти иголку в стоге сена или желтый лист в осеннем лесу.
Аркадий Петрович Горецкий получил сообщение и поставил в списке, который достал из своего личного сейфа, галочку против фамилии есаула Сайдачного.
Шура Черная, прима цыганского хора, ожидала в приватном покое своего горячего поклонника бравого кавалерийского генерала Барбовича. Вообще-то она была не совсем Шура, не совсем Черная, не совсем цыганка, но пела хорошо, а глазами играла еще лучше. Пламенный взгляд ее черных глаз пронзил не одно офицерское сердце, а сколько мелких и крупных секретов выбалтывают влюбленные мужчины — это Шура знала хорошо, очень хорошо.
Вот и сейчас она рассчитывала вытянуть из Барбовича кое-какие подробности последнего совещания в ставке, на которое он был приглашен.
В дверь постучали, и на пороге появился мальчишка-посыльный с огромным букетом, завернутым в хрустящую бумагу. Шура дала мальчугану гривенник, взяла букет и осторожно развернула бумагу. От кого бы это?
Внутри не было ни записки, ни визитной карточки — только тринадцать огромных прекрасных темно-бордовых роз. Шура не удержалась и погрузила лицо в цветы, вдохнула их нежный, чуть терпкий аромат. Аромат был необычный, слишком резкий для роз. Что-то в нем было не так… Шура схватилась за грудь. Ей не хватало воздуха.
— Что… что такое… — прошептала она едва слышно, не понимая еще, что умирает. — За что?!
Она оглянулась на посыльного — но его уже давно не было, да и кто он? Мальчишка, дали полтинник, он и рад…
Шура хотела крикнуть, позвать на помощь, но не смогла даже разлепить внезапно спекшихся горячих губ. В глазах у нее потемнело, ноги подкосились, и она бездыханная упала на дорогой персидский ковер.
Художник-фотограф Акопян обслужил последних клиентов — армянского купца с семьей, своего дальнего родственника, который непременно хотел сфотографироваться на фоне Арарата, хоть и картонного, — и тщательно запер изнутри свою мастерскую. Уединившись в лаборатории, он приступил к самой главной своей работе, за которую ему платили гораздо лучше, чем за семейные портреты и фотографические карточки «в парижском стиле».
В кювете с проявителем из белого тумана пластинок медленно проступали силуэты английский дредноутов, французских миноносцев, греческих крейсеров.
Когда снимки были проявлены и высохли, Акопян принес небольшой фибровый чемоданчик. Это был самый обычный, даже довольно неказистый чемоданчик, и в нем не было ничего особенного, если не считать двойного дна. Аккуратно спрятав под вторым дном фотографии, Акопян сложил в чемоданчик свою обычную фотографическую продукцию — крымские пейзажи, «парижские фото», — надел летний сюртук, шляпу канотье и покинул свою мастерскую. Он направился в маленькую уютную кофейню на Итальянской, где была назначена встреча со связным.
В кофейне Акопян сел за столик, заказал себе кофе и огляделся. Возле стойки на повышенных тонах беседовали трое матросов — один из них неодобрительно отзывался о какой-то Груне, двум другим это явно не нравилось.
В кофейню вошел связной — полноватый господин в полосатом пиджаке. Он занял столик рядом с Акопяном и сел таким образом, чтобы фибровый чемоданчик оказался ровнехонько возле его стула. Акопян уже хотел встать и уйти, считая свою миссию выполненной, но в это время матросы у стойки перешли к активной стадии конфликта — они начали махать руками, обмениваться затрещинами, причем поскольку места им стало недостаточно, они двинулись в сторону Акопяна.
Фотограф встал и пытался обойти дерущихся, но не тут-то было: один из них споткнулся и навалился на Акопяна всем своим весом. Акопян обругал матроса свиньей, но в следующую секунду почувствовал, как в бок ему вонзается что-то твердое и холодное. Он хотел было закричать, но вдруг навалилась такая бесконечная слабость и тоска, что сил на крик не осталось. Акопян с удивлением понял, что умирает. Он перевел мутнеющий безразличный взгляд на полноватого господина в полосатом пиджаке за соседним столиком и увидел, что на того тоже навалился подвыпивший матрос, и последним мерцанием сознания понял, что оба они сейчас расплачиваются за легкие турецкие деньги.
Когда минуту спустя кто-то из посетителей кофейни понял, что двое господ за соседними столиками явно не в порядке, подвыпивших матросов в обозримом пространстве никто не видел.
Аркадий Петрович Горецкий внимательно выслушал сообщение и отметил две фамилии в своем списке: Акопян и Бокелидзе.
— Ну-с, Борис Андреевич, настало время подводить итоги. — Аркадий Петрович поднял повыше бокал с молодым вином, которое искрилось в свете лампы.
Они сидели все в той же маленькой уютной комнатке Марфы Ипатьевны, куда Борис впервые попал полтора месяца назад, истекающий кровью и преследуемый контрразведкой. Только что они съели прощальный ужин, и теперь на столе остались фрукты, орехи и вино нового урожая.
— История с пропавшим списком закончена. Турецких агентов выловили почти всех, не скоро еще турки смогут создать в Крыму такую прочную сеть. Относительно истории с бриллиантами: Вольский, как вы знаете, сидит в контрразведке и рассказывает все, что знает, в основном про татар, но среди татар удалось арестовать только мелких людей, большой пользы это не принесло. Керим скрылся, его дядю застрелили во время побега.[19]
— А баронесса? — полюбопытствовал Борис.
— Баронесса пропала, как в воду канула, думаю, она давно уже в безопасном месте.
Борис не сдержал улыбки.
— Напрасно вы так легкомысленно настроены, — рассердился Горецкий, — эта дама, называющая себя баронессой Штраум, может быть очень опасна.
— Все равно хорошо, что красивая женщина не попала в вашу контрразведку. Знаю я ваши методы.
— М-да, ну тут мы с вами расходимся во мнениях, так что оставим этот разговор. Борис Андреевич, сообщаю вам, что про сестру вашу Варвару Андреевну не удалось ничего выяснить, из Одессы тоже пришел отрицательный ответ. Опять я возвращаюсь к нашей давнишней беседе. Завтра я уезжаю в ставку, в Екатеринодар, миссия моя здесь закончена. Я приглашаю вас ехать со мной.
Борис внимательно посмотрел на Горецкого и спросил:
— Аркадий Петрович, скажите мне, если можете: кто же вы на самом деле? По уровню связей, по масштабу решаемых вами задач, по вашей независимости и свободе в принятии решений вы не похожи на подполковника контрразведки. Если не можете ответить — так и скажите, я не обижусь…
— Отчего же, — Горецкий, по своему обыкновению, снял пенсне, приобретя римскую медальную чеканность черт и некоторую даже жесткость, — я скажу вам, Борис Андреевич, надеясь на ваше молчание. Я состою при военном отделе Особого совещания, возглавляемом Александром Сергеевичем Лукомским. Мне действительно приходится зачастую решать вопросы чрезвычайной важности и большого масштаба. Сейчас я нахожусь в Феодосии потому, что здесь возникла в этом необходимость, здесь из мелких деталей сложилась крупная игра, пересеклись интересы нескольких держав. Вам выпала судьба оказаться одним из участников этой игры, а в любой игре везение — момент крайне важный. Ваше же везение просто удивительно. Борис Андреевич, я не случайно говорю с вами об этом. Вы нравитесь мне, у вас много сильных качеств, а работа поможет развить их еще больше и слабые ваши стороны также превратит в сильные. Я еще раз предлагаю вам работать со мной.
— Мне трудно решиться, — вздохнул Борис.
— Я расскажу вам, голубчик, одну недавнюю историю. В Москве и Петрограде около года назад большевики объявили обязательную регистрацию всех офицеров. Не явившиеся на регистрацию были объявлены вне закона, явившихся арестовывали. И вот, Борис Андреевич, только в Москве на эту регистрацию явилось больше пятидесяти тысяч человек! Это равняется общей численности Добровольческой армии! Они пришли в Алексеевское военное училище в Лефортове, как бараны на бойню, и стояли там в ожидании регистрации и последующего ареста. Что с ними сделали впоследствии большевики, я могу только догадываться. Человек, рассказавший мне об этой регистрации, посмотрел со стороны на трусливую толпу, развернулся и отправился на юг, в добровольцы. Но все эти люди, которые не могли ни на что решиться и вместо того, чтобы с оружием в руках спасать Россию, послушно пошли на заклание, заслужили все, что приготовили им большевики, — тюрьму, каторгу, расстрел. Нерешительность — та же трусость. Вы можете принести пользу Родине, значит, вы должны решиться.
— Я совсем не об этом. Я решил, что пойду в Добровольческую армию солдатом. Не хочу ничьей опеки и зависимости от кого-то.
— Борис Андреевич, каждый должен быть на своем месте. Если артиллерист вместо того, чтобы стрелять из орудия, захочет махать шашкой, он принесет меньше пользы, чем природный казак. За этот месяц вы принесли больше пользы, чем иной батальон на фронте, уж поверьте мне. Кроме того, служба со мной даст вам некоторую свободу перемещений, которую вы сможете использовать для поисков сестры.
— Пожалуй, вы правы, — ответил Борис.
Он закурил папиросу и подошел к раскрытому окну, из которого тянуло свежестью — в сентябре ночи в Крыму прохладные.
Примечания
1
Основная ударная сила Белого движения на юге России в 1918–1920 гг. Формировалась со 2 ноября 1917 г. в Новочеркасске генералом М. В. Алексеевым на принципе добровольчества из бежавших на Дон офицеров, юнкеров, кадетов старший классов, студентов, гимназистов и др.
(обратно)2
Так называемый Ледяной поход, или первый Кубанский, — переход Добровольческой армией в феврале 1918 г. с Дона, захваченного Красной Армией, на Кубань.
(обратно)3
«Колоколами», или «колокольчиками», назывались выпущенные деникинским правительством рубли из-за изображенного на них Царь-колокола.
(обратно)4
Миссия Буллита в феврале 1919 г. направлена в Советскую Россию после отказа правительств стран Антанты от идеи созыва конференции на Принцевых островах. Без ведома Франции, возражавшей против переговоров с Советским правительством, президент США Т. В. Вильсон и премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж послали в Советскую Россию дипломата У. Буллита с предложениями относительно условий прекращения военных действий в России.
(обратно)5
Особое совещание — высший орган гражданского управления при верховном руководителе Добровольческой армии генерале Алексееве, затем трансформировалось в совещательный орган по законодательству и верховному управлению при главкоме ВСЮР генерале Деникине.
(обратно)6
Черчилль, Уинстон (1874–1965) — в 1919–1921 гг. военный министр и министр авиации в правительстве Д. Ллойд Джорджа, по английской терминологии — Первый лорд адмиралтейства. Активный сторонник интервенции стран Антанты в России, поддерживал белогвардейское движение. В 1940–1945 и 1951–1955 гг. — премьер-министр Великобритании.
(обратно)7
Курултай — крымско-татарский парламент, созванный в декабре 1917 г. мусульманским исполкомом как высший орган татарского самоуправления. На заседании курултая создано крымско-татарское национальное правительство. Вооруженные силы курултая разбиты в январе 1918 г. красногвардейскими частями.
(обратно)8
Шкуро (Шкура), Андрей Григорьевич — белогвардейский генерал-лейтенант, был начальником Кубанской казачьей бригады, дивизии в армии Деникина, с мая 1919 г. — 3-го Кубанского корпуса. Возглавляемые им войска отличались особой жестокостью и недисциплинированностью. Эмигрировал. В 1939–1945 гг. сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 г. задержан английскими войсками в Австрии и выдан советскому командованию, расстрелян.
(обратно)9
Май-Маевский имеет в виду прорыв красными фронта на стыке Добровольческой и Донской армий возле станицы Купнянской. Генерал Май-Маевский, несмотря на паническое настроение штаба, оставался в Харькове, для успокоения войск и населения разъезжал по улицам в открытом автомобиле. По его приказу бригада генерала Шифнера-Маркевича «завязала» образовавшийся мешок.
(обратно)10
Богаевский, Африкан Петрович (1872–1934) — генерал-лейтенант. К моменту описываемых событий, после ухода в отставку Краснова, атаман Войска Донского.
(обратно)11
Парижская мирная конференция 1919–1920 гг. созвана державами Антанты — победительницами в Первой мировой войне для выработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами австро-германского блока. Участвовали 32 страны.
(обратно)12
Совет Пяти включал в себя представителей Франции — президент Ж. Клемансо, Великобритании — премьер Ллойд Джордж, США — президент Т. В. Вильсон, Италии — премьер В. Орландо и Японии — маркиз К. Сайондзи.
(обратно)13
Жордания, Ной Николаевич, псевдоним Костров (1869–1953) — лидер грузинских меньшевиков, публицист. Лидер социал-демократической фракции Первой Государственной думы. В 1918–1921 гг. глава правительства меньшевистской Грузии.
(обратно)14
В составе Вооруженных сил Юга России были на этот момент две армии: Добровольческая и Донская.
(обратно)15
Волошин, Максимилиан Александрович (1877–1932) — русский поэт, в описываемое время жил в Крыму.
(обратно)16
Пантюркизм — национальная идеология, согласно которой все народы, говорящие на тюркских языках, и прежде всего — мусульмане, являются одной нацией и должны объединиться под главенством Турции в одно государство.
(обратно)17
Несмотря на то что войска Антанты в сентябре 1919 г. были вынуждены эвакуироваться из Закавказья, Батумская область осталась оккупационной зоной британской черноморской армии. В апреле 1920 г. решением Верховного совета Антанты батумский порт объявлен свободным, так называемым порто-франко, а Батум и приморская область Аджарии — территорией под покровительством Лиги Наций, с нахождением там войск Великобритании, Франции и Италии. Так продолжалось до февраля 1921 г.
(обратно)18
В Белой армии, так же как в царской, на погонах генерал-лейтенанта были не две, а три звезды.
(обратно)19
После раскрытия заговора наиболее экстремистски настроенные лидеры Милли-Фирки скрылись. В конечном итоге Милли-Фирка блокировалась с белым движением в борьбе против Советской власти. После окончательной победы красных Милли-Фирка перешла на нелегальное положение и не прекращала подрывной деятельности вплоть до конца Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(обратно)
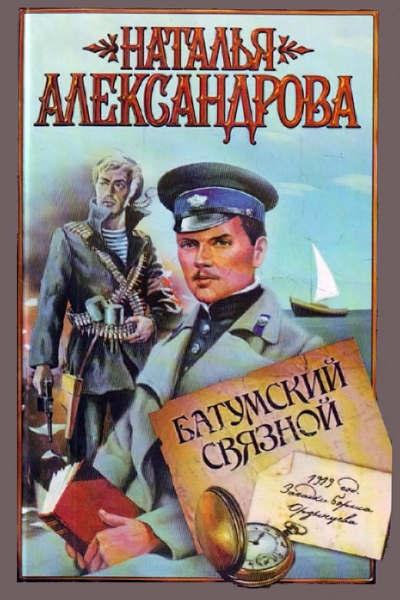



Комментарии к книге «Батумский связной», Наталья Николаевна Александрова
Всего 0 комментариев