Сергей Богачев Последний приказ Нестора Махно
Одесса. 26 августа 1937 г.
— Гражданин Зиньковский, сдать оружие! — раздалось из дверного проема. Дверь распахнулась резко, громко ударив ручкой о стену.
Обычно люди, посещавшие этот кабинет с плотно зашторенными окнами, всегда предварительно стучали, потом оправляли мундир и только затем проходили внутрь. Того требовали не правила приличия, но статус его хозяина.
В трехэтажном здании бывшего доходного дома[1] на улице Энгельса[2] в Одессе никогда не было шумно — ныне здесь располагалось областное управление Народного комиссариата внутренних дел. Стук каблуков заглушался ковровыми дорожками, добротные окна сглаживали звуки улицы и никогда сотрудники не вели никаких бесед в коридорах. Каждый следовал своему, четко определенному службой алгоритму передвижения от кабинета к кабинету, соблюдая режим доступа, секретности, приветствуя коллег и старших по званию согласно Уставу.
Визит конвоя к начальнику отдела внешней резидентуры Льву Николаевичу Зиньковскому ажиотажа среди его коллег не вызвал. Мало ли кто, куда и по каким вопросам следует, чужие здесь не ходят. Излишнее любопытство в этих стенах не приветствовалось и могло вызвать обоснованные подозрения. Ты обязан обладать информацией, относящейся исключительно к твоему фронту работы. Любой лишний взгляд, вопрос, неосторожно брошенная фраза могли стать фитилем для взрыва, который разрушит жизнь твою, твоих родственников, твоих близких людей. Настали непростые времена даже для самих чекистов.
«Гражданин… значит уже все решено», — пронеслось в голове у Льва Зиньковского.
Предчувствие надвигающейся беды не покидало его последние полгода. Провал всей резидентуры в Румынии, неуемная и жестокая кадровая политика нового Народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова, воцарившаяся атмосфера всеобщего недоверия и подозрительности сделали для Льва Зиньковского эти месяцы невыносимыми. Тяжелее всего было не подавать вида, особенно дома, чтобы в этой его личной крепости царили дальше покой, умиротворение и порядок.
— Табельное оружие в сейфе, — Зиньковский достал из внутреннего кармана пиджака ключ и с нескрываемым раздражением положил его на стол, хлопнув громадной ладонью так, будто играл в домино.
— Наградное? — капитан государственной безопасности Капичников несомненно готовился к этой своей миссии. Получив приказ на арест Зиньковского, он имел некоторое время, чтобы продумать свою линию поведения. Было понятно, что именно его послали в отдел внешней разведки преднамеренно. Отдать приказ на арест товарища, соседа по дому, с которым они дружили семьями — в этом было нечто изуверское, в стиле нового руководства.
— Капитан Капичников, а вы сами не припомните, где в моей квартире сейф для оружия, или подсказать? Там уже идет обыск? Ты ж, Серега, прекрасно знаешь, где оба наградных пистолета, — Зиньковский понимал, что его сосед исполняет приказ, но всё же в нем взыграла злость.
Реакции от капитана не последовало. Да, вчера они стучали костями в беседке. Да, его Зинаида заняла у Зиньковских стакан сахара. Что ж теперь, раз вскрылись такие обстоятельства… Руководство не ошибается. Оно может только предать, но не его это дело — разбираться, кто предатель, а кто нет. Есть приказ — нужно исполнять.
— Встать! Лицом к стене, руки за спину! Старшина, обыщите! — Капичников был лаконичен и суров. Меньше всего ему сейчас хотелось видеть глаза Льва Николаевича — специалиста по внешней разведке, русскому лото и домино.
— Чисто! — объявил старшина после тщательного прощупывания одежды задержанного.
— Следуйте за мной, — Капичников вышел в коридор первым и посмотрел по сторонам. Там было пусто — основная часть сотрудников уже отбыли домой. Это Зиньковский имел обыкновение задержаться на часок-другой, чтобы спокойно проанализировать итоги дня, поработать с документами и составить план на завтра.
Стенографистка секретной части Лёля Ковалёва вышла из кабинета, опломбировала дверь и, держа под правым локтем синюю папку с шифровками, быстрым шагом направилась к начальнику отдела. Уже не терпелось домой — там мама наготовила вкусностей по поводу юбилея деда Сёмы. Повернув за угол коридора, она обнаружила перед собой Льва Николаевича, стоящего лицом к стене возле собственного кабинета. Старшина старательно наносил на дверь клей, чтобы опечатать помещение, а красноречивый взгляд Капичникова не требовал пояснений. Лёля прошла мимо, опустив взгляд в пол, будто ничего необычного не произошло, но лицо ее покрылось пунцовыми пятнами, к горлу подкатил комок. Предательски стали дрожать колени, уверенный шаг изображать было неимоверно тяжело — на прошлой неделе арестовали почти весь отдел этажом выше, а началось точно так — с руководителя.
— Вперед! — скомандовал старшина конвойной роты и подтолкнул Зиньковского в направлении лестницы. Дорогу тому показывать было не нужно.
Путь в подвал начотдел нашел бы и ночью наощупь. Это была часть его работы — допрос задержанных, вербовка с использованием устрашения и давления. Мало кому удавалось сохранить душевное равновесие, когда двухметрового роста, бритый налысо Лёва, пригибая голову, входил в пропахшую сыростью камеру для допросов и вешал пиджак на стул, закатывая рукава сорочки. Нет, он никогда сам не бил, да и в этом не было необходимости, для этого имелись специалисты. Лев Николаевич всего лишь не хотел испачкать рукава, которые с такой любовью вручную стирала его любимая супруга Верочка.
Как правило, его улыбка «с подвохом» служила главным аргументом и доводом. С самым дружеским выражением лица Лёва детально и в красках описывал далеко не самые радужные перспективы задержанного в случае отказа от сотрудничества. Конечно, это могло показаться кому-то примитивным, но все-таки большая часть городских и приграничных осведомителей в результате этих профилактических бесед таки посчитали возможным делиться новостями. А что было ожидать от видавшего виды контрабандиста или ушлого марвихера[3]? Эти люди понимают и принимают исключительно силу. Пусть даже это сила духа.
Дежурный изумленно-вопросительным взглядом встретил конвой, но вовремя одумался и сделал каменное лицо, тут же стал шарить по карманам, потом зазвенел связкой ключей и открыл решетку, ведущую в коридор внутренней тюрьмы.
Сидеть «по ту» сторону стола было категорически непривычно. Маленький, прикрученный к полу табурет с заниженными ножками, помогал следователю смотреть на своего «клиента» свысока, но в случае с начотдела внешней разведки это не работало.
— Год и место рождения? — следователь НКВД Яков Шаев-Шнайдер направил ему в лицо лампу. Всё как положено, чтобы расположить подследственного к откровенной беседе.
— Яша, я тебя умоляю… Давай без этих формальностей. Лупи сразу — шо вы там придумали?
— Гражданин Зиньковский, в вашем деле формальности блюсти — так это главное дело. Имеем пару вопросов, Лёва. Так что давай, без этих твоих штучек. Я записываю.
— Колония Весёлая, Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. 11 апреля 1893 года. Сорок четыре полных года.
— Национальность?
— Яша, я иногда удивляюсь твоей непосредственности. Еврей. Для тебя это новости? Штаны снять? Померяемся?
Следователь продолжал невозмутимо записывать в протокол слова задержанного.
— Где проживали в дальнейшем?
— Юзовка. Семь лет от роду мне было, когда перебрались.
Бахмутский уезд Екатеринославской губернии. Юзовка. 9 марта 1917 г.
Этот запах ни с чем не перепутать. Так пахнет металлургический завод. Ветер с юга понес рыжий доменный дым на центр.
Сейчас катали[4] толкают, каждый перед собой, свою тяжеленную, тридцатипудовую «козу»[5] к гудящей домне. Жар от нее невыносим, особенно летом. Февраль для катальщика — рай. Сколько раз Лёва туда поднимался с рудой — не счесть. На его глазах катальщики горели, падали вниз, срывались тележки, да чего только не было за годы работы на заводе. Только исключительная физическая сила и отсутствие страха помогли ему миновать эту участь.
Битюги, запряженные в повозки, идущие ему навстречу по первой линии на Сенной базар, звенели подковами, высекали искры о мостовую, фыркали и крутили головами, будто отбиваясь от невидимых людскому взору духов. Отец как-то рассказывал малому Лёвке, что настоящих воронежских битюгов уж и не сыскать, извелась порода. Их кони, Фенчик и Бенчик, были единственным богатством в семье — с их помощью отец смог прокормить большую семью в тяжелые времена, когда они перебрались в Юзовку из маленькой еврейской колонии Веселой. Юдель Зодов жаловался сыну, что не сыскать теперь ни на рынке, ни в конюшнях правильных битюгов, и своих потому беречь нужно. Сначала их накормить, да напоить, а что останется — на себя тратить.
Урок этот Лёвка запомнил на всю оставшуюся жизнь и потому коней любил больше людей. Они ведь ему взаимностью отвечали. Подставит конь голову, глазами своими громадными посмотрит из-под ресниц и дышит так, чтобы не напугать… А он гладил его по холке, по шее, ощущая под ладонью силу упругих мышц. Милей всего было Лёвке отпроситься у отца в ночное и уйти на луга, где пахнет травой и свободой, не думать ни о чем — только поле, он и кони. То было его детство. Таким было его счастье.
А потом отец умер. Тихо. Во сне. Не выдержало сердце здоровяка Юделя. И с этой бедой детство закончилось. Мама Ева — так звали в семье Хаву Вениаминовну, выплакала все слёзы, а потом собрала детей и сказала, что всё равно будем жить. И вместе выживем, ведь нас много. Больше всего мать не могла себе простить, что Юдель ушел первым. Он и так на семь лет младше её. Получается, и не пожил толком — до пятидесяти не дотянул. Всё корила себя Ева, что недосмотрела, недолюбила, не уберегла…
Лёва шёл домой. Он оглядывался по сторонам, вчитываясь в новые вывески лавок и заведений. За три с лишним года, которые Задову пришлось коротать в тюрьме, Юзовка изменилась — появились новые, добротные дома, множество заведений и лавок. Как-то иначе стал одеваться люди, оборванцев было почти не видать. Экипажей на Первой линии стало несравнимо больше, их пассажиры существенно отличались гардеробом от тех, кто ходил пешком.
Дойдя до торговой площади, Лёва поборол в себе соблазн свернуть вправо, в сторону Покровского собора. Там кипела жизнь, шла бойкая торговля, сновали люди, но он же еще не был дома…
Напротив шляпной мастерской Хургеля Лёва повернул налево и, перекинув котомку с одного плеча на другое, ускорил шаг. Большой проспект[6] вывел его на Мушкетовский и уже вот он, дом: третий от проспекта по Одиннадцатой линии[7].
— Здрасьте… здрасьте… — Лёва узнавал лица некоторых встречных и те ему тоже в ответ улыбались — к вечеру весть о том, что анархист Лёвка вернулся домой, быстро разлетелась по дворам. Шутка ли, главного юзовского экспроприатора отпустили!
Тропинка в сером от заводской копоти снегу шириной ровно в лопату привела Лёву Задова к родной калитке. Через штакетник он приметил в окне сгорбившуюся женскую фигуру в свете керосиновой лампы — мама как обычно штопала вещи. Старая шелковица нависала над воротами, потрескивая на резком февральском ветру обледеневшими ветками, а за оградой разрывалась лаем собака.
— Тихо, тихо, дурачок… Свои, — Лёва рукой дотянулся до крючка калитки, закрепленного с обратной стороны, и та со скрипом отворилась внутрь.
Беспородная псина, прозванная за свой скандальный нрав Боцманом, жалобно заскулила, почуяв забытый запах родного человека. На сколько хватало цепи, Боцман выскочил из будки и, виляя хвостом, пытался дотянуться до Лёвиной руки.
— Узнал, стервец, узнал… — пёс несколько раз поскользнулся на льду, но все равно остервенело продолжал грести лапами, преодолевая натяжение цепочки. Та под его напором лопнула, и Боцман тут же запрыгнул на гостя.
— Ух, здоровый какой стал! — Лёва под напором собаки сделал пару шагов назад и завалился спиной в твердый, слежавшийся сугроб. В таком виде его и застала мама, держащая швабру в руке.
— Кто там? — на дворе уже стемнело, непрошеных гостей здесь опасались.
Завидев человека, борющегося с собакой, мама громко крикнула:
— Уйди, окаянный! Боцман! Уйди!
Швабра лупанула Лёву прямо по голове, от чего только что искры из его глаз не посыпались.
— О, так вы, мама, героического революционера встречаете! — раздалось из сугроба.
Женщина в переднике схватилась за голову, услышав родной голос:
— Лёвушка?! Ты, сынок? А что ж это за тулуп, а зачем тебе эта шапка бандитская? Лёвушка, ой, как же так! — мама схватилась за голову.
— Мама, не колотитесь, мама! — Лёва вскочил со снега и обнял самую любимую женщину в мире. А в это время из окна исчезли несколько детских лиц, которые тут же появились в дверях.
— Лёва! Лёва! — все детвора выскочила во двор и повисла у него на руках.
— Ой, вэй! Сколько вас, я отвык, мои любимые, отвык… — на лице Лёвы появились мелкие капельки. То ли слёзы, то ли над Юзовкой пролилась зимняя дождевая туча…
Одесса. Улица Энгельса. Областное управление НКВД. 26 августа 1937 г.
«Чертов табурет», — начотдела в наручниках за спиной никак не мог найти удобное для себя положение.
Следователь записывал что-то в протокол, выдерживая паузу. Вчера они здоровались, отдавали честь при встрече, смеялись вместе над свежим анекдотом, а сегодня сидели по разные стороны стола.
Старший майор Шнайдер по этому поводу угрызениями совести не страдал, уж больно люто его раздражал Лев Николаич. Ну что он по любому поводу улыбается? Вот и сейчас: уже в подвале сидит, в кабинете, где сам допрашивал, а всё равно — какая-то дьявольская улыбка, смотрит в пол и улыбается. Где Зиньковского ни встретишь — он доволен жизнью. На оперативке всем насыпают по самое не горюй, ему наплевать — всех переловил, цифры свел, ему благодарность. Как новый год — так его отдел в докладе начупра звучит. Всё здание знает, где кофе румынский — на втором этаже у Зиньковского. И всем он улыбается. И всё ему сходит с рук. Ну ничего, очень скоро забудет, как зубы скалить. Всё. Ушла его карта… Ушла…
— Гражданин Зиньковский, меня интересуют подробности вашей биографии. Трудовой путь, можно так сказать, «от» и «до», — Шнайдер поправил круглые очки, которые постоянно сползали с его мясистого носа из-за повышенной потливости.
— Яша. Ты мне поверь. Просто поверь. — Зиньковский не отрывал взгляда от пола, будто он там увидел какую-то крысу, и сейчас его самым большим желанием было её раздавить. — Вся моя биография — это борьба с такими поцами, как ты. Умный вид в аптеке не купишь, Яша. Его надо заслужить. Что ты вот на меня пялишься? Пялься вправо. Там в папке мое личное дело лежит. Или не изучил? Так торопился ухватить дело, что не подготовился, а теперь вот вопросы дураковатые задаёшь. Не чуди, Яша. Я ж тебя не тому учил.
— Дело делом, а жизнь теперь тебе, Лев Николаевич, заново прожить придется. Вместе со мной и протоколом. Во всех деталях и красках.
— Разрешите? — в камеру вошел лейтенант с бумагой в руке.
Шнайдер вопросительно взглянул на визитера.
— Протокол обыска по домашнему адресу! — доложил молодой офицер, и, получив разрешение, удалился.
— Тээкс… Что тут у нас? — следователь тщательно принялся перечитывать протокол. — Ну да, да… Маузер на месте. Альбомы с фотографиями, кольцо — семейная реликвия, книжка… «Нестор Махно»… Все никак не расстанетесь с ностальгией по юности, гражданин Зиньковский?
Зиньковский, не имея возможности приложить руки к горлу своего ненавистного коллеги, оттолкнулся от пола и в прыжке, свалив плечом лампу, ударил того в грудь головой. Шнайдер от неожиданности завалился назад и со всего маху ударился затылком об пол.
— С-суки, какие же вы суки… Какое отношение вы имеете к этим вещам, — рычал начотдела, лежа на столе и пытаясь скинуть с себя двух сержантов, прибежавших на шум.
Старший майор Шнайдер, поднявшись с пола, вымакал платком кровь с затылка и, наклонившись над Зиньковским, прошипел:
— Вот зря ты так, Лев Николаевич, зря… О семье не думаешь… а говорил, что семья для тебя самая большая ценность, больше чем партия… Думаешь, я тот разговор в курилке на новый год забыл? Нет, Лёва… Я тебе все вспомню…
Юзовка. 9 марта 1917 г.
— Как тебя арестовали, Лёвушка, так чего мы только не наслушались!
Мама хлопотала на кухне, доставая из кадки квашеную капусту, и говорила, не умолкая.
— Городовой Потапов приходил кажную неделю и стращал — всё, мол, бандит ваш Лёвка, каких свет не видывал. Ой, вэй! Говорил, анархисты — это чума, коммунисты — эти ещё хуже, а ваш так вообще — анархический коммунист. Последний раз, когда я его тряпками погнала, так клялся, что мы тебя больше никогда не увидим. Гореть этому Потапову в аду, но, Лёвочка, ты же был хорошим мальчиком, как же тебя так угораздило?
Лёва с удовольствием жевал картошку в мундире, окуная её в блюдце с домашним, пахучим маслом, на дне которой осела обильно перед этим присыпанная соль.
Семья сидела за столом, едва умещаясь на лавках. Дети радостно переглядывались, шушукались и хихикали, толкая друг друга локтями. Конечно, маме Еве было бы радостней, если бы пришлось у соседей лавки просить или сундук придвигать к столу, чтобы все поместились, но судьба так распорядилась — отец не с ними, старшие уже своими семьями обзавелись и уехали. Всему свое время.
— Мама, вы такие вещи спрашиваете, шо я прям назад на три года мозгами вернулся. Уже и неважно, как я там оказался, уже важно, что я здесь. Цивочка, какая ты прелесть стала! — Лёва подвинул к самой младшей сестре миску с курицей, срочно купленной в мясной лавке Голдина и приготовленной по рецепту, известному только маме и еще паре её товарок.
— Лёвка, ты бы еще на столько же застрял, так на её свадьбу, может, и поспел бы, — Даня, самый младший из мальчиков семьи Задовых, обожал Лёву больше всех остальных, но при этом постоянно с ним спорил, острил, говорил всякие колкости.
Тут же мамин подзатыльник поставил юношу на место:
— Что за обормот растёт, я не знаю, Лёва! Ты как со старшим братом разговариваешь? Ой, нет управы на вас, уже оглоблю не подниму, а погоняла бы по двору, ой погоняла бы!
— Мама, да не лупите его по голове! Там же ум. Мальчик интересуется, правильно делает…
Лёва наслаждался ролью главного мужчины в семье в отсутствие старших братьев.
— Я тебе честно скажу, Даня… Я там, на каторге, с очень приличными людьми познакомился. Мне с ними до двадцать первого года дружить светило. Ну, так вышло, что революция сталась. Ты видишь, братик, какая случилась высшая социальная справедливость. Нас всех выпустили. А на Цивиной свадебке — так гульнем, конечно, чего же нет…
— Лёвка, а ты смертников видел? — Даня, прожевывая картошку, не унимался в своем интересе.
— Кого? — рассмеялся Лёва.
— Ну тех, которые там бомбисты или цареубийцы. Их же к смерти приговаривают?
— Ты, братка, зачем интересуешься? — лицо Лёвы на мгновение стало серьезным, а тон — железным, но Даню это нисколько не смутило.
— Лёвчик, ты видал смертников или нет? Мы с пацанами заспорили. Я говорю, они в полосатом ходят, и мишени у них на спине, чтобы попасть было легше, когда побегут.
— От где ты этого всего набрался? Бомбисты, мишени… Ты хедер[8] закончил?
— Вот, вот! Спроси! Спроси этого оборванца! С горем пополам закончил! — мама Ева громко продолжила воспитательный процесс, отлучившись на кухню. Как всякая правильная мама, она даже оттуда слышала все звуки в доме и держала все и всех под контролем. — Спроси у него еще, где он целыми днями шляется и почему не помогает? Лёвочка, сколько годков тебе было, когда ты уже на мельнице мешки таскал?
— Семнадцать, мама! — громко ответил Лёва, чтобы мама Ева его услышала. — Дане можно уже! Ты шо кровь мамину пьешь стаканами? — последняя фраза была адресована младшему брату и сказана была гораздо тише.
Даня, склонившись поближе к Лёве, прошептал доверительно, будто они только вчера расстались:
— Я тут почту присмотрел… Осталось бомбы достать.
Ошарашенный таким откровением Лёва потерял дар речи.
— Мама! Даня курит? — опять громко спросил он Еву.
— Конечно, этот босяк курит! И где деньги берет — так я только придумывать могу! Прошу небеса, чтобы городовой не заявился, я еще одного раза не вынесу!
— Пошли во двор, закурим. Любой план надо обкурить, обмыслить…
Даня профессионально навинтил две самокрутки — одну себе, одну старшему брату.
— Табачок заморский. В бакалее Тимановского появился, но он не афиширует. Только для своих, — эффектным движением Даня зажег спичку и дал прикурить старшему брату.
— Ничё так… — затянувшись и выпустив плотную струю дыма, Лёва оценил качество табака.
— Ну так фирма! — Даня сделал ударение на последний слог и тут же взвыл от боли — Лёва чуть не оторвал его от земли, потянув вверх за ухо так, что оно больно хрустнуло.
— Я тебе, налетчик, не только ухо, я твою радость между ног оторву! — Лёва продолжал держать брата за ухо, а тот, чтобы было не так больно, привстал на цыпочки.
— Лёва! Я же живой ещё! Мне же больно, Лёвчик! — Даня не ожидал такого поворота событий и старался орать негромко, чтобы не опозориться перед мамой.
— Идиот! — Лёва отпустил братское ухо и, как ни в чем не бывало, продолжил со смаком курить заморский табак. — Какая почта? Ты видел, сколько банков на первой линии? Ты думаешь, деньги до сих пор почтовыми каретами таскают? Ты дурень настоящий или так, придуриваешься? Шо за мысли у тебя в голове, Даня? Одного каторжанина в семье хватит!
— Ты, когда кассу на вокзале в Дебальцево брал, сильно за каторгу думал? — парировал Даня.
— Я не брал, я экспроприировал!
— Вооот… Значит борьба идеологическая, идея — революционная. И всё равно тебя поймали. Я сделаю лучше.
Лёва с трудом поборол в себе желание вмазать оплеуху строптивому юнцу.
— Ты мать что, одну собираешься оставить с сестрами? Это совсем не дело.
Даня докурил самокрутку и затушил её о каблук сапога.
— Одну? А ты куда собрался? Или так, на денёк заскочил? Я тобой гордился, Лёва, когда ты в тюрьму попал. Ты знаешь, что девахи шептали мне вслед? Это брат того самого Лёвки с одиннадцатой линии! Того самого, понимаешь? И как ты хочешь, брат? Я же должен быть не хуже, я же должен соответствовать! И тебе, и революционному моменту.
— Давай еще крути… — Лёва поёжился от холода, снял с плеч накинутую шинель и одел её как положено.
— Вот, то-то… И это… прекращай уши рвать, сломаешь. Мне особые приметы ни к чему, — Даня удалился за газетой и табаком.
Одесса. Улица Энгельса. Областное управление НКВД. 27 августа 1937 г.
«Вот так сразу — из князей в грязи…» — возможно, если бы не разбитые губы, Лев Зиньковский произнес бы это вслух, но десна кровоточили, зуб шатался, и не было никакого желания шевелить челюстями.
С кем тут разговаривать? С крысами, которые ночью придут? Чёртов начхоз. Говорят, так и не вывел их. С собой разговаривать рано ещё, не на дурке же, а в почтенном заведении.
Тусклая лампочка под самым потолком освещала одиночную камеру, стены которой были покрыты цементной шубой, выкрашенной тёмно-зеленой краской до уровня груди. Такой же ядрёный зеленый цвет имели койка, цепью пристегнутая к стене одним своим краем и дверь с довольно большим, зарешеченным окошком посередине.
Кто придумал эту кушетку? Лёва отстегнул её от стенки и попытался прилечь. Болело все нестерпимо. Яша таки отыгрался, гадёныш…
«Матрас в нашем доходном доме выдают только постоянным клиентам?» — такая мысль посетила начотдела, когда он пытался взгромоздиться на это подобие кровати. С его ростом больше двух метров расположиться так, чтобы получилось заснуть, было невозможно.
Который сейчас час? Ночь? Окна нет. Часы забрали. Ну, если представить себе, что без сознания долго пробыть не мог, то примерно утро. Раннее утро. Наверху сейчас августовский теплый ветер с моря. Жена наверняка с ума сходит.
А Вера в это время даже уже не плакала. Она сидела на стуле посреди комнаты, под раскидистым плафоном с рюшами, излучающим теплый электрический свет. Необходимости в нём не было — солнце подкрадывалось с востока, посылая впереди себя рассеянный свет, чтобы предупредить о своем скором появлении и сквозь открытое окно первые проснувшиеся воробьи приветствовали его восход. Метла Палыча, их местного дворника, зашуршала о мостовую. Застучали подковами кони водовозов, Одесса оживала после душной августовской ночи.
Дети спали, измученные событиями последних суток.
Люди в фуражках с синими околышами нагрянули неожиданно, посреди дня, в самую жару. Обычно такие мероприятия происходили ночью, когда все жители служебного квартала на улице Жуковского, что в паре кварталов от областного управления на Энгельса, находились дома. В этот раз получилось иначе, и весть об обыске в семнадцатой квартире, где жили Зиньковские, разнеслась по соседям в течение нескольких минут.
Соседи, аккуратно отодвигая занавески, поглядывали в их окна, а потом провожали взглядом сотрудников, выносивших к машине изъятые в ходе обыска вещи.
Бабушка, тихонько причитая себе под нос, пыталась навести порядок в доме — все шкафы были вывернуты наизнанку, книги валялись на полу, рядом с полками комода. «Ой, горюшко, горе…» — шептала старуха так, чтобы дочь не услышала. Ей жалость сейчас не нужна. Ей собраться нужно. Наверняка — это последние дни в этой квартире. Если Лёвушка арестован, то служебное жилье непременно отберут, да и на работе неприятности начнутся. Это точно. Так всегда бывало — когда отца арестовывали, жизнь всей семьи обсыпалась, как штукатурка с потолка старого дома при малейшей встряске.
— Верочка, на, попей воды… — бабушка поднесла стакан.
— Я не хочу, мама… Не думала, что это случится. И что может быть так, представить себе не могла… Лёвушка, уважаемый человек, офицер, а они с нами как с врагами народа. Ты видела, с каким остервенением шкаф потрошили? По вещам в сапогах ходили… А эти фотокарточки с видами? Зачем они им? А фотоаппарат Вадькин? Это что, граната? Мама, объясните мне, что такого в этом несчастном фотоаппарате? Ну ладно, пистолет наградной забрали, но фотокамера, она что, шпионская? У нас даже фотопластинок в доме нет.
Старуха поднимала вещи с пола по одной, аккуратно складывала, так, как это умеют делать только бабушки — медленно, с любовью к каждой вещи. Так, чтобы ни одна складочка не помяла одежду любимых внуков.
— Верочка, время такое, видишь… Нет у них ничего святого. Своих бьют, чтобы чужие боялись. То ли дело в наше время офицеры были: погоны, манеры, образование, честь. А эти… Шаромыги…
— Мама, а ты ничего лишнего во дворе не говорила? Может, с кем-то обмолвилась, как сейчас про офицеров?
— Что ты, дочура, что ты… Я хоть и не так свежо выгляжу, как ночная камбала с Привоза, но из ума я не ещё выжила. Не во мне дело, не во мне… Тогда меня бы забрали, ведьму брехливую, а Лёва же не вернулся с работы.
— А может, операция какая? Может, на границу уехал? Телефон в кабинете не поднимает… — жена начотдела Зиньковского всё же искала для себя какие-то положительные варианты развития событий.
— Верочка… Ну что ты, право… Теперь так не бывает. Вспомни, на прошлой неделе Костюковского взяли. Тоже на работе. Так Фаина скандал учинила при обыске и что? Помогло? «Это квартира старшего майора! Вы не имеете права!» — и где теперь тот майор, и где это самое право? И Фая пропала. Всё они имеют, окромя совести! Безбожники проклятые…
— Мама, тише, прошу тебя… — Вера, несмотря на всю свою усталость и опустошенность, пыталась сохранять здравость мысли.
— Вера! Всё закончилось, ты не поняла? — в голосе матери появились жесткие нотки. — Лёва когда-нибудь исчезал без звонка? Нет. Никогда. Прощаемся со спокойной жизнью, доча… Прощаемся. Лучше уже не будет. Пожили как люди — и хватит. Господь решил испытать нас на крепость.
— Так… У нас хоть деньги остались? Обещала Вадьке штаны новые к школе справить… — Вера решительно встала и поправила передник, будто сиюминутно собиралась предпринять какие-то решительные действия.
— А как же… — бабушка залезла рукой под халат и достала из сокровенного места пачку купюр — все семейные сбережения. Жизненный опыт подсказал ей, что после такого настойчивого звонка в дверь нужно припрятать на чёрный день.
— Мама, мама… Ты как всегда, тыл прикрываешь… — Вера обняла старушку и опять разрыдалась в полную силу…
Юзовка. 11 марта 1917 г.
— Эх, ты немного опоздал, Лёвка! — Петька не поспевал за широким шагом своего двухметрового знакомого, поэтому часто семенил, чтобы видеть его лицо хотя бы сбоку.
— Да куда там! Самое варево начинается! Самое время огня добавить! — Лёва ответил громко, с задором махнув в воздухе своим кулаком, лишь самую малость уступавшим в размерах кувалде. Некоторые из прохожих даже обернулись — на улицах Юзовки последние недели происходило столько необычного, что любой громкий звук или скопление людей вызывали тревожное любопытство.
— Представь себе — вот прям здесь, по Первой линии[9] молча идут люди, туда идут, — Петька продолжал размахивать руками, иллюстрируя события, в которых ему довелось участвовать. — И по Второй линии[10] тоже идут, крестьяне на подводах едут! Мимо собора Преображенского[11] идут к проходной, и молчат, представь! Мужики с рудников, какие-то пацаны в кепках, народу — я столько не видал никогда.
— Это ты про митинг, что ли? — заинтересованно спросил Лёва. О массовом собрании рабочего люда и жителей юзовских окрестностей в прокатном цехе металлургического завода он слышал от брата Даньки в день своего приезда.
Его, Лёвкино местечко, что выросло вокруг металлургического завода, его Юзовку, было этой весной не узнать. Все революционные волнения начала века не шли ни в какое сравнение с тем, что происходило в марте семнадцатого года.
В 1905-м Лёвке было-то всего двенадцать лет отроду. Что он мог тогда понять? Всё, что запомнил, — солдат с ружьями, стрельбу, да то, что отец прямо извелся весь — ребе просил быть внимательными, смотреть за ситуацией на улицах, чтобы не пропустить опасность. В памяти еврейской общины крепко засели события холерного бунта[12], когда гнев толпы, возмущенной тем, что от болезни гибнут только русские, очень быстро перекинулся на торговую площадь и заведения. Все пострадали, и Давлицаров, и Дронов, но наибольший ущерб понесли иудеи. Пылали лавки с товаром, дома, синагога.
Напряжение витало в воздухе и сейчас. С одной стороны — всеобщее приподнятое настроение в ожидании чего-то нового, справедливого и честного. С другой — все держали в уме план на случай начала погромов, тем более что куда-то неожиданно подевались все городовые. Их заменили люди с бантами на лацканах.
Весть о том, что Николай II отрекся от престола, прилетела по телеграфным проводам в Юзовку мгновенно, в тот же день, 2 марта[13]. А на следующий день, 3 марта, пришли в движение какие-то неведомые силы, заставившие людей выйти на улицы. Кто знал слова — пел «Марсельезу», кто не знал — просто улыбался с ошалевшим видом и вторил мотиву. Некоторые, самые отчаянные торговки, всё же продолжали стоять с товаром на рыночной площади, остальные либо присоединились к толпе в качестве любопытствующих, либо ретировались, ведомые своей коммерческой интуицией — сегодня базара не будет.
Неведомо откуда на базарной площади появились листовки с текстом манифеста царя об отречении от престола, отпечатанные на серой бумаге. Их передавали из рук в руки. Если кто умел читать — делал это вслух и рядом моментально собирались слушатели.
«А как жыж теперича?» — вопрошали те, кто постарше. «А как! Да никак! Каком кверху!» — острили уличные скалозубы. «Да хочь бы ужо с войной этой проклятущей шото порешали…» — причитали замотанные в теплые платки женщины. «И кто теперь будет? Как же без царя-батюшки-то?» — раздавались редкие робкие голоса владельцев каракулевых воротников, чаще — шепотом. «Временное правительство, говорите… Ну — ну…» — скептически рассуждали те, кто были одеты получше.
Все эти события, происходившие дома, Задов не застал. Известие о Февральской революции пришло к нему с сокамерниками только шестого числа вечером вместе с надзирателем, гремевшим связкой ключей в замке двери их камеры. «Во исполнение властных требований народной совести, во имя исторической справедливости и в ознаменование окончательного торжества нового порядка, основанного на праве и свободе, объявляется общая политическая амнистия…» — чиновник командным голосом зачитал Указ Временного правительства и затем, уже гораздо тише, продолжил: «На выход, господа…»
Господа. Теперь они, вчерашние заключённые, величаются из уст ненавистных жандармов господами. На воле что-то определенно поменялось, и Льву Задову предстояло максимально быстро в этом разобраться — его энергичная натура не терпела никаких недомолвок и двусмысленности. Нужны деньги на оружие — берем кассу, нужны деньги на подкуп полиции — громим артельщика, кто-то не согласен делиться — нет времени пояснять — получи своё, и хорошо, если просто по лицу. Экспроприатор Лёвка предпочитал не цацкаться, а действовать. Вот и сейчас, посреди всего этого бедлама, он двигался к намеченной цели в компании своего, такого же заводного, знакомого — Петьки Сидорова-Шестеркина.
— И вот собрались все в прокатном, и там этот самый Борис залез повыше и речь толкнул. Ну, большевик, не иначе! Орал так, шо в дальних углах было слышно. Актёры тише разговаривают! — Пётр рассказывал эмоционально и сбивчиво, будто заново переживая эмоциональный подъем, постигший его на том митинге.
— А ты с артистами знался? Или может, с артисточками водишься? Откуда знаешь, как они орут? — рассмеялся Лёвка.
— Тьфу на тебя, дурень рыжий! Летом в Городском саду представления давали, я тогда еще заметил — ничего себе голосищи у них! Вроде даже если и шепчет — так всё равно громче, чем матушка на батьку ругается. Так я ж тебе главное не сказал — он же твоей веры, Лёвка. Он из ваших, точно тебе говорю!
— Та ты шо! Откуда прослышал?
— А народ гутарил. Еще там один сказанул так, мол, жид будет выступать… — Петька наткнулся на колючий Лёвкин взгляд. — Та спокойно, Лёва! Это ж не я, это тот селянин! А другой, который рядом стоял, ему и заряжает — хоть жид, да наш, понял?
— А фамилию не запомнил?
— Кошерович. Борис Кошерович[14].
— Ага… договоримся, значит…
Сапожная мастерская, где Кошерович тачал подошвы, находилась на Второй линии, в доме номер 40. Пётр довольно быстро выяснил у заводчан, кем был тот заводной оратор с митинга. Друзья рассказали ему, что этот Кошерович — человек в местечке новый, но большевикам хорошо известный, он у них в главных здесь ходит. Поговаривали, что он сапожником в Новороссийском обществе устроился, но мастерскую посоветовали искать за Собором.
— И шо ты ему скажешь? — Петька всё не успокаивался, терзаемый любопытством.
Лёва на несколько секунд задумался, поправил шапку и развел руками:
— Да что скажу… Раз он такой заводной, пусть рассказывает, как жить дальше будем. Они ж совет рабочих надумали собирать? Так мы тоже рабочие, чего там стесняться… Как к Кропоткину относятся, например? Мы ж ничего о них, об этих большевиках толком и не знаем.
— Как не знаем? Очень даже знаем. Вон, на заводе они на первых ролях, о равенстве говорят, хозяев прижимают. Вроде нормальный люд…
— Не, Петруха… Мне ясность нужна. То, что они тоже эксами промышляли, так это я ещё на каторге прослышал, но на том наше сходство заканчивается. Мы с тобой за полную свободу, а они?
— Так от и я ж говорю — свобода нужна полная, чтоб каждый определился, чего от жизни хочет и чтоб никто не мешал. Хочешь — на земле работай, хочешь — уголь руби. Везде своих поставить в начальство, пусть уголь на пшеницу меняют, ну, это упрощенно так… — Пётр любил углубиться в теорию анархической идеи. Ему очень нравилось, что мало кто вокруг мог с ним спорить — достаточно было одного слова — «свобода». Оно производило магическое действие на любого собеседника. Никаких обязательств, это мечта любого человека.
— Вот и определимся в теории, а потом и в практике. Совет — он на то и выборный, чтобы свободу дать. Собираюсь в нём участвовать.
— О, ты дал, Лёвка! — Пётр с восхищением посмотрел на здоровяка Задова. — Ну, а хотя… чего и нет? Мы что, рыжие? — тут же старые знакомые рассмеялись, а Задов снял шапку и провел рукой по коротко стриженным рыжим волосам.
Над поселком опускались сумерки, ещё более быстрые от того, что Юзовка была скрыта от заходящего на западе солнца тяжелыми, низкими тучами. В некоторых окнах домов виднелся тусклый, рассеянный свет керосиновых ламп. Кое-где тени обитателей квартир на Второй линии, увеличенные как через лупу, двигались по стенам и потолку, а прохожие, поднявшие воротники для защиты от пронизывающего холодного ветра, с завистью поглядывали в их сторону.
— О! Вон там! — Пётр показал рукой на старую, испачканную заводской сажей вывеску с надписью «Сапожная мастерская». Под ней несколько ступеней вели в полуподвальное помещение, где перед дверью было совсем уж темно.
— Чёрт! — выругался Лёва, поскользнувшись на второй ступени. Он с шумом скатился вниз, упершись ногой в дверь. — И не капли же не пил, а мама не поверит… — Лёва принялся отряхивать от грязи шинель.
— Тихо… Там буза какая-то… — Петька насторожился, услышав за дверью крик женщины. Потом раздался грохот мебели и явные звуки борьбы.
— Та шо тихо… — Лёвка поправил свою казацкую папаху военного образца без кокарды, купленную вчера на барахолке, и решительно взялся за дверную ручку.
— А тута занято! — промолвило лицо без двух передних зубов, обладатель которого приходился Лёвке по плечо.
— А мы занимали! — Задов с размаху отпустил преграждавшему дорогу босяку затрещину такой силы, что тот через секунду полета очутился в углу и, ударившись о стену затылком, застыл в странной, неестественной позе.
Сапожная мастерская Кошеровича напоминала поле боя: на месте оставался только массивный стол, прикрученный к полу, но на нем растекался из перевернутой банки вонючий сапожный клей. Слева от трубы печи, за грязной занавеской из плотной ткани, явно слышалась какая-то возня. Появление громилы в шинели в подсобном помещении стало неожиданностью для всех там присутствующих: барышня в платье из ткани в белый горох отпрянула к окну, наполовину занавешенному какой-то подходящей по размеру тряпкой, и завизжала, прикрывая лицо руками. Лежащий на полу сапожник в рабочем фартуке отпустил сапог человека с наганом, упавшего рядом и полез в сапог за ножом, угрожающе глядя на Лёвку. Нападавший на хозяина мастерской мужчина с пистолетом всем своим видом выражал удивление — подкрепление он не заказывал, а от посторонних глаз его должен был скрыть напарник, который в это время лежал при входе.
— Ходь сюды… — Лёвка зашел слева от мужика с револьвером, и стал между ним и сейфом, ключи от которого нападавший уже отобрал у сапожника. — Да не дури, паря… не дури…
Невысокого роста мужичок в кепке наставил на Задова пистолет, но руки его дрожали так, что нужно было принимать меры — не ровен час, в треморе своем на курок нажмет. Они сделали несколько шагов по кругу, и вооруженный мужчина оказался спиной к Петьке, которого не приметил.
Лёвка, не сводя глаз с пистолета, заметил на фоне фигуры нападавшего, что Петька опустился на четвереньки — так делали в детстве, чтобы нейтрализовать неожиданным толчком в грудь соперника в уличной драке.
— Ну всё, всё, паря… не шали… — Лева зацепил ногой валявшийся на полу медный самовар и тот с грохотом покатился по полу — у него не было ручек. В одну секунду налетчик потерял бдительность, отвлекшись на этот звук и этого было достаточно, чтобы Лёвка принял экстренные меры: рядом, ножками кверху, лежал крепкий, тяжелый табурет, который тут же полетел в нападавшего. Тот инстинктивно прикрыл лицо рукой, свободной от оружия и сделал шаг назад, споткнувшись о Петьку.
Отбиваясь рукоятью револьвера, мужик разбил Петьке верхнюю губу — тот был вынужден отступить.
— Назад! Назад, я сказал! — человек с наганом поднялся на ноги спиной начал пятиться к выходу. По звуку стало понятно, что его напарник пришел в себя и они, хлопнув дверью, спешно ретировались. Схватка секунд двадцать, не более, но сапожнику показалось — что ему показывают кино в замедленной съемке.
Лёвка осмотрелся вокруг, предварительно убедившись, что самовар холодный, поставил его на свободный подоконник. Женщина так и не опускала рук от лица, наблюдая за поведением новых незнакомцев, а сапожник, тяжело кряхтя, попытался встать, не выпуская нож из правой руки.
— От это не надо. Шинелка почти новая, — сказал Лёвка, собирая с пола пачки купюр и поглядывая на сапожный нож. Следующим движением он деньги положил на старый громоздкий сейф, обозначив свои мирные намерения.
— Конспектируете? — Задов среди валявшихся на половых досках купюр обнаружил множество листов, исписанных аккуратным женским почерком.
— Вы кто такие? — сапожник уже стал между женщиной и Задовым, но, похоже, опасности от визитеров ожидать не приходилось.
— Задов. Лев Задов. Анархист-коммунист. А вы меня не знаете, что ли? Прям обидно даже… Меня тут каждая собака знает… — Лева попытался снять напряжение несколько неуклюжей в данной ситуации остротой. — А вы чьих будете? Поговаривают, вы тут недавно?
Лёва протянул сапожнику руку в знак окончательной разрядки ситуации.
— Кошерович. Борис, — сапожник переложил нож из правой руки в левую и ответил на рукопожатие, после чего барышня за его спиной начала тихонько всхлипывать.
— Да уже плакать не стоит, Мария… Разберись-ка с самоваром, гости, похоже, по революционным вопросам пришли. А я пока порядок наведу. Проходите, товарищи, присаживайтесь, — сапожник поднял валявшиеся стулья и поставил возле стола. — Негостеприимно как-то встретили мы передовой отряд революции, ведь такими вы, анархисты, себя считаете, правда?
— Борис, я еще не понял, товарищи мы или нет. Это после вашего чая станет понятно… — Лёва засунул папаху за отворот шинели и без стеснения сел за стол. — Это мой знакомец хороший, Пётр. Мы с ним единомышленники. Садись, Петька, нам теперь никто вроде не мешает…
— Так вы нам жизнь спасли, похоже… Налетчик же таки пальнул, — Кошерович показал взглядом на пробитую пулей жестяную банку с клеем, из которой на пол медленно вытекала тягучая жидкость.
— Значит, так было кому-то надо, — Лёва многозначительно глянул наверх, будто ссылаясь на высшие силы.
Усатый сапожник с крупными, правильными чертами лица рассмеялся, укладывая на полку книги и какие-то записи:
— Вы верите в Бога? Вы же анархист-коммунист. Человек же сам творец своей судьбы, не так ли?
— Я в случай верю, в счастливый случай. На вашем месте я бы в него тоже уже поверил. Вот какого лешего, простите, мы решили именно в этот момент к вам зайти погутарить, не скажете?
— Не скажу. Это действительно счастливое совпадение. А поговорить нам, похоже, есть о чём.
Спустя пару часов Лёва Задов и Пётр Сидоров-Шестеркин, слегка покачиваясь, не спеша двигались в сторону дома, обсуждая своего нового знакомого и его планы.
— Вот теперь перед мамой врать не придется, и грязный, и водкой воняет, — Лёва пребывал в умиротворенном состоянии после вечера у гостеприимного и благодарного Кошеровича.
О пистолете, смотревшем ему в грудь некоторое время назад, Лёва уже и не думал, настолько увлекла его перспектива участия в революционном движении, раскрытая усатым сапожником.
Петька, взяв Лёву под локоть, держался, чтобы не упасть на гололеде и вслух рассуждал:
— Не, ну я не рыжий, это факт. Так я тоже чувствую в себе силы! Мне просто исключительно сильно печет всё внутри, как представлю, что могу вместе с тобой за наше дело бороться! А то мне этот завод уже вот где, — Петька провел ладонью по горлу. — Это ты у нас политический, да… Сидел за дело правое, но я-то тут тоже настрадался! Меня в прошлом году с Боссе выкинули за что? За забастовку! Я ж тоже могу! Ну меньше мне повезло, чем Задову, не сидел я… или наоборот, больше повезло… Да какое уже теперь дело до этого… Только чего-то я не понял, Лёва… Этот Кошерович что, правда главный? Ему можно верить?
Лёва, аккуратно ступая по подмерзшей тропинке, делал всё, чтобы не поскользнуться, и не утянуть за собой изрядно захмелевшего Петьку.
— Та можно, можно…
— Ты прям как батюшка, или как там у вас, ребе… Прямо в душу к нему, что ли, заглянул?
— Петруха! Ты не скажешь мне, часом, у тебя есть знакомые сапожники, у которых в подсобке сейф стоит, а в нём деньги пачками?
— Та у меня вообще знакомых сапожников нет, у меня батя сам тачает, если надо…
— Ну вот, тогда поверь: налетчики сапожников не грабят. Они за его партийной кассой шли. Так что мы не только его от пули спасли, но и всё их большевицкое сливочное масло уберегли. Ещё не знаю зачем, но так карта легла. Случай…
Гуляйполе. 16 ноября 1918 г.
Сапоги вязли в дорожной жиже. Пытаясь обойти вязкую колею, проложенную узкими колесами телег, путники предпочли сойти на обочину, усеянную желтыми и красными осыпавшимися листьями.
Оба изрядно устали и промокли — шинели отяжелели под льющим второй день дождем.
— Всё. Привал, — скомандовал тот, что выглядел постарше, завидев насколько крупных пней и бревно, лежавшее вдоль дороги.
— Ага… ноги гудят — сил моих нет терпеть. Заодно портянки перемотаю, — второй уселся на бревно и с облегчением стянул сапоги.
— Как думаешь, братка, тот слепец, что позади нас плелся, скоро сюда дочапает? — из вещмешка появился сверток, в котором изголодавшиеся почти за день пути путники хранили остатки своего провианта, взятого в путь, — три вареных в мундире картофелины, половина буханки ржаного хлеба, пара луковиц и небольшой брусочек соленого сала с прорезью.
— Мне он тоже сразу не понравился, как-то слишком голову назад закидывает, будто ниже очков под ноги посмотреть хочет. Дай луковку, Лёвка. Пока передохнем — может, и догонит. Долго же он за нами плелся… — туго перемотав портянки, Данил надел сапоги, довольный результатом — ни единой складки.
Братья Задовы, а это именно они сейчас решили отобедать на завалинке, держали путь в сторону Гуляйполя, до которого, по их расчетам, оставалось не так уж далеко.
— О… плетётся, что-то быстро он дошел, как думаешь, брат? — из-за перелома дороги показалась фигура человека в широкополой чёрной шляпе. Аккуратно прощупывая перед собой дорогу палкой, заменяющей трость, слепой смотрел сквозь большие круглые очки с абсолютно черными стеклами прямо вперед, высоко подняв голову.
— А ну, ка… Давай тихо посидим, не хрусти ветками. Говорят, у слепцов слух развит лучше, чем у зрячих. — Лёва жестом показал брату, чтобы тот замер. — И запомни, моя фамилия теперь — Зиньковский. Привыкай уже, теперь так всегда будет.
Человек в чёрных очках двигался вперед по прямой линии, не обходя лужи и периодически поскальзываясь на мокрой глине. Данька сделал удивлённое выражение лица, будто постыдился своего предположения, что слепец таки подглядывает на дорогу, но тот упрямо шел по грязной, скользкой колее, не желая подняться на обочину.
— Тщщ… — Лёва приложил палец к губам, предвосхищая следующую фразу брата.
Метрах в пяти от поваленного бревна, на котором сидели братья, слепец остановился, нащупал в кармане платок, вытер лицо от капель дождя и стал принюхиваться:
— А хлеб ваш свежий! Так только утренний каравай пахнет, вчерашний уже не так… Кто здесь?
Лёва с Даней удивлённо переглянулись, и, как настоящие братья, поняли друг друга с полуслова. Они были демаскированы слепцом, дальше скрывать свое присутствие не имело смысла.
— Что ж ты сам бродишь, без поводыря? Забредешь в даль далёкую, и что потом? — Лёва сжалился над слепым путником и встал, чтобы подать ему руку. — Местный, что ли? Давай к нам, отдышись, а то уже ноги еле переставляешь.
— Вот спасибо, хлопцы, вот спасибо… Воздастся вам на том свете, точно воздастся… — слепой доверчиво протянул вперед руку, в которой была трость, и с помощью Лёвки преодолел глинистый бугор, отделявший колею от завалинки. — А если и хлеба дадите, так молиться за здравие буду денно и нощно… За кого свечку ставить? Звать-то вас как, ходоки?
— За Данила поставишь и за Льва, — сказал старший брат, отрезая от каравая краюху. — На, поешь… Чем богаты. Даня, рубани ему сальца…
— Ооо… так вы еще и сало имеете, роскошь, роскошь… — местами голос слепого становился по-женски высоким, что придавало его речам какую-то интересную, необычную тональность.
Не опуская головы, их новый знакомый первым дело принялся жевать сало:
— Не наше… Александровское. Наше сладенькое, мягкое, а у них хряки, что на продажу идут, мясистые, жилистые. Ага… — отщипнув левой рукой кусок хлеба, слепой положил его в рот. — И на соломе ж экономят, куркули… Ну что тебе того сена, разбогатеешь, что ли… Положи нормально, обожги как положено, так аромат же будет, шкура смачная выйдет. Наши себе такого отношения к продукту не позволяют.
— Наши — это чьи? — поинтересовался Лёва.
— Та гуляйпольские мы. А вы откель? Говор у вас не наш. Хотя с юга вы, точно…
— Юзовские мы, — ответил Зиньковский.
— То-то я чую, не наши. А за какими делами к нам? Или гастроли проездом?
— Та не, не проездом. В Гуляйполе идём. Шо там, далеко ещё?
— Почти пришли. А чего лесами? Чего не по тракту? Боитесь кого? — поинтересовался слепой, прожевывая следующий кусок хлеба.
— Слушай, а шо ты такой любопытный? — Лёва стал злиться, понимая, что перед ним местный хитрец.
— Да не, не подумай чего, хлопче… Времена же смутные, кого тут только не бывало за последний год — австрияки одни чего стоили, теперь вот петлюровцы шныряют. А нам-то, селянам, с того только беда одна. Не серчайте, хлопцы…
— Слышь, мужик, — Лёва поднялся и сделал шаг в сторону, чтобы быть готовым ко всяким неожиданностям. — Ты очки снимай, хватит тут циркачить. Стреляные мы, думал на мякине провести? — Лёвин голос стал приобретать угрожающие оттенки.
— Чудак ты, хлопец… Не греши, — слепой остаток хлеба аккуратно положил в карман и стал нащупывать свою палку, которую положил рядом с собой.
— Так откуда ты понял, что я не один?
— Ну ты странноватый… сам же сказал, за кого свечку ставить! — слепой решил прикрикнуть и сорвался на фальцет.
— Вот спасибо, хлопцы, вот спасибо, — Лёва напомнил местному инвалиду одну из его первых фраз и тут же, аккуратно придержав его за лацканы тулупа, двумя пальцами снял с того чёрные очки, взяв их за центральную дужку на переносице.
Взгляд карих глаз слепого оказался колючим и злым. Завидев, что перед ним обманщик, Лёва приподнял его так, что ноги его оторвались от земли.
— Попусти, — с металлом в голосе спокойно сказал незнакомец.
Только он ощутил почву под ногами, как тут же вставил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Совершенно неожиданно с противоположной стороны дороги и у них за спиной появились солдаты в стрелецкой форме.
— Ладно… пока твоя взяла, — Даня остатки обеда быстрым движением закинул в вещмешок и туго затянул узел. — Лёва, а шо это за мундиры такие?
«Слепой» был невысокого роста, со странной прической — длинные волосы закрывали уши, он скорее напоминал художника, чем командира военных. Единственное, что никак не вписывалось в творческий образ, так это его глаза — взгляд тяжелый, из-под мощной надбровной дуги, сверлил собеседника, не обещая в ближайшей перспективе совершенно ничего положительного.
— Это кто у нас тут любопытный, я? — вожак стрельцов поднял руку и тут же в глубине леса раздался еще один свист. В это время путников, не успевших закончить свою трапезу, солдаты держали под прицелом. Из глубины просеки беззвучно появилась повозка, запряженная единственной лошадью.
— Мешки им на голову, — скомандовал невысокий «художник», только что бывший слепым.
Лёва, здраво оценив их с Данькой шансы, решил не вступать в борьбу, а подождать развития событий. В конце концов, кто бы ни были эти люди, пока они ничего плохого им не сделали.
Телега сильно раскачивалась и пару раз они с братом, не видя друг друга из-за мешков, пару раз ощутимо ударились головами. Связанные сзади руки не позволяли держаться.
— Кто это? — не очень громко спросил Даня?
— Да шут их знает… Не гетьманские, это точно.
— Чего так решил?
— А там один в лаптях был. Да и походка не военная. Крестьяне это.
— А ну тихо там! — возница прикрикнул на пленников, и те прекратили перешептываться.
Телега никуда не сворачивала. По звукам стало понятно, что они заехали в деревню — иногда раздавались женские голоса, гоготали гуси, лаяли собаки. Весь путь занял не больше получаса.
— Слезай, морда шпиёнская! — не снимая мешков с пленников, их завели в какой-то сарай. Только там их сняли, но руки не развязали.
Предводитель вояк из леса преобразился. Теперь на нем была серая папаха и шинель, подпоясанная портупеей. Слева от их нового знакомого, причмокивая уголком рта, стоял странного вида матрос. Его кафтан был расшит по-гусарски, из-под бескозырки в стороны выбивались темные кудри, а маузер сбоку висел на ослабленной портупее — совершенно не по уставу.
— Де ты их откопал, батька? — матрос не выпускал из рук нагайку, демонстративно показывая, что в любой момент может ею воспользоваться.
— В лесу, где ж ещё… Говорил я тебе, Федосий, посты надо грамотно расставлять. Вишь, сработало. Ну давай, милок, рассказывай, какой у тебя тут интерес… — последняя фраза была адресована Задову, его собеседник безошибочно определил, кто в этой паре старший.
— Ты, что ли, Нестор будешь? — Лёва решил пойти в контратаку.
— Ну, допустим…
— К тебе идем.
— А я вас не звал. Тут таких ходоков — десяток в неделю. Кто такой? — Нестор неожиданно заорал и этот голос уже никак не напоминал фальцет слепого.
— Лев Зиньковский. Это мой брат Данил.
— Шо хотел, Лев? — матрос поигрывал уже не плетью, а маузером.
— Ты, морячок, пистолетик свой заправь на место, а то пальнешь сдуру, так и не поговорим толком. Анархисты мы. Анархисты-коммунисты. Говорят, в Гуляйполе Нестор Махно бунт поднял. Имя в анархических кругах известное, только описывали тебя иначе, уж не думал, что ты такой невысокий… — Лёва, лежащий на сеновале, демонстративно перевернулся на бок — тугой узел толстой веревки на запястье доставлял сильную боль.
— А шо пролетария в наши края занесло? Ты ж вроде из Юзовки? — спросил Махно. — Развяжи их, Федосий.
— Добрый ты, Нестор… — моряк достал из голенища нож и разрезал веревки.
— Так-то лучше разговаривать, — Даня потирал онемевшие кисти рук.
— Слышь, рыжий, ты очочки-то отдай, — Махно протянул Лёве руку.
Дальнейший разговор происходил за большим деревянным столом в чистой, аккуратной хате, что стояла рядом.
— А на шо вы этот маскарад устроили? — Лёва чистил варёное яйцо в предвкушении удовольствия — такого деликатеса они уже давно не видели, все похлебка армейская, да случайные трофеи с крестьянских дворов.
Нестор взглядом скомандовал Федосию Щусю — и матрос без лишних слов плеснул мутной жидкости из большой бутылки в маленькие граненые стаканы.
— Считай, что это военная хитрость. Свои нас в лицо знают, а чужаки пусть думают. В Киеве волнения происходят, Петлюра и Скоропадский перегрызут друг другу горло. Кто победит — мы тут не знаем, но на всякий случай коллекция мундиров имеется. Австрияки с немцами ушли, а эти ещё появляются. Так мы их на живца и берем — и гардеробчик наш пополняется. Так и живем. Где патронами разживемся, где пулеметом. Но мало, конечно, патронов, мало. Даром не палим. И ружья у хлопцев были не заряжены.
— Ага, а мы будто заметили… — Лёва с Даней искренне рассмеялись. — А ты, Нестор Иваныч, на первой же фразе прокололся.
— Та сначала брякнул, а потом смотрю — заметите или нет? Заметили.
— Голову назад не заваливай, видно же, что подглядывал на дорогу.
— Вот, говорил я тебе, Щусь! Говорил же! А ты — выше голову, выше, слепые все время вверх смотрят!
Федосий Щусь — матрос в гусарском мундире, даже несколько обиделся, что пришлые оказались правы. И вообще, не много ли им внимания? Из сарая да за стол. Обычно стреляли.
— Ну, а как же ты, Лёва, на Донбассе боролся за дело наше анархическое? — Махно хитро прищурился в ожидании ответа.
— Да как все. Пара-тройка эксов, закупили оружие, да не успели продолжить. В тринадцатом повязали нашу боевую ячейку. А после февраля понеслось. Там уж и в совет меня от доменного цеха выдвинули, и добровольцем пошел…
— За кого? — Федосий задал этот вопрос так, будто поставил капкан. Всё его ревность одолевала. Как с Нестором вместе воевать — так Федосий, а эти пришли час назад, а он их уже и на постой определил, и кормит, и поит.
— Так за красных. Анархический отряд. Гнали нас аж до самого Царицына. А там большевики обласкали — под арест кинули. Меня и почти всех остальных. Трусы, говорят. Мародеры.
— Ну, за трусость вообще расстрел положен, а ты живой, — кольнул Федосий.
— Пока в каземате сидели, командование справки навело. Действительно оказалось, что немцев раз в двадцать больше было. Простили. Но я их не простил.
— Это шо ж так? — Нестор отвлекся от квашеного помидора из бочки.
— А вот так! Есть там у них один, почти земляк наш. Ворошилов Климент. Маленький такой, но противный, зараза. Прости, Нестор…
Махно при слове «маленький» скривил такое лицо, будто получил личное оскорбление:
— Это ты, дылда здоровая, на всех свысока смотришь, потому как рост у тебя ненормальный, тебя ни в каком окопе не спрячешь. А способности от роста не зависят. Вон, училка наша говорит, Наполеон вообще самый низкий в своей армии был — и ничё… Шляпы снимали и кланялись. Так шо этот твой Климент? Шо за военный?
— Из большевиков. Но такой, что-то в нем есть не наше, не знаю… Вот отступаем, на станции полно вагонов с ранеными, он приказ даёт — на восток. А я что, братву свою брошу под штыки гансов? Они там будут лежать в бинтах и ждать смерти? Дань, дай-ка картошечки ещё…
— Ну, не по-людски, да… Так мог же и здоровых потерять. У гадёнышей тогда аэропланы были, а пара бомб на станцию — то ж милое дело, — Нестор продолжал с любопытством расспрашивать гостя. Находясь здесь, в глубинке, он не имел свежей информации о происходящем за пределами уезда, и все эти новые имена, фамилии, стиль поведения и прочие тонкости для его любопытного ума были чрезвычайно полезны.
— В общем, выбрались мы тогда. Всех увезли, а сами последним составом отбыли. И что ты думаешь? Ворошилов спасибо сказал за то, что я ему личный состав сберег? Да вот и дуля тебе с маком, Зиньковский. Выговор! За невыполнение приказа. Я, может, чего не смыслю в вопросах управления армией, но несправедливость за версту чую. А как денежное содержание свое разделил между хлопцами, так впал в немилость.
— Большевики, они, конечно, странноватые на первый взгляд. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что…
Нестор встал из-за стола и, заложив руку за лацкан, принялся расхаживать вдоль стола. Братья Задовы при этом внимательно следили за его словами, а Щусь, слышавший эти лекции уже не один раз, принялся чистить маузер. Ему это было уже знакомо — все решения Махно выносит на суд товарищей, и как бы решения принимаются вместе, но перед этим так мозги выполощет, разжуёт и в рот положит — глотай только. Вроде и все вместе порешили, а вроде — то, что Нестор хотел.
— Так вот, сейчас большевики наши союзники. Однозначно. Из всего, что крестьянину полезно, — они единственные, кто хоть как-то не становятся нам поперек горла. Скоропадский — враг наш, да и недолго ему осталось. А на смену кто придёт? В Киеве ж нет ни одного человека в здравом уме и трезвой памяти! — Нестор продолжал ходить взад-вперед. — Один другого краше, и всё ищут, под кого бы нырнуть. А про Гуляйполе кто будет думать? Чтобы хлебушек уродил, чтобы скотинка разводилась… Им бы только отобрать, да поделить. Кто землю даст, за тем народ и пойдёт. Так вот я землю быстрее большевиков дам.
— Ой ли? — Лёва скептически ухмыльнулся. — До этого часа еще ой как далеко. Ещё повоевать придется. Кровушки пролить, и своей, и вражеской.
— А кто враг наш? — резкий выпад Нестора отвлек Задова от следующего яйца.
— Да ясно кто, немцы.
— Мелко мыслишь, товарищ Зиньковский. Наш враг — любой, кто свободу нашу прижмет. Любой. Скоропадский, например. Или беляки — тех вообще со свету сжить надо. Потому большевики — наши союзники. А таких полководцев, как этот твой Климент, их везде сыскать можно.
— Свобода может быть без справедливости? — Лёва давно не принимал участие ни в каких спорах — армия дискуссий не подразумевает, потому готов был сегодня на полную катушку восполнить пробел общения с единомышленниками.
— Нет.
— Так вот этот Ворошилов, значит, у меня часть моей свободы отобрал. Еще увидишь, какой фрукт. Да там они все яркие. Троцкий, говорят, так вообще голов не считает. Ему бы на бойне командовать.
— Ты хлопец горячий, как я погляжу, — Нестор отодвинул в сторону глиняную миску, проверил по привычке кобуру и удовлетворенно выдохнул. — Но наблюдательный. Время покажет, кто прав, а осторожность — она никогда не помешает. В этом месиве верить никому нельзя. Подходишь ты мне.
Одесса. 3 апреля 1919 г.
— Сёмочка, шо вы знаете за тот парад на море?
— Ой, да что там знать, забегали как вшивый по бане. Ото они и знают шото. Слепому видно — тикают.
Лоточницы на Приморском бульваре только о том и сплетничали — на рейде Одесского порта, кормой на восток и носом на запад, выстроились десятки больших и малых черных силуэтов кораблей. За то же гутарили и на Привозе, неожиданно ощутившем на себе факт очередного потрясения в городской жизни — выручка стремительно падала.
Одессита разве удивишь эскадрой? Приходят, уходят, гудят, лязгают цепями якорей, выпускают в город экипажи, чтобы те почувствовали наконец-то под ногами твердую землю, оставили деньги в «Гамбринусе» и других бодегах[15], а если после всего здоровья хватит, то и в объятьях местных жриц любви. Так было десятилетиями, в таком ритме Одесса живет круглосуточно, но в апреле 1919 года этот ритм нарушился.
Военные, грузовые, пассажирские суда, все они по очереди подходили к причалам, чтобы взять на борт то, что им положено расписанием эвакуации. Французский оккупационный корпус уходил из Одессы так стремительно, что любой, даже самый далёкий от военной стратегии балабол, понимал, что это напоминало бегство.
— А вы видели, Сёмочка, ваши квартиранты сбежали!
— И быстро сбежали?
— Ну не так, чтобы очень, чумадан не забыли.
— Они хоть свой чумадан не забыли?
— Я так смотрела, что им стало неприятно. Ваш чумадан я припоминаю, я ещё в своём уме! У них таки был свой. Вы, Сёмочка, не в накладе остались?
— Да нет, что вы, мадам Зборовская… Без грошей вперед мы ключами от номеров не грюкаем, вы же знаете…
Весь восемнадцатый год Одесса наполнялась людьми, бежавшими от войны и революции. Купцы, интеллигенты, разного уровня бывшие чины, состоятельные обыватели искали в сытом городе у моря покой, защиту и надежду на будущее. На фоне Петроградской смуты приезжим казалось, что здесь — земля обетованная. Конечно, нравы не столичные, своё нужно держать подальше, вести себя тише, не шиковать. Тем более что со всеми этими событиями совершенно неясно, как жить дальше, что будет и к какому берегу революционный шторм прибьет хрупкое суденышко каждой, отдельно взятой семьи.
В Одессе стало тесно. Не только в трамваях, но и в квартирах. А с приходом в начале декабря восемнадцатого года французского корпуса, так и вообще. Одно успокаивало столичных беженцев — французские мундиры радовали глаз. В неспокойной Одессе установился относительный порядок и воспитанные, образованные барышни не упускали шанса невзначай блеснуть знанием французского где-нибудь в театре в присутствии этих самых мундиров.
Третьего апреля утром в городе началось необычное оживление. Иностранные офицеры сменили выражение своих лиц с томно-богемного на суровое и строгое, какое следует соблюдать при службе. Передвигаться по улицам они стали быстро, четко выполняя приказы своего начальства — на эвакуацию штабом десантной дивизии было отведено критически мало времени.
Местные с интересом наблюдали за этим гармидером[16], подразумевая, что в любой нестандартной ситуации найдется место для гешефта[17], а расслабившиеся при французах переселенцы начали откровенно паниковать. По городу устами всезнающих торговок неслась весть о том, что красные полки на подходе, а их лазутчиков уже видели на Фонтане.
Мест на судах для такого количества желающих, конечно, не было предусмотрено. Капитаны еле живых баркасов и малоразмерных, видавших виды прошлого века ботиков, взвинтили цены до небес: до Севастополя просили тысячу с лица, а если дальше, то разговор начинался с двух.
Одесса опустела в течение двух суток. Центром жизни на это время стал порт.
Прослышав о вселенском движении, на улицы вывалил весь цвет Молдаванки и Слободки — от марвихеров[18] и щипачей[19], до гопников[20] и обычных босяков[21]. Штука ли! Куш[22] сам вышел из своего гнезда, одетый не по сезону, в меховую шубу, потому как та не помещалась ни в какой из кофров. Куш с плаксивым лицом пытался докричаться вслед уходящему по брусчатке извозчику и в страхе даже не пытался рыпаться дальше, чем на десять метров от жены и детей, охранявших гору багажа, готового к бегству вместе с хозяевами.
К вечеру шестого числа, изрядно подуставшие от обилия работы, искатели легкой наживы и приключений в основной своей массе рассредоточились по малинам для подсчета барышей. На улицах, распугивая своим видом случайных запоздалых прохожих, еще шатались мелкие группы экспроприаторов, но запал у них был уже не тот — удовлетворенные результатами покоса последних дней, они имели настрой в большей части миролюбивый и спокойный.
Иное настроение было в душе у Бори Штыка. Боря только в обед пришел в себя после обильного возлияния, продолжавшегося несколько дней в компании братьев по воровской специальности и малознакомых барышень. Боря спустил всё, что с таким трудом надёргал за неделю и теперь, разочарованный и обозлённый на Фортуну, которая отвлекла его от редкой удачи женщинами и спиртным, он мог только молча завидовать более трудолюбивым коллегам.
Боря и сотоварищи, нехотя пиная попадавшие под ноги камушки и не вытаскивая натруженных воровских рук из широких карманов, двигались от Портового спуска[23] вверх по узкой каменной лестнице, к началу Дерибасовской. Головная боль делала их существование в этот вечер невыносимым.
— Считайте, что я к этой фармазонщице[24]… Как её? Изабелла? Считайте, дорогу забыл. Изабелла… Финочка под её пухленьким бочочком может раскрыть нам глаза на правду. Быстрей всего, по пачпорту, какая-нибудь Соломия. Такого шмурдяка[25] нам не подавали даже в самые грустные времена! — эту тираду Борис, терзаемый невероятной сухостью во рту, изрек в адрес принимавшей стороны, которая обеспечила ему трехдневный загул за его же деньги.
— Ваши слова, Боря, сейчас пахнут таким перегаром, что я не уверен, надо ли нам на Дерибасовскую, там же приличные люди, — заметил Йося Аглицкий с Пушкинской. В этой стае он слыл интеллигентом благодаря своему месту проживания и полным неприятием какой-либо матерщины.
— Ой, Йося, ша… — на большее выражение эмоций Борю не хватило. Он сам уже задумался, зачем они попёрлись по этой чёртовой лестнице, не имея сил толком переставлять ноги. Их ещё нетрезвая походка напоминала покачивание моряков, только сошедших на берег.
— А щас сосредоточились, братва… — прошептал Боря, завидев вверху лестницы быстро спускающуюся фигуру человека в гражданской одежде.
Как только прохожий поравнялся со встречной компанией, Йося подставил тому плечо и картинно взвыл:
— Ой, ёёё… От это вмазал! Ты шо ж такой прямолинейный, как броненосец! Это было дюже больно!
— Je m’excuse[26]. Не понимать, — ответил молодой человек, пытаясь избежать нежеланной встречи, но узкая лестница и полная темнота не давали ему пространство для маневра.
— Гля как мурчит, французик, не иначе, — Боря определил своим воровским чутьем, что это тот единственный шанс, который дала ему на сегодня судьба, чтобы пополнить содержимое карманов и затем иметь возможность зарисоваться на Молдаванке. Ну не мог же он признать, что в то время, когда все люди стали на работу, он безбожно пил где-то на задворках Карантинной балки и профукал весь свой воровской фарт.
— Предъявите содержимое карманов. И давайте без шума и пыли, — выдвинул ультиматум Боря, сделав шаг навстречу жертвы.
Француз аккуратно, двумя пальцами достал бумажник и протянул его грабителям. Та же участь постигла и его часы. В знак того, что он отдал всё, молодой человек развел руками.
— А тут у тебя что? — Иосиф Аглицкий потянулся к тонкому жёлтому портфелю, который иностранец держал в левой руке. Реакция на это движение оказалась моментальной — француз нанес грабителю удар в челюсть, от чего Йося, перецепившись через парапет, улетел с лестницы. Такое нахальное поведение до этого момента смиренной жертвы стало неожиданностью для нападавших и от того они на мгновение опешили. Француз, подобрав с земли шляпу, поспешил продолжить свой путь, но совершил непростительную оплошность. Посчитав, что всё закончилось, он подставил спину. Боря Штык дал волю своим звериным инстинктам и в два прыжка догнал иностранца, ударив его ногой в поясницу. Человек с портфелем сумел сгруппироваться и, покатившись вниз по ступеням, умудрился увлечь за собой Штыка.
У Бориного везения на сегодня явно лимит был исчерпан: фраер в шляпе оказался не простой жертвой, а подготовленным бойцом. Через секунду он ухватил бандита за кадык и тот стал издавать ужасные хриплые звуки. Никто из Борькиных подельников не посмел приблизиться, только Йося под покровом темноты пробирался в тыл врага.
Штык уже перестал хрипеть и, похоже, собрался отдавать Богу душу, но тут Йося с тыла добрался до эпицентра событий.
Непонятно как, но француз его заметил. Теперь, чтобы дать отпор подкреплению, иностранец отпустил кадык Штыка и Боря, получив возможность дышать, собрал последние силы, перекатившись на живот.
Револьвер из внутренней кобуры обладатель портфеля так и не успел достать — Йося ударил его финкой в грудь с силой, совершенно не соответствовавшей его хлипкому виду. Казалось, хруст ребер жертвы был слышен на Портовом спуске.
Француз безжизненно распластался на ступенях, не выпуская из рук портфеля, но Йося таки вырвал его с каким-то диким остервенением. Челюсть напоминала о себе неимоверной болью в щеке. В пылу борьбы юнец не почувствовал, что у него выбит зуб. Теперь, когда жертва была повержена, он выплюнул его вместе с кровью и озадачился содержимым портфеля, за который с такой яростью бился незнакомец.
— Да что ж там такое! Сокровища Британской короны? — юноша дрожащими руками раскрыл оба замка и разочарованно выдохнул. — Чёрт… Зря грех на душу взял… Бумажки какие-то…
— Йося! Ну ты ж не фраер! Ну такой расклад выпал, не копти, — успокоил товарища сквозь кашель оживший Боря Штык. — Что за бумаги? Читай, грамотей!
— Пошли отсюда. Не в библиотеке, — Йося красноречиво глянул на тело иностранца, под которым растекалась лужа чёрной крови.
Одесса. Порт. 6 апреля 1919 г.
— Доложите ситуацию, полковник Фрейденберг.
— Мой генерал, согласно графику, все погрузочные работы выполнены. В течение сегодняшнего дня двадцать два судна ушли с рейда с полной загрузкой. Двенадцать из них взяли курс на Констанцу, десять — на Севастополь. Докладываю: ваш приказ выполнен.
— А что с теми людьми, которые в порту остались? — бригадный генерал Филипп Д’Ансельм, командующий союзными оккупационными войсками на юге России уже мог докладывать премьер-министру Жоржу Клемансо о завершении операции по эвакуации французских и греческих войск из Одессы. Теперь генерал проникся сопутствующими вопросами, решать которые напрямую он был не обязан.
— Мой генерал, все суда вышли на рейд, груженые по ватерлинию. Свободных мест ни на одном борту не оставалось, — доложил начальник штаба, полковник Анри Фрейденберг.
— Значит, несчастным не повезло? — лицо генерала не выражало ни сожаления, ни сочувствия — только по-военному сухая констатация факта.
— Возможно. Но они на родине, — отрапортовал полковник.
— Что с матушкой, Анри?
— Мой генерал, я благодарен Вам за исключение, которое вы сделали для члена моей семьи. Матушка уже на борту.
— Не стоит благодарности, Анри. Иначе и быть не могло.
В этих своих словах бригадный генерал Д’Ансельм был искренним. По прибытии в Одессу, где разместился штаб оккупационных войск Антанты, командующий столкнулся с сотнями вопросов, которые следовало решить если не немедля, то хотя бы в течение нескольких часов. И тут провидение послало ему полковника Анри Фрейденберга — коренного одессита со всеми вытекающими отсюда последствиями.
После поступления приказа об эвакуации Анри находился дома лишь несколько часов, которые он потратил на то, чтобы уговорить свою маму последовать за ним. Лишь красочное описание перспектив, которые ожидают пожилую мадам Фрайдельберг после появления на Греческой площади первых же разъездов красной кавалерии, сдвинуло дело с мертвой точки.
После визита лекаря, неимоверными усилиями вернувшего давление мадам в норму, старушка мысленно попрощалась со всей своей недвижимостью в центре Одессы и приказала собирать ей чемоданы. Таковых набралось четырнадцать, но это нисколько не смутило её послушного, любимого сына, приславшего за багажом авто — действовать следовало оперативно, дабы маминька не успели передумать. В таком почтенном возрасте случается, что дамы могут быть так же непостоянны, как на заре своей туманной юности, но мадам Фрайдельберг уже свое слово сказала. Следует заметить, что свою железную волю, предприимчивость и хитрость полковник унаследовал именно по женской линии.
Генерал, находясь на мостике флагманского корабля, разглядывал причал Каботажной гавани в бинокль. Там бегущие от красных гражданские отчаянно штурмовали катер под французским флагом. Команда никого не пускала на борт, в ход пришлось пустить даже багор.
— По вашему мнению, Анри… Сколько еще нужно времени?
— Хочу надеяться на лучшее, но прошу еще час. Капитан Пинель отличается исполнительностью и пунктуальностью.
— Полковник… Ваши интриги я терплю исключительно из-за хорошего к вам отношения. Уже начинаю жалеть, что пошел у вас на поводу. Неужели эти бумаги того стоят?
— Мой генерал, эта оперативная игра велась несколько месяцев, и вот наконец-то нам будет чем уколоть немцев. Все свои делишки с большевиками они прокрутили лихо и с размахом. Я не уверен, что, оплачивая оппозицию в России, они рассчитывали получить именно такой результат — враждебную страну. Скорее всего их цели ограничивались выводом России из войны.
— Знаете, Анри… Возможно, я человек другой закалки. Мой враг всегда передо мной. Я его в бинокль могу рассмотреть. Эти ваши закулисные маневры, без сомнения будут по заслугам оценены во внешней разведке. Вы там тоже в звании полковника?
Подобными вопросами Анри смутить было трудно, он не скрывал, что выполняет поручения 2-го управления[27]. Одесса недаром удостоилась внимания службистов. Если какая-либо европейская спецслужба не имела агентуру или резидента в городе, то можно было считать, что она отстала от реального хода событий минимум на год. Уникальная, раскованная атмосфера портового города позволяла затеряться в числе многочисленных иностранцев, пребывавших там по роду службы или просто так, для прожигания жизни. Сюда стекались потоки информации, совершались сделки, шла торговля секретами — настоящими и не очень.
— Я в звании полковника, мой генерал… — Анри натянуто улыбнулся. Шеф сразу смирился с некоторыми щекотливыми миссиями своего подчиненного, которые он никак не контролировал. Теневая сторона деятельности полковника его официальной миссии никак не мешала, он блестяще руководил штабом.
Спустя два часа пребывания на мостике бригадный генерал Д’Ансельм, испив горячего чая, всё же нарушил гнетущую тишину:
— Полковник…
— У нас есть ещё возможность ждать?
— Нет, Анри.
Фрайденберг вопреки всем правилам приличия и воинской иерархии никак не отреагировал на слова бригадного генерала, а поднял бинокль и пристально стал разглядывать причал порта, на котором толпилась разношерстная публика с багажом. Казалось, в этом муравейнике, колышущейся людской массе, невозможно различить знакомое лицо, но полковник потратил еще десяток минут, всматриваясь в каждого, кто попадал в поле зрения его мощного бинокля… Генерал Д’Ансельм молчал.
Неожиданно резко полковник оторвался от оптики и, повернувшись лицом к командиру, чётко отрапортовал:
— Да, мой генерал! Отдавайте приказ. Я все понимаю. Он не мог опоздать. Что-то произошло.
— Капитан, отзывайте катер. По его прибытии — поднять якоря. Курс на Констанцу, — скомандовал бригадный генерал капитану флагмана.
Катер под французским триколором так и не дождался своего единственного пассажира с жёлтым тонким портфелем…
Одесса. 8 апреля 1919 г.
— Сёмочка, а шо ви думаете за отех шлемазлов[28] в зимних жупанах?
— Мадам Зборовская, я не их папа, шоб за них думать. От них так разит бормотухой и часныком, шо мухи падают замертво за квартал! Шо это за турки? Шо от них можно иметь хорошего?
— Сёмочка, а ви будете их селить?
— Та на чорта нам оте скаженные! У меня что, вид на море!? У меня нет вида на море!
— А если очень попросят?
— Всё. Нумера закрыты! Убытков нам не надо! У меня же люстры венецианского стекла!
— Ой, Сёмочка, я вас умоляю! Видала я те люстры!
— Мадам Зборовская, это наша тайна!
— Сёмочка, ваша мама воспитала-таки правильного сына, дай бог вам хорошую любовницу!
Уже сутки Одесса стояла на ушах в связи с приходом освободителей.
Комбриг Никифор Григорьев эффектно появился в городе со стороны Слободки. В сопровождении кавалерии полковник проследовал на открытом авто по Пушкинской, сорвав аплодисменты и восторженные возгласы. Свой выбор он остановил на гостинице «Бристоль», где занял второй этаж.
На балконе гостиницы теперь развевался красный флаг. В подтверждение серьезности намерений бывшего атамана, а ныне — красного командира товарища Григорьева с того же балкона обозревал свои дулом угол Пушкинской и Кондратенко[29] потертый в боях пулемет «Максим». Ни один прохожий пулеметчика рядом с ним не видел, поэтому жители соседних домов единогласно приняли решение, что «это для форсу бандитского».
Барышням, владеющим французским, мамы под страхом домашней казни запретили выходить не только в театр, но и вообще за дверь. Несколько дней назад, на Греческой или Скобелева[30], повстречав офицера, мадемуазель могла лишь смущенно улыбнуться и смиренно опустить взгляд в ответ на его жест, напоминающий отдачу воинской чести. Сегодня мадемуазели пришлось бы спешно ретироваться под одобрительные возгласы не по сезону одетых военных с красными лентами на папахах — части Григорьева пришли в весеннюю Одессу в зимнем обмундировании.
Все постояльцы из «Бристоля» поспешили разместиться в более спокойных местах, если таковые можно было теперь найти в вольном городе. Немногочисленное войско Григорьева потерялось в городских кварталах — поодиночке и мелкими группами воины брали от жизни всё, чего им недоставало в зимнем походе.
— Миша, к тебе имеет дело Иосиф Аглицкий с Пушкинской, — Майорчик[31] почтительно нагнулся, чтобы Японец мог его слышать, а некоторые случайные посетители кафе «Фанкони» — нет.
— Там что-то настоящее? — поинтересовался Король, нехотя отложив в сторону свежий, возможно и последний, выпуск газеты «Одесскiй листокъ».
— Йося имеет вид взбудораженный, — кратко описал ситуацию Майорчик.
— Зови.
Не успел Миша отпить свой кофе, как возле стола появился явно смущенного вида молодой человек, лицо которого было покрыто от волнения красными пятнами.
— Михаил Вольфович, я бы не приперся за просто так… — юноша впервые имел личное общение с королем преступного мира вольного города и от того пребывал в глубоком волнении.
— Я думаю, если у порядочного человека есть ко мне дело, так я должен выслушать.
— Спасибо, Миша, за комплеман, я потому и пришел, что моя порядочность мине жизни не даёт уже второй день, — Йося поборол нервы в голосе после первой доброжелательной реплики Японца. Тот, вопросительно глядя на визитера, ожидал продолжения разговора — обычно в этом месте от визитёра следовала какая-то просьба или жалоба.
— Мы тут третьего дня на лестнице фраера одного… ну, того…
— Кокнули, что ли? Что-то я не слышал о трупе на Ришельевской лестнице[32] третьего дня.
— Та не, Миша… То была от Дерибасовской лестница. Так мы его почистили, ну и да, взял я грех на душу. Иначе не увидел бы я сегодня короля, понимаешь, одели бы меня уже в клифт деревянный[33], и лежал бы я там, молодой такой, с дыркой в боку.
— Слушай, Йося… Ты ведешь себя, будто с мамзелью заводишь. Меньше пафоса. Чего хотел?
— При французике том портфель был, — молодой человек произнёс это с важным видом, сделав в слове «портфель» ударение на первый слог.
— Ну? — томимый непониманием, Японец начинал выходить из себя. Тут григорьевцы воровской люд прижали, людям работать не дают, а Йося всё никак не разродится…
— Мама говорила — учи, сынок, языки, тебе пригодится. Таки пригодилось. Я эти бумажки прочёл. Они на немецком.
— Ну? — ещё громче подтолкнул Йосю к финальной мысли Японец.
— Миша, это очень секретные бумаги. Там так и написано вверху — «Ну очень секретные бумаги».
— И что, какие будут предложения?
— Я их вам, Миша, отдам, а мне взамен денег не надо. Я и так не знаю, на чёрта я их подмел. А вам пригодится, у вас уровень!
— Не имею возражений. Мы почитаем, и если что — за нами не заржавеет, — резюмировал Японец. — Так, а где бумаги?
Йося, хоть выглядел как юнец, ума к своим двадцати годам уже нажил:
— Три минуты. И я здесь.
Через указанное время Михаил Винницкий, известный в миру как Мишка Японец, держал в руках тонкий портфель из желтой кожи.
Весь день до самого вечера к королю одесского криминалитета стекалась со всего города информация о происходящем. То там, то здесь люди воровской специальности попадали в неприятности с красноармейскими патрулями. В порту, где интервенты оставили после себя море добра, форму, боеприпасы, технику и прочее, нужное в хозяйстве барахло, были расстреляны на месте два человека, разжившиеся четырьмя рулонами сукна. Глаза[34] докладывали, что ночью в «Бристоле» состоялся неимоверный кутёж — на подводе, запряженной добрым битюгом, привезли бочку красного вина. Катить наверх её не стали, разливали во что попало прямо в парадной зале, а потом до утра орали песни и палили по люстрам.
Последней каплей стали слова Майорчика:
— Миша, этот атаман дюже лютует.
— Что там еще? — одной плохой новостью больше, одной меньше, настроение всё равно было безнадёжно испорчено.
— Приказал расстреливать нашего брата на месте преступления в целях борьбы с преступностью.
— Эх, как завернул, шкура петлюровская!
— Позволю себе встрять, Миша, он не петлюровская шкура, а красная, — поправил своего шефа Майорчик.
— Эти шкуры перекрашиваются быстрее, чем сохло бельё в заведении покойной мамаши Мозес, царствие ей небесное! Вот увидишь, Мейер, пройдёт время, и он опять масть сменит.
— Ну, хорошо, пусть будет петлюровская. Может, оттого он чекистов так ненавидит.
— А что с чека?
— А он их тоже собрался к стенке ставить.
— И как? Получилось?
— Да не очень, Миша… Кто смылся, кто телеграфировал в штаб ихний… Такое… Жертв и разрушений нет. Но уж больно орал, что постреляет.
— Да слабоват он на чека рыпаться. Тем более они одного поля. Этот не Гришин-Алмазов[35]. Этот попроще будет. Кстати, а что там наш генерал? Что люди говорят?
— Говорят, ушел в Бессарабию.
— Один ушёл, другой вон пришёл… Что им всем неймётся, Майорчик? Что им надо из-под нас?
— А мёдом тут намазано, Миша. Ладно… Тут ещё коммерческое сообщество жалуется… Люди обоснованно волнуются. Ювелир Костюковский, так тот в лоб спросил: «Люди дорогие, я делаю взносы, свою часть договора исправно выполняю, а у меня неприятности такие, будто вас тут и не стояло».
— Что стряслось у почтенного Зиновия Яковлевича? — искренняя забота о благосостоянии известного ювелирных дел мастера сквозила в голосе Мишки Японца. Зиновий Яковлевич не только состоял на учёте как личность неприкосновенная в силу ежемесячной оплаты взносов на людские нужды, но и оказывал Мише мелкие услуги. Мог за ночь разобрать на запчасти колье, не спрашивая, откуда оно приехало, делал бесплатно экспертизу ценности камушков и утверждал подлинность проб на драгметаллах, ну и так, по мелочи — консультировал по ювелирному антиквариату. Обидеть Зиновия Яковлевича было всё равно что плюнуть самому Мишке под ноги.
— Кто старика обидел? — конкретней сформулировал вопрос Японец.
— Новые власти. И не только его, — ответил Майорчик.
— Вы, Зайдер, тянете кота за хвост. Нельзя ли конкретней, пока я не разволновался.
— Григорьев наложил контрибуцию на коммерсантов. Повелел собрать пятьсот миллионов до двенадцатого числа. Старики расстроились, говорят, во всей Одессе нет столько наличности.
— Сумасшедший поц! Что он себе думает? — взорвался Японец.
— Он себе думает, что если ему рукоплескали на Пушкинской, то он теперь Господь Бог.
— Месье Никифор несколько самоуверен… — Мишка о чём-то задумался, придвинув кофе к себе поближе. — А где этот Йося, что вчера портфель принёс?
— Доставить? — немедленно отреагировал адъютант.
— Что ты, Майорчик, такой заводной? Не доставить, а пригласить и проводить, чтобы побыстрее. Мальчик сделал нам подарок, он заслужил почтение.
Через час Иосиф сидел напротив Японца за тем же столиком, что и вчера.
— Йося, меня терзает вопрос: Аглицкий — это твоя фамилия, или по костюмчику прозвали? — Иосиф на парадные выходы крайне редко надевал костюм английского покроя, и было это всего три раза в его жизни. Два из них он встречался в этом костюме с Мишкой.
— Это фамилия.
— С такой фамилией нужно только на Пушкинской квартироваться, да… — задумчиво произнёс король.
Йося предпочёл пока вслух не выступать — Японец вид имел задумчивый и хмурый. Что только юноше не пришло в голову за ту пару минут, пока Миша молчал. От того, что нужно было-таки кокнуть ту цыганку, что вслед ему на прошлой неделе крикнула: «Шоб ты сдох, жлоб!» и до того, что даже не успел маму поцеловать перед выходом.
— Иосиф… — многозначительно начал Японец.
«Та не… так не приговаривают» — облегченно вздохнул парень.
— Вот тебе вознаграждение. Бумажки твои достойные, — король протянул юноше конверт, а тот, в свою очередь, почтенно поклонился, справедливо рассудив, что заглядывать туда прямо сейчас было бы неприлично и оскорбительно. — Гляжу я на тебя и вижу: талантливый ты экземпляр. Одёжа приличная на тебе сидит как родная, за словом в карман не лезешь. У меня тут идея одна созрела…
— Можете на меня положиться, у меня ещё и новые туфли есть, — сострил Йося, подогнув ноги под себя, так, чтобы балдахин, надетый на кресло, скрыл его потресканые ботинки.
— Вот и чудно, Йося! Мы твои туфли выгуляем! — Японец рассмеялся и встал, чтобы размять затекшую спину. — И ты не стесняйся своих педалей, босяк! Время такое. Кто стесняется, тот задних пасёт, если жив останется…
Одесса. Гостиница «Бристоль». 9 апреля 1919 г.
Следующим утром Иосиф Аглицкий, надев-таки свои новые туфли, порядком натёр ногу, пока дошёл до «Бристоля». Мусье Барабанов, распорядитель гостиницы, получивший прошлым вечером просьбу от людей, которым он не мог отказать, провел молодого человека в подсобное помещение ресторана и обозначил фронт работы.
В силу того, что Йося умел варить только кофе по-турецки и имел в этом здании свою, отдельную миссию, порученную Японцем, то к нему особо никто не цеплялся — Барабанов распорядился, что юноша будет находиться за стойкой буфета, а не на побегушках. Исключением были заказы на второй этаж — в штаб Григорьева. Буфетчик Ципрадис воспринял этот приказ с таким облегчением, будто ему списали все карточные долги. За последние сутки со второго этажа ни копейки не заплатили, а когда он скромно поднял этот вопрос, ему красноречиво ткнули в лицо маузером, поручив к концу дня дать перечень поставщиков, которые отказываются везти в гостиницу продукты без денег.
Природная общительность сделала свое дело: после обеда Йося лично прислуживал полковнику и его приближенным штабистам.
— Ты это, малец… Шобы сюда больше никто не ходил. Ты будешь носить, а то у твоих дружков рожи кислые, будто не рады освободителям! — под громкий хохот прокартавил Никифор Григорьев. Йося закинул им пару-тройку анекдотов, после которых коридор еще долго сотрясался от громкого хохота красных командиров. — И не стой как истукан! Иди, вспоминай ещё чего-нибудь. Нам твои истории по душе. Принеси вина снизу и ещё анекдотов.
— Та любой каприз, товарищ полковник! — продолжение этой фразы «За ваши деньги» Йося предусмотрительно опустил и принялся проворно убирать со стола хрустальные пепельницы с окурками от самокруток, напевая себе под нос:
Мой братан для марафета бабочку надел, На резном ходу штиблеты — лорд их не имел.— Эй, хлопчина! А ты тутошний? — прищурив глаз от попавшего туда дыма, окликнул его один из командиров.
— А як же ж. Самый шо ни есть.
— А твоя кодла вся перепуганная, не такие как ты, да и жилетки у них по размеру…
Иосиф выпрямился, одернул униформу, которая ему была великовата и важно произнес:
— Имею честь прислуживать господам… Тьфу, товарищам… — моментально поправил себя Йося и тут же продолжил. — С особым усердием, потому как первый день работаю и не имею шанса обделаться. Денег надо очень!
— А что за песенку бубнишь?
— Та у нас тут народ такой: если не погром, то все поют или радостно гутарят.
— А про марафет[36] что знаешь?
— Господа интересуются или так, побазарить? — нагло ответил официант, протирая поверхность буфета, прожженную окурками.
— Никифор, а малый действительно не промах, — обратился к полковнику тот, что завёл разговор с Йосей.
— Достанешь?
— Та легко, — Японец наказал Йосе первым делом втереться в доверие, потом, по возможности, слушать всё и везде, и самое главное — протолкнуть в штаб кокаин. Раз парни гуляют, то чего бы и не попробовать.
— Только там, где эту радость раздают, принимают исключительно деньгами.
— А пулями принимают? — встречный вопрос официанта в тупик не поставил — уличная школа научила его быстро выкручиваться из любой двусмысленной ситуации.
— Та не… У них этого барахла — как у собаки блох. Господа имеют сложности с наличностью? Я буду посмотреть… Неужели, если уважаемые люди, которые банкуют марафетом, прослышат за то, какие уважаемые люди просят заказ, то они не сделают гешефт[37]?
Официант Аглицкий сновал вверх и вниз до глубокой ночи, ублажая нового коменданта города. Исключением стали только полтора часа, которые он потратил на то, чтобы доставить зелье и доложить Японцу о том, что у Григорьева большой конфликт с ревкомом и ещё — что встреча назначена на завтра.
— Ты, что ли, Япончик? — Григорьев подошел к столу, где, попивая турецкий кофе, сидел гладко выбритый человек с тонкими усиками и нетипичным для этих мест разрезом глаз.
— Михаил Винницкий, моё почтение, — ответил Японец, небрежно поправив светлый шарф.
— Шо хотел атаман бандитов от коменданта Одессы? — Григорьев не так давно прилюдно обещал поставить Японца к стенке, но решил всё-таки его предварительно выслушать.
— Товарищ Григорьев… — Японец говорил медленно, размеренно. Его спокойствие и уверенность подкреплялись несколькими десятками вооруженных сорвиголов, ожидавших на всякий случай сигнала в ближайших внутренних дворах. — У меня есть деловое предложение.
— Говори, — Никифор водрузился на кресло, раскинув в стороны ноги, от чего столик качнулся, и кофе Японца пролился на блюдце.
Миша, собрав в кучу все свою силу воли, заставил себя сохранять хладнокровие.
— Я наслышан о вашем благородном порыве души — навести порядок в Одессе. Скажу, вам, Никифор Александрович, я того же мнения об этом вопросе.
— Ты, Мишка, не темни. Шо у вас всё так заумно? Есть предложение, вываливай.
— В Одессе много всяких флагов видали за последние пару лет. И за порядок мне рассказывал каждый новый комендант. Гришин-Алмазов к стенке собирался поставить, теперь вот вы… Я тоже за порядок. У нас тут все в равновесии — все сыты и накормлены, нам потрясений не надо.
— Хм… Ну ты и наглец…
— Та не, Никифор Александрович, я ж со всей душой. При всём уважении — ваших сколько будет? Тыщ шесть, семь?
Григорьев поморщился, впечатленный тем, как чётко Японец угадал количество личного состава находящегося в городе гарнизона. Мишка продолжил:
— Остальные по сёлам в округе. Им добраться — часа четыре на всё про всё. У меня двадцать по свистку будут в центре. На что оно нам надо, тягаться? Пулемет ваш на балконе — это ж не аргумент. Я предлагаю пакт о ненападении.
— Ты забыл про бронепоезд и танки.
— Ой, Никифор Александрович, я вас умоляю! Ну что, этот поезд приедет на Приморский бульвар? Он ездит по рельсам, так мне покойный папа рассказывал. А рельсы что, не ломаются? Или стрелки не заклинивают? Давайте не будем. Я пришел по делу, а не воздух сотрясать. С миром пришел, кстати. И в долгу не останусь. Как марафетик, зашел?
— Ух, ты… Так это ты «уважаемые люди»? — Григорьев удивился так, будто не понимал, что без Японца тут не обошлось.
— Та я не слушаю, что там на улицах гутарят…
— И как ты видишь наш договор?
— Вот это дело… — Японец поднял руку и Йося молча принес ему новый, дымящийся кофе.
— Разграничим город, и я на своей части гарантирую покой, как в лучшей больнице. Фонтан, Слободка, Молдаванка. Вы их не трогаете. Я не лезу в ваши дела в порту. Центр сами патрулируете.
— На границах посты и паспортный режим.
— А на шо оно вам надо? — искренне удивился Миша.
— А на то! Гарантируешь, что лазутчики не зайдут? — Григорьев рявкнул это так громко, что люди в зале, представлявшие обе стороны, напряглись.
— Ну я даже не знаю… До сих пор, кто хотел от жандармов спетлять, в катакомбы нырял. В Нерубайском зашел, на Ланжероне вышел. Ну, это как пример. И паспорт с собой не таскали, вы ж понимаете… вы, Никифор Александрович, не ответили… Марафет первоклассный, не находите? У меня проверенные поставщики… Думаю, мы можем себе позволить маленькое исключение и радовать вас иногда отменным качеством.
— Ты думаешь, что за пакетик порошка решишь тут все свои вопросы? — Григорьев побагровел от злости.
— Что вы, Никифор Александрович… Я знал, куда иду. Это же штаб, а не притон… У меня есть для вас интересные бумажечки, — Японец опять поднял руку, и моментально появился Йося. На этот раз с портфелем в руке.
— В этом ярком саквояже всего лишь одна тонкая папочка на тесемочках. Внутри несколько листов на немецком языке. Там же — перевод на русский. Это я позаботился, для вашего удобства.
Полковник Григорьев впервые за всю беседу заинтересовался и внимательно слушал Японца.
— Извольте кинуть взгляд, — Миша извлек из портфеля папку и передал её атаману.
Бегло пробежав взглядом по бумагам, Никифор удовлетворенно хмыкнул:
— Ты готовился к разговору, вижу…
— Та не то слово, как готовился, вы себе даже не представляете, — утвердительно ответил Миша с улыбкой, припоминая расстановку своих бойцов на соседних улицах.
— Это подлинники?
— Это всего лишь переводы, если мы ударим по рукам, у вас будут оригиналы на немецком. Я слышал, у нашего коменданта есть некоторые трения с ревкомом и чекистами? Так что, по рукам?
— По рукам, — Григорьев бросил красноречивый, испепеляющий взгляд на официанта.
Японец поднял руку в третий раз и сказал подошедшему с полотенцем на руке Йосе:
— Молодой человек, вы свободны.
Иосиф сначала положил перед Японцем точно такую же тонкую папку с оригиналами, тут же снял форменную жилетку, и, аккуратно сложив, повесил её на спинку соседнего стула. Молодой человек откланялся и уверенным шагом направился к выходу. Иосиф Аглицкий свою миссию выполнил, в этом заведении он больше не работал.
— А за того паренька не колотитесь… Я найду, кто вам марафет будет носить, — Японец обратил на себя внимание полковника, сверлившего колючими глазами спину уходящего официанта.
Григорьев, скрипя зубами, прорычал:
— Если окажется, что те бумаги фальшивые, лучше сам утопись в море. Иначе смерть твоя будет мучительной и долгой.
— Не окажется. Их реквизировали из рук сотрудника французской контрразведки. Известная личность в узких кругах, как оказалось. И потом мы же не фармазонщики какие… Что вы, право, Никифор Александрович. Обидеть хотите. Не надо. Не о том вы голову ломаете. Ваши соратники — люди резкие и бескомпромиссные. Поверьте, я знаю, за что говорю. Вы же понимаете, что владея таким компроматом на их вождей, вы условия диктуете.
— Или я себе приговор подпишу.
— Ну так держите дулю в кармане, Никифор Александрович! До поры до времени, как у вас говорят. Мне что, учить жизни полковника, который бронепоезд в трофеи взял?
Последняя фраза, безусловно, польстила комдиву, который сменил гнев на милость.
— Я так понимаю, мы договорились, товарищ комендант? — поднимаясь, решил поставить точку в разговоре Японец.
— Считай, что да. Но если твои будут бузить — не серчай. Ты порядок обещал.
— Слово своё я сказал. И ещё, Никифор Александрович… — Миша уже встал и надел шляпу. — На шо вам сдались те несчастные одесские коммерсанты с их жалкой контрибуцией? Они кровью кашлять будут, а пятьсот мильёнов и до следующей Пасхи не соберут. Вам что, государственных банков мало? Вон, дорогу перейти… Говорят, французские интервенты не успели его содержимое эвакуировать, а я ж за порядок! Что, я туда полезу? Да ни за что! Это мой вам второй подарок. Оставьте уважаемых людей в покое…
Александровский уезд. Елисаветградский уезд Херсонской губернии. Село Сентово. 25 июля 1919 г.
— И шо от это нам, до утра здеся караулить? — В голосе молодого парубка с винтовкой сквозило какое-то отчаяние. Трёхлинейку[38] эту он держал как-то неумело, с опаской. Всё время смотрел на примкнутый штык, боясь за него зацепиться.
«С такими каши не сваришь…» — Лёва объезжал посты, которые он расставил вокруг деревни. Для солдатиков служба эта была не в новинку — тех учить было не нужно, но сколько их, служивых? Процентов десять — пятнадцать если наберется, то хорошо. Остальные от сохи. За землю свою пошли, батьке поверили. После раздачи наделов в округе мужики, ошалевшие от такого нежданно привалившего счастья готовы были за Махно идти хоть на войну, хоть на каторгу.
— До рассвета будешь караулить. Потом сменю. И смотри мне, не спать! — грозно прикрикнул Лёва, восседая на своем коне. — Потом привычка появится, это первый раз тяжело, — смягчил тон Задов.
— Та это не волов гонять — сиди себе, сову слушай, — крестьянский сын с винтовкой принялся располагаться в стоге сена.
— Я тебе посплю! По самое не хочу отсыплю! — пригрозил Лёва.
— Да хорош стращать, я туда зароюсь, и меня не видать, а так что? И холодно, и на виду я, как цапля на болоте, — быстрыми движениями хлопец разобрал сено и залез в стог. — А ну, командир, привали соломкой, чтоб меня даже мыши не видели!
Лёвка рассмеялся и слез с коня, чтобы помочь замаскироваться неопытному бойцу.
— Та ты шо! Теперь не кури, паря… Огонёк папиросы в ночи за версту видать, а пылающий стог от горизонта будет виден.
— Не боись, разведка! — послышалось из сена. — Меня батя от табака пару лет назад вожжами отучил.
— Ну, тогда до завтра. До смены пост не покидать.
— Есть, товарышу командир! — ответил стог.
До рассвета дозорный пост в стогу на окраине села не продержался.
— Лёвка, вставай, там Павло пленных взял! — протрубил сонным голосом Щусь, громко пиная ногой дверь в хату.
Через минуту Задов появился в дверях, в одном белье, пытаясь протереть глаз.
— Кто такой Павло?
— Да Бойченко! Ты его в дозор самого поставил, без пары.
— Ааа… Я понял.
До штабной хаты пройти всего два двора, и Задов решил всю свою амуницию не натягивать. Накинул на плечи китель, да так и отправился. Не было никакого желания разбираться с проблемами до утра — Лёва провел на ногах и на коне почти все прошлые сутки, и валился с ног от усталости.
Деревенские собаки встретили его лаем, побудив всех соседей.
«Странно, что я не слышал их, когда Бойченко шёл. Это ж надо, как в сон провалился, будто литр самогона принял. Непорядок. Следует больше спать, а то так и беду пропустить недолго…» — мысли Лёвки последнее время постоянно крутились вокруг всяких возможных неприятностей, слабых мест в бригаде, людских поступков, слухов и разговоров. Как и подобает замначальнику контрразведки, Лёва Задов теперь ничего не воспринимал на веру, стал настороженный, как волк на охоте и весь погрузился в свою новую работу.
Бойченко ожидал своего командира во дворе, подперев дверь в сарай винтовкой.
— Паша, ну вышибут они дверь ногой, тем более она наружу открывается — останешься и без пленных, и без оружия, и без головы. Ну что ты такой простофиля? — возмутился Задов, завидев своего новобранца. Он сидел, улыбаясь во все тридцать два, явно гордый одержанной победой.
— Так а я на гвоздик закрыл, товарышу командир… — Паша никак не хотел признавать свою оплошность, выбирая из-за воротника забившиеся туда соломинки. — Вы ж с ними по всей революционной строгости и справедливости? Дюже мутные ходоки. Не наши. Говор не наш, морды не наши, чего это черти их принесли?
— Открывай, посмотрим.
Низенькая, просевшая дверь сарая громко скрипнула петлями.
— Выходи по одному! — скомандовал Задов, а в это время Паша Бойченко стал у него за спиной, с винтовкой наперевес. — Та подними винтовку, дура… Раз охраняешь, то держи дверь под прицелом. Сколько их?
— Та двое, товарыш Задов, двое…
— Если б хотели, так давно бы тебя разоружили, да в том сене и закопали бы, — раздалось из темноты сарая. — Мы выходим.
Пригнув головы в дверном проеме, в тускло освещенном штабном дворе показались два мужичка, одетые в чистые косоворотки, почти новые штаны, и обутые во вполне годные сапоги. Такой гардероб себе мало кто мог позволить из местных даже в воскресенье для похода в храм — сентовские крестьяне жизнью не балованные.
— Чьих будете? По какому делу? — Лёва сразу взял в оборот незнакомцев, стоящих перед ним с поднятыми руками.
— Что-то разговор не вяжется, когда под прицелом стоишь, — аргументировано заметил один их пленников.
— А ты мне тут свой устав не навязывай. Спрашиваю, каким ветром занесло? Глухой, что ли?
— А до атамана вашего дело у нас. Только ему откроемся. Да скажи ты ему, пусть штык в землю воткнёт! Вот патроны. Винтовка его пустая, — один из пленных бросил к ногам Задова обойму.
— А ну дай, — Лёва, не сводя глаз с двоих неизвестных, взял винтовку Бойченко, сдвинул затвор и нажал на курок. Выстрела в небо не последовало.
— Эх, ты… дубина стоеросовая… — Паша, до этого момента рассчитывавший если не на всеобщий почёт, то хотя бы на доброе слово атамана, теперь был готов сквозь землю провалиться.
— Говорим же, хотели бы — остывал бы уже твой караульный в стогу. Проспал он нас.
— Иди отсюда, гусар… Волам своим хвосты крутить. Бате скажешь — на всё село опозорился, но Лёва пока помолчит. Будешь должен. Флот наш тоже помолчит. Так, Феодосий? — обратился Задов к стоящему возле калитки матросу.
— Вот аж жалко. Кому рассказать — не поверят. Это кто кого привёл, Павло?
— Да ладно вам… Я первый раз. Пленные в штабе? В штабе! Потери есть? Потерь нет. И весь разговор. А патроны, так это… ну выпали.
— Иди, дрыхни дальше, хлопчина, с гостями мы сами разберемся. Задумали бы они худое — не стоял бы ты уже здесь, — Лёва отпустил бойцу подзатыльник такой силы, что шапка с его головы отлетела к забору.
— Вот, это другое дело, — пленные опустили руки, и, посмеиваясь, подняли с земли вещмешки. — Может, в хату проведете, до атамана? Или нам в хлеву ночевать?
— Та можно и в хату, у нас там НЗ есть. Неприкосновенный запас, — бодро ответил Щусь в предчувствии вкуса самогоночки, настоянной на прошлогодних ореховых перепонках.
Потому как хата считалась штабной, в ней никто не жил. Даже собаки не было во дворе. Никаких карт и документов, даже при желании, там было не сыскать. Сам батько Махно квартировался в другом месте и очень не любил, когда его без надобности тревожили.
Скорее этот двор служил махновцам местом сбора для совместного принятия решений и приютом для редких гостей. Именно такой случай и приключился этой ночью, правда, гости были незваные, и у Задова к ним имелось море вопросов.
— Ты Феодосий, душу не выворачивай наизнанку, как ты умеешь на подпитии. Слушай, да на ус наматывай. Пусть они говорят. Не перебивай и в споры свои теоретические не вступай. Понял? — упредил Лёва, рассмотрев на лице Щуся довольное выражение в предвкушении алкоголя. — И по фамилии меня не называй. А я тебя не буду. Только имя.
— Лёва… Ты ж меня знаешь.
— Так вот от того, что знаю, и прошу. Не выступай.
Гости скинули сапоги, отпили водицы колодезной и с радостью уселись на лавки возле пустого стола.
— Я Александр, а это Пётр, дружочек мой, — незнакомцы завязали разговор первыми.
— Саня и Петруха, значится… У нас тут всё просто, по-крестьянски… — Лёва полез на печку, откуда появилась бутыль с коричневатой жидкостью и свёрток в жирной бумаге.
— Феодосий, а где твой кортик? Сальца бы подрезать на закусочку.
— А это мы мигом, — даже глубокой ночью моряк не мог себе позволить выйти в люди без любимой портупеи. Правда, гусарский мундир он не накинул, посчитал, что тельняшки будет достаточно. Пленным оно как? Главное — первое впечатление, страх внушить, а кортик и кобура с парабеллумом на месте.
Щусь покромсал сало на крупные куски, пока Лёва разливал местного разлива коньяк по стаканам.
— Ну, тогда и мы в доле, раз наше досадное недоразумение так благополучно разрешилось.
Тот, который представился Александром, достал из котомки буханку хлеба, пяток вареных яиц и большую луковицу.
«Наше досадное недоразумение благополучно разрешилось…» — Лёва красноречиво посмотрел на Щуся, который схватил его мысль на лету.
— Давненько я, Лёва, с приличными людьми за столом не сиживал. Прям не припомню даже, когда последний раз с офицером пил. У нас в Севастополе за это сразу на гауптвахту сажали. У офицеров своя, у нас своя. А потом, как смута началась, так офицеры уже и не брезговали с нами за одним столом сидеть. Не все, правда, но то такое…
— Вы на Черноморском флоте служили? — поинтересовался Пётр.
— Было дело. С тех пор с бескозыркой расстаться не могу. Только лютый мороз и колючий ветер в лицо на полном ходу моего коня могут заставить сменить её на папаху, — иногда Щусь изъяснялся так витиевато, будто перед ним находились не сослуживцы и товарищи-анархисты, а юные барышни с раскрытым от удивления ртом.
— Он у нас романтик. Это у него от длительного общения с морем.
— Да! От этого никуда не деться! — Щусь снял бескозырку и повернул её золотыми буквами к гостям. — Вот! Пожалуйте! Лучшие, может быть, годы моей жизни! «Иоаннъ Златоустъ». Наливайте, друг мой Лев! Ибо рвётся душа моя морская на мелкие части в этой сухопутной дыре…
Лёва подвинул стаканы гостям, и, чокнувшись, они выпили по первой.
«Руки у них ухоженные, да выбриты гладко. Мужик, если бреется, так раз в неделю, а когда в путь идет, так бороду отращивает. Интеллигенция, не иначе. Да и луком не закусили. Яйцо почистили» — Лёва собирал в уме мелочи, позволявшие ограничить круг предположений об их гостях.
— Не, ну я офицеров уважал, конечно, что там говорить… И они меня уважали. У меня к ним вопросов не было, за исключением, если напротив друг друга не становились… Я же лучшим в экипаже был по боксу. Да… французский бокс… — Феодосий блистал красноречием, вопреки просьбе Задова.
— Феодосий Юстинович, у гостей может сложиться превратное впечатление, что вы командовали своим броненосцем, — Лёва попытался остановить поток речи Феодосия.
— Что вы, что вы, Лев, как вас по батюшке? — Спросил Александр.
— Николаевич. Лев Николаевич. — Ответил Задов, а Щусь при этом состроил такую комичную гримасу, что сам Лёва тоже не смог сдержать улыбку. Феодосий даже не задумывался до сих пор, что у Лёвки есть отчество.
— Интересная судьба у вашего друга. А броненосец «Иоанн Златоуст» немцы захватили в восемнадцатом.
— Да что вы! — Щусь искренне расстроился. — Это в моём кубрике какая-то немецкая задница теперь спит?
— Ну, не знаю, как там дальше сложилось, — Александр прервал Щуся. Его интересовали абсолютно другие вопросы. — Так, а когда мы можем видеть вашего атамана?
— А батько в уезд поехал. Там какие-то вопросы по боеприпасам, — после третьего разлива Феодосий заметно захмелел, даже не смотря на то, что в одиночку съел почти половину всего сала. Слова его были чистой правдой — он говорил о Несторе.
— Ну, а когда Никифор Александрович обещал прибыть назад? — Пётр отпил в этот раз поменьше самогона, чем раньше.
Феодосий от неожиданности поперхнулся, вдохнув хлебную крошку.
— От обормот ты, морячок! Сколько говорить, сначала прожуй, потом говори! — Лёва картинно стукнул его несколько раз по спине, да так, что тот с каждым ударом всё больше чувствовал себя гвоздём, входящим в доску.
— Никифор Александрович отдали приказание держать периметр до его возвращения завтра после обеда. За патронами поехал, у нас там состав стоит на станции, а здесь как-то неспокойно. Махновцы вон в Сентово засели… — Лёва понял, что их гости просто не туда пришли.
Счастливый случай, что ни Паша Бойченко, ни он, ни Щусь не произнесли вслух название деревни — Сентово и имя своего атамана — Нестора Махно.
— А что, разве вы с Махно не союзники? — удивился Александр, попросивший жестом подлить ему ещё немного божественного напитка.
— Атаман говорит, что у Махно союзник один — его личная хитрость. Не верит он Нестору, — сказал Задов, не отрывая глаз от стола. Именно поэтому он не успел заметить округлившееся от удивления лицо Щуся.
— Да, да! Никифор Александрович — редкого дара обладатель. Людей прям насквозь видит, чутьё у него на людей, — Феодосий ещё не разобрался в тонкостях, решил просто подыгрывать Задову.
— Кстати, он вас, похоже, ждал, да. Но мы думали, вы со стороны Александровска придете, так что, не обессудьте за такой приём. Вот, искупаем вину как можем… — пробормотал Лёва с видом провинившегося исполнителя.
— Не стоит оправдываться, Лев Николаевич. Осторожность — она сейчас втройне нужна. Антон Иванович, кстати, разделяет ваше мнение о проницательности Григорьева.
— Ну, так! Такую армию собрать — это вам не хрен собачий! — Щусь уж начал перебарщивать и по неосторожности кашлянул.
— Что, опять, братушка? — Лёва от души лупанул его по спине пару раз. Матрос Феодосий сразу же вспомнил своё обещание, данное во дворе — помалкивать и слушать.
— Ой, что то я вдохнул опять… Пойду воды хлебну…
— А я сразу понял, что вы от Деникина посланцы. — Задов решил идти в наступление.
Атмосфера и случайный поворот событий располагали гостей к откровенности. Нужно было этим пользоваться. Сколько раз Лёва убеждался на своём опыте — пока с человеком по-хорошему, он искренний, но по-хорошему никогда же не получалось. Приходилось бить, мордовать, руки марать. А если сразу лазутчик или предатель не раскололся, не стал говорить, то потом, как правило, уже ничего и не добиться, хоть ты все свои костяшки пальцев об его зубы разбей. Если человек смирился с перспективой собственной смерти — он для контрразведки материал бесперспективный. Молчать будет.
— И как же? — удивленно спросил Александр.
— Говор не местный, речь грамотная — образование за версту видно. Руки. Гляньте на свои руки. Они офицерские. Плюс выправка. Горбились вы неестественно. Красных офицеров с такими руками почти не бывает. Значит — белые. Ну, а про то, что вам Никифор Александрович нужен, вы сами сказали. А кто из белых офицеров может с поручением Григорьева искать? Только люди Деникина. Не припомню тут по близости других главнокомандующих.
— Браво, Лев Николаевич! — Александр поднял стакан. — Вы ценный кадр! Такая наблюдательность и логика мысли — поистине, вы настоящий детектив, да…
— Это хорошо, что вы к нам сразу попали, без приключений. Это редкая удача в наших неспокойных местах… Давайте за удачу поднимем, а? — Лёва по такому поводу встал, разлил по полной и заставил гостей выпить до дна.
Гостеприимство Льва Задова не имело границ. Щусь уже давно полез спать на печку, а Лёва все рассказывал жизненные истории деникинским офицерам.
— А теперь шкурный вопрос хочу разузнать, Санёк! — На правах хозяина Лёва давно перешел на «ты», но офицеры по-прежнему обращались к нему по имени-отчеству.
— Валяй, Лев Николаевич! — произнёс Пётр, пытаясь сфокусировать взгляд на тарелке с луком и салом.
— Пашка мой проспал вас?
— Как вы понимаете, он не добровольно обойму отдал, — тот офицер, который назвался Александром, производил впечатление старшего в этой паре, и по званию, и по возрасту. — Мы с обратной стороны подошли, уж было расположились, слышим — храп в стогу. Патроны забрали, а потом закурили и громко разговаривали. Долго разговаривали.
— А он что?
— А он с очумевшим видом выскочил из сена, — белогвардейцы дружно рассмеялись, припомнив, как Павло взял их в плен. — Руки вверх! Громко так кричал. Мы, конечно же, сразу выполнили приказ — штык-то у него на месте, пристёгнут.
— Да… беда моя — эти селяне… — Задов расстроился искренне. — Учить их и учить. Боеспособность так себе…
— Лев Николаевич, не рвите душу. Это вопрос пары недель. У Деникина учатся быстро, поверьте. Откомандируем в ваши части пару толковых офицеров — вы свой батальон не узнаете.
— Чего уж там батальон… пару полков наберется. Двумя не отделаетесь! Буду просить человек десять. Да таких, чтобы серьезные, чтобы наши руку почувствовали, силу! — Лёва стукнул кулаком по столу, да так, что стаканы подпрыгнули. — Наливай, Саня! Наливай! Мне вас Бог послал!
— Это дело нехитрое… — белогвардеец опустошил ёмкость почти до конца — самогона там осталось на донышке.
Задов встал, поднял руку, будто успокаивал публику на митинге:
— А я за атаманов наших хочу поднять!
Пётр помутневшим взглядом окинул двухметровую фигуру Льва Задова, возвышавшуюся над столом, сбитым из грубо отесанных досок.
— Антон Иванович — кадровый офицер царской армии в чине генерала. Это ваш Григорьев — не пойми кто. Атаман — это звание? — услышав этот выпад, напарник Петра, или его начальник, как определил для себя Лёва, громко на того цыкнул.
— Ваше благородие, или как там тебя… Ты не держи зла. Мы под погонами не ходили, мы по-своему разумеем. Ежели командир авторитета не имеет, то и атаманом ему не быть. Вот ваш Деникин — он сколько штыков собрал по сёлам?
Почувствовав на себе взгляд старшего, Пётр предпочёл не отвечать. Лёва заметил эту тонкость и, ощутив собственное превосходство, продолжил:
— Молчишь, ваше благородие? То-то… Ваша армия по уставу, да по приказу. А наша — по справедливости. Добровольно.
— Давайте за атаманов, да… — Александр посчитал необходимым разрядить обстановку, но хмель всё же взял своё. Опрокинув стакан, он продолжил:
— По поводку добровольцев — я с вами, Лев Николаевич, не согласен. Вы какой чин имеете, простите?
— Да нет у нас чинов! — в Лёвиной душе взыграла анархическая составляющая, и он тут же себя пресек. — Какие чины в поле? Павлуха тот, из стога, он какого чина?
— Как вы, милейший, в таком случае приказы отдаёте? Почему он вам должен подчиняться?
— Он знает, что я заместитель контрразведки.
— А Щусь если скажет, как Павлуха поступит? — не успокаивался белогвардейский офицер.
Лёва скрутил самокрутку, и всё то время, что он потратил на укладывание табака в газету, за столом царило молчание. Офицеры, воспитанные на дисциплине, почитавшие воинскую иерархию, искренне не понимали, как устроены эти партизанские части, что движет людьми и самое главное — как им удаётся при всей этой неразберихе ещё и одерживать победы.
— И Феодосия он послушает. Приказ выполнит, будьте покойны.
— И вот вы, руководитель контрразведки…
— Заместитель.
— Ну хорошо, не суть важно. Как вы собираетесь агентуру обезвреживать, если нет у вас подчинения? — Александр закинул руку на спинку стула и достал кисет с табаком.
«Ты смотри, и папиросы свои оставили, махоркой запаслись. Готовились, ничего не скажешь…» — приметил для себя ещё один штрих Задов.
— Званий нет. Подчинение есть. Добровольное. По способностям.
— Это мне напоминает анархистов. У Махно так заведено, — заметил Пётр.
Почувствовав, что наговорил лишнего, Лёва предпочёл переменить тему:
— Надо — будет вам звание. Раз приехали, то перемены нас ждут. Куда катимся, господа офицеры? Просветите.
— Не держите зла, Лев Николаевич. Этим атаман от генерала и отличается — чётким, военным руководством. И ещё скажу вам: это же не Деникин искал контактов, а Никифор Александрович предложил свои услуги в борьбе против махновцев и большевиков. Наша миссия — только ответ доставить. Всё у вас будет хорошо, поверьте. Ваш атаман предпринял правильный шаг.
— Эх… — Лёва отправился в закрома за следующей ёмкостью. Разговор только начал налаживаться и у белогвардейцев развязались языки.
С рассветом, когда закончились запасы спиртного, сало и прочая закуска, белогвардейцы не могли ни разговаривать, ни самостоятельно передвигаться. Лёва обыскал их карманы в поисках депеши. Только ощупывание подкладки одежды Александра дало результат. Через аккуратно распоротый шов Лёва извлек сложенную вчетверо бумагу, которую он прочел тут же, при свете свечи.
После некоторой встряски Феодосий Щусь таки приобрёл некоторую ясность мысли.
— Щусь, я остаюсь здесь, присмотрю за гостями, а ты иди, поднимай хлопцев. Когда эти неудачники протрут очи, хочу, чтобы они перед собой человек пять как минимум увидели. С них толку сейчас — как с козла молока. Не хочу господ офицеров будить, пусть последнюю ночку в жизни отоспятся… Батько из уезда вернётся, сам решит. Хотя что там решать, знаю я, какое его решение будет.
Поймы и балки покрылись густым утренним туманом, из плотного одеяла которого, то тут, то там возвышались верхушки крон деревьев. Где-то в густой их зелени перекликались горлицы, надрывались скандальные стаи воробьёв, оповестившие окрестности о том, что солнце вот-вот покажется из-за горизонта.
Коровы звали своих хозяек, протяжным мычанием умоляя опустошить их тяжелое вымя, а те, причитая, с пустыми ведрами быстрым шагом шли в хлева: «Почекай, рiдненька, почекай…»
Утреннюю деревенскую идиллию нарушил грохот несущейся в штаб тачанки. Возница, привстав на козлах, хлестал пару запряженных коней, словно уходил от погони.
— Тише, тише, Ванёк! Загонишь красавцев, успеем, — остудил пыл кучера пассажир в папахе. Его спутница, одетая в кожаный пиджак, с алым платком на голове, наслаждалась свежим воздухом и с удовольствием подставляла лицо встречному ветру, опираясь левой рукой на станину пулемета.
— Галя, оставь Максима в покое! Ты у меня не для стрельбы, а для идеологии!
— Нестор! Ревновать к пулемету — глупо.
— Галочка, я сколько раз учил — со мной не спорить! И этот платок! Ну смени уже его на какой-нибудь другой! У тебя полный сундук одежды! Троцкий нас вне закона объявил, а ты все тряпку эту таскаешь, не вводи в заблуждение крестьянский люд!
— А вот прямо сейчас и попрощаюсь с ним! — сквозь грохот колёс и подков о булыжную мостовую Нестор Махно расслышал эти слова с трудом, но улыбнулся, когда увидел, что его жена Галина развязала сзади узел и, взмахнув пару раз красным куском материи, отпустила его на волю встречному ветру.
— Вот, другое дело! А то лазутчики подумают, что к комиссарам в плен попали! Хлопцам нашим не спится, глянь-ка, Галя!
На улице, вдоль забора штабной хаты группами разговаривали между собой крестьяне-добровольцы, которые теперь, после разрыва Махно с красными, именовались бойцами Революционно-повстанческой армии Украины.
— Так я ж и кажу: а ну руки в гору! — Павлуха не пошел спать, ожидая развития событий, и теперь увлеченно доносил до любопытствующих сослуживцев подробности своего первого подвига.
— А они шо? — выпустив густое облако табачного дыма, поинтересовался здоровый усач в гимнастерке, подпоясанной каким-то ярким кушаком, под который рукоятью была вставлена граната.
— Так шо они супротив моего винтаря? Обделались, конечно… Потом всю дорогу жалились, просили дозволить руки опустить.
— А ты шо? — раздалось из-под прокуренных усов. Их обладатель категорически отказывался верить в Пашкины россказни и очень злился из-за того, что шпионы появились на выселках после того, как он сменился.
— А я кажу, держать! Держать руки над ушами! А то пальну прям в голову! — вчерашний караульный не на шутку разошелся, обнаружив вокруг себя восхищенную аудиторию. От провала его спасла тачанка, появившаяся в начале улицы.
— А вот и батько! — все взоры обратились в сторону мчащегося к штабу экипажа.
Остановив коней практически в самой толпе единомышленников, возница вызвал бурю восторга:
— Шальной наш Ванька!
— Не картоху возишь, атамана!
— Эх, как примчал!
Махно первым спрыгнул на землю, поправил папаху и, не обращая внимания на радостные возгласы земляков, галантно подал руку своей жене. Галина поднялась с сидения и на какие-то несколько секунд задержалась, осмотрев сверху толпу махновцев. Ещё не так давно она работала учительницей в земской школе Гуляйполя, а теперь, вместо того, чтобы проверять детские тетради, Галина Кузьменко, сменившая осенью восемнадцатого мел на парабеллум, повсюду следовала за мужем.
— А говорят, у Махно сброд воюет! — батько громко обратился к мужикам, рубанув рукой воздух. — Это кто ж такой бравый, что один двоих арестовал?
Из глубины окружившей Махно толпы раздались возгласы:
— Иди, Павло!
— Покажись атаману! — крестьяне крутили головами в поисках героя.
Смущенный парень оказался в первых рядах, прямо перед Нестором.
— Та це я…
— Один? Обоих? Так молодец, хлопчина! — батько схватил юнца за плечи и принялся их трясти.
— Первый раз в караул пошел!
— Во дает малец! — не успокаивались присутствующие, будто Павло как минимум сам взял в трофеи бронепоезд.
— А ну, Пашка, пошли, им в очи глянем! — Махно направился к калитке и мужики расступились, давая ему дорогу.
Во дворе штабной усадьбы было люду не меньше, чем на улице. Все они обступили кругом лавку, на которой спиной друг к другу сидели связанные Пётр и Александр. Их утро было мрачным и тоскливым: Задов не стал ждать, пока курьеры отоспятся, а растолкал и связал их, как только прибыло подкрепление.
— Ну что, соколики, говорят, заблудились? — Махно уже знал краткое содержание ночной беседы и понимал, кто перед ним — Лёва послал гонца, после доклада которого Нестор бросил всё, сел на тачанку и помчался в Сентово.
— Лёва, что скажешь? — атаман не считал нужным скрывать что-то от своих людей и решил устроить совет прямо здесь, во дворе.
Задов, терзаемый головной болью после ночного возлияния, уже успел облиться колодезной водой и прийти в себя. После этой, многократно проверенной на практике процедуры, замначальника контрразведки имел вид свежий и решительный.
— Значит так, докладываю, Нестор Иванович! — Лёва привычным движением погладил свою гладко выбритую голову, словно успокаивая бродивший там хмель. — Перед тобой, батько, пара белогвардейских офицеров. Вот этот, что постарше — Александром назвался, второй, напарник его — Петром. Идут к бывшему комдиву Григорьеву с письмом от генерала Деникина.
Махно, заложив руки за спину, обошел пленников по кругу, опуская голову, чтобы заглянуть им в глаза:
— А что очи спрятали, господа офицеры?
После такой неожиданно жесткой побудки белогвардейцы ещё не осознавали, что произошло, лишь удивленно глядели друг на друга и на окружавших их людей. Любая попытка задать вопрос или переговорить друг с другом, пресекалась хлестким ударом Щуся. Теперь, когда Махно предстал перед ними, офицеры поняли всю глупость и нелепость своей ошибки. Оставалось ждать, какой ценой придется за неё заплатить — глаза мужиков, Щуся, Задова, Нестора Махно и стоявшей рядом с ним женщины искрились злобой и ненавистью.
— Так что хотел генерал Деникин от Никифора Александровича?
Во дворе установилась тишина — прекратился гомон и обсуждение перспектив пленников, махновцы притихли, обратив все свое внимание на белогвардейцев. Не каждый день такие птицы попадают в их силки.
Ни один из пленных не поднял головы.
— Вот, полюбуйся, Нестор Иванович, — Лёва достал из кармана накинутого на плечи кителя свернутую бумагу.
— А ну-ка… Что за телеграмма? — Нестор надел одной рукой круглые очки в черной металлической оправе, а другой стал отодвигать письмо подальше от глаз, чтобы навести резкость.
Читал Нестор молча, лишь незаметное шевеление губ подсказывало Лёве, что он делает это уже второй раз.
— Люди дорогие! Так счастье привалило в наш дом! — Махно взмахнул руками, будто искренне радуясь происходящему. — Лучше до свадьбы узнать, что милая гуляет, так ведь?
Толпа одобрительно загудела.
— Наш друг и соратник, Никифор Григорьев, сволочью оказался! Предатель, змей и паскуда! — Голос Нестора стал громким и четким — он говорил для своих людей.
— Гнида!
— Тварь подколодная! — мужики поддержали гнев своего предводителя.
— А что у нас делают с гулящими бабами, а? — взревел Нестор. Его лицо было перекошено от ярости и злости.
— Та оглоблей по горбу и на улицу! — раздалось с одной стороны.
— Отмудохать как следует, чтобы неповадно было, — выкрикнул кто-то с другой.
Нестор, выслушав все предложения, подошел к пленным и одним ударом ноги сбил тех на землю. После, ухмыльнувшись, стал на лавку, чтобы видеть окружавших его мужиков:
— Это ж командир целой дивизии, мужики… Вы представляете, сколько братской крови он мог пролить? Там что, не такие же мужики, как у нас? Да нет! Там, у Григорьева, и соседи ваши, и кумовья… А он нас под шашки деникинские хотел бросить. Каков подлец, а? И крови невинной на нём достаточно! Чем он от Петлюры отличается? Евреи скажут! А, Абрам?
Почтенного возраста старик с винтовкой вышел вперед:
— Кого господь от погромов петлюровских уберег, кто от этих демонов детей спасал, потом рассказывал, что Григорьев такой же, как и Петлюра. Зверь. Мало кто спасся из наших братьев…
— Точно…
— Это что же, супротив своих хотел?
— Стравить нас собирался? — страсти на спонтанно собравшемся совете накалялись.
— Да, да! Хотел! — Махно уже сбил с себя папаху и размахивал рукой, скомкав её ладонью. — Теперь смотрите, какая петрушка выросла… Вопрос стоит так: или он нас, или мы его! Именно его, а не его хлопцев!
— Правильно, наказать предателя!
— Да мы что? Против своих пойдём?
— Там разберемся, кто с нами, а кто — нет. Делом пусть покажуть, но хлопцы там смелые, наши хлопцы! И ума у них хватит! Спрашиваю вас, мужики, как положено у нас! Какой участи заслуживает предатель и белогвардейский прихвостень Григорьев, а?
— Связать и в погреб!
— А потом на хлеб и воду!
— Отметелить и на кабане прокатить! — Среди крестьян прокатилась волна смеха.
Нестор, повернув голову в сторону предлагавших варианты мести мужиков, вызверился:
— На кабане тёщу свою катать будешь! А во время войны, жестокой и беспощадной войны за нашу землю, за нашу свободу, за нашу Гуляйпольскую вольницу, иного наказания, чем смерть, за предательство быть не может! Или кто не согласен?
Махновцы замолчали, опасаясь перечить атаману.
— Вижу, опасаетесь, сдюжим ли? Да то несложно… Сдюжим, мужики, сдюжим… Со змеями хитростью надо. Разберемся. Конечно, в лоб на них не пойдем.
— Тогда расстрелять тварь! — это был голос Павлухи, проникшегося собственной значимостью — вон какую кашу заварил.
— На том и порешим, мужики! Будем считать, что вы меня уполномочили! Что я без вас? Да ничто! И никто! Мышь серая! Я тут не командую, я тут вашу волю и веру в справедливость восстанавливаю!
— Точно, Нестор Иванович!
— Говори что делать, батько! — под одобрительные возгласы присутствующих Нестор спрыгнул с лавки и надел свою неизменную папаху.
— А с этими что делать? — раздалось из толпы.
— Да что там мозговать, два патрона, и все дела! — последовал ответ с другой стороны.
— Ну, вот и решили, мужики! Всё по справедливости, так считаю! — крикнул Нестор так, чтобы его все слышали. — Расстрелять!
Щусь тут же, поправив сбившуюся набекрень бескозырку, полез в деревянную кобуру и достал парабеллум:
— Дай я, батько! Я это офицерьё лютой ненавистью ненавижу! Ты бы знал, чего мне стоило всю ночь перед ними паясничать!
— Давай, Феодосий, утоли свою классовую ненависть! — Махно одобрительно кивнул. Сам он не любил вида крови и всегда поручал такие вещи подчинённым.
Феодосий под гикание и свист мужиков пнул связанных белогвардейцев:
— Встать, суки, вас анархический совет к смерти приговорил. Через расстрел!
Офицеры, неуклюже переваливаясь на боку попытались встать, чтобы достойно принять смерть. Туго связанные руки, несогласованность и слабость в ногах не позволили им этого сделать.
— Встать, я сказал! — Щусь нанес удар ногой, но это никак не ускорило дело. — Вот суки, подохнуть и то толком не можете.
Феодосий Щусь ухватился за веревки, которыми были стянуты спиной к спине пленники, и потащил их по земле за дом, в огород.
Галина вставила папиросу в длинный дамский мундштук и жестом попросила огня. Прикурив, она выпустила вниз тонкую струю дыма и, положив руку на плечо Махно, тихо произнесла:
— Нестор, а помнишь, ты мне недавно говорил, что никому не веришь?
— К чему это ты? — атаман знал привычку супруги заходить к теме издалека, так, чтобы подтолкнуть его к правильным выводам.
— Ты тогда ещё сказал, что Лёвке не веришь.
— Ну помню, так что?
— И друзья твои его тоже подозревали, что беляками заслан. Феодосий тот же…
— Галя, ну говори уже! — Нестор чувствовал себя неуверенно, когда она вела эти свои учительские эксперименты — ну не школьник же он, в самом деле, который учителю урок отвечает.
— Нестор, вот и проверь Лёвку. Пусть он стреляет… — Галина красиво затянулась, хитро глядя в глаза мужу.
— Вот чертовка… Стоять! Щусь, отойди!
Недоуменный матрос отпустил пленников и вопросительно взглянул на атамана.
— Думаю так, честь привести приговор в исполнение должна быть предоставлена тому, кто врагов достал!
Бедный Павло от испуга вжал голову в плечи и стал пятиться назад, за спины односельчан.
— Думаю, это сделает Лёва Зиньковский! Покажет нам всю крепость своей анархической руки и воли! Только я тебя прошу, Лёва… Сразу, чтобы не мучились, ты знаешь — не люблю я эти сцены. — Нестор протянул Задову пистолет рукоятью вперед.
— У меня свой! — без раздумий ответил Задов, достав револьвер. Лёва щелкнул барабаном, посмотрел на свет, все ли патроны на месте и, схватив за веревки приговоренных, почти оторвал их от земли, скрывшись за углом.
Через несколько секунд раздались два выстрела, и замначальника контрразведки вернулся во двор.
— Вот видишь, а ты сомневался, любимый… Нужно хоть кому-то верить, Нестор… Хоть кому-то… Может, так сложится, что помощи придется просить, а Лёва глянь, какой здоровый… — прошептала Галина мужу на ухо.
— Дура. Баба, одним словом. Сам разберусь…
Александровский уезд. Елисаветградский уезд Херсонской губернии. Село Сентово. 26 июля 1919 г.
— Так палить же почнёть! — человек в кителе, заложив руки за спину и глядя перед собой вниз, отбивал каждый шаг каблуками своих натертых до блеска сапог о половые доски. Он был ростом ниже всех собравшихся, но это совершенно не мешало ему считаться здесь главным — каждый из присутствующих слушал его негромкие речи внимательно, ожидая либо вопроса, либо команды.
Несмотря на то, что уже апрель подходил к концу, «главный» не снимал серую папаху, из-под которой выбивалась нетипичная для красного командира прическа — черные волосы были такой длины, что прикрывали уши полностью. Странности образу атамана добавляли своим видом окружавшие его соратники — разношерстная публика, одетая во что угодно, но только не как положено регулярному войску. Один только матрос Феодосий Щусь чего стоил — тельняшка, гусарский китель, старинная сабля и наган. Все это великолепие венчала бескозырка с названием броненосца «Иоанн Златоуст» и конь в цветных лентах, привязанный во дворе, будто в ожидании свадьбы.
Остальные члены штаба, а попросту — приближенные Нестора Махно тоже не отличались высоким вкусом, свойственным офицерскому составу. Анархисты-коммунисты, а ныне — бойцы повстанческой бригады 3-й Украинской советской армии воспринимали материальные блага исключительно как инструмент к обеспечению боеспособности. Тратить деньги на форму для них не было надобности, отсюда и пренебрежение к знакам воинского различия, их унификации и прочим условностям. Все, что ограничивало полет души и фантазии, презиралось как насилие над свободой.
Немногим больше года назад, в апреле 1918-го, Нестор Махно собрал под черные знамена анархистов первый свой отряд. Имея свои определенные взгляды на социальную справедливость и устройство общества без власти и угнетения, атаман вступил в вооруженное противостояние с войсками Директории Украинской Народной Республики под командованием Симона Петлюры и австро-германскими оккупационными частями.
— Начнет палить, да. Он же гонористый, а если еще и успеет набраться с утра, так точно палить будет. Но, я так думаю, мы организуем ему право первого выстрела, пусть потешится. А там уж как решишь, батько… — рыжий двухметровый здоровяк залез себе в карман, и на громадной ладони возникла жменя патронов. — У меня есть там один должничок… вот он маузер Никифора и зарядит.
— Холостые? — Махно взял из рук рыжеволосого великана один из патронов и стал его разглядывать вблизи. — А точно заменят? Он, демон, метко стреляет, замечено…
— Ну конечно, Нестор Иваныч! У тебя же есть для этого контрразведка! — рыжий похлопал себя по груди кулаком, да так, что комната наполнилась глухим звуком. — Я буду рядом. Все срастется, не сомневайся, батька!
— Да я ж ниче… — Махно пристально посмотрел снизу вверх на своего громадного начальника корпусной контрразведки Лёву Задова. — А вот пули проверь, Лёвка… Не надобно мне тут жертв напрасных, не надобно…
— Есть проверить! — Лёва нехотя козырнул и отправился во двор, где пальнул пару раз во влажную после снежной зимы землю. — Холостые! Факт!
Махновцы готовились к встрече с атаманом Никифором Григорьевым, рейды которого по югу и центру Украины наводили ужас на местное население. Хрупкий нейтралитет в отношениях атаманов был нарушен подтвержденными разведкой слухами о мародерстве и расстрелах крестьянского населения григорьевцами. Махно и сам не отличался мягкотелостью, но, когда дело касалось земледельцев — опоры его армии в губерниях центральной Украины, речи о прощении быть не могло.
Градус противостояния усилился, когда Задов доложил своему командиру о слухах, что бродили в его полках.
— Разве настоящий ваш батько, коли у него золотого запасу нема? Что ж за атаман такой, если войско своё прокормить не может? — агитировал Григорьев, и слова его действительно вносили смуту в стройные ряды батькиной армии.
— А с чего это? Красный комдив Григорьев нежданно-негаданно разбогател? — искренне удивился Махно, когда ему в красках доложили подробности выступлений в массах вечно пьяного Никифора.
Задов тогда достал клочок бумаги, исписанный химическим карандашом, и, чтобы не ошибиться, зачитал:
— Слитков золотых — 124 килограмма, серебра — 238 пудов, монет царской чеканки достоинства разного — больше миллиона штук.
Махно присвистнул и вопросительно посмотрел на своего начальника контрразведки.
— Это где ж красный комдив такой куш ухватил?
— В Одессе, батько… — ответил Задов.
— Прощелыге и пьянице Никифору одесские банкиры денег ссудили? — Махно хитро ухмыльнулся. — Думаю, даже залога не попросили…
— Та никого он не спрашивал, ты ж понимаешь, Нестор Иваныч. Госбанк они взяли. Как французики сбежали, Григорьев в Одессу зашел, ну, и две недели там керував[39]. Из порта эшелонами добро вывозили — интервенты ж эвакуировались со скоростью ветра и все оставили. А банкирам тоже досталось, да. И всему их племени люто досталось, хорошо, если в живых оставляли. Ты ж знаешь, как он нашего брата ненавидит.
Махно сел на стул, взял из глиняной миски два грецких ореха и, выругавшись, раздавил их друг о друга:
— Вот этого не люблю. Лёва, ты ж тоже жид?
— Самый шо ни есть. Юзовский. С одиннадцатой линии.
— И шо, Лёва, большая семья у тебя? — Махно перебирал орехи, отделяя перепонки от сердцевины.
— Двенадцать нас было. Шесть братьев, шесть сестер. Я седьмой по счету. А чего интересуешься, батько? Ты уже выспрашивал, я всё рассказал, — удивился Лёва.
— Та смотрю на тебя и думаю, ежели бы твоих обидели, ты как, долго бы думал?
— Та не… — коротко стриженый здоровяк достал револьвер, крутанул его на пальце и продолжил. — Сначала пальну, а потом «руки вверх».
Нестор взял еще пару орехов и с хрустом их раздавил. В этот момент уголки его рта несколько опустились, и появился злобный прищур, будто и не орехи он давит вовсе, а какого-то ненавистного клопа.
— Вот и я смотрю, что паршивец Никифор творит, и думаю — он же грабит от души и без разбора. И мужика от сохи обирает тоже. Это как, Лёва? Селяне жалуются. Это ж не чуждый классовый элемент, да? Это свои, Лёва! Сентовских ограбил и сказал, что это мои сделали. Ну что за гаденыш, а?
— Да всех он уже извел… Ворошилов за голову атамана Григорьева награду объявил, сто тысяч. И по пятьдесят за его помощников, а за Сентово[40] — факт известный, батько… Дюже крестьяне в обиде. Такое прощать нельзя, Нестор Иваныч…
— Ты, Лёва, потерялся… Совет решил — надо действовать. Приговор вынесли. Нечего меня уговаривать….
Орехи хрустели под силой нажима рук Махно.
— Что можно, а что нельзя — я буду решать.
— Прости, Нестор Иваныч. — Лёва несколько смутился, но все равно продолжил. — Так какие будут распоряжения, атаман?
— От это другой разговор. Где Лепетченко?
— В сенях. — Задов открыл дверь и позвал личного адъютанта атамана, который в это время подбивал каблук своего сапога. — Ванька, ходь сюды!
Долговязый, тощий боец в одном сапоге показался в дверном проеме:
— Я здесь, батько!
— Слушай меня, боец… Отправляешься в Александрию, в штаб атамана Григорьева с депешей. Завтра в Сентово в сельсовете сход будет. И мы его приглашаем. Как почетного гостя, как командира. Скажи, совет будем держать, как деникинцев дальше давить. За все, что тут слышал, — молчок. Иначе Щусь тебе язык отрежет, его кортик с такой работой уже знаком.
— Атаман… Ежели бы я треплом был, так давно бы шепелявил или вовсе на пальцах рассказывал. Исполним в лучшем виде!
Иван Лепетченко быстро вбил оставшуюся пару гвоздей и прыгнул на лошадь — до Александрии было пару часов ходу на резвом коне.
— Тут еще такое дело, Нестор Иваныч… — Задов почесал затылок в предвкушении реакции атамана на новость.
— Батька! — Задов окликнул атамана, чтобы обратить на себя внимание. — Говорю, новости есть!
— Последнее время новости меня раздражают, Лёва. Шо там у тебя, разведка?
— Да не разведка, а контрразведка, Нестор, это ж принципиальная разница! — Задов всегда злился, если в его «специальности» терялась приставка «контр». Лёва считал, что с ней — гораздо благородней. Разведчики кто — шпионы. А контрразведчики — они ж белая кость, элита.
— Лёва, когда ты уже успокоишься, шо в лоб, шо по лбу! Шпион, он и есть шпион, — уколол его Махно, а следом расхохотался, наблюдая его скисшее лицо. — Говори, чего там у тебя…
Выдержав паузу для значимости, Лёва поправил фуражку и доложил ситуацию.
— Я-то думаю, вот Никифор — он же жадный до богатства, да? Попробовал я тут прикинуть, сколько подвод он вывез из госбанка Одессы.
— И шо у тебя получилось? — Нестор Махно посерьезнел моментально.
— Получилось, батько, что такой обоз незаметным не пройдет нигде. Смотри: тридцать пудов[41] на подводу одноконную. Коней он бережет для кавалерии, по два ставить не получается. Значится, на серебро требуется восемь подвод. Еще две — на золото и монеты. Итого — десять. Плюс обмундирование из порта да всякие трофеи от населения еврейского… — Махно поморщился. — У меня вышло не меньше двадцати пяти подвод.
— Ну? — Махно терял терпение.
— А вот и ну, Нестор Иваныч… Ты видал, чтобы григорьевцы караваном ходили, как верблюды вьючные? Вооот… И я не видал. А по какой такой причине они всегда на станциях железнодорожных останавливаются? И штаб ихний рядом, если не на самом вокзале. А, батько?
Махно стукнул кулаком по столу и вызверился на Задова:
— Шо ты мне тут допрос устроил? Это я тебя допрашивать должен! Кто тут шпион? Я или ты?
Когда Махно кричал, голос его становился высоким, лицо быстро наливалось кровью и колючие глаза превращались в источник молний. Внезапные приступы ярости случались у атамана особенно часто в последнее время, после того как ему приходилось биться против всех вокруг — красные, белые, григорьевцы — все стали врагами и верить никому было нельзя.
— Так вот, любопытство меня замучило, Нестор Иваныч, — Лёва будто не обратил внимание на его всплеск негодования. — Я ходоков послал на станцию в Александрию. Парни смышленые, местными прикинулись, гостинцев взяли, как бы на обмен, ну и наменяли поросенка на сапоги и флягу спирта. Григорьевские возле цистерны со спиртом охрану выставили, пуще глаза своего берегут. Надо брать. Хороший трофей.
— Пошел вон, шпион! Нам щас только повального пьянства не хватает! — заорал атаман пуще прежнего.
— Не кипятись, Нестор Иваныч, не кипятись… Цистерна та пристегнута еще к четырем вагонам. Один открыли, когда сапоги доставали, а к остальным даже подойти не дали, штыками отгоняли. Значит, там что-то более ценное, чем спирт и обмундирование. Ну не библиотека же… И это… Мы ж не видели двадцать пять подвод, Нестор Иваныч. Они своим ходом пришли, на конях.
На следующий день, 27 июля 1919 года, деревня Сентово возле Александрии превратилась в осажденную столицу кочевников. Центр деревни заняли махновцы. На улицах, отходивших от сельсовета, расставили тачанки, пулеметами в сторону окраин, куда подтянулись григорьевцы. Селяне попрятались в хатах, изредка и с опаской поглядывая через плетеные заборы на происходящие в их деревне маневры.
Никифор Григорьев — невысокого роста, сутулый атаман с лицом, побитым следами оспы, прибыл к месту в сопровождении личного телохранителя, проделав путь от кордона тачанок до сельсовета пешком.
— Что это ты, Нестор, патрулями обложился? — Никифор Григорьев вытер пот со лба, сняв предварительно фуражку. — Или боишься кого? Мы же не чужие, а в округе нет никого, а если бы и были — в нашу сторону не посмеют рыпнуться. Вон какие орлы у нас! — Никифор разговаривал в нос, что чрезвычайно раздражало Нестора Махно.
Григорьев похлопал по плечу Задова и присел за стол, положив перед собой револьвер. Это движение уловили все находившиеся в комнате.
— Ваши слова — чистая правда, Никифор Александрович… — Махно тоже снял папаху, аккуратно положив ее на лавку. Нестор сел напротив Григорьева, достал из кобуры, демонстративно положил на стол перед собой маузер и продолжил. — Только это мои орлы, Никифор. Мои, а не наши.
Щусь, Чубенко и Задов распределились по комнате так, что и атаман Григорьев и его телохранитель находились под контролем. Обратив внимание на то, что его люди стали за спинами гостей, Махно потянулся к своему нагрудному карману.
— Ты не обессудь, Никифор, прежде чем мы начнем толковать по нашим делам, я должен разобраться в одной головоломке.
Махно развернул листок и в полной тишине начал читать: «Настоящим сообщаю, что Ваше предложение рассмотрено, Никифор Александрович. Оно позволяет мне, как представителю верховного правителя России, адмирала Колчака, обоснованно рассчитывать на Ваше здравомыслие и последовательную позицию в вопросах освобождения России от большевицкой и прочей нечисти…».
С каждым словом Григорьев бледнел. Этого письма он ждал уже вторую неделю. Какой же тварью оказался Деникин! Как письмо попало к Махно? Деникин решил убрать его руками Нестора? Рой мыслей пролетел в голове у атамана Григорьева, и он не нашел ничего лучше, как схватиться за оружие. Выстрел, направленный в голову Нестору Махно, с расстояния в полтора метра никакого вреда тому не нанес. И звука пули, бьющей в стену, тоже никто не услышал. Атаман только закрыл глаза, пытаясь сообразить, ранен он или нет. Говорят, что первые секунды после прямого попадания человек боли не чувствует.
Чубенко держал маузер наготове и тут же выстрелил. Пуля вошла в плечо Григорьева, который, свалив Щуся, ринулся к выходу. Адъютанта григорьевского, Трояна, непредусмотрительно вставшего между столом и окном, застрелил Задов.
— Добить его! — скомандовал Махно, и Чубенко, уже поставивший сапог на спину упавшего во дворе Григорьева, сделал выстрел тому в голову.
— На, оботри, — Щусь кинул Чубенко какую-то тряпку, чтобы тот стер кровь со своих сапог.
— Сдох, подлюка? — Махно поддел тело своего врага носком сапога. — А теперь есть пара неотложных дел. Лепетченко, Ваня, скачи в Александрию и наших всех на станцию, как договаривались. А мы к народу пойдем.
К ожидавшим командира григорьевцам, располагавшимся в соседней с деревней посадке, Махно приехал на двух тачанках, которые тут же развернулись к ним своими пулеметами. Разношерстная, вооруженная до зубов публика находилась в недоумении от такого поступка союзников. На поляне воцарилась мертвая тишина.
— Кто из вас селянин? — громко крикнул Махно в толпу, которая стала собираться поближе к тачанкам, но все же на некотором расстоянии.
Робкие голоса раздались с той стороны, куда были нацелены пулеметы.
— Атаман Григорьев предал вас, братья! И нас тоже! — обратился Махно к тем, кто поднял руку. — Он спелся с Деникиным, который имел своей целью угнетение и унижение нашего брата — люда крестьянского!
По толпе пошел ропот, и все, кто были вместе с Махно в тачанках, приготовили оружие.
— Да, да! За предательство это нашим судом он приговорен к расстрелу! И приговор приведен в исполнение! — Махно стоял на тачанке, представляя собой идеальную мишень, но никто выстрелить не решился.
— Кто желает домой, к семье, к земле своей, тот свободен! Только оружие придется оставить. Кто готов дальше со мной, бить Деникина и большевиков — тот остается. До конца дня решите. Я все сказал.
Тачанки, не меняя направления прицелов своих «максимов», сорвались с места и в сопровождении конницы отбыли в Александрию на железнодорожную станцию. Иван Лепетченко уже поднял в ружье всех махновцев, которые только и ждали приказа к действию. На товарной станции Махно застал следующую картину: караулы, охранявшие состав были обезоружены и лежали лицом вниз вместе с паровозной бригадой. Остальные воины Григорьева не рискнули оказать сопротивление и растворились в городе. Весть о выборе между дальнейшей службой и возвращением домой до них еще не дошла.
— Открывали? — Нестор заложил руки за спину и с любопытством разглядывал товарные вагоны, сцепленные с цистерной.
— Тебя ждали, батько! — отрапортовал боец в фуражке без кокарды с треснутым козырьком.
— Вот и хорошо… Лёва, а пусть лишняя публика растворится… — негромко сказал Нестор Задову.
После того, как караул под вагонами перешел на противоположную сторону пути, Задов подошел к двери. С грохотом она откатилась в сторону, и наружу посыпались тюки перевязанных десятками шинелей. В двух других находились ящики с боеприпасами. К четвертому вагону Лева Задов подходил с дрожащими коленями — на кону были его авторитет и признание атамана. Если он ошибся — головы не сносить. Да, для устранения Григорьева были достаточно весомые причины, но кто его знает, решился бы на это Махно, если бы не данные о сокровищах Одесского госбанка…
— Открывай, Лёва! — Нестору было интересно убедиться в правоте своего начальника контрразведки. Про себя он уже проговорил, что если сокровищ там не окажется, то с Лёвой придется прощаться — о холостых патронах в револьвере Григорьева атаман уже не помнил.
Дверь поддалась со скрипом, поначалу ее ролики заклинило в полозьях вагона. Задов со злостью дернул ее в сторону открытия еще раз, и образовалась щель, сквозь которую можно было проникнуть внутрь. Лёва не стал дожидаться команды и запрыгнул внутрь.
— Это ж надо таким дураком быть, возить скарбы в соседнем вагоне с боеприпасами! — Счастливая рыжая физиономия Лёвы Задова лучезарно сияла сквозь узкую щель вагонной двери…
— Ай, молодца, разведка! — Нестор с восхищением рассматривал ящики.
Спрыгнув на землю, Лёвка стряхнул пыль с галифе и обратился к атаману:
— Я тут еще кое-чего велел… Там штабной вагон, в нём сейф. Уже курочат, не поддаётся, гад. Немецкий.
— Да ты уже главное сделал, Лёва, а то, что Никифор гнида, так мы и сами знаем. Без всяких документов.
— Ну дай еще времени, Нестор. Проверим всё, чтобы душа была спокойна! — Задов настаивал на своём — сегодня был день его триумфа, и следовало взять от фортуны всё, что полагалось.
— Валяй… — ответил Махно.
Как оказалось, пьяница Григорьев был силён в бюрократии. Документов Задов изъял громадное количество — приказы, распоряжения, чьи-то докладные, телеграммы из штаба фронта, всё хранилось и систематизировалось. Каково же было удивление Льва Задова, когда с таким трудом вскрытый сейф обнажил своё чрево: альбом с фотографиями, часы «Фаберже», увенчанные двуглавым орлом, и жёлтый портфель с бумагами на иностранном языке.
Днестр. Окрестности Ямполя. 28 августа 1921 г.
Их загоняли к Дунаю. Части Красной армии преследовали остатки махновской армии уже второй месяц. Ничего от былой мощи, славы и военной силы у Нестора не осталось.
В Гуляйполе бабы на сенокосе разносили вести о том, что сгинул Махно, пропал вместе со многими их мужиками. Солдатки помалкивали, а остальные только об этом и судачили — кто с горечью в голосе, кто — с сожалением, а некоторые откровенно злорадствовали…
— Как Нестор ушел, совсем не ладится всё… Большевики на голову сели, ноги свесили, черти… — причитала дородная женщина, молотившая сноп цепом[42] как заправский мужик.
— Не говори, кума, Нестор землю дал, эти забрали. Как жить-то с этой продразверсткой? — вторила ей такая же грудастая подруга, собирая граблями сено. — Вон, теперь уж и мясо им подавай, и птицу… Моя Ганзя вон пузатая ходит, Господь внучат послал, а кормить-то чем? Дитё же еще света не видало, документа нет, а зерно на следующий год оставляют только на тех, кто с документом…
— Ото они нашего Нестора и ганьбят, шо он стал суперечь этой их про… про…
— Продразверстки, — подсказала кума.
— Понапридумывают всякого, окаянные… Чем же мы Господа так разгневали? Был один заступник, так и того загнали невесть куда, да и Макара моего с ним… — не останавливалась причитать в своей искренней злобе солдатка.
— Уж сколько раз такое бывало. Возвращался же! — с надеждой в голосе ответила крестьянка.
— Перемололи Нестора красные, как пить дать, убили, демоны…
— Не каркай Валентина, и так жизни нет, а тут ты ещё под руку, — осерчала кума.
Женское предчувствие — из разряда вещей непознанных. Какие силы вкладывают в их душу эти мысли — наверно, ни один учёный муж никогда не докопается до правды в этом вопросе.
Недалеки были от правды женщины с родины Нестора Махно.
Несколько месяцев назад командование Красной армии предписало махновским частям отправиться на Кавказ, но, почуяв неладное, атаман анархистов отказался туда идти с войсками. Там он погибель свою видел. Как всякий хищный зверь, засаду чуял за версту, а быть вне закона — так это не привыкать. Вся жизнь его была вне закона. Все союзы — временными. Постоянными были только враги, которые теперь окружали со всех сторон. Третий месяц по всей Украине его преследовал Фрунзе, получивший приказ на уничтожение атамана Махно и его банды, не подчинившихся приказу председателя реввоенсовета Троцкого.
— Шо там, Лёвка… — Нестор полулежа расположился в своей тачанке. Так, чтобы перевязанные раны тревожили поменьше.
Хорошо, что Галина умеет быстро бинтовать. Вон, половину отряда перемотала. Да что там того отряда… Семьдесят семь штыков.
— Румыния там, батька. Дальше некуда, — доложил Задов, вытирая пот со лба. Они без остановки скакали второй день и вот теперь, прижатые к реке, ждали решения атамана.
— Ну, вот и конец наших славных похождений… — Нестор сказал это тихо, повернув голову в сторону реки, где утренняя дымка стелилась над спокойно движущейся водой. — А что думаешь, Лёва, румыны нас в расход пустят или как военнопленные пойдем?
— Та шо ты, в самом деле, Нестор! — пробасил Задов. — Они большевиков лютой ненавистью ненавидят. А как говорят на Кавказе: «Враг моего врага — мой друг».
— Откуда тебе знать, как на Кавказе говорят? Мы ж туда не пошли. Нахватался умных слов. Вот, Лёва Задов меня жизни учит… Дожили…
— А ведь он прав, Нестор, — вступилась за Лёвку Галина. — Снимай китель, бинты промокли. — Сквозь выцветшую зеленую ткань проступили бурые пятна крови.
— Прав, говоришь? — Нестор сорвался на крик. — Тоже мне разведка! Задним числом все умные!
Галина достала из своей сумки новую упаковку перевязочного материала и повернула Нестора к себе спиной так резко, что тот вскрикнул от боли.
— Не узнаю тебя, Нестор. Где тот батька, что за всех душу рвал? Где тот атаман, что брал на себя ответственность и выводил из окружения, когда остальные струсили?
Был бы сейчас рядом Феодосий Щусь, ему пришлось бы стыдливо отвести взгляд. Это он когда-то запаниковал в лесу, а Махно вывел тогда их ещё малочисленный и плохо вооруженный отряд из кольца окружения. Прорвались неожиданно лихо и почти без потерь. После этого вопрос о главенстве в рядах гуляйпольских анархистов-коммунистов больше не поднимался — Щусь ушел на вторые роли, смирившись со сложившимся раскладом сил. А месяц назад он погиб в бою с красными казаками под Беседовкой. Из близкого окружения с Нестором остались только жена Галина, адъютант Иван Лепетченко и Лёва Задов с братом Даниилом.
— Чем Задов тебе не угодил? — Лёва сидел на коне, рядом с тачанкой и не понимал, нужно ему податься куда-то или остаться. Эта сцена не была семейной, это касалось и его тоже.
Галина принялась снимать с мужа прилипшие к телу повязки, нещадно отдирая их вместе с засохшей кровью. Она видела, что ему больно, но он не подавал вида, а Галина, продолжая его вычитывать, делала всё резко, будто специально хотела ему причинить боль.
— Ты всегда говорил, что народ всё решает, что как люди скажут, так и будет, но видел же, что они за тобой идут! — Галина налила на тампон спирта и приложила к кровоточащим местам. Махно закусил губу и негромко застонал.
— При чём тут Задов? — не унималась Галина. — Ты при одном только сомнении в преданности первым делом приказывал расстреливать…
Нестор стукнул кулаком по лавке повозки, да так, что причинил себе ещё больше боли.
— Я тебе доверялся всегда, чутью твоему бабскому! — Галина часто тоже участвовала в вынесении приговоров, но её миссия была скорее идеологическая, она делала это прилюдно, так, чтобы каждый понял, что не женщина она, а такой же анархист, как все.
Галина принялась туго бинтовать мужа, не обращая внимания на его стоны.
— Ты молчи лучше, Нестор. Рядом с тобой остались люди, которые тебе преданы. Они сотни раз могли отбиться, переметнуться к твоим врагам, выстрелить в тебя, наконец! Но они здесь, с тобой. Не греши, Нестор, иначе последние остатки везения растеряем…
Махно надел гимнастерку и с облегчением вздохнул. Даже не от того, что закончилась перевязка, а от того, что разговор этот состоялся. Он дал слабину, сорвался, и теперь сам этого стыдился.
Да. Кто же, если не он, повинен в том, что эта кучка измотанных, израненных и уставших людей, с трудом напоминавшая боеспособное подразделение, стоит на берегу Днестра без малейшего представления о будущем, о целях, о дальнейшей жизни. Нужно было принимать решение. Так, как он это делал тогда, в окружении.
— Лёва…
Конь Задова сделал два шага к тачанке, подчинившись воле наездника.
— Достань карту, — Нестор разговаривал опять ровным голосом, как будто и не было этого срыва.
Из командирской сумки Задов извлек свернутый вчетверо лист и развернул его так, чтобы Махно видел его карандашные пометки. Не ожидая следующего вопроса, Лёва показал точку на карте:
— Мы здесь.
Движением карандаша он очертил воображаемую окружность и прокомментировал:
— Здесь, здесь и здесь красные. Наши бывшие соратники. Отсечь нас от реки — дело одного дня, они просто не установили ещё точно наше положение.
— Фрунзе? — в голосе Махно опять просквозила нотка безнадёжности. Командующий Михаил Фрунзе был его страшным сном на протяжении нескольких последних месяцев. Куда бы ни заходил Махно, через день его оттуда выбивал Фрунзе, а главное — Нестор нес невосполнимые потери, войско его таяло.
— Так точно, батька. Он. Еще броневик у них… — Задов считал, что имеет практически достоверные сведения от своих лазутчиков, но не знал, что силы красных были явно преувеличены. Последние поражения, необходимость постоянно скрываться, петлять лесами и балками наложила свой отпечаток и на боевой дух махновцев. Завидев бронемашину, дозорные поспешили вернуться к своим и доложить о хорошо вооруженном подразделении, идущем по их следам.
— Сколько у нас патронов? — кусая нижнюю губу, спросил Махно своего главного разведчика.
— На час если хватит — то хорошо. А если в лоб пойдут — ну, может, минут на двадцать хватит… — слова Задова отражали реальное положение дел и он сейчас искренне не понимал, на что рассчитывает атаман.
— Значит, уходим…
— Я ищу переправу? — спросил Лёва, чтобы удостовериться, что правильно понял мечущегося в своих терзаниях и мыслях атамана.
— Ищи, — Нестор принял решение, и назад дороги уже не было. — Нет… Погоди. Собери людей.
После того, как все уцелевшие собрались вокруг атаманской повозки, Махно, превознемогая боль, приподнялся сначала на одну руку, а потом и стал на ноги.
— Слушай меня, братки! На той стороне я вам уже не командир… Даю последний приказ, — пешие и верховые, здоровые и раненые — все они затихли в ожидании слов атамана. — Выжить приказываю! Выжить так, чтобы не унизиться, не продаться, чтобы не ударить в грязь лицом! А как придёт час умереть — так принять с достоинством! Слышите, братья?! Жить, по чести, и умереть с достоинством, слышите?! Если обиды какие, скажите сейчас, пока не поздно…
Кукушка прокуковала пяток раз, нарушив тишину, и среди измождённых остатков некогда могучей армии послышался чей-то одинокий голос, затянувший песню…
Атаман узнает, кого не хватает — Сотенку пополнит, да забудет про меня…Голосов стало несколько. Старую казацкую песню они пели не с начала, а с того места, которое сейчас наиболее подходило к их душевному состоянию и положению дел.
Жалко только волюшку да во широком полюшке Солнышка горячего, да верного коня…Хор стал стройнее. Присоединились почти все, кто мог безболезненно дышать, а раненые, перевязанные бинтами, на припеве переглянулись и, глядя на подбитого пулей атамана, запели вместе с ним:
Любо, братцы, любо… Любо, братцы, жить, С нашим атаманом не приходится тужить…Сбивая утреннюю росу с высокой прибрежной травы, кони медленно и тихо двигались вдоль реки, позволяя своим всадникам прислушиваться к любому постороннему звуку.
— Паша, не торопись… — Задов привстал на стременах, заслышав какой-то шум впереди.
Пашка Бойченко после своего триумфального подвига с пленением белогвардейцев от Задова не отходил ни на шаг. Бесконечно благодарный за то, что замнач контрразведки не уронил его авторитет среди односельчан и сослуживцев, Пашка поклялся себе, что больше такой оплошности не допустит.
Бойченко осадил коня и тоже прислушался. Возле тропинки, ведущей в камыши, были привязаны три коня, а со стороны берега раздавались мужские голоса и плеск воды.
Три пограничника, беззаботно купавшиеся в Днестре, оказались отрезанными от пирамиды, которую они составили из своих винтовок, и от своих коней.
— Чего вызывали? — спросил Лёва у красноармейцев, удивлённо рассматривавших разъезд кавалеристов, одетых в такую же, как у них форму, за тем небольшим исключением, что звезды на их будёновках были синего цвета, что означало кавалерию.
— Мы? Вас? — один из военных, по всей видимости, старший, надел гимнастерку и сделал несколько шагов в сторону своего оружия, однако, спешившийся Пашка не позволил ему дотянуться до карабина.
Через несколько минут Задов уже знал место, где течение позволяет безопасно перебраться на тот берег.
— А как же с ними? — красноречиво кивнул в сторону связанных пограничников Бойченко.
— Паша, они нам не помеха. Не будем брать грех на душу. Винтовки забери, да узлы на руках проверь. Нам всего минут тридцать нужно, пусть живут. Может, когда-нибудь они нам тоже жизнь оставят, — приказал Задов.
Через четверть часа всё было готово для переправы.
— Галина Андреевна, возьмите вот… Больше у нас ничего нет. Времена настают тяжелые, а это поможет продержаться… — Задов вложил в руки женщины небольшое дамское украшение с голубоватым камнем в центре.
— Зачем вы это делаете, Лёва? Нестор не любит тайн и интриг, вы же знаете, к тому же, какой он ревнивец…
— Ну, Нестор… Пусть у вас будет. На всякий случай… Будет тяжко — вы этим мудрее распорядитесь, спасибо, что заступились, кстати… — несколько смущенно ответил Задов.
Это был не первый раз, когда жена атамана принимала его сторону. Однажды, крикнув на командиров, она спасла Задова от неминуемого приговора по обвинению в измене. Почему она тогда так поступила — Галина и сама не поняла. Нашла себе оправдание лишь в том, что женскому сердцу не прикажешь.
— Уж постараюсь. Спасибо вам, Лев Николаевич, что не предали, не оставили…
— Без меня Нестор проживет, а без вас — погибнет. Точно знаю. — Лёва глаз не поднимал, будто стеснялся. Со стороны это выглядело несколько нелепо: здоровенный детина держит за руки женщину в платке и, краснея, пытается ей что-то объяснить, глядя в сторону.
— Как там сложится — не знаю, а вот вас, Лёва, я запомню навсегда.
— Давайте не будем прощаться. Всё впереди.
— Это не прощание, что вы, Лёва… Так, грустно просто…
Лев Задов, заметивший, что на них уже стали обращать внимание сослуживцы, тут же поправил гимнастёрку, как перед старшим по званию, и уже уверенно и чётко продолжил:
— Отставить грусть! У меня еще одна просьба будет. Нестор Иванович недооценивает ситуацию, потому… Подождите, я сейчас.
Лёва порылся у себя в планшете и достал небольшой, аккуратно упакованный сверток, перевязанный крест-накрест тесьмой.
— Вот это нужно сохранить любой ценой. Вас обыскивать, скорее всего, будут не очень тщательно.
— Что это? — спросила Галина, заинтригованная заговорщицким тоном Задова.
— Это содержимое желтого портфеля. Бумаги из сейфа Григорьева.
— А вы, товарищ Лёва, отчаянный… Нестор же приказал закопать в схроне, вместе с золотом.
— Так, а кто нарушил приказ? Портфель приказал закопать, мы его и закопали. А бумага — она же влаги не терпит. Погибнет такое оружие… И потом для кого-то слишком большое везение — найти в одном месте и золото, и документы. Не предусмотрительно это. Вы меня не сдадите? — улыбнулся Задов.
— Настоящий шпион! — В ответ Лёва получил лучезарную улыбку.
— Не нравится мне это слово. Лучше — разведчик. Шпионы, они вражеские.
— Ладно, ладно… не стоит обижаться. Нашему брату не положено… Мы задерживаемся и очень рискуем. Давайте торопиться, пока не пришло подкрепление с заставы, — Галина рассмеялась после слова «брату».
Кони с всадниками, державшимися за сёдла, пустились вплавь. Над поверхностью реки, покрытой утренним туманом, были видны только головы коней да слышен их тяжелый храп.
В воду сошли выше по течению, чтобы их снесло примерно в то место, где кони смогут выйти на берег. Гребли тяжело, держа оружие над головой. Нестор схватился за седло двумя руками и в меру сил пытался помогать себе ногами, но постоянно задевал бок коня, от чего тот начал волноваться и стал плыть только быстрее.
Тяжелее всего пришлось Лёве. Свое неумение плавать и панический страх перед течением он до сих пор от всех удачно скрывал. Помог конь, которого он себе подбирал сам: такой вес, как у него, не каждый жеребец выдержит, а уж в чём-чём, а в конях Лёва разбирался с детства. Отцовская школа пригодилась, и не раз в течение последних нескольких лет Задов мысленно благодарил покойного старика Юделя за уроки юношества.
Справившись с тревогой, Задов доверился своему верному напарнику, который не раз вывозил его с поля боя живым и невредимым, и тот не подвел. Бойченко первым выбрался на берег, и теперь активно размахивал руками, привлекая к себе внимание всей медленно плывущей конской флотилии.
— Руки! — по-русски раздалось с вершины оврага. — Вверх руки! — громкий голос с акцентом заставил Пашку замереть в положении подающего сигналы моряка.
Три ружейных ствола смотрели на него сверху, а их хозяева, облаченные в серые мундиры с зелено-желтыми петлицами пограничной стражи, держали Бойченко на мушке.
— А мы сдаёмся! — громко заорал Пашка и демонстративно положил на землю винтовку.
— Подниматься наверх! Наверх! — поступила команда от румынских пограничников.
За передвижениями на той стороне Днестра румыны следили тщательно, и появление скопления вооруженных людей в красноармейской форме заметили сразу.
Офицер пограничной заставы тут же доложил по инстанциям, получил подкрепление и инструкцию действовать по обстоятельствам: если это перебежчики, то обезоружить и препроводить на заставу до дальнейшего выяснения обстоятельств.
В случае вооруженной провокации — в распоряжении майора были два пулемета, которые он был обязан немедленно задействовать.
В памяти румынских штабистов еще были свежи воспоминания о полученных по агентурным каналам данных о некоем красном командире Григорьеве, который должен был пару лет назад отправиться то ли в Румынию, то ли в Венгрию, чтобы на своих штыках принести туда знамя пролетарской революции. Григорьев по каким-то причинам не вышел в поход, что было списано на недостаточную информированность источника, но к его интервенции генералы готовились со всей ответственностью.
В этот раз майору стало очевидно, что измотанное долгим походом подразделение враждебных намерений не имеет.
Сносно владеющий русским языком, офицер обратился к перебежчикам:
— Оружие остается у нас, каждый проходит обыск. Потом колонной, под конвоем, следуем на заставу. Там вас накормят и вы ждать приказ.
— И меня обыщешь? — звонкий женский голос удивил майора. Откуда среди них женщина? Эти русские не перестают удивлять. По виду не медсестра, одета в гражданское, но взгляд какой-то властный и жесткий.
Галина вышла вперед, демонстративно отжимая впереди себя юбку — она была мокрая по пояс.
Майор подошел к Галине поближе, бесцеремонно рассматривая её снизу вверх, как это делают распущенные повесы.
— Но, но! Я сейчас кому-то обыщу! — взорвался Нестор, находившийся рядом.
Его попытку кинуться на офицера пограничной стражи пресек Лёва:
— Батька… Держи себя в руках. Мы не дома… — при этом Задов крепко ухватил его сзади за локоть и дёрнул назад, задев повязку на ребрах.
Нестор взвыл от боли, но офицер принял этот звук за какой-то рев отчаяния: этот самый низкорослый из всех перебежчиков с землистого цвета лицом и шрамом на щеке сразу вызвал недоверие своим тяжелым взглядом.
— Ты! Снимать одежду! — офицер перенес свое внимание на Махно и жестом приказал подчиненным забрать пистолет, который тот забыл вытащить из голенища сапога.
— Румынский офицер не позволит себе хамства с женщиной, пусть она даже не румынка! — громко сказал майор, улыбнувшись Галине, и тут же продолжил, глядя ей в глаза:
— Остальных обыскать!
Румынское королевство. Плоешти. 6 мая 1924
Треск веток под ногами одинокого путника заставил лесорубов, присевших на перекур, обернуться. Невесть откуда появившийся человек шёл к ним, пробираясь сквозь неразобранные кучи валежника. Внешне человек походил на обычного румынского крестьянина из окрестных сёл — лет пятидесяти от роду, черные, спускающиеся к подбородку усы, неброская, затертая от многочисленных стирок одежда, шапка из овчины, клюка и котомка за спиной.
— Бог в помощь! — неожиданно по-русски произнёс усач, скидывая с плеча на землю свой вещмешок.
— Сказал Бог, чтобы ты помог! — ответил Пашка Бойченко, затушив о ствол поваленного дерева самокрутку.
— Так затем и пришел, — ответил путник, разглядывая лесорубов. Он явно искал глазами нужного человека.
— Ты, что ли, тут главный? — из всех шестерых, которые поднялись со своих мест, ходок выделил для себя самого высокого и крепкого, который поднял с земли топор.
— Чего хотел? — Лев Задов почти за три года пребывания в Румынии привык не доверять незнакомцам, особенно, если они свободно разговаривали на его родном языке. Из числа его братии, что переправилась в двадцать первом через Днестр, рядом остались только брат Даниил и ещё несколько человек. Остальных жизнь раскидала по лагерям да лесопилкам. От Нестора и Галины вестей не было давно. Поговаривали, что дочь у них родилась, и они перебрались из Польши в Германию, где Нестор пытался заниматься политикой.
— Ищу знакомца одного… По фамилии Зиньковский, — странник хитро улыбался и смотрел Лёве прямо в глаза, чтобы убедиться, что не ошибся и правильно опознал нужного человека.
Задов ухмыльнулся и переложил топор в правую руку:
— Не припоминаю такого.
— А Нестор подсказал тут тебя искать… — незнакомец продолжал заговорщицки улыбаться.
Лёва страшно не любил, когда с ним играли в такие игры. Всегда до сих пор карты сдавал он, а этот странный мужик поставил его в зависимое от обстоятельств положение.
Лёва кивком головы обратил на себя внимание лесорубов и те окружили незваного гостя кольцом. Топор с гулким звуком своим отточенным лезвием глубоко встрял в полено, стоявшее рядом в качестве импровизированного стола, от чего с того слетел сверток с вареными яйцами и маленькая банка с солью, рассыпавшейся на земле.
Задов аккуратно намотал на свои кулаки суконную рубашку незнакомого мужика и приподнял его так, что ноги незнакомца оторвались от земли:
— Говорю же, не припоминаю такого…
С трудом выговаривая слова, мужик, собрав остатки самообладания, прошипел:
— Солька просыпалась. Не к добру это, Лев Николаич. И Галина сказала, что перстень им очень помог, благодарна она тебе…
Отдышавшись, посланник попытался расправить одежду и прийти в себя после такой негостеприимной встречи.
— Так чего хотел, засланец? — Лёва, несколько успокоившись, принялся поднимать с земли вареные яйца.
— Погутарить с глазу на глаз…
Вечером, за ужином в сторожке лесника, где лесорубы ночевали, чтобы не тратить время на путь к просеке, Даниил подсел к брату.
— Чего хотел этот странноватый? — Даня подвинул старшему миску с похлебкой. — Молчишь целый день, замели волнуются. Он погутарил и ушел, а ты в лице поменялся…
Задов протер деревянную ложку полотенцем и, прежде чем ответить, употребил половину содержимого миски.
— С земляками я сам поговорю. С каждым отдельно. И ты языком не трепи, — говорил Лёва в промежутках между поглощением еды.
— Так о чём трепать, братуха? Ты хоть мне глаза открой, что стряслось.
Закончив вечернюю трапезу, Лёва заметно подобрел и, нащупав в кармане кисет, предложил брату выйти покурить.
— Мужик этот — бывший сотник петлюровский. Евраф Гулий. Жаловался, что судьба нас, врагов бывших, закинула на чужбину. Напирал на то, что теперь у нас один общий враг — большевики. В общем, агитацию проводил.
— Мы три ствола повалили, пока вы там, на просеке секретничали. Поглядывали за тобой, но вроде Евграф этот себя спокойно вёл, — заметил Даня.
— Он не от Нестора, — затянувшись самокруткой, сказал Лёва.
— Невже[43] от Петлюры? — Даниил искренне недоумевал.
— Выше бери, братушка… Его разведка румынская прислала. Сигуранца. Про Махно — это он так, языком чесал, чтобы в доверие войти. Вроде пароля.
С лица Даниила моментально пропало озорное выражение, отнимавшее от его возраста пяток лет:
— Лёва, жить становится всё интереснее. Они же с нами в лагере работали. Что там ещё им понадобилось?
— Да самая малость. Дело пустяковое. Предлагают диверсионной группой командовать.
Даниил на некоторое время замолк. В голове его роилось множество мыслей, вопросов, и он не сразу определился, какой из них задать первым:
— Против кого группа должна действовать?
— Против СССР.
Рашков. 5 июня 1924
Берега Днестра в этих местах иногда крутые, почти отвесные, урез воды заканчивается обваленными грудами камней, сквозь которые много лет назад проросли деревья, укрепившие корнями берег. Пограничная река, широкой лентой извиваясь в долине, когда-то пробила себе путь сквозь скалистую породу, доказав людям, что для времени и воды препятствий не существует.
Капитан сигуранцы Димитру Ионеску в сопровождении командира заставы проводил шестерых угрюмых русских с оружием и вещмешками к тому месту, где их ждала пара лодок, привязанных к старым, покосившимся от времени мосткам. Противоположный берег в темноте ночи не просматривался, но старший группы знал, что на том берегу им предстоит затаиться в плавнях, убедиться, что они остались незамеченными и, поставив лодки в камышах на якоря, выйти на сушу и следовать на восток без остановки до рассвета.
Низкие грозовые тучи заслонили собой луну, обеспечив скрытность переправы, а периодически раздававшиеся раскаты грома и шум дождя позволяли надеяться, что всплески воды от весел останутся незамеченными. Единственное, что тревожило Льва Задова, — частые вспышки молний южнее места их переправы, над Рашковом, на том, советском берегу. Одного такого отсвета было бы достаточно, чтобы издалека заметить лодку, идущую по глади воды.
— И ещё одно поручение. После выполнения задачи вы должны привести с собой в Румынию двух-трех добрых коней. На них переплывете, а пустую лодку нужно взять на трос. За это получите отдельное вознаграждение от меня лично, — капитан прервал размышления Задова о грозе.
— Сделаем, господин капитан, — ответил Лёва. — Вам для подводы или на параде гарцевать?
Ионеску недовольно поморщился — русский язык он понимал, но когда говорили медленно.
— Каких коней? Сильных или быстрых? Вдруг выбор будет, — между делом повторил свой вопрос Задов, проверяя последний раз содержимое своего вещмешка.
— Мне для дочерей. Красивых. Как я вижу, вы в породах разбираетесь. Таких, чтобы дочки расплакались, когда увидят. А я чтобы расплакался от их счастья. Но я офицер, и меня растрогать почти невозможно.
— Не сомневайся, господин капитан, слёзы я тебе обеспечу! — ответил Лёва, вопросительно осмотревшись по сторонам. — А где лодки?
Соблюдая скрытность, экспедиция спустилась к кромке воды, и члены группы расположились в лодках по три человека.
— Ну, ни пуха! — прошептал Бойченко, взяв в руки вёсла…
Румыны стояли на месте до тех пор, пока лодки не скрылись в темноте. Потом капитан Ионеску и начальник погранзаставы ещё долго вслушивались, нет ли на той стороне тревоги и выстрелов. Похоже, всё пошло по плану, и по прибытии на заставу капитан отбил телеграмму руководству: «Делегаты отправились на съезд, их мандаты действительны».
С рассветом, насквозь промокшие под дождём, «делегаты» были уже в двадцати километрах от Днестра.
— Всё, не могу… — Паша сел на землю, снял сапог и стал перематывать портянку.
— Привал, хлопцы, перекур… — согласился с ним Задов.
Уставшие от долгого марш-броска, члены диверсионной группы достали фляги с водой и принялись жадно пить.
— Братва, а я так скажу… — Лёва размял папиросу и закурил её, осмотревшись по сторонам. — Мы дома. Ну его, этот террор. Пошли сдаваться.
Эта фраза стала неожиданностью только для одного члена группы — бывшего петлюровца, на кандидатуре которого настоял тот самый сотник Гулий. С остальными Задов уже провёл задушевные беседы с глазу на глаз и был уверен в поддержке.
— Ээээ! Як сдаться? — возмутился петлюровец Запорожченко. — Хлопци, та мене ж постриляють!
— Не больше чем нас постреляют, — оппонировал ему Бойченко, не отвлекаясь от портянки. — Ты у Петлюры кем был? Сотником?
— Ну, это… То я для важности придумал… — стушевался Запорожченко. — Харчи я готовил. Куховарил. Повар я.
— О! А я-то думаю, чего ты все время в подготовительном лагере возле кухни тёрся! — заметил Даниил. Остальные члены группы рассмеялись, но тут же подчинились жесту Задова и немедленно замолчали. Несмотря на практически принятое уже решение, они всё ещё при оружии, с гранатами, и на нелегальном положении.
— Так и скажешь на допросе — воевал против большевиков с поварёшкой в руках. Ещё аргументы есть? — с полной серьезностью спросил сомневающегося петлюровца Лёва.
— Та вроде ни…
— Тогда слушай мою команду. Ближайший населенный пункт — Баштанка. Следуем туда.
Небольшое село недалеко от Днестра уже жило своей обычной жизнью — с рассветом в деревне есть чем заняться, и до шестерых мужиков, уверенным шагом двигавшихся в центр поселения, не было никому дела. Спрашивать дорогу путникам не пришлось: в таких сёлах все дороги ведут на центральную площадь, а её легко найти по возвышавшейся над местностью колокольне.
Председатель сельсовета Матвей Безбородько только заварил себе чай и путался угомонить пару шумных баб, наперебой жаловавшихся ему на пастуха Гришку:
— Ты ж казав, вин надийний! — кричала на председателя та, что постарше.
— От теперь замисть нього и покупай нам коров, раз грошей у твого пастуха нема. Твий родыч? От и видповидай за нього! — Другая крестьянка кричала на председателя ещё громче, так, что были бы на окошках занавески — они, без сомнения, зашевелились бы.
Матвей пристроил пасти стадо своего племяша, который умудрился проспать часть поголовья. Ушли, утонули, черти унесли — хозяевам коров было всё равно — они пришли за кровью председателя.
Безбородько, опершись локтями на стол, закрыл ладонями уши, чтобы не слышать этого истеричного ора, и тут же кумушки изменились в лице. Внезапно в его кабинете тишина воцарилась сама собой.
В дверях появились люди в запыленных сапогах и с револьверами в руках.
«А ведь чекист Кондратьич из района только вчера предупреждал о бдительности», — промелькнуло в голове у председателя, судорожно пытавшегося вспомнить, куда же он дел ключи от сейфа.
— Товарищи селяне, прошу не рвать душу, берегите здоровье. Телефон есть? — зычный голос их главаря парализовал присутствующих на приёме у председателя и его самого.
— А… а вам позвонить? В райцентр? Так откуда такая роскошь… — покосился Безбородько на револьвер Задова. Скандалистки сидели напротив него и хранили гробовое молчание.
— Хорошо… — Лёва несколько секунд подумал и продолжил. — Ты тут власть?
— Ну я, да, — неуверенно ответил председатель, не понимавший, будут его стрелять за то что он власть, или за то, что у него нет телефона.
— Тогда смотри, власть. Мы тебе сдаём шесть револьверов, семьдесят два патрона и двенадцать гранат.
Через несколько секунд весь арсенал диверсионной группы лежал на столе у председателя.
— И сдаемся сами. Ну, хоть милиция у тебя тут есть, а, власть? — слова двухметрового человека вернули Безбородько к жизни, а кумушкам — способность дышать и разговаривать.
— Боженька, спасибо… — всхлипнула одна из них, и, не стесняясь председателя, перекрестилась, глядя сквозь окна сельсовета на купола местной церквушки.
Харьков. Губернский отдел ГПУ. 8 декабря 1924 г.
Василий Тимофеевич Иванов[44], начальник Харьковского губернского отдела ГПУ[45] предпочитал трубочный табак всякому другому. Махорка горло дерёт — от нее он надрывно кашлял, а папиросы, пересыхая, высыпались прямо в коробку, что неимоверно раздражало Василия Тимофеевича, любившего во всём порядок и систематизацию. Весь его внешний вид говорил о строгом характере — правильные черты лица, высокий лоб и аккуратные, ровные усы, над тонкими губами. Тяжело было себе представить, как этот человек улыбается — ни одной морщины, присущей жизнерадостным и улыбчивым людям, на его лице к тридцати двум годам не образовалось.
Несколько любимых трубок у него всегда лежали в левом верхнем ящике стола вместе с приспособлениями для их чистки. Там же хранился и табак, но сейчас его место было пусто. Последнее время коллеги из Одессы, знавшие о его пристрастии, хорошего табака не передавали.
«То ли заработались, то ли всех контрабандистов своих пересажали», — подумал комиссар ГПУ Иванов, попутно рассматривая аналитическую справку, составленную оперативными отделом по итогам полугодичной работы с бывшими махновцами.
День уже подходил к концу. Часы, висевшие в кабинете начальника ГПУ над входом, показывали почти четверть одиннадцатого вечера. По их стрелкам комиссар сверял пунктуальность подчинённых — это было очень удобно — сначала взгляд на сотрудника, потом — немного выше, на стрелки.
Раскурив в отсутствие трубочного табака папиросу «Нарзан» Донской фабрики, Василий Тимофеевич поморщился — разве можно этот вкус сравнить с божественным ароматом чуть-чуть влажного, крупной нарезки табака для трубок? Нет. Это все равно, что сравнивать видавшее виды фортепьяно в их ведомственном дворце культуры с театральным роялем.
Стук в дверь совпал с движением минутной стрелки к цифре 3 на циферблате часов.
«Разрешите, товарищ комиссар?» — спросил невысокого роста молодой человек в гражданской одежде с пышной шевелюрой и большими чёрными глазами.
— Да, заходи, Марк… — Начальник про себя в очередной раз отметил пунктуальность юного сотрудника. Тому всего-то был двадцать один год от роду, а в его личном деле послужной список уже был длиннее, чем у многих его старших товарищей.
Зная обыкновение комиссара первым начинать разговор, Марк Спектор, оперуполномоченный Харьковского ГПУ, присел в глубокое кресло, накрытое белым покрывалом, в ожидании вопросов Иванова.
Тот ещё некоторое время вычитывал докладную, а потом, сняв аккуратно круглые очки, обратился к своему молодому сотруднику:
— Товарищ Спектор… сколько Зиньковский-Задов уже у нас содержится?
— Полгода. С июня месяца. Доставлен тринадцатого числа. Ввиду отсутствия мест в камерах и необходимости его полной изоляции заключён в ванной комнате.
Вопросительный взгляд комиссара красноречиво выражал недоумение.
— Так точно, Василий Тимофеевич. Там на двери решетку установили, окон и так нет. Нельзя его было в общую камеру, а в карцере он бы не протянул, да и не за что его туда закрывать.
— Интересно… И как держится? — начальник корил себя за то, что редко бывает в изоляторе. Прошло шесть месяцев, а вот эту подробность с ванной комнатой он не знал.
— Сотрудничает, даёт много интересных подробностей, — ответил Марк.
— Вы уверены в его искренности? Не слишком ли доверяете? — профессиональная подозрительность была отличительной чертой комиссара Иванова, начинавшего свою карьеру в Революционном трибунале, а затем — в особом отделе ВЧК 8-й стрелковой дивизии.
Марк Спектор прекрасно понимал, что начальник ГПУ уже ознакомился со всеми материалами по делу, сведенными в одну толстую папку. И все эти вопросы, начиная с того, сколько Зиньковский-Задов находится в заключении — всего лишь, проверка его компетенции. Марк давно заметил эту особенность Иванова: он сначала сам приходил к какому-то выводу, а потом, путем опроса подчинённых, убеждался в своей правоте, а заодно и проверял, насколько глубоко они владеют темой.
— Все факты, подробности, касающиеся состояния дел и настроений в среде бывших махновцев в Румынии неоднократно проверялись, и могу утверждать — Зиньковский не врет, — уверенно отрапортовал Спектор.
— Каким образом проверяли? — Иванов опять надел очки и стал искать нужную страницу.
— Для начала отправили брата его, Даниила, в Плоешти. Потом еще Бойченко переправили в Бухарест. Этот там потерялся и судьба его нам достоверно не известна, но брат Задова вернулся! По материалам его отчетов понятно, что почти все махновцы, за единичными исключениями, готовы были бы вернуться на родину, если к ним будут применены условия амнистии, как и для остальных.
— Ишь ты… амнистию им подавай… — задумчиво проговорил почти шёпотом начальник ГПУ, перелистывая следующую страницу. — Этот хоть разговорился, полезную информацию даёт, а друзья его в Румынии что? Как тут спокойно стало, как жизнь начала налаживаться, так заскулили, суки? Подумаем ещё, нужны ли они здесь. У них всех руки по локоть в крови. Ну и что, что амнистия? Прощает всегда победитель. Только у него исключительное право на великодушие. Они бы нас простили, Марк?
— Не думаю, Василий Тимофеевич…
Марк Спектор имел право высказывать собственное мнение по заданным руководителем вопросам. Именно его всегда вызывал к себе Иванов, когда речь шла о махновцах. Спектор знал эту братию, как никто в ГПУ, и эту страницу своей биографии он, конечно же, не афишировал — информация для служебного пользования.
В кобуре Марка Спектора лежал именной наградной маузер, полученный им лично из рук Дзержинского в возрасте девятнадцати лет. «За заслуги перед органами ВЧК» — значилось в документах, а заслуги состояли в том, что под именем Матвей молодой оперативник-чекист служил адъютантом товарища Гордеева в политотделе… Нестора Махно.
Когда Лёва Задов появился в поле зрения Спектора, он тут же доложил руководству, что готов приступить к разработке, и рапорт его был удовлетворен. Иванов справедливо посчитал, что завидев знакомое лицо, Зиньковский-Задов откроется, будет более откровенным.
— Матвей… Марк… — Лёва долго привыкал к настоящему имени Спектора. В целом комиссар оказался прав в своих предположениях.
— У вас тут всё живенько решается, как я посмотрю, да, Марик? — спрашивал Лёва своего старого знакомца, сидя от него по другую сторону стола, на месте допрашиваемого.
— Ты о чём, Лёва?
— Да каждый раз, когда на прогулку выводят, во внутреннем дворе новые лица появляются, а людей, в общем, не прибывает. Куда старых-то деваете? В расход?
Не отрываясь от бумаг, Марк тогда ответил:
— Да по-разному… Кого по этапу, а кого и к стенке… В зависимости от заслуг каждого в отдельности.
— Ааа… — понимающе кивнул здоровяк, — Марк, у меня просьба будет.
— Какая?
— Когда поймёшь, что моя очередь подошла к стенке становиться, принеси мне водки. По-дружески прошу.
Сейчас Спектор задумался — а будь он раскрытым тогда, в двадцатом, долго бы размышлял Махно? Скорее всего — нет. Зная ненависть батьки к предателям, его мстительность, жить бы адъютанту Матвею оставалось всего пару часов, это в лучшем случае.
Раздумья Спектора прервала фраза хозяина кабинета:
— Доложите об этом эпизоде, с сокровищами и бумагами.
Собравшись с мыслями, Марк вспомнил тот день и в деталях описал поведение Зиньковского-Задова на допросе.
— Я несколько дней подводил его к теме награбленного, и он сам раскрыл место схрона. Ещё уточнил, что там под чугунным казаном закопан перемотанный мешковиной жёлтый портфель.
— Тот, который оказался пустым? — закуривая следующую папиросу, уточнил комиссар.
— Так точно, Василий Тимофеевич. Зиньковский рассказал дальнейшую судьбу бумаг из этого портфеля, это всё детально изложено в протоколе допроса. Страница дела номер четыреста шестнадцать.
Иванову потребовалось некоторое время, чтобы пролистать до нужной страницы:
— Расписка на сто тысяч марок… Роспись о расходах средств… Вексель на семьдесят тысяч марок…. Опять отчёт. Агентурная справка… Запрос о финансировании деятельности Л. Троцкого через Александра Парвуса… Ну и сумма… Аналитическая записка о целесообразности содержания агентуры в рядах высшего руководства РСДРП и увеличении расходной части от марта 1917 года… Тут работа целого управления разведки.
— Так точно, товарищ комиссар. Достоверно установлено, что этот портфель попал к Махно от Никифора Григорьева. Как он у того оказался — выяснить не представляется возможным. Все ниточки оборваны.
Тщательно взвешивая каждое слово, начальник ГПУ говорил медленно и с некоторой долей раздражения в голосе.
— Руководство ОГПУ и лично товарищ Дзержинский крайне озабочены появлением этой оперативной информации, и это вполне объяснимо. Когда неизвестно в чьих руках находятся документы, порочащие имена высшего руководства Советского Союза, совершенно нет времени разбираться даже в их подлинности. Пока они где-то хранятся, ждут своего часа и перед нами поставлена задача выяснить, кто и для чего их держит при себе, естественно — где. Мы должны обеспечить непорочную чистоту имени товарища Ленина и товарища…
Фамилию Троцкого Иванов не стал произносить в этом ряду, ибо сейчас, в декабре 1924-го, начальнику Харьковского ГПУ стало совершенно очевидно, что Лев Давидович проиграл свои битвы на всех фронтах, внешних и внутренних, и до его смещения с постов наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета остались считанные недели.
— … и не допустить никакого скандала или шантажа со стороны вражеских сил.
— Отчётливо это понимаю, Василий Тимофеевич, — отреагировал Марк на длинную официальную реплику комиссара Иванова, — на первые два вопроса у меня ответ есть. Бумаги у Махно, и хранит он их для того, чтобы торговаться с нами. А вот на третий вопрос ответа у меня пока нет…
Комиссар встал, подошел к окну, сквозь замёрзшие стёкла которого в морозной дымке светились огни ночного Харькова, и, заложив руки за спину, некоторое время молча думал.
— Разрешите предложение, товарищ комиссар?
— Докладывайте, — не поворачиваясь, произнес комиссар.
— Нужно Зиньковского-Задова отпускать.
— Марк! Я сейчас говорю о вещах более сложных и принципиальных, чем судьба этого беглого махновца! У тебя не о том голова болит, Марк! — вспылил начальник.
— Как раз именно об этом я и хотел продолжить, если позволите. — Природная воспитанность сохранилась у Спектора даже после пребывания в рядах батькиных войск. — Он только оттуда, из Румынии. В нашем деле это плюс. Он лично знаком и с Нестором, и с Галиной, которой собственноручно отдал пачку бумаг на переправе. Это второй плюс. Он знает каждого из семидесяти семи человек, переправившихся в Румынию, и они ему доверяют — третий плюс. И он с двадцатого года поддерживал связь с нашим сотрудником — Петром Сидоровым-Шестёркиным, который уверенно утверждает о его полной лояльности.
— Завербован был, что ли? — оживился в голосе начупр.
— Не совсем, товарищ комиссар… Никаких оперативных заданий Сидоров-Шестеркин ему не давал. У них не было постоянного канала связи, но при необходимости Зиньковский помогал некоторой информацией о планах Махно. Особенно на последнем этапе его странствий по Украине. Пётр и Лёва — старые друзья. Еще с Юзовки. Анархисты-коммунисты. Только один остался анархистом, а второй — коммунистом.
— Что предлагаете, Спектор? — металл в голосе комиссара говорил о том, что он всё еще находится в стадии глубоких размышлений.
— Предлагаю Задова и его брата Даниила обкатать здесь, в Харькове, на предмет оперативной смекалки и основ следственной работы, а потом — отправить по нашей линии поближе к Румынии. Уверен, проблем не будет. Какой-никакой, но он был у Махно в контрразведке. Пусть занимается, поднимает свои старые связи, людей, а там, глядишь, и выплывет что-то. Круг причастных не так уж велик… Тем более свою лояльность он уже доказал — схрон откопали, а мог же себе приберечь на чёрный день…
— Ты, Марик, меня иногда умиляешь… — Василий Тимофеевич резко сменил тон. Это означало, что он уже принял решение. Начупр так обращался к молодому оперативнику только в том случае, если дело складывалось, и вырисовывались хорошие перспективы. — Попробовал бы он смолчать про казан этот… Чёрный день у него настал бы немедленно… Хорошо. Завтра утром подпишу, готовь бумагу. Под твою ответственность.
Спектор расстегнул папку, в которой поверх остальных документов лежала заготовленная им заранее бумага:
— Я прошу сегодня, товарищ комиссар, — лист лёг на стол начальника ГПУ.
— Марик… начало двенадцатого…
— Полгода в ванной, товарищ комиссар. Я сам его сегодня же выпущу.
— Ладно. Только за твою сообразительность и дальновидность, — начупр взял перо, окунул его в чернила и поставил внизу справа свою размашистую подпись.
— Разрешите идти? — Спектор встал и выпрямился по стойке «смирно».
Спустя тридцать минут самый молодой сотрудник из личного состава Харьковского губернского управления ГПУ, предъявив все необходимые документы, уже стоял перед «камерой» Лёвы.
Дежурный отпер замок металлической решетки и удалился — в соответствии с полученным приказом заключенный дополнительной камеры номер 2-а покидал следственный изолятор в сопровождении следователя Спектора.
— Ну, я тебя поздравляю, Лев Николаевич! Есть повод выпить! — с этими словами Марк вошел в ванную и достал из портфеля бутылку водки.
Задов изменился в лице.
— Вот уж не думал, что это тебе доставит такую радость, Марк…
— А чего печалиться? Все решено, — Марк взял алюминиевую кружку со стола и вскрыв бутылку, налил туда на пару добрых глотков. — Поздравляю. Пей.
Лёва несколько секунд молча смотрел на кружку с водкой, потом на его каменном лице появилась какая-то неуловимая нота сожаления и отчаяния, но Задов не дал волю эмоциям, а молча взял кружку и выпил её залпом.
— Веди. Странно только, что не на рассвете. Вы же рано утром расстреливаете? — Задов сложил руки за спиной и стал перед дверью лицом к коридору.
— Лёва, ты чего это… — только в этот момент Марк вспомнил его просьбу: «Когда поймёшь, что моя очередь подошла к стенке становиться, принеси мне водки». — Вот я дурень, а? Лёва, сядь. Я с хорошими вестями. Всё наоборот. Это не расстрел, это свобода.
Задов повернулся к Марку лицом, всё ещё не веря в происходящее.
— Тогда наливай остальное…
Вольный город Данциг[46]. 25 января 1925 г.
Для Нестора настали чёрные дни. Польша больше не могла служить безопасным местом для вождя анархистов и его семьи, получившей прибавление. Галина с ребенком, измученная постоянным безденежьем и полицейским надзором, таки подчинилась своему материнскому инстинкту и во имя будущего дочери решила уехать в Париж, оставив в прошлом революционный энтузиазм и жажду изменения мира для всеобщего равенства и братства.
Даже самый преданный из соратников, адъютант Иван Лепетченко, и тот не вынес напора обстоятельств.
— Нестор, я не вижу здесь будущего. Так больше жить невозможно. Ни цели, ни мечты, ни родины, ни денег… Считай, что я сдался, — заявил однажды ему Иван без предупреждения.
Махно накрыл такой приступ ярости, что Лепетченко предпочёл ретироваться без дальнейших пояснений в сапожную мастерскую.
— Иуда! — услышал он вслед, но было уже поздно. Иван Лепетченко получил от советского консульства разрешение на въезд в Украину.
Нестор редко выходил в город — только по крайней необходимости, в лавку за продуктами и керосином, иногда — купить клей, нитки, обрезки кожи и газету.
Сырой подвал, в котором обжился бывший атаман армии в сто тысяч сабель, имел только одно маленькое оконце на уровне тротуара, да и то на северную сторону. Металлическая кровать, умывальник, в который нужно было носить воду вёдрами из внутреннего двора, а потом выносить помои, потёртый сервант, содержимое которого составляли две металлические миски и одна кружка — это был весь интерьер более чем аскетического его жилища. Верхнюю одежду — шинель и серый пиджак с прохудившимися и вздувшимися на локтях рукавами — Махно вешал на большие столярные гвозди, что используются для сбивания перекрытий кровли. Их он вбил в лутку по обе стороны от двери на высоте своего роста.
Те гроши, что ему удавалось зарабатывать, Нестор добывал сапожным ремеслом, благо удалось недорого купить и лапу, и шило, и набор крючков у старого еврея с первого этажа, что уехал с семьей в Варшаву.
Человек должен что-то уметь делать руками — в этом Нестор был убежден. Теоретиков, философов и учёных Махно воспринимал как идеалистов, полностью оторвавшихся от реальности, а его реальность — вот она: запах кожи, сапожного клея и крыса, пробравшаяся сквозь щель под дверью в напрасных поисках еды. В таких условиях мысли приходят здравые, отчаяние уходит на второй план, ум отвлекается на работу и не дает зачахнуть телу.
Дверь в его подвал открывалась редко — Нестор заказы брал только от соседей по дому и от узкого круга их знакомых. Брал недорого, делал качественно, за пошив старался не браться — всё больше тачал подошвы, да каблуки набивал.
Когда в его подвал без стука вошли трое модно одетых людей в пальто с меховыми воротниками и шляпах, Нестор насторожился, нащупав правой рукой на кровати сапожный нож.
Мужчины осмотрелись, убедившись, что в помещении больше никого нет, и спустились по ступеням вниз к хозяину.
— Добрый день, Нестор Иванович… мы к вам по делу — начал разговор один из них на польском языке.
— Не брал я у вас никаких заказов. Ваши штиблеты требуют лака, а у меня его нет, — пробурчал в ответ по-русски Махно, обратив внимание на типажи молодых людей.
Умение разбираться в лицах много раз помогало атаману безошибочно определить, кто перед ним — простак с околицы или провокатор. Троица гостей оставила о себе с первого взгляда однозначное впечатление — правильные черты лица славянского типа, цепкие взгляды, ходят так, что будто прикрывают друг друга. И руки в карманах.
«Дилетанты… Вырядились в пальтишки европейского покроя, а рожи рязанские, чекистские…» — подумал Нестор, сжимая под боком остро отточенный нож, изготовленный из автомобильной рессоры с ручкой, обмотанной кожаной лентой.
— Да вы не нервничайте так, Нестор Иванович… мы не за обувью, — успокаивающе сказал один из них уже на русском, по всей видимости — старший.
— Нож отложите в сторону, — мужчина достал руки из карманов и показал ладони. Пальто расправилось, и Нестор несколько успокоился — если бы в наружном, или внутреннем кармане был пистолет, то он бы его без сомнения заметил, — уж очень по фигуре было оно подогнано.
— Чем обязан землякам своим? — с ухмылкой спросил Махно.
— У вас сохранилось острое чувство опасности, как я вижу, — заговорил с хозяином подвала второй гость, — вы живете в постоянном напряжении, не устали?
Один из мужчин присел на единственный табурет в помещении. Другие двое продолжали стоять, только сделали шаг в сторону кровати, на которой сидел Махно, чтобы отрезать ему пути к отступлению.
О каком бегстве могла идти речь? Полуголодный, чахлый мужичок ростом метр шестьдесят против троих откормленных специалистов?
Шансов не было совершенно, и Нестор справедливо решил выслушать незваных гостей, тем более что пока они признаков агрессии не проявляли, за исключением того, что третий подошел и вежливо забрал сапожный тесак. Теперь у хозяина не оставалось ни единого орудия для противостояния, ни ножа, ни табурета. Сапожная лапа крепилась к тяжелой чугунной станине и её не то что бросить — сдвинуть с места было тяжело.
— Раз уж вы такой наблюдательный, представимся: мы из советского торгпредства в Берлине, — прервал довольно длительную и напряженную паузу старший, сидя на табурете.
— Искренне удивлён, товарищи! Искренне! — неожиданно звонким голосом заявил хозяин подвала.
Иногда, на подпитии, Нестор любил пародировать Ленина, а так как он лично с ним общался в 1918-м и был тоже небольшого роста, то это ему даже в некоторой степени удавалось. По крайней мере, братья по оружию и Галина заходились от хохота.
Сейчас эта фраза, произнесенная почти фальцетом, не несла никакого комизма. Гостям стало понятно — сапожник находится в чрезвычайно возбужденном состоянии и очень нервничает.
— Чем обязан, я спрашиваю? — еще громче прокричал Нестор.
Один из мужчин аккуратно, так, чтобы поменьше скрипеть половицами, поднялся к входной двери и приложил к ней ухо, дабы убедиться, что в парадном случайно проходящих соседей нет и никто не полюбопытствует, почему обычно тихий и невзрачный сапожник орет на русском языке в своём подвале.
— Если вы будете так непродуманно себя вести, то у нас есть полномочия…
— Какие? Какие у вас полномочия? Застрелить? Придушить? Или кастрировать? Пуганые мы! — продолжал бесноваться Нестор.
На его шум никто в доме не обращал внимания — в середине рабочего дня в своей квартире находилась только пани Качмарек, но она жила двумя этажами выше и была в силу возраста безнадёжно глуха.
— Товарищ Махно! Так, кажется было принято обращаться к вам в повстанческой армии? — Оборвал его истерику старший. — К чему этот цирк? Если бы имели целью вас устранить, то, скорее всего, вы уже бы и звука не издали. Так?
Нестор молчал, а руки его подрагивали от немощности положения и бессильной злобы. «Эх… я бы вас в двадцатом…» — подумал Нестор, но тут же попытался себя сдержать, осознавая всю уязвимость своего положения.
— Успокойтесь, Нестор Иванович, успокойтесь. Воды дать? — старший, не дожидаясь ответа хозяина подвала, встал, зачерпнул алюминиевой кружкой из полного ведра воды и подал сапожнику.
Махно сделал два больших глотка и отставил кружку в сторону на пол. Прохладная жидкость немного привела его в чувство, вернув способность к самоконтролю.
— Вот… другое дело… — с насмешкой сказал третий, спускаясь так же аккуратно с лестницы.
— Я вижу, из какого вы торгпредства, я вашего брата за версту чую. Гэпэушники! — опять завизжал Нестор.
— Если вам так спокойней, мы вас разубеждать не будем, но всё же гляньте. — Старшего уже порядком утомили эти эмоциональные всплески. Он медленно, чтобы сапожник не подумал ничего лишнего, запустил во внутренний карман два пальца руки и аккуратно достал оттуда удостоверение сотрудника торгового представительства СССР, заполненное на немецком и русском языках.
— И что? А настоящий мандат где?
Не обращая внимания на словесный поток со стороны кровати, старший решил приступить к делу:
— В наши полномочия входит предложить вам беседу в посольстве. О вашем будущем беседу.
— А чего втроем? Боялись не справиться? Боялись показаться неубедительными? — Не успокаивался Нестор.
— Таковы инструкции. К вашему вопросу это не имеет никакого отношения, — в очередной раз попытался успокоить сапожника старший.
— Какое посольство? В Берлине?
— Абсолютно верно, Нестор Иванович. Вот видите, к вам возвращается способность трезво размышлять и взвешивать ситуацию.
— У меня виза в вольный город Данциг. Я в Германию визы не имею.
— Это не самая большая проблема, у нас дипломатический автомобиль. Нас не останавливают.
Мысль о Берлине как о центре событий и политической жизни Нестора терзала давно. Там расположились немногочисленные его единомышленники из числа теоретиков анархизма, там, в конце концов, был шанс найти поддержку не только моральную, но и материальную. В этой проклятой дыре, в этом чёртовом подвале, Нестор чувствовал, как буквально физически гниёт и теряет рассудок, но даже для нелегального перехода границы с Германией у него не имелось лишнего гроша.
— По какой причине Советы так заинтересовались моим будущим?
— А это я знаю лишь в общих чертах, Нестор Иванович. Вашим однополчанам и сподвижникам уже давно объявлена амнистия и многие этим воспользовались. То, что вас не будут преследовать на родине — это точно. В остальном же делайте выводы сами. У вас будет время спокойно всё обдумать и принять взвешенное решение после беседы с полпредом в Германии Николаем Николаевичем Крестинским.
«Лёвка ушел с братом… Вестей нет, да бог его знает, почему… Лепетченко вон собрался тоже… Про амнистию все гутарил… может, и правда не брешут?» — задумался Нестор, но его мысли были не о возвращении на Украину, а об искренности визитеров. Своей целью Махно по-прежнему видел Берлин.
Заметив, что сапожник занят глубоким мыслительным процессом — взгляд Нестора был устремлен в одну точку и несколько рассеян, сотрудники торгового представительства посчитали нужным его с раздумий не сбивать. Пусть сам даст ответ, а потом они будут действовать в зависимости от его решения, по обстоятельствам.
— Хорошо, а если я согласен, как я в Германии легализуюсь?
— Ну, тут два варианта… Если после беседы с полпредом вам будет предложена деятельность в Берлине и вы согласитесь, то документами мы вас обеспечим. В конце концов, вы же гражданин Советского Союза…
— Я в двадцать первом ушел, ещё не было Советского Союза!
— Это не так важно, у нас есть опыт легализации нужных людей в Европе.
— Ну, и второй вариант? — полюбопытствовал Махно, уже начавший всерьез интересоваться перспективой выбраться из ненавистного подвала.
— А второй — это ваше возвращение домой на условиях вашей востребованности в Союзе. Конечно, опять же, с легальными документами.
— Мягко стелете… — Нестор, просчитавший уже свою дальнейшую линию поведения, ерепенился для приличия, чтобы не вызвать подозрений. Берлин. Ему очень было нужно в Берлин. И не в посольство, а к своим. Пока что нужно начать, а там, как на каторге говаривали, «как пика разложится».
— Нас предупреждали, что вы персонаж крайне осторожный, так что, если мы были не убедительны, то простите, — старший поднялся с табурета и стал надевать свои лайковые перчатки. Теперь он играл на нервах Нестора.
— Вам сколько времени нужно для того, чтобы определиться? Месяц? Два? Полпред — человек крайне занятой, не знаю, когда нам прикажут следующий раз за вами прибыть в этот подвал…
Нестор понял, что теряет шанс. Да, можно было бы навести справки, узнать состояние дел в Берлине, в Союзе. А что, если они действительно сейчас уйдут? Отчитаются перед начальством, что не застали дома — и всё…
— Чёрт с вами… — Нестор встал с кровати, допил воду в кружке и поставил её в буфет. — Поехали к вашему постоянному представителю.
К своему удивлению Махно при выходе из подвала на улицу обнаружил два автомобиля последней марки Опеля. За ярко-зеленый окрас они сразу получили прозвище «Laubforsch» — лягушонок. Еще более задумался Нестор, когда обнаружилось, что авто были двухместными. Значит, сотрудники торгового представительства были уверены в успехе своей миссии, когда отправлялись его уговаривать втроем. А если бы он категорически отказался? А если бы пришлось везти оглушенное и связанное тело?
«Хорошо… пока это повод для размышления и своих планов я менять не буду», — с такими мыслями Махно сел в автомобиль, за рулем которого расположился старший.
— Поедем вперед, а коллеги заедут еще в пару мест и потом нас догонят, — сказал старший, обратив внимание, что Махно смотрит за дверью подъезда, из которой так и не вышли двое других сотрудников торгпредства.
До границы с Германией от Данцига было немногим более часа пути. Новый двигатель Опеля издавал приятный рокочущий звук, который потихоньку стал убаюкивать Нестора.
«Первым делом — найду старика Аршинова[47]. Разберемся в раскладе сил — и в бой! Соскучился за хорошей дракой. Я вам условия буду выдвигать, а не вы мне… Полномочный представитель, ты ж посмотри… Придется ему рассказать, как с Лениным за руку здоровался», — к Нестору, оказавшемуся в новой, динамичной обстановке, вернулась былая острота мысли.
Впереди показался полосатый шлагбаум и сторожевая будка немецкой пограничной службы. Офицер в матовой каске проверял документы каких-то пешеходов и, закончив с ними, дал команду солдату пропустить их дальше. Автомобилей перед постом не наблюдалось, так что первая машина прикатилась сразу на проверку документов. Водитель — тот, что поднимался в подвале к двери, предъявил пограничнику какую-то бумагу и шлагбаум поднялся. Настала очередь «Лягушонка», в котором ехал Нестор.
«Крестинский… Николай Николаевич. Полномочный представитель…» — крутилось в голове у Нестора. Он совершенно недавно эту фамилию слышал. Нет. Видел. Читал. В письме друга Аршинова. Тот сетовал, что пытался записаться на приём к полномочному представителю Крестинскому. Ему не отказали, но поставили дату аж на середину февраля… Аргументировали тем, что полпред занят в Москве и в Лиге наций в Женеве.
А письмо от Петра Андреича получил позавчера, и еще письмо шло некоторое время из Берлина… Так на приём к кому его везут эти «торговые представители»? Бежать. Бежать, пока не поздно.
— Hilfe![48] Hilfe! — закричал Нестор, вывалившись из машины на землю.
Спотыкаясь, и падая, он устремился к пограничной будке, где его уже ждал солдат с примкнутым к винтовке штыком. Ощутив сквозь шинель его остриё, Нестор остановился и поднял руки вверх. Границу он так и не пересёк, а с другой стороны к нему уже двигались двое полицейских.
— Обратите внимание на этого умалишенного, герр майор! — громко прокричал старший, чтобы офицер пограничной службы Германии мог его расслышать сквозь шум двигателя Опеля. Одновременно со своими словами он предъявил такую же бумагу, как и водитель первого авто.
Майор жестом скомандовал поднять шлагбаум для пропуска автомобиля.
— Присмотритесь к нему, он ненормальный! Запрыгнул в машину, выскочил из машины, совершенно не в себе. Скорее всего, и аусвайса у него нет! — Воскликнул старший в адрес офицера, эмоционально размахивая левой рукой.
— Я вижу, проезжайте быстрее! — майор-пограничник был немногословен с водителем дипломатического автомобиля…
«При прохождении пункта пограничного досмотра объект вышел из-под контроля и остался на территории «Польского коридора». Достоверно известно, что никаких документов, либо личных вещей, в которых было бы возможно их спрятать, при нём не находилось. При осмотре жилого помещения, которое занимал объект, не обнаружено ничего, кроме личных вещей и сапожного инструмента. Каких-либо тайников, схронов и прочих возможных мест скрытого хранения бумаг так же не установлено. Осмотр производился сотрудниками ОГПУ Тимченко и Черных» — Дзержинский раздраженно бросил на стол телеграмму из Берлина.
Взять Махно и его документы «в лоб» не удалось. Теперь оставалось надеяться, что он не будет глупить и оставит их у себя для обеспечения собственной безопасности. Впереди предстояло очень много работы…
Одесса. Улица Энгельса. Губернский отдел ГПУ. 15 апреля 1925 г.
Перечитывая при свете настольной лампы справку на нового сотрудника, Леонид Заковский, начальник Одесского губотдела ГПУ, несколько раз возвращался к фразе: «анархист-коммунист с дореволюционным стажем».
«Интересно, что написано в моём деле», — улыбнулся Заковский. В возрасте семнадцати лет он сам являлся активным членом Либавской[49] анархической ячейки и был известен в Курляндском губернском жандармском управлении как Генрих Штубис — неблагонадежный юноша, достойный гласного надзора и, по некоторым праздничным датам — персонального филёра.
Биография будущего оперативника Зиньковского мало чем отличалась от остальных личных дел сотрудников губотдела. В это время никто не удивлялся ни крутым поворотам судеб, ни резким взлётам или падениям — несмотря на сложность и ответственность, на этой работе часто оказывались и случайные люди. Среди оперсостава числились несколько бывших рабочих порта, один сапожник и даже кондитер, посчитавший невозможным больше месить тесто, когда мимо него проходит сахар вагонными нормами.
На фоне этой пёстрой публики Лев Зиньковский-Задов, прикомандированный в распоряжение Одесского губотдела ГПУ, мог небезосновательно считаться опытным, перспективным кандидатом.
«В бытность в Революционной повстанческой армии Украины (РПАУ) под командованием Нестора Махно курировал вопросы контрразведки и, на заключительном этапе пребывания Махно в СССР — его личной безопасности. В поле зрения органов ВЧК — ОГПУ находится с 1920 года», — значилось в следующем абзаце. «Обладает навыками оперативной работы, коммуникабельностью, легко входит в доверие. Осторожен. По результатам проверки Зиньковский (Задов) Лев Николаевич рекомендован к работе в органах системы ОГПУ».
Начальник Одесского ГПУ встал, налил себе из графина стакан воды и подошел к открытому окну. Там, в ночной тишине города, отчетливо слышались сигналы клаксонов редких автомобилей, цокот копыт битюга, медленно тянущего по мостовой повозку с пустой бочкой от воды и далекий шум работы портовых кранов, состоящий из металлического скрежета, лязганья цепей и гудков буксира. Это были звуки размеренной городской жизни, той жизни, которой так не доставало одесситам многие годы.
Одесса приходила в себя после бесконечной смены власти в начале двадцатых, после крови Гражданской войны, беспорядков, мародёрства и оголтелого бандитизма. Одесса подсчитывала убытки, оплакивала погибших и надеялась, что худшие времена остались позади, но в здании ГПУ на улице Энгельса этот оптимизм не разделяли.
Опыт чекиста Заковского, до сих пор никогда не считавшегося ни со смертями, ни со справедливостью, подсказывал, что его беспощадность, порой переходящая в необъяснимую для него самого жестокость, еще не раз пригодится зарождающейся системе. Единственное, что его пока смущало, — это дефицит людей, способных откинуть предрассудки, связанные с гуманностью, и без раздумий открыть кобуру.
«Судя по справке, новый сотрудник, этот… Зиньковский, приходится очень кстати. Нужно будет его в деле сразу проверить, чтобы потом не разочаровываться», — раздумывал начальник, пытаясь в маленькой, чёрно-белой фотографии, приклеенной в правом верхнем углу первой страницы личного дела разглядеть такие нужные ему черты характера — латыш Штрубис с юности славился каким-то звериным чутьем на людей. Первое его впечатление о человеке, сложившееся после взгляда, в подавляющем большинстве случаев оказывалось правильным, и не только он сам, но и его подчиненные полностью доверяли дару физиономиста Леонида Заковского.
— Леонид Михайлович, прибыл новый сотрудник с предписанием, — доложил подуставший в конце дня адъютант.
— Да. Пригласите, — кратко ответил Заковский, усаживаясь за свое рабочее место. Первым делом он собрал бумаги в папку и положил её в ящик справа, чтобы на них не упал посторонний взгляд. Стол, обитый зеленым сукном, теперь был занят только покрытой фигурным плафоном лампой, да громоздким канцелярским набором, выполненным из серебра и уральского малахита.
— Можно? — Сквозь свет настольной лампы — единственного источника света в большом кабинете, погруженном в полумрак, на фоне двери просматривалась фигура визитёра.
«Нет… Он уже не военный. А может, и не был ним никогда. Какая дисциплина могла быть в частях анархистов? Никакой. Ну что такое “можно”. Можно, если осторожно», — Заковский по первой же фразе начал формировать для себя впечатление о новом сотруднике.
— Проходите, присаживайтесь, Лев Николаевич! — громко сказал хозяин кабинета, с первой секунды дав понять новичку, что ему о нём всё известно.
— Прибыл в ваше распоряжение в соответствии с предписанием! — на этот раз Лев Задов, глаза которого спустя несколько секунд приспособились к полумраку кабинета, рапортовал чётко в адрес руководителя и тон его был подобающим, по-военному чётким.
«Вот… Это другое дело», — подумал начальник ГПУ.
— Прошу, — Заковский указал на кресло, стоявшее по другую от него сторону стола.
Комиссар демонстративно опять достал папку и, теперь уже в присутствии начал пролистывать личное дело новичка:
— Вижу, жизнь вас покидала, Леонид Николаевич…
— Так точно, товарищ комиссар. Было дело, — Задов отвечал быстро и чётко.
После всех его злоключений в Харькове, он дал себе слово, что слабины больше не даст. Особо Лёва для себя отметил стиль общения в среде чекистов. Он не имел ничего общего с тем, как разговаривали и принимали решения у батьки — никаких разглагольствований и лишних эмоций. Есть враг, и его нужно давить — вот единственная, превалирующая эмоция. Возможно, именно благодаря этой организованности и жесткости большевики одержали верх в противостоянии с атаманом — рассуждал тогда в заключении Лёва, а Махно — далеко не безобидный утопист. Он видел кровь, он её проливал, не раздумывая, когда считал нужным, но большевики всё равно оказались в дамках на всех фронтах, что подтверждало — во времена перемен побеждает тот, кто незнаком с угрызениями совести. Значит, и ему, Льву Задову, следует принять за основу этот стиль жизни и работы.
— Читали Бакунина[50]? — неожиданно оторвав взгляд от личного дела, Заковский внимательно следил за реакцией и мимикой своего нового сотрудника.
— Приходилось. В юности мы все находимся в поиске истины, и это была одна из таких попыток, — не дрогнув лицом, ответил Лев Задов.
«Не юлит, это показательно… Хотя после полугода допросов в Харькове его наверняка наизнанку вывернули», — во время следующей паузы в разговоре начальник ГПУ анализировал каждое слово Задова. Ему было важно понять, насколько он может доверять новому оперативному работнику — те задачи, которые ему самому вчера поставило руководство, были довольно щекотливого свойства.
«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», — размышлял Заковский над свежим приказом из Москвы, в котором ему предписывалось силами отдела иностранной разведки организовать на территории Румынии поиск неких документов Нестора Махно, компрометирующих высшее руководство страны и партии. Поэтому, когда следом за приказом ему принесли дело Задова, он совершенно не удивился — бывший махновец, прикомандированный к его управлению, мог бы справиться с такой задачей. По крайней мере, чрезвычайно облегчил бы её выполнение.
— В вашем деле значится, что опыт работы в контрразведке у вас, Лев Николаевич, имеется… — многозначительной фразой продолжил знакомство Заковский.
— Так точно. Имеется. Замнач махновской контрразведки.
— Сколько же на вашем счету разоблаченных агентов, шпионов? — с ухмылкой поинтересовался начальник.
— Я учет не вёл. Времена шальные были. Кто наши, кто нет — с ходу не разобраться. Махно с большевиками два раза в союз вступал. Время всё по местам расставило, — уклончиво ответил Задов.
— Приходилось лично расстреливать? — не изменяя интонации, как о чём-то обыденном спросил начальник ГПУ.
— Приходилось.
— И как, как потом спали? — тон Заковского стал несколько наигранно-весёлым. В своё время он этот экзамен сдал сам себе на «отлично» — даже водки не выпил перед сном, а просто лёг на кровать и накрылся одеялом. Вроде сны какие-то даже видел.
— Да как… Обычно. Чего я должен терзаться по поводу судьбы деникинцев?
— А большевиков приходилось расстреливать? — поинтересовался Заковский.
— А кто ж его знает? К нам лазутчиков без партбилетов посылали.
«Не из пугливых… ответил сразу», — Заковский в уме раскладывал Задова по полочкам.
Неожиданно Лёва взял инициативу в свои руки. Этот тон, эта подозрительность его доводили до белого каления:
— Скоро будет год, как мне задают такие вопросы. Сотни раз спрашивали. Потом проверяли месяцами. Потом опять допрашивали. В итоге я здесь. Как сами-то думаете, вам подмогу прислали или шпиона?
— Думаю, что с местной публикой вы, Лев Николаевич справитесь… Это без сомнения, — задумчиво и негромко произнёс комиссар, роясь в бумагах и не придавая значения сказанному — этот взрыв эмоций был ожидаем, он его и провоцировал. Заковского интересовало только время и место. Задов откладывать в долгий ящик не стал и расставил точки над «i» сразу, что начальника ГПУ тоже устроило, да и было бы странным ожидать от этого двухметрового рыжего верзилы невнятных слов, опущенного в пол взора и покаянных речей. Нет. Он пришёл доказывать свою нужность, отрабатывать грехи и биться за место под солнцем. А солнце в Одессе может быть испепеляюще жарким.
— Но местная босота, это так… семечки. Вас, Леонид Николаевич, коллеги введут в курс дела. Контрабандисты все на крючке. Сами понимаете, Одесса — это в первую очередь контрабанда. Во все времена так было. У них это в крови. Пересажали, конечно, основных, но некоторых и пощадили. Не исключаю, что единицы контрабандистов нам еще неизвестны, но это погоды на общем фоне не делает…
— Я информирован, что предстоит задача по созданию агентуры в Бухаресте, — попытался прервать Заковского новый сотрудник.
— У нас не обманывают. По крайней мере, в своём кругу. С окружающим миром мы ведем оперативные игры. Надеюсь, вы не считаете, что я вас обманываю?
Лёва несколько смутился. Всё-таки его прямолинейность обнаружила некоторую неопытность, следовало дослушать мысль Заковского до конца.
— Так вот, — продолжил начальник ГПУ невозмутимым тоном. — У вас же есть опыт создания разведгрупп? Кого вы там к Деникину засылали?
И на этот вопрос Лёва отвечал неоднократно:
— Стариков и пацанов на подводах. Будто дед с внуками на базар едут, или к родичам. У дедов вид порой бывает жалкий, одевали в лохмотья, а у мальчишек память крепкая. И писать ничего было не нужно. Кто этих немощных на дороге тронет? А колонну кавалерии с точностью до пары коней мне пересчитывали, — Заковский понял, что затронул одну из любимых тем Задова. Когда об этой его методе проведения разведки доложили Михаилу Фрунзе, он устроил разнос своим штабистам: «Просто и в некотором роде даже примитивно! Но как действенно!»
— Остроумно… Но я удивлён, что вы так непосредственно восприняли мои слова о контрабандистах. Если вы знакомы с поставленной задачей, то может быть, имеете какой-то план действий? Уж не собираетесь ли по дипломатическим каналам агентуру запускать? — Заковский был в своей стихии.
— Напротив, где ОГПУ и где дипломаты? Да и где их в Одессе найти? Нет. Будем решать подручными средствами, — отреагировал Задов на замечание начальника.
— Вы на правильном пути, но я вас прошу, никогда не делайте поспешных выводов, вам ещё опыта маловато, чтобы на интуицию полагаться. И во всём со мной советоваться. Ясно?
— Ясно, чего уж там неясного…
— Ваше анархическое прошлое, а скорее — ваш вольный склад мысли на нашей работе может сыграть плохую службу. Погорите, либо вы, либо ваши люди. Я вот поборол себя, встроил свою мысль в общий процесс…
Заковский ощутил на себе вопросительный взгляд Задова:
— Да, да… Не удивляйтесь. Я тоже читал Бакунина, я тоже занимался поиском истины, — улыбнулся комиссар.
— Тогда вы меня поймёте, Леонид Михайлович, — негромко, но отчётливо произнёс Задов.
— Без сомнения. Но вернемся к нашим контрабандистам. Вернее — к вашим уже. Считайте эту идею подарком. Они снуют туда-сюда, просачиваясь через любую щель, словно вода. Они уже давно прикормили румынских пограничников. Это идеальные связные. Их круг общения огромен, но они стараются быть в тени. Их дом здесь, а работа — там. Они знают, что вы здесь можете лишить их всего. Потому будут служить как сторожевые псы. При этом еще и привезут, что скажете. Не отказывайте им в этом удовольствии.
— А как же «чистые руки и горячее сердце?» — искренне удивился словам начальника Лёва.
— А вы руки не пачкаете, Лев Николаевич. Вы ещё познакомитесь с одесситами. Их легко обидеть, особенно — отказом. Потому и говорю вам — не стоит их обижать. «Не нужно строить из себя фифу», — так вам скажут вслед. С ними проще жить по их правилам. Тогда они вас, может быть, и подпустят к себе и к своим тайнам. Считайте, что вы с ними играете. И по правилам этой игры — вам нужно будет в некоторых случаях свою неподкупность спрятать в дальнюю кладовку, иначе вам никто руки не подаст в Одессе. Это ясно?
— Разберусь. За подсказку — спасибо. Когда можно приступать?
— Завтра уже. Утром и приступите. Совещание в восемь.
— Разрешите идти?
— Идите, Зиньковский…
Лёва встал, направился в сторону выхода из кабинета и уже взялся за ручку массивной дубовой двери, как вдруг сзади раздался негромкий голос:
— И дам вам ещё один совет: присматривайте за супругой Верочкой. В среде чекистов не принято жён отбивать. Если она пошла за вами, значит, в некоторой степени легкомысленна. А тут публика не только денежная, но и темпераментная. Южный город, знаете ли…
— А я в ней уверен, как в себе! — ответил Задов, не поворачивая головы. Из кабинета начупра Одесского ГПУ он вышел раздраженный и злой. Возможно, эта гамма эмоций дополнилась бы серьезной настороженностью, если бы он знал, что в его личном деле не значилось ни слова о том, что он увел жену с ребенком у своего харьковского коллеги.
Мариуполь. 17 июля 1925 г.
Лето было в разгаре, и зной стоял нестерпимый. Азовское море уже прогрелось настолько, что на пляже попадались мертвые бычки, но это нисколько не смущало детвору, плескавшуюся на мелководье. В одинаковых черных трусах, одинаково каштанового цвета, они создавали у прибрежной полосы столько пены и шума, что это было сравнимо с косяком тюльки, вытянутой на берег рыбацкой сетью.
Редкий взрослый, глядя на них, беспокоился бы сердцем — море здесь настолько мелкое, что утонуть в нём невозможно, даже если задаться целью, а местная пацанва, с малолетства считавшая пляж своим личным владением, видела в нём исключительно источник наслаждения и спасительной прохлады.
Те, что постарше, ещё и ходили на бычка, закидывая на мелководье обрезки труб. Пугливая и дурная рыба искала там убежище, а попадала в ловушку. Каждая труба была помечена плавающей на поверхности деревяшкой и несколько раз в день приносила её хозяину улов — небольшую рыбку, тело которой было несоизмеримо мало по сравнению с пастью. Иногда, но редко, попадались бычки чёрного цвета — те помясистей, и назывались кочегарами. К концу дня, покрытый разводами морской соли, «рыбак» тащил домой вязанку бычка, а там, на чердаке, у каждого была своя сушилка, где рыба солилась и вялилась.
Вкус этого бычка Лёва помнил с весны 1919 года, когда махновцы заняли Мариуполь под командованием комдива Дыбенко.
С трудом пережившие ту зиму, мариупольцы и жители близлежащих сёл спасались остатками запасов вяленой рыбы. В этом, пожалуй, было единственное их преимущество, по сравнению с остальными, тоже измученными перипетиями Гражданской войны жителями южных губерний.
— А ну, дай! — Лёва поймал за рукав темнокожего, как африканец, местного аборигена — босого, голого по пояс и в штанах, закатанных по колено.
— Та щас! Дай! Разогнался! Монету доставай, вязанку подгоню, — малец уже принялся снимать с шеи одно из длинных украшений с торчащими в разные стороны сушеными рыбьими хвостами. Пришлось Лёве тщательно исследовать содержимое своих карманов на предмет наличия мелочи.
Удовлетворенный ценой, полученной за рыбу, абориген, нисколько не смущаясь раскаленного песка, сдобренного обломками мелких, белых ракушек, не спеша продолжил свой путь по пляжу в сторону дома, демонстративно покачиваясь, как это делают портовые работяги при встрече с мореманами[51]. Никогда уважающий себя мариупольский пацан в таком возрасте (а ему можно было на вид дать немногим более лет десяти) не станет бежать, если ему кто-то смотрит вслед. Пусть даже глаза лезут из орбит от хождения по этой раскаленной сковороде, именуемой мариупольским пляжем в июле.
— Эй, малый!
Мальчишка обернулся, и, стоя на месте, про себя уже проклинал и материл незнакомца известными от отца словами — в этом песке было впору варить кофе по-турецки.
— Чего еще? — невозмутимо ответил малолетний рыбак.
— Отсюда как быстрее на Садки[52] попасть?
Получив подробную инструкцию, Задов решил отблагодарить пацана и купил у него еще одну вязанку.
— Здешний бычок — лучший из того, что мне попадался, — Лёва постарался быть убедительным.
— А сам-то откуда? — поинтересовался мальчишка.
— Из Одессы, — с важным видом, как бы между прочим ответил Лёва.
— Ааа… Батя говорил, там у вас поглубже, да… Зато у нас осетрина… — малец быстро нашел неоспоримое преимущество и, деловито пожав новому знакомцу руку, отправился восвояси.
Со слов местного лоцмана, у которого Лёва купил рыбу, до Садков от пляжа километров пять по суше. В такую жару проделать это расстояние пешим ходом — испытание не для слабаков, потому Задов с удовольствием принял предложение водовоза подсесть на козлы. От него он и узнал, где на первом участке в Садках находится дом № 8.
— Хозяева! — Лёва довольно долго звал хоть кого-нибудь через жидкий забор. Во дворе даже не нашлось собаки — от злости на чужака лаяли только соседские.
Когда Задов провёл по забору палкой, издавая громкий, трескучий звук, зеленая дверь наконец-то открылась, и в проёме показалось знакомое лицо.
— Иван, здорово! — улыбнувшись, крикнул Лёва от калитки. — Ты что, думал, открывать или нет? Вот так так…
Человек явно нетрезвого вида недовольно поморщился и направился к забору, вылив на голову по пути ковш воды из бочки:
— Кого там нелегкая принесла? — небритый мужчина пребывал в скверном расположении духа.
— Да я это, я… — негромко сказал Лёва, он и так обратил уже на себя внимание половины посёлка, пока достучался.
Мужик в тельняшке с рваными локтями, явно с чужого плеча, приложил руку к бровям и присмотрелся к человеку за забором — солнце стояло как раз за его спиной, и в его лучах можно было различить только силуэт крупной фигуры гостя.
— Ну? Может, пустишь? А то оглох уже от собак соседских.
Хозяин, открыв рот, сделал глубокий выдох, судорожно сглотнул — пересохшее горло не слушалось приказов его головы — и упал перед закрытой калиткой на колени, закрыв лицо руками. Через секунду он поднял голову и тихо промолвил в сторону гостя:
— Тут стрелять будешь или в огород отведешь?
События приняли неожиданный поворот, и Задов решил не раскрывать цель своего визита, а сначала дать выговориться своему товарищу по махновским походам.
— Хотел бы шлёпнуть — не шумел. Открывай!
Привстав на одно колено, хозяин повернул большой гвоздь, вбитый изнутри, и калитка сама открылась, стукнув по невысокому заборчику палисадника.
— Пошли в дом… — Задов сменил дружеский тон на суровый, решив подыграть нетрезвому хозяину, а тот, покачиваясь, безропотно направился к двери следом за Лёвой.
— Рассказывай, как докатился до жизни такой, Иван! — Задов не стал снимать сапоги на веранде, как это делают в приличных домах. В комнатах стоял затхлый запах многодневной попойки, на полу валялись какие-то обрывки газет, пропитанных масляными пятнами, на столе лежали засохшие корки ржаного хлеба и головы от тюльки. Топчан в углу, накрытый старым ватным одеялом, имел характерные пятна в ногах, по которым можно было судить, что уже не первый день хозяин спит прямо в обуви.
— Лёва… Лёва… — всхлипывая, Иван Лепетченко, бывший личный адъютант Нестора Махно, потянулся к граненому стакану, в котором ещё оставалось на два пальца мутной жидкости, издававшей характерный дрожжевой запах. — Я ждал тебя, Лёва. Я знал, что это будешь ты… Я даже хотел, чтобы это был ты!
Лепетченко опрокинул стакан и утёрся рукавом тельняшки — тюлька уже закончилась, а тянуться за сухарём на другом конце стола у него не было ни сил, ни желания.
— Лёва… — протяжно заскулил человек в тельняшке, взявшись руками за голову. — Как мы их крошили, Лёва, ты помнишь наши тачанки? А потом всё поменялось…
— Я всё помню, Иван. И всё знаю, — многозначительно изрёк Задов, доставая папиросу в надежде, что хоть табачный дым избавит его от этого смрада.
— Лёва! Вот те хрест! — Лепетченко попытался встать, покачнулся при этом, но всё же, осенил себя крестным знаменем. — Клянусь, браточек мой, клянусь, я ж им ничего не сказал…
Задов решительно ничего не понимал. При подготовке к командировке в Мариуполь он внимательно изучил дело агента ГПУ Лепетченко Ивана Савельевича, попавшего в разработку после возвращения от Махно из Польши. Там значилось, что бывший махновец пошёл на сотрудничество сразу, его показания совпали с данными из других, независимых источников. К делу была приложена расписка Лепетченко о согласии в сотрудничестве и справка о том, что ему присвоен агентурный псевдоним «Фёдор».
Далее значилось, что в 1924 году агента Фёдора нелегально переправили в Польшу. Его задачей было найти Махно в Данциге и склонить того к возвращению в СССР. Итоги операции резюмировались одним предложением: «Со слов Фёдора по указанному адресу Нестор Махно обнаружен не был». Почему тогда Лепетченко считает, что он, его бывший боевой товарищ, пришёл его убить?
— Тогда рассказывай, что спрашивали… — Задов закурил папиросу, выпустив в низкий потолок мазанки тугую струю дыма и, как бы невзначай, нащупал на месте ли кобура. Ответ на этот вопрос мог бы прояснить ситуацию и разобраться, чего так боится Иван.
Несмотря на помутненный многодневным запоем разум, Лепетченко здраво рассудил, что чистосердечное признание может как минимум продлить ему жизнь минут на тридцать, а как максимум — сохранить её.
— Ты за револьвер не хватайся, погоди… Ну что мне было делать? Брат погиб, Нестор сам маялся, не знал, где на кусок хлеба заработать, эти ляхи кровь пили… — всем своим видом Лепетченко пытался вызвать сочувствие.
— Не отвлекайся. Спрашивали что? — сурово прервал хозяина Задов.
— Спрашивали, почему Нестора в Данциге не нашел.
«Ага… теперь ясно. Он боится, что сболтнул лишнего. И такой вопрос могли только чекисты перед ним поставить по результатам той неудачной операции», — картина начала понемногу проясняться.
— А ты что? — сейчас нужно было не перебивать Лепетченко, а подталкивать его на откровения.
— А я им говорю, город-то большой, пока нашёл, пока осмотрелся, пока убедился, что хвоста нет… Всё как учили… И не было его в том подвале, говорю. Я даже сапоги купил, чтобы в ремонт Нестору отнести. Всё как учили! Сказал, что не встретил батьку, а денег-то впритык… Потёрся я там ещё пару дней, да отправился домой. Сказал, что закрыто было в его подвале, что фрау с первого этажа уже косо на меня смотрела и рассказывала, где найти сапожника.
— И поверили? — с усмешкой спросил Задов?
— Лёвушка, поверили! Поверили! Ты Нестору так и передай, там во всех протоколах записано — Лепетченко батьку Махно не отыскал!
«Откуда Ивану знать, что я оперативный сотрудник ГПУ? Вот он и считает меня до сих пор своим собратом, вот и подумал, что я мстить пришёл за его расписку, — озарило Задова. — Всё просто, как оглобля… Мог бы сразу такую постановку разыграть, эх, Лёва, Лёва… Учиться тебе ещё и учиться».
— А Нестор уж было усомнился в своём адъютанте… — так же демонстративно Задов закрыл кобуру.
— Так я ж это… Как на духу всё тебе рассказал. Выпьешь? — рука Лепетченко потянулась к бутылке, заткнутой газетой, стоявшей под столом.
— Ты притормози. Зачем они тебя к Нестору послали? — Иван моментально поставил бутылку на место и дрожащими руками показал, что хочет закурить.
Лёва ловким движением выбил из пачки папиросу и подал её страждущему.
— А батько тебе что, не сказал? Они ж выманить его хотели, — Лепетченко после затяжки раскашлялся. — А он же, как волк, охотников чует. Сказал, что шиш им с маслом. Два раза большевики его предавали, третий раз поверить — надо полным дурнем быть.
— Ну да, говорил, говорил…
«Сказал, что шиш им с маслом, — резануло в голове у Лёвы. — Это Нестор ему через закрытую дверь нашептал? Значит, виделись таки?».
— Батька волнуется за казан с колечками. Ты здесь, Нестор на чужбине, казан где? — пришла пора идти в наступление.
— Ей-богу, не знаю, Лёва! Ей-богу! — Лепетченко опять перекрестился.
— А бумажки из портфеля? В сохранности, как думаешь?
— Лев Николаич, что ж ты меня, совсем за дурачка держишь? Ну откуда я могу знать, где они там в той Румынии закопаны? Даже если бы и пытали, я сбрехать только могу! Нестор сказал, что тот разговор с тобой помнит, что бумажки на чёрный день припрятал в Бухаресте, а оно мне надо, спрашиваю? А он — та да, меньше знаешь, дольше живёшь…
В искренности своего бывшего боевого товарища Льву Задову сомневаться не приходилось — Иван Лепетченко говорил быстро, проглатывая некоторые слоги, будто опасаясь забыть что-то важное. При этом Иван, с трудом сдерживая тремор, постоянно следил за его правой рукой — насколько далеко она от револьвера. Страх и самогон сделали Лепетченко откровенным, как на исповеди.
— Значит, так… Моё решение следующее: если не сбрехал, то живи дальше спокойно. Не вижу оснований тебе в этом мешать. А сбрехал — сам долго не протянешь. Бог тебе судья, Иван. На вот, отобедай… — Лёва снял с шеи вязанки с сушеными бычками и положил их на стол перед облегченно вздохнувшим хозяином.
Одесса. 2 апреля 1926 г.
— Сёма, как ваши дела? Или это не для публики?
— Мадам Зборовская, разве это дела? Это так, делишечки… Где теперь те каракулевые воротники, что спасались от моли в моих нумерах при французах?
— Сёмочка, на Привозе гутарят — они уже семь годов как кормят моль в Румынии.
— И что, последняя слеза патриёта высохла тогда на причале порта? Наша моль что, хуже румынской по своему пролетарскому происхождению? Нет, я вас спрашиваю, мадам Зборовская!
— Сёмочка, я вас умоляю, не рвите душу! В Кишинёве моль тоже хочет кушать! Помянете моё слово — воротников таки на всех не хватит, а моль всё равно будет жить вечно, как Ильич.
— Мадам Зборовская, моё почтение за любовь к животным, но попрошу сотрясать воздух нежнее… Кто будет присматривать за моими фикусами, если вас возьмут на полный пансион в Тюремном замке?
Машина выстрелила пару раз громкими хлопками и заглохла на просёлочной дороге где-то между Южной Пальмирой и Днестром. Водитель гаража Одесского ГПУ Потапов чертыхнулся, и, отчаянно хлопнув дверью, пошёл колдовать над моторным отсеком видавшего виды «Руссо-Балта».
— К коням я больше привычный… — многозначительно изрёк Задов, хрустнув костяшками руки.
— Леонид Николаевич, я завгару вчера всю голову просверлил! Нельзя заправлять из бочки, если там уже на дне. Нахватались мусора всякого, а «Русик» мой — личность благородная, дворянских кровей. Такого отношения к себе не терпит.
«Русиком» Потапов, и все сотрудники с его подачи, уважительно величали единственный автомобиль, закрепленный за разведкой иностранного отдела ГПУ и отделом, занимавшихся экономическими преступлениями. В те редкие дни, когда Потапову удавалось поколдовать над мотором, он с ним разговаривал, как с человеком, и, как правило, каким-то образом следующим утром Русик соглашался лениво сдвинуться с места. Его появление на бывшей Маразлиевской улице всегда сопровождалось недовольными взглядами преподавательского вида старушек, кормивших голубей, радостным гиканием местных шалопаев и ворчанием кучеров, коней которых Русик всегда пугал истошным рёвом своего двигателя.
Лев Николаевич не любил пользоваться машиной — она привлекала к себе много лишнего внимания. Его двухметровую фигуру и так уже приметили жители близлежащих домов. Некоторые даже почтенно приподнимали шляпу или кивали, если встречали Задова на тротуаре, будто он только вчера заходил к ним на чай.
В этот раз, ввиду дальнего расстояния, Лёве пришлось смириться с необходимостью выписать путёвку Потапову — к вечеру следовало прибыть на заставу и в условленном месте на берегу Днестра подобрать курьера.
— Вот ездим, катаемся, а как я из навоза пулю слеплю? Лев Николаич! Ну возим же барахло всякое, ну прикажите карбюратор притащить! «Зенит». Французской системы! — сокрушался Потапов, отсоединяя топливный шланг.
— Слышал? «Зенит», — Задов обратил внимание своего попутчика на слова шофёра.
— У вашего шоферюги недурной вкус, скажу я вам, товарищ разведчик! — парировал собеседник. — «Зенит» в Бухаресте стоит как вся ваша колымага.
— Йося, не торгуйся, не на Привозе! Мы с тобой сейчас пеши пойдём, а могли бы катиться по полям с ветерком. И сколько раз тебе говорил, забудь слово «разведка». Оставь этот форс для потомков, — с улыбкой ответил Лёва.
— Ну что же за жизнь такая настала… Я, может, себя человеком почувствовал, впервые за долгие годы. Я последний раз такой душевный подъем и накал страстей испытывал в отеле «Бристоль» в девятнадцатом, когда подавал кофе Японцу! Моя миссия в логове атамана Григорьева сорвала аплодисменты самого Винницкого! Он мне так и сказал — Йося, у тебя большое будущее!
— О! Об этом ты на допросе не упоминал, — Задов любил слушать эту историю из уст Аглицкого, ибо каждый раз она обрастала новыми яркими и колоритными подробностями. Где там правда — Лёву уже не особо интересовало. Главное — что такой нужный для успеха случай подвернулся именно ему — начинающему сотруднику Льву Задову.
Йосю взяли прошлой осенью прямо на берегу, когда он принимал чемоданы с контрабандным товаром с рыбацкой шхуны. Чекисты свалились на него сверху, с обрыва. Путей к отступлению у Аглицкого не было — только морем, но румынский капитан посчитал, что лишнее свидание с органами в его планы не входит, и, взяв в ночной мгле курс в открытое море, оставил Йосю наедине с неприятностями. Плавать Иосиф толком не умел, потому безропотно отдался в руки судьбы.
Судьбой его в тот вечер стал Лев Зиньковский-Задов, дежуривший в управлении.
Рутинное составление протокола допроса превратилось в увлекательную беседу, продолжавшуюся до рассвета. Многословный молодой человек, во-первых, представился так, будто прибыл в Одессу на гастроли:
— Иосиф Аглицкий. Это не сценический псевдоним, а фамилия, широко известная в узких кругах Молдаванки. Музицировать я закончил на заре туманной юности, и потом к этому неблагодарному ремеслу не возвращался. Тётя Ида с нашего двора на Пушкинской сказала, что даст за папино пианино приличных денег, чтобы я не терзал её тонкую душевную субстанцию своими творческими изысками. И знаете — таки дала! Папа недолго думал, он назавтра притащил буфет красного дерева, вы представляете?
От подробностей детских лет Йося, обнаруживший в большом рыжем человеке напротив благодарного слушателя, перешёл к изложению своих приключений в годы Гражданской войны. Надежды Аглицкого на то, что перечисление знаковых фигур того времени, с которыми он имел честь общаться, затмит ту небольшую провинность, на которой он попался. Ну действительно, неужели нельзя простить пару чемоданов дамских колгот человеку, рисковавшему жизнью в «Бристоле» по поручению будущего красного командира Винницкого?
В своих предположениях Иосиф оказался прав — сцену передачи документов Григорьеву он пересказывал Лёве три раза. О контрабанде уже и речи не шло.
«Михаил Вольфович, наверно, за мной сверху приглядывает», — подумал Йося, выходя целым и невредимым из здания управления рано утром.
Конечно, афишировать своё ночное приключение Аглицкий не собирался. Тем более что его новый знакомый, Лев Николаевич, попросил не отлучаться ближайшие пару дней, потому как имел к нему ещё разговор, значит, дело не закончено. А знакомый такой был Йосе ой как нужен. Когорта контрабандистов за последнее время существенно поредела, что не могло не радовать Иосифа — конкуренция, видите ли… но, по мнению самого Аглицкого, этих шлимазлов сгубили жадность и недальновидность.
Решающую роль в прощении сыграл Йосин румынский паспорт, который он предусмотрительно купил пару лет назад. Документ нужен был для дела — товар в приграничных районах на том берегу Днестра стоил существенно дороже. То ли дело — Кишинёв. Однажды Йося, переборов свою природную осторожность, рискнул и посетил с официальным визитом Бухарест, который оставил в его сознании неизгладимое впечатление. А потом судьба свела его с товарищем Зиньковским-Задовым, имевшим свои виды на Йосин румынский паспорт.
— Как тебя приняли? — Оба пассажира служебного автомобиля ГПУ пошли вперед по пыльной проселочной дороге. Представился случай побеседовать без лишних ушей. Иосиф Аглицкий согласился на выполнение некоторый щекотливых поручений в Румынии только на условиях полной секретности — никаких встреч в официальных учреждениях, кафе или скверах — в городе его знает каждая собака, а в компании Льва Николаевича ему светиться — не комильфо.
— Ласково приняли, как родного. Слушайте, эти анархисты такие меланхолические… — Иосиф всегда имел мнение по любому человеку и не стеснялся его декларировать.
— Меланхоличные, — поправил его Задов. Лёва всё никак не мог привыкнуть к речевым оборотам местной публики и часто делал Йосе замечания.
— Как увидят человека с родных краёв, так готовы кинуться на плечи, облить слезами пиджак и считают, что я прямо обязан слушать их мемуары. А как сказал, что я от Лёвы, так сразу сливовица появилась. Я думал, что много разговариваю… Ха!
— За меня что спрашивали? — поинтересовался Задов.
— За вас не спрашивали. Один, по фамилии Хромченко, сказал, что слышал за братьев Задовых. Будто сидят. Ну, я не стал его расстраивать.
— Правильно. Придёт время — узнают.
— А эти шпионские штучки, это надолго? Мне не нравятся эти люди, скажу я вам… Я больше по галантерее, вы же знаете, Лев Николаич… — В глубине души Йося всё же очень серьезно опасался, терзаемый сомнениями, правильный ли он сделал выбор между свободой и поручениями Задова.
— Иосиф… Твоя галантерея существует, пока у нас с тобой есть взаимопонимание.
— Я не дурак, я понял. Мне просто надо планы строить на жизнь, мама приболела, а она в таком возрасте, что каждый пук кажется землетрясением. Я уже извёлся весь. Маме надо, чтобы я был рядом. Как вы думаете, если я найду доверенного человека и буду тут с ним вашим шпионством заниматься? Чтобы не рысачить туда-сюда. Ну так, раз в пару месяцев, на поддержание штанов, маме на таблетки… — Йося не оставлял надежды дистанцироваться от рискованной работы.
— Я начинаю разочаровываться, товарищ Аглицкий, — если бы луна вышла в этот момент из-за туч, Иосиф бы лицезрел каменное лицо Задова, на котором от раздражения заходили желваки.
— Вот это не надо. Вот это не надо, Лев Николаич, — дважды для убедительности повторил Йося. — Аглицкий сказал — Аглицкий сделал. Придётся пригласить маме сиделку со знанием сольфеджио. Мама любит романсы. Поймите правильно, каждая копейка даётся потом и кровью. Хотел сэкономить, вы же понимаете?
— Конечно, понимаю, Иосиф. Если нужно будет доктора пригласить — не стесняйся, посоветую как для себя, — смягчился Лёва.
— Я знал, что могу на вас положиться, Лев Николаевич. Потому докладываю — этот ваш Хромченко насчитал сорок пять человек, готовых вернуться сюда. Несладко им там.
— Ага, — задумчиво произнёс Лёва. — Список есть?
— А как же! — из внутреннего кармана пиджака, «политого слезами анархистов», Йося извлек свернутую вчетверо бумагу.
— Потом прочту. — Список провалился в глубокий карман Лёвиного кителя. — Как они с Нестором связь поддерживают?
— Я так понял, пишут. Там грамотей один у них есть — дюже образованный. Вот он и рассказывал за Махно.
Лёва даже не повернул головы — Иосиф имел особенность говорить, пока его не перебивают, а иначе мог быстро потерять мысль, что на фоне его девичьей памяти могло быть чревато потерей каких-нибудь важных подробностей.
— Как подпили, так они меня совсем за своего уже держали. Знаете, Лев Николаич, в любой пьянке случается такой момент, когда каждый треплется со своим соседом. Гвалт стоит, но разобрать можно, если правильно ухо кинуть. Так я ж недаром съездил, доложу я вам!
— Что-то надыбал? — Лёва ловил себя на мысли, что иногда стал использовать лексикон своих подопечных.
— Ну, не без этого, — загадочно улыбнулся Йося.
— Не томи, аферист!
— Два персонажа весьма потертого вида, один из которых — тот писарь, за Петлюру заговорили.
— И шо гутарили?
— Что стервец таки встретится со своей совестью на небесах, а она ему там устроит адский пожар под его тощей задницей!
— И скоро?
Любой еврей почёл за честь поднести спичку к костру, на котором черти жарили бы Симона Петлюру. В этом были солидарны и служивые, и гражданские, и советские, и эмигрировавшие. В памяти этого народа были свежи воспоминания о погромах, учиненных петлюровцами с его молчаливого согласия во времена Директории.
— Та не знают они. Гутарили, что к Нестору заявился один из наших, с Измаила. Шлёма Шварцбурд. Петлюровцы его семью вырезали, всех пятнадцать человек. Ой-вэй… Я бы тоже недолго думал… — Йося представил себя на месте этого несчастного человека и на мгновение замолк.
— Так, а за шо бы ты не думал? — Лёва вывел Аглицкого из ступора.
— Я бы тоже его искал. Этот Шлёма, он настоящий, понимаешь, Лев Николаич? Спрашивал у Нестора, где Петлюру найти. В газете написали, что он в Париже, а где — неизвестно.
— Так откуда ж ему знать? Нестор Симона дюже люто не любит. Не думаю, что они адресами обменялись, чтобы в гости друг к другу ходить.
— И я за то думаю. Париж — большой город, это даже не Одесса. Там потеряться — плёвое дело.
— Твоя правда. А за Шлёму шо казали? Тоже анархист, что ли? — поинтересовался Задов. Махно к себе посторонних подпускал с крайней неохотой в силу своей гипертрофированной подозрительности. Особенно эта черта характера батьки обострилась после его бегства в Румынию.
— Та вроде да. А потом он за Котовского воевал. Тут, в Одессе. Знаю я этого Шлёму. Решительный дядька. Жаль будет, если он Симона не найдёт.
Пара хлопков позади оповестили окрестности о том, что Потапов уговорил «Русика» и тот завёлся. Остаток пути пассажиры «Руссо Балта» провели в полной тишине. Задов погрузился в свои мысли, а уставший от своих длительных путешествий Йося заснул так крепко, что ему не мешал ни шум старого мотора, ни постоянные подпрыгивания на кочках. Лёва разбудил своего агента только на подъезде к Нерубайскому, где они должны были расстаться.
— Завтра в пять вечера будь дома. К тебе придет барышня. Маму успокой — она придёт не за тебя замуж проситься, — Задов уже выработал план действий, ему нужно было согласовать некоторые свои идеи с руководством. — Найдёшь этого Шлёму?
— Товарищ Зиньковский, помилуйте! Я не купил новых туфель, меня в Париже не поймуть! — взбунтовался Иосиф.
— Не колотись, нужен только адрес…
После недолгой паузы, означавшей глубокую мыслительную деятельность, Аглицкий заговорщицким тоном произнёс:
— У меня есть у кого поинтересоваться за Шлёму Шварцбурда в Измаиле. Его там помнят…
Ровно в 17:00 в Йосин двор на Пушкинской вошла девушка, одетая в кофточку в мелкий синий горох и длинную синюю юбку. На правой руке она держала пару толстых книжек, будто только что из библиотеки. Не спрашивая никого, она направилась к двери на втором этаже и постучала в дверь.
— Мама, отдыхайте, это ко мне! — ответил Иосиф на её вопросительный возглас.
Девушка, улыбнувшись, передала Иосифу верхнюю книжку:
— Лев Николаевич просил передать, говорил, вы интересуетесь…
— Ай, какой же он человек… какая мелочь, а насколько приятно! — Пока Йося разглядывал обложку, барышня, постукивая каблучками по металлической лестнице, уже спускалась вниз.
— Передайте ему мой низкий поклон! — громко крикнул ей вслед Иосиф, получив в ответ кивок и улыбку.
— Йося, что там за гармидер[53]? — возмутилась мама, что её не ввели в курс дела.
— Мама, это не гармидер, это один мой хороший знакомый передал вам книжечку. Романсы Вертинского! — Через всю квартиру прокричал Иосиф — мама болела в дальней комнате.
— Боже, какой галантный человек! Откуда у тебя такие знакомые, Йося?
— Мама, сам поражаюсь…
Медленно ступая по скрипящим доскам, Иосиф таки догадался пролистать томик, из которого выпал запечатанный конверт. Получателем значился Шварцбурд. Поле адреса было не заполнено. Судя по всему, это должен был сделать сам Йося.
Инстинкт самосохранения переборол природное любопытство Аглицкого и контрабандист не стал вскрывать письмо. Если бы он это сделал, то прочёл бы следующее:
Simon. Rue Thenard, 7. Paris.
Одесса. Приграничная территория. 13 мая 1929 г.
— Он завтра перейдет! — Аркаша Нагорный, начальник оперативного пункта, ворвался к Задову в кабинет, как майский ураган с грозой, размахивая шифрограммой.
— Ай да Тамарин. Достал он его таки… — Лев Николаевич внимательно перечитал шифровку, в которой значились данные чрезвычайной важности.
Последние шесть месяцев в приграничных с Румынией районах происходили события, поднявшие на ноги весь личный состав. Только установился более-менее размеренный, мирный уклад жизни, люди волновались не о том, как попрятать детей и скотину от очередных налетчиков, как опять вернулось это такое знакомое чувство тревоги. Сначала на дороге возле Беляевки убили председателя сельсовета. Его труп нашли утром селяне, ехавшие на базар за овсом. Тело с перерезанным горлом лежало в стороне от телеги, оглобли которой лежали на земле — коня увели.
Дело попало в милицию, так как первой и главной версией стал разбой залетных бандитов. После второго эпизода, когда в Яськах пропал председатель трудовой сельскохозяйственной артели имени Шевченко, и его тело с таким же порезом на шее всплыло в Турунчуке. Дела объединили в одно и передали в ГПУ.
Позднее еще шесть трупов были обнаружены в прилегающих районах. Библиотекарь, главный бухгалтер еще одной артели, сотрудники органов государственной власти — все погибшие имели одинаковую рану на шее.
По всему складывалось, что все эти убийства корыстного мотива не имеют — мелкие кражи, обнаруженные в некоторых местах происшествий, совершались, скорее всего, для отвода глаз. Цель преступник или преступники, если их было несколько, выбирали исходя из их профессиональной принадлежности — все эти люди были на виду, имели отношение к соворганам и пользовались авторитетом в своих сёлах.
Тщательный опрос жителей окрестных деревень, рыбаков и крестьян свидетелей не выявил. География убийств была довольно обширна, но ограничивалась полосой в шестьдесят километров с севера на юг вдоль границы. Вполне можно было допустить, что это дело рук заезжего специалиста. Исходя из этого, Лёва принял решение переместить усилия оперативников отдела ближе к границе, и тут же появилась первая зацепка — пастух Иона Буюк описал незнакомца, которого он приметил по пути на пастбище. Мужчина крепкого телосложения в пиджаке и с вещмешком за спиной ускорил шаг и, не оборачиваясь, пошел дальше, когда промокший под ночным ливнем пастух попросил у него спичек на местном наречии. На следующий день нашли тело пятой жертвы.
Пограничникам разослали ориентировки, усилили наряды, милиции приказали даже в глубине территории задерживать всех неместных до выяснения личности, но результата так и не было — раз в месяц, а то и чаще сводка происшествий пополнялась очередным убийством с использованием холодного оружия.
Руководство метало громы и молнии. Встал вопрос об усилении оперативной группы специалистами из Киева, что можно было смело считать смачной оплеухой местным гэпэушникам.
Второй краповый прямоугольник в петлицах Лёвиного мундира означал, что его должность соответствует начальнику следственного отдела, но повышение добавило не только денежное содержание, но и хлопоты, ответственность и заботы. Теперь вся головная боль была именно его — Лёвы Задова. С него спрос, ему и награды.
Представление к следующему званию Задов получил за прорыв в создании румынской агентурной сети.
— Мои поздравления товарищу начальнику! — Йося Аглицкий, для которого не было тайн в городе, нарушил все свои правила конспирации и притащил в квартиру Задовых на улице Разумовской несколько плиток швейцарского шоколада и новенький плед в шотландскую клетку.
— Простите? — удивленно спросила Вера, открывшая ему дверь.
— Не удивляйтесь, мадам, я с самыми добрыми намерениями.
— Что это? — жена Льва Николаевича очень осторожно относилась ко всякого рода незнакомцам — супруг предупреждал её однажды, что возможны провокативные проверки, но этот пижон со свертком в руках был настолько обаятелен, что пришлось пустить его за порог.
— Наслышан, что в вашем доме праздник, так скажите Льву Николаичу — Йося заходил. И не волнуйтесь за его совесть, она останется чиста, как воды Дуная в верховьях! — Аглицкий положил сверток возле входа на трюмо. — Пусть это будет не ему. Это его мальчику. На Молдаванке гутарят — Вадиму Львовичу на днях три года стукнет. А детям полезен шоколад. Моё почтение! — Иосиф приподнял шляпу, сверкнув уложенной прической с пробором посередине, и ретировался восвояси.
Последнее время Йося зачастил в Бухарест. Кроме обычных своих коммерческих дел, он обязательно посещал парикмахерский салон «Foarfece»[54], где, сдав плащ и шляпу, позволял себе посвятить два-три часа жизни благостному безделью. Кроме стрижки и укладки с бриолином, бритья с прикладыванием горячего полотенца, под убаюкивающие звуки граммофонной пластинки, уважаемый в бухарестских деловых кругах контрабандист обязательно заказывал маникюр. К уходу за руками Иосиф испытывал последнее время некоторую слабость, граничащую с манией, — все эти ванночки с теплой водой, нежные ручки маникюрши, её щебет о последних столичных новостях… За час маникюра Йося узнавал о бухарестском бомонде столько эксклюзивной информации, что впору было вести дневники, но Лев Николаевич категорически запретил вести записи. Это только с виду Бухарест мог показаться большим и многолюдным городом — круг людей, которыми интересовался Йося по роду своей коммерческой (и не только) деятельности, был очень ограничен.
Каждый раз, отблагодарив барышень щедрыми чаевыми, Йося с благостным выражением лица отбывал на родину, где на Энгельса отчитывался об услышанном и сдавал свою шляпу, в подкладке которой хозяйка салона, госпожа Илона Василеску, за время его процедур аккуратно вшивала шифровку для Зиньковского-Задова. Румынские пограничники практически не досматривали давно примелькавшегося, холеного, хорошо одетого господина из Одессы, высокомерно позволявшего проверить содержимое своего саквояжа — личные вещи, пара пачек папирос в рамках дозволенного и кое-какие бумаги коммерческого свойства.
Удивительным образом график маникюра Йоси совпадал с необходимостью привести причёску в соответствии с Уставом у одного румынского офицера, который предпочитал делать это каждую третью субботу в десять утра и в гражданской одежде.
Господин Ионеску — так он представлялся в парикмахерской, был лаконичен в разговорах, не требовал к себе излишнего внимания и единственное, что просил — это забрать верхнюю одежду и подать чашечку кофе. Говорили, что зерна кофе в салон поставляют из самой Бразилии.
Госпожа Василеску встречала и провожала молчаливого клиента всегда лично. На время работы парикмахера подкладка его пальто попадала в распоряжение хозяйки.
На дежурные вопросы о погоде, семье и делах Ионеску отвечал подчеркнуто сухо, в рамках, ограниченных приличием. Постоянным клиентом парикмахерской «Foarfece» на самом деле был полковник генштаба Румынской армии Виорел Кроитору, известный в Одесском иностранном отделе ГПУ как агент «Тамарин», а сам салон служил местом передачи шифровок.
— Николаич, ну что там, не томи! — Аркадий Нагорный состоял в группе, отрабатывавшей тему убийств возле границы, каждое утро в числе остальных принимал участие в оперативных совещаниях и, естественно, имел допуск секретности.
— Экий ты нетерплячий, Аркаша… — Задов вычитывал шифровку ещё и ещё раз.
Месяц назад Тамарин передал в шляпе контрабандиста Аглицкого депешу, в которой значилось, что румынский генштаб поставил задачу пограничникам обеспечить окно для нелегального перехода через границу специально подготовленного для выполнения нескольких миссий агента. В соответствии с поручением ожидать его назад, на румынскую территорию, следовало через пять дней. График «окон» для последующих его вояжей на советский берег Днестра полностью соответствовал сводке происшествий — каждое убийство случалось на второй день, но где-то же этот таинственный гость прятался остальное время? И место это должно было быть безопасным и спокойным — в стоге сена три дня не пересидишь.
Лёва принял решение искать в ближайших к Днестру деревнях. Чтобы не создавать излишнего ажиотажа, Задов распорядился милицию не подключать, а опросить представителей сельской власти. Лучше чем они, местные новости вряд ли кто-то знает.
Удача улыбнулась на четвертые сутки работы в этом направлении: вдова Семисенко из приграничного села Троицкое последнее время сменила печаль на радость и периодически светилась, как утреннее солнце. Завистливые кумушки, недолго думая, озадачились такой внезапной сменой настроения и стали искать тому объяснение.
Спустя некоторое время выяснилось, что причиной расцвета вдовы стали периодические неуёмные плотские утехи, стоны от которых отчётливо слышались даже сквозь закрытые ставни. И каково же было удивление селянок, когда одна из них, которая жила напротив, выйдя под утро во двор по нужде, заметила через открытую калитку соседки, что та висит на шее у собственного мужа и сквозь слёзы целует его так часто, будто это их последнее прощание.
Вдова Семисенко, проклиная черноротых и глазастых односельчанок, запиралась на допросе недолго — всего половину светового дня, и теперь Задову оставалось выяснить, когда в следующий раз появится привидение её мужа, якобы погибшего на фронте в двадцать первом.
Ответ на этот вопрос Задов получил сегодня, в понедельник, 13 мая, в той шифровке, что в прошлую субботу вывез в шляпе из Бухареста Иосиф Аглицкий.
— Аркаша, свистать всех наверх, — пробормотал себе под нос начотдела.
— Есть собрать оперативное совещание! — Нагорный отличался сообразительностью, остротой ума и жаждой приключений.
Через тридцать минут группа определилась со временем выезда, составом и планом действий, и рассвет вторника они встретили возле Днестра.
Нагорный засел в доме вдовы на случай, если Задов ошибся в своих предположениях о месте перехода диверсанта, а основная группа расположилась в плавнях на берегу реки в ожидании гостя.
Вся ночь прошла в напряженном ожидании, за ней и день, в течение которого в засаде не подавали признаков жизни — наверняка с той стороны велось наблюдение. Только около одиннадцати вечера вторника раздался с трудом различимый плеск вёсел.
Пограничникам заблаговременно приказали в этот день ни на минуту не сбиваться графика объезда, делать это нарочито шумно, разговаривая со смехом, шутками и прибаутками. Спустя сорок две минуты после их проезда и отчалил с румынской стороны невидимый в темноте ночи гребец.
Диспозиция засады была такова, что ближе всех к измятому камышу, в котором лазутчик прятал обычно свою плоскодонку, оказался начотдела Задов. Он сам так решил. Остальные расположились по разные стороны оврага, служившего выходом наверх из этой закрытой от посторонних глаз заводи. Сложнее всего пришлось Аркаше, которого Задов заставил забраться на старую иву метрах в трестах от зарослей камыша. Там, на высоте приблизительно четырех метров, находился разлом, образовавшийся от удара молнии. Спугнув из гнезда какую-то скандальную птицу, Нагорный сидел там уже почти сутки, осматривая противоположный берег в полевой бинокль.
Когда в отсвете луны Нагорный заметил отчалившую лодку, он уронил на голову коллеги, задремавшего у корней, небольшую сухую ветку.
— Товсь, — прошептал Аркаша, и его напарник, пригнувшись максимально низко, добежал до следующего в оцеплении. Когда лодка, нарушая покой водной глади, оказалась уже на середине, Задов отчётливо видел, что в ней сидит за вёслами единственный человек в плаще с накинутым на голову капюшоном.
Подав сигнал к отходу, Лёва сам попятился, чтобы дать возможность нарушителю оставить лодку и пешком пройти десяток метров — было важно, чтобы тот, почуяв опасность, не запрыгнул в неё обратно и не оттолкнулся от берега.
Напряженное ожидание длилось недолго — мужичок невысокого роста, но широкий в плечах завёл своё плавсредство в камыш и привязал его к вбитому в дно колу, на который они в ходе обследования местности не обратили внимания. На нём были болотные сапоги выше колена и вещмешок за спиной, в котором, скорее всего, находилась сменная обувь.
Лёва не ошибся в своих предположениях — мужичок, выйдя из камышей, снял плащ, свернул его в рулон и засунул в мешок. Оттуда он предварительно достал пару сапог с коротким голенищем и принялся снимать свои болотные.
— Не торопись! — достаточно громко, но так, чтобы услышал только лодочник, сказал Задов, не спеша двигаясь ему навстречу. Диверсант уже разулся и копошился в вещмешке. — Руки подними! Чтобы я видел!
В этой кромешной темноте фигура человека в плаще была практически неразличима — на отработке задержания условились не использовать фонари и задержать максимально тихо. Кураторы нелегала на том берегу, без сомнения, следили за ходом переправы своего подопечного.
Разобравшись, что оказался в ловушке, человек в дождевике, тяжело сопя, тоже шагнул навстречу. Барабан его револьвера заряжен полностью и каждый выстрел на вес золота — времени на перезарядку не останется.
Не обращая внимания на боль и порезы от острых обломков камыша, диверсант достал из кармана ствол и, вытянув руку, мгновенно выстрелил в сторону Задова.
— Бросай, оружие, я сказал! — Лёва никак не отреагировал на острую боль, пронзившую после пистолетного хлопка левую руку выше локтя, и продолжал сверлить глазами своего врага, который уже оказался рядом.
Человек в капюшоне стоял прямо напротив него, недоумевая, что происходит: он точно видел, что попал в здоровяка, приказавшего ему бросить оружие. Силой удара пули того даже слегка развернуло, но двухметрового роста человек продолжал не только стоять на ногах, но и шел вперед.
— Дай сюда! — Задов вырвал револьвер из рук мужика, воспользовавшись секундным замешательством противника. В следующее мгновение на голову диверсанта обрушился кулак Задова. — Шлимазл! — в след падающему телу злобно прошипел Лёва.
Подбежавшие на выстрел оперативники застали следующую картину: Задов, прижав левую руку к себе, правой обыскивал обмякшее тело человека в плаще.
— А вот и он, — торжествующе воскликнул Лёва, достав из ножен на правом боку неизвестного человека охотничий нож с блестящим двусторонним лезвием и бежевой ручкой из кости.
— Жаль, пальнуть успел, гадёныш, на том берегу всё слышали. Теперь не поиграемся, — тяжело дыша, с сожалением отметил Аркаша, он спрыгнул с ивы, с треском разорвав себе о сук штанину, бегом преодолел несколько сот метров, но всё равно, не поспел к основным событиям.
— Та да, а могли ж всё полюбовно порешать… А ну-ка, Аркадий, перетяни мне руку, кровит сильно…
По окончании подведения итогов операции в узком кругу, после всего разбора полётов, начальник Одесского окружного отдела ГПУ Израиль Леплевский встал, открыл ящик стола и обратился к присутствующим:
— Товарищи, за боевые заслуги и проявленное мужество в ходе задержания особо опасного диверсанта наш коллега начотдела Лев Зиньковский-Задов награждается именным «маузером» с соответствующей монограммой и премией в размере двухсот рублей.
Несколько ошарашенный таким неожиданным вниманием, Задов встал со своего места и, одернув одной рукой гимнастерку, строевым шагом подошёл к начальнику.
— Поздравляю, товарищ Зиньковский! — громко сказал Леплевский, вручил Задову коробку с пистолетом и продолжил гораздо тише:
— Следующая награда должна быть за документы Махно из жёлтого портфеля, или эта будет изъята по протоколу обыска…
Бухарест. 14 ноября 1936 г.
— Господа офицеры желают откушать? — услужливый официант явно славянской внешности, с идеальным пробором посередине, облаченный в белоснежную рубашку, жилетку и длинный фартук, подобострастно наклонившись, подал гостям меню. Каждому — по экземпляру.
— Здесь отличная кухня, мне не однажды приходилось об этом слышать от знакомых, — заметил офицер в жандармском мундире, кивнув человеку в фартуке, после чего тот отошел на пару шагов назад, чтобы не выказывать излишнюю навязчивость, но успеть прислужить при первом взгляде из-за стола.
— Согласен с вами, господин полковник, поэтому я озаботился заказом столика именно здесь. Должен сказать, что это было непросто, пришлось задействовать агентуру!
Все три офицера, собравшиеся отужинать в новом модном бухарестском заведении «Пётр Лещенко», что недавно открылось на улице Calea Victoriei, 2, дружно рассмеялись.
— Теперь я понимаю смысл вашей работы, Виорел! — обратился жандарм к полковнику генштаба Кроитору. — Всегда завидовал штабистам — никто не знает, чем вы там занимаетесь, но дивиденды налицо!
Полковник жандармерии Константин Букур имел в определенных кругах имидж сибарита — любил пропустить чарку-другую под хорошую закуску, не брезговал интеллектуальными карточными играми в избранном обществе и славился своим щегольским внешним видом. Мундиры Букур шил каждые полгода и всегда имел пару новых в запасе. Закоренелый холостяк, полковник доверял заботы о себе только пожилой горничной, работавшей у него уже двенадцатый год. При первых же признаках изношенности лацкана кителя ей следовало заменить его на новый из резерва. Сегодня полковник Букур наслаждался своим внешним видом — горничная доложила ему при выходе, что он надел новый китель.
— Дамы и господа! — разнеслось по залу, и гости почти одновременно повернули головы в сторону занавеса.
Полный, уже начавший лысеть конферансье в бабочке и фраке вышел на небольшую, но хорошо освещенную электрическими лампами сцену заведения. Толстяк картинно поправил тяжелый бордовый занавес, скрывавший от зрителей сцену, и продолжил под одобрительные возгласы посетителей ресторана, в котором не было ни единого свободного места:
— Не имею больше права томить вас ожиданием! — продолжил конферансье, и при этом некоторые дамы, восседавшие лицом к сцене, поспешили опустить в пепельницы свои длинные мундштуки с тонкими сигаретами, приготовившись аплодировать. — Рига и Лондон уже насладились мастерством наших артистов! С них, пожалуй, достаточно! Европа, оставь и нам каплю этого удовольствия!
Самые нетерпеливые из дам начали редко аплодировать, как тут их инициативу подхватили все присутствующие, в том числе и три офицера за столиком возле самой сцены. Последние слова конферансье потонули в громких аплодисментах, достойных скорее театрального зала, а не ресторанного интерьера:
— Дамы и господа! На сцене нашего заведения сегодня и каждый вечер… — конферансье сделал профессиональную паузу, — Пётр Лещенко и его трио!
Занавес беззвучно раздвинулся, и публика восторженно встретила первые аккорды в исполнении музыкантов и солиста в шляпе.
Всё равно года проходят чередою И становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть? Всё, что было, всё, что ныло, Всё давным-давно уплыло. Утомились лаской губы И натешилась душа…Второй куплет сопровождался хлопками всего зала. Улыбались все — и бухарестские пижоны, и их манерные спутницы, и суровые военные. Не все понимали русский язык дословно, но жизнерадостный ритм, яркая, обаятельная улыбка Петра Лещенко и профессиональная работа музыкантов сделали своё дело — публика была в восторге.
— Этот Лещенко — преинтересный тип, — обратился к друзьям третий офицер из сидевших за этим столом. — Вы знаете, что он русский, Виорел?
— У генштаба нет тем, которыми мы бы не владели, — полковник Кроитору, он же Алексей Тамарин, подозвал жестом официанта, вынужденного отойти к стене, чтобы не закрывать собой артистов. — Мне перепелов, гарнир на ваш вкус и холодной водки.
Приняв заказ у двух других спутников Тамарина в заведении, официант изрёк: «Сей момент» и растворился в облаках табачного дыма.
— Человек интересной судьбы и, безусловно, талантливый. — продолжил беседу Тамарин.
— Удивителен успех, который он получил в Бухаресте, — Георге Шипор, коллега Тамарина по работе в генштабе румынской армии, хоть и занимался тыловым обеспечением, слыл человеком образованным, интеллигентным и считался знатоком искусств — тяга к прекрасному передалась ему вместе с дворянским титулом.
— Что же вас удивляет, Жорж? — спросил Тамарин, кивнув в знак благодарности официанту, принесшему запотевший графин.
— Вы знаете, Виорел, я не ценитель романсов и прочих легкомысленных уличных стилей, потому и поражен той лёгкостью, с которой он покорил столичную публику.
— А может быть, всему своё время? Давно ли наши солдаты гнили в окопах Первой мировой? Вы скажете — очень давно, — предвосхитил Тамарин ответ своего друга. — Люди всё помнят, они устали от постоянного напряжения… А тут — такая лёгкость речи, мелодика замечательная… Этот русский знает, на какую клавишу нажать не только на аккордеоне, но и в душе слушателя.
— Ай… Опять вы с этими своими высокими материями, — жандарм потянулся к рюмке на хрустальной ножке, тонкие стенки которой приняли прохладу напитка и стали покрываться испариной. — Поднимем тост за нашу дружбу! Меня радует, что наш закрытый клуб холостяков не уменьшается в числе! За нас, господа офицеры!
Слова жандарма Букура потонули в музыке аккордеона и словах первого куплета:
На столе бутылки-рюмочки, Эй, хозяюшка, вина налей! Выпьем рюмку сладкой водки, Сердцу станет веселей…Полковники подняли хрусталь под общий шум в зале — гости ресторана «Пётр Лещенко» оценили грамотно составленную программу, и официанты, готовые к такому развитию событий, принялись разливать спиртное.
— У русских водку пьют только после того, как чокаются! — Тамарин протянул руку к каждому из присутствующих за столом, и звук звенящего хрусталя их рюмок влился в общий перезвон зала.
— Если это не поминки, — заметил жандарм Букур, удовлетворенно крякнув, после того, как опустевшая рюмка заняла свое место на столе.
— Закусите, господин полковник, — Шипор отрекомендовал товарищу маленькие канапе с икрой, которые они заказали в числе прочих закусок.
— Вообще я этих русских часто не понимаю, — продолжил жандарм, кивнув Жоржу в знак признательности. — Их песни о любви, о радости, о водке, наконец, а их действия подобны варварским. Они сначала бьются со всем внешним миром, потом бьются между собой, а потом оплакивают погибших и после всего — сочиняют такие стихи.
Официант принёс горячее, и беседа на минуту прекратилась.
— А сколько их по Европе раскидано? Представляете себе? И каждый несет в себе какую-то идею или цель, подкрепленную обидой и жаждой мести, — продолжил диалог Жорж. — Достаточно взглянуть на этот зал, посмотрите. Здесь собрались исключительно сливки бухарестского общества и русские.
— Ну что вы, Жорж… Вот, к примеру, та молодая, красивая женщина в фиолетовой шляпке, которая на русском мурлычет со своим спутником, она кому хочет мстить? — Тамарин обратил внимание собеседников на барышню за соседним столом, манерно курившую сигарету.
— Ааа… Наверняка под этой шляпкой — рой мыслей о том, что где-то под Курском у неё от предков остался спиртовой заводик, — жандарм постучал ножом по графину, показав на водку, и тут же из ниоткуда появился официант, воспринявший этот звук как команду к действию.
— За нашего правителя — Кароля второго! — Букур многозначительно, приподняв подбородок, посмотрел на офицеров, присутствующих за столом. Его склонность к пафосу в самых неподходящих местах была так же известна, как и умение грамотно поддерживать отношения с руководством — благодаря этим чертам карьера жандарма неуклонно двигалась вверх, несмотря ни на какие штормы в политике и министерстве. Сейчас Букур руководил Бухарестской жандармерией, но не считал это пределом своих возможностей.
— И как она вернёт свой заводик? Пойдёт войной на Советскую Россию? — ухмыльнулся Жорж, погружая маленькую мельхиоровую ложечку в кокотницу с прекрасным жюльеном.
— Нет, мой друг. Она пока будет тихо ненавидеть большевиков, а при первом же представившемся случае им нагадит, — продолжил свою мысль Букур. — Их скрытая или явная ненависть к советскому режиму — очень благодарная почва для нашей работы.
Спиртное возымело своё действие и полковник жандармерии Константин Бугур, имея в лице своих друзей благодарную аудиторию, не преминул похвастаться успехами своего ведомства:
— И, скажу я вам, — немного тише продолжил жандарм, — такие барышни — не лучший материал. Самые продуктивные агенты — это те, кто там, — Бугур кивнул головой назад, будто указывал в сторону Днестра, — были нищими, голыми и босыми. Тот квадратный метр земли, которого они лишились из-за большевиков — гораздо больший стимул к мести, чем спиртовой завод. У этой мадемуазель есть средства к существованию, она может такой же завод прикупить где-нибудь возле Тимишоары, и при этом её бриллианты останутся на ней. А у того нищего последнее забрали…
— Вы, Констанитин, рассуждаете как начальник разведки, а ведь у жандармерии несколько другие функции, — заметил Тамарин.
Его дружба с Букуром в их «клубе холостяков» носила для полковника румынского генштаба Кроитору несколько меркантильный характер — жандарм в силу своей природной общительности после нескольких рюмок всегда терял осторожность и непременно хвастался перед друзьями, опрометчиво считая, что эта информация исключительно для их узкого круга. Благодаря регулярным походам в модные заведения или их встречам за карточным столом Тамарин часто получал ценную информацию, так необходимую Одесскому иностранному отделу ГПУ.
— Ох уж эти мне ревности! — воскликнул Букур. — Мы делаем общее дело. Иногда один мой инспектор продуктивней всех ваших ушлых шпионов!
— Ну, разве что иногда… — Тамарин саркастично улыбнулся.
— Виорел, не злите меня, вы же знаете, я слов на ветер не бросаю! Вот, не далее, как вчера, задержали мы такого оборванца.
— Где же попался этот мститель и почему, а самое главное, кому он мстил здесь, в Бухаресте? — Тамарин интуитивно заинтересовался фразой жандарма и попытался развить тему.
— Патруль арестовал его на окраине, их мешок заинтересовал.
— И что там? Бомбы?
— Виорел! Ваши колкости неуместны, — полковник Букур покраснел от обиды. Жандармов в силовых структурах и так не очень жаловали, а когда в их адрес звучали подобные замечания от «белой кости» — генштаба, это было вдвойне обидно.
— Прошу прощения, господин полковник, готов с интересом выслушать окончание этой спецоперации, — Тамарин понял, что несколько перегнул палку в своей иронии.
— Вы неисправимы, полковник Кроитору, — примирительным тоном сказал Букур. — Так вот, этот персонаж вскрыл лавку одного почтенного бакалейщика, схватил первое, что ему попалось на глаза, пошарил в кассе и отправился восвояси. Тут-то мы его и взяли.
— И? — Тамарин понимал, что спасенный мешок с продуктами — не предмет гордости начальника жандармерии.
— И потом, когда я уже собрался сюда, к вам, отвести душу, так сказать, мне докладывают, что этот русский дает преинтереснейшие показания.
— Русский? — теперь уже Жорж проникся интригой и внимательно слушал Букура.
— Да чёрт их там знает, может, и украинский, они все для меня на одно лицо. Так вот, друг мой, задержанный этот всю ночь кричал, что его никак нельзя сажать в тюрьму, что он может быть полезен Румынскому королевству.
— Бред пьяного воришки… — Жорж махнул рукой и отвлекся на очередную песню в исполнении Лещенко.
— Я уж было вышел из себя — поначалу тоже так подумал. Оказалось — нет, мои жандармы его разговорили. Некто Бойченко Павел, — Букур произнёс имя задержанного с ударением на последний слог.
— Павел. Паша по-ихнему, — поправил полковника Тамарин.
— Несущественно, — жандарм поморщился и продолжил. — Он оказался человеком тяжелой судьбы. Как раз из тех, кто за свой потерянный квадратный метр земли зол на весь мир. Воевал против красных, против белых, против Петлюры…
Жорж дослушал последние аккорды и вернулся к разговору:
— Судя по всему, он свою войну со всеми начисто проиграл. Так бывает, когда один против всего мира.
— Ну почему же… — покачивая головой от удовольствия, жандарм прожевал маленький кусочек мяса индейки под клюквенным соусом, промокнул уголки рта салфеткой, заправленной за воротник и, наслаждаясь своей ролью в беседе, продолжил, — он был не один. Он воевал в некогда мощной армии, которая контролировала гигантские территории в нынешней Советской Украине. Их командиром был Нестор Махно.
Тамарин не поднял головы, продолжая разделывать запеченного перепела, что несколько даже обидело городского жандарма — Букур оттягивал этот момент, зная, что в силу своего рода деятельности полковник Кроитору однозначно будет ревновать к успехам его ведомства. Махновцами Виорел занимался уже много лет с переменным успехом.
— Виорел! Это же сфера вашего профессионального интереса! Я удивлён вашим каменным выражением лица! — воскликнул полковник жандармерии.
— Их было немного, всего семьдесят семь человек. Почти всех мы проработали. Это имя мне известно, но то, что он в Бухаресте — не знал. И чем же интересен Румынии этот мелкий жулик?
— А тем интересен, Виорел, что завтра он нам покажет, где этот их командир приказал спрятать какие-то документы чрезвычайной важности.
— Ну, тогда да. Это наше дело, — между прочим ответил Тамарин.
Букур побагровел:
— Ха! В каждой карьере случается хороший прикуп, и в этот раз он пришёл ко мне! Уж не хотите ли вы сказать, что заберете у меня этого туза?
— Вы как никто, Константин, знаете, что туз на прикупе — не всегда в масть. Агентура — не ваш конек, особенно, когда дело идет о внешних вопросах. Ну, а с меня шотландский виски и, конечно же, упоминание жандармерии и вас лично при составлении аналитической записки.
Букур некоторое время хранил молчание, коря себя за многословность, но в итоге всё-таки договорился сам с собой: все равно этого махновца на каком-то этапе у него забрали бы. Будет лучше, если он попадёт к Кроитору, а не в секретную службу, с которой у него никогда не было общего языка. Те просто отдавали команды, не считаясь ни с его чином, ни с должностью.
— Ладно, Виорел. Считайте, что ваши аргументы я услышал. Завтра изымем бумаги, допросим, и я вам его тёпленького отдам с потрохами, — Букур удовлетворённо откинулся на спинку стула, довольный своим правильным решением.
Тамарин закончил второе блюдо, достал папиросы и с удовольствием закурил, закинув ногу за ногу. Оркестр сделал перерыв, и публика в зале принялась беседовать между собой, наполняя заведение специфическим ресторанным гомоном.
— У меня другое предложение, господин полковник, — Тамарин, обдумав развитие событий, обратился к Букуру. — Завтра я появляюсь в комнате допросов, и сразу станет понятно — блефует бедняга или нет. Кроме того, он же что-то хочет взамен?
— Свободу он хочет, — пробурчал жандарм, прожевывая бифштекс.
— Ну вот. А у меня к нему могут быть вопросы по линии моего ведомства. Ну какая свобода?
— Тогда он не отдаст бумаги.
— Уверен, что если они действительно существуют, то отдаст. И будет благодарен, что мы их взяли.
— Бог с вами, ваше дело… — Букур вытащил из-под воротника белоснежную салфетку и с некоторым раздражением кинул её на пустой стул рядом с собой. — Завтра в десять приходите, прикажу, чтобы его доставили в Управление.
— Господин полковник, я непременно доложу руководству о вашей роли в этом деле. И прошу вас, Константин, — Тамарин докурил папиросу и затушил её в пепельнице. — Не держите в душе обид. Ещё не одного шпиона поймаете, вот прямо предчувствие у меня какое-то… — полковники рассмеялись и продолжили ужин.
Концертная программа «Трио Лещенко» закончилось за полночь. Георге Шипор и жандарм Букур, насладившись пением русского актёра и вкусом блюд в его ресторане, удалились отдыхать, оставив своего друга Виорела Коитору в одиночестве.
Зал постепенно начал пустеть, восхищенная мягким и мелодичным голосом солиста «Трио Лещенко», оставшаяся публика негромко обменивалась мнениями, а Тамарин, обдумав порядок своих действий на завтра, докурил папиросу и, прихватив с собой фуражку, отправился за кулисы.
— Да, войдите! — послышалось из гримёрки после стука Кроитору в дверь.
Пётр Лещенко сидел на невысоком вращающемся стуле напротив зеркала с лампами по бокам и снимал концертный грим.
— Пётр Константинович, я пришёл вас поблагодарить, — сказал Виорел на русском языке и положил на стол возле зеркала конверт.
— Вы замечательно разговариваете по-русски! — удивлённо воскликнул певец.
— Да. Скажем так — особенности профессии.
— А одесский диалект — это тоже особенности профессии? — усмехнулся Лещенко. — Это лишнее. Заберите. Кем бы вы ни были, можете на меня рассчитывать. Приятно иметь дело с земляками. А я себе песней заработаю, уж поверьте…
Бухарест. 15 ноября 1936 г.
Тюрьмы везде пахнут одинаково. Редкий сквозняк занесет за толстые стены струю свежего воздуха с запахами свободы, но она мгновенно растворится в застоявшейся атмосфере тюремного замка. Недаром люди, покидающие тюрьму, первое время не могут надышаться.
В силу своих служебных обязанностей Виорел иногда бывал в таких местах. Агентура готовится и из тех несчастных, что там оказались волею судеб. Еще не случалось ни одного эпизода в его карьере, чтобы заключенный отказался с ним сотрудничать. Полковник Кроитору обладал даром убеждения и всегда перед работой с потенциальным клиентом тщательно исследовал его личное дело, искал, где человек может дать слабину, за что его можно подцепить, пообещав свободу.
Сегодня полковнику предстояло импровизировать. Кроме имени и фамилии, он о задержанном не знал ничего. Его фраза, небрежно брошенная Букуру, о том, что этот человек ему известен, была блефом, сродни тому, из-за которого жандармский полковник так часто распекал его за карточным столом.
— Фамилия? — спросил полковник, сурово посмотрев на задержанного поверх очков.
— Бойченко. Павел Бойченко. Я уже всё рассказывал, господин офицер…
— Для вас начинается всё заново. Меня ваши трофеи в бакалейной лавке не интересуют.
Тамарин аккуратно, скрепя пером, занёс личные данные арестованного в протокол.
— Теперь вашим делом занимается разведка генштаба, — не поднимая головы, на русском произнёс полковник.
Услышав родную речь, Пашка ощутил лёгкую дрожь в ногах. «Теперь вашим делом занимается НКВД», — это было первое, что ему сказали после того, как вместе с Задовым и остальной группой они вернулись в СССР. Но перед ним сейчас румынский офицер, в румынской форме, почему же такая знакомая тоска появилась в душе?
— Давайте отставим формальности в сторону, протокол мы заполним потом. О каких документах вы говорили на первом допросе в жандармерии?
— Господин офицер, это длинная история…
— Ничего, я не спешу. Это не мне три года грозит, — резонно отметил Тамарин.
— Для чего мне вам это рассказывать, если всё равно три года? А расскажу — потом оглядываться всё время? — Бойченко понял, что вчерашние его следователи ничего не решают. Вот он, тот человек, которого действительно интересует эта тема. С ним и нужно торговаться.
— Боитесь мести своих братьев — анархистов?
— Да, боюсь. Если Нестор велел эти бумаги запрятать и забыть место, то, наверно, они что-то для него значат? А Махно обид не прощает. Много раз в этом убеждался, — Паша сложил ладони вместе и зажал их между колен, как ребенок. Он постоянно дёргал правой ногой и не мог остановиться — даже не было смысла скрывать нервное напряжение. Пусть этот офицер видит, что решение дается тяжело.
— Хорошо… К этой теме мы придём позже. Меня интересуют некоторые страницы вашей биографии, — Тамарин перелистывал протокол его вчерашнего допроса. — До некоторого времени мне всё понятно… Но вот с этого места: «После полученного задания от Харьковского ОГПУ был вынужден остаться на территории Румынии». Почему вынужден? Что вас подтолкнуло к этому решению?
— Да всё очень просто. Обещали амнистию, а взяли в оборот. Какой из меня шпион? Я из села, понимаете? Я когда первый раз винтовку взял в руки, патроны проспал…
— Ваша миссия на территории Румынии предусматривала обращение с оружием? — чем чаще задавать вопросы, тем больше шансов, что арестант «поплывёт». Не давать времени на обдумывание ответа и быстро выстреливать следующий вопрос — эта тактика всегда приносила Тамарину успех.
— Нет. Мне всего-то было нужно своих найти и поговорить по душам, кто хочет вернуться, — Бойченко выпалил ответ быстро, будто боялся, что его заподозрят в подготовке диверсии, разговоров об оружии следовало избегать.
Тамарин сделал в специально заготовленном черновике какую-то пометку и продолжил:
— Детальней о причинах вашего решения остаться в Румынии.
Бойченко опустил голову, и, разглядывая свои башмаки, пробормотал:
— Испугался я. Просто испугался. Нас когда в СССР забросили, наш старший сказал, что всё будет в порядке. А потом оказалось, что совсем даже нет. Нас всех долго проверяли, допрашивали, не верили.
— К вам применяли меры физического воздействия? — перебил его Тамарин.
— Ко мне — нет, но говорят, что некоторым досталось.
— Попрошу вас не опираться в своих показаниях на слухи. Для нас это неприемлемо. Вижу, что вы идёте на сотрудничество и мне, скорее всего, есть что вам предложить взамен, но я должен быть уверен в вашей полной искренности и лояльности. Так вы сами видели или вам кто-то рассказывал?
— Да нет… Слышал только.
— Тогда продолжайте в этом же ключе, — поправив очки, приказал полковник.
— Ну вот… — Бойченко продолжал подёргивать ногой. Ему предстояло впервые рассказать всю свою подноготную, чего он ещё никогда не делал. — Последней каплей стало, когда я узнал, что старшего нашего, Лёву Задова, держат в ванной пятый месяц. Меня следователь вызвал и говорит: «Хочешь, чтобы твой командир в живых остался?». Я ответил: конечно, хочу. Так он и говорит: «Поедешь в Румынию, соберешь данные, которые я скажу. Если совпадут с его показаниями — значит, ты его спас».
— И что вы решили? — в тот момент, когда Бойченко упомянул Задова, Тамарин напрягся. Человек, который знает его лично, находится в плену у румынской разведки, владеет историей событий и знает нечто о документах Махно. Что еще он может знать и насколько опасны его знания для Задова и для агентурной сети «Скрипачи», в которую входил сам полковник Виорел Кроитору?
— Я выполнил поручение чекистов, но когда в самом начале 1925 года мне удалось разыскать Нестора, тот открыл мне глаза на многие вещи.
— Где вы его нашли? — Тамарин что-то постоянно записывал и задавал вопросы, не поднимая головы.
— В Данциге. В сапожной мастерской. В нищете он жил, в одиночестве…
— Продолжайте детальней о вашем с ним разговоре, — поправил Тамарин арестанта.
— Хоть и кашлял Махно, хоть и скрючила его жизнь, но многим интересовался. Вот глаза у него горели как раньше, понимаете?
— Понимаю. Эта фигура нам хорошо известна. Мы с ним работали некоторое время. Слушаю вас дальше.
— Ну, я ему всё и рассказал, как на духу. Говорю же, хреновый из меня шпион.
— В деталях, пожалуйста, — Тамарин был вынужден постоянно подталкивать Бойченко к откровениям. Было отчётливо понятно, что тот каждое слово из себя выдавливает с трудом, пытается обдумывать последствия. — Что конкретно вы ему сказали?
— Да что… как Лёвка нас уговорил сдаться, как нас перевербовали, что следователь этот, Спектор, воевал вместе с нами.
— Сотрудник ЧК, который вас допрашивал, вместе с вами воевал в махновской армии?
— Так точно, — по-военному отрапортовал Бойченко. — Только тогда назвался другим именем. Он глазастый такой, невысокого роста, на цыганенка похож. Молодой совсем, пронырливый…
— Как Махно отреагировал?
— А никак. Ходил из угла в угол, как зверь по клетке. Потом как заорёт: «Обложили ещё тогда, в двадцатом?!». Галину костерил на чём свет стоит. Она ж на него влияние имела очень сильное. Кого казнить, кого миловать… Говорит, мол, Лёвка, получается, тоже шпионил, а Галина его от смерти спасла, когда на сходе ему хлопцы приговор хотели вынести. У него в мозгах картинка быстро складывается, у меня с этим туго, а Нестор человека насквозь видит…
— А зачем Галина его спасла? Она тоже на чекистов работала? — допрос входил в самую интересную для Тамарина фазу.
— Да что вы… нет, конечно. Она баба идейная. Разные слухи ходили. Но глаза у неё маслянистые становились, как Лёвка появлялся.
— Вернёмся к делу. На чём закончили?
— Вы, господин офицер, всё выпытываете, выпытываете… А что мне с того? Вы ж неспроста ко мне сюда приехали… Мы оба это понимаем. Вернуться домой я уже не смогу, это факт, но и здесь жить в камере — не сахар. Вы там говорили, что есть предложение, так предлагайте. Пора уже.
Тамарин снял очки, поднялся из-за стола и подошел к зарешеченному окну, расположенному почти под потолком комнаты для допросов. Пауза затянулась, и Бойченко уж было подумал, что его торги провалились, но полковник после некоторого раздумья, не поворачиваясь, произнёс:
— Я на вас рассчитываю, мы найдем вам применение. В лавку вы залезли не от хорошей жизни, это понятно. Могу гарантировать свободу и некоторое, в рамках разумного, денежное содержание. По мере выполнения моих поручений.
У Бойченко отлегло от сердца — это было именно то, что он хотел услышать, но требовались некоторые уточнения:
— Господин офицер, я же говорю: шпион из меня — так себе. Второго пришествия в СССР я не выдержу. Там меня поймают и расстреляют. Теперь точно.
— И это я понимаю. Восточную границу Румынии вы не пересечете. Обещаю. Если такое будущее вас устраивает, то теперь ваша очередь доказать свою нужность и преданность, — Тамарин повернулся к Пашке лицом и говорил ему это, глядя прямо в глаза.
— Если назад не будете посылать, то я согласен. Нет сил уже побираться…
— Тогда договорились, и я вас слушаю.
— Нестор и говорит: «Раз так, Лёвка с этим Спектором доставать меня будут. Есть у них ко мне пиковый интерес». И полез под кровать. Достал жестяную коробку. Там сверток с бумагами. Велел увезти с собой и спрятать где-нибудь в надежном месте.
— Вы читали, что там?
— Глянул, конечно, но я-то и по-нашему с трудом читаю, а там все буквы иностранные.
— Махно сообщал вам, что там, в этих бумагах? — Тамарин опять сел за стол и налил из графина стакан воды. — Выпейте. Не волнуйтесь.
Бойченко, всё еще продолжая трусить ногой, жадно сделал несколько глотков, пока стакан не опустел.
— Нет. Сказал только, что в этой коробке смерть Кощея, как в сказке. Велел оставить свой адрес и в случае его изменения немедленно об этом сообщать. Денег дал ещё на обратную дорогу и на первое время чтобы хватило.
— А что ж так? С ним не предлагал остаться? Может, подмастерьем? — поинтересовался полковник.
— Не… Сказал, что нам лучше вообще не видеться до поры до времени. Велел лечь на дно, найти себе работу и не попадаться на глаза жандармам…
Тамарин едва заметно улыбнулся уголком рта. Будь у Махно выбор, он никогда бы не доверился такому дилетанту, но, судя по всему, у него совершенно не было альтернативы.
— Где бумаги? — ответ на этот вопрос определял дальнейшие действия Тамарина.
— Знамо где… Там, где спрятал, — уже уверенно ответил Бойченко. — Не знаю, как это место называется, показать могу.
Тамарин достал из портфеля карту Бухареста и его окрестностей и разложил её перед своим новым агентом:
— Покажите.
— Говорю же, не грамотный я! — взбунтовался Бойченко. — Я сейчас пальцем ткну, а вы меня назад, в камеру. Так не пойдёт, господин офицер.
«Прав был Букур, когда предупреждал о хитром складе ума этого крестьянина», — Тамарину приходилось менять планы на ходу. Оставлять Бойченко в распоряжении жандармерии нельзя: если он расскажет то же самое сигуранце, то станет вопрос о жестяной коробке, а у полковника Кроитору были на неё свои планы.
— Мне не нравится ваш тон, Бойченко. Вам недостаточно слова офицера? — с укоризной ответил полковник.
— Недостаточно. Недостаточно! — почти прокричал Пашка. — У вас тут всё устроено ещё хитрее, чем в Гуляйполе в девятнадцатом! Там я хоть понимал, где свои, а где чужие, а здесь каждый мягко стелет, да жёстко спать! Все тут брешут, все! — У Бойченко, похоже, начался приступ неврастении.
— Так, а ну прекратить истерику! — Тамарин налил в стакан и тут же плеснул её в лицо арестованного. — Там мы с вами каши не сварим! Так у вас говорят? За городом спрятал?
— Да, минут тридцать на телеге ехал после того как дома закончились… — Бойченко утёрся и попытался собраться. Сейчас ему никак нельзя было допустить ошибку. Сначала свобода, потом — коробка.
— Вы говорите, покажете?
— Покажу. Но без конвоя и наручников, — Пашкин голос дрожал от волнения.
— Всё, успокоился? — Тамарин струсил на пол капли воды со своих листов бумаги и сложил записи в портфель. — Не забывайте, Бойченко, что вы не в санатории. Вас в краже со взломом обвиняют, и я, даже при всей своей влиятельности, не могу сейчас взять вас под руку и вывести отсюда. Как минимум нужно уладить формальности. Ждите.
Тамарин, крайне недовольный последним всплеском эмоций допрашиваемого, одел фуражку и постучал в дверь, которую с той стороны немедленно открыли.
— Он остаётся здесь. В камеру не уводить, — громко скомандовал Кроитору, и тюремщик взял под козырёк, несмотря на то, что не находился в прямом его подчинении.
«Как я его, а?» — облегченно вздохнул Павел Бойченко, глядя в окно под потолком. Там его ждали свобода и новый виток жизни.
Спустя полтора часа в сопровождении конвоя Бойченко следовал к месту своего преступления для проведения следственных действий.
— Господин полковник, у меня поручение от начальства: передать вам заключённого для проведения следственных действий без нашего участия, — рапортовал капитан жандармов после того, как Бойченко показал, как забрался в лавку через окно и выходил потом через дверь.
— Абсолютно верно, капитан. Арестованный поступает в моё распоряжение и в камеру больше не вернётся. Все формальности уладим завтра, я с полковником Букуром об этом договорился, — ответил Тамарин, надевая перчатки.
— Так точно! — капитан отдал честь и, развернувшись, дал команду своим подчинённым следовать за ним.
Бойченко, освободившись от наручников, потер запястья и, размяв руки, с улыбкой проследовал за своим спасителем.
— Вот видите, я своё слово держу, — полковник генштаба вёл свой Peugeot 201 на северо-западную окраину Бухареста. Им предстояло выехать из города и найти на расстоянии десяти-пятнадцати километров от столицы заброшенную лесопилку в чаще.
— Что-то я не припоминаю этой мельницы… — новоиспеченный агент проникся своей значимостью и принимал активное участие в поиске дороги.
— А вы и не могли её видеть. Судя по описанию, вы заезжали с другой стороны. Кстати, а кто вас вёз? — поинтересовался Тамарин.
— Да какой-то крестьянин. Мешки у него в повозке были с чем-то мягким.
Тамарин уверенно вел машину, под равномерный скрип дворников которой Бойченко стал дремать.
— Мост переезжали?
Пашка вздрогнул от неожиданного вопроса и, оглядевшись по сторонам, ответил:
— Да, за ним я и спрыгнул. Потом по проселочной дороге шел почти час. Вот! Вот этот мост! — Бойченко энергично принялся размахивать руками, указывая пальцем на ту самую просеку.
Автомобиль двигался по просеке медленно — здесь давным-давно никто не ездил, об этом можно было догадаться по отсутствию следов на мокрой земле и хрусту мелких опавших веток под колёсами.
— Хорошее у вас авто, господин полковник… — заметил Бойченко, всматриваясь в сумерки леса.
— Не отвлекайтесь. Сейчас стемнеет, и если мы пропустим нужное место, застрянем тут надолго, — Тамарин вернул своего спутника в реальность.
— Не переживайте, я среди лесов вырос. Ещё ни разу за свою жизнь не заблудился. Вон, на той развилке левее, — Бойченко указал на поваленное дерево, служившее ему ориентиром. — Я же готовился, а не так, случайно набрёл. Я это место давно приметил, когда за грибами ходил, — с обидой в голосе ответил новоиспечённый агент.
Ещё пара километров, и впереди показались заброшенные бревенчатые строения — пара сараев с разрушенной крышей и заваленными стенами. Брёвна настолько прогнили, что не могли больше служить строительным материалом. Случайному путнику не пришло бы в голову искать здесь ни убежище, ни какие-нибудь полезные в хозяйстве вещи. Повсюду стоял устойчивый запах сырой, гниющей древесины.
«Дилетант, а место выбрал правильно», — промелькнуло в голове у Тамарина, пока он искал место среди зарослей, чтобы оставить машину.
— Со мной пойдёте, или как? — Бойченко вопросительно взглянул на своего куратора.
— Да. Так будет надёжней. Мы сотрудничаем только несколько часов. Надеюсь, агент «Казак» не обидится? Я придумал вам оперативный псевдоним. Привыкайте.
— Казак… Ну, неплохо для начала… — хмыкнул Бойченко, открывая дверь чёрной машины.
Поиски были недолгими, несмотря на темноту и опустившийся туман. Агент Казак уверенно пошел к нужному месту и даже не обратился за помощью, когда пришлось открывать крышку сгнившего люка, ведущего в подпол. Хруст сгнившей лестницы в тишине леса был практически не слышен. Из подвала раздался поток речи на русском и еще пара слов о какой-то матери — новоиспеченный агент рухнул в подвал — старые ступени не выдержали даже его, практически детского веса.
— Жив? — Тамарин предусмотрительно захватил с собой фонарь и спустя минуту уже светил им в чёрную дыру, ведущую в подпол.
— Да, господин полковник, Казак на связи! — со смехом доложил из ямы Бойченко. — Вот она! В тусклом свете фонарика Siemens Тамарин увидел коробку из-под леденцов, на заржавевшей крышке которой просматривались контуры нарисованной балерины.
— Подайте какое-нибудь бревно! Тут глубоко и внутри ничего нет!
Тамарин осмотрелся и ничего кроме пары досок, рядом не приметил, но при первом же прикосновении они рассыпались в труху.
— А я тут долго буду сидеть? Вы меня не разочаровывайте!
— Сейчас. Нужна веревка. Подождите.
Недолгие поиски привели Тамарина к остаткам привода ленточной пилы, где осталась кожаная полоса, надетая на старый шкив.
Все попытки Бойченко выбраться из ямы успехом не увенчались.
— Кидайте коробку, вам нужны свободные руки, — сказал Тамарин в темноту подвала, и почти сразу она прилетела наверх.
— Ну, теперь у меня руки свободны! Господин офицер, найдите бревно покрепче и положите поперёк, а ремень на него накиньте. Я тут как-то зацеплюсь, — голос Бойченко из подвала казался приглушенным и тихим.
Тамарин отошёл в сторону, и, открыв коробку, посветил фонарём. Бумага практически не пострадала от влаги, и перевязанный крест-накрест коричневой лентой свёрток был совершенно сухим. Нескольких секунд хватило полковнику Кроитору, чтобы удостовериться в том, что перед ним предмет его заботы в течение последних нескольких лет.
— Где вы, Казак? — Тамарин уронил над квадратным отверстием в прогнившем полу бревно и посветил вниз.
— Здесь я, здесь! А ремень? Ремень накиньте!
— Покажись, Казак, где ты? Я не вижу!
— Да вот он я! — в луче фонарика Бойченко был едва различим, и Тамарин выстрелил сначала на голос. Еще два выстрела практически были не слышны в округе, потому что полковник опустил руку вниз, ниже уровня пола, и весь их глухой звук был поглощен мягкой древесиной, поросшей мхом…
Бухарест. 16 ноября 1936 г.
Первое, что сделал полковник жандармерии Константин Букур, после того как ему доложили, что наружное наблюдение потеряло из вида автомобиль Кроитору, — устроил вселенский разнос подчинённым.
Когда Букур кричал у себя в кабинете, его секретарь в приемной, как правило, опускала глаза и ещё усердней стучала клавишами печатной машинки, пытаясь этим звуком заглушить колоритные выражения своего начальника. Вчера вечером она ещё и покрылась нежно-розовыми пятнами от обилия нецензурных выражений, пробивавших даже закрытую дверь кабинета с помощью силы голоса её шефа.
Капитаны, лейтенанты и прочие провинившиеся жандармы вышли от Букура спустя тридцать шесть минут с одинаково строгими лицами, выражающими крайнюю степень озабоченности и решимость исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Так случалось каждый раз после какого-нибудь провала, а таковым у начальника Бухарестской жандармерии считалось любое, даже самое незначительное событие, не вписывавшееся в его теорию успеха — от легкого запаха вчерашнего возлияния, исходящего от дежурного и до случая, подобного сегодняшнему.
Уступка начальника жандармерии своему другу из генштаба в виде арестованного махновца, поначалу была экспромтом, сделанным в уютном зале ресторана Петра Лещенко под влиянием алкоголя, доброго расположения духа и, как следствие — некоторой расслабленности. Уже по пути домой полковник Букур, размышляя, не совершил ли он опрометчивый шаг, принял решение отдать некоторые срочные указания подчинённым и его личный водитель был вынужден сменить маршрут, повернув в сторону жандармского управления. Прибывшие в течение нескольких минут дежурные офицеры получили инструкции на завтра — главного жандарма интересовали все подробности предстоящего общения задержанного и полковника Кроитору.
Если его, Букура, сомнения окажутся надуманными, и Виорел раскрутит этого русского, то луч славы упадёт и на седую голову жандарма, а главное — можно будет по-свойски попросить старого товарища Кроитору списать полностью или частично карточный долг, о котором полковник даже боялся думать. Сумма, проигранная месяц назад в бридж, составляла почти полную стоимость его дома. Виорел милостиво согласился на любую рассрочку, удобную для начальника жандармов, но под разными предлогами больше не садился за стол, будто исключая возможность реванша со стороны Букура.
Ну, а если слежка вскроет какие-либо подозрительные факты, то вполне можно будет начать свою игру. И это будет не бридж. Тогда, в случае победы, и лавры будут единоличными, и долг точно аннулируется — Константин Букур любил ходить ва-банк.
Поздно вечером в пятницу, 15 ноября, отдел наружного наблюдения отчитался о том, что достоверно установлено — Кроитору выехал из Бухареста на своём автомобиле с пассажиром на переднем сиденье, а вернулся через полтора часа домой в одиночестве. Примерно определили и район, где полковник генштаба мог высадить пассажира — от выезда из столицы, где его потеряли, и до точки на шоссе, в которой его заметили из машины наблюдения на обратном пути.
Места в очерченной зоне поиска были абсолютно безлюдными, что разожгло в полковнике жандармов нешуточный азарт. Для чего ехать на ночь глядя в глухой лес? Почему Кроитору вернулся оттуда в одиночестве? Куда делся Бойченко? К чему такая поспешность и скрытность? Документы таки существуют и махновец не блефовал?
— Господин полковник, они нашли труп арестованного! — эти слова дежурного, прозвучавшие в телефонную трубку рано утром в субботу, 16 ноября, услаждали слух Букура приятней, чем все концерты Лещенко.
— Немедленно старшего наряда ко мне с докладом! — заговорщицки прошипел полковник в чёрную эбонитовую трубку телефонного аппарата, стоявшего на его столе в рабочем кабинете.
Личный состав жандармского управления, наслышанный о неприятностях коллег из наружки, не слишком удивился, когда по отделам разнеслась весть о том, что шеф ночует в кабинете. Правда, это был второй раз в истории. Первый случился пару лет назад из-за жуткого перепоя полковника, принимавшего тогда у себя инспекцию.
За чашкой прекрасного кофе, который ему подал еще не проснувшийся адъютант, Константин Букур размышлял о своих дальнейших действиях. Лицо его при этом приобрело благостное, умиротворенное выражение, но не от вкуса божественного напитка, который он любил запивать, как в лучших домах, холодной водой, а от открывающихся перспектив в истории с Бойченко. Десятки вариантов развития событий прокрутил у себя в голове начальник Бухарестской жандармерии, пока ждал с докладом старшего офицера, посланного в ночную экспедицию на поиск арестанта Бойченко.
Капитан Михай, один из немногих подчинённых полковника, которых он считал перспективным служакой, в своём докладе шефу был лаконичен:
— На заброшенном хуторе в подвале лесопилки при осмотре местности в 5:20 был обнаружен труп задержанного ранее Бойченко. Погиб от огнестрельных ранений. Одно в грудь, два в голову. Криминалистам ещё нужно время, но с большой долей вероятности можно утверждать, что туда он прибыл на автомобиле, который на месте происшествия обнаружен не был.
— Что он там делал? — полюбопытствовал Букур.
— В подвал он спустился сам. Под ним проломилась лестница. Сломы свежие, выделяются на фоне остального дерева. Положение тела и характер пулевых ран позволяют предположить, что убили его сверху.
— Позволяют предположить, можно утверждать… Когда вы научитесь чётким, военным формулировкам? — с раздражением прервал своего офицера полковник, стоя лицом к окну и спиной к докладчику. Серые тучи, ровным слоем накрывшие Бухарест с рассветом, разродились первым густым, мокрым снегом.
«Почему не вчера? Приехал по сухой земле, сделал своё дело, уехал, даже не замаравшись», — размышлял полковник, пытаясь выбирать из всех придуманных вариантов дальнейших действий единственно верный.
— Ещё есть что доложить? — полковник решил прервать капитана. Ему была ясна картина событий. Теперь предстояло действовать.
— Полковник Кроитору находится дома, за ним установлено наблюдение! — отчеканил Михай.
— В этот раз опять упустите? — начальник жандармерии, заложив руки за спину, разговаривал громко, чётко, со злостью в голосе.
— Никак нет, господин полковник, — офицер выпрямился по стойке «смирно», ожидая дальнейших указаний.
Букур жестом приказал капитану удалиться и, сделав последний глоток уже остывшего кофе, уселся за стол. Сверля глазами телефонный аппарат, полковник размышлял. От того, кому он сейчас позвонит, что скажет, зависит вся его карьера. Сюжет завернулся слишком лихо и быстро, чтобы успеть спокойно проанализировать факты, но сейчас он, полковник Букур, «сидел на раздаче». Потом подключится генштаб — они будут биться за честь мундира, обязательно примчится секретная служба — куда уж в румынском королевстве без них, но будет уже поздно. Если он сам решится раздать карты.
— Соедините меня с генералом королевской жандармерии…
В 9:30 Букуру доложили, что полковник Виорел Кроитору, одетый в штатский костюм, выехал из дома и прибыл в парикмахерский салон, где ему делают стрижку и прочие процедуры.
Около 10:30, через час после донесения службы наружного наблюдения шефу жандармерии, по чётной стороне strada Lipscani, разглядывая витрины многочисленных магазинчиков, расположенных под несоразмерно крупными вывесками, не спеша прохаживался господин холёной наружности в сером пальто и чёрной шляпе. Его шарф еле прикрывал довольно крупную шею от холодного ноябрьского ветра, порывы которого то и дело вынуждали господина придерживать модную шляпу во избежание казуса.
Прогуливающийся мужчина был одет несколько не по погоде — любой наблюдательный шпик сделал бы вывод, что этот прохожий — не местный. Погода прошлой ночью резко ухудшилась, и житель Бухареста, собираясь выйти на улицу, наверняка открыл гардероб и оделся бы потеплей, а у этого мужчины на ногах были надеты легкие туфли на тонкий носок, да и фасон его пальто никак не позволял согреться в ветреную и снежную погоду, как сегодня. К тому же руки мужчины были заняты не зонтом, как у всех вокруг, а свёрнутой в несколько раз газетой, купленной при выходе из гостиницы.
Казалось, господина в шляпе погодный катаклизм, не характерный для этих мест, совершенно не тревожит. Походка его была неспешна, взгляд беззаботен. Дойдя до кондитерской, которая только что открылась, мужчина зашёл внутрь, заказал два круассана, стакан местного лимонада, который он так любил, и чашку кофе. Повесив пальто и шляпу на вешалку между двумя столиками, господин отпил глоток горячего напитка, удовлетворенно кивнул в сторону вопрошающе поглядывающего на первого гостя кондитера и развернул газету.
— Прекрасные круассаны! — Одинокий гость заведения, вкусив французскую булочку, встал и подошёл к стеклянному прилавку, на котором были выставлены несколько десятков шедевров кондитерского искусства — от маленьких шоколадных пирожных и до больших тортов, увенчанных кремовыми цветами. — Пожалуй, попрошу вас завернуть мне с собой. Каждого вида по две штуки, кроме тех, что с шоколадной начинкой. У меня на шоколад аллергия.
Хозяин, облачённый в стерильной чистоты передник и белые нарукавники, потянулся за бумажным пакетом и взял в руку щипцы:
— Господин останется доволен. Я вас уверяю, лучших французских булок вы не найдёте во всем Бухаресте! Наша семья уже в третьем поколении занимается кондитерским делом, и мы что-то уже в этом смыслим.
— Хотя… Погодите немного. Мне еще нужно зайти в парикмахерскую напротив, а после я вернусь к вам. Пусть даже и через дорогу перейти, но не хочу, чтобы они остыли.
— Ооо… господин понимает в тонкостях, — укладывая на место пакет, сказал кондитер. — Холод — злейший враг круассана. Вы правы. Как только освободитесь, я в вашем распоряжении. Сейчас там, в печи, как раз подходит свежая партия, — кондитер многозначительно кивнул в сторону двери, ведущей в подсобное помещение, откуда доносилась приятнейшая смесь сладких запахов. — Здесь они дома, в тепле. Не стоит их тревожить без дела, иначе они не отплатят вам радостью вкуса…
— Я буду примерно через час, — обратился мужчина к кондитеру, обслуживавшему зашедшую за сладостями барышню с ребенком.
— Я не исключаю, что может быть, и раньше. В салоне мадам Ионеску случилось нечто необычное, — заметил кондитер, разрезая торт для ребенка. — За полчаса до вашего прихода от неё отъехали два авто. Говорят, арестовали кого-то. В любом случае, я вас жду в любое время! Мне нужна четверть часа, чтобы побаловать вас свежеиспеченными булочками.
— О, господин кондитер! И мы тоже подождём ваших знаменитых крауссанов! Да, Люси? — женщина получила в ответ на свой вопрос громкий возглас и хлопанье в ладоши — маленькая девочка лет пяти, закутанная поверх овчиной шубки в длинный шарфик, испытала прилив счастья.
Надевая пальто и шляпу, мужчина поглядывал сквозь витрину на громадные окна парикмахерского салона, пытаясь различить там хоть какое-то нетипичное движение или признаки опасности. У него было несколько секунд на принятие решения — идти или нет. Много раз его инструктировали в отделе внешней разведки Одесского НКВД о том, как определять слежку, маневрировать на улицах старого Бухареста, которые он знал уже как свои пять пальцев, но каждый раз Иосиф Аглицкий, посмеиваясь, отвечал что-то вроде: «Отстаньте от бедного еврея! Мне бы от своих коллег-контрабандистов спетлять, румынам я деньги вожу, а ваши записочки — детская песочница по сравнению с моим саквояжем купюр!».
Сквозь капли на стекле салона просматривались фигуры мастеров, заботливо порхающих над клиентами. Кресло, расположенное в дальнем углу, которое он всегда занимал каждую третью субботу, было свободно.
Перекинув шарф через левое плечо, Йося открыл дверь кондитерской, отчего та зазвенела подвешенными сбоку колокольчиками, и, засунув руки в карман, пересёк неширокую проезжую часть, ускорив шаг после сигнала ехавшего с правой стороны «Рено».
Так же быстро, картинно поёживаясь от холода, Иосиф в два больших шага достиг двери салона и зашёл внутрь, отряхивая с пальто редкие снежинки.
— Ооо! Господин Абель! Как я рада вас видеть! — к нему тут же подбежала хозяйка салона, мадам Лаурель Ралеску. Её сложенные вместе руки, умоляющий взгляд и необычно шумное поведение заставили Йосю напрячься. Его попытку снять шляпу, он тут же пресекла, проворковав:
— Вы простите за задержку, но у вашей супруги настолько изысканный вкус, что нам пришлось немало потрудиться, прежде чем нашлась её любимая парижская пудра!
Вручая «господину Абелю» небольшую коробку, обернутую в подарочную упаковку с бантом из бирюзовой ленты сверху, мадам Ралеску многозначительно указав взглядом на здоровяка в костюме, сидящего на кресле возле столика с модными журналами продолжила:
— Следующий раз, если вам будет нужно сделать своей любимой подарок, позвоните по телефону. Не стоит в такую погоду ходить по городу в столь лёгком пальто… Передавайте привет госпоже Абель, мы всегда к её и вашим услугам, — хозяйка учтиво поклонилась, давая понять своему клиенту, что её миссия выполнена и она его больше не задерживает.
Безразличный взгляд скуластого и налысо постриженного человека в углу переключился с хозяйки на журнал.
— Премного благодарен, мадам Ралеску, вы спасли меня от семейной драмы! — Аглицкий приподнял шляпу в знак почтения, улыбнулся и вышел на улицу.
Йося спинным мозгом почувствовал на себе взгляд скуластого и, не спеша, перекладывая подарочный свёрток из руки в руку, пошёл ко входу в кондитерскую, попутно улыбаясь её хозяину, с любопытством смотревшему на него сквозь свою витрину.
— Вот видите, вы были правы… Решил все вопросы за минуту. Давайте свою вкуснятину, пойду, супругу побалую… — не снимая верхней одежды, Йося разглядывал витрину под одобрительные комментарии кондитера. — Вот этот торт мне нравится. Отрежьте и его, пожалуйста.
— Сделаем в лучшем виде! Присядьте пока, свежие круассаны вот-вот поднесут.
«Итак… Там час назад кого-то арестовали… Лора сказала, что в коробке подарок для жены, которой у меня нет… Шляпу не взяла, значит, подарок и есть то, за чем я шёл. В салоне сидит чужак, и он явно не стрижку ждёт… Следующий раз — звоните», — размышлял Иосиф, нетерпеливо ожидая проклятую выпечку. Сейчас никак нельзя было выказать спешку и волнение. Если хозяйка салона умудрилась успеть упаковать посылку в подарочную бумагу и передать, то будет обидно, если всё дело завалится на нём. Что же там такое, что коробка понадобилась?
Проворный старик за стойкой, ни каплей не замарав свои белоснежные нарукавники, упаковал торт и круассаны и, получив деньги, выдал с поклоном сдачу:
— Вы еще зайдёте?
— Искренне на это надеюсь, — подняв шляпу в знак почтения, Аглицкий откланялся гостеприимному кондитеру, после чего, так же, не торопясь, пошел в сторону ближайшей площади.
— А что сказал этот мужчина, в сером пальто, когда зашёл к вам? — спросил кондитера сотрудник отдела наружного наблюдения жандармерии, перейдя спустя четверть часа в лавку сладостей из парикмахерского салона напротив.
— Да ничего особенного, выпечкой интересовался… Собирался в салон мадам Ралеску зайти на часик, но почти сразу вернулся…
— Чччёрт… Есть у вас телефон?
Одесса. 27 ноября 1936 г.
— Сёмочка, как ваше ничего?
— Мадам Зборовская, ви же знаете, ничего бывает трёх видов — ничего хорошего, ничего плохого и ничего себе. Так у меня третье.
— Сёмочка, а что же ви кушаете, если теперь «ничего себе»? Ваша покойная мама просила меня на смертном одре за вами приглядывать! Что же я скажу мой почтенной подруге Саре Львовне, когда мы с ней повстречаемся в раю?
— Мадам Зборовская, скажите маме, что я хорошо таки устроился, ей не стоит волноваться. Плохих людей не берут в коммунисты, пусть она за меня гордится и спокойно отдыхает в своём райском саду…
— Сёмочка, я запомнила, но пока буду за вами приглядывать тут, если позволите…
— Будьте здоровы, мадам Зборовская, и не кашляйте!
Задову пришлось открыть окно, чтобы проветрить кабинет — табачный дым висел густым сизым облаком, пронизываемый светом настольной лампы.
— Товарищ начальник, Лёва! Ты решил выпить всю мою кровь? — Йося второй час общался с Задовым, рассказывая в красках и подробностях свои злоключения последних дней.
— Ты видел момент, когда его выводили?
— О боги! Не видел! Не ви-дел! Кондитер мне сказал! Я никогда с ним не встречался… Даже если бы меня, честного человека, эти деспоты пытали в румынских застенках, полных крыс и мокриц, я б его не опознал.
— Кури… — Задов протянул Йосе парку папирос. — А может, это и не он вовсе был!
— У меня от твоего курева уже чахотка скоро случится! — ответил Аглицкий, но всё же протянул руку к пачке. — Конечно, в Бухаресте по субботам в парикмахерских арестовывают шпиёнов, а что… Обычное дело… А потом ещё и дежурного в салоне оставляют. На него как посмотришь — чистое пугало. Чистое…
— Как ты ушёл? Ещё раз… — начотдела иностранной разведки, полковник НКВД Лев Задов учитывал особенности характера своего агента Аглицкого, имевшего способность за эмоциями и красками терять так много значащие подробности.
— Через сорок минут я ногами вышел из гостиницы с саквояжем и отбыл с попутным ветром на железнодорожный вокзал.
— Какой марки был ветер? — спросил Лёва.
— «Опель», кажется. Я не помню точно. Не солите мне душевные раны, начальник! У меня перед глазами та горилла бритая из салона стояла. Повсюду, гад, мерещился. Сел я в поезд на Констанцу и уехал. Ну не переться же мне напрямую! Как ты учил, воспользовался запасным маршрутом.
— С тобой больше багажа не было?
— Та не… Я ж обещал тебе, Лев Николаич, свои дела с твоими не путаю.
— Бумаги куда спрятал? — Задов стоял, опершись кулаками о стол и сверля глазами Йосю. Он всё пытался вытянуть из него подробности, позволявшие составить представление о том, что произошло с Тамариным, но, похоже, контрабандист не врал. Счастливый случай, холодный разум мадам Лаурель Ралеску — Ларисы Поляковой, дочери белогвардейского полковника, вышедшей в Бухаресте удачно замуж, а потом ставшей любовницей Кроитору-Тамарина, да недалекость жандармской службы наблюдения позволили одесскому авантюристу уйти от беды в тот момент, когда она уже стояла у него буквально за спиной.
— Туда, где банкноты вожу. В дно саквояжа.
— Коробку где оставил? В номере?
— Та что я, умалишённый? В саквояж положил, а на вокзале в туалете выбросил.
— Это ошибка, Йося… Ты улику с собой через полгорода вёз, — отчитал своего агента Задов.
— Я вас умоляю! Та кто ту коробку видел? Только курьер твой, да Лаурель эта из салона. Обычная жестянка из-под леденцов. Старая, правда, как моя соседка мадам Зборовская.
— Ладно, несущественно… Это тебе на будущее замечание.
— А будет ещё? — искренне удивился Йося. — Вот это да! Что я слышу! Доктор, у меня больные уши? Ты, Лёва, не ценишь свой кадровый состав, слышишь? Мне нервы лечить надо, фасон причёски менять и срочно худеть! Что ты! Иначе меня там узнают, и конец моей карьере разведчика… Клифт новый надо сообразить опять же… Ты же, как угорь, тут по кабинету два часа извиваешься, а правды не говоришь. Что, провалились твои румыны?
— Товарищ Аглицкий! — Задов нагнулся к Йосе, сидевшему на диване, закинув ногу за ногу, и зло прошипел ему в лицо:
— Вам положено знать то, что допустимо… Выводы я сделаю сам. Надо будет — поедешь…
Йося выждал паузу, пока начотдела отошёл в сторону, к окну, и не преминул ответить:
— Вот она, чёрная неблагодарность… Я ему и документики, и колбаски заморской, и чулочки для супруги, а он меня — к ногтю! А у меня мама болеет! Ей вредно волноваться!
— Ваша мама, товарищ Аглицкий, даже в своём возрасте здоровее папы Римского. Ты бумаги смотрел?
— Нет, конечно, Лёва! Что ты, что ты…
Аглицкий имел способность врать, не краснея. Этот талант не раз помогал ему «вешать лапшу на уши» румынским пограничникам и таможенникам. Собственно, используя эту свою способность, он и добился процветания в своём нелегальном контрабандном деле, при этом отдавая себе отчёт, что без покровительства Задова ему давно настала бы крышка.
В ту субботу, в Бухаресте, Йося трясущимися руками вскрывал потайное дно своего саквояжа. Места там было очень мало — только для крупных купюр тонким слоем. Связка бумаг никак не помещалась. Пришлось её разбирать по листам, складывать их вдвое и равномерно распределять по пустотам.
Поначалу бумаги на немецком у него интереса не вызвали — ну мало ли какие документы могли передать Задову из Бухареста? Но потом он, глядя на кайзеровского орла в титуле каждого листа, на надписи «совершенно секретно», отчётливо вспомнил лестницу в начале Дерибасовской, лужу крови под трупом француза и чувство отчаяния, постигшее его шестнадцать лет назад, когда обычный уличный разбойник стал мокрушником.
Потом в Йосином воображении всплыли Мишка Японец, красный командир Никифор Григорьев, отель «Бристоль» и допрос в ЧК.
«Вексель, немецкие марки, Ульянов-Ленин, Троцкий-Бронштейн» — не отрываясь, читал Иосиф, укладывая бумаги на дно. Несмотря на скудные познания в немецком языке, Аглицкий быстро смекнул, что не стоит дальше углубляться. «Меньше знаешь — дольше живёшь!» — учила его мама.
— Йося…
— А там всё на немецком!
— А в своих показаниях ты утверждал, что тогда, в «Бристоле», сказал Японцу, что имеешь бумаги с грифом «совершенно секретно», — Задов стукнул по столу так, что звонко подпрыгнула крышка на полупустом стеклянном графине с водой.
— Всё, Лёва, всё! Я не буду торговаться. Твои босяцкие замашки доведут меня когда-нибудь до цугундера[55]. Шо я там мог прочитать? Айн, цвайн, больше слов германских не помню. Мама мне говорила — учи языки, Йося, а я, шлимазл, не послушал маму… Щас бы Львом Николаичем на равных гутарил, как разведчик с разведчиком… Эх…
— Иосиф Аглицкий, — спокойным тоном продолжил Задов, осознавая, что дальнейший диалог бесполезен. — Ты эти документы увидел второй раз в жизни. В первый раз тебе несказанно повезло, во второй, похоже, тоже. В твоих интересах сейчас слушать меня внимательно: следующего раза может и не случиться. Йося, заныкай эти бумажки у себя дома и забудь где. Разделишь на две части — Троцкого в одну сторону, Ленина — в другую. Отдать имеешь право только мне или по моему требованию.
— Не дурак. Понял. А как я узнаю, что это твоё требование? Подойдет ко мне на улице какой-нибудь шаромыга и скажет…
— Как там твою соседку зовут?
— Мадам Зборовская.
— Так шаромыга спросит, чем мадам Зборовская свой фикус поливает, что у него листья такие мясистые.
— О… Тогда Троцкий, как недостойный уважения сын нашего народа, прости Господи, — Йося взнёс взгляд в небо, — будет прикопан в кадке фикуса, а то, что про вождя, я в ноты положу. Фикус на улице стоит, на втором этаже, возле её двери. Никто не додумается.
— И я тебя прошу, Йося, приглядывай за фикусом, не дай боже, он завянет, — сказал Задов, подписывая пропуск Аглицкого.
Одесса, ул. Энгельса (Маразлиевская), 36. УНКВД по Одесской области. 3 января 1937 г.
— Задержитесь, капитан[56] Зиньковский…
Лев Николаевич Задов одинаково быстро реагировал на обе свои фамилии. Не так давно назначенный к ним управление новый начальник, старший майор[57] государственной безопасности Александр Борисович Розанов, предпочитал обращаться к руководителю иностранного отдела именно так — Зиньковский.
Дождавшись, пока все остальные сотрудники покинут помещение после оперативного совещания, Розанов не стал уходить к своему большому, обитому зеленым сукном письменному столу, а указал Задову занять место за длинным столом для проведения совещаний и сам сел напротив. Будучи на голову ниже и гораздо менее убедительной комплекции, Александр Борисович таким образом компенсировал эту физиологическую разницу.
Старший майор, сопоставляя в уме впечатления о своих новых подчинённых и данные из их личных дел, среди прочих сразу выделил начотдела ИНО, как человека стабильного, думающего, но немногословного и скрытного. Для чекиста это была отменный набор личных качеств, но Розанов рассчитывал на более доверительные отношения.
Будучи младше капитана на три года, Александр Борисович существенно выше продвинулся по служебной лестнице, но он не единожды сравнивал свой жизненный путь с судьбой Задова. Как этому человеку удалось выжить в повстанческой армии Махно, сохранив с атаманом доверительные отношения до последнего, и при этом с 1920 года, согласно сведениям Марка Спектора и Петра Сидорова-Шестёркина, сотрудничать с ЧК? Однозначно, Лев Зиньковский-Задов — человек неординарный, способный на рискованный поступок, с обострённым чувством опасности и охотничьим чутьём — такой вывод для себя сделал начальник Одесского управления НКВД спустя три месяца их совместной работы.
— Завидую вашей жизнерадостности, Лев Николаевич… — начал разговор Розанов.
— Товарищ старший майор, Одесса наложила свой отпечаток. Климат, море, тут всё располагает к оптимизму, — с улыбкой ответил Задов.
— Ну да, ну да, — старший майор о чём-то на несколько секунд задумался. Он имел такую привычку — не стесняясь собеседника, брать паузу для обдумывания своей следующей реплики. А у меня вот так не получается… Заботы, тревоги, работа…
Розанов надел очки и стал перебирать бумаги в поисках нужного листа.
— Скажите, капитан, — начальник управления нашёл нужный лист. — Это ваша служебная записка?
Задов взял бумагу и пробежал по тексту глазами:
— Так точно! Докладная о результатах поиска документов атамана Махно.
— Вы ведь из бывших его соратников? — поверх круглых, маленьких очков в чёрной оправе на Лёву устремился колкий взгляд старшего майора.
— Так точно, товарищ старший майор. Курировал контрразведку, — невозмутимо ответил Задов. Каждый прошлый начальник управления тоже не преминул задать ему этот вопрос. «И этот туда же. Сколько лет прошло, а тема до сих пор актуальна», — подумал начотдела, не опуская взгляд.
— Не посвятите в детали?
— В моем личном деле есть все протоколы допросов, проведенных со мной в Харькове, все материалы проверок и показания свидетелей. Если у руководства опять возникли вопросы к этому этапу моей жизни, то стоит лишь отдать приказ архиву, и у вас на столе окажется целая библиотека. Её изучение потребует времени.
— Я ожидал другую реакцию, — медленно и тихо произнёс Розанов после некоторой паузы. — Хорошо. Не буду собой подменять товарищей из ЧК, проделавших большую работу, и полностью доверюсь их выводам.
У Задова в душе опять набирала силу буря сродни той, что выводила его из равновесия в Харькове, когда ему не верил никто, кроме Спектора, но Лёва был уже не тот — он сохранил добродушную улыбку на своём лице, ожидая, куда же выведет его начальник.
— Два с лишним года назад Нестор Махно скончался в Париже. Вы, капитан, не знаете, почему он, находясь в забвении и нищете, так и не воспользовался документами, компрометирующими наше высшее руководство?
— Могу только догадываться, товарищ старший майор, — отрапортовал капитан госбезопасности Задов. — У него их нет.
— А где же они?
— Наша агентура в Румынии добыла только один из них — реестр финансовых документов. Об этом указано в моей служебной записке от 28 ноября прошлого года. Кроме того, я докладывал вам лично, товарищ старший майор.
— Припоминаю, да, — вкрадчивый тон Розанова всегда очень раздражал Задова. Что там у него на уме? Никогда не разберешь. — Это как оглавление в книге — дали посмотреть, заинтересовали, а прочесть произведение не позволили. Не находите?
— Не нахожу, товарищ старший майор. Обстоятельства обнаружения этого документа нам доподлинно неизвестны, удалось заполучить только этот один. Всё, что могу сказать. Продолжаем работать.
— Вот, опять завидую вашему спокойствию, капитан. — Розанов встал, обошёл стол и направился к своему рабочему месту. Доверительный разговор с Задовым не сложился, теперь он мог занять своё кресло.
— Я имел неприятный разговор с Ежовым. Товарищ народный комиссар встревожен сложившейся ситуацией и требует гарантий, что бумаги Махно не всплывут на Западе в качестве компромата. Кроме того, он требует принять адекватные меры к сотрудникам, допустившим халатность.
Розанов следил за реакцией капитана Зиньковского после каждого своего слова, но выражение лица Лёвы оставалось неизменно спокойным.
— Если товарищ народный комиссар считает, что я вхожу в число этих сотрудников, то я готов понести взыскание.
— Ну, если бы дело ограничилось только взысканием, — прервал его начупр. — Кто завалил разведывательную сеть в Румынии?
В кабинете повисла очередная пауза из разряда тех, что электризуют атмосферу. Теперь Задову приходилось обдумывать каждое свое слово.
— Достоверно установлено, что причиной провала стала ошибка резидента Тамарина на месте, в Бухаресте. Наличие румынского осведомителя в своем отделе я исключаю. Контакт с сетью вёл лично, — ответил Задов.
— Остальные?
— На связь не выходят. Трое из пятнадцати точно арестованы. Тамарин и Лариса в Бухаресте, Турист в Кишинёве. На данный момент связи с румынской резидентурой законсервированы. Велик риск провала остальных. Разберёмся в расстановке сил, тогда двинемся дальше. Сейчас работаем над внедрением новых персонажей.
— Товарищ капитан госбезопасности, — Розанов встал, заложил руки за спину, и, слегка наклонив голову вперед, продолжил. — Вы можете быть свободны. Пока…
Одесса, ул. Жуковского. 4 января 1937 г.
— Лёвушка! Бросай свои гири! Дети тебе блинов не оставят! — Вера, одетая в любимый передник для кухни, выложила на стопку последний пышущий жаром блин.
Девятилетний Вадик, пытаясь расправиться со сложенным треугольником дымящимся блином, уронил его на пол.
— Вадик! — старшая сестра Алла, державшая над ним шефство, строго посмотрела на брата, тут же сползшего с табуретки под стол. — Папа, он опять несуразный!
Отец семейства, закрыв окно, поставил гирю под кровать и, накинув на шею полотенце, отправился на кухню.
— Кто тут у нас бузит? — Лёва потрепал сына по голове и подвинул ему плошку со сметаной. — Макай, холоднее будет. И, если хватанёшь горячего, дыши вот так! — отец открыл рот и сделал несколько мощных выдохов.
— Садись, садись, всю кухню занимаешь! — Вера подвинула мужу табурет и принялась наливать детям молоко. — Такая удача, молочницу застала на рынке. Аж три литра купила.
— И сметанки? — с полным ртом, обжигаясь, спросил Лёва.
— Дыши, папа, дыши! — Вадик повторил фокус, который ему только что показал отец.
— И сметанки! На столе же стоит.
— Та не… Сметанки тоже три литра? — дети рассмеялись, глядя на отца, испачкавшего подбородок сметаной.
— Папа, а ты сегодня дежурный? — Вадик справился с очередным маминым произведением искусства и заходил, как обычно, издалека.
— Нет, Вадя, не дежурный. Сегодня Петрович на работе. А чего спрашиваешь? Уже придумал что-то?
— Да. Мне нужен аэроплан. Можно маленький.
— Фууух… Вот это хорошо… Я уж было подумал, как у Чкалова.
— Не, пап! Вот такой надо, чтобы крыльев было два! — Вадик понял, что редкий выходной в компании отца может стать продолжением новогодних праздников.
— Двое крыльев. Нет. Две пары крыльев. Биплан! Точно. Такой аэроплан называется бипланом! — Лёва вытер руки о полотенце и обратился к жене:
— Верунчик, а инструменты мои ты ещё не выбросила?
— Что ты, Лёва, в чулане. Паутину с них убираю иногда, — Вера принялась мыть посуду в тазе с тёплой водой. — Кстати, тебе же письмо, Лёвушка. В ящике лежало, наверно утром почтальон принёс.
— Давай! Люблю открытки разглядывать!
Задов вскрыл конверт, но там оказалась не новогодняя открытка, а сложенный вдвое лист, исписанный убористым женским почерком. Лёва встал и вышел в коридор, читая про себя на ходу:
«Нам точно известно, что документы агента Тамарина находятся в вашем распоряжении. Судьба его и всех, кто задержан сигуранцей по этому делу, находится в ваших руках. Вы имеете возможность спасти им жизнь. Для нас эти люди ценности больше не представляют — ваша агентурная сеть обезврежена. Предлагаем обменять Тамарина и его помощников на оказавшиеся у вас бумаги. В случае согласия — дайте знать через известную вам парикмахерскую. В знак нашей доброй воли хозяйка салона вернётся к своей работе с 10 января. В противном случае будем вынуждены довести до ведома старшего майора Розанова подробности вашего общения с румынскими спецслужбами в 1921—22 годах.
Полковник Радван».
— Вадюсик, а из чего же мы твой аэроплан будем строить? У нас же ни фанеры, ни брезента специального, а? — Лёва посмотрел на озадаченного сына и тут же предложил ему выход: — Такая фанера, специальная, авиационная, есть у дяди Дани. И он опыт в таких делах имеет! Помнишь воздушного змея? Это же он смастерил. Поедем к дяде Дане за фанерой?
Недоумевающая Вера проводила взглядом сына, убегающего с криком «Уррраа!» из кухни.
— Лёва, что случилось? — в её голосе слышалась даже не озабоченность, но тревога.
— Верунчик, ну где я фанеру возьму?
— Во всей Одессе нет куска деревяшки? Для этого нужно в Тирасполь ехать?
— Собирай гостинцы, заодно Вадьку на машине прокачу. Завтра вернемся.
— Ну хорошо, будем считать, что я поверила…
— Не обижайся. Заодно с Даней поговорю. Посоветоваться нужно.
С этого момента сердце Веры никогда не найдёт покоя — она привыкла к тому, что муж по работе мог в любой момент сорваться с места, появиться через пару дней, и относилась к этому спокойно, но сейчас на сердце лёг камень. Это была тревога за благополучие и покой её семьи…
Счастливый Вадик, облачённый в тёплую, не по погоде одежду, занял место на заднем сиденье новенькой папиной служебной «Эмки».
— Лёва, передай гостинцы, не забудь, — Вера отдала мужу в руки многослойный свёрток из полотенец и бумаги, призванный сберечь тепло блинов.
— А как же, не забуду! Может, к вечеру и вернёмся, посмотрим на дорогу, не кисни, жена! Всё в порядке! — Начотдела послал жене воздушный поцелуй и хлопнул дверью.
Все сто километров до Тирасполя у Вадика не закрывался рот. Его интересовали все подробности устройства машины и папина работа.
— Па, а ты сколько врагов поймал?
— Да много уже.
— А тебе за это пистолет дали?
— Да, за это. Одного важного шпиона задержал.
— А как ты раньше без пистолета с ними справлялся?
— Ну был у меня пистолет, без него же никак. Достал пистолет, и враг сразу сдаётся.
— Так, а зачем тебе тогда второй?
— Ну, Вадь… Второй пистолет на память, он с надписью дарственной, что, мол, за заслуги товарищу Зиньковскому.
— Па, а как ты врагов находишь?
— Разные приёмы для этого есть, много людей работает. Вырастешь — научишься, если захочешь. А я помогу.
— Па, ну я не понимаю, люди же все одинаковые по улицам ходят. Как ты их различаешь? Можно же невиновного поймать.
— Вадь, а я не по лицам их нахожу, а по поступкам.
— Па, а они тебя боятся?
— Ну, слабаков в шпионы не берут, они умеют со страхом справляться.
— Я не знаю… Ты такой большой, а если ещё и с пистолетом… Тебя специально взяли шпионов ловить, потому что ты самый большой?
— Сынок… Взяли тоже не за лицо и не за рост. За поступки. Честным надо быть. И будет всё в порядке.
— Па… Вот я теперь знаю, что ты честный. Сказал, сделаем аэроплан, и на машине за фанерой поехали. Вот это да…
К концу дороги неугомонный Вадька таки уснул и встрепенулся только от визга тормозов отцовской машины возле дома дяди Дани в Тирасполе.
— Ооо! Вот это сюрприз! Любаша, собирай на стол! Брат с племяшом приехал! — Даниил заметил служебную машину первым и вышел за калитку обнять родственников.
— Дядя Даня, мы за фанерой! — тут же провозгласил Вадька, избавившись от его объятий.
— За фанерой? — удивленно переспросил дядя Даня, глядя на брата.
— Да, мы за фанерой. Нам аэроплан построить надо. А у тебя есть, — всем своим видом Задов просил брата поддержать легенду поездки.
— Ну, будет вам фанера, у меня на чердаке есть. Сухая, хорошая фанера… Сейчас перекусим, и расскажете, чего там надумали строить, пошли в дом, холодно!
После ритуала обмена гостинцами, поцелуями и обниманиями с родственниками, после сытного обеда братья таки смогли выйти на веранду для перекура.
— Как у тебя на службе? — спросил Лёва, протягивая брату папиросы.
— Да как обычно, работаем, командир нормальный…
— Эт хорошо. И что, к тебе никаких вопросов нет?
— Ко мне нет. Блюмкина арестовали. Обвиняют в работе на румын.
— Вот то-то… у нас тоже чистят потихоньку. Только не пойму, по какому принципу, — Лёва глубоко затянулся и выпустил струю дыма сквозь приоткрытую дверь. — Меня, похоже, прощупывают. Махно опять вспомнили.
— За это ко мне вопросов нет, сколько ж можно? — вспылил Даниил.
— Да тут ещё неприятностей подвалило…
— Ты за резидентуру?
— Вот, уже и ты знаешь, — ухмыльнулся Задов.
— Наверно, на Дальнем Востоке ещё не знают. Конечно, знаю. Приказано активизировать наших людей в Бухаресте для выяснения обстоятельств провала Тамарина и поиска документов, что при нём были. Якобы он пустой был, когда его взяли.
— Ух ты… параллельно пошли. А за какие бумаги речь идёт, знаешь?
— Весьма поверхностно.
— Помнишь, как с Махно переправлялись в Румынию? Вот в том жёлтом портфеле они были.
— Это как искать иголку в стоге сена, — здраво рассудил оперуполномоченный Тираспольского управления НКВД Даниил Зодов. Одна буква, изменённая в своё время в их фамилии, была единственным отличием в судьбах братьев. Младший, Данька, по-прежнему шёл по стопам брата.
— А я нашёл, Даня. Они у меня. В надёжном месте прикопаны.
Даниил, достав из кадки квашеных огурцов, положил их в глиняную миску:
— Будешь? В этом году очень удачными получились.
— Вот ты всегда, когда нервничаешь, жрать начинаешь… Я лучше закурю.
— Тогда рассказывай! За фанерой он приехал… — Даниил отставил миску в сторону.
— Если без подробностей, то картина такая: мой человек перетащил их сюда, и провал Тамарина по времени совпадает с этим фактом. Скорее всего, он на них и погорел. Командиру я показал только первый лист.
— А для чего? — Даниил искренне не понимал ход мысли своего старшего брата.
— Даня, надо мной тучи собрались, которых ещё не было. Из нашего управления стали сотрудники пропадать. Когда-нибудь и мой черед придёт. Я так смотрю, никто не разбирается, правды не ищет. Молчат все.
— Так, а ты не думаешь, что если бумажки найдут, как раз и обвинят тебя в контрреволюционной деятельности?
— А об этом знаем только ты, я и хозяин лопаты, который их откопает, если что. Это наш с тобой страховой полис. На случай, если кому-то вздумается обвинить Задова в измене. А работают они топорно. Утром письмо получил. От имени полковника одного румынского. Хоть фамилию настоящую поставили. Предлагают обменять документы на Тамарина. Ни штампов, никаких опознавательных знаков на конверте… Я могу допустить, что Тамарин раскололся, что писульку эту курьер принёс, даже не зная, чьё поручение выполняет, но адрес-то мой у сигуранцы откуда? Примитивно, в лоб. Смотрят, как себя поведу. Вот я за фанерой и приехал. Имею право уточнить оперативную обстановку на Тираспольском направлении, а? С окном поможешь, если что?
— Понял, понял… Спросят, зачем приезжал — за окном… А если это действительно румыны конверт подкинули? — Даниил озабоченно посмотрел в окно и закурил третью папиросу.
— Ну, тогда, значит, румыны топорно работают. Не припоминаю, чтобы из подвалов сигуранцы кто-то выходил по своей воле. Там или ты их, или ничей… И хватит смолить, шлимазл! Надо было тогда, в Юзовке, тебе по башке настучать-таки! Давай свою фанеру! Нам ещё домой ехать…
Сталино. 1 сентября 1937 г.
Вера сидела на стуле, глядя в пол. Ещё несколько дней назад в этой квартире пахло домашней стряпнёй, свежевыстиранным бельём и полевыми цветами, которые Лёва привёз из своей служебной поездки на границу.
Букет завял, засыпав стол маленькими лепестками ромашек и каких-то голубых цветов, бельё высохло и лежало мятой кучей на сундуке, а из еды в квартире осталось только молоко. Она не могла себя заставить подняться с этого проклятого стула и что-то сделать. Дети пошли в школу без неё.
На работе коллеги вели себя с ней подчёркнуто вежливо, немного обходя её стороной даже в узких коридорах. Никто ничего не говорил, только опускали глаза при встрече.
Сегодня Вере было предписано явиться на допрос к десяти часам утра. Следователь задавал много разных вопросов, на которые получил исчерпывающие ответы. Несколько раз спросил, был ли когда-нибудь в их доме жёлтый кожаный портфель.
Никогда Вера не вникала в дела супруга. Не женское это дело, да и сам Лёва не любил, когда дома приходилось разговаривать по телефону на служебные темы, а уж рассказать что-то, так это было вообще немыслимо.
Взгляд Веры упал на записную книжку, в которую они заносили номера телефонов. Пользовался ней в основном Лёва. Куда Вере звонить? Управдому? До него идти два шага. Машинально листая страницы, Вера вспоминала, как муж разговаривал по телефону. Часто просил телефонистку не сообщать, откуда звонок и любил разыгрывать сослуживцев на том конце провода:
— Алё! Старший лейтенант Кантов? Этот порт! Порт беспокоит! Тут на ящике написано «не кантовать». Что нам делать? У нас кран сломался!
— Это музей? Из пионерского лагеря беспокоят. У вас есть экспозиция о мамонтах, замерзших в Одессе в древние времена? Пионеры интересуются, а нам нечего сказать!
С определённых пор Лёва перестал шутить. Нет, дети никак не ощутили изменения в поведении отца — он так же интересовался школьными делами Аллочки, строил фанерные самолёты и танки для Вадьки, но взгляд его стал каким-то более жёстким, слова — отрывистыми. Складывалось впечатление, что его мозг постоянно занят чем-то посторонним.
Пролистав телефонную книгу почти до конца, до буквы Ю, Вера зацепилась взглядом за запись, сделанную мужем: «Юзовка. Пётр Сидоров-Шестёркин 2-12».
Два года назад Задовы принимали гостей из Сталино. Тогда ещё Вера спросила мужа, почему он записал Петькин номер на эту букву.
«Юзовки уже не будет никогда. А так глянул — молодость вспомнил. Мы с Петрухой тогда замечательно выступали. Эх, годы младые, где ваша прелесть?» — ответил Лёва.
Ради Сидорова Лёва был вынужден перенести отпуск на май. Ну как же, друг старый приехал, боевой товарищ из Юзовки. Выпили за ту неделю вина молдавского, наверное, целую бочку. Дети за всю свою жизнь никогда не были с отцом на пляже столько раз, как во время приезда Петьки с семьёй. Спускались на Ланжерон, одев на головы широкополые соломенные шляпы, ловили бычка с пирса, вечером жарили его, вываляв в муке, и пели песни.
Петька тогда рассказывал, что тоже в НКВД служит, в Сталино, и открыто завидовал Лёвке, работающему на таком ответственном направлении.
— Спекулянты и расхитители у меня вот уже где, — проводя ребром ладони по горлу, Сидоров красноречиво показал своё отношение к работе.
— Здесь бы ты не скучал, поверь. Местная публика — это не юзовские пролетарии, — отвечал Лёва. — Бегал бы ты за ними неделю и не догнал бы.
— Сталинские пролетарии, — поправил Петька.
— Мне Юзовка милее звучит…
Неделя пролетела быстро. Старые друзья обменялись профессиональным опытом, байками и телефонами, но после этого увидеться — как-то не срослось. То Лёва в хлопотах, то у Сидорова командировка в другую сторону. Передал Лёва сёстрам на одиннадцатую линию гостинцев — сыра солёного, да рыбы сушеной, на том и расстались.
«Счастливые времена… Беззаботные. 2-12», — Веру словно кольнуло что-то, и рука потянулась к трубке.
— Алло. Коммутатор? Можно Юзовку? Ой, простите… Сталино. 2-12. Квартира оперуполномоченного Сидорова-Шестёркина. Да. Я буду ждать.
Вадька вернулся со школы весь в слезах.
— Со мной никто не хочет сидеть за одной партой, мама! Из-за этого меня пересадили за самую последнюю! — обливаясь слезами, жаловался мальчик.
Что она могла сделать? Только учесть опыт многочисленных знакомых, которых постигла та же участь — поменьше разговаривать и жаловаться, принять всё с достоинством и честью. В чём они виноваты? В чём виновен Лёва? Ни в чём. Значит, справедливость должна восторжествовать. А сколько придётся ждать этого торжества справедливости? И что будет с Вадькой, с Аллой? Заклюют, как детей врага народа…
Нет, правильно сделала, что решилась позвонить Петьке.
Аппарат зазвонил около девяти вечера.
— Алло! Лёва, ты? — услышала Вера в трубке знакомый басок Лёвиного друга.
— Это Вера, Вера… Петр Михайлович, это жена Задова.
— Я слушаю, Вера! Что случилось?
— Петь… Лёву арестовали.
Трубка молчала, и с каждой секундой этой тишины таяли надежды Веры хоть на какую-то помощь.
— Вера, я понял. Я сам позвоню. Если адрес ваш изменится, напиши, дай мне знать обязательно! — сквозь электрический треск голос Петра был очень плохо различим, и звонок тут же оборвался.
— Будете ожидать повторного соединения? — голос телефонистки вывел Веру из оцепенения.
— Нет, уже не нужно…
— Мама… они все со мной не разговаривают, потому что папу арестовали? Откуда они знают? Я никому не говорил, как ты велела, — Вадик всё никак не мог смириться с произошедшими в его школьной жизни изменениями.
— Откуда? Говорят, мир не без добрых людей… Хотя я уже и не знаю…
Москва. 17 сентября 1937 г.
Большие города похожи друг на друга. Они все, как один, лишены простоты и искренности, присущей провинциальным городишкам. Здесь не принято восхищаться новостройками — что ж это за столица, если она не растёт вверх и вширь? Люди здесь почти не здороваются — пешеходы, озабоченно снующие по тротуарам, не всматриваются во встречные лица. Встретить в этом муравейнике знакомого — очень мало шансов. Сигналы автомобилей, словно впервые собравшийся оркестр без дирижёра — наполняют широкие улицы гулом своих клаксонов, пытаясь перекричать друг друга.
Во всей этой суматохе Пётр Михайлович Сидоров-Шестеркин, помощник начальника 6-го отделения экономического отдела ГУГБ НКВД СССР в г. Сталино, сориентировался, как положено специалисту, очень быстро.
К своим сорока годам Пётр Михайлович успел научиться безошибочно разбираться в людях, находить в них слабину и определять сильные стороны. Однажды, разглядев в Лёвке Задове неординарную личность, Петька уже не упускал его из вида. Сначала — из интереса к их общему революционному делу, а потом — в силу служебной необходимости. Семнадцать лет назад, в двадцатом году, когда Петька Сидоров, анархист-коммунист из Юзовки, неожиданно появился в рядах армии Махно, их новая встреча с Лёвкой изменила судьбу обоих. Дружба возобновилась, подкрепленная общими представлениями о правилах новой жизни, справедливости, о путях её достижения и о будущем. Чекист Сидоров-Шестёркин, впоследствии описывая в рапорте обстановку в махновских частях, о своём друге из Юзовки упомянул как о человеке, имеющем авторитет в своем кругу, и неплохом контрразведчике.
«Могло ли в Лёвке что-то измениться? Мог ли он стать врагом?» — раздумывал Пётр, пересчитывая столбы, мелькающие в окне поезда, следовавшего на Москву. Жену Варвару он, как и планировали, отправил к матушке в Мариуполь, а сам, подписав у руководства заявление на отпуск, отбыл на вокзал.
Другого способа помочь Лёве и его семье, кроме как искать правды в столице, Пётр за две недели раздумий не нашёл. Новый народный комиссар внутренних дел Ежов развернул в своём ведомстве кампанию по очищению от шпионов и врагов народа. Сажали сначала некоторых. Выборочно. Потом, после всеобщего осуждения на партсобрании, в отделе кадров появлялись дополнительные вакансии за счёт выявленных сообщников и в итоге, только в их Сталинском управлении с начала года личный состав сменился почти на пятую часть. Далеко не все из них убыли к новому месту службы по переводу.
Запрашивать о судьбе друга официально, не имея отношения к делу, было бы подобно самоубийству. Оставался единственный выход — рискнуть и обратиться за помощью к человеку, который обладал влиянием, возможностями и авторитетом в самых верхах, вращался в тех кругах, что решают судьбы людей и всей страны за зубцами кремлёвской стены.
— Тут сидеть запрещено! — опершись на метлу, дворник окатил Петра холодным взглядом исподлобья. Одетый в свою рабочую одежду, в сером переднике и почему-то в сапогах, мужик производил впечатление хозяина этого двора.
— Почему? — миролюбиво спросил старший лейтенант госбезопасности Сидоров-Шестеркин, оценивая потенциал оппонента: руки у него мощные, несмотря на возраст, взгляд цепкий, во внешнем виде — ни единого намёка на дружбу с бутылкой.
— Потому что я так сказал. Ты тут третий день штаны протираешь. Ухо своё кидаешь, кто о чём разговаривает… Вчера у пятого, а позавчера у одиннадцатого подъезда сидел. А ну, руки в гору! — дворник наставил на опера из Сталино древко метлы, будто целился в него из ружья.
— Ша, деда! Спокойно! С Украины, что ли? Гэкаешь, прям как я… — Пётр подчинился приказу сквозь смех, сдавшись на милость главного человека во дворе Дома правительства на Берсеневской набережной.
— Ты мне зубы не заговаривай! Смотри, кабы не пришлось в околотке ночевать! — дед не опускал своё «оружие».
— Вот мы в Юзовке, на заре туманной юности, когда жандармы нас гоняли, тоже их контору околотком называли, — Пётр аккуратно опустил руку во внутренний карман пиджака и извлёк оттуда красную корочку.
— В развёрнутом виде попрошу! — дед всё еще сохранял строгость и суровость голоса.
Сравнив лицо, сидящее перед ним на лавочке, с чёрно-белой фотокарточкой, удостоверившись в оригинальности оттиска печати и запомнив длинную фамилию, дворник опустил метлу и присел рядом с гостем:
— И чё? Как там?
— Где? — удивлённо спросил Сидоров-Шестёркин.
— Дома, где!
— Ха! Так ты земеля? — Пётр искренне удивился и принял расслабленную позу, положив руку на спинку аккуратно выкрашенной лавочки и закинув ногу за ногу.
— Ты ж по говору разобрался вроде, чекист! — дед улыбнулся и принялся набивать самокрутку, неведомо откуда, словно фокусник, достав аккуратно оборванный кусочек газеты и маленький кисет с табаком.
— Так, а ты зачем «чёкаешь»? Правильно говорить — «шо»! — опер протянул дворнику руку в знак окончательного примирения. — Пётр.
— Никифор я, — рукопожатие состоялось, и дед окончательно потеплел взглядом. — Отставной я. Из пожарной охраны. Каланча на Пожарной площади — моё место работы.
— Уже давно не Пожарная эта площадь. В конце июля открыли памятник Дзержинскому, и теперь там сквер его имени.
В глазах деда промелькнула искра любопытства:
— Я в двадцать седьмом уехал сюда, в Москву. Дочечка позвала. Говорит, давай, батя, поближе к нам. Ей так спокойней. Муж у неё — ответственный работник. С тех пор дома и не был…
— Многое поменялось с того времени, — Пётр нащупал в душе деда ностальгическую струну. — Там теперь фонтан поставили, прямо напротив восьмой линии. Большой, со ступенями красивыми… А в тридцать третьем на углу построили фельдшерско-акушерскую школу.
— Наверно, и не узнаю, если приеду домой помирать…
— Ты чего это, Никифор? — улыбнулся опер. — Мы с тобой две минуты знакомы, я тут, в вашей толчее земляка повстречал, а ты тут помирать собрался… Даже не думай.
— Тошно мне тут, земеля… Особенно последнее время. Я брандмейстер во втором поколении, а вот пришло время — багор на метлу сменить пришлось…
— Так у нас всякий труд в почёте. Я тоже, вишь, припёрся за тридевять земель… А это не моя работа… А надо.
— А чё тебя нелёгкая принесла? — дед вернулся к теме их встречи, но уже другим тоном.
— Не «чё», а «шо»! — с усмешкой опять поправил его Пётр. — Дали поручение — иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что… — Сидоров-Шестёркин достал папиросы и протянул пачку в сторону дворника. — Угощайся. Всё же лучше, чем твой самосад. Ядрёный он у тебя, у меня аж в носу щекочет. Как ты такой крепкий смолишь? Кашель не мучает?
— А, привычка… Люблю горлодёр… — дед вопросительно посмотрел на нового знакомого, ожидая ответ на свой вопрос.
— Человека одного надо повидать. На работе неудобно, занят он сильно, потому как уважаемый. Так я решил тут покараулить, чтобы не вносить в нашу беседу официальной ноты, так сказать…
— Кого караулишь? Я тут всех знаю, кто еще остался… — дед хитро прищурил глаз, будто ему туда попал едкий дым.
— Кто остался? Что, хоромы свободные есть? — Пётр кивнул в сторону серой громадины жилого дома, где квартировались советские служащие, члены правительства, наркомы, всенародно известные и любимые артисты и всякий другой, обласканный судьбой и советской властью люд.
— Говорю же, Петруха, тошно мне тут последнее время… Кажную ночь приезжают… кажную ночь… И в каком-нибудь подъезде опечатанная квартира появляется…
— Дед. Я ж тебе удостоверение показывал. Ты меня десять минут как знаешь, что ж ты языком мелешь? Или думаешь, уже отжил своё?
— А може, и отжил… Зятька вон позавчера приняли под белы руки. Дочери сказали завтра освобождать квартиру. Поплакала, да и вон, вещи пакует, мебель будет сдавать по описи[58]… Я им обуза… Самим бы вытянуть двоих детей… Что теперь делать — не знаю… И меня тут разве оставят? Родич врага народа не может работать в таком месте. Даже дворником. Попрут. Как пить дать — попрут… Наверно, в Сталино подамся, домой. У меня на Скотопрогонной[59] брат младший живёт, где улицы мести — какая разница?
Дворник делал одну затяжку за другой, укорачивая папиросу с каждой секундой — было заметно, что он сильно волнуется. Глядя в землю, он не спеша продолжил, проговаривая каждое слово отдельно, будто пытаясь обратить внимание на смысл сказанного:
— А если не верить людям, то что ж?.. Ну пойди, сдай меня… В кажном парадном дежурный сидит. Не ошибёшься. Тот сразу меры примет, звякнет, куда надо. Захочу спрятаться — не выйдет. У него все дубликаты ключей. От всех квартир. Вот так спят люди, а дверь тихонько среди ночи открывается — и всё… Эх, паря… — дед кинул окурок на землю, беспощадно раздавил его сапогом и тут же принялся его метлой гнать к уже собравшейся куче смёта.
— Погоди, Никифор Батькович… — Пётр поднялся с лавочки и сделал пару шагов вслед уходящему мужчине в переднике дворника. — Ты запомни мой номер телефона в Сталино. 2-12.
— Зачем это? — удивлённо поднял брови дед. — Ты ж служивый. Чего тебе со мной якшаться?
— Если вернешься домой, помогу с работой. А ты мне помоги, если можешь. Правильно подметил — третьи сутки человека жду. Дом у вас большой, разве одному справиться? Никак не встречу.
— Замышляешь чего? — настороженно спросил дед.
— Да. Вот такая женщина, как твоя дочь, попросила помочь. Такая точно история. Судьба прямо под копирку.
— Кого ищешь? — дед не переставал мести и разговаривал с Пётром, стоя к нему в пол-оборота.
— Лазарь Моисеевич нужен.
Не прекращая ритмичных движений метлой, дворник ответил:
— Вон, уже глаза на нас пялятся. Сядь на лавку, будто мы с тобой разговор закончили… — из ближайшего подъезда вышел молодой человек в костюме и, закурив, с интересом принялся вглядываться, с кем это беседует Никифор. — Ты вчера с Лазарем разминулся по незнанию. Ты возле одиннадцатого дежурил, а он здесь проживает, в этом корпусе. Он домой поздно приезжает, не раньше девяти вечера. Можешь и до утра прождать… Вот этот подъезд…
Дед кивнул в сторону наблюдающего за ним человека.
— Нет резона тебе тут торчать до ночи. Сейчас домету, и пойдем ко мне в дворницкую. Только там не откровенничай. Тут даже мебели нельзя доверять.
Напившись чая с печеньем, которое Пётр купил по такому случаю в магазине на набережной, собеседники вышли во двор на перекур.
Дежурный, завидев незнакомого человека в обществе Никифора, приказным тоном окликнул дворника.
— Анатолий Иванович, не волнуйтесь, это мой знакомец, земляк. Если чего — я ж сразу бы сигнализировал. Парень весточку из дома привёз, ну не оставлять же его на улице. У него завтра поезд, — опережая вопрос сотрудника, быстро выпалил дворник.
— Ладно, дед… Исключительно из уважения. По инструкции не положено. Сидеть тише воды, ниже травы, понял? — дежурный посчитал свою миссию выполненной и удалился к своему столу с настольной лампой и телефонным аппаратом.
Стайки детей, игравших во дворе, с закатом солнца поредели — то тут, то там с балконов раздавались окрики мам: «Тоня! Домой!», «Сеня! Ужинать!», «Поля! Папа пришёл!», «Паша! Уроки!».
Двор из гомонящего скворечника превращался в тихий вечерний парк с фонтаном и детскими площадками.
Со сторон арки, что выходила на набережную, периодически заезжали чёрные автомобили, из которых после долгого рабочего дня выходили начальники разных рангов и ведомств.
Общее в них было только одно — отдавая приказание водителю прибыть завтра к половине восьмого утра, они поворачивались лицом к дому и шли туда степенно, не спеша, солидно. На виду всего двора, выглядывавшего из окон своих, передвигаться следовало так, будто ты уверен в завтрашнем дне не менее, чем в грядущей победе коммунизма.
Ближе к полуночи все они тревожно вслушивались в шум за окном и звуки на лестнице. Только потом, когда с рассветом тишину и покой нарушал звук поливальных машин, сон настигал этих людей, но выспаться не удавалось никогда.
Конечно, каждый из жителей дома правительства считал себя кристально чистым, в отличие от соседа.
Иные злорадствовали, рассказывая домашним, что «этот сверху заслужил», но часто бывало так, что дверь злопыхателя тоже в одну из ночей отворялась при помощи ключей дежурного… И тогда уже в этой квартире слышался детский плач, топот сапог в коридоре посреди ночи, и казённые шкафы из цельного дерева, выполненные по эскизам архитектора Бориса Михайловича Иофана, вывернутые наизнанку, скрипели петлями под натиском сержантов НКВД, включённых в группы задержания этой ночью…
В арке показалась чёрная машина.
— Твой едет, — кивнул Никифор своему новому знакомому и предусмотрительно удалился в дворницкую.
Человек в сером хлопковом костюме, в парусиновой шляпе, с густыми усами и шевелюрой хлопнул дверью служебной машины и направился к подъезду. Его водитель не нуждался в инструкциях — график жизни секретаря ЦК ВКП(б) и наркома тяжёлой промышленности не предусматривал отклонений от графика за исключением случаев, когда его вызывал Хозяин. Тогда график ломался, и водитель в числе остальных ожидал либо смену, либо своего пассажира до тех пор, пока не заканчивался ужин.
— Лазарь Моисеевич… — громко произнёс Пётр, но тут же перед ним и наркомом возник дежурный по подъезду.
— Отойди, любезный… — прошипел человек из-за стола с лампой и телефоном, отталкивая плечом непрошеного посетителя и многозначительно запуская руку под левую полу пиджака, туда, где должна быть кобура.
— Товарищ Кошерович! — ещё громче произнёс Пётр, и нарком остановился.
Глянув на неведомого ему человека, Лазарь Моисеевич не смог сразу сориентироваться, но слух резанул партийный псевдоним.
— Вы ошиблись! — дежурный напирал всем телом, выполняя инструкцию.
— Нет. Подождите. Он не ошибся, — Лазарь Моисеевич спустился на пару ступеней вниз и посмотрел в лицо ищущего встречи мужчины.
— Юзовка. Сапожная мастерская. Налёт, — уверенно и чётко произнёс Пётр, глядя в глаза Кагановича.
Некоторое время, буквально три секунды понадобилось секретарю ЦК, чтобы вспомнить это лицо. Тогда этот парень был одет в какую-то тяжёлую одежду и черную шапку. Это он помог сбить с ног налётчика с револьвером в тот момент, когда второй, что был гораздо крупнее, кинул табурет.
— Пройдёмте, — Каганович жестом показал дежурному, что всё в порядке, и предложил визитёру проследовать за ним на лестницу.
— Тут у меня странный персонаж к Кагановичу пришел, — тихо произнёс дежурный в трубку, когда секретарь ЦК с посетителем поднялись этажом выше. — Нет. Не в лифте. Пешком пошли.
Для разговора с Лазарем Кагановичем у Петра была всего пара минут — то время, которое требовалось, чтобы подняться до его квартиры по лестнице. Рассчитывать на чаепитие в доме функционера такого уровня не приходилось. Спасибо, что отреагировал на ключевые слова.
— Лазарь Моисеевич, помните человека, который в Юзовке спугнул налётчиков в мастерской?
— Помню, — Каганович был краток в своих ответах и не спеша поднимался ступенями. В его планы также не входило приглашать этого человека, которого он видел второй раз в жизни, в дом.
— Его зовут Лев Николаевич Зиньковский-Задов. Теперь он — сотрудник отдела ИНО Одесского НКВД. Его арестовали не так давно. Не может быть, чтобы он, побывав в стольких передрягах, стал врагом народа. Это недоразумение. Или чей-то злой умысел в целях обескровить советскую разведку.
— Вы сейчас зачем мне это рассказываете? — Лазарь Моисеевич прервал поток мысли Сидорова-Шестеркина на самом эмоциональном месте. — Вы делаете такие глубокие и скоропалительные выводы, будто досконально владеете темой…
— Товарищ Кошерович… — Пётр умышленно обратился к нему по псевдониму. — Нет больше в этом городе ни одного человека, который мог бы помочь моему другу Задову. Он больше никому жизнь не спасал. Только забирал. И те, у кого он её забирал, точно были врагами. Он триста раз мог навредить, но не сделал этого. Там ошибка. Точно говорю.
— Что вы он меня хотите?
— Справедливости. Вы же живы благодаря Лёвкиному взбалмошному характеру и бесстрашию. Помогите его спасти. Я же вижу, что происходит…
— Вы чрезвычайно рискуете… не знаю, как вас зовут…
— Да неважно, Лазарь Моисеевич. Вы меня вспомнили. И его тоже. Если сможете, спасите его, как он вас тогда спас.
Каганович почти дошёл до своей площадки — ему оставалось преодолеть несколько ступеней, когда он обернулся к Петру, шедшему немного позади:
— Попытаюсь. Ничего не могу обещать, но попытаюсь. Как с вами связаться?
— Сталино, 2-12. В нерабочее время. Лучше поздно вечером — бывает, задерживаюсь…
— Зачем имя своё скрываете? Надо будет, по номеру найду.
— Чему быть, тому не миновать…
— У вас всё? — доставая ключ, спросил Лазарь Моисеевич.
— Так точно…
— Вы, похоже, коллега Задова?
— Не по профилю, но ведомство одно, да…
— Почему не испросили разрешения руководства?
— На что, Лазарь Моисеевич? На встречу с вами? Ну, вы же понимаете…
— Ладно, — Каганович уже открыл дверь, и оттуда послышался голос: «Кто там пожаловал?». — Это займёт время. Мне нужно разобраться. Ждите звонка.
Одесса. 6 октября 1937 г.
— Вы посмотрите! Он думает, я факир! Что я умею читать мысли на расстоянии! — воскликнул Йося, в третий раз перечитывая записку, что принёс ему какой-то босяк с Фонтана.
«Йося! Чем мадам Зборовская поливает свой фикус? Не пора ли его пересаживать? Мне рассказали, что если корням мало места, то следует поменять кадку. Как пересадишь, расскажи. Там явно что-то мешает. Малец тебе поможет. Проверь настройку пианино. Люди говорят, что твоем инструменте заинтересован наш оркестр».
— Дядь, мне завтра сказали зайти! Сказали, ты знаешь, что делать, и что-то мне отдашь!
— Иди, шаромыга! Завтра приходи! — Иосиф дал пацану леденец на палочке и отправил восвояси.
«Не, ну вот это надо на старости лет… В шпиёнов играть… наигрался уже так, что тошно. Последний раз. Точно. Прости, Лёва, но я устал, я теперь обычный совслужащий, и не требуйте от меня подвигов… Не то время», — Йося выглянул во двор, чтобы убедиться, что там никого нет. По счастью моросил мелкий осенний дождь и все, кто мог оглядывать окрестности, плюхая семечки, попрятались по квартирам.
Одним движением всковырнув ложкой для обуви в известном ему месте землю, Аглицкий достал жестяную коробку, стряхнул с неё землю, и замаскировал образовавшуюся яму в кадке с фикусом.
— Что там, Йося?! — мадам Зборовская таки приметила через окно своего соседа, нагнувшегося над кадкой.
— Смотрю, пора его в дом! Свежо на нашей улице! Сейчас тряпку намочу и помогу перетащить! — старческая глухота мадам Зборовской позволяла ей с непроницаемым видом игнорировать соседей, если им было от неё что-то надо, но в этом случае она предложение Иосфа расслышала отлично.
— Мне неудобно, Йося! А если ты заработаешь радикулит? Это же не жизнь, а мука! Посмотри на меня, Йося, как я страдаю, а тебе ещё жить и жить! — отвечала мадам Зборовская, пытаясь быть услышанной через форточку, — до двери ей нужно было пройти через прихожую и она посчитало невозможным такое напряжение сил.
— Не колотитесь, прошу вас! Я всё сделаю! — Иосиф удалился к своей двери, скрывая коробку под полой пиджака.
Поискав среди журналов альбом с нотами, Иосиф заглянул между 14 и 15 страницами, где были проложены несколько листов.
«Шоб в твоём аду никогда дрова не заканчивались», — проклинал Йося французского офицера, попавшегося ему на перо[60] много лет назад. «Это ж надо… всю жизнь меня преследует, а?» — Аглицкий со злостью свернул документы трубочкой и сложил их в тубус с акварельными рисунками — с недавних пор пейзажное рисование захватило его с головой.
«Завтра что-нибудь придумаю… Оркестр, видите ли, интересуется… Ноты перепрятать», — Йося накапал себе настойки валерианы, разбавил её водой и, уж было поднёс стакан к губам, как передумал, и направился к буфету, где была припрятана початая бутылка коньяка.
Босяк был пунктуален, как теплоход «Армения», и прибыл в назначенный час.
— Давай, — кепка на голове пацана свалилась набок, но малолетнему курьеру было не до этого.
— А могу я спросить молодого человека, кто его послал? — любопытство мучило Иосифа, несмотря на то, что в первых словах записки он прочёл условную фразу.
— Не можешь. Оно тебе надо, чужое горе? — хлопец хапнул из рук Йоси коробку и, гулко стуча каблуками о старую чугунную лестницу, сквозанул в арку, что вела на Пушкинскую.
Йося уже не мог сдерживать себя. Его нервы напоминали канаты портовых кранов — тонкие, натянутые, звенящие…
— Мадам Зборовская, если ко мне сегодня ещё кто-нибудь придёт, скажите, что я умер! — Аглицкий взял тубус с бумагой и ящик с красками и раскладным стульчиком.
— Йося, прежде чем вы скончаетесь, я попрошу вас купить для меня хлеба. Меня опять терзает радикулит! — раздалось из окна с открытой форточкой.
— Непременно! — Иосиф уже спускался по лестнице.
Несмотря на пасмурную погоду, море было удивительно спокойным и умиротворённым. Именно за этим он шёл сюда, на один из причалов порта. Йося давно хотел изобразить город таким, как его видят возвращающиеся из дальнего рейса моряки.
Набросав карандашом контуры лестницы и маленькую, еле видимую наверху фигурку Дюка, Иосиф Аглицкий озадачился оживлением сюжета. Не может же быть днём город таким пустынным…
Вот здесь автомобиль виден, на ступенях нужно силуэты людей изобразить в хаотическом порядке. Карандаш едва касался бумаги, оставляя лёгкие следы, чтобы кисть потом могла сыграть свою решающую роль — ей всегда достаётся слава. Картины — они «кисти художника». Никто не вспоминает о карандаше или угольке, которые делают всю черновую работу.
Да и на причале в разгар работы не может быть пусто. Вот, к примеру, два персонажа — типичные одесситы босяцкого вида, руки в карманах, широкие брюки, кепки… Нет… Они не портовые. Одеты по-городскому. Да и взгляды какие-то цепкие, колючие. Точно нет. У рабочих порта лица озабоченные, они всё время куда-то спешат, да и одеты иначе. Пассажиры? Тоже нет. Возле причальной стенки ни одного пассажирского судна.
И смотрят прямо на него. Один достаёт что-то из внутреннего кармана… Что там? Папиросы? Непохоже. Книжица красная.
— Гражданин, проследуйте с нами, — услышал Йося, когда до потенциальных героев его лучшей акварельной работы оставалось шагов пять.
Старая криминальная привычка — рвать с места, когда тебя окликает городовой, сработала автоматически. Пинком ноги Йося отбросил тубус, который тут же упал вниз, почти не издав при ударе о воду никакого звука. Умиротворённый художник побежал в сторону, противоположную своим преследователям не оглядываясь, их крики и топот ботинок были и так отлично слышны.
Куда? Куда бежать? Вокруг море, путь в город отрезан. Голова работала, как в юности — молниеносно принимая решения, повинуясь каким-то неведомым инстинктам выживания.
Баржа. Турецкая баржа. Туда. Там, или останусь, или переберусь на берег.
— Ах, ты ж! — воскликнул один из преследователей, когда Аглицкий, словно юнец, сиганул в воду и отчаянно стал грести в сторону торгового судна, стоявшего возле соседнего причала.
Йося как мог, в промежутках между мощными гребками, взмахами руки обращал на себя внимание смуглых турецких моряков.
— Канат! Канат кинь!!
Те с изумлением наблюдали, как в их сторону быстро плывёт мужчина в возрасте, которого нисколько не смущает температура осенней воды. Засуетился боцман, стал давать какие-то непонятные указания, и с борта стравили тонкий канат.
Один из парней в кепках достал пистолет, и, основательно прицелившись, стал стрелять по воде. Первый фонтанчик возник впереди Иосифа Аглицкого, второй, чуть сбоку. Третий выстрел, после того, как стрелок чертыхнулся и широко расставил для устойчивости ноги, пришёлся прямо в затылок почти уже доплывшего до турецкого корабля беглеца.
Боцман какими-то резкими словами на своём родном языке разогнал стоявших вдоль борта матросов, а сам, глядя на безжизненно дрейфовавшее невдалеке тело человека, махнул рукой и громко выругался…
Следователь Яков Шаевич-Шнайдер, отправивший двух оперативных сотрудников на отработку внештатной агентуры начотдела Задова, пребывал в замечательном расположении духа.
— Лёва, и ты это скрывал? — удивлённо заметил Шаевич, разглядывая бумаги из жестяной коробки, на крышке которой была изображена балерина. — Тут же на орден Красной Звезды, как минимум!
— Вот и забирай этот орден… — сплюнув кровь, прорычал Задов.
— Не ерепенься, не шипи. Вижу, ты своё обещание исполнил. Где взял? — помахал несколькими листами следователь.
— В Бухаресте. Резидент выполнил задание. А ты мне предательство шьешь…
— А чего не предъявил начальству?
— А дуракам пол-работы не показывают, слышал такое? — на голову Задова обрушился кулак старшины, специально приставленного для проведения мер физического воздействия.
— Как был ты дурнем, так ним и остался, — тихо констатировал Шаевич. — Здесь, судя по всему, не всё, да? Вижу, неискренний ты со мной, Лёва, — старшина нанёс еще два коротких удара в район крепкой шеи бывшего начотдела ИНО. — Угомонись, Петренко, я так с ним до ночи разговаривать буду. Лёва, ты слышишь меня?
Задова облили водой из графина, стоявшего на подоконнике, и тот пришёл в себя.
— Остальное где, спрашиваю?
— Догадываюсь. В Бухаресте. Могу попробовать раздобыть.
— Это шутки такие у тебя? Билет купить?
— Даниила Николаевича Зотова можно отправить. Или он в такой же форме, как и я? — Задов оплывшим глазом моргнул своему бывшему коллеге. — А я тут, у вас останусь. В закладе.
— А если братишка твой не вернётся?
— Тогда расстреляешь меня.
— Всё у тебя, Лёва, так просто, так незамысловато… как ты там у Махно выжил? Ума не приложу.
— А не нужно жизнь усложнять, она сама капканы расставит.
Москва. 12 октября 1937 г.
Майор госбезопасности Власик отдал честь и проследовал за своим номинальным командиром вдоль аллеи, проложенной сквозь лес, в хвойной зелени которого скрывался такого же цвета фасад Ближней дачи.
— Как Хозяин? — невысокий ростом, народный комиссар внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности Николай Иванович Ежов рядом с начальником 1-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, а проще — личной охраны Сталина, чувствовал себя всегда некомфортно. Тот, соблюдая субординацию, отвечал лаконично, поглядывая на Ежова с высоты своего роста, вёл себя подчёркнуто немногословно и учтиво.
Неприязнь наркома была легко объяснима. Майор Власик находится возле Сталина уже десять лет и пользуется полным доверием и расположением вождя. Служебная иерархия за воротами правительственной дачи превращалась в формальность — на самом деле, главным здесь был не наркомвнудел, а его подчинённый — майор Власик.
— Нормально, работает, — в своём стиле ответил начальник охраны.
— Там кто-то есть? — Ежов приподнял форменную фуражку и вытер платком пот со лба.
— Каганович ждёт.
— Давно?
— Уж больше часа. Хозяин ещё не вызвал.
Переложив толстую кожаную папку в левую руку, нарком сам открыл застекленную наполовину входную дверь и, как он это делал уже много десятков раз, оставив фуражку на правой, гостевой вешалке, посмотрелся в специально для этого установленное зеркало, оправил мундир и уверенным шагом проследовал в гостевой зал.
Там, в большом помещении с полукруглой стеной напротив входа, при наличии настроения, вождь собирал соратников на ночные ужины, а в обычное время столовая превращалась в приёмную.
— О, Николай Иванович, приветствую вас! — Лазарь Моисеевич встал со стула и протянул руку наркому внутренних дел.
— Взаимно, — Ежов ответил на рукопожатие и жестом пригласил коллегу присесть. — В ногах правды нет. Находился я сегодня… Всё в порядке?
— Да, по плану. Как положено. Молотов что-то долго уже там, — Каганович кивнул в сторону двери, ведущей в рабочий кабинет Сталина.
— Не знаете, списки утверждены? — поинтересовался Ежов, переводя тему разговора на свою сферу деятельности.
С недавних пор Наркомат внутренних дел рьяно взялся за инвентаризацию партийных рядов, в итоге которой появлялся перечень лиц, как правило, из высшего регионального руководства, которые подлежали суду.
Троцкисты, бухаринцы, «зажравшиеся и погрязшие в роскоши» скрытые антипартийные элементы — все они делились на несколько категорий. Больше всего включал в себя список 1-й категории. Этим неминуемо грозил расстрел. Участь врагов 2-й категории была полегче — десять лет заключения, и уж совсем счастливой могли считать свою судьбу те, чьи фамилии попадали в 3-й разряд — пять лет, но таких среди сотен обречённых были буквально единицы.
— Да, Хозяин визу наложил, я тоже подписал… — Каганович сделал паузу, на несколько секунд задумался, и продолжил:
— Я каждый раз тщательно изучаю этот перечень. Особенно в той его части, которая касается вашего ведомства…
— Да, да. Мою позицию вы, Лазарь Моисевич, знаете. Органы безопасности в первую очередь обязаны обеспечить чистоту своих рядов. И о вашей внимательности к этому вопросу я тоже наслышан… Вы в сентябре, на правах секретаря ЦК, именно этот раздел запросили. За август, — вопросительный взгляд Ежова с присущим ему лёгким и хитрым прищуром свидетельствовал о том, что нарком владеет темой достаточно глубоко. — Вас что-то тревожит, Лазарь Моисеевич?
Нисколько не смутившись, Каганович продолжил развивать свою мысль. Конечно, встреча с Ежовым в приёмной правительственной дачи не входила в его планы, но не раз выручавшая его привычка готовиться к разговору, продумывать разные линии развития диалога, создала впечатление полной непринуждённости беседы и пустяковости вопроса:
— В отличие от вашей, Николай Иванович, моя память не настолько вместительна. Хотел развеять свои сомнения.
— По поводу, — резко отреагировал Ежов, несмотря на умиротворенную и размеренную речь Кагановича.
— Я искал там одну фамилию и, знаете, не нашёл… как раз собирался вас побеспокоить по этому вопросу, но на ловца, как говорится, и зверь бежит.
— Что, мы где-то недосмотрели? — нота огорчения выдала в Николае Ивановиче Ежове комплекс отличника. Нарком, еще будучи провинциальным партаппаратчиком, прославился не только своим нетерпимым отношением к любого вида инакомыслию и оппозиции, но и неуёмным желанием доводить все свои дела до идеального, нужного ему финала.
— Нет, напротив… Человека там нет, а он арестован. Некто Зиньковский-Задов.
Ежов, не задумываясь, задал встречный вопрос:
— Одессит?
— Я же говорил, что у вас феноменальная память, Николай Иванович. Там что-то серьёзное?
— Более чем, товарищ нарком тяжёлой промышленности. Случай из ряда вон выходящий. А почему интересуетесь?
— Чтобы не было никакой конспирологии — отвечу. В своё время он мне жизнь спас. Теперь хочу понять, смогу ли долг отдать…
— Не сможете, товарищ Каганович. Не сто́ит мараться. Вот здесь, — Ежов похлопал папку, лежавшую у него на коленях рукой, — материалы…
Дверь кабинета открылась, и оттуда, поправив пенсне, вышел Молотов:
— Добрый вечер, товарищи! — Председатель Совета народных комиссаров СССР поздоровался с каждым из коллег и с озабоченным видом проследовал к выходу.
— Товарищ нарком внутренних дел, Иосиф Виссарионович просит вас… — Власик, появившийся из ниоткуда, пригласил Ежова в кабинет Сталина, при этом пожав плечами в сторону Кагановича — приказы не обсуждаются, придётся ещё подождать.
Спустя тридцать минут начальник личной охраны подошел к ожидавшему аудиенции Кагановичу и негромко произнёс:
— Товарищ нарком, Хозяин приказал вас позвать.
— А Ежов же ещё не закончил, — рассеянно переспросил секретарь ЦК, погружённый в свои неприятные думы.
— Товарищ нарком, Сталин приказал вас позвать, — еще раз, с каменным выражением лица повторил Власик.
Все эти тонкости настроения Хозяина, слова, которые использует в разговоре Власик, Каганович за многие годы работы в правительстве изучил в совершенстве. Не «пригласить», а «позвать» — это много значит. Сколько раз его, преданного коммуниста, вызывали «на ковёр»… Пока бог миловал. Хотя бога же нет… Череда нехороших мыслей пролетела в голове наркома, пока он проделал десяток шагов до двери.
Три окна напротив входа, затенённые крышей террасы, стол, обитый зеленой тканью, такой же, как и краска на фасаде, три окна справа, диван кожаный… Сколько раз нарком тяжелой промышленности бывал в этом кабинете… Всю его обстановку он знает досконально, как и его Хозяина. Это ему поможет сейчас не допустить ошибку…
Сталин стоял спиной к входу, разглядывая белок, прыгавших по стволам деревьев, и никак не отреагировал на вопрос визитёра:
— Можно, товарищ Сталин?
В ответ трубка испустила тонкий столбик дыма и в камерной тишине кабинета спустя почти минуту, негромко прозвучал вопрос:
— Лазарь, а какой у тебя был партийный псевдоним, когда ты в Юзовке организовывал рабочее движение?
— Борис Кошерович, Иосиф Виссарионович, — всё это время нарком тяжёлой промышленности стоял возле входа, не понимая, как себя вести.
— Ты проходи, Кошерович, присаживайся, — грузинский акцент Хозяина, когда он говорил преднамеренно тихо, заставлял вслушиваться в каждое его слово. Каганович прекрасно знал, что этот разговор почти шёпотом — предвестник бури.
— Товарищ Ежов…
— Да, товарищ Сталин! — наркомвнудел поднялся из одного из двух больших кресел, приставленных почти вплотную к зелёному столу, и вытянулся по стойке «смирно».
«Эх, Коля, Коля, Николай… Времени даром не терял, гадёныш», — к Кагановичу неожиданно вернулось самообладание. Скольких таких поворотливых проходимцев он повидал на своём веку? Один Ягода чего стоил. И где теперь Ягода? То-то, Ёж… Подавишься…
— У нас в партии, — Сталин медленно растягивал притухшую трубку и наконец-то повернулся спиной к окну, усаживаясь на своё любимое кресло, — не принято закрывать глаза на ошибки товарищей. Я не ошибаюсь, Николай Иванович?
— Так точно, Иосиф Виссарионович! — Ежов продолжал стоять возле кресла.
— Как, по вашему мнению, наш соратник… такой же, как и вы, секретарь Центрального комитета… товарищ Каганович, когда хлопочет за вражеского агента, он заблуждается или выгораживает врага?
— Не могу знать мотивов товарища Кагановича. Оценку даст партия и следствие! — отрапортовал Ежов.
— Эх, какой ты быстрый, Коля… следствие… — Сталин оторвал глаза от трубки, которую он только что очистил от перегоревшего табака в большую хрустальную пепельницу, стоявшую рядом с настольной лампой. — Когда наш товарищ, Борис Кошерович, поднимал на борьбу пролетариев Донбасса, ты, Коля…
Лёгкая испарина покрыла лоб наркома внутренних дел — события принимали непрогнозируемый оборот.
— Служил писарем в части, — закончил Сталин.
Оправдываться или давать комментарии сейчас было опасно для обоих визитёров. Хозяин заходил издалека, следовало ждать прямых вопросов и не перечить.
— Вот ты, Лазарь, говоришь, что этот Задов тебе жизнь спас…
— Спас, товарищ Сталин.
— Не тот ли это Задов, что в романе «Сёстры» нашего советского писателя Толстого? Настоящий враг. Ума не приложу, Лазарь… Сначала он нашим помогает, потом в романе с нашими воюет… Где правда?
— Да, Лев Зиньковский-Задов воевал на стороне махновцев, но, по моим данным, перековался. Награжден именным оружием, — ответил Каганович, предполагая, что его комментарий поможет разобраться, где правда.
— По твоим данным… А в твоих данных нет информации, что он опять перековался? То, что он сейчас стал румынским шпионом, ты знаешь, Лазарь? — Сталин многозначительно указал пальцем на папку, с которой пришёл Ежов. — А то, что он сдал всю нашу резидентуру, ты тоже не знаешь?
— Никак нет, товарищ Сталин. Я и не мог знать таких подробностей. Поинтересовался у наркома Ежова судьбой человека, известного мне хорошим поступком. Но ни о чём не просил…
— Это правильно, Лазарь… правильно… Ты человечный. Люди должны помнить добро… Так что скажете, товарищ Ежов? Заблуждается наш однопартиец? Или ты по-прежнему следствие хочешь?
— Считаю, что за человечность наказывать не нужно… за человечность нет статьи, — негромко произнёс комиссар госбезопасности, пытаясь понять, угадал ли он настроение Хозяина.
— В верном направлении мыслишь, Николай… Ты ретивый служака, это хорошо, но иногда удила закусываешь… Товарищ Каганович не обладал всей полнотой информации, пытался протянуть руку помощи, а ты его — под следствие… Лучше ты мне расскажи, как такой негодяй, как Задов, оказался в рядах чекистов? Молчишь? Или ты считаешь, что член Союза писателей СССР, товарищ Толстой, заврался? Может быть, мы не тех писателей возвышаем?
— Думаю, признанный авторитет нашего литературного цеха, товарищ Толстой, исследовал материалы, перед тем, как написать роман…
— Вот и ты исследуй, Николай. Кстати… А что там с этими пресловутыми документами, что этот Задов всё никак не мог найти? Ягода мне тут сказки рассказывал… Теперь ты… Можно наконец прояснить ситуацию?
Ежов посмотрел в сторону Кагановича, потом на Сталина, пытаясь напомнить о присутствии постороннего в кабинете.
— Лазарь нам не чужой человек. Говори, Николай…
— Продолжаем работать, Иосиф Виссарионович. Та часть, которая касается Троцкого, находится у нас. Это отражено в докладной записке. Касаемо Ленина…
— Плохо работаешь, Николай, плохо, — перебил его Сталин. — Долго и непродуктивно… Ты знаешь, товарищ Ежов, заканчивай с этим делом. То, что Троцкий — мерзавец, что он поддерживал контакты с немцами, известно всей стране. Но этой же стране известно, что светлое имя вождя мирового пролетариата запятнать невозможно.
Сталин говорил теперь громче, с нотами нескрываемого раздражения.
— Кто поверит в эту твою лабуду? Советский пролетариат не интересуют буржуазные поклепы на любимого вождя. Этому вранью никто не поверит. Да, товарищ Ежов… Это не бумаги, это мусор.
Хозяин несколько успокоился, и продолжил:
— А этого Зиньковского-Задова ты хорошенько проработай… Проваленная разведсеть — это преступление. Это предательство. Такое нельзя прощать.
— Есть, товарищ Сталин!
— Только я думаю… Вот тут перед нами стоит наш друг Каганович… А мог бы еще в семнадцатом от пули бандитской погибнуть. Хоть какая-то польза от этого негодяя Задова. Что там, семья у него есть? Может, и не знали, с каким оборотнем живут…
— Что там у вас, товарищ нарком тяжёлой промышленности? — обратился Сталин к Кагановичу. — Иди, Николай, свободен…
Москва. 13 октября 1937 г.
— Девушка, соедините меня с городом Сталино. 2-12. Да. Подожду.
— Алло?
— Это квартира товарища Сидорова-Шестеркина?
— Да.
— Позовите Петра Михайловича к телефону. Скажите, Кошерович беспокоит.
— А вы не знаете? Наверно, не звоните сюда больше. Не знаю, где он… Да и нас выселяют…
Киев. 25 сентября 1938 г.
— Задов, на выход!
Молча глянув на каждого из своих сокамерников, Лёва глазами с ними попрощался.
Слов не требовалось. Они прощались каждый раз, когда кого-то уводили.
Дверь камеры закрылась, и Лев Зиньковский-Задов пошёл по коридору в сопровождении конвоя и офицера, громко и чётко произносящего каждое слово в соответствии с процедурой:
— Именем Союза Советских Социалистических Республик приговором выездной комиссии Верховного суда СССР вы приговорены к исключительной мере наказания.
Задов шёл в свой последний путь.
Хотелось погибнуть на воздухе, в поле, на коне, но не дал Бог… Верунчик… Вадька… старый Юдель, ведущий своих уставших битюгов… Даня с папиросой у дома в Юзовке… мама… Образы менялись в голове в такт каждого его шага, каждую секунду.
Когда эхо последних шагов приговорённого арестанта растворилось в глубине коридора, расстрельная команда расслышала едва уловимый мотив старой казачьей песни, звучавшей из его уст…
А первая пуля, а первая пуля, А первая пуля в ногу ранила коня… А вторая пуля, а вторая пуля, А вторая пуля в сердце ранила меня… Любо, братцы, любо, Любо, братцы, жить! С нашим атаманом…Судьбы
Нестор Иванович Махно — скончался в Париже от туберкулёза 3 июля 1934 года.
Его жена Галина (Агафья) Андреевна Кузьменко — в 1945 г. арестована в Германии при получении новых документов. Осуждена на 8 лет. Скончалась в г. Джамбуле Казахской ССР в 1978 г.
Его дочь Елена Михненко — арестована в 1945 году в Германии вместе с матерью. Приговорена к 5 годам. Скончалась в 1992 г.
Михаил Вольфович Винницкий (Мишка Японец) — в 1919 г. примкнул к войскам Красной армии и командовал 54-м советским революционным полком им. Ленина. 19 июня 1919 г. убит бойцами Григория Котовского при отступлении эшелона с остатками его полка в Одессу.
Майорчик (Мейер Зайдер) — 5 августа 1925 г. несколькими выстрелами из револьвера убил Григория Котовского, отомстив за смерть Мишки Японца. На суде вину признал, но по другим мотивам. Приговорен к 10 годам, из них отбыл меньше трёх лет. В 1930 г. задушен в Харькове кавалеристами Котовского.
Симон Васильевич Петлюра — Председатель Директории Украинской Народной Республики с 1919 г. по 1926 г. Убит Самуилом Шварцбурдом в Париже, на бульваре Сан-Мишель 25 мая 1926 г.
Самуил Исаакович Шварцбурд — уроженец Измаила, поэт, публицист, сторонник анархистских идей. Застрелил Симона Петлюру из чувства мести за многочисленные жертвы своего народа во время еврейских погромов. На месте преступления дождался полицию и сдался со словами: «Я застрелил убийцу». 26 октября 1927 г. оправдан судом присяжных. Скончался в 1938 г.
Иван Савельевич Лепетченко — до последних дней жил и работал в Мариуполе. Арестован 9 августа 1937 года. Одно из обвинений — бездействие как агента НКВД в течение 10 лет. Заседанием тройки УНКВД по Донецкой области 20 октября 1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Василий Тимофеевич Иванов — После руководства Харьковским губотделом ГПУ продолжил карьеру чекиста. С 1934 по 1937 годы — начальник Донецкого областного управления НКВД. С 3 апреля 1937 г. — заместитель Народного комиссара внутренних дел УССР. 1 июня 1937 года арестован. Расстрелян. Впоследствии не реабилитирован.
Леонид Михайлович Заковский (Генрих Эрнестович Штубис) — закончил карьеру в чине Комиссара госбезопасности 1 ранга. Арестован 19 апреля 1938 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян 29 августа 1938 г. В последствии не реабилитирован.
Пётр Михайлович Сидоров-Шестеркин — старший лейтенант госбезопасности. Помощник начальника 6-го отделения экономического отдела ГУГБ НКВД СССР в г. Сталино. Арестован. Дальнейшая судьба неизвестна.
Николай Иванович Ежов — 23 ноября 1938 г. подал Сталину прошение об отставке с поста Народного комиссара внутренних дел. Арестован 10 апреля 1939 г. Приговорён к исключительной мере наказания 3 февраля 1940 г. Приговор приведен в исполнение на следующий день.
Лазарь Моисеевич Каганович (Борис Кошерович) — сделал карьеру советского партийного и хозяйственного деятеля. В 1957 г. — член Президиума ЦК КПСС. В этом же году освобожден от всех занимаемых должностей как член антипартийной группы Маленкова — Кагановича — Молотова. Скончался в возрасте 97 лет 25 июля 1991 г.
Даниил Николаевич Зодов (Задов) — брат Льва Зиньковского-Задова. Сотрудник ИНО ОГПУ в Тирасполе. Арестован в 1937 г. В последствии расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.
Вера Ивановна Матвеенко — супруга Льва Зиньковского-Задова. Арестована в январе 1938 г. Освобождена в 1939 г. Скончалась в 1974 г.
Вадим Львович Зиньковский-Задов — сын Льва Зиньковского-Задова. Полковник СА. Скончался в 2013 г.
Алла Львовна Зиньковская — дочь Льва Зиньковского-Задова. Медсестра. Погибла 11 июня 1942 г. после попадания авиационной бомбы в санитарный теплоход «Грузия» на рейде Севастополя.
Владислав Константинович Пузвич — приемный сын Льва Зиньковского-Задова. Погиб в 1943 г. под Ростовом.
Исаак Юдович Задов — старший из рода Задовых, оставшихся в Сталино при немецко-фашистской оккупации. Он и еще восемь членов семьи, в том числе дети 11 месяцев, 3, 6 и 11 лет погибли в шурфе шахты 4–4 бис в Калининском районе г. Донецка. Их фамилии высечены в числе прочих сотен казненных мирных жителей г. Сталино на монументе возле бывшего шурфа шахты.
Лев Николаевич Зиньковский-Задов — 25 сентября 1938 г. приговором выездной сессии Военной коллегии Верхсуда в г. Киеве осужден к исключительной мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 29 января 1990 г. Зиньковский-Задов Лев Николаевич полностью реабилитирован.
Примечания
1
Доходный дом — многоквартирный дом с квартирами для сдачи в аренду.
(обратно)2
Ныне — улица Маразлиевская.
(обратно)3
Марвихер — вор.
(обратно)4
Каталь — рабочий, подававший шихту в домну.
(обратно)5
Коза — тележка с рудой.
(обратно)6
Большой проспект — проспект Лагутенко.
(обратно)7
Одиннадцатая линия — улица Флеровского.
(обратно)8
Хедер — начальная еврейская религиозная школа.
(обратно)9
Первая линия — ул. Артема в г. Донецке.
(обратно)10
Вторая линия — ул. Кобозева в г. Донецке.
(обратно)11
Свято-Преображенский собор располагался вдоль Первой линии, за нынешним зданием бывшего кинотеатра «Комсомолец», ул. Артема, 36-а.
(обратно)12
Холерный бунт произошел в Юзовке в 1892 г.
(обратно)13
По старому стилю. По новому стилю — 15 марта.
(обратно)14
Под псевдонимом «Борис Кошерович» в течение марта — апреля 1917 г. в Юзовке находился Лазарь Каганович — будущий соратник Сталина, народный комиссар, министр, Первый секретарь ЦК КП(б) Украины.
(обратно)15
Бодега — корчма.
(обратно)16
Гармидер — беспорядок.
(обратно)17
Гешефт — сделка.
(обратно)18
Марвхер — вор высокой квалификации.
(обратно)19
Щипач — вор — карманник.
(обратно)20
Гопник — бездомный. ГОП — Городское общество презрения.
(обратно)21
Босяк — изначально грузчик. Босяки писали на голых пятках цену своей работы и спали ногами к клиентам. Не брезговали босяки и уличным криминальным промыслом.
(обратно)22
Куш — богатая добыча.
(обратно)23
Портовый спуск — современный Польский спуск.
(обратно)24
Фармазонщик — аферист, сбывающий фальшивки.
(обратно)25
Шмурдяк — некачественное спиртное.
(обратно)26
Прошу прощения.
(обратно)27
2-е управление — служба внешней разведки Франции во время Первой мировой войны.
(обратно)28
Шлемазл — недалекий человек.
(обратно)29
Ныне — ул. Ивана Бунина.
(обратно)30
Ныне — ул. Еврейская.
(обратно)31
Мейер Зайдер — адъютант Михаила Винницкого (Мишки Японца).
(обратно)32
Потёмкинская лестница.
(обратно)33
Клифт — пиджак. Деревянный клифт — гроб.
(обратно)34
Уличные разведчики.
(обратно)35
Гришин-Алмазов, Алексей Николаевич — генерал-майор, военный губернатор Одессы до марта 1919 г. Отказался от перемирия с городским криминалитетом, предложенного Михаилом Винницким. Выжил после нескольких покушений, организованных на него Японцем.
(обратно)36
Марафет — кокаин (жарг.).
(обратно)37
Гешефт — сделка.
(обратно)38
Трёхлинейка — винтовка Мосина.
(обратно)39
Руководил (укр.)
(обратно)40
Сентово — ныне село Родниковка Кировоградской области.
(обратно)41
Пуд — 16,3 килограмма.
(обратно)42
Цеп — орудие для ручного выбивания зерна.
(обратно)43
Невже — неужели (укр.).
(обратно)44
Впоследствии — с 1934 по 1937 гг. — начальник НКВД Донецкой области.
(обратно)45
Государственное политическое управление.
(обратно)46
Город Гданьск на территории современной Польши — с 10 января 1920 г. по 2 сентября 1939 г. находился под протекторатом Лиги Наций и считался независимым от Польши и Германии городом-государством в соответствии с Версальским договором 1919 г.
(обратно)47
Пётр Андреевич Аршинов — сподвижник Махно, лидер анархистского движения.
(обратно)48
Помогите!
(обратно)49
Либава — Лиепая (Латвия).
(обратно)50
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — теоретик анархизма.
(обратно)51
Моряк торгового флота.
(обратно)52
Посёлок в Мариуполе.
(обратно)53
Беспорядок.
(обратно)54
Ножницы.
(обратно)55
Довести до неприятностей.
(обратно)56
Звание капитана государственной безопасности с 1935 г. соответствовало званию полковника РККА.
(обратно)57
Звание старшего майора государственной безопасности с 1935 г. соответствовало званию Комдива РККА.
(обратно)58
В Доме правительства на Берсеневской набережной в г. Москве жильцы, вселяясь, получали в распоряжение полностью меблированную и готовую к проживанию квартиру, но всё это было инвентаризировано и не являлось их собственностью. Раз в год комендант проверял сохранность казённого имущества.
(обратно)59
Будущая ул. Университетская (с 1953 г.).
(обратно)60
Нож.
(обратно)

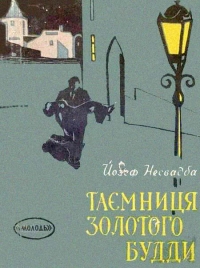

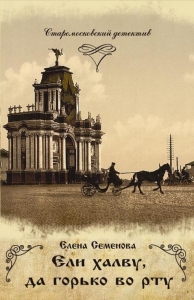


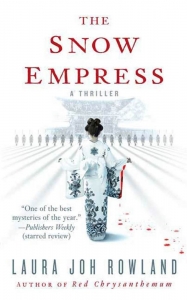

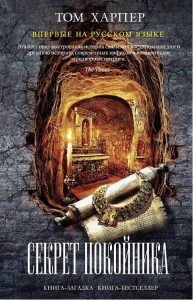
Комментарии к книге «Последний приказ Нестора Махно», Сергей Валентинович Богачев
Всего 0 комментариев