Борис АКУНИН СМЕРТЬ АХИЛЛЕСА детектив о наемном убийце (Приключения Эраста Фандорина #4)
Часть первая Фандорин
Глава первая, в которой звенья случайностей сплетаются в цепь судьбы
Едва утренний петербургский поезд, еще толком не вынырнув из клубов паровозного дыма, остановился у перрона Николаевского вокзала, едва кондукторы откинули лесенки и взяли под козырек, как из вагона первого класса на платформу спрыгнул молодой человек весьма примечательной наружности. Он словно сошел с картинки парижского журнала, воспевающего моды летнего сезона 1882 года: светло-песочный чесучовый костюм, широкополая шляпа итальянской соломки, остроносые туфли с белыми гамашами и серебряными кнопками, в руке – изящная тросточка с серебряным же набалдашником. Однако внимание привлекал не столько щегольской наряд пассажира, сколько импозантная, можно даже сказать, эффектная внешность. Молодой человек был высок, строен, широкоплеч, на мир смотрел ясными голубыми глазами, ему необычайно шли тонкие подкрученные усики, а черные, аккуратно причесанные волосы имели странную особенность – интригующе серебрились на висках.
Носильщики споро выгрузили принадлежавший молодому человеку багаж, который заслуживает отдельного описания. Помимо чемоданов и саквояжей на перрон вынесли складной велосипед, гимнастические гири и связки с книгами на разных языках.
Последним из вагона спустился низенький, кривоногий азиат плотного телосложения с чрезвычайно важным толстощеким лицом. Он был одет в зеленую ливрею, очень плохо сочетавшуюся с деревянными сандалиями на ремешках и цветастым бумажным веером, что свисал на шелковом шнурке с его шеи. В руках коротышка держал четырехугольный лакированный горшок, в котором произрастала крошечная сосна, словно перенесшаяся на московский вокзал прямиком из царства лилипутов.
Оглядев скучные станционные строения, молодой человек с не вполне понятным волнением вдохнул прокопченный вокзальный воздух и прошептал: «Господи боже, шесть лет». Однако долго предаваться мечтательности ему не позволили. На пассажиров со столичного поезда уже налетели извозчики, по большей части из числа приписанных к московским гостиницам. В бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырех гостиниц, что считались в первопрестольной самыми шикарными – «Метрополя», «Лоскутной», «Дрездена» и «Дюссо».
– А вот в «Метрополь» пожалуйте! – воскликнул первый. – Новейший отель по истинно европейскому обычаю! А для китайца вашего при нумере особая каморка имеется!
– Это не к-китаец, а японец, – объяснил молодой человек, причем обнаружилось, что он слегка заикается. – И я бы желал, чтобы он поселился вместе со мной.
– Так извольте к нам, в «Лоскутную»! – оттеснил конкурента плечом второй извозчик. – Ежели снимаете нумер от пяти рублей, доставляем бесплатно. Домчу с ветерком!
– В «Лоскутной» я когда-то останавливался, – сообщил молодой человек. – Хорошая гостиница.
– Зачем вам, барин, энтот муравейник, – вступил в схватку третий. – У нас в «Дрездене» тишь, благолепие, и окошки прямо на Тверскую, на дом князя-губернатора.
Пассажир заинтересовался:
– В самом деле? Это очень удобно. Я, видите ли, как раз должен служить у его сиятельства. Пожалуй…
– Эх, сударь! – вскричал последний из кучеров, молодой франт в малиновой жилетке, с набриолиненным до зеркального блеска пробором. – У Дюссо все наилучшие писатели останавливались – и Достоевский, и граф Толстой, и сам господин Крестовский.
Уловка гостиничного психолога, обратившего внимание на связки с книгами, удалась. Красавец-брюнет ахнул:
– Неужто граф Толстой?
– А как же, чуть в Москву пожалуют, так первым делом к нам-с. – Малиновый уже подхватил два чемодана и деловито прикрикнул на японца. – Ходя-ходя, твоя за мной носи!
– Ну к Дюссо, так к Дюссо, – пожал плечами молодой человек, не ведая, что это его решение станет первым звеном в роковой цепочке последующих событий.
– Ах, Маса, как Москва-то переменилась, – все повторял по-японски красавчик, беспрестанно вертясь на кожаном сиденье пролетки. – Прямо не узнать. Мостовая вся булыжная, не то что в Токио. Сколько чистой публики! Смотри, это конка, она по маршруту ходит. И дама наверху, на империале! А прежде дам наверх не пускали – неприлично.
– Почему, господин? – спросил Маса, которого полностью звали Масахиро Сибата.
– Ну как же, чтоб с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается.
– Европейские глупости и варварство, – пожал плечами слуга. – А я вам, господин, вот что скажу. Как только прибудем на постоялый двор, надо будет поскорей куртизанку вызвать к вам, и чтоб непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие женщины. Высокие, толстые. Гораздо лучше японок.
– Отстань ты со своей ерундой, – рассердился молодой человек. – Слушать противно.
Японец неодобрительно покачал головой:
– Ну сколько можно печалиться по Мидори-сан? Вздыхать из-за женщины, которую никогда больше не увидишь – пустое занятие.
Но его хозяин все-таки вздохнул, а потом еще раз и, видно, чтобы отвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера (как раз проезжали Страстной монастырь):
– А кому это на б-бульваре памятник поставили? Неужто лорду Байрону?
– Пушкин это, Александр Сергеич, – укоризненно обернулся возница. Молодой человек покраснел и опять залопотал что-то по-ненашему, обращаясь к косоглазому коротышке. Извозчик разобрал только трижды повторенное слово «Пусикин».
Гостиница «Дюссо» содержалась на манер самых лучших парижских – с ливрейным швейцаром у парадного подъезда, с просторным вестибюлем, где в кадках росли азалии и магнолии, с собственным рестораном. Пассажир с петербургского поезда снял хороший шестирублевый нумер с окнами на Театральный проезд, записался в книге коллежским асессором Эрастом Петровичем Фандориным и с любопытством подошел к большой черной доске, на которой по европейскому обыкновению были мелом написаны имена постояльцев.
Сверху крупно, с завитушками, число:
25 июля. Пятница ~ 7 Juliet, vendredi [7 июля, пятница (фр.)].
Чуть ниже, на самом почетном месте, каллиграфически выведено:
Генерал-адьютант-от-инфантерии М.Д.Соболев ~ № 47.
– Не может быть! – воскликнул коллежский асессор. – Какая удача! – И, обернувшись к портье, спросил. – У себя ли его высокопревосходительство? Мы с ним д-давние знакомцы!
– Так точно, у себя-с, – поклонился служитель. – Только вчера въехали. Со свитой. Все угольное помещение заняли, вон за той дверью коридор весь ихний-с. Но пока почивают, и тревожить не велено-с.
– Мишель? В полдевятого утра? – изумился Фандорин. – Это на него непохоже. Впрочем, люди меняются. Извольте передать г-генералу, что я в нумере двадцатом – он непременно захочет меня видеть.
И молодой человек повернулся идти, но тут произошла еще одна случайность, которой суждено было стать вторым звеном в хитроумной вязи судьбы. Дверь, ведущая в занятый высоким гостем коридор, внезапно приоткрылась, и оттуда выглянул чернобровый и чубатый казачий офицер с орлиным носом и впалыми, синеватыми от небритости щеками.
– Человек! – зычно крикнул он, нетерпеливо тряхнув листком бумаги. – Пошли на телеграф депешу отправить. Живо!
– Гукмасов, вы? – Эраст Петрович распростер объятья. – Сколько лет, сколько зим! Что, все Патроклом при нашем Ахиллесе? И уже есаул. П-поздравляю!
Однако этот дружественный возглас не произвел на офицера никакого впечатления, а если и произвел, то неблагоприятное. Есаул обжег молодого щеголя недобрым взглядом черных цыганских глаз и ни слова больше не говоря захлопнул дверь. Фандорин так и застыл в нелепой позе с раскинутыми в стороны руками – будто хотел пуститься в пляс да передумал.
– В самом деле, – смущенно пробормотал он. – Как все п-переменилось – и город, и люди.
– Не прикажете ли завтрак в нумер? – спросил портье, делая вид, что не заметил асессорова конфуза.
– Нет, не нужно, – ответил тот. – Пусть лучше принесут из погреба ведро льду. А, пожалуй, что и д-два.
В номере, просторном и богато обставленном, постоялец повел себя весьма необычно. Он разделся догола, перевернулся вниз головой и, почти не касаясь стены ногами, десять раз отжался от пола на руках. Слугу-японца поведение господина ничуть не удивило. Приняв от коридорного два ведра, наполненные колотым льдом, азиат высыпал аккуратные серые кубы в ванну, налил туда холодной воды из медного крана и стал ждать, пока коллежский асессор закончит свою диковинную гимнастику.
Минуту спустя раскрасневшийся от экзерциций Фандорин вошел в ванную комнату и решительно опустился в устрашающую ледяную купель.
– Маса, достань вицмундир. Ордена. В бархатных коробочках. Поеду представляться князю.
Говорил он коротко, сквозь стиснутые зубы. Очевидно, купание требовало изрядных волевых усилий.
– К самому императорскому наместнику, вашему новому господину? – почтительно спросил Маса. – Тогда я достану и меч. Без меча никак невозможно. Одно дело – русский посол в Токио, которому вы служили раньше, с ним можно было не церемониться. И совсем другое – губернатор такого большого каменного города. Даже и не спорьте.
Он отлучился и вскоре вернулся с парадной чиновничьей шпагой, благоговейно неся ее на вытянутых руках.
Очевидно поняв, что спорить бесполезно, Эраст Петрович только вздохнул.
– Так как насчет куртизанки, господин? – спросил Маса, обеспокоено глядя на голубое от холода лицо хозяина. – Здоровье прежде всего.
– Пошел к черту. – Фандорин, клацая зубами, поднялся. – П-полотенце и одеваться.
* * *
– Входите, голубчик, входите. А мы вас тут поджидаем. Так сказать, тайный синедрион в полном составе, хе-хе.
Такими словами приветствовал принаряженного коллежского асессора всемогущий хозяин матушки-Москвы князь Владимир Андреевич Долгорукой.
– Да что ж вы стали на пороге? Пожалуйте вот сюда, в кресло. И зря в мундир вырядились, да еще при шпаге. Ко мне можно попросту, в сюртуке.
За шесть лет, которые Эраст Петрович провел в заграничных странствиях, старый генерал-губернатор сильно сдал. Каштановые кудри (явно искусственного происхождения) никак не желали прийти к соглашению с изборожденным глубокими морщинами лицом, в вислых усах и пышных бакенбардах подозрительно отсутствовали седые волоски, а чересчур молодецкая осанка наводила на мысль о корсете. Полтора десятка лет правил князь первопрестольной, правил мягко, но хватко, за что недруги называли его Юрием Долгоруким и Володей Большое Гнездо, а доброжелатели Владимиром Красно Солнышко.
– Вот и наш заморский гость, – сказал губернатор, – обращаясь к двум важным господам, военному и статскому, сидевшим в креслах подле необъятного письменного стола. – Мой новый чиновник особых поручений коллежский асессор Фандорин. Назначен ко мне из Петербурга, а прежде служил в нашем посольстве на самом краю света, в Японской империи. Знакомьтесь, голубчик, – обернулся князь к Фандорину. – Московский обер-полицеймейстер Караченцев Евгений Осипович. Опора законности и порядка. – Он жестом показал на рыжего свитского генерала со спокойным, цепким взглядом карих, чуть навыкате глаз.
– А это мой Петруша, для вас Петр Парменович Хуртинский, надворный советник и правитель секретного отделения генерал-губернаторской канцелярии. Что на Москве ни случись, Петруша сразу узнаёт и мне доносит.
Пухлый господин лет сорока, с ювелирно уложенным зачесом на продолговатой голове, с подпертыми крахмальным воротничком сытыми щечками и сонно полуприкрытыми веками чинно кивнул.
– Я, голубчик, неслучайно вас именно в пятницу пожаловать попросил, – задушевно произнес губернатор.
– Как раз по пятницам в одиннадцатом часу у меня заведено разные секретно-деликатные дела обсуждать. Сейчас вот намечено тонкого вопроса коснуться – где достать денег на завершение росписи Храма. Святое дело, крест мой многолетний. – Он набожно перекрестился.
– Интриги там промеж художников, да и воровства хватает. Будем думать, как с московских толстосумов на богоугодное дело миллион вытрясти. Что ж, господа секретчики, было вас двое, теперь будет трое. Как говорится, совет да любовь. Вы ведь, господин Фандорин, ко мне как раз для тайных дел назначены, не правда ли? Рекомендации у вас отличные, не по годам. Чувствуется, что человек вы бывалый.
Он испытующе глянул новенькому в глаза, но тот выдержал взгляд и даже, кажется, без особого трепета.
– Я ведь вас помню, – вновь превратился в доброго дедушку Долгорукой. – Был на вашем венчании, как же. Все, все помню… Возмужали, сильно переменились. Ну да и мы не молодеем. Присаживайтесь, голубчик, присаживайтесь, я церемоний не люблю…
И как бы ненароком пододвинул к себе формулярный список новичка – фамилию-то запомнил, да имя-отчество из головы выскочило. А в таких делах, знал опытнейший Владимир Андреевич, промашки давать нельзя. Всякому человеку обидно, когда его имя путают, и уж тем более ни к чему без нужды подчиненных обижать.
Эраст Петрович – вот как его звали, красавчика этого. При взгляде на раскрытый формуляр князь нахмурился, потому что список был нехорош. Опасностью попахивало от списка. Уже не раз и не два просмотрел генерал-губернатор личное дело своего нового сотрудника, а ясности не прибавилось.
Формуляр и в самом деле выглядел претаинственно. Ну, 26-ти лет, православного вероисповедания, потомственный дворянин, уроженец Москвы. Это ладно. По окончании гимназии, согласно прошению, приказом по московской полиции утвержден в чине коллежского регистратора и определен на должность письмоводителя в Сыскное управление. Это тоже понятно.
Но затем начинались сплошные чудеса. Что это, спрашивается, такое – уже через два месяца:
«За отличную усердную превосходную службу Всемилостивейше произведен вне всякой очереди в чин титулярного советника с зачислением по Министерству иностранных дел»!
А далее, в графе «награждения» и того пуще:
«Орден Св. Владимира 4 степени за дело „Азазель“ (секретный фонд Отдельного корпуса жандармов)»; «орден Св.Станислава 3 степени за дело „Турецкий гамбит“ (секретный фонд Военного министерства)»; «орден Св.Анны 4 степени за дело „Алмазная колесница“ (секретный фонд Министерства иностранных дел)».
Сплошные секреты!
Эраст Петрович деликатно, но зорко посматривал на высокое начальство и в минуту составил первое впечатление – в целом благоприятное. Стар князь, но из ума еще не выжил и, кажется, не без актерства. Не укрылось от внимания коллежского асессора и затруднение, обозначившееся на физиономии его сиятельства при просмотре формулярного списка. Фандорин сочувственно вздохнул, ибо, хотя своего личного дела не читал, но примерно представлял себе, что там может быть написано.
Воспользовавшись возникшей паузой, Эраст Петрович взглянул на двух чиновников, которым по долгу службы полагалось ведать всеми московскими тайнами.
Хуртинский ласково щурился, улыбался одними губами – вроде бы приветливо, но в то же время как бы и не тебе, а неким собственным мечтаниям. На улыбку надворного советника Эраст Петрович не ответил – этот тип людей он знал слишком хорошо и очень не любил.
Вот обер-полицеймейстер ему скорее понравился, и генералу Фандорин слегка улыбнулся – без малейшей, однако, искательности. Генерал учтиво покивал, но, странное дело, посматривал на молодого человека не без жалости.
Эраст Петрович над этим ломать голову не стал – со временем разъяснится – и снова обернулся к князю. Тот тоже вовсю участвовал в этом безмолвном, но, впрочем, не выходившим за рамки приличий смотрин-ном ритуале.
На лбу у князя прорезалась одна особенно глубокая морщина, свидетельствовавшая о крайней степени задумчивости. Главная мысль у его сиятельства была сейчас такая: «А не камарилья ли тебя подослала, милый юноша? Не под меня ли копать? Очень похоже на то. Мало мне Караченцева».
А жалостливый взгляд обер-полицеймейстера был вызван обстоятельствами иного рода. В кармане у Евгения Осиповича лежало письмо от прямого начальника – директора департамента государственной полиции Плевако. Старый друг и покровитель Вячеслав Константинович писал приватным образом, что Фандорин – человечек толковый и заслуженный, в свое время пользовался доверием покойного государя и в особенности бывшего шефа жандармов, однако за годы заграничной службы от большой политики отстал и услан в Москву, ибо в столице применения ему не сыскалось. Евгению Осиповичу молодой человек на первый взгляд показался симпатичным – остроглазый такой, держится с достоинством. Не знает, бедняга, что высшие сферы на нем поставили крест. Приписали к старой калоше, вскорости предназначенной на помойку. Такие вот думы были у генерала Караченцева.
А о чем думал Петр Парменович Хуртинский – бог весть. Больно уж таинственного хода мысли был мужчина.
Немой сцене положило конец появление нового персонажа, бесшумно выплывшего откуда-то из внутренних губернаторских покоев. Это был высокий тощий старик в потертой ливрее с лысым блестящим черепом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. В руках старик держал серебряный поднос с какими-то склянками и стаканчиками.
– Ваше сиятельство, – сварливо сказал ливрейный.
– Пора от запора отвар кушать. Сами потом жаловаться станете, что Фрол не заставил. Забыли, как вчера-то кряхтели да плакались? То-то. Нут-ко, ротик раскройте. Такой же тиран, как мой Маса, подумал Фандорин, хотя обличья прямо противоположного. И что за порода этакая на нашу голову!
– Да-да, Фролушка, – сразу же капитулировал князь.
– Я выпью, выпью. Это, Эраст Петрович, мой камердинер Ведищев Фрол Григорьич. С младых ногтей меня опекает. А вы что же, господа? Не угодно ли? Славный травничек. На вкус гадкий, но от несварения исключительно помогает и работу кишечника стимулирует превосходнейшим образом. Фрол, налей-ка им.
Караченцев и Фандорин от травничка наотрез отказались, а Хуртинский выпил и даже уверил, что вкус не лишен своеобразной приятности.
Фрол дал князю запить отвар сладкой наливочкой и закусить тартинкой (Хуртинскому не предложил), вытер его сиятельству губы батистовой салфеточкой.
– Ну-с, Эраст Петрович, какими же такими особыми поручениями мне вас занять? Ума не приложу, – развел руками замаслившийся от наливочки Долгорукой. – Советников по таинственным делам у меня, как видите, хватает. Ну да ничего, не тушуйтесь. Обживитесь, присмотритесь…
Он неопределенно махнул и мысленно прибавил: «А мы пока разберемся, что ты за воробей».
Тут допотопные, с измаильским барельефом, часы гулко пробили одиннадцать раз, и подстегнулось третье звено, замкнувшее фатальную цепочку совпадений.
Дверь, что вела в приемную, распахнулась безо всякого стука, и в щель просунулась перекошенная физиономия секретаря. По кабинету пронесся невидимый, но безошибочный ток Чрезвычайного События.
– Ваше сиятельство, беда! – дрожащим голосом объявил чиновник. – Генерал Соболев умер! Тут его личный ординарец есаул Гукмасов.
На присутствующих эта новость подействовала по-разному – в соответствии со складом натуры. Генерал-губернатор махнул на скорбного вестника рукой – мол, изыди, не желаю верить – и той же рукой перекрестился. Начальник секретного отделения на миг приоткрыл глаза в полную ширину и немедленно опять смежил веки. Рыжий обер-полицеймейстер вскочил на ноги, а на лице коллежского асессора отразились два чувства: сначала сильнейшее волнение, а сразу вслед за тем глубокая задумчивость, не покидавшая его в продолжение всей последующей сцены.
– Ты зови есаула-то, Иннокентий, – мягко велел секретарю Долгорукой. – Вот ведь горе какое.
В комнату, чеканя шаг и звеня шпорами, вошел давешний лихой офицер, что не пожелал в гостинице броситься в объятья Эрасту Петровичу. Теперь он был чисто выбрит, в парадном лейб-казацком мундире и при целом иконостасе крестов и медалей.
– Ваше высокопревосходительство, старший ординарец генерал-адъютанта Михал Дмитрича Соболева есаул Гукмасов! – представился офицер. – Горестная весть… – Он сделал над собой усилие, дернул разбойничьим черным усом и продолжил. – Господин командующий 4-ым корпусом прибыл вчера из Минска проездом в свое рязанское имение и остановился в гостинице «Дюссо». Сегодня утром Михал Дмитрич долго не выходил из номера. Мы забеспокоились, стали стучать – не отвечает. Тогда осмелились войти, а он… – Есаул сделал еще одно титаническое усилие и добился-таки, договорил, так и не дрогнув голосом. – А господин генерал в кресле сидит. Мертвый… Вызвали врача. Говорит, ничего нельзя сделать. Уж и тело остыло.
– Ай-ай-ай, – подпер щеку губернатор. – Как же это? Ведь Михаил Дмитриевич молод. Поди, и сорока нет?
– Тридцать восемь ему было, тридцать девятый, – тем же напряженным, вот-вот сорвется, голосом доложил Гукмасов и быстро заморгал.
– А что за причина смерти? – спросил Караченцев, нахмурившись. – Разве генерал болел?
– Никак нет. Был здоров, бодр и весел. Врач предполагает удар либо паралич сердца.
– Ладно, ты иди, иди, – отпустил ординарца потрясенный известием князь. – Все, что нужно, сделаю и государя извещу. Иди. – А когда за есаулом закрылась дверь, сокрушенно вздохнул. – Ох, господа, теперь начнется. Шутка ли – такой человек, любимец всей России. Да что России – вся Европа Белого Генерала знает… А я к нему сегодня с визитом собирался… Петруша, ты отошли депешу государю императору, ну, сам там сообразишь. Нет, наперед покажи мне. А после распорядись насчет траура, панихиды и… Ну, сам знаешь. Вы, Евгений Осипович, порядок мне обеспечьте. Как слух пройдет, вся Москва к Дюссо хлынет. Так смотрите, чтоб никого не передавили, расчувствовавшись. Я москвичей-то знаю. И чтоб чинно все было, прилично.
Обер-полицеймейстер кивнул и взял с кресла папку для доклада.
– Разрешите идти, ваше сиятельство?
– Ступайте. Охо-хо, шуму-то, шуму-то будет. – Князь вдруг встрепенулся. – А что, господа, ведь, пожалуй, и государь прибудет? Непременно прибудет! Ведь не кто-нибудь, сам герой Плевны и Туркестана Богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрека, недаром Ахиллесом прозван. Дворец кремлевский надо подготовить. Это уж я сам…
Хуртинский и Караченцев подались к двери, готовые к исполнению полученных поручений, а коллежский асессор как ни в чем не бывало сидел в кресле и смотрел на князя с некоторым недоумением.
– Ах да, голубчик Эраст Петрович, – вспомнил про новенького Долгорукой. – Не до вас теперь, сами видите. Вы уж пока обвыкайтесь. Ну, и будьте близко. Может, поручу что-нибудь. Дела всем хватит. Ох, беда, беда…
– А что же, ваше сиятельство, расследования не б-будет? – внезапно спросил Фандорин. – Такое значительное лицо. И смерть странная. Надо бы разобраться.
– Какое еще расследование, – досадливо поморщился князь. – Говорят же вам, государь прибудет.
– Я однако же имею основания предполагать, что здесь дело нечисто, – с поразительным спокойствием заявил коллежский асессор.
Его слова произвели впечатление разорвавшейся гранаты.
– Что за нелепая фантазия! – вскричал Караченцев, разом утратив к молодому человеку всякую симпатию.
– Основания? – презрительно бросил Хуртинский. – Какие у вас могут быть основания? Откуда вы вообще можете что-либо знать?
Эраст Петрович на надворного советника даже не взглянул, а обратился прямо к губернатору:
– Изволите ли видеть, ваше сиятельство, по случайности я остановился как раз у Дюссо. Это раз. Михаила Дмитриевича я знаю с д-давних пор. Он всегда встает с рассветом, и вообразить, что генерал стал бы почивать до столь позднего часа, совершенно невозможно. Свита забеспокоилась бы уже в шесть утра. Это два. Я же видел есаула Гукмасова, которого тоже отлично знаю, в п-половине девятого. И он был небрит. Это три.
Здесь Фандорин сделал многозначительную паузу, словно последнее сообщение имело какую-то особенную важность.
– Небрит? И что с того? – недоуменно спросил обер-полицеймейстер.
– А то, ваше превосходительство, что никогда и ни при каких обстоятельствах Гукмасов не может быть небритым в половине девятого утра. Я прошел с этим человеком б-балканскую кампанию. Он аккуратен до педантизма и никогда не выходил из своей палатки не побрившись, даже если воды не было и приходилось растапливать снег. Полагаю, что Гукмасов с самого раннего утра знал, что его начальник мертв. Если знал, то почему так долго молчал? Это четыре. Надобно разобраться. Тем более, если приедет г-государь.
Последнее замечание, кажется-, подействовало на губернатора сильнее всего.
– Что ж, Эраст Петрович прав, – сказал князь поднимаясь. – Тут дело государственное. Назначаю негласное расследование обстоятельств кончины генерал-адъютанта Соболева. И без вскрытия, видно, не обойтись. Но только смотрите, Евгений Осипович, аккуратненько, без огласки. И так слухов будет… Петруша, слухи будешь собирать и докладывать мне лично. Расследование, разумеется, проведет Евгений Осипович. Да, не забудьте насчет бальзамирования распорядиться. С героем многие проститься захотят, а лето жаркое. Неровен час протухнет. Что же до вас, Эраст Петрович, то коли уж судьба поместила вас в «Дюссо» и коли вы так хорошо знали покойного, попробуйте разобраться в этом деле со своей стороны, действуя, так сказать, партикулярным образом. Благо вас в Москве пока не знают. Вы ведь чиновник особых поручений – так вот вам особое, уж особее не бывает.
Глава вторая, в которой Фандорин приступает к расследованию
К расследованию обстоятельств смерти прославленного полководца и всенародного любимца Эраст Петрович приступил довольно странно. С превеликим трудом прорвавшись в гостиницу, со всех сторон окруженную двойным кордоном полиции и скорбящими москвичами (горестные слухи испокон веку распространялись по древнему городу быстрей, чем ненасытные августовские пожары), молодой человек, не глядя ни вправо, ни влево, поднялся в свой двадцатый номер, бросил слуге фуражку и шпагу, а на расспросы лишь качнул головой. Привычный Маса понимающе поклонился и проворно расстелил на полу соломенную циновку. Куцую шпажонку почтительно обернул шелком и положил на шифоньер, сам же, ни слова не говоря, вышел в коридор и встал спиной к двери в позе грозного бога Фудомё, повелителя пламени. Когда по коридору кто-то шел, Маса прикладывал палец к губам, укоризненно цыкал языком и показывал то на запертую дверь, то куда-то в область своего пупка. В результате по этажу мигом разнесся слух, что в двадцатом остановилась китайская принцесса на сносях и будто бы даже уже рожает.
А тем временем Фандорин сидел на циновке и был абсолютно неподвижен. Колени ровно расставлены, тело расслаблено, кисти вывернуты ладонями вверх. Взгляд коллежского асессора был устремлен на собственный живот, если точнее – на нижнюю пуговицу вицмундира. Где-то там, под золотым двуглавым орлом, располагалась магическая точка тандэн, источник и центр духовной энергии. Если отрешиться от всех помыслов и всецело отдаться постижению самого себя, то в душе наступит просветление, и самая головоломная проблема предстанет в виде простом, ясном и разрешимом. Эраст Петрович изо всех сил старался отрешиться и просветлеть, что очень непросто и достигается лишь путем долгой тренировки. Природная живость мысли и проистекающая отсюда нетерпеливость делали упражнение в самоконцентрации особенно трудным. Но, как сказал Конфуций, благородный муж идет не тем путем, что легок, а тем, что труден, и потому Фандорин упорно всматривался в проклятую пуговицу, дожидаясь результата.
Сначала мысли никак не желали отступать, а, наоборот, плескались и бились, как рыбешки на мелководье. Потом все внешние звуки постепенно стали отдаляться и исчезли вовсе, рыбешки уплыли на глубину, а в голове заклубился туман. Эраст Петрович разглядывал золотой металлический кружок с гербом и ни о чем не думал. Секунду, минуту или, может быть, час спустя императорский орел вдруг явственно качнул обеими головами, корона заиграла искорками, и Эраст Петрович встрепенулся. План действий составился сам собой.
Кликнув Масу, Фандорин велел подать сюртук и, пока переодевался, коротко объяснил своему вассалу, в чем суть дела.
Дальнейшие передвижения коллежского асессора ограничивались пределами гостиницы и происходили по маршруту: вестибюль – швейцарская – ресторан. Переговоры с гостиничной прислугой заняли не час и не два, так что у двери отсека, который в «Дюссо» уже прозвали «соболевским», Эраст Петрович появился ближе к вечеру, когда тени стали длинными, а солнечный свет густым и тягучим, как липовый мед.
Фандорин назвался жандарму, сторожившему вход в коридор, и был немедленно впущен в царство печали, где говорили только шепотом, а передвигались исключительно на цыпочках. Номер 47, куда вчера въехал, доблестный генерал, состоял из гостиной и спальни. В первой из комнат собралось довольно много народу – Эраст Петрович увидел Караченцева с чинами жандармерии, адъютантов и ординарцев покойного, управляющего гостиницей, а в углу, ткнувшись носом в портьеру, глухо рыдал камердинер Соболева, известный всей России Лукич. Все словно ждали чего-то, то и дело поглядывая на закрытую дверь спальни. К Фандорину подошел обер-полицеймейстер и вполголоса пробасил:
– Профессор судебной медицины Веллинг проводит вскрытие. Что-то долго очень. Поскорей бы уж.
Словно вняв пожеланию генерала, белая, с резными львиными мордами, дверь дернулась и со скрипом отворилась. В гостиной сразу стало очень тихо. На пороге появился седой господин с брыластым, недовольным лицом, в кожаном фартуке, над которым посверкивал эмалью аннинский крест.
– Ну вот, ваше превосходительство, кончено, – мрачно произнес брыластый, который, видимо, и был профессором Веллингом. – Могу изложить.
Генерал оглядел комнату и повеселевшим голосом сказал:
– Со мной войдут Фандорин, Гукмасов и вот вы. – Он небрежно мотнул подбородком на управляющего. – Остальных прошу дожидаться здесь.
Первое, что увидел Эраст Петрович, войдя в обитель смерти, – перетянутое черным шарфом зеркало в игривой бронзовой раме. Тело усопшего лежало на на кровати, а на столе, видимо, перетащенном из гостиной. Взглянув на очерченный белой простыней контур, Фандорин перекрестился и на минуту забыл о следствии, вспомнив красивого, храброго, сильного человека, которого знал когда-то и который теперь превратился в продолговатый предмет неясных очертаний.
– Дело очевидное, – сухо начал профессор. – Ничего подозрительного не обнаружено. Я еще сделаю анализы в лаборатории, но абсолютно уверен, что жизнедеятельность прекратилась в результате паралича сердечной мышцы. Налицо также паралич правого легкого, но это, вероятнее всего, не причина, а следствие. Смерть наступила мгновенно. Даже окажись рядом медик, спасти все равно не удалось бы.
– Но ведь он был молод и полон сил, прошел через огонь и воду! – Караченцев приблизился к столу и отвернул край простыни. – Неужто просто взял и умер?
Гукмасов отвернулся, чтобы не видеть мертвого лица своего начальника, а Эраст Петрович и управляющий, наоборот, подошли поближе. Лицо было спокойным и значительным. Даже знаменитые размашистые бакенбарды, по поводу которых так подшучивали либералы и насмешничали иностранные карикатуристы, в смерти пришлись кстати – обрамляли восковой лик и придавали ему еще больше величия.
– Ох, какой герой, истинный Ахиллес, – пробормотал управляющий, на французский манер рокоча буквой "р".
– Время смерти? – спросил Караченцев.
– Между первым и вторым часом ночи, – уверенно ответил Веллинг. – Не ранее, но и никак не позже. Генерал повернулся к есаулу:
– Что ж, теперь, когда причина смерти установлена, можно заняться деталями. Рассказывайте, Гукмасов. И поподробней.
Поподробней есаул, видимо, не умел. Его рассказ вышел коротким, но, впрочем, исчерпывающим:
– Прибыли с Брянского вокзала в шестом часу. Ми-хал Дмитрич отдохнул до вечера. В девять ужинали в здешнем ресторане. Потом поехали кататься по ночной Москве. Никуда не заезжали. Вскоре после полуночи Михал Дмитрич сказал, что желает вернуться в гостиницу. Хотел сделать какие-то записи, он над новым боевым уставом работал…
Гукмасов покосился на бюро, стоявшее подле окна. На откидной доске были разложены бумаги, чуть в стороне – небрежно отодвинутое полукресло. Евгений Осипович подошел, взял исписанный листок, уважительно покивал.
– Распоряжусь, чтобы всё собрали и переправили государю. Продолжайте, есаул.
– Господам офицерам Михал Дмитрич велел располагать собой. Сказал, что дойдет пешком, хочет прогуляться.
Караченцев насторожился:
– И вы отпустили генерала одного? Ночью? Довольно странно!
Он многозначительно взглянул на Фандорина, но того эта подробность, кажется, нисколько не заинтересовала – коллежский асессор подошел к бюро и зачем-то водил пальцем по бронзовому канделябру.
– Поди-ка с ним поспорь, – горько усмехнулся Гукмасов. – Я сунулся было – так глянул, что… Да ведь он, ваше превосходительство, не то что по Москве ночной, по горам турецким и степям текинским в одиночку разгуливал… – Есаул мрачно покрутил длинный ус. – До гостиницы-то Михал Дмитрич дошел. До утра вот не дожил…
– Как вы обнаружили тело? – спросил обер-полицеймейстер.
– Вот здесь сидел, – показал Гукмасов на полукресло. – Назад откинувшись. И перо на полу…
Караченцев присел на корточки, потрогал чернильные пятна на ковре. Вздохнул:
– Да уж, пути Господни…
Наступившую печальную паузу бесцеремонно нарушил Фандорин. Полуобернувшись к управляющему и по-прежнему поглаживая злосчастный канделябр, он громким шепотом спросил:
– А что это у вас электричество не заведено? Я еще давеча удивился. Такая современная г-гостиница, а даже газа нет – свечами нумера освещаете.
Француз принялся было объяснять, что со свечами бонтоннее, чем с газом, а электрическое освещение уже есть в ресторане и к осени непременно появится на этажах, но Караченцев прервал не относящуюся к делу болтовню сердитым покашливанием.
– А как провели ночь вы, есаул? – возобновил он допрос.
– Заехал к боевому товарищу, полковнику Дадашеву. Посидели, поговорили. В гостиницу вернулся на рассвете и сразу завалился спать.
– Да-да, – вставил Эраст Петрович, – ночной портье сказал мне, что вы вернулись уж засветло. Еще послали его за бутылкой сельтерской.
– Верно. Честно говоря, выпил лишнего. Горло пересохло. Я всегда рано встаю, а тут как на грех проспал. Сунулся с докладом к генералу – Лукич говорит, не вставали еще. Я подумал, видно, заработался вчера Михал Дмитрич. Потом, в полдевятого уже, говорю – идем, Лукич, будить, а то осерчает. Да и непохоже на него. Входим сюда – а он раскинулся вот этак вот (Гукмасов откинул голову назад, зажмурил глаза и приоткрыл рот), и уж холодный. Вызвали врача, депешу в корпус послали… Тут-то вы меня, Эраст Петрович, и видели. Извините, что не поприветствовал старого товарища – сами понимаете, не до того было.
Вместо того, чтобы принять извинение, в котором, правду сказать, при подобных обстоятельствах и нужды никакой не было, Эраст Петрович чуть склонил голову на бок и, заложив руки за спину, сказал:
– А вот мне в здешней ресторации рассказали, будто вчера некая дама пела для его высокопревосходительства и якобы даже сидела за вашим столом. Кажется, известная на Москве особа? Если не ошибаюсь, Вандой зовут. И вроде бы вы все, включая и г-генерала, уехали с ней?
– Да, была какая-то певичка, – сухо ответил есаул. – Подвезли ее и высадили. А сами дальше поехали.
– Куда подвезли, в «Англию», в Столешников? – проявил удивительную осведомленность коллежский асессор. – Мне. сказали, госпожа Ванда именно там к-квартирует?
Гукмасов сдвинул грозные брови, и голос его стал сухим чуть ли не до скрежета:
– Я Москву плохо знаю. Тут недалеко, в пять минут докатили.
Фандорин покивал и, очевидно, утратил интерес к есаулу – заметил возле кровати дверцу стенного сейфа. Подошел, повернул ручку, и дверца открылась.
– Что там, пуст? – спросил обер-полицеймейстер. Эраст Петрович кивнул:
– Так точно, ваше превосходительство. Вон и ключ торчит.
– Что ж, – тряхнул рыжей головой Караченцев. – Бумаги, какие найдем, под сургуч. Там разберемся, что родственникам пойдет, что в министерство, а что и самому государю. Вы, профессор, вызывайте помощников и займитесь бальзамированием.
– Как, прямо здесь? – возмутился Веллинг. – Бальзамировать – это вам, господин генерал, не капусту квасить!
– А вы хотите, чтобы я тело через весь город к вам в академию перевозил? Выгляньте в окно, там яблоку упасть негде. Нет уж, располагайтесь здесь. Благодарю, есаул, вы свободны. А вы, – обратился он к управляющему, – исполняйте все пожелания господина профессора.
Когда Караченцев и Фандорин остались вдвоем, рыжий генерал взял молодого человека под локоть, отвел в сторонку от прикрытого простыней тела и вполголоса, словно покойник мог подслушать, спросил:
– Ну, что скажете? Насколько я мог понять по вашим вопросам и поведению, объяснения Гукмасова вас не удовлетворили. В чем вы видите неискренность? Ведь про свою утреннюю небритость он разъяснил вполне убедительно. Не находите? Проспал после ночной попойки – самое обычное дело.
– Гукмасов проспать не мог, – пожал плечами Фандорин. – Не той закалки человек. И уж тем более не сунулся бы, как он утверждает, с докладом к Соболеву, предварительно не приведя себя в порядок. Лжет есаул, это ясно. Но дело, ваше превосходительство…
– Евгений Осипович, – перебил его генерал, слушавший с чрезвычайным вниманием.
– Дело, Евгений Осипович, – с учтивым поклоном продолжил Фандорин, – еще серьезней, чем я думал. Соболев умер не здесь.
– Как это «не здесь»? – ахнул обер-полицеймейстер. – А где?
– Не знаю. Но позвольте спросить, почему ночной портье – а я с ним говорил – не видел, как Соболев вернулся?
– Возможно, куда-то отлучился и не хочет в этом признаваться, – возразил Караченцев, более для полемики, нежели всерьез.
– Невозможно, и чуть позже я объясню, почему. Но вот загадка, которой вы мне уж т-точно не разъясните. Если бы Соболев вернулся в нумер ночью, да еще после этого сидел за столом и что-то писал, он непременно зажег бы свечи. А вы посмотрите на канделябр – свечи-то целехоньки!
– В самом деле! – Генерал хлопнул себя по обтянутой тугими рейтузами ляжке. – Да вы, Эраст Петрович, молодцом. Зато из меня хорош сыщик. – Он обезоруживающе улыбнулся. – Я ведь по жандармской части определен недавно, раньше по гвардейской кавалерии состоял. Что же, по-вашему, могло произойти?
Фандорин сосредоточенно подвигал вверх-вниз собольими бровями.
– Г-гадать не хочу, однако совершенно ясно, что после ужина Михаил Дмитриевич в нумер не заходил, так как к тому времени уже стемнело, а свеч, как мы знаем, он не зажигал. Да и официанты подтверждают, что Соболев и его свита уехали сразу же после трапезы. В то, что ночной портье, человек основательный и очень д-дорожащий своим местом, мог отлучиться и проглядеть возвращение генерала, я не верю.
– «Верю – не верю» – это не аргумент, – подзадорил коллежского асессора Евгений Осипович. – Вы мне факты давайте.
– Извольте, – улыбнулся Фандорин. – После полуночи дверь гостиницы запирается на щеколду. Выйти, если кто пожелает, можно свободно, а если угодно войти – надобно звонить в колокольчик.
– Вот это уже факт, – признал генерал. – Но продолжайте.
– Единственный момент, когда Соболев мог вернуться – это когда наш б-бравый есаул отослал портье за сельтерской. Однако, как нам известно, это произошло уже на рассвете, то есть никак не раньше четырех часов. Если же верить господину Веллингу (а почему мы должны сомневаться в суждении этого п-почтенного профессора?), Соболев к тому времени уже несколько часов был мертв. Каков вывод?
Глаза Караченцева блеснули недобрым блеском:
– Ну и каков же?
– Гукмасов отослал портье для того, чтоб можно было незаметно внести б-бездыханное тело Соболева. Подозреваю, что остальные офицеры свиты в это время находились снаружи.
– Так допросить их, мерзавцев, как следует! – взревел обер-полицеймейстер так грозно, что услыхали в соседней комнате – доносившийся оттуда невнятный гул разом затих.
– Бесполезно. Они сговорились. Потому и сообщили о смерти с таким опозданием – готовились. – Эраст Петрович дал собеседнику минутку остыть и осознать сказанное, а затем повернул беседу в другое русло. – Что за Ванда такая, которую все знают?
– Ну, все не все, а в определенных кругах особа известная. Немочка из Риги. Певица, красавица, не вполне кокотка, но что-то вроде этого. Этакая dame aux camelias [Дама с камелиями (фр.)].
– Караченцев энергично кивнул. – Ход ваших мыслей мне понятен. Эта самая Ванда нам все и прояснит. Распоряжусь, чтобы ее немедленно вызвали.
И генерал решительно двинулся к двери.
– Не советовал бы, – сказал ему в спину Фандорин.
– Если что и было, с полицией эта особа откровенничать не станет. И с офицерами она наверняка в сговоре. Разумеется, ежели вообще п-причастна к произошедшему. Давайте, Евгений Осипович, я уж сам с ней потолкую. В своем партикулярном качестве, а? Так где «Англия» находится? Угол Столешникова и Петровки?
– Да, тут пять минут. – Обер-полицеймейстер смотрел на молодого человека с явным удовольствием. – Буду ждать известий, Эраст Петрович. С Богом.
И коллежский асессор, осененный крестным знамением высокого начальства, вышел.
Глава третья, в которой Фандорин играет в подлянку
Однако дойти в пять минут до «Англии» Эрасту Петровичу не удалось. В коридоре, за дверью рокового 47-го номера, его поджидал мрачный Гукмасов.
– Пожалуйте-ка ко мне на пару слов, – сказал он Фандорину и, крепко взяв молодого человека за локоть, завел в комнату, расположенную по соседству с генераловыми апартаментами.
Этот номер был как две капли воды похож на тот, который занимал сам Фандорин. На диване и стульях расположилось целое общество. Эраст Петрович обвел взглядом лица и узнал офицеров из свиты покойного, которых давеча видел в гостиной. Коллежский асессор приветствовал собрание легким поклоном, но ему никто не ответил, а в обращенных на него взглядах читалась явная враждебность. Тогда, Фандорин скрестил руки на груди, прислонился спиной к дверному косяку, и лицо его, в свою очередь, изменило выражение – из учтиво-приветливого разом стало, холодным и неприязненным.
– Господа, – строгим, даже торжественным тоном произнес есаул. – Позвольте представить вам Эраста Петровича Фандорина, которого я имею честь знать еще с турецкой войны. Ныне он состоит при московском генерал-губернаторе.
И опять никто из офицеров даже головы не наклонил. Эраст Петрович от повторного поклона тоже воздержался. Ждал, что последует дальше. Гукмасов обернулся к нему:
– А это, господин Фандорин, мои сослуживцы. Старший адъютант подполковник Баранов, адъютант поручик князь Эрдели, адъютант штабс-капитан князь Абадзиев, ординарец ротмистр Ушаков, ординарец корнет барон Эйхгольц, ординарец корнет Галл, ординарец сотник Марков.
– Я не запомню, – сказал на это Эраст Петрович.
– Это и не понадобится, – отрезал Гукмасов. – А всех этих господ я вам представил, потому что вы обязаны дать нам объяснение.
– Обязан? – насмешливо переспросил Фандорин. – Однако!
– Да, сударь. Извольте объяснить при всех, чем были вызваны оскорбительные расспросы, которым вы подвергли меня в присутствии обер-полицеймейстера.
Голос есаула был грозен, но коллежский асессор сохранил безмятежность, и даже всегдашнее его легкое заикание вдруг исчезло.
– Мои вопросы, есаул, были вызваны тем, что смерть Михаила Дмитриевича Соболева – событие государственной важности и даже более того, исторического масштаба. Это раз. – Фандорин укоризненно улыбнулся. – Вы же, Прохор Ахрамеевич, морочили нам голову, причем весьма неуклюже. Это два. Я имею поручение от князя Долгорукого разобраться в сем деле. Это три. И, можете быть уверены, разберусь, вы меня знаете. Это четыре. Или все-таки расскажете правду?
Кавказский князь в белой черкеске с серебряными газырями – вот только вспомнить бы, который из двух – вскочил с дивана.
– Раз-два-три-четыре! Господа! Этот филер, эта штафирка над нами издевается! Проша, клянусь матерью, я его сейчас…
– Сядь, Эрдели! – гаркнул Гукмасов, и кавказец тут же сел, нервно дергая подбородком.
– Я вас действительно знаю, Эраст Петрович. Знаю и уважаю. – Взгляд есаула был тяжел и мрачен. – Уважал вас и Михал Дмитрич. Если вам дорога его память, не суйтесь вы в это дело. Только хуже сделаете.
Фандорин ответил столь же искренне и серьезно:
– Ежели бы это касалось только меня и моего праздного любопытства, то я непременно исполнил бы вашу просьбу, но тут, извините, не могу – служба.
Гукмасов хрустнул за спиной сцепленными пальцами, прошелся по комнате, тренькая шпорами. Вновь остановился перед коллежским асессором.
– Ну, так и я не могу. Не могу допустить, чтобы вы продолжили разбирательство. Полиция – пускай, но только не вы. Ваши таланты, господин Фандорин, здесь слишком некстати. Учтите, я остановлю вас любыми средствами, невзирая на прошлое.
– Например, какими же, Прохор Ахрамеевич? – холодно осведомился Эраст Петрович.
– Да вот отличное средство! – снова встрял поручик Эрдели, вскакивая. – Вы, милостивый государь, оскорбили честь офицеров 4-го корпуса, и я вызываю вас на дуэль! Стреляться здесь и сейчас! Насмерть, через платок!
– Насколько я помню дуэльный артикул, – сухо произнес Фандорин, – условия поединка определяет тот, кого вызвали. Я, так и быть, сыграю с вами в эту глупую игру, но позже, когда закончу расследование. Можете присылать секундантов, я остановился в 20-ом нумере. До свиданья, господа.
Он хотел было повернуться, но Эрдели с криком «Так я заставлю же тебя стреляться!» подскочил к нему и хотел влепить пощечину. Эраст Петрович с удивительной ловкостью перехватил занесенную для удара руку и сжал запястье князя двумя пальцами – вроде бы несильно, но у поручика от боли перекосилось лицо.
– Мэррзавец! – фальцетом вскричал кавказец и замахнулся левой рукой. Фандорин оттолкнул неугомонного князя и брезгливо сказал:
– Не трудитесь. Будем считать, что пощечина уже нанесена. Я сам вызываю вас и заставлю заплатить за оскорбление кровью.
– Вот и отлично, – впервые разомкнул уста флегматичный штаб-офицер, которого Гукмасов представил как подполковника Баранова. – Называй свои условия, Эрдели.
Потирая запястье, поручик ненавидяще процедил:
– Стреляемся сейчас. Через платок.
– Как это – через платок? – с интересом спросил Фандорин. – Я слышал про этот обычай, но, признаться, деталей не знаю.
– Очень просто, – любезно сказал ему подполковник. – Противники берутся свободной рукой за два противуположных конца обычного платка. Да вот хоть мой возьмите, он чистый. – И Баранов извлек из кармана большой носовой платок в красно-белую клетку. – Берут пистолеты. Гукмасов, где твои лепажи?
Есаул взял со стола продолговатый футляр, видно, приготовленный заранее, и откинул крышку. Блеснули длинные, инкрустированные стволы.
– Противники по жребию берут пистолет, – миролюбиво улыбаясь, продолжил Баранов. – Целятся – хотя с такого расстояния что же целиться? По команде стреляют. Вот, собственно, и всё.
– По жребию? – переспросил Фандорин. – То есть один пистолет заряжен, а второй нет?
– Разумеется, – кивнул подполковник. – В том-то и смысл. Иначе это была бы не дуэль, а двойное самоубийство.
– Что ж, – пожал плечами коллежский асессор. – Тогда мне жаль поручика. Не было случая, чтобы я проиграл по жребию.
– На все воля божья, а говорить так дурная примета, сглазите, – наставительно заметил Баранов.
Пожалуй, все-таки он здесь главный, а не Гукмасов, подумал Эраст Петрович.
– Вам нужен секундант, – сказал угрюмый есаул. – Если угодно, то, как старый знакомец, могу предложить свои услуги. И не сомневайтесь, с жребием все будет честно.
– А я и не сомневаюсь, Прохор Ахрамеевич. Что же до секундантства, то вы не годитесь. Если мне не повезет, слишком уж будет похоже на убийство.
Баранов кивнул:
– Он прав. Приятно иметь дело с умным человеком. Прав и ты, Прохор, он опасен. Что вы предлагаете, господин Фандорин?
– Японский подданный в качестве секунданта вас устроит? Видите ли, я только сегодня прибыл в Москву и еще не успел обзавестись знакомствами…
Коллежский асессор извиняющимся жестом развел руки.
– Хоть папуасский, – воскликнул Эрдели. – Только давайте побыстрее начнем!
– Будет ли врач? – спросил Эраст Петрович.
– Врач не понадобится, – вздохнул подполковник. – С такого расстояния бьют насмерть.
– Ну-ну. Я, собственно, не о себе, а о князе беспокоюсь…
Эрдели возмущенно воскликнул что-то по-грузински и отошел в дальний угол.
Эраст Петрович изложил суть дела в короткой записке, написанной диковинными значками сверху вниз и справа налево, и попросил отнести ее в двадцатый.
Маса явился нескоро – минут через пятнадцать. Офицеры уже начали нервничать и, кажется, заподозрили коллежского асессора в нечестной игре.
Появление секунданта оскорбленной стороны произвело изрядный эффект. Ради поединка, до которых Маса был большой охотник, он вырядился в парадное кимоно с высокими накрахмаленными плечами, надел белые носки и перепоясался своим лучшим поясом с узором в виде ростков бамбука.
– Это еще что за макака! – невежливо изумился Эрдели. – Впрочем, плевать. К делу!
Маса церемонно поклонился присутствующим, поднес хозяину на вытянутых руках треклятую чиновничью шпажонку.
– Вот ваш меч, господин.
– Как же ты мне надоел со своим мечом, – вздохнул Эраст Петрович. – Я стреляюсь на пистолетах. Вон с тем господином.
– Опять на пистолетах? – разочарованно спросил Маса. – Что за варварский обычай. И кого же вы убьете? Того волосатого человека? До чего же он похож на обезьяну.
Свидетели поединка встали вдоль стены, а Гукмасов, отвернувшись, поколдовал над пистолетами и предложил противникам выбирать. Эраст Петрович подождал, пока Эрдели, перекрестившись, возьмет оружие и небрежно, двумя пальцами, подцепил второй пистолет.
Следуя указаниям есаула, дуэлянты взялись за края платка и отдалились на максимально возможное расстояний, даже при вытянутых руках не превысившее трех шагов. Князь поднял пистолет на уровень плеча и прицелился противнику прямо в лоб. Фандорин же держал оружие у бедра и не целился вовсе, что на такой дистанции, впрочем, было совершенно излишним.
– Раз, два, три! – быстро отсчитал есаул и подался назад.
Пистолет князя сухо щелкнул курком, зато оружие Фандорина изрыгнуло злой язык пламени, и поручик с воем покатился по ковру, держась за простреленную правую руку и отчаянно матерясь.
Когда вой сменился глухими стонами, Эраст Петрович назидательно произнес:
– Этой рукой вы никогда больше не сможете раздавать пощечины.
В коридоре раздался шум, крики. Гукмасов приоткрыл дверь и сказал кому-то, что произошел досадный казус – поручик Эрдели разряжал пистолет и поранил руку. Раненого отправили на перевязку к профессору Веллингу, который, по счастью, еще не успел уехать за приспособлениями для бальзамирования, после чего все вернулись в номер к Гукмасову.
– Что дальше? – спросил Фандорин. – Вы удовлетворены?
Гукмасов покачал головой:
– Дальше вы будете стреляться со мной На тех же условиях.
– А потом?
– А потом – если вам снова повезет – со всеми остальными, по очереди. Пока вас не убьют. Эраст Петрович, избавьте меня и моих товарищей от этого испытания. – Есаул смотрел молодому человеку в глаза чуть ли не с мольбой. – Дайте честное слово, что не станете участвовать в расследовании, и мы разойдемся друзьями.
– Быть вашим другом счел бы за честь, но вы требуете невозможного, – ( печально произнес Фандорин. Маса шепнул ему на ухо:
– Господин, я не понимаю, что вам говорит этот человек с красивыми усами, но чувствую опасность. Не разумнее ли будет напасть первыми и перебить этих самураев, пока они не изготовились? У меня в рукаве ваш маленький пистолет и еще тот кастет, который я купил себе в Париже. Очень хочется его опробовать.
– Маса, оставь свои разбойничьи замашки, – ответил слуге Эраст Петрович. – Я буду драться с этими господами честно, по очереди.
– О-о, тогда это надолго, – протянул японец и, отойдя к стене, сел на пол.
– Господа, – попытался воззвать Фандорин к благоразумию офицеров, – поверьте мне, у вас ничего не выйдет. Только зря время потеряете…
– Не надо лишних слов, – перебил его Гукмасов. – Ваш японец умеет заряжать дуэльные пистолеты? Нет? Тогда заряди ты, Эйхгольц.
Противники снова разобрали пистолеты и натянули платок. Есаул был угрюм и решителен, у Фандорина же вид был скорее сконфуженный. По команде (теперь отсчитывал Баранов) Гукмасов вхолостую щелкнул курком, а Эраст Петрович не выстрелил вовсе. Смертельно побледнев, есаул процедил:
– Стреляйте, Фандорин, и будьте прокляты. А вы, господа, решите, кто следующий. И забаррикадируйте дверь, чтоб не лезли! Не выпускайте его отсюда живым.
– Вы не желаете меня выслушать, а зря, – сказал коллежский асессор, взмахнув заряженным пистолетом. – Я вам говорю, со жребием у вас ничего не выйдет. У меня редкий дар, господа, – ужасно везет в азартные игры. Необъяснимый феномен. Я уж давно свыкся. Очевидно все дело в том, что моему покойному батюшке столь же редкостно не везло. Я выигрываю всегда и в любые игры, и оттого терпеть их не могу. – Он обвел ясным взглядом хмурые лица офицеров. – Не верите? Вот видите империал? – Эраст Петрович достал из кармана золотой и протянул Эйхгольцу. – Бросайте, барон, а я угадаю, орел или решка.
Оглянувшись на Гукмасова и Баранова, барон, молодой офицерик с едва пробивающимися усиками, пожал плечами и подбросил монету.
Она еще вертелась в воздухе, а Фандорин уже сказал:
– Не знаю… Ну, допустим, орел.
– Орел, – подтвердил Эйхгольц и бросил еще раз.
– Снова орел, – скучливо произнес коллежский асессор.
– Орел! – воскликнул барон. – Ей-богу, господа, смотрите!
– Ну-ка, Митя, еще, – сказал ему Гукмасов.
– Решка, – приговорил Эраст Петрович, глядя в сторону.
Воцарилось гробовое молчание. На распростертую ладонь барона Фандорин даже не взглянул.
– Я же вам говорил. Маса, икоо. Овари да [Идем, Маса. Кончено (яп.)]. Прощайте, господа.
Офицеры с суеверным ужасом смотрели, как чиновник и его японский слуга идут к двери.
Бледный Гукмасов сказал вслед:
– Фандорин, обещайте, что не используете свой детективный талант во вред отчизне. Здесь на карту поставлена честь России.
Эраст Петрович помолчал.
– Обещаю, Гукмасов, что ничего не сделаю против своей чести, и думаю, этого достаточно.
Коллежский асессор скрылся за дверью, а Маса на пороге обернулся, церемонно поклонился офицерам в пояс и тоже был таков.
Глава четвертая, в которой доказывается полезность архитектурных излишеств
Номера «Англия» ничуть не уступали респектабельной «Дюссо» в великолепии убранства, а по архитектурной затейливости, пожалуй, и превосходили, однако же в пышности золоченых потолков и мраморных завитушек ощущалась некоторая сомнительность или, во всяком случае, неосновательность. Зато подъезд сиял электрическим светом, на три верхних этажа можно было доехать на лифте, а в вестибюле то и дело раздавался пронзительный трезвон модного чуда техники – телефона.
Прогулявшись по широкому вестибюлю с зеркалами и сафьяновыми диванами, Эраст Петрович остановился у доски с именами постояльцев. Публика здесь жила попестрее, чем у Дюссо: иностранные коммерсанты, биржевые маклеры, актеры преуспевающих театров. Однако никакой певицы Ванды в этом перечне не обнаружилось.
Фандорин присмотрелся к прислуге, шаставшей от стойки к лифту и обратно, и выбрал одного особенно расторопного полового со смышленой, подвижной физиономией.
– А что же госпожа Ванда здесь больше не к-кварти-рует? – изобразив легкое смущение, спросил коллежский асессор.
– Отчего же-с, проживают, – охотно откликнулся малый и, проследив за взглядом красивого господина, показал на доске пальцем. – Вот-с: «Г-жа Хельга Ивановна Холле», они самые и есть. А «Ванда» – это ихнее прозвание, для благозвучия-с. Оне во флигеле жительствуют. Вы, сударь, через ту дверку во двор пожалуйте, у госпожи Ванды там квартера с отдельным ходом. Только их об это время еще не бывает-с. – И половой хотел было ускользить прочь, но Эраст Петрович хрустнул в кармане купюрой, и молодец замер на месте, как вкопанный.
– Не будет ли какого порученьица? – спросил он, глядя на молодого человека взглядом преданным и ласковым.
– Когда же она возвращается?
– По-разному-с. Оне ведь в «Альпийской розе» поют. Кажный день кроме понедельников-с. А вы вот что, сударь, – посидите покамест в буфетной, чайку попейте или еще чего, а я вам непременно дам знать, когда мамзель пожалуют.
– И что она? – неопределенно покрутил пальцами Эраст Петрович. – Какова? В самом деле т-так уж хороша?
– Картинка-с, – причмокнул пухлыми красными губами половой. – У нас на особом положении. Платит за квартеру триста целковых в месяц и на чаевые очень щедры-с.
Тут он выдержал психологически точную паузу, и Фандорин медленно вытащил две рублевые бумажки, но, словно по рассеянности, сунул их себе в нагрудный карман.
– Госпожа Ванда у себя абы кого не принимают, строги-с, – значительно сообщил половой, впиваясь взглядом в сюртук барина. – Но я им доложу, потому как состою у них на особенном доверии.
– На-ка вот. – Эраст Петрович протянул ему бумажку. – Вторую п-после получишь, когда мадемуазель Ванда вернется. А я пока пойду газету почитаю. Где, говоришь, у вас буфетная?
* * *
25 июня 1882 года «Московские губернские ведомости» писали следующее.
Телеграмма из Сингапура
Прославленный путешественник Н.Н.Миклуха-Маклай намерен вернуться в Россию на клипере «Стрелок». Здоровье г-на Миклухи-Маклая значительно расшаталось. Он очень худ, страдает постоянными лихорадками и невралгией. Настроение духа по большей части сумрачное. Путешественник сказал нашему корреспонденту, что сыт странствиями по горло и мечтает поскорее добраться до родных берегов.
Эраст Петрович покачал головой, живо представив себе изможденное, дергающееся тиком лицо мученика этнографии. Перелистнул страницу.
Кощунство американской рекламы
«ПРЕЗИДЕНТ УМЕР» – такая надпись аршинными буквами появилась недавно над Бродвеем, главной улицей Нью-Йорка. Ошарашенные прохожие замирали на месте и лишь тогда имели возможность прочесть то, что было написано далее помельче: «бы вне всякого сомнения, ежели бы не носил в нашем неверном климате теплого шерстяного белья компании „Гарленд“». Представитель Белого Дома подал на безстыжую фирму в суд за использование высокого титула в коммерческих целях.
Слава Богу, у нас до такого еще не дошли и вряд ли когда-нибудь дойдут, с удовлетворением подумал коллежский асессор. Все-таки государь император это вам не какой-то там президент.
Как человека неравнодушного к изящной словесности, его заинтересовал заголовок:
Литературные чтения
В обширной зале дома княгини Трубецкой состоялось чтение профессора И.Н.Павлова о современной литературе, собравшее множество слушателей. Чтение было посвящено разбору последних произведений И.С.Тургенева. Г-н Павлов наглядно показал, как низко пал этот талант в погоне за тенденциозной фальшивой реальностью. Следующее чтение будет посвящено разбору произведений Щедрина как главного представителя наиболее грубого и ложного реализма.
Фандорин прочитал и расстроился. У русских дипломатов в Японии хвалить господ Тургенева и Щедрина считалось хорошим тоном. До чего же, оказывается, отстал он от литературной жизни за без малого шестилетнее отсутствие. Однако что нового в технике?
Тоннель под Ла-Маншем
Длина железнодорожного тоннеля под Ла-Маншем достигает уже 1200 метров. Галереи роет инженер Брунтон бурав-тараном, работающим при помощи сжатого воздуха. По проекту длина подземного сооружения должна составить тридцать с небольшим верст. По первоначальному проекту предполагалось, что английская и французская галереи соединятся через пять лет, однако скептики утверждают, что вследствие трудоемких работ по облицовке и прокладке рельс открытие пути состоится никак не ранее 1890 года…
Чуткого к прогрессу Фандорина чрезвычайно занимал вопрос о рытье англо-французского тоннеля, но дочитать интересную статью не получилось. Дело в том, что у буфетной стойки уже несколько минут крутился некий господин в серой паре, которого Эраст Петрович заприметил еще давеча, в вестибюле, возле главного служителя. Отдельные слова, долетавшие до слуха коллежского асессора (а слух у него был отменный), показались Фандорину настолько любопытными, что он читать немедленно прекратил, хотя газетный лист по-прежнему держал перед собой.
– Ты мне не финти, – наседал серый господин на буфетчика. – Дежурил вчера ночью или нет?
– Спал я, вашество, – прогудел тот, мордатый и розовощекий детина с расчесанной на стороны масленой бородой. – Из ночных тут только Сенька. – Он мотнул бородищей на мальчика, разносившего пирожные и чай.
Серый поманил Сеньку пальцем. Филер, безошибочно определил Эраст Петрович, не слишком удивившись. Ревнив Евгений Осипович, господин обер-полицеймейстер, не желает, чтобы все лавры чиновнику для особых поручений достались.
– А скажи мне, Сеня, – вкрадчиво произнес дотошный господин, – был ли минувшей ночью у мамзель Ванды генерал с офицерами?
Сеня шмыгнул носом, похлопал белесыми ресницами и переспросил:
– Ночью? Енарал?
– Да-да, енарал, – закивал филер.
– Тута? – Мальчик наморщил лоб. – Тут, тут, где же еще!
– А рази енаралы по ночам ездеют? – недоверчиво поинтересовался Сенька.
– Почему же нет?
Мальчик с глубоким убеждением ответил:
– Енарал, он ночью спит. На то он и енарал.
– Ты… ты смотри у меня, дурак! – разозлился серый. – Я вот заберу тебя в участок, ты у меня по-другому запоешь!
– Сирота я, дяденька, – сказал на это Сенька, и его бессмысленные глаза враз наполнились слезами. – А в участок меня невозможно, у меня от энтого падучая.
– Сговорились вы все, что ли! – сплюнул агент. – Ну да ничего, я вас на чистую воду повыведу! – И вышел вон, громко хлопнув дверью.
– Сурьезный господин, – сказал Сенька, глядя ему вслед.
– Вчерашние посурьезней были, – шепнул буфетчик и шлепнул паренька по стриженому затылку. – Такие господа, что безо всякой полиции башку оторвут. Смотри, Сенька, молчок. Да ведь и сунули тебе, поди?
– Пров Семеныч, Христом-Богом, – зачастил мальчик, часто моргая. – Вот как на святую благословенную икону! Дали-то всего пятиалтынный, так и тот я в часовенку отнес, за упокой матушкиной души свечечку поставил…
– Как же, пятиалтынный. Ври, да не мне. В часовенку! – Буфетчик замахнулся на Сеньку, но тот ловко увернулся и, подхватив поднос, кинулся на зов посетителя.
Эраст Петрович отложил «Московские ведомости» и подошел к стойке.
– Этот человек был из полиции? – спросил он с видом крайнего неудовольствия. – Я ведь, милейший, сюда не чаи распивать п-пришел, я госпожу Ванду дожидаюсь. Почему это ей интересуется полиция?
Буфетчик смерил его взглядом и осторожно спросил:
– Вам что же, сударь, назначено?
– Еще бы не назначено! Я же вот и говорю, что д-дожидаюсь. – Голубые глаза молодого человека выражали крайнюю озабоченность. – Однако полиция мне ни к чему. Мне рекомендовали мадемуазель Ванду как приличную барышню, а тут п-полиция! Хорошо еще, что я в сюртуке, а не в мундире.
– Не сумлевайтесь, ваше благородие, – успокоил нервного посетителя буфетчик. – Барышня не какая-нибудь желтобилетная, все в лучшем виде. Другие и в мундире ходют, за стыд не считают.
– В мундире? – не поверил молодой человек. – Что, даже офицеры?
Буфетчик и вновь появившийся Сенька, переглянувшись, засмеялись.
. – Подымай выше, – прыснул мальчик. – Ходют и енаралы. Да так славно ходют, что любо-дорого. При-ходют на своих двоих, а после их отсюдова под белы рученьки выносют. Во какая веселая мамзель!
Пров Семеныч влепил шутнику затрещину:
– Ты, Сенька, ври да не завирайся. Я же сказал, молчок, рот на крючок.
Эраст Петрович брезгливо поморщился и вернулся к столу, однако читать про тоннель ему расхотелось. Очень уж не терпелось потолковать с мадемуазель Хельгой Ивановной Толле.
Ждать коллежскому асессору оставалось самую малость. Через каких-нибудь пять минут в буфетную прошмыгнул давешний половой и, согнувшись, шепнул на ухо:
– Пожаловали-с. Как доложить прикажете?
Фандорин достал из черепахового бумажника визитную карточку и, чуть подумав, написал на ней несколько слов маленьким серебряным карандашом.
– Вот, п-передай.
Половой вмиг исполнил поручение и, вернувшись, доложил:
– Просят. За мной извольте. Провожу-с.
Во дворе уже начинало темнеть. Эраст Петрович осмотрел пристройку, весь первый этаж которой занимала таинственная госпожа Ванда. Зачем этой даме отдельный вход – понятно. Ее гости, очевидно, предпочитают конфиденциальность. Над высокими окнами навис балкон второго этажа, примостившийся на плечах целого выводка кариатид. Лепнины по фасаду вообще имелось в явном избытке, в соответствии с дурным вкусом шестидесятых, когда, по всем приметам, и было возведено это кокетливое здание.
Половой позвонил в электрический звонок и, получив свой рубль, с поклоном удалился. Так старательно изображал деликатность и полнейшее понимание, что обратно через двор на цыпочках просеменил.
Дверь открылась, и Фандорин увидел перед собой тонкую, хрупкую женщину со взбитыми пепельными волосами и огромными насмешливыми зелеными глазами. Впрочем, в данный момент во взгляде их обладательницы читалась не столько насмешливость, сколько настороженность.
– Входите, загадочный гость, – сказала женщина низким, грудным голосом, для которого как нельзя лучше подошел бы поэтический эпитет «чарующий». Несмотря на немецкое имя квартирантки, Фандорин не уловил в ее речи ни малейших признаков акцента.
Апартаменты, занимаемые мадемуазель Вандой, состояли из прихожей и просторной гостиной, которая, кажется, выполняла и роль будуара. Эраст Петрович подумал, что при профессии хозяйки это вполне естественно, и сам смутился от такой мысли, ибо госпожа Ванда никак не походила на женщину легкого поведения. Проведя гостя в комнату, она села в мягкое турецкое кресло, закинула ногу на ногу и выжидательно воззрилась на застывшего у дверей молодого человека. Теперь, при свете электричества, у Фандорина появилась возможность получше рассмотреть и Ванду, и ее жилище.
Не красавица – вот первое, что отметил Эраст Петрович. Нос, пожалуй, немного вздернут, и рот широковат, а скулы выступают заметнее, чем полагается по классическому канону. Но все эти несовершенства отнюдь не ослабляли, а, наоборот, странным образом усиливали общее впечатление редкостной привлекательности. На это лицо хотелось смотреть, не отрываясь – столько в нем было жизни, чувства и еще того не поддающегося описанию, но безошибочно улавливаемого каждым мужчиной волшебства, которое зовется женственностью. Что ж, если мадемуазель Ванда в Москве так популярна, значит, вкус у москвичей не столь уж плох, рассудил Эраст Петрович и, с сожалением оторвавшись от удивительного лица, внимательно осмотрел комнату. Совершенно парижский интерьер: бордово-пурпурная гамма, пушистый ковер, удобная и дорогая мебель, множество ламп и светильников с разноцветными абажурами, китайские статуэтки, а на стене – последний шик – японские гравюры с гейшами и актерами театра Кабуки. В дальнем углу, за двумя колоннами располагался альков, однако деликатность не позволила Фандорину задерживать взгляд в том направлении.
– Что «всё»? – нарушила явно затянувшуюся паузу хозяйка, и Эраст Петрович вздрогнул, почти физически ощутив, как ее магический голос заставляет звучать в его душе некие тайные, редко задеваемые струны.
На лице коллежского асессора отразилось вежливое недоумение, и Ванда нетерпеливо произнесла:
– У вас на карточке, господин Фандорин, написано: «Мне всё известно». Что «всё»? Кто вы вообще такой?
– Чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе князе Долгоруком, – спокойно ответил Эраст Петрович. – Назначен расследовать обстоятельства к-кончины генерал-адъютанта Соболева.
Заметив, как взметнулись вверх тонкие брови хозяйки, Фандорин заметил:
– Только не делайте вид, сударыня, что вы не знали о смерти генерала. Что касается п-приписки на моей карточке, то тут я вас обманул. Мне известно далеко не все, но главное известно. Михаил Дмитриевич Соболев умер в этой комнате вчера около часу ночи.
Ванда вздрогнула и приложила к горлу худые руки, словно ей вдруг стало холодно, однако ничего не сказала. Удовлетворенно кивнув, Эраст Петрович продолжил:
– Вы никого не выдали, мадемуазель, и данного слова не нарушили. Господа офицеры сами виноваты – слишком неуклюже замели следы. Б-буду с вами откровенен в расчете на такую же искренность с вашей стороны. Я располагаю следующими сведениями. – Он прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться на тончайшую игру нюансов белого и розового, обозначившуюся на взволнованном лице собеседницы. – Из ресторации Дюссо вы с Соболевым и его свитой прибыли прямо сюда. Это произошло незадолго до полуночи. А час спустя г-гене-рал был уже мертв. Офицеры вынесли его отсюда, выдав за пьяного, и увезли обратно в гостиницу. Дополните картину произошедшего, и я. постараюсь избавить вас от допросов в полиции. Кстати говоря, полиция здесь уже была – слуги вам наверняка об этом расскажут. Так что, уверяю вас, гораздо лучше будет объясниться со мной.
И коллежский асессор замолчал, сочтя, что сказано вполне достаточно. Ванда порывисто поднялась, взяла со спинки стула персидскую шаль и набросила на плечи, хотя вечер был теплый, даже душноватый. Два раза прошлась по комнате, то и дело взглядывая на ожидавшего чиновника. Наконец, остановилась напротив.
– Что ж, вы по крайней мере не похожи на полицейского. Сядьте-ка. Рассказ может затянуться.
Она показала на пышный, весь в расшитых подушках диван, но Эраст Петрович предпочел опуститься на стул. Умная женщина, определил он. Сильная. Хладнокровная. Всей правды не скажет, но и врать не станет.
– С героем я познакомилась вчера, в ресторане у Дюссо. – Ванда взяла парчовый пуфик и села подле Фандорина, причем расположилась близко и таким образом, что смотрела на него снизу вверх. В этом ракурсе она выглядела соблазнительно беззащитной, словно восточная рабыня у ног падишаха. Эраст Петрович беспокойно заелозил на стуле, но отодвигаться было нелепо.
– Красивый мужчина. Я, конечно, много про него слышала, но и не подозревала, до чего он хорош. Особенно васильковые глаза. – Ванда мечтательно провела рукой по бровям, словно отгоняя воспоминание. – Я пела для него. Он пригласил сесть к нему за стол. Не знаю, что вам про меня рассказывали, но уверена, что много врали. Я не ханжа, я современная свободная женщина и сама решаю, кого любить. – Она взглянула на Фандорина с вызовом, и он увидел, что сейчас она говорит без актерства. – Если мужчина мне понравился и я решила, что он должен быть мой, я его к алтарю не тащу, как это делают ваши «порядочные женщины». Да, я не «порядочная». В том смысле, что не признаю ваших порядков.
Какая там рабыня, какая там беззащитность, мысленно поразился Эраст Петрович, глядя сверху "а сверкающие изумрудные глаза. Это какая-то царица амазонок. Легко было представить, как она сводит с ума мужчин этакими стремительными переходами от высокомерия к покорности и обратно.
– Я бы попросил б-ближе к делу, – сухо сказал Фандорин вслух, не желая поддаваться неуместным чувствам.
– Б-ближе не бывает, – передразнила его амазонка. – Это не вы меня покупаете, это я беру вас, да еще заставляю за это платить! Сколько ваших «порядочных» почли бы за счастье изменить мужу с самим Белым Генералом, но только тайком, по-воровски. Я же свободна, и таиться мне незачем. Да, Соболев мне понравился.
– Она вдруг опять сменила тон, из вызывающего он стал лукавым. – Да и, что скрывать, лестно показалось в свою коллекцию такого махаона заполучить. А дальше… – Ванда дернула плечом. – Обыкновенно. Приехали ко мне, выпили вина. Что было после – помню плохо. Голова закружилась. Только гляжу, а мы уже вон там, в алькове. – Она хрипловато рассмеялась, но смех почти сразу же оборвался, да и взгляд померк. – Потом было ужасно, не хочу вспоминать. Избавьте меня от физиологических подробностей, ладно? Такого не пожелаешь никому… Когда любовник в самый разгар ласк вдруг замирает и падает на тебя мертвой тяжестью…
Ванда всхлипнула и зло смахнула слезу.
Эраст Петрович внимательно следил за ее мимикой и интонацией. Похоже, барышня говорила правду. Подержав уместное молчание, Фандорин спросил:
– Случайной ли была ваша встреча с г-генералом?
– Да. То есть, конечно, не совсем. Я слышала, что Белый Генерал остановился у Дюссо. Любопытно было взглянуть.
– А много ли вина выпил у вас Михаил Дмитриевич?
– Совсем нет. Полбутылки «шато-икема». Эраст Петрович удивился:
– Он привез вино с собой? Удивилась и хозяйка:
– Нет, с чего вы взяли?
– Видите ли, мадемуазель, я неплохо знал покойного. «Шато-икем» – его любимое вино. Откуда вы могли об этом знать?
Ванда неопределенно всплеснула тонкими пальчиками:
– Я этого не знала вовсе. Но «шато-икем» тоже люблю. У нас с генералом, кажется, вообще было много общего. Жаль только, знакомство оказалось недолгим. – Она горько усмехнулась и как бы ненароком взглянула на каминные часы.
Это движение не укрылось от внимания Фандорина, и он нарочно помедлил, прежде чем продолжить допрос.
– Ну, дальнейшее ясно. Вы испугались. Вероятно, закричали. Прибежали офицеры, п-пытались вернуть Соболева к жизни. Врача вызвали?
– Нет, было видно, что он мертв. Офицеры меня чуть не растерзали, – она опять усмехнулась, но уже не горько, а зло. – Особенно один ярился, в черкеске. Все повторял про позор, про угрозу всему делу, про смерть в постели шлюхи. – Ванда неприятно улыбнулась, обнажив белые, идеально ровные зубки. – Был еще грозный есаул. Сначала порыдал, потом сказал, что убьет, коли проболтаюсь. Денег предложил. Деньги я, впрочем, взяла. И угроз тоже испугалась. Уж очень убедительно угрожали, особенно есаул этот.
– Да-да, знаю, – кивнул Фандорин.
– Ну вот. Одели покойника, взяли под руки, будто пьяного, и уволокли. Был герой, да весь вышел. Вы хотели правду? Получайте. Доложите вашему губернатору, что покоритель басурман и надежда России пал смертью храбрых в постели шлюхи. Глядишь, в историю войду на манер новой Далилы. Как думаете, мсье Фандорин, будут про меня в гимназических учебниках писать?
И она засмеялась уже с явным вызовом.
– Вряд ли, – задумчиво произнес Эраст Петрович.
Картина получалась ясная. Понятно стало и упорство, с которым офицеры защищали свою тайну. Народный герой – и такая смерть. Некрасиво. Как-то не по-русски. Французы своему кумиру, пожалуй, простили бы, у нас же сочтут национальным позором.
Что ж, госпоже Ванде беспокоиться не о чем. Ее судьбу, конечно, решать губернатору, однако можно поручиться, что власти не станут донимать свободолюбивую певицу официальным расследованием.
Вроде бы дело можно было считать законченным, но Эрасту Петровичу, человеку любопытному, не давало покоя одно маленькое наблюдение. Ванда уже несколько раз украдкой посмотрела на часы, и коллежскому асессору показалось, что в этих мимолетных взглядах ощущается растущее беспокойство. Между тем стрелка на часах потихоньку приближалась к десяти – через пять минут будет ровно. Уж не ждет ли госпожа Ванда посетителя, и как раз в десять? Не этим ли обстоятельством вызвана такая покладистость и откровенность? Фандорин колебался. С одной стороны, интересно было узнать, кого дожидается хозяйка в такой не ранний час. С другой стороны, Эраста Петровича с детства приучили не навязывать своего общества дамам. Воспитанный человек, тем более уже получив то, за чем пришел, в подобной ситуации откланивается и уходит. Как быть?
Колебания разрешило такое здравое соображение: если дотянуть до десяти и дождаться гостя, то увидеть его, предположим, увидишь, но вот разговора при Эрасте Петровиче, увы, не состоится. А послушать, о чем будет разговор, ужасно хотелось.
Посему Эраст Петрович встал, поблагодарил за откровенность и распрощался, чем доставил мадемуазель Ванде явное облегчение. Однако, выйдя из дверей флигеля, Фандорин не зашагал через двор, а остановился, как бы отряхивая соринку с плеча и оглянулся на окна – не смотрит ли Ванда вслед. Не смотрела. Что естественно – всякая нормальная женщина, от которой только что ушел один гость и вот-вот придет другой, бросится не к окну, а к зеркалу.
На всякий случая оглянувшись еще и на освещенные окна номеров, Эраст Петрович поставил ногу на бордюр стены, потом ловко оперся о скос подоконника, подтянулся, и мгновение спустя оказался над окном вандиной спальни-гостиной, полуулегшись на горизонтальный выступ, что венчал верхний окаем окна. Боком молодой человек пристроился на узком карнизе, ногой уперся в бюст одной кариатиды, рукой ухватился за крепкую шею другой. Немного поворочался и застыл, то есть, согласно науке японских ниндзя, «крадущихся», превратился в камень, воду, траву. Растворился в ландшафте. В стратегическом смысле позиция была идеальная: со двора Фандорина было не видно – темно, да и тень от балкона обеспечивала дополнительное прикрытие; из комнаты тем более. А сам он видел весь двор и через раскрытое по летнему времени окно мог слышать разговоры в гостиной. При желании и некоторой гуттаперчивости можно было даже свеситься и заглянуть в щель между шторами.
Минус был один – неудобство положения. Нормальный человек в такой изогнутой позе, да еще на каменной подставке шириной в четыре дюйма долго не продержался бы. Однако высшая ступень мастерства в древнем искусстве «крадущихся» состоит вовсе не в умении убить противника голыми руками или спрыгнуть с крепостной стены – о, нет. Главное достижение для ниндзя – постичь великую науку неподвижности. Лишь выдающийся мастер может простоять в течение шести или восьми часов, не двинув ни единым мускулом. Выдающимся мастером Эраст Петрович так и не стал, ибо обучался благородному и страшному искусству в слишком позднем возрасте, однако в данном случае можно было утешаться тем, что вряд ли слияние с ландшафтом продлится долго. Секрет любого трудного деяния прост: нужно относиться к трудности не как к злу, а как к благу. Ведь главное наслаждение для благородного мужа – преодоление несовершенств своей натуры. Вот о чем следует размышлять, когда несовершенства особенно мучительны – например, ужасно впиваются каменным углом в бок.
На второй минуте наслаждения задняя дверь «Англии» распахнулась и появился мужской силуэт – плотный, уверенный, быстрый. Лицо Фандорин увидел только мельком, когда мужчина перед самой дверью вошел в прямоугольник падающего от окна света. Лицо как лицо, без особых примет: овальное, глаза близко посажены, волосы светлые, надбровные дуги чуть выступают, усы подкручены на прусский манер, нос средний, на квадратном подбородке ямочка. Незнакомец вошел к Ванде без стука, что само по себе уже было интересно. Эраст Петрович напряг слух. Почти сразу же из комнаты донеслись голоса, и тут выяснилось, что одного слуха недостаточно – пришлось напрячь еще и знание немецкого, ибо разговор происходил на языке Шиллера и Гете. В свое время гимназист Фандорин не слишком преуспел в этой науке, так что главный фокус в преодолении несовершенств естественным образом сместился от неудобства позы к интеллектуальному напряжению. Нет худа без добра – про каменный угол как-то забылось.
– Вы плохо мне служите, фройляйн Толле, – произнес резкий баритон. – Конечно, хорошо, что вы взялись за ум и сделали то, что вам было велено. Но зачем было ломаться и попусту меня нервировать? Я ведь не машина, а живой человек.
– В самом деле? – насмешливо ответил голос Ванды.
– Представьте себе. Вы все-таки выполнили задание – превосходно. Но почему я должен узнавать об этом не от вас, а от знакомого журналиста? Вы нарочно хотите меня злить? Не советую. – В баритоне прибавилось металла. – Помните ли вы, что я могу с вами сделать?
Вандин голос откликнулся устало:
– Помню, герр Кнабе, помню.
Тут Эраст Петрович осторожно перегнулся и глянул в комнату, но таинственный герр Кнабе стоял спиной. Он снял котелок, и было мало что видно: гладко зачесанные волосы (блондин третьей степени с легким оттенком рыжины, определил специальным полицейским термином Фандорин) и толстую красную шею (на вид никак не менее шестого размера).
– Ладно-ладно, я вас прощаю. Ну же, не дуйтесь.
Посетитель потрепал хозяйку короткопалой рукой по щеке и поцеловал ниже уха. Лицо Ванды было на свету, и Эраст Петрович увидел, как по тонким чертам пробежала гримаса отвращения.
К сожалению, пришлось прекратить визуальное наблюдение – еще чуть-чуть, и Фандорин грохнулся бы вниз, что в данной ситуации было бы совсем некстати.
– Расскажите мне всё. – Голос мужчины стал вкрадчивым. – Как вы действовали? Вы использовали препарат, который я вам дал? Да или нет?
Молчание.
– Очевидно, нет. Вскрытие не обнаружило следов яда – это мне известно Кто бы мог подумать, что дело дойдет до вскрытия? Ну же, что все-таки произошло? Или нам повезло, и он вдруг умер сам? Тогда это рука Провидения, вне всякого сомнения. Бог хранит нашу Германию. – Баритон взволнованно дрогнул. – Да что вы все молчите?
Ванда глухо произнесла:
– Уходите. Я не могу вас сегодня видеть.
– Опять женские штучки. Как я от них устал! Ладно-ладно, не сверкайте глазами. Свершилось великое дело, и это главное. Вы молодчина, фрейляйн Толле, и я ухожу. Но завтра вы мне все расскажете. Это понадобится мне для отчета.
Звук продолжительного поцелуя. Эраст Петрович поморщился, вспомнив отвращение на лице Ванды. Дверь хлопнула.
Герр Кнабе, насвистывая, пересек двор и исчез.
Фандорин бесшумно спрыгнул вниз, с облегчением потянулся, расправляя затекшие члены, и двинулся следом за вандиным знакомцем. Дело приобретало совсем иную окраску.
Глава пятая, в которой Москва предстает в виде джунглей
– …А п-предложения мои сводятся к следующему, подытожил Фандорин свой рапорт. – Немедленно установить негласное наблюдение за германским подданным Гансом-Георгом Кнабе и выяснить, с кем он связан.
– Евгений Осипович, не лучше ли будет арестовать мерзавца? – насупил крашеные брови генерал-губернатор.
– Арестовать его без улик никак невозможно, – ответил обер-полицеймейстер. – Да и бессмысленно, калач-то тертый. Я бы, ваше сиятельство, лучше взял эту Ванду и как следует тряхнул. Глядишь, и улики бы нашлись.
Четвертый участник секретного совещания, Петр Парменович Хуртинский, промолчал.
Заседали уже давно, с самого утра. Эраст Петрович доложил о событиях вчерашнего вечера и о том, как проследил за таинственным посетителем, который оказался немецким коммерсантом Гансом-Георгом Кнабе, проживающим в Каретном и представляющим в Москве берлинскую банковскую контору «Кербель унд Шмидт». Когда коллежский асессор пересказал зловещий разговор между Кнабе и Вандой, рапорт пришлось временно прервать, потому что князь Долгорукой пришел в сильнейшее волнение и, потрясая кулаками, закричал:
– Ах негодяи, ах мерзавцы! Неужто погубили витязя земли русской? Неслыханное злодеяние! Мировой скандал! Ну, германцы за это заплатят!
– Полноте, ваше сиятельство, – успокаивающе прошелестел начальник секретного отделения. – Слишком сомнительная гипотеза. Отравить Белого Генерала? Бред!
Не верю, что немцы могли пойти на такой риск. Это же цивилизованная нация, а не какая-нибудь Персия!
– Цивилизованная? – недобро оскалился генерал Караченцев. – Мне вот тут Российское телеграфное агентство прислало статейки из сегодняшних газет, британской и немецкой. Как известно, Михаил Дмитриевич обе эти страны не жаловал, и секрета из своих воззрений не делал. Однако сравните тон. Вы позволите, ваше высокопревосходительство? – Обер-полицеймейстер нацепил пенсне и достал из папки листок. – Английская «Стандарт» пишет: «Соотечественникам Соболева трудно будет его заменить. Одного его появления на белом коне впереди боевой линии бывало достаточно, чтобы возбудить в солдатах энтузиазм, которого едва достигали ветераны Наполеона I. Кончина такого человека в настоящем критическом периоде есть невознаградимая потеря для России. Он был врагом Англии, но в этой стране следили за его подвигами едва ли с меньшим интересом, чем в его отечестве».
– Что ж, откровенно и благородно, – одобрил князь.
– Именно. А теперь зачту из субботней «Бёрзен курьер». – Караченцев взял другой листок. – M-м… Ну вот хоть бы отсюда: «Русский медведь более не опасен. Пусть панслависты плачут у гроба Соболева. Что касается нас, немцев, то мы честно в том сознаемся, что довольны смертью рьяного врага. Никакого чувства сожаления мы не испытываем. Умер единственный в России человек, который, действительно, был способен применить слово к делу…» И далее в том же духе. Какова цивилизованность, а?
Губернатор возмутился:
– Бесстыдство! Конечно, антигерманские настроения покойного известны. Все мы помним, что его парижская речь по славянскому вопросу произвела настоящий фурор и чуть не рассорила государя с кайзером. «Путь на Константинополь лежит через Берлин и Вену!» Сказано сильно, без дипломатий. Однако пойти на убийство! Неслыханно! Я немедленно сообщу его величеству! Мы колбасникам и без Соболева такую микстуру пропишем, что…
– Ваше сиятельство, – мягко остановил раскипятившегося губернатора Евгений Осипович. – Не дослушать ли сначала господина Фандорина?
Далее Эраста Петровича слушали не перебивая, однако его результирующее предложение – ограничиться установлением слежки за Кнабе – присутствующих явно разочаровало, о чем свидетельствовали их вышеприведенные реплики. Обер-полицеймейстеру Фандорин сказал:
– Арест Ванды означал бы скандал. Этим мы опорочим п-память покойного и вряд ли чего-нибудь добьемся. Только спугнем герра Кнабе. Да и потом, из подслушанного разговора у меня сложилось впечатление, что мадемуазель Ванда Соболева не убивала. Ведь никакого яда вскрытие п-профессора Веллинга не обнаружило.
– Вот именно, – значительно произнес Петр Парменович, обращаясь исключительно к князю. – Тривиальнейший паралич сердца, ваше сиятельство. Прискорбно, но случается. Даже и в столь цветущем возрасте, как у покойника. Я думаю, уж не ослышался ли господин коллежский асессор. Или, чего доброго, не прифантазировал ли? Вот ведь и сам признался, что с немецким не в ладах?
Эраст Петрович посмотрел на говорившего с особенным вниманием и ничего на это не ответил. Зато вскинулся рыжий жандарм:
– Какие там фантазии! Соболев был крепчайшего здоровья! На медведя с рогатиной ходил, в проруби купался! Что же получается, огонь под Плевной и туркестанскую пустыню прошел, а любовных игр не вынес? Чушь! Вы бы, господин Хуртинский, лучше городские сплетни собирали, а в шпионажные дела не лезли.
Столь открытая конфронтация Фандорина удивила, однако губернатор, кажется, к подобным сценам давно привык. Он примирительно поднял руки:
– Господа, господа, не ссорьтесь. И так голова кругом. Столько дел с этой кончиной. Телеграммы, соболезнования, депутации, весь Театральный венками позаставили – ни пройти, ни проехать. Высокие особы на похороны едут, их и встретить, и разместить. Вечером военный министр и начальник Генерального штаба прибудут. Завтра утром, прямо к похоронам – великий князь Кирилл Александрович. А нынче мне к герцогу Лихтенбургскому надо. Они с супругой в Москве по случайности оказались. Супруга, графиня Мирабо, – родная сестра покойного. Надобно ехать с соболезнованием, я уж послал предупредить. Вы, голубчик Эраст Петрович, езжайте со мной, обскажете мне в карете все еще раз. Вместе и помозгуем, как быть. А вы, Евгений Осипович, уж возьмите на себя труд – последите пока за обоими: и за немцем этим, и за девицей. Хорошо бы отчетец, про который Кнабе говорил, перехватить. Вы вот что. Дайте ему рапорт написать для своего шпионского начальства, а там и берите с поличным. А как насчет слежки распорядитесь – снова, сюда, ко мне извольте. Вот вернемся мы с Эрастом Петровичем, и решим окончательно. Тут бы дров не наломать. Дело-то войной пахнет.
Генерал, щелкнув каблуками, вышел, и тут же к губернаторскому столу подскочил Хуртинский.
– Ваше сиятельство, неотложные бумаги, – сказал он, сгибаясь к самому уху князя.
– Так уж и неотложные? – проворчал тот. – Слышал ведь, Петруша, спешу я, герцог ждет.
Надворный советник приложил ладонь к накрахмаленной груди с орденом.
– Совершенно не терпящие отлагательства. Владимир Андреич, тут, изволите ли видеть, сметочка на окончание росписи Храма. Предлагаю дать заказ господину Гегечкори, преславный живописец, и образа мыслей самого похвального. Сумму запрашивает немалую, но ведь и сделает в срок – человек слова. Вот здесь бы подпись вашу; и считайте, что дело исполнено.
Петр Парменович ловко подложил губернатору бумагу, а сам уж тянул из папочки следующую.
– А это, Владимир Андреич, проект на прорытие подземного метрополитена по примеру лондонского. Подрядчик – коммерции советник Зыков. Большое дело. Я имел честь вам докладывать.
– Помню, – буркнул Долгорукой. – Метрополитен еще какой-то выдумали. Денег-то много надобно?
– Пустяки-с. Зыков на изыскательские работы всего и просит полмиллиончика. Я смету смотрел – толковая.
– «Всего», – вздохнул князь. – С каких это богатств для тебя, Петька, полмиллиона пустяком стали? – И, заметив взгляд Фандорина, удивленного столь фамильярным обращением губернатора с начальником секретного отделения, пояснил. – Я с Петром Парменовичем по-свойски, по-родственному. Он ведь у меня в доме вырос. Моего покойного повара сынок. Вот бы Пармен, царствие ему небесное, послушал, как ты, Петруша, миллионами-то швыряешься.
Хуртинский зло покосился на Эраста Петровича, видно, недовольный напоминанием о своем плебейском происхождении.
– И вот еще касательно цен на газ. Я, Владимир Андреич, докладную записочку составил. Хорошо бы в целях удешевления уличного освещения тариф понизить. До трех рублей за тысячу кубических футов. И так много берут-с.
– Ладно, давай свои бумажки, в карете прочту и подпишу. – Долгорукой встал. – Пора ехать, пора. Негоже заставлять высокую особу дожидаться. Идемте, Эраст Петрович, дорогой потолкуем.
В коридоре Фандорин почтительнейше осведомился:
– А что, ваше сиятельство, разве государь не пожалует? Все-таки не кто-нибудь умер, сам Соболев.
Долгорукой искоса посмотрел на коллежского асессора и значительно произнес:
– Не счел возможным. Брата послал, Кирилла Александровича. А почему – не нашего ума дело.
Фандорин только молча поклонился.
«Потолковать» дорогой не довелось. Когда уже сели в карету – губернатор на мягкие подушки, Эраст Петрович напротив, на обтянутую кожей скамейку, дверца вдруг снова распахнулась, и, кряхтя, влез князев камердинер Фрол Ведищев. Бесцеремонно уселся рядом с князем и крикнул кучеру:
– Трогай, Мишка, трогай!
Затем, не обращая на Эраста Петровича ни малейшего внимания, развернулся к Долгорукому.
– Владимир Андреич, я с вами, – объявил он тоном, не допускавшим возражений.
– Фролушка, – кротко молвил князь. – Лекарство я выпил, а сейчас не мешай, у меня важный разговор с господином Фандориным.
– Ничего, подождет разговор ваш, – сердито махнул деспот. – Что вам за бумажки Петька подсунул?
– Да вот, Фрол. – Владимир Андреевич раскрыл папку. – Заказ художнику Гегечкори на завершение росписи Храма. Уж и смета составлена, видишь? А это – подряд купцу Зыкову. Будем под Москвой железную дорогу рыть, чтоб быстрей доехать всюду было. И еще – о снижении цен на газ.
Ведищев заглянул в бумаги и решительно объявил:
– Нечего Храм Гегечкори этому отдавать, он прохвост известный. Лучше бы кому из наших, московских, отдали. Им тоже жить надо. Оно и дешевле будет, и красотой не хуже. Где деньги-то возьмем? Нет ведь денег. А Гегечкори Петьке вашему дачу в Алабине разрисовать обещал, вон Петька и старается.
– Так ты думаешь, не стоит заказ Гегечкори давать? – задумчиво спросил Долгорукой и убрал бумагу вниз.
– Нечего и думать, – отрезал Фрол. – Да и метрополитен этот – дурь одна. На кой дыру в земле копать и паровоз туда запущать? Только казенные деньги на ветер выкидывать. Ишь чего удумали!
– Ну, тут ты не прав, – возразил князь. – Метро – дело хорошее. Вон у нас движение какое – еле ползем.
И правда: губернаторская карета застряла у поворота на Неглинную, и сколько ни бились конвойные жандармы, никак не могли расчистить дорогу, по случаю субботы сплошь забитую телегами и повозками охотнорядских торговцев.
Ведищев покачал головой, словно князь и сам должен был понять, что зря упрямится.
– Да ведь гласные в Думе скажут, совсем Долгорукой из ума выжил. И питерские вороги тож не преминут. Не подписывайте, Владимир Андреич.
Губернатор сокрушенно вздохнул, отложил и вторую бумагу.
– Ас газом что же?
Ведищев взял докладную записку, отодвинув подальше, зашевелил губами.
– Это ладно, можно. Городу выгода, и москвичам облегчение.
– Вот и я так думаю, – просветлел князь, раскрыл прикрепленный на дверце пюпитр с письменным прибором и поставил размашистую подпись.
Потрясенный этой невероятной сценой Эраст Петрович изо всех сил делал вид, что ничего особенного не происходит, и с повышенным интересом смотрел в окошко. Тут как раз подъехали к дому княгини Белосельской-Белозерской, где остановились герцог Лихтенбургский и его супруга, урожденная Зинаида Дмитриевна Соболева, получившая в морганатическом браке титул графини Мирабо.
Эраст Петрович знал, что Евгений Лихтенбургский, генерал-майор русской гвардии и шеф потсдамских лейб-кирасиров, приходился родным внуком императору Николаю Павловичу. Однако знаменитого василискова взгляда герцог от грозного деда не унаследовал – глаза его высочества были цвета голубого саксонского фарфора и смотрели через пенсне мягко, учтиво. Зато графиня оказалась очень похожа на своего великого брата. Вроде бы и стать не та, и осанка отнюдь не воинственная, и овал лица нежен, а синие глаза точь-в-точь такие же, и порода та самая, безошибочно Соболевская. Аудиенция с самого начала пошла вкривь и вкось.
– Мы с графиней приехали в Москву совсем по другому деву, а тут такое несчастье, – начал герцог, премило картавя на твердом "л" и помогая себе взмахами руки, украшенной старинным сапфиром на безымянном пальце.
Зинаида Дмитриевна не дала мужу договорить:
– Как, как это могло случиться?! – вскричала она, и по очаровательному, хоть и распухшему от рыданий лицу потоком хлынули крупные слезы. – Князь, Владимир Андреевич, горе-то какое!
Рот графини изогнулся наподобие коромысла, и дальше говорить она не смогла.
– На все воля Божья, – растерянно пробормотал герцог и в панике оглянулся на Долгорукого и Фандорина.
– Евгений Максимилианович, ваше высочество, уверяю вас, что обстоятельства безвременной кончины вашего родственника тщательнейше расследуются, – взволнованным голосом сообщил губернатор. – Вот господин Фандорин, мой чиновник для наиважнейших поручений, этим занимается.
Эраст Петрович поклонился, и герцог задержал взгляд на лице молодого чиновника, а графиня залилась слезами еще пуще.
– Зинаида Дмитриевна, душенька, – всхлипнул и князь. – Эраст Петрович – боевой товарищ вашего братца. По воле случая остановился в той же гостинице, у Дюссо. Очень толковый и опытный следователь, во всем разберется и доложит. А плакать что же, ведь не вернешь…
Пенсне Евгения Максимилиановича блеснуло холодно и начальственно:
– Если господин Фандорин выяснит что-нибудь важное, прошу немедвенно сообщить лично мне. Пока не прибыв великий князь Кирилл Александрович, я представляю здесь особу государя императора.
Эраст Петрович еще раз молча поклонился.
– Да, государь… – Зинаида Дмитриевна трясущимися руками достала из ридикюля смятую телеграмму. – Доставили высочайшую депешу. "Поражен и огорчен внезапной смертью генерал-адъютанта Соболева. – Всхлипнув и высморкавшись, стала читать дальше. – Потеря для русской армии трудно заменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей. Александр".
Фандорин чуть приподнял брови – телеграмма показалась ему холодноватой. «Трудно заменимая»? То есть получается, что заменить все-таки можно? «Грустно» – и только-то?
– Завтра проводы и панихида, – сказал Долгорукой. – Москвичи желают отдать герою последнюю дань. Потом, очевидно, тело поездом отправят в столицу? Его величество наверняка распорядится устроить государственные похороны. Многие с Михайлой Соболевым проститься захотят. – Губернатор приосанился. – Меры, ваше высочество, приняты. Тело забальзамировано, так что препятствий не возникнет.
Герцог искоса взглянул на жену, утиравшую неиссякаемые слезы. Вполголоса сказал:
– Видите ли, князь, император пошев навстречу пожеваниям семьи и позволив хоронить Мишеля по-семейному, в рязанском имении.
Владимир Андреевич с чуть излишней, как показалось Фандорину, поспешностью подхватил:
– И правильно, так оно человечней, без помпы-то. Какой человек был, просто душа-человек.
Вот этого говорить не следовало. Начавшая успокаиваться графиня разрыдалась пуще прежнего. Губернатор часто заморгал, вынул преогромный платок, по-отечески вытер Зинаиде Дмитриевне лицо, после чего, расчувствовавшись, шумно в него высморкался. Евгений Максимилианович взирал на славянскую несдержанность чувств с некоторой растерянностью.
– Что же это, Влади… Владимир Андре…евич. – Графиня припала к выпяченной корсетом груди князя. – Ведь он меня только на шесть лет старше… У-у-у, – вырвалось у нее не аристократическое, а вполне простонародное, бабье завывание, и Долгорукой совсем скис.
– Голубчик, – гнусавым от переживаний голосом указал он Фандорину поверх русого затылка Зинаиды Дмитриевны. – Вы того… Вы поезжайте. Я побуду тут. Езжайте себе с Фролом, езжайте. Карета пусть после за мной вернется. А вы поговорите там с Евгением Осиповичем. Сами решайте. Видите, какие дела-то…
Всю обратную дорогу Фрол Григорьевич жаловался на интриганов (которых называл «антрегантами») и казнокрадов.
– Ведь что делают, ироды! Кажная тля норовит свой кусок урвать! Хочет торговый человек лавку открыть – к примеру, портками плисовыми торговать. Вроде бы чего проще? Плати городскую подать пятнадцать целковых, да торгуй. Ан нет! Околоточному дай, акцизному дай, врачу санитарному дай! И все мимо казны! А портки – им красная цена рупь с полтиной – уж по трешнице идут. Не Москва, а чистые жунгли.
– Что? – не понял Фандорин.
– Жунгли. Зверь на звере! Или хоть водку взять. Э-э, сударь, с водкой цельная трагедия. Вот я вам расскажу…
И последовала драматическая история о том, как торговцы в нарушение всех божеских и человеческих законов покупают у акцизных чиновников гербовые марки по копейке за штуку и лепят их на бутылки с самогонкой, выдавая ее за казенный продукт. Эраст Петрович не знал, что на это сказать, но, к счастью, его участия в разговоре, кажется, и не требовалось.
Когда карета, грохоча по брусчатке, подъехала к парадному входу в губернаторскую резиденцию, Ведищев оборвал свою филиппику на полуслове:
– Вы ступайте себе прямо в кабинет. Полицмейстер уж, поди, заждался. А я по делам. – И с неожиданной для его лет и важных бакенбард резвостью юркнул куда-то и боковой коридорчик.
Разговор с глазу на глаз получился удачный, профессиональный. Фандорин и Караченцев понимали друг друга с полуслова, и это грело душу обоим.
Генерал расположился в кресле у окна, Эраст Петрович сел напротив на бархатный стул.
– Давайте я вам сначала про герра Кнабе, – начал Евгений Осипович, держа наготове папку, однако до поры до времени в нее не заглядывая. – Личность мне хорошо известная. Просто не желал при таком скоплении. – Он выразительно покривил губы, и Фандорин понял, что это намек на Хуртинского. Генерал похлопал по своей папке. – У меня тут секретный циркуляр еще от прошлого года. Из Департамента, из Третьего делопроизводства, которое, как вам известно, ведает всеми политическими делами, предписывают приглядывать за Гансом-Георгом Кнабе, Чтобы не зарывался.
Эраст Петрович вопросительно склонил голову набок.
– Шпион, – пояснил обер-полицеймейстер. – По нашим сведениям, капитан германского генштаба. Резидент кайзерской разведки в Москве. Зная это, я поверил вашему рассказу сразу и безоговорочно.
– Не берете, п-потому что лучше известный резидент, чем неизвестный? – не столько спросил, сколько уточнил коллежский асессор.
– Именно. Да и есть свои правила дипломатического приличия. Ну, арестую я его, вышлю. И что? Немцы тут же какого-нибудь нашего вышлют. Кому это нужно? Трогать резидентов без особого на то распоряжения не положено. Однако данный случай переходит все границы джентльменства.
Эраст Петрович от такого understatement [Недостаточно сильное высказывание (англ.)] поневоле улыбнулся:
– Мягко говоря, да. Улыбнулся и генерал.
– Так что герра Кнабе будем брать. Вопрос: где и когда. – Евгений Осипович улыбнулся еще шире. – Думаю, сегодня вечером, в ресторане «Альпийская роза». Дело в том, что по имеющимся у меня данным (он снова похлопал по закрытой папке) Кнабе по вечерам часто там бывает. Сегодня тоже протелефонировал, заказал столик на семь часов. Почему-то на фамилию «Розенберг», хотя, как вы понимаете, в ресторане его отлично знают.
– Интересно, – заметил на это Фандорин. – И в самом деле, надо брать.
Генерал кивнул.
– Распоряжение генерал-губернатора насчет ареста имеется. Мое дело солдатское: начальство приказало – выполнять.
– Откуда известно, что Кнабе т-телефонировал и заказал столик на чужую фамилию? – подумав, спросил Эраст Петрович.
– Технический прогресс. – Глаза обер-полицеймейстера лукаво блеснули. – Телефонные переговоры можно прослушивать со станции. Но это строго между нами. Если узнают, я потеряю половину информации. Между прочим, ваша подружка Ванда тоже сегодня будет выступать в «Розе». Велела портье подавать коляску к шести. Предвидится интересная встреча. Вот бы их, голубков, вместе и взять. Вопрос – как действовать?
– Решительно, но не ломая д-дров.
Караченцев вздохнул:
– С решительностью у моих орлов все в порядке. С дровами хуже.
Эраст Петрович заговорил полуфразами:
– А если бы я сам? Как частное лицо? Если что – никаких дипломатических конфликтов. Ваши на страховке, а? Только, ваше п-превосходительство, без дублирования, как вчера в «Англии».
Черт возьми, с тобой работать – одно удовольствие, подумал генерал, а вслух сказал:
– За вчерашнее приношу извинение. Не повторится. А насчет сегодняшнего… Двое на улице, двое в зале? Как полагаете?
– В зале не надо вовсе – профессионал всегда опознает, – уверенно заявил коллежский асессор. – А на улице так: один на коляске у парадного, и один у черного. На всякий. Думаю, довольно будет. Не террорист ведь все-таки, резидент.
– Как действовать думаете?
– Право не знаю. Как пойдет. Пригляжусь, понаблюдаю. Не люблю загадывать.
– Понимаю, – покивал генерал. – И полностью полагаюсь на ваше суждение. Имеете ли оружие? Господин Кнабе в отчаянном положении. Высылкой в данном случае не отделается, да и отопрутся от него начальники, если что. Хоть и не террорист, но может повести себя нервно.
Эраст Петрович сунул руку куда-то под сюртук, и в следующую секунду на ладони у него оказался маленький ладный револьвер с вытертой от частого употребления рифленой рукояткой.
– «Герсталь-агент»? – с уважением спросил Евгений Осипович. – Изрядная вещица. Позвольте полюбопытствовать?
Генерал взял револьвер, ловко откинул барабан, поцокал языком:
– Безвзводный? Красота! Пали хоть все шесть пуль подряд. А спусковой не слабоват?
– Тут вот кнопочка – предохранитель, – показал Фандорин. – Так что в кармане не выстрелит. Точность, конечно, неважная, но ведь в нашем деле главное – скорострельность. Нам соболя в глаз не бить.
– Истинная правда, – согласился Евгений Осипович, возвращая оружие. – Так ведь она опознает вас? Ванда-то.
– Не извольте б-беспокоиться, ваше превосходительство. У меня с собой целая гримерная. Не опознает.
Совершенно удовлетворенный, Караченцев откинулся на спинку кресла и, хотя деловой разговор вроде бы был закончен, прощаться не торопился. Генерал предложил собеседнику сигару, но тот достал свои, в изящном замшевом футляре.
– Настоящая «батавия», Евгений Осипович. Не угодно ли?
Обер-полицеймейстер взял тонкую, шоколадного цвета палочку, зажег, с наслаждением выпустил струйку дыма. Господин Фандорин генералу определенно нравился, и потому возникло окончательное решение повернуть разговор в деликатную сторону.
– Вы в наших московских джунглях человек новый… – осторожно начал он.
И этот про джунгли, мысленно удивился Эраст Петрович, но виду не подал. Сказал лишь:
– Да и в российских тоже.
– Вот-вот. Многое за время ваших странствий переменилось…
Фандорин с внимательной улыбкой ждал продолжения – беседа, судя по всему, предполагалась не пустячная.
– Как вам наш Володя Большое Гнездо? – внезапно спросил обер-полицеймейстер.
Поколебавшись, Эраст Петрович ответил:
– По-моему, его сиятельство не так прост, как кажется.
– Увы. – Генерал энергично пустил вверх густую дымную струю. – В свое время князь был непрост и даже очень непрост. Шутка ли – шестнадцать лет держит первопрестольную железной рукой. Но расшатались зубы у старого волка. Чему удивляться – восьмой десяток. Постарел, утратил хватку. – Евгений Осипович наклонился вперед и доверительно понизил голос. – Последние дни доживает. Сами видите – вертят им как хотят эти его помпадуры Хуртинский и Ведищев. А пресловутый Храм! Ведь все соки из города высосал. Зачем, спрашивается? Сколько приютов да больниц на этакие деньжищи можно бы построить! Нет, наш Хеопс новоявленный желает непременно пирамиду после себя оставить.
Эраст Петрович слушал внимательно, рта не раскрывал.
– Понимаю, вам об этом рассуждать невместно. – Караченцев снова откинулся на спинку кресла. – Да вы просто послушайте человека, который к вам с искренней симпатией. Не скрою от вас, что при дворе Долгоруким недовольны. Малейшая с его стороны оплошность – и всё. На покой, в Ниццу. А тогда, Эраст Петрович, вся его московская хунта рассыплется. Придет новый человек, не чета этому. Приведет своих. Да уж и здесь они, его люди. Готовят.
– Например, вы?
Евгений Осипович одобрительно прищурился:
– Вы схватываете с полуслова. А сие означает, что я могу не продолжать. Суть предложения вам понятна.
В самом деле, не первопрестольная, а какие-то джунгли, подумал Эраст Петрович, глядя в светящиеся приязнью глаза рыжего обер-полицеймейстера – по всему видно, человека честного и неглупого. Коллежский асессор приятнейшим образом улыбнулся и развел руками:
– Ценю ваше доверие и даже п-польщен. Возможно, с новым губернатором Москве будет и лучше. Впрочем, не берусь судить, ибо в московских делах пока ничего не смыслю. Однако я, ваше превосходительство, четыре г-года прожил в Японии и, знаете ли, совершенно объяпонился – иногда сам на себя удивляюсь. У японцев самурай – а мы с вами по их понятиям самураи – должен хранить верность своему сюзерену, каким бы скверным тот ни был. Иначе никак невозможно, вся система развалится. Владимир Андреевич мне не вполне сюзерен, однако же свободным от обязательств по отношению к нему я чувствовать себя не могу. Уж не обессудьте.
– Что ж, жаль, – вздохнул генерал, поняв, что уговаривать бесполезно. – У вас могло бы быть большое будущее. Да, ничего. Может быть, еще и будет. На мою поддержку вы можете всегда рассчитывать. Смею ли я надеяться, что беседа останется между нами?
– Да, – коротко ответил коллежский асессор, и Караченцев ему сразу поверил.
– Пора, – сказал он, поднимаясь. – Распоряжусь насчет «Розы». Выберу вам помощников потолковей, а вы, в свою очередь…
Они вышли из губернаторского кабинета, обговаривая на ходу последние детали предстоящей операции. Секунду спустя открылась маленькая дверка в углу – там располагалась комната для отдыха, где старый князь любил подремать после обеда. Из дверки, бесшумно ступая войлочными туфлями, вышел Фрол Григорьевич Ведищев. Его кустистые седые брови были сурово насуплены. Княжеский камердинер подошел к креслу, на котором минуту назад сидел обер-полицеймейстер, и свирепо плюнул коричневой табачной слюной прямо на кожаное сиденье.
Глава шестая, в которой появляется женщина в черном
В гостинице Эраста Петровича ждал сюрприз. Когда молодой человек приблизился к своему 20-ому номеру, дверь внезапно отворилась, и навстречу постояльцу выбежала дебелая горничная. Лица ее Фандорин не разглядел, поскольку оно было повернуто в сторону, однако же от внимания наблюдательного коллежского асессора не укрылись некоторые красноречивые детали: надетый наизнанку фартук, сбившаяся набок кружевная наколка и криво застегнутое платье. На пороге стоял довольный Маса, ничуть не смущенный внезапным возвращением хозяина.
– Русские женщины очень хорошие, – с глубоким убеждением произнес слуга. – Я предполагал это и раньше, а теперь знаю наверняка.
– Наверняка? – с любопытством спросил Фандорин, разглядывая лоснящуюся, физиономию японца.
– Да, господин. Они горячие и не требуют за любовь подарков. Не то что жительницы французского города Парижа.
– Да ведь ты по-русски не знаешь, – покачал головой Эраст Петрович. – Как же ты с ней объяснился?
– По-французски я тоже не знал. Но для объяснения с женщиной слова не нужны, – с важным видом поведал Маса. – Главное – дыхание и взгляд. Если дышишь громко и часто, женщина понимает, что ты в нее влюблен. А глазами надо делать вот так. – Он сощурил свои и без того узкие глазки, отчего те вдруг поразительным образом словно заискрились. Фандорин только хмыкнул. – После этого остается немножко поухаживать, и женщина уже не может устоять.
– И как же ты ухаживал?
– К каждой женщине нужен свой подход, господин. Худые любят сладости, толстые – цветы. Этой прекрасной женщине, которая убежала, заслышав ваши шаги, я подарил веточку магнолии, а потом сделал ей массаж шеи.
– Где ты взял магнолию?
– Там. – Маса показал куда-то вниз. – В горшках растут.
– А при чем здесь массаж шеи?
Слуга посмотрел на хозяина сожалеюще:
– Массаж шеи переходит в массаж плеч, потом в массаж спины, потом…
– Ясно, – вздохнул Эраст Петрович. – Можешь не продолжать. Подай-ка лучше сундучок с гримерными принадлежностями.
Маса оживился:
– У нас будет приключение?
– Не у нас, а у меня. И вот еще что, утром я не успел сделать гимнастику, а мне нынче нужно быть в форме.
Японец стал снимать хлопчатый халат, который обычно носил, находясь дома.
– Господин, мы побегаем по потолку или опять будем драться? Лучше по потолку. Вот очень удобная стена.
Фандорин осмотрел оклеенную обоями стену, лепной потолок и усомнился:
– Больно высоко. Тут не меньше двенадцати сяку. Ну да ничего, попробуем.
Маса уже стоял в одной набедренной повязке. На лоб он повязал чистенькую белую тряпицу, на которой красной тушью был выведен иероглиф «усердие». Эраст Петрович же переоделся в обтягивающее полосатое трико, обул каучуковые тапочки, потом немного попрыгал, поприседал и скомандовал:
– Ити, ни, сан!
Оба разом рванулись с места, взбежали вверх по стене и, совсем немного не достигнув потолка, оттолкнулись от вертикали. Сделав сальто в воздухе, приземлились на ноги.
– Господин, я выше добежал – вон до той розочки, а вы на две розочки ниже, – похвастался Маса, показывая на обои.
Вместо ответа Фандорин снова прокричал:
– Ити, ни, сан!
Головокружительный трюк был повторен, и на сей раз слуга, перекувырнувшись, коснулся ногой потолка.
– Я достал, а вы нет! – сообщил он. – И это при том, господин, что у вас ноги значительно длиннее моих.
– Ты сделан из резины, – проворчал слегка запыхавшийся Фандорин. – Ладно, теперь подеремся.
Японец поклонился в пояс и без особой охоты встал в боевую стойку: ноги согнуты в коленях, ступни развернуты, руки расслаблены.
Эраст Петрович, подпрыгнул, крутнулся в воздухе и довольно сильно задел не успевшего увернуться партнера носком тапочка по макушке.
– Попадание раз! – крикнул он. – Давай!
Маса сделал отвлекающее движение – сорвал со лба и отшвырнул в сторону свою белую повязку, а когда взгляд Фандорина непроизвольно проследовал за летящим предметом, слуга с гортанным криком прокатился упругим мячиком по полу и ударом ноги попробовал подсечь хозяина под щиколотку. Однако Эраст Петрович в последний момент отскочил-таки назад, да еще изловчился легонько стукнуть коротышку ребром ладони по уху.
– Попадание два!
Японец ловко вскочил на ноги и засеменил по комнате, описывая полукруг. Фандорин чуть переступал на месте, держа вывернутые ладони на уровне талии.
– Ах да, господин, я совсем забыл, – проговорил Маса, не прекращая двигаться. – Мне нет прощения. К вам час назад приходила женщина. Вся в черном.
Эраст Петрович опустил руки.
– Какая женщина?
И тут же получил удар ногой в грудь. Отлетел к стене, а Маса торжествующе воскликнул:
– Попадание раз! Немолодая и некрасивая. Одежда у нее была совсем черная. Я не понял, чего она хочет, и она ушла.
Фандорин стоял, потирая ушибленную грудь.
– Тебе пора бы научиться по-русски. Пока меня не будет, возьми словарь, который я тебе подарил, и выучи восемьдесят слов.
– Хватит и сорока! – возмутился Маса. – Вы мне просто мстите! И потом два слова я сегодня уже выучил: мираська , что означает «уважаемый господин» и китайтик – это по-русски «японец».
– Догадываюсь, кто тебя учил. Только не вздумай называть «милашкой» меня. Восемьдесят слов, я сказал, восемьдесят. В следующий раз будешь драться честнее.
Эраст Петрович сел перед зеркалом и занялся гримом.
Перебрав несколько париков, выбрал темно-русый, скобкой, с ровным пробором посередине. Опустил свои подкрученные черные усики, поверх приклеил пышные, посветлее, к подбородку прицепил густую бороду веником. Покрасил в соответствующий цвет брови. Подвигал ими туда сюда, надул губы, пригасил блеск в глазах, помял румяные щеки, развалился на стуле и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратился в хамоватого охотнорядского купчика.
* * *
В восьмом часу вечера к немецкому ресторану «Alpenrose» ["Альпийская роза" (нем.)] что на Софийке, подкатил лихач: пролетка лаковая, на стальных рессорах, у пары вороных гривы переплетены алыми лентами, спицы на колесах выкрашены охрой. Лихач оглушительно тпрукнул, да еще залихватски щелкнул кнутом.
– Просыпайся, ваше здоровье, доставили в лучшем виде!
Сзади, откинувшись на бархатном сиденье, похрапывал ездок – молодой купчина в длиннополом синем сюртуке, малиновом жилете и сапогах бутылками. На голове гуляки залихватски скособочился сияющий цилиндр.
Купец приоткрыл осоловелые глаза, икнул:
– К-куда?
– Куда заказывали, ваше степенство. Она самая «Роза» и есть.
Возле известного на всю Москву ресторана в ряд выстроились извозчики. Возницы смотрели на шумного лихача недовольно – раскричался, кнутом расстрелялся, только чужих лошадей напугал. Один извозчик, молодой парень с бритым, нервным лицом, в глянцевом кожане, подошел к баламуту и сердито напустился на него:
– Ты чё размахался? Не на цыганской ярманке! Приехал и стой себе как все! – А вполголоса прибавил: – Езжай, Синельников. Привез – и езжай, не светись. У меня тут коляска. Передай Евгению Осиповичу, всё по плану.
Купчик спрыгнул на тротуар, пошатнулся, махнул кучеру:
– Вали! Ночевать тут буду.
Лихач щелкнул кнутом и, по-разбойничьи присвистнув, покатил прочь, а загулявший охотнорядец сделал несколько неверных шагов и покачнулся. Бритый тут как тут – подхватил под локоток.
– Давай помогу, ваше степенство. Неровен час оступишься…
Заботливо взял под локоть, зашептал скороговоркой:
– Агент Клюев, ваше высокоблагородие. Вон моя коляска, с рыжей лошадкой. Буду на козлах дожидаться. У черного хода агент Незнамов. Точильщика изображает, в клеенчатом фартуке. Объект десять минут как прибыл. Прицепил рыжую бороду. Какой-то дерганый весь. И при оружии – подмышка оттопырена. А вот это его превосходительство велели передать.
Уже у самых дверей «извозчик» ловко сунул в карман купчине свернутый в осьмушку листок и, сняв картуз, низко поклонился, но на чай не получил и лишь досадливо крякнул, когда перед ним захлопнули дверь. Под насмешки возниц («Что, ухарь, сорвал двугривенный?») поплелся назад к пролетке и понуро влез на козлы.
Ресторан «Альпийская роза» вообще-то считался заведением чинным, европейским. Во всяком случае, в дневное время. В завтрак и обед сюда приходили московские немцы, как торговые, так и служилые. Кушали свиную ногу с кислой капустой, пили настоящее баварское пиво, читали берлинские, венские и рижские газеты. Но к вечеру скучные пивохлебы отправлялись по домам – подвести баланс по учетным книгам, поужинать да засветло на перину, а в «Розу» начинала стекаться публика повеселей и пощедрей. Преобладали все-таки иностранцы, из тех, кто легче нравом и при этом предпочитает веселиться не на русский, а на европейский лад, без пьяного крика и расхристанности. Русские если и заглядывали, то больше из любопытства, а с некоторых пор еще и для того, чтобы послушать, как поет мадемуазель Ванда.
Охотнорядец остановился в беломраморном фойе, икнув, осмотрел колонны и ковровую лестницу, швырнул лакею свой ослепительный цилиндр и поманил метрдотеля.
Первым делом сунул ему беленькую. Потом, обдав коньячным запахом, потребовал:
– Ты мне, немец-перец-колбаса, стол обеспечь, и чтоб не какой у вас так на так пустой простаивает, а какой мне пондравится.
– Народу много-с… – развел руками метрдотель, который был хоть и немец, но по-русски говорил на истинно московский лад.
– Обеспечь, – погрозил ему пальцем купец. – Не то забедокурю! И это, где тут нужник у вас?
Метрдотель пальцем подозвал лакея, и скандального гостя со всем почтением проводили в туалетную комнату, отделанную по последнему слову европейской техники: с фарфоровыми стульчаками, водосливом и обзеркаленными умывальниками. Но Тит Титыч немецкими новшествами не заинтересовался, а, велев лакею дожидаться снаружи, вынул из кармана свернутый листок и, сосредоточенно нахмурившись, стал читать.
Это была расшифровка телефонного переговора.
2 часа 17 минут пополудни. Абонент 1 – мужского пола, абонент 2 – женского пола.
А1: Барышня, мне нумер 762… «Англия»? Здесь Георг Кнабе. Прошу позвать госпожу Ванду.
Голос (пол не определен): Сию минуту-с.
А2: Ванда у аппарата. Кто это?
А1: (Помета на полях: «С сего места всё по-немецки»). Я. Срочное дело. Очень важно. Скажите мне одно, делали ли вы с ним что-нибудь? Вы понимаете, о чем я. Делали или нет? Говорите правду, заклинаю!
А2: (после продолжительной паузы): То, что вы имеете в виду, я не сделала. Все произошло само. Но что с вами? У вас такой голос.
А1: Нет, правда не делали? О, благодарение Господу! Вы не представляете, в каком я положении. Это кошмарный сон.
А2: Я очень рада. (Одна фраза неразборчиво).
А1: Не шутите. Все от меня отвернулись! Вместо похвалы за проявленную инициативу – черная неблагодарность. И даже хуже. Может получиться так, что известное вам событие не отдалит конфликт, а наоборот, его приблизит – вот что мне передали. Но ведь вы ничего не сделали?
А2: Я же сказала: нет.
А1: А где склянка?
А2: У меня в нумере. И все так же запечатана.
А1: Я должен у вас ее забрать. Сегодня же.
А2: Я сегодня пою в ресторане и уйти не смогу. И так два вечера пропустила.
А1: Знаю. Я буду. Уже заказал столик. На семь часов. Не удивляйтесь – я буду замаскирован. Так нужно для конспирации. Захватите склянку с собой. И вот еще что, фрейляйн Ванда, в последнее время вы что-то много себе стали позволять. Смотрите, я не тот, с кем можно шутки шутить.
(А2, не отвечая, дает отбой.)
Стенографировал и перевел с немецкого Юлий Шмидт.
Внизу косым гвардейским почерком приписка: «Не убрал бы он ее с перепугу, а? Е.О.»
* * *
Из туалета купчина вышел явно посвежевший. Сопровождаемый метрдотелем, вошел в залу. Обвел мутным взглядом столы с невозможной белизны скатертями, сплошь в сиянии серебра и хрусталя. Сплюнул на сверкающий паркетный пол (метрдотель только поежился) и наконец ткнул пальцем в стол (слава богу, свободный) возле стены. Слева – два богатеньких студента в компании заливисто хохочущих модисток, справа – рыжебородый господин в клетчатом пиджаке. Сидит, смотрит на сцену, потягивает мозельское.
Если бы не предупреждение агента Клюева, Фандорин нипочем не узнал бы герра Кнабе. Тоже мастер преображаться. Что ж, при его основной профессии это неудивительно.
В зале недружно, но с энтузиазмом зааплодировали. На невысокую сцену вышла Ванда – тонкая, стремительная, похожая в своем переливающемся блестками платье на волшебную змейку.
– Тоща-то, смотреть не на что, – фыркнула за соседним столом полненькая модистка, обиженная тем, что оба студента уставились на певицу во все глаза.
Ванда обвела залу широко раскрытыми сияющими глазами и без предварительных слов, без музыкального вступления, негромко запела – пианист-аккомпаниатор подхватил мелодию уже вдогонку и пошел плести легкие кружева аккордов вкруг низкого, проникающего в самое сердце голоса.
Зарыт на дальнем перекрестке
Самоубийцы труп в песок;
На ним растет цветочек синий,
Самоубийц цветок…
Там я стоял, вздыхая… Вечер
Все сном и холодом облек.
И при луне качался тихо
Самоубийц цветок.
Странный выбор для ресторана, подумал Фандорин, вслушиваясь в немецкие слова песни. Кажется, это из Гейне?
В зале стало очень тихо, потом все разом захлопали, а давешняя ревнивая модистка даже крикнула «браво!». Эраст Петрович спохватился, , что, кажется, вышел из роли, но никто вроде бы не заметил неуместно серьезного выражения, появившегося на пьяной физиономии охотнорядца. Во всяком случае, рыжебородый, что сидел за столом справа, смотрел только на сцену.
Еще звучали последние аккорды печальной баллады, а Ванда уже защелкала пальцами, задавая быстрый ритм. Пианист, тряхнув кудлатой головой, скомкал концовку – обрушил все десять пальцев на клавиши, и публика закачалась на стульях в такт разухабистой парижской шансонетке.
Какой-то русский господин, по виду из заводчиков, совершил странную манипуляцию: подозвал цветочницу, взял из корзины букетик анютиных глазок, и, обернув его сторублевой ассигнацией, послал Ванде. Та, не прекращая петь, понюхала букет и велела отослать обратно вместе со сторублевкой. Заводчик, до сего момента державшийся королем, заметно стушевался и два раза подряд выпил залпом по полному фужеру водки. На него почему-то поглядывали с насмешкой.
Эраст Петрович про свою роль больше не забывал. Немного повалял дурака: налил шампанского в чайную чашку, а оттуда в блюдце. Надувая щеки, отпил – совсем чуть-чуть, чтоб не захмелеть, но с громким хлюпаньем. Официанту велел принести еще шампанского («Да не ланинского, а взаправдышного, моэту») и зажарить поросенка, только непременно живого, и чтоб сначала принесли показать, «а то знаю я вас, немчуру, убоину с ледника подсунете». Расчет у Фандорина был на то, что живого поросенка искать будут долго, а тем временем ситуация так или иначе разрешится.
Замаскированный Кнабе косился на шумного соседа с неудовольствием, но большого интереса к нему не проявлял. Резидент четырежды доставал брегет, и видно было, что нервничает. Без пяти минут восемь Ванда объявила, что исполняет последнюю песню перед перерывом и затянула сентиментальную ирландскую балладу о Молли, не дождавшейся милого с войны. Кое-кто из сидевших в зале утирал слезы.
Сейчас допоет и подсядет к Кнабе, предположил Фандорин и изготовился: упал лбом на локоть, словно бы сомлев, однако прядь с правого уха откинул и, согласно науке о концентрации, отключил все органы чувств кроме слуха. Так сказать, превратился в правое ухо. Пение Ванды теперь доносилось словно бы издалека, зато малейшие движения герра Кнабе отдавались с особенной ясностью. Немец сидел беспокойно: скрипел стулом, шаркал ногами, потом вдруг застучал каблуками. Эраст Петрович на всякий случай повернул голову, приоткрыл глаз – и вовремя: успел увидеть, как рыжебородый бесшумно выскальзывает в боковую дверь.
В зале грянули аплодисменты.
– Богиня! – крикнул растроганный студент. Модистки громко хлопали.
Тихая ретирада герра Кнабе коллежскому асессору очень не понравилась. В сочетании с маскарадом и фальшивой фамилией это выглядело тревожно.
Купчик резко встал, уронил стул и доверительно сообщил веселой компании за соседним столом:
– Облегчиться приспичило. – И, слегка покачиваясь, пошел к боковому выходу.
– Сударь! – подлетел сзади официант. – Туалетное помещение не там.
– Уйди. – Не оборачиваясь отпихнул его варвар. – Где жалаем, там и облегчаемся.
Официант в ужасе застыл на месте, а купец, широко ступая, зашагал дальше. Ах, нехорошо. Торопиться надо. Вот и Ванда уж со сцены за кулисы упорхнула.
Перед самой дверью возникло новое препятствие. Навстречу капризному клиенту несли отчаянно визжащего поросенка.
– Вот, как заказывали! – гордо предъявил свой трофей запыхавшийся повар. – Живехонек. Прикажете жарить?
Эраст Петрович посмотрел в наполненные ужасом розовые глазки поросенка и вдруг пожалел бедного малютку, родившегося на свет лишь для того, чтобы угодить в брюхо какого-нибудь обжоры.
Купец рявкнул:
– Мал ишшо, пущай жир нагуляет!
Повар обескуражено прижал к груди парнокопытное, а самодур, ударившись о косяк, вывалился в коридор.
Так, лихорадочно соображал Фандорин. Направо – это в вестибюль. Значит, службы и уборная Ванды налево.
Бегом бросился по коридору. За углом, в полутемном закутке раздался вскрик, там шла какая-то возня.
Эраст Петрович ринулся на шум и увидел, как рыжебородый, обхватив Ванду сзади, зажимает ей ладонью рот и тащит к горлу певицы узкую полоску стали.
Ванда вцепилась обеими руками в широкое, поросшее рыжеватыми волосами запястье, но расстояние между клинком и тонкой шеей быстро сокращалось.
– Стой! Полиция! – осипшим от волнения голосом крикнул Фандорин, и тут герр Кнабе проявил недюжинную быстроту реакции: толкнул барахтающуюся Ванду прямо на Эраста Петровича. Тот непроизвольно обхватил барышню за худые плечи, и она, вся дрожа, вцепилась в своего спасителя мертвой хваткой. Немец же в два прыжка обогнул их и помчался по коридору, на бегу роясь под мышкой. Фандорин заметил, как рука бегущего вынырнула с чем-то черным, тяжелым и едва успел повалить Ванду на пол, подмяв ее под себя. Еще секунда – и пуля пронзила бы обоих. На миг коллежский асессор оглох от грохота, наполнившего тесный коридор. Ванда отчаянно взвизгнула и забилась под молодым человеком.
– Это я, Фандорин! – пропыхтел он, приподнимаясь. – Пустите.
Он вскочил было на ноги, но Ванда, лежа на полу, крепко держала его за щиколотку и истерично всхлипывала:
– За что он, за что? Ой, не бросайте меня!
Выдергивать ногу было бесполезно – певица вцепилась и не выпускала. Тогда Эраст Петрович нарочито спокойным голосом сказал:
– Сами знаете, за что. Ну да бог милостив, обошлось.
Он деликатно, но твердо разжал ее пальцы и побежал догонять резидента. Ничего, у подъезда Клюев. Толковый агент, не упустит. Во всяком случае, задержит.
Однако, когда Фандорин выскочил из ресторанных дверей на набережную, оказалось, что дело обстоит из рук вон плохо. Кнабе уже сидел в английской одноместной коляске, так называемой эгоистке, и нахлестывал поджарого буланого конька. Конек замолотил по воздуху передними копытами и взял с места так резко, что немца отшвырнуло на спинку сиденья.
Толковый агент Клюев сидел на тротуаре, зажав руками голову, и между пальцев бежала кровь.
– Виноват, упустил, – глухо простонал он. – Я ему «Стой!», а он рукояткой в лоб…
– Вставай! – Эраст Петрович рванул ушибленного за плечо, заставил подняться. – Уйдет!
Сделав над собой усилие, Клюев мазнул по лицу бордовую жижу и боком-боком заковылял к пролетке.
– Я ничего, только плывет все, – пробормотал он, залезая на козлы.
Фандорин в один прыжок оказался сзади, Клюев тряхнул вожжами, и рыжая лошадка звонко зацокала по брусчатке, постепенно разгоняясь. Но медленно, слишком медленно. Эгоистка уже оторвалась шагов на сто.
– Гони! – крикнул Эраст Петрович вялому Клюеву. – Гони!
Оба экипажа на бешеной скорости – мелькали дома, вывески магазинов, остолбеневшие прохожие – вынеслись по короткой Софийке на широкую Лубянку, и тут погоня пошла всерьез. Городовой, что дежурил напротив фотографии Мебиуса, зашелся в негодующем свистке, помахал нарушителям кулаком, но и только. Эх, вот бы телефонный аппарат в пролетку, мимоходом примечталось Фандорину, да позвонить Караченцеву, чтоб выслал от жандармского управления пару колясок наперехват. Дурацкая и несвоевременная фантазия – вся надежда сейчас была только на рыжую. А она, голубушка, старалась вовсю: отчаянно выбрасывала крепкие ноги, мотала гривой, косилась назад безумно выпученным глазом – хорошо ли, мол, не наподдать ли, мол, еще пуще. Наподдай, милая, наподдай, взмолился Эраст Петрович. Клюев, кажется, немного очухался, и, стоя, щелкал кнутом да улюлюкал так, будто по тихой вечерней улице неслась целая Мамаева орда.
Расстояние до эгоистки понемногу сокращалось. Кнабе обеспокоено оглянулся раз, другой, и, похоже, понял, что не уйти. Когда оставалось шагов тридцать, резидент обернулся, выставил назад левую руку с револьвером и выстрелил. Клюев пригнулся.
– Меткий, черт! Прямо над ухом визгнула! Это он из «рейхсревольвера» содит! Стреляйте, ваше высокоблагородие! По коню стреляйте! Упустим!
– Конь-то в чем виноват? – проворчал Фандорин, вспомнив давешнего поросенка. На самом деле он, конечно, не пожалел бы буланого ради интересов отчизны, да вот беда – не приспособлен «герсталь-агент» для прицельной стрельбы с такого расстояния. Не дай бог, подстрелишь вместо конька самого герра Кнабе, и вся операция будет провалена.
На углу Сретенского бульвара немец снова обернулся и, прицелившись чуть дольше, дунул из ствола дымом. В тот же миг Клюев рухнул навзничь, прямо на Эраста Петровича. Один глаз испуганно смотрел коллежскому асессору в лицо, вместо второго образовалась красная яма.
– Ваше высоко… – шевельнулись губы и не договорили.
Коляску повело на сторону, и Фандорин был вынужден бесцеремонно оттолкнуть упавшего. Подхватил вожжи, натянул – ив самый раз, а то пролетку разнесло бы вдребезги о чугунную решетку бульвара. Разгорячившаяся рыжая все норовила бежать дальше, но левое переднее колесо зацепилось за тумбу.
Эраст Петрович склонился над агентом и увидел, что единственный оставшийся глаз у того уже не испуганный, а сосредоточенно-остановившийся, будто Клюев рассматривал наверху нечто очень интересное, поинтересней, чем небо и облака.
Фандорин механически потянулся снять шляпу, но шляпы не было, ибо замечательный цилиндр так и остался в гардеробе «Альпийской розы».
Отличный выходил результат: агент убит, Кнабе ушел.
А куда, собственно, ушел? Кроме дома на Каретном резиденту пока податься некуда. Непременно должен туда наведаться, хоть на пять минут – запасные документы прихватить, деньги, компрометаж уничтожить.
Предаваться скорби было некогда. Эраст Петрович подхватил убитого подмышки и выволок из пролетки – посадил спиной к решетке.
– Ты посиди тут пока, Клюев, – пробормотал коллежский асессор и, не обращая внимания на замерших от ужаса и любопытства прохожих, полез на козлы.
У подъезда красивого доходного дома, где на третьем этаже квартировал представитель банкирского дома «Кербель унд Шмидт», стояла знакомая эгоистка. Буланый, весь в мыле, нервно переступал на месте и мотал мокрой башкой. Фандорин ринулся в подъезд.
– Стой, куда? – схватил его за руку мордатый швейцар, но немедленно, без лишних объяснений, получил кулаком в скулу и отлетел в сторону.
Наверху хлопнула дверь. Кажется, как раз на третьем! Эраст Петрович прыгал через две ступеньки. «Герсталь» держал наготове. Стрелять два раза – в правую руку и в левую. Ванду он резал правой, а стрелял левой. Значит, в равной степени владеет обеими.
А вот и дверь с медной табличкой «Hans-Georg Knabe». Фандорин рванул бронзовую ручку – не заперто. Дальше двигался быстро, но с предосторожностями. Руку с револьвером выставил вперед, предохранитель снял.
В длинном коридоре было сумрачно – свет падал только из открытого окна, расположенного в дальнем конце. Вот почему Эраст Петрович, ожидавший опасности спереди и сбоку, но никак не снизу, не заметил под ногами продолговатый предмет, споткнулся и чуть не грохнулся во весь рост. Проворно развернувшись, он изготовился стрелять, но это не понадобилось.
Ничком, откинув одну руку вперед, на полу лежала знакомая фигура в клетчатом пиджаке с задравшимися полами. Мистика, – вот первое, что подумал Эраст Петрович. Он перевернул лежащего на спину и сразу увидел деревянную рукоятку мясницкого ножа, торчавшую из правого бока. Выходило, что мистика не при чем. Резидент был убит, и, судя по пульсирующей из раны крови, убит только что.
Фандорин азартно прищурился и пробежал по комнатам. Там был разгром: все перевернуто вверх дном, книги раскиданы по полу, в спальне белой поземкой витал пух из распоротой перины. И ни души.
Эраст Петрович выглянул в окошко, предназначенное для освещения коридора, и увидел, что прямо под ним – крыша пристройки. Вон оно что!
Спрыгнув вниз, сыщик загрохотал по железу. Вид с крыши открывался замечательный: алый закат над колокольнями и башнями Москвы, и по алому – черная рябь воронья. Но коллежский асессор, в обычное время весьма чувствительный к красоте, на чудесную панораму даже не взглянул.
Странная штука. Убийца исчез, а между тем деться с крыши ему было решительно некуда. Не на небо же улетел?
Два часа спустя квартиру в Каретном было не узнать. По тесным комнатам сновали сыскные чины, сотрудники из шифровального отдела нумеровали и раскладывали по картонным папкам все обнаруженные бумажки, жандармский фотограф делал снимки трупа в разных ракурсах. Начальство – обер-полицеймейстер, глава секретного отделения губернаторской канцелярии и чиновник для особых поручений – расположились на кухне, ибо обыск там уже завершился.
– Какие соображения у господ сыщиков? – спросил Хуртинский, отправляя в ноздрю понюшку табака.
– Картина ясная, – пожал плечами Караченцев. – Имитация ограбления. Рассчитано на идиотов. Устроили разгром, а ценного ничего не взяли. И тайники не тронуты: оружие, шифровальная книга, технические средства – все на месте. Видно, надеялись, не докопаемся.
– Ап-чхи! – оглушительно чихнул надворный советник, однако пожеланий здоровья не дождался.
Генерал отвернулся от него и продолжил, обращаясь к Фандорину:
– Особенно «правдоподобная» деталь – орудие убийства. Нож взят вон оттуда. – Он показал на крючки, где были развешаны ножи разного размера. Один крючок был пуст. – Мол, грабитель схватил первое, что попалось под руку. Чисто немецкая, топорная хитрость. Удар в печень нанесен в высшей степени профессионально. Кто-то подстерегал нашего герра Кнабе в темном коридоре.
– Кто же-с? – спросил Петр Парменович, аккуратно заряжая вторую ноздрю.
Обер-полицеймейстер не снизошел до объяснения, и отвечать пришлось Эрасту Петровичу:
– Вероятно, свои. Б-больше вроде бы некому.
– Перетрусили колбасники, дипломатического конфликта боятся, – кивнул Евгений Осипович. – Ограбление, конечно фикция. К чему перину-то вспарывать? Нет, это они концы в воду. Нехорошо, майне херрен, не по-христиански – собственного резидента, как свинью на бойне. Но причину паники понимаю. Тут ведь при разоблачении не просто скандалом – войной пахнет. Зарвался капитан генерального штаба, перестарался. Излишнее рвение – штука опасная. Так ему и надо, карьеристу. Однако что ж, господа, наша работа исполнена. Картина смерти генерала Соболева прояснилась. Далее пускай высшее начальство решает. Что с Вандой-то делать?
– Она к смерти Соболева к-касательства не имеет, – сказал Фандорин. – А за свои контакты с германским резидентом наказана достаточно. Чуть жизни не лишилась.
– Не трогать певичку, – поддержал Хуртинский. – Иначе многое всплывет, что не надо бы.
– Итак, – подытожил обер-полицеймейстер, очевидно, прикидывая, как будет составлять рапорт в высшие сферы, – следствие всего за два дня полностью восстановило цепь событий. Немецкий резидент Кнабе, желая отличиться перед своим начальством, на собственный страх и риск задумал устранить лучшего русского полководца, известного своим воинствующим антигерманизмом и являющегося признанным вождем русской националистической партии. Узнав о предстоящем приезде Соболева в Москву, Кнабе подставил генералу дамочку полусвета, которой вручил склянку с неким сильнодействующим ядом. Ядом агентка не пожелала или не успела воспользоваться. В настоящее время запечатанная склянка у нее изъята и находится в московском губернском жандармском управлении. Смерть генерала произошла вследствие естественных причин, однако Кнабе об этом не знал и поспешил доложить в Берлин о проведенной акции, ожидая награды. Берлинское начальство пришло в ужас и, предвидя возможные последствия такого политического убийства, решило немедленно избавиться от чересчур ретивого резидента, что и было исполнено. Прямых поводов для дипломатического демарша в адрес германского правительства не усматривается, тем более что сам факт покушения отсутствовал. – И Евгений Осипович закончил уже обычным, не рапортным тоном. – Шустрого гауптмана погубило роковое стечение обстоятельств. Туда ему, мерзавцу, и дорога.
Хуртинский поднялся:
– Аминь. Ну, господа, вы тут заканчивайте, а я с вашего позволения откланяюсь. Его сиятельство ждет моего доклада.
До гостиницы Эраст Петрович добрался уже далеко за полночь. В коридоре перед дверью неподвижно стоял Маса.
– Господин, она опять тут, – лаконично сообщил японец.
– Кто?
– Женщина в черном. Пришла и не уходит. Я посмотрел в словаре, сказал, что вы придете неизвестно когда: «Господзин ситяс нет. Потом есчь». Она села и сидит. Три часа сидит, а я тут стою.
Эраст Петрович, вздохнув, приоткрыл дверь и заглянул в щель. У стола, сложив руки на коленях, сидела золотоволосая девушка в траурном платье и широкополой шляпе с черной вуалью. Было видно опущенные длинные ресницы, тонкий нос с легкой горбинкой, точеный овал лица. Услышав скрип, незнакомка подняла глаза, и Фандорин замер – до того они были прекрасны. Инстинктивно отпрянув от двери, коллежский асессор прошипел:
– Маса, ты же говорил, немолодая. Ей не больше двадцати пяти!
– Европейские женщины так старо выглядят, – покачал головой Маса. – Да и потом, господин, разве двадцать пять лет – это молодая?
– Ты говорил, некрасивая!
– Некрасивая и есть, бедняжка. Желтые волосы, большой нос и водянистые глаза – совсем, как ваши, господин.
– Ну да, – прошептал уязвленный Эраст Петрович, – ты один у нас красавец.
И, еще раз глубоко вздохнув, но уже совсем в другом смысле, вошел в комнату.
– Господин Фандорин? – спросила девушка, порывисто поднимаясь. – Ведь это вы ведете расследование обстоятельств смерти Михаила Дмитриевича Соболева? Мне сказал Гукмасов.
Эраст Петрович, молча поклонившись, вгляделся в лицо незнакомки. Сочетание воли и хрупкости, ума и женственности – такое в девичьих чертах увидишь не часто. Пожалуй, барышня чем-то напоминала Ванду, только в линии рта не было ни малейших признаков жесткости и циничной насмешливости.
Ночная посетительница приблизилась к молодому человеку вплотную, заглянула ему в глаза и дрожащим не то от сдерживаемых слез, не то от ярости голосом спросила:
– Известно ли вам, что Михаила Дмитриевича убили? Фандорин нахмурился.
– Да-да, его убили, – Глаза девушки лихорадочно блестели. – Из-за этого проклятого портфеля!
Глава седьмая, в которой все скорбят, а Фандорин попусту теряет время
В воскресенье с раннего утра по безмятежному, белесому от яркого солнца московскому небу плыл неумолчный колокольный звон. И день вроде бы выдался погожий, и золотые луковки бесчисленных храмов сияли так, что хоть зажмурься, а тоскливо и холодно было на душе у раскинувшегося на невысоких холмах города. Уныло, скучно гудели прославленные колокола – это Москва печалилась молебствием об упокоении новопреставленного раба Божия Михаила.
Усопший подолгу живал в Петербурге, в древней столице бывал только наездами, однако же Москва любила его сильней, чем холодный чиновный Питер, любила самозабвенно, по-бабьи, не очень задумываясь о достоинствах своего кумира. Достаточно того, что был он хорош собой и славен победами, а более всего полюбился москвичам Соболев тем, что чувствовали они в нем истинно русского человека, без чужестранных фанаберии и экивоков. Потому-то и висели литографии с Белым Генералом в размашистой бороде и с вострой саблей наголо чуть не в каждом доме Москвы – и у мелкого чиновничества, и у купцов, и у мещанства.
Такой скорби город не выказывал и в прошлом марте, когда служили панихиды по злодейски убиенному императору Александру Освободителю и целый год потом ходили в трауре – не наряжались, гуляний не устраивали, причесок не делали и комедий не играли.
Еще задолго до того, как через весь центр отправилась похоронная процессия к Красным Воротам, где в храме Трех Святителей должно было состояться отпевание, тротуары, окна, балконы и даже крыши по Театральному проезду, Лубянке и Мясницкой были сплошь запружены зрителями. Мальчишки расположились на деревьях, а самые отчаянные – на водосточных трубах. По всему пути следования катафалка выстроились шпалерами войска гарнизона и воспитанники Александровского и Юнкерского училищ. На Рязанском вокзале уж дожидался траурный поезд из пятнадцати вагонов, разукрашенных флагами, георгиевскими крестами и дубовыми листьями.
Раз Петербург не пожелал проститься с героем – ему поклонится Русь-матушка, самое сердце которой расположено меж Москвой и Рязанью, где в селе Спасском Раненбургского уезда Белому Генералу суждено было обрести вечное успокоение.
Шествие растянулось на добрую версту: одних подушек с орденами покойного было за два десятка. Звезду Святого Георгия первой степени нес командующий Петербургским военным округом генерал-от-инфантерии Ганецкий. А венков-то, венков! Саженный от торговцев Охотного Ряда, да от Английского клуба, да от Московской мещанской управы, да от георгиевских кавалеров – всех и не перечислишь. Перед катафалком – орудийным лафетом, застланным малиновым бархатом и увенчанным золотым балдахином, – ехали герольды с перевернутыми факелами, потом распорядители похорон: генерал-губернатор и военный министр. Позади гроба, в одиночестве, на вороной арабской кобыле следовал брат и личный представитель государя великий князь, Кирилл Александрович. За ним адъютанты вели под уздцы под траурной попоной белоснежного Баязета, знаменитого Соболевского ахалтекинца. А далее маршировал замедленным шагом почетный караул, несли еще венки, поскромнее, и шли с обнаженными головами важнейшие гости – сановники, генералы, гласные городской Думы, денежные тузы. Величественное было зрелище, даже и сравнить не с чем.
Июньское солнце словно устыдилось своей неуместной лучезарности и укрылось за тучами, день посерел, и, когда процессия достигла Красных Ворот, где всхлипывала и крестилась стотысячная толпа, заморосил мелкий, плаксивый дождик. Природа пришла в гармонию с настроением общества.
Фандорин продирался через густую толпу, пытаясь разыскать обер-полицеймейстера. В восьмом часу, ни свет ни заря, явился к генералу домой, на Тверской бульвар, да опоздал – сказали, что его превосходительство уже отбыл к Дюссо. Шутка ли – такой день, такая ответственность. И все на нем, на Евгении Осиповиче.
Далее потянулась череда невезения. У выхода из гостиницы «Дюссо» жандармский капитан сказал Эрасту Петровичу, что генерал «вот только сию минуту был и ускакал в управление». В управлении на Малой Никитской Караченцева тоже не оказалось – умчался наводить порядок перед храмом, где грозила начаться давка.
Решить неотложную, жизненно важную проблему мог бы генерал-губернатор. Того и искать не надо было – вон он, отовсюду виден: сидит бронзовой конногвардейской посадкой на сером в яблоках жеребце, возглавляет траурную процессию. Поди-ка к нему подступись.
В церкви Трех Святителей, куда Фандорин проник лишь благодаря кстати подвернувшемуся Князеву секретарю, дела обстояли не лучше. Использовав науку «крадущихся», Эраст Петрович протиснулся чуть ли не к самому фобу, но дальше спины смыкались сплошной стеной. Владимир Андреевич стоял рядом с великим князем и герцогом Лихтенбургским торжественный, припомаженный, со старческой слезой в выпученных глазах. Поговорить с ним не было никакой возможности, а если б и была, вряд ли он сейчас оценил бы срочность дела.
Злясь от бессилия, Фандорин прослушал трогательную речь преосвященного Амвросия, толковавшего о неисповедимости путей Господних. Бледный от волнения кадетик продекламировал звонким голосом длинную стихотворную эпитафию, которая заканчивалась словами:
И не его ль кичливый враг
Как грома Божия боялся?
Пускай теперь он тлен и прах,
Но дух героя в нас остался!
Все вокруг снова, уж не в первый и не второй раз, прослезились. Зашаркали, полезли за носовыми платками. Церемония разворачивалась с подобающей случаю неспешностью.
А время между тем уходило.
* * *
Минувшей ночью Фандорину открылись новые обстоятельства, представившие дело в совершенно ином свете. Ночная гостья, которую непривычный к европейскому канону слуга счел немолодой и некрасивой, а его склонный к романтизму господин – интригующей и прекрасной, оказалась преподавательницей минской женской гимназии Екатериной Александровной Головиной. Несмотря на хрупкую конституцию и явно расстроенные чувства, Екатерина Александровна выражалась с несвойственной для гимназических учительниц решительностью и прямотой – то ли от природы была такова, то ли горе ожесточило.
– Господин Фандорин, – начала она, с нарочитой ясностью выговаривая каждый слог, – я сразу должна объяснить вам, какого рода отношения связывали меня с… с… покойным. – Это слово ей никак не давалось. По высокому, чистому лбу пролегла страдальческая линия, но голос не дрогнул. Спартанка, подумал Эраст Петрович. Как есть спартанка. – Иначе вы не поймете, почему я знаю то, что не было известно никому другому, в том числе ближайшим помощникам Михаила Дмитриевича. Мы с Мишелем любили друг друга. – Госпожа Головина испытующе посмотрела на Фандорина и, очевидно не удовлетворенная вежливо-внимательным выражением его лица, сочла нужным уточнить. – Я была его возлюбленной.
Екатерина Александровна прижала к груди сжатые в кулачки руки и в этот момент вновь показалась Эрасту Петровичу похожей на Ванду, когда та говорила о свободной любви – то же выражение вызова и готовности к оскорблению. Коллежский асессор смотрел на барышню все так же – вежливо и без малейшего осуждения. Та вздохнула и пояснила тупице еще раз:
– Мы жили как муж и жена, понимаете? Поэтому со мной он был откровенней, чем с другими.
– Я это понял, сударыня, п-продолжайте. – впервые разомкнул уста Эраст Петрович.
– Но ведь вы знаете, что у Мишеля была законная супруга, – все-таки сочла нужным уточнить Екатерина Александровна, всем видом показывая, что желает избежать каких-либо недомолвок и своего статуса ничуть не стыдится.
– Знаю, урожденная княжна Титова. Однако Михаил Дмитриевич с ней давно расстался, она даже на похороны не п-приехала. Вы рассказывайте про портфель.
– Да-да, – сбилась Головина. – Но я хочу по порядку. Потому что должна сначала объяснить… Месяц назад у нас с Мишелем произошла ссора… – Она вспыхнула. – В общем, мы расстались и с тех пор не виделись. Он уехал на маневры, потом вернулся на день в Минск и сразу…
– Мне известны передвижения Михаила Дмитриевича за последний месяц, – учтиво, но непреклонно вернул собеседницу к главному Фандорин.
Та помедлила и вдруг отчеканила:
– А известно ли вам, сударь, что в мае Мишель обратил в наличность все свои акции и ценные бумаги, забрал со счетов все деньги, сделал закладную на свое рязанское имение, да еще взял большую ссуду в банке?
– Для чего? – нахмурился Эраст Петрович. Екатерина Александровна потупилась.
– Этого я не знаю. У него было какое-то тайное и очень важное для него дело, в которое он не желал меня посвящать. Я сердилась, мы ссорились… Я никогда не разделяла политических взглядов Мишеля – Россия для русских, объединенное славянство, собственный неевропейский путь и прочая дикость. Наша последняя, окончательная ссора тоже была отчасти вызвана этим. Но было и другое… Я чувствовала, что перестала занимать главное место в его жизни. Там появилось что-то более значительное, чем я… – Она покраснела. – А может быть, не что-то, а кто-то… Ладно, это несущественно. Существенно другое. – Головина понизила голос. – Все деньги лежали в портфеле, который Мишель купил в Париже, во время своего февральского турне. Коричневый, кожаный, с двумя серебряными замками, запирающимися на маленькие ключики.
Фандорин прищурился, пытаясь вспомнить, был ли такой портфель среди вещей покойного во время осмотра номера 47. Нет, определенно не было.
– Он говорил мне, что деньги ему понадобятся для поездки в Москву и Петербург, – продолжила учительница. – Поездка должна была состояться в конце июня, сразу по завершении маневров. Вы ведь не нашли портфель в его вещах?
Эраст Петрович отрицательно покачал головой.
– И Гукмасов говорит, что портфель пропал. Мишель все время не выпускал его из рук, а в гостиничном нумере запер в сейф – Гукмасов сам это видел. Однако потом… уже после…, когда Прохор Ахрамеевич открыл сейф, там были только какие-то бумаги, а портфеля не было. Гукмасов не придал этому значения, потому что был в потрясении, да и вообще не знал, какая в портфеле была сумма.
– К-какая же? – спросил Фандорин.
– Насколько мне известно, более миллиона рублей, – тихо произнесла Екатерина Александровна.
Эраст Петрович от удивления присвистнул, за что немедленно извинился. Все эти новости ему решительно не нравились. Тайное дело? Какое может быть тайное дело у генерал-адъютанта, генерала-от-инфантерии и командующего корпусом? И что это за бумаги, которые, оказывается, лежали в сейфе? Когда Фандорин в присутствии обер-полицеймейстера заглянул туда, сейф был совершенно пуст. Почему Гукмасов решился утаить бумаги от следствия? Это ведь не шутки. И главное – огромная, просто невероятная сумма! Зачем она понадобилась Соболеву? А центральный вопрос – куда исчезла?
Глядя в озабоченное лицо коллежского асессора, Екатерина Александровна заговорила быстро, страстно:
– Его убили, я знаю. Из-за этого проклятого миллиона. А потом каким-то образом изобразили смерть от естественных причин. Мишель был сильный, настоящий богатырь, его сердце выдержало бы сто лет битв и потрясений, он был создан для потрясений!
– Да, – участливо кивнул Эраст Петрович, – все это говорят.
– Я потому и не настаивала на браке, – не слушая, продолжила порозовевшая от бурных эмоций Головина, – что чувствовала: я не имею права, у него другая миссия, он не может принадлежать одной женщине, а объедков мне не надо… Господи, о чем я! Простите… – Она закрыла глаза рукой и дальше говорила уже медленней, через силу. – Когда вчера пришла телеграмма от Гукмасова, я сразу бросилась на вокзал. Я и тогда не поверила в паралич сердца, а когда узнала про исчезновение портфеля… Он убит, это несомненно. – Внезапно она схватила Фандорина за руку, и он подивился, сколько силы в ее тонких пальцах. – Найдите убийцу! Прохор Ахрамеевич говорит, что вы аналитический гений, что вы все можете. Сделайте это! Он не мог умереть от разрыва сердца. Вы не знали этого человека, как его знала я!
Тут она наконец разрыдалась, по-детски ткнувшись лицом в грудь коллежскому асессору. Неловко обнимая барышню за плечи, Эраст Петрович вспомнил, как совсем недавно, при совершенно иных обстоятельствах, обнимал Ванду. Такие же хрупкие, беззащитные плечи, такой же аромат от волос. Пожалуй, понятно, почему Соболев увлекся певицей – он не могла не напомнить генералу его минскую любовь.
– Так, как вы, я его, разумеется, не знал, – мягко сказал Фандорин. – Но я знал Михаила Дмитриевича достаточно, чтобы усомниться в естественности его кончины. Люди его склада своей смертью не умирают.
Эраст Петрович усадил сотрясающуюся от рыданий девицу в кресло, а сам прошелся по комнате и вдруг восемь раз подряд громко хлопнул в ладоши.
Екатерина Александровна дернулась и испуганно воззрилась на молодого человека сияющими от слез глазами.
– Не обращайте внимания, – поспешил успокоить ее Фандорин. – Это восточное упражнение д-для концентрации. Помогает отмести второстепенное и сосредоточиться на основном. Идемте.
Он решительно вышел в коридор, оторопевшая от неожиданности Головина бросилась следом. На ходу Эраст Петрович бросил дожидавшемуся за дверью Масе:
– Возьми саквояж с инструментами и догоняй.
Полминуты спустя, когда Фандорин и его спутница еще спускались по лестнице, японец уже был тут как тут – мелко переступая, пыхтел хозяину в затылок. В руке у слуги был маленький саквояж, в котором хранился весь потребный для расследования инструментарий – множество полезных и даже незаменимых для сыщика предметов.
В вестибюле Эраст Петрович подозвал ночного портье и велел открыть 47-ой.
– Никак невозможно, – развел руками служитель. – Господа жандармы навесили печать, а ключ изъяли-с. – Он понизил голос. – Там же покойник, царствие ему небесное. На рассвете их прибирать придут. С утра-то похороны.
– Печать? Хорошо хоть почетный к-караул не приставили, – пробурчал Фандорин. – Вот глупо было бы – почетный караул в спальне. Ладно, сам открою. Ступай за мной, зажжешь там свечи.
Войдя в «соболевский» коридор, коллежский асессор бестрепетной рукой сорвал с двери сургуч, вынул из саквояжа связку отмычек и через минуту уже был в нумере.
Портье, опасливо косясь на закрытую дверь спальни и мелко крестясь, зажег свечи. Екатерина Александровна тоже смотрела на белый прямоугольник, за которым лежало набальзамированное тело. Взгляд ее зачарованно замер, губы беззвучно шевелились, однако Фандорину сейчас было не до учительницы и ее переживаний – он работал. Со второй печатью он расправился столь же бесцеремонно, а отмычка не понадобилась – спальня была не заперта.
– Ну, что встал? – нетерпеливо оглянулся Эраст Петрович на служителя. – Свечи неси.
И вошел в царство смерти.
Гроб, слава Богу, был закрыт – иначе, пожалуй, пришлось бы не дело делать, а с барышней возиться. У изголовья лежал раскрытый молитвенник и оплывала толстая церковная свеча.
– Сударыня, – крикнул Фандорин, оборотившись к гостиной. – Вас прошу сюда не входить. Помешаете. – И по-японски Масе. – Живо фонарь!
Вооружившись английским электрическим фонариком, сразу же двинулся к сейфу. Посветил на замочную скважину, кинул через плечо:
– Лупу номер четыре.
Так-так. Крепко дверцу похватали – вон сколько отпечатков. В позапрошлом году, в Японии, Эраст Петрович при помощи профессора Гардинга весьма удачно провел расследование загадочного двойного убийства в английском сеттльменте, сняв на месте преступления отпечатки пальцев. Новая метода произвела настоящий фурор, однако для устройства в России дактилоскопической лаборатории и картотеки надобны годы. Ах, жалко – такие отчетливые следы. И как раз возле замочной скважины. Ну-ка, что там у нас внутри?
– Лупу номер шесть.
В сильном увеличении были отчетливо видны свежие царапины – стало быть, открывали не ключом, а отмычкой. И еще, странное дело, в скважине остались следы какого-то белого вещества. Фандорин подцепил миниатюрным пинцетом, рассмотрел. Кажется, воск. Любопытно.
– Он сидел там? – раздался сзади тонкий, напряженный голос.
Эраст Петрович досадливо обернулся. В дверях стояла Екатерина Александровна, зябко обхватив себя за локти. На гроб барышня не смотрела, даже старалась от него отвернуться, а разглядывала кресло, в котором якобы умер Соболев. Вот уж ни к чему ей знать, где это произошло на самом деле, подумал Фандорин.
– Я просил вас сюда не входить! – сурово прикрикнул он на учительницу, потому что в подобной ситуации строгость действует лучше, чем сочувствие. Пусть вспомнит возлюбленная павшего генерала, зачем они пришли сюда среди ночи. Вспомнит и возьмет себя в руки. Головина молча повернулась и вышла в гостиную.
– Присядьте! – громко сказал Фандорин. – Это может затянуться.
Тщательный осмотр номера занял более двух часов. Портье давно перестал пугаться гроба, примостился в углу и затих, клюя носом. Маса ходил тенью за хозяином, мурлыча песенку, и время от времени подавал нужные инструменты. Екатерина Александровна в спальне более не показывалась. Фандорин раз выглянул – сидит за столом, уткнулась лбом в скрещенные руки. Словно почувствовав устремленный на нее взгляд, вскинулась, обожгла Эраста Петровича глазищами, но ни о чем не спросила.
Лишь на рассвете, когда фонарь стал уже не нужен, Фандорин нашел зацепку. На подоконнике крайнего левого окна просматривался слабый отпечаток подошвы – узкой, словно бы женской, однако обувь была явно мужская, в лупу удалось даже разглядеть едва обозначившийся узор из крестов и звездочек. Эраст Петрович поднял голову. Форточка приоткрыта. Если б не след, он не придал бы этому никакого значения – больно узок лаз.
– Эй, любезный, просыпайся-ка, – позвал он сонного портье. – В нумере уборку делали?
– Никак нет, – ответил тот, протирая глаза. – Какая уборка. Сами изволите видеть. – И мотнул головой на гроб.
– А окна открывали?
– Не могу знать. Только навряд. Где покойник лежит, окон не открывают.
Эраст Петрович осмотрел и остальные два окна, но ничего примечательного больше не обнаружил.
В половине пятого осмотр пришлось прекратить. Явился гример с помощниками – готовить Ахиллеса к последней поездке на колеснице.
Коллежский асессор отпустил служителя и распрощался с Екатериной Александровной, так ничего ей и не сказав. Она крепко пожала ему руку, пытливо посмотрела в глаза и сумела обойтись без лишних слов. Сказано – спартанка.
Эрасту Петровичу не терпелось остаться одному – обдумать результаты обыска, выработать план действий. Несмотря на бессонную ночь, спать совсем не хотелось, да и усталости никакой не ощущалось. Вернувшись к себе, Фандорин стал анализировать.
Вроде бы не так уж много дал ночной осмотр 47-го номера, а между тем картина вырисовывалась довольно ясная.
Признаться, поначалу версия о том, что народного героя убили из-за денег, показалась Эрасту Петровичу невероятной и даже дикой. Но ведь влез кто-то в номер через форточку в ту самую ночь, вскрыл сейф и портфель похитил. И политика тут не при чем. Вор не взял хранившихся в несгораемом ящике бумаг, хотя бумаги эти были настолько важны, что Гукмасов счел необходимым изъять их до появления властей. Получается, что взломщик интересовался только портфелем?
Что примечательно: вор знал, что Соболева ночью в номере нет и что он внезапно не вернется – сейф вскрывался обстоятельно, не спеша. Самое же знаменательное то, что обкраденный сейф не был оставлен нараспашку, а аккуратно закрыт, на что, как известно, требуется гораздо больше времени и сноровки, чем на вскрытие. Зачем понадобился лишний риск, если пропажа портфеля все равно будет постояльцем обнаружена? И к чему вылезать через форточку, когда можно бы через окно? Выводы…
Фандорин встал и прошелся по комнате.
Похититель знал, что Соболев к себе уже не вернется. Во всяком случае, живым. Это раз.
Знал он и то, что никто кроме генерала хватиться портфеля не может, так как о миллионе известно только самому Соболеву. Это два.
Все это подразумевает какой-то совершенно фантастический уровень осведомленности. Это три.
Ну, и, разумеется, четыре: вора необходимо разыскать. Хотя бы потому, что он, возможно, не только вор, но и убийца. Миллион – это стимулус серьезный.
Легко сказать – разыскать. Но как?
Эраст Петрович сел к столу и придвинул пачку писчей бумаги.
– Кисть и тушечницу? – подлетел Маса, до сей минуты неподвижно стоявший у стены и даже сопевший тише обычного, чтобы не мешать хозяину в постижении смысла Великой Спирали, на которую нанизаны все сущие причины и следствия, как очень большие, так и совсем маленькие. Фандорин кивнул, продолжая размышлять.
Время дорого. Кто-то вчера ночью разбогател на целый миллион. Возможно, вор со своей добычей уже очень далеко. Но если умен – а по всему видно, что человечек ушлый, – то резких движений не делает и затаился.
Кто может знать профессиональных медвежатников? Его превосходительство Евгений Осипович. Нанести визит? Так ведь спит генерал, набирается сил перед многотрудным днем. И потом, не хранит же он картотеку преступников у себя на дому. А в Сыскном в такую рань тоже никого не будет. Ждать, пока начнется присутствие?
Ох, да есть ли у них картотека? Раньше, когда Фандорин сам работал в Сыскном, таких тонкостей в заводе не было. Нет, до утра ждать не стоит.
Маса тем временем быстренько растер в квадратной лаковой мисочке сухую палочку туши, капнул воды, обмакнул кисточку и почтительно протянул Фандорину, а сам встал сзади, чтобы не отвлекать хозяина от каллиграфического упражнения.
Эраст Петрович медленно поднял кисточку, секунду повременил и тщательно вывел на бумаге иероглиф «терпение», стараясь думать только об одном – чтобы знак получился идеальным. Вышло черт-те что: линии натужные, элементы дисгармонируют, сбоку клякса. Скомканный лист полетел на пол. За ним последовал второй, третий, четвертый. Кисть двигалась все быстрее, все уверенней. В восемнадцатый раз иероглиф получился совершенно безупречным.
– На, сохрани. – Фандорин передал шедевр Масе.
Тот полюбовался, одобрительно почмокал и уложил листок в специальную папочку из рисовой бумаги.
А Эраст Петрович уже знал, что надо делать. На душе от простого и правильного решения сделалось спокойно. Правильные решения, они всегда просты. Сказано ведь: благородный муж не приступает к незнакомому делу, пока не наберется мудрости у учителя.
– Собирайся, Маса, – сказал Фандорин. – Мы едем в гости к моему старому учителю.
Ксаверий Феофилактович Грушин, бывший следственный пристав Сыскного управления, – вот кто ценнее любой картотеки. Под его отеческой, нестрогой опекой начинал юный Эраст Петрович свою сыщическую карьеру. Недолго довелось вместе прослужить, а научился многому. Стар Грушин, давно в отставке, но всю воровскую Москву знает, изучил за многолетнюю службу и вдоль и поперек. Бывало, идет с ним двадцатилетний Фандорин по Хитровке или, скажем, по разбойничьей Грачевке и только диву дается. Подходят к приставу то бандитские рожи, то кошмарные оборванцы, то напомаженные щеголи с убегающим взглядом, и каждый снимает шапку, кланяется, приветствует. С одним Ксаверий Феофилактович пошепчется, другому беззлобно по уху съездит, с третьим поздоровается за руку. И тут же, малость отойдя, объяснит зеленому письмоводителю: «Это Тишка Сырой, поездошник – у вокзалов промышляет, чемоданы из пролеток на ходу выхватывает. А это Гуля, сменщик первоклассный». «Сменщик?» – робко переспросил Эраст Петрович, оглядываясь на приличного с виду господина в котелке и с тросточкой. «Ну да, золотишко с рук продает. Очень ловко настоящее кольцо на подделку меняет. Покажет золото, а всунет золоченую медяшку. Почтенное ремесло, большого навыка требует». Остановится Грушин подле «играющих» – тех, кто простаков в три наперстка чистит, – и показывает: «Видите, юноша, Степка хлебный шарик под левый колпачок положил? Так не верьте глазам своим – шарик у него к ногтю приклеен, и под наперстком никогда не останется». «Что ж мы не арестуем их, мошенников!» – горячо восклицал Фандорин, а Грушин только ухмылялся: «Всем жить надо, голубчик. Я только одного требую – чтоб совесть помнили и догола никого не раздевали».
У воровской Москвы пристав пользовался особым уважением – за справедливость, за то, что всякой птахе жить дает, а особо за бескорыстие. Не брал Ксаверий Феофилактович мзды, не то что другие полицианты, а потому каменных палат не нажил и, выйдя на пенсию, поселился в скромном замоскворецком домишке с огородом. Служа в далекой Японии по дипломатическому ведомству, Эраст Петрович время от времени получал весточки от своего прежнего начальника, а по переводе в Москву собирался непременно нанести ему визит, как только немного обустроится. Но выходило, что наведаться придется прямо сейчас.
Когда извозчичья пролетка грохотала по Москворецкому мосту, залитому самым первым, неуверенным утренним светом, Маса озабоченно спросил:
– Господин, а Гурусин-сэнсэй – он просто сэнсэй или онси ?
И пояснил свое сомнение, осуждающе качая головой:
– Для почтительного визита к сэнсэю еще слишком рано, а для почтительнейшего визита к онси тем более.
Сэнсэй – это просто учитель, а онси – нечто неизмеримо большее: учитель, к которому испытываешь глубокую и искреннюю благодарность.
– Пожалуй, что онси , – Эраст Петрович посмотрел на красную, в полнебосвода, полосу рассвета и легкомысленно признал. – Рановато, конечно. Ну да у Грушина, поди, все равно бессонница.
Ксаверий Феофилактович и в самом деле не спал. Он сидел у окошка маленького, но зато собственного домика, расположенного в переулочном лабиринте между двумя Ордынками, и предавался размышлениям о странных особенностях сна. То, что к старости человек спит меньше, чем в молодости, это, с одной стороны, вроде бы разумно и правильно. Чего попусту время тратить – все равно скоро отоспишься. С другой стороны, в молодости время куда как нужней. Бывало, носишься весь день с утра до ночи, с ног сбиваешься, еще бы часок-другой, и все дела бы переделал, а восемь часов подушке отдай. Такая иной раз жаль брала, да ничего не попишешь – природа своего требует. Теперь же вот вечерком часок-другой в палисадничке подремлешь и потом хоть всю ночь глаз не смыкай, а занять-то себя и нечем. Нынче новые времена, новые порядки. Списали старого конягу доживать в теплом стойле. Оно, конечно, спасибо, грех жаловаться. Только скучно. Супруга, земля ей пухом, третий год как преставилась. Единственная дочь Сашенька выскочила замуж за вертопраха-мичмана и уехала с мужем за тридевять земель, в город Владивосток. Кухарка Настасья, конечно, и сготовит, и обстирает, но поговорить-то ведь тоже хочется. Только о чем с ней, дурой, говорить? О ценах на керосин и семечки?
А ведь мог бы еще пригодиться Грушин, ох как мог бы. И сила пока не вся вышла, и мозги, слава Богу, не заржавели. Прокидаетесь, господин полицмейстер. Много злодеев-то наловили с вашими бертильонажами дурацкими? По Москве пройти стало боязно – вмиг кошелек умыкнут, а по вечернему времени и свинчаткой по башке очень даже запросто получить можно.
От мысленного препирательства с бывшим начальством Ксаверий Феофилактович обычно переходил к унынию. Отставной пристав был с собой честен: служба без него худо-бедно обойдется, а вот ему без нее тоска. Эх, бывало, выедешь с утра на расследование, внутри все звенит, будто пружину какую сжали до невозможности. Голова после кофею и первой трубочки ясная, мысли сами всю линию действий выстраивают. Это получается, и было счастье, это и была настоящая жизнь. Господи, вроде немало пожил-пережил, а пожить бы еще, вздохнул Грушин, неодобрительно глядя на выглянувшее из-за крыш солнце – снова будет долгий, пустой день.
И услышал Господь. Прищурил Ксаверий Феофилактович дальнозоркие глаза на немощеную улицу – вроде коляска пылит со стороны Пятницкой. Седоков двое: один при галстуке, второй, низенький, в чем-то зеленом. Кто бы это с утра пораньше?
После непременных объятий, поцелуев и расспросов, на которые Грушин отвечал крайне пространно, а Фандорин крайне коротко, перешли к делу. В подробности истории Эраст Петрович вдаваться не стал, тем более умолчал о Соболеве – лишь обрисовал условия задачи.
В некой гостинице обчищен сейф. Почерк такой: замок вскрыт не слишком аккуратно – судя по царапинам, вор провозился изрядно. Характерная особенность: в скважине следы воска. Преступник отличается редкостной субтильностью конституции – пролез в форточку размером семь дюймов на четырнадцать. Был обут в сапоги или штиблеты с узором на подошве в виде крестиков и звездочек, стопа длиной предположительно девять дюймов, шириной – чуть менее трех… Закончить перечень условий задачки Фандорин не успел, потому что Ксаверий Феофилактович вдруг перебил молодого человека:
– Сапоги.
Коллежский асессор испуганно покосился на дремавшего в углу Масу. Не зря ли приехали, не выжил ли старый онси из ума?
– Что?
– Сапоги, – повторил пристав. – Не штиблеты. Хромовые сапоги, с зеркальным блеском. Других не носит.
У Фандорина внутри все так и замерло. Он осторожненько, словно опасаясь вспугнуть, спросил:
– Неужто знакомый субъект?
– Отлично знаком. – Грушин довольно улыбнулся всем своим мягким, морщинистым лицом, на котором кожи было много больше, чем требовалось черепу. – Это Миша Маленький, больше некому. Только странно, что долго с сейфом возился, ему гостиничный сейф вскрыть – пара пустяков. Из медвежатников только Миша в фортку пролезает, и отмычки у него всегда воском смазаны – чувствительный очень, скрипу не выносит.
– Миша Маленький? Кто т-таков?
– Ну как же. – Ксаверий Феофилактович развязал кисет с табачком, не спеша набил трубку. – Король московских «деловых». Первостатейный бомбер по сейфам, и мокрушными гешефтами не брезгует. А также «кот», перекупщик краденого и главарь шайки. Широкого профиля мастер, уголовный Бенвенуто Челлини. Маленького росточка – два аршина и два вершка. Щупленький. Одевается с шиком. Хитер, изворотлив и по-звериному жесток. Личность на Хитровке очень даже известная.
– Такая знаменитость и не на каторге? – удивился Фандорин.
Пристав хмыкнул, с наслаждением присосался к трубке – первая утренняя затяжка, она самая сладкая.
– Поди-ка, посади его. У меня не вышло, и навряд ли у нынешних получится. Он, мерзавец, своих человечков в полиции имеет – это уж наверняка. Сколько раз я пытался его прищучить. Какой там! – Грушин махнул рукой. – Уходит от любой облавы. Предупреждают, доброхоты. Да и боятся Мишу, ох как боятся. Шайка у него – душегуб на душегубе. Уж на что меня на Хитровке уважают, но про Мишу Маленького всегда молчок, хоть клещами рви. И то я ведь клещами рвать не буду, самое худое в зубы дам, а Миша потом не то что клещами, щипчиками раскаленными на кусочки расковыряет. Раз, тому четыре года, совсем я было к нему подобрался. Девку одну из его марух обработал, хорошая была девка, не совсем еще пропащая. Так перед самым делом, как мне Мишу в ихнем бандитском схроне брать, подбрасывают прямо к Сыскному мешок. А в нем моя осведомительница – внарезку распиленная, на двенадцать ломтей… Эх, Эраст Петрович, душа моя, я бы такого порассказал про его художества, да у вас, как я понимаю, времени нет. Иначе не приехали бы в полшестого утра.
И Ксаверий Феофилактович, гордый своей проницательностью, хитро сощурился.
– Мне очень нужен Миша Маленький, – нахмурившись, сказал Фандорин. – Это представляется невероятным, но он каким-то образом связан с… Впрочем, не имею права… Однако же, уверяю вас, что дело г-государственной важности и притом великой срочности. Вот поехать бы прямо сейчас и взять вашего Бенвенуто, а?
Грушин развел руками:
– Ишь чего захотели. Я на Хитровке все ходы-выходы знаю, а где Миша Маленький ночует, мне неведомо. Тут генеральная облава нужна. Только чтоб с самого верху шло, без приставов и квартальных – упредят. Оцепить всю Хитровку, и хорошенько, не спеша поработать. Глядишь, не самого Мишу, так кого-то из его шайки или марух подцепим. Но для этого потребно с полтыщи стражников, не меньше. И чтоб до последней минуты не знали, зачем. Это уж беспременно.
* * *
Вот и рыскал Эраст Петрович с самого утра по охваченному скорбью городу, вот и метался меж Тверским бульваром и Красными Воротами, разыскивая самое что ни на есть высокое начальство. Уходило драгоценное время, уходило! С таким баснословным кушем мог Миша Маленький уже рвануть в веселый город Одессу, или в Ростов, или в Варшаву. Империя-то большая, есть где погулять фартовому человеку. С позавчерашней ночи сидит Миша на добыче, какая ему никогда и не снилась. По разумному, выждать бы маленько надо, притихнуть, поглядеть – будет шум или нет. Миша – калач тертый, все это наверняка понимает. Да только жгут ему бандитское сердце этакие деньги. Не выдержит долго – в отрыв уйдет. Если уже не ушел. Ах, как некстати с этими похоронами…
Один раз, когда к гробу шагнул Кирилл Александрович и в церкви воцарилась почтительная тишина, Фандорин поймал на себе взгляд генерал-губернатора и отчаянно закивал головой, дабы привлечь к себе внимание его сиятельства, но князь ответил таким же киванием, тяжко вздохнул и скорбно воззрился на пылающую свечами люстру. Зато жестикуляция коллежского асессора была замечена его высочеством герцогом Лихтенбургским, который стоял среди всей этой византийской позолоты с видом несколько сконфуженным, крестился не так, как все, а слева направо и вообще, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке. Чуть приподняв бровь, Евгений Максимилианович задержал взгляд на делающем какие-то знаки чиновнике и, немного подумав, тронул пальцем за плечо Хуртинского, чей прилизанный зачес выглядывал поверх губернаторского эполета. Петр Парменович оказался сообразительней своего начальника: вмиг понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, и ткнул подбородком в сторону бокового выхода – мол, туда пожалуйте, там и поговорим.
Эраст Петрович снова заскользил через густую толпу, но уже в ином направлении – не к центру, а наискосок, так что теперь получалось быстрее. И все время, пока коллежский асессор протискивался через скорбящих, под сводами храма звучал глубокий, мужественный голос великого князя, которого все слушали с особенным вниманием. Дело было не только в том, что Кирилл Александрович – родной и любимый брат государя. Многим из присутствующих на панихиде было отлично известно, что этот красивый, статный генерал с немного хищным, ястребиным лицом не просто командует гвардией, а, можно сказать, является истинным правителем империи. Он шефствует и над военным министерством, и над Департаментом полиции, и, что еще существенней, над Отдельным корпусом жандармов. Самое же главное то, что царь, как поговаривали, не принимает ни одного сколько-нибудь важного решения, предварительно не обсудив его с братом. Пробираясь к выходу, Эраст Петрович прислушивался к речи великого князя и думал, что природа сыграла с Россией недобрую шутку: родиться бы одному брату на два года ранее, а другому на два года позднее, и самодержцем всероссийским стал бы не медлительный, вялый, угрюмый Александр, а умный, дальновидный и решительный Кирилл. Ах, как изменилась бы сонная русская жизнь! А как засверкала бы держава на мировой арене! Но нечего зря сетовать на природу и, если уже пенять, то не ей, матушке, а Провидению. Провидение же ничего без высшего резону не вершит, и если не суждено империи воспрянуть по мановению нового Петра, то, стало быть, не нужно это Господу. Готовит Он Третьему Риму какую-то иную, неведомую участь. Хорошо бы радостную и светлую. При этой мысли Фандорин перекрестился, что делал крайне редко, но движение это не привлекло ничьего внимания, ибо все вокруг осеняли себя крестом поминутно. Может быть, думали о том же?
Славно говорил Кирилл – весомо, благородно, не казенно:
– …Многие сетуют на то, что этот доблестный герой, надежда русской земли, ушел от нас так внезапно и – что уж кривить душой – нелепо. Тот, кого называли Ахиллесом за легендарную воинскую удачливость, много раз спасавшую его от неминуемой гибели, пал не на поле брани, а умер тихой, сугубо статской смертью. Но так ли это? – Голос зазвенел античной бронзой. – Сердце Соболева разорвалось потому, что было источено годами тяжкой службы во имя отечества, ослаблено многочисленными ранами, полученными в сражениях с нашими врагами. Не Ахиллесом его следовало бы назвать, о нет! Надежно защищенный Стиксовой водой, Ахиллес был неуязвим для стрел и мечей, вплоть до самого последнего дня жизни он не пролил ни капли своей крови. А Михаил Дмитриевич носил на теле следы четырнадцати ран, каждая из которых невидимо приближала час его кончины. Нет, не с счастливчиком Ахиллесом следовало бы сравнивать Соболева, а скорее с благородным Гектором – простым смертным, рисковавшим жизнью наравне со своими воинами!
Конца этой прочувствованной речи Эраст Петрович не услышал, потому что как раз на этом месте достиг, наконец, заветной двери, где уже поджидал его начальник секретного отделения губернаторской канцелярии.
– Ну-с, что стряслось? – спросил надворный советник, двигая кожей высокого бледного лба, и потянул за собой Фандорина во двор, подальше от чужих ушей.
Эраст Петрович со своей всегдашней математической ясностью и краткостью изложил суть дела, закончив словами:
– Провести массовую облаву следует немедленно, никак не позднее нынешней ночи. Это шесть.
Хуртинский слушал напряженно, дважды ахнул, а под конец даже тугой воротничок распустил.
– Убили вы меня, Эраст Петрович, просто убили, – молвил он. – Это скандал похуже шпионского. Если героя Плевны умертвили из-за презренного металла, это же позор на весь мир. Хотя миллион, конечно, сумма отнюдь не презренная… – Петр Парменович захрустел пальцами, соображая. – Господи, что же делать, что делать… Соваться к Владимиру Андреевичу бессмысленно – не в том он нынче состоянии. Да и Караченцев не поможет – у него сейчас ни одного городового лишнего. Вечером следует ожидать всенародной ажитации по случаю прискорбного события, да и высоких особ сколько пожаловало – каждую надобно охранять и оберегать от террористов да бомбистов. Нет, милостивый государь, ничего сегодня с облавой не выйдет, даже и не думайте.
– Так ведь упустим, – чуть не простонал Фандорин.
– Уйдет.
– Вероятнее всего, уже ушел, – мрачно вздохнул Хуртинский.
– Если и ушел, так след еще свежий. Глядишь, какую-никакую ниточку и п-подцепим:
Петр Парменович деликатнейшим образом взял собеседника под локоток:
– Ваша правда. Время терять преступно. Я ведь не первый год московскими тайнами ведаю. Знаю и Мишу Маленького. Давненько к нему подбираюсь, да ловок, бестия. И вот что я вам скажу, дорогой Эраст Петрович.
– Голос надворного советника зазвучал ласково, доверительно, всегда прищуренные глаза раскрылись во весь калибр и оказались умными, проницательными. – Откровенно говоря, вы мне поначалу не понравились. То есть совсем. Вертопрах, подумал я, белоподкладочник. Припорхнул на готовенькое, добытое потом и кровью. Но Хуртинский всегда готов признать, ежели неправ. Ошибался я на ваш счет – события последних двух дней это красноречивейше проявили. Вижу, что человек вы умнейший и опытнейший, а сыщик первостатейлый.
Фандорин слегка поклонился, ожидая, что последует дальше.
– И вот какое у меня к вам предложеньице. Если, конечно, не побоитесь… – Петр Парменович придвинулся вплотную и зашептал. – Чтоб нынешний вечер впустую не пропал, не прогуляться ли вам по хитровским притонам, не произвести ли разведочку? Мне известно, что вы непревзойденный мастер маскарада, так что для вас хитрованцем прикинуться – пара пустяков. Я бы вам подсказал, где вероятнее всего на Мишин след выйти. Располагаю сведениями. А я и провожатых выделю, самых наилучших своих агентов. Как, не побрезгуете такой работой? Или, может быть, боязно?
– Не побрезгую и не боязно, – ответил Эраст Петрович, которому «предложеньице» надворного советника показалось очень даже неглупым. В самом деле, если уж полицейская операция невозможна, почему бы не попробовать самому?
– А ежели ниточку подцепите, – продолжил Хуртинский, – то на рассвете можно бы и облаву. Вы мне только весточку пришлите. Пятьсот городовых я вам, конечно, не соберу, но столько и не понадобится. Вы ведь, надо полагать, круг поиска к тому времени сузите? Пошлите ко мне одного из моих людишек, а остальное уж я сам. И без его превосходительства Евгения Осиповича преотлично обойдемся.
Эраст Петрович поморщился, уловив в этих словах отголосок московских интриг, о которых сейчас лучше было бы забыть.
– Б-благодарю за предложенную помощь, но мне ваши люди не понадобятся, – сказал он. – Я привык обходиться сам. У меня очень толковый помощник.
– Этот ваш японец? – проявил неожиданную осведомленность Хуртинский. Хотя что ж удивляться, такая у человека служба – всё про всех знать.
– Да. Его мне будет вполне д-достаточно. От вас же мне требуется только одно: сообщите, где искать Мишу Маленького.
Надворный советник набожно перекрестился на ударивший сверху звон колокола.
– Есть на Хитровке отчаянное местечко. Трактир «Каторга» называется. Днем там обычная мерзкая пивнушка, а к ночи сползаются «деловые» – так на Москве бандитов зовут. И Миша Маленький частенько заглядывает. Самого не будет – кто-нибудь из его головорезов непременно объявится. Обратите внимание также на хозяина, отъявленнейший разбойник.
Хуртинский неодобрительно покачал головой:
– От моих агентов зря отказываетесь. Опасное место. Это вам не парижские тайны, а Хитровка. Никнут ножиком, и поминай как звали. Пускай хоть кто-нибудь из моих вас до «Каторги» доведет и снаружи подежурит. Право слово, не упрямьтесь.
– Благодарю покорно, но я уж как-нибудь сам, – самонадеянно ответил Фандорин.
Глава восьмая, в которой происходит катастрофа
– Настасья, что ты орешь, будто тебя режут? – сердито сказал Ксаверий Феофилактович, выглядывая на крик в прихожую.
Кухарка была баба глупая, на язык невоздержанная, к хозяину непочтительная. Если и держал ее Грушин, то только по привычке и еще из-за того, что умела дура печь исключительные пироги с ревенем и печенкой. Но зычный ее голосина, которого Настасья отнюдь не берегла в вечных своих баталиях с соседской Глашкой, с городовым Силычем, с попрошайками, не раз отвлекал Ксаверия Феофилактовича от чтения «Ведомостей московской полиции», философских рассуждений и даже сладкого предвечернего сна.
Вот и нынче расшумелась проклятая бабища так, что пришлось Грушину вынырнуть из приятной дремы. Жалко – снилось про то, что он вроде бы никакой не отставной пристав, а кочан капусты, растущий на огороде. Будто торчит головой прямо из грядки, и сидит рядом ворон, и поклевывает в левый висок, но это совсем не больно, а, наоборот, очень покойно и приятно. Никуда не надо идти, спешить, тревожиться тоже незачем. Благодать. Но потом ворон расхулиганился – задолбил уже не на шутку, а по-жестокому, с хрустом, да еще, поганец, оглушительно раскаркался, и проснулся Грушин под Настасьины вопли с головной болью.
– Чтоб тебя еще не так скрючило! – вопила из-за стены кухарка. – А ты, нехристь, что щуришься? Я вот тя щас тряпкой-то по блину маслену отхожу!
Послушал Ксаверий Феофилактович эту филиппику и заинтересовался. Кого это там скрючило? Что за нехристь такая? Кряхтя встал, пошел наводить порядок.
Смысл загадочных Настасьиных слов прояснился, когда Грушин высунулся на крыльцо.
Ясное дело – опять нищие. Так и шастают по жалостливым замоскворецким улочкам с утра до вечера. Один – старый горбун, скрюченный в три погибели и опирающийся на две коротенькие клюки. Другой – чумазый киргиз в засаленном халате и драном малахае. Господи, кого только в матушку-Москву не заносит.
– Хватит, Настасья, оглохнешь от тебя! – прикрикнул Грушин на скандалистку. – Дай им по копейке и пусть идут себе.
– Дак они вас требуют! – обернулась охваченная гневом кухарка. – Энтот вон (она ткнула на горбуна) говорит, буди, мол, дело у нас до твоего барина. Я те дам «буди»! Разбежалася! Поспать человеку не дадут!
Ксаверий Феофилактович пригляделся к каликам повнимательнее. Стоп! Киргиз-то вроде знакомый! И не киргиз это вовсе. Пристав схватился за сердце:
– С Эрастом Петровичем что? Где он? Э, да он по-нашему не понимает.
– Ты, старик, от Фандорина? – наклонился Грушин к горбуну. – Случилось чего?
Инвалид распрямился и оказался на полголовы выше отставного сыщика.
– Ну, если вы, Ксаверий Феофилактович, меня не п-признали, значит, маскарад удался, – сказал он голосом Эраста Петровича.
Грушин пришел в восхищение:
– Так поди узнай! Ловко, ловко. Если б не слуга ваш, вовсе ничего не заподозрил бы. Только не утомительно скрючившись-то ходить?
– Ничего, – махнул Фандорин. – Преодоление трудностей – одно из наслаждений жизни.
– На эту тему готов с вами поспорить, – сказал Грушин, пропуская гостей в дом. – Не сейчас, конечно, а как-нибудь после, за самоваром. Нынче же, как я понимаю, вы собрались в экспедицию?
– Да. Хочу заглянуть на Хитровку, в некий трактир с романтическим названием «Каторга». Г-говорят, там у Миши Маленького что-то вроде штаба.
– Кто говорит?
– Петр Парменович Хуртинский, начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора. Ксаверий Феофилактович только развел руками:
– Ну, этот много чего знает. Всюду глаза и уши имеет. Значит, в «Каторгу» собрались?
– Да. Расскажите, что за трактир такой, что там за обычаи и, главное, как до него добраться, – попросил Фандорин.
– Садитесь, голубчик. Да лучше не в кресло, а вон туда, на скамеечку, а то наряд у вас… – Ксаверий Феофилактович сел и сам, раскурил трубочку. – По порядку. Вопрос первый: что за трактир такой? Отвечаю: владение действительного статского советника Еропкина.
– Как так? – поразился Эраст Петрович. – А я полагал, это притон, воровская к-клоака.
– И правильно полагали. Но дом принадлежит генералу и приносит его превосходительству очень недурный доход. Сам генерал там, конечно, не бывает, а сдает дом в наем. У Еропкина по Москве этаких заведений много. Деньги-то, сами знаете, не пахнут. В доме наверху комнаты с дешевыми, полтиничными девками, а в подвале трактир. Но главная ценность генералова дома не в этом. На том месте при государе Иоанне Васильевиче обреталась подземная тюрьма с пытошным застенком. Тюрьму-то давно снесли, а подземный лабиринт остался. Да еще за триста лет новых ходов понарыли – сам черт ногу сломит. Вот и поди-ка поищи там Мишу Маленького. Теперь второй ваш вопрос – что там за обычаи. – Ксаверий Феофилактович уютно почмокал губами. Давненько он не чувствовал себя так славно. И голова больше не болела. – Страшные обычаи. Разбойничьи. Ни полиции, ни закону туда хода нет. На Хитровке выживают только две людских разновидности: кто под сильного стелется, да кто слабого давит. Посередке пути нет. А «Каторга» у них навроде большого света: там и товар краденый крутится, и деньги немалые, и все бандюги авторитетные наведываются. Прав Хуртинский, можно через «Каторгу» на Мишу Маленького выйти. Только как – вот вопрос. Напролом не сунешься.
– Третий вопрос был не п-про это, – вежливо, но твердо напомнил Фандорин. – А про то, где «Каторга» находится.
– Ну, этого я вам не скажу, – улыбнулся Ксаверий Феофилактович, откидываясь на спинку кресла.
– Но почему?
– Потому что я отведу вас туда сам. И не спорьте, не желаю слушать. – Заметив протестующий жест собеседника, пристав сделал вид, что затыкает уши. – Во-первых, без меня вы все равно не найдете. Во-вторых, найдете – внутрь не попадете. Ну, а попадете, так живыми обратно не выйдете.
Видя, что на Эраста Петровича аргументы не подействовали, Грушин взмолился:
– Не погубите, голубчик! По старой памяти, а? Пожалейте, побалуйте старика, ссохся весь от безделья. Так бы вместе славно прогулялись!
– Ксаверий Феофилактович, милый, – терпеливо, будто обращаясь к малому дитяте, сказал Фандорин. – Помилуйте, да ведь вас на Хитровке каждая собака помнит.
Грушин хитро улыбнулся:
– А уж это не ваша печаль. Думаете, вы один наряжаться мастер?
И начался долгий, утомительный спор.
Когда подходили к дому Еропкина, уже стемнело. Никогда еще Фандорину не доводилось бывать на печально знаменитой Хитровке после наступления сумерек. Жуткое оказалось местечко, какое-то подземное царство, где обитают не живые люди, а тени. На кривых улицах не горел ни один фонарь, неказистые домишки кривились то влево, то вправо, от помойных куч несло смрадом. Здесь не ходили, а скользили, шныряли, ковыляли вдоль стен: вынырнет серая тень из подворотни или неприметной дверки, позыркает туда-сюда, прошмыгнет улицей и опять растает в какой-нибудь щелке. Крысиная страна, подумал Эраст Петрович, прихрамывая на своих костыльках. Только крысы не поют пропитыми голосами, не орут во всю глотку, с матом и слезами, и не бормочут вслед прохожему невнятные угрозы.
– Вон она, «Каторга», – показал Грушин на мрачный двухэтажный дом, зловеще светившийся подслеповатыми оконцами, и перекрестился. – Дай Бог дело соблюсти и ноги унести.
Вошли, как уговорено: Ксаверий Феофилактович и Маса первыми, Фандорин малость погодя. Таково было условие, поставленное коллежским асессором. "Вы не смотрите, что мой японец по-русски не говорит, – объяснил Эраст Петрович. – Он во всяких переделках бывал и опасность инстинктом чует. Сам в п-прошлом из якудза , это такие японские бандиты. Реакция молниеносная, а ножом владеет, как Пирогов скальпелем. С Масой можете за спину не опасаться. А втроем ввалимся – подозрительно, это уж целая арестная к-команда".
В общем, убедил.
Темновато в «Каторге», не любит здешний народец яркого света. Только на стойке керосиновая лампа – деньги считать, да на грубых дощатых столах по толстой сальной свече. Как пламя качнется, по низким каменным сводам мечутся раскоряченные тени. Но привычному глазу полумрак не помеха. Посидишь, приглядишься – все, что надо, видно. Вон в углу за богатым и даже накрытым скатеркой столом сидит молчаливая компания «деловых». Пьют умеренно, едят того меньше, между собой перебрасываются короткими, непонятными постороннему фразами. Не иначе как ждут чего-то лихие ребята: то ли на дело пойдут, то ли разговор какой нешуточный предполагается. В остальном – публика мелкая, неинтересная. Девки, вконец пропившиеся оборванцы, ну и, само собой, завсегдатаи – карманники с тырщиками. Те, как положено, тырбанят слом , то есть делят дневную добычу, хватая друг друга за грудки и разбирая в малейших деталях, кто сколько взял и что по чем выходит. Одного уже кинули под стол и яростно пинают ногами. Он воет и норовит вылезти, но его загоняют обратно, приговаривая: «Не тырь у своих, не тырь!»
Вошел старичок-горбун. Постоял на пороге, повертел горбом и так, и этак, осмотрелся и заковылял в уголок, ловко орудуя ключонками. На шее у убогого тяжелый крест на позеленевшей цепочке и диковинные вериги – в виде железных звезд. Покряхтел горбатый, сел за стол. Хорошее местечко: сзади стенка, и соседи тихие. Справа – слепой нищий: пялится мутными бельмами, мерно двигает челюстью, ужинает. Слева, уронив черноволосую голову на стол и обхватив полупустой штоф, мертвецким сном спит девка – видать, машка кого-то из «деловых». И одета почище прочих гулящих, и бирюзовые сережки, а главное – никто к ней не пристает. Знать, не положено. Устал человек – спит. Проснется – выпьет еще.
Подошел половой, подозрительно спросил:
– Откудова будешь, дедок? Чтой-то я тебя ране не примечал.
Горбун оскалился гнилыми зубами, рассыпал скороговоркой:
– Откудова? То оттудова, а то отсюдова, то в горку ползком, то под горку колобком. Ты принеси мне, голубь, казенной. Находился за день, намаялся скрючимши. Ты не думай, деньга водится. – Он позвенел медью. – Жалеют православные калеку убогого.
Бойкий старичок подмигнул, вынул из-за плеч ватный валик, расправил плечи и потянулся. Горба как не бывало.
– Ох, замялись костушки от лихой работушки. Теперь бы калачок да к бабе под бочок.
Перегнувшись влево, балагур толкнул спящую.
– Эй, Матрена, спина ядрена! Ты чья будешь? Старичка не приголубишь?
А дальше завернул такое, что половой только крякнул: веселый дедок. Посоветовал:
– К Фиске не суйся, не про твою плепорцию. А хочешь с бабой пожаться, ступай вон по лесенке. Полтинник прихвати и полбутылки.
Старичок получил штоф, но наверх не спешил – ему, похоже, и тут было неплохо. Опрокинул стаканчик, замурлыкал тонким голосом песенку и пошел стрелять по сторонам шустрыми, по-молодому блестевшими глазками. Вмиг оглядел все общество, задержался взглядом на «деловых» и повернулся к стойке, где трактирщик Абдул, спокойный, жилистый татарин, которого знала и боялась вся Хитровка, вполголоса толковал о чем-то с бродячим старьевщиком. Говорил все больше последний, а трактирщик отвечал односложно, без охоты, неспешно вытирая грязной тряпицей граненый стакан. Но седобородый старьевщик, в добротном нанковом пальто и калошах поверх сапог, не отставал – все нашептывал что-то, перегнувшись через стойку, и время от времени тыкал пальцем на короб, что висел на плече у его спутника, маленького киргиза, настороженно поглядывавшего вокруг узкими, острыми глазами.
Пока все шло по плану. Эраст Петрович знал, что Грушин изображает барыгу, который прикупил по случаю полный набор знатного инструмента по медвежатному делу и ищет хорошего, понимающего покупателя. Идея-то была неплоха, но уж больно тревожило Фандорина внимание, с которым разглядывали старьевщика и его подручного «деловые». Неужто раскусили? Но как? Почему? Ксаверий Феофилактович замаскировался виртуозно – нипочем не узнаешь.
Вот и Маса тоже чувствует угрозу – встал, засунув руки в рукава, наполовину прикрыл толстые веки. В рукаве у него кинжал, а поза означает готовность отразить удар, с какой бы стороны он ни был нанесен.
– Эй, косоглазый! – крикнул один из «деловых», поднимаясь. – Ты какого корню-племени?
Старьевщик проворно обернулся.
– Киргизец это, мил человек, – вежливо, но безо всякой робости сказал он. – Сирота убогий, басурманы ему язык урезали. А для меня в самый раз. – Ксаверий Феофилактович сделал какой-то хитрый знак пальцами. – Култыхаю по рыжему, шмаленку гоняю, так мне шибко болтливые-то без надобности.
Маса тоже повернулся спиной к стойке, поняв, откуда предвидится настоящая опасность. Глаза он и вовсе закрыл, но искорка между век нет-нет да посверкивала.
«Деловые» переглянулись между собой. Загадочные слова старьевщика почему-то подействовали на них успокаивающе. У Эраста Петровича отлегло от сердца – не промах Грушин, может за себя постоять. Фандорин вздохнул с облегчением и вынул из-под стола руку, которую уж было положил на рукоять «герсталя».
А не следовало бы вынимать.
Воспользовавшись тем, что оба повернулись к нему спиной, трактирщик внезапно подхватил со стойки двухфунтовую гирю на бечевке и вроде бы легким, но страшным по мощи движением стукнул ею по круглому затылку «киргизца». Раздался тошнотворный треск, и Маса мешком осел на пол, а подлый татарин сноровисто – чувствовалась изрядная практика – ударил в левый висок начавшего оборачиваться, да так до конца и не обернувшегося Грушина.
Ничего не понимая, Эраст Петрович опрокинул стол, рванув из-за пазухи револьвер.
– Ни с места! – закричал он бешеным голосом. – Полиция!
Один из «деловых» сунул руку под стол, и Фандорин тут же пальнул. Парень заорал, схватившись обеими руками за грудь, повалился на пол и забился в судорогах. Остальные замерли.
– Кто шевельнется – пристрелю!
Эраст Петрович быстро водил дулом – то на «деловых», то на трактирщика, – а сам лихорадочно прикидывал, хватит ли на них на всех пуль и что делать дальше. Врача, врача нужно! Хотя удары гирей были так сильны, что врач вряд ли понадобится… Он окинул взглядом зал. С тыла стена, с флангов вроде бы тоже порядок: слепой как сидел, так и сидит, только вертит головой да хлопает своими жуткими бельмами; девка от выстрела проснулась, подняла смазливое, но испитое личико. Глаза черные, блестящие – видно, цыганка.
– Тебе, сволочь – первую пулю! – крикнул Фандорин татарину. – Я суда ждать не буду, я тебя прямо сейчас…
Он не договорил, потому что цыганка бесшумно, как кошка, приподнялась и ударила его бутылкой по затылку. Впрочем, Эраст Петрович этого не видел. Для него просто наступила чернота – внезапно и безо всяких причин.
Глава девятая, в которой Фандорина ждут новые потрясения
В себя Эраст Петрович приходил постепенно, чувства оживали по очереди. Первым включилось обоняние. Пахло кислятиной, пылью и порохом. Потом воскресло осязание – щека почувствовала шероховатую деревянную поверхность, запястья саднили. Во рту солонило – не иначе как от крови. Последними вернулись слух и зрение, а вместе с ними, наконец, заработал рассудок.
Фандорин понял, что лежит на полу лицом вниз, руки скручены за спиной. Приоткрыв один глаз, коллежский асессор увидел заплеванный пол, шмыгнувшего в сторону рыжего таракана и несколько пар сапог. Одни были щегольские, хромовые, с серебряными оковками по носку и что-то уж очень маленькие, будто на подростка. Чуть дальше, за сапогами, Эраст Петрович увидел такое, что разом все вспомнил: прямо на него смотрел мертвый глаз Ксаверия Феофилактовича. Пристав тоже лежал на полу, и лицо было недовольное, даже сердитое, словно желающее сказать: «Ну уж это совершенная ерундовина вышла». Рядом виднелся залитый кровью черноволосый затылок Масы. Эраст Петрович зажмурился. Хотелось снова уйти в черноту, чтоб ничего больше не видеть и не слышать, но резкие, мучительно отдававшиеся в мозгу голоса не позволили.
– …Ну, Абдул – голован! – говорил один, возбужденный, с сифилитической гнусавостью. – Как этот по фене заботал, я уж думал не тот, а Абдул как хрясь гирей-то!
Неспешный голос с татарским проглатыванием окончаний пробасил:
– Как ж не тот, дурь твоя башка! Сказан ж было – который с косоглазым китаезом, того и бей.
– Дык этот не китаеза, а киргизец.
– Сам ты киргизец! Мног у нас тут по Хитровке косоглазых-то ходит? А и ошибся бы – невелик беда. Скинули бы в рек, да дел с концом.
– Фиска-то какова, – заговорил третий голос, вроде бы искательный, но с истеричной ноткой. – Кабы не она, дедок этот нас всех порешил. А ты, Миша, говорил, их двое будет, а, Миш? А их, Миш, вишь, трое. И Ломтя вон продырявили. Кончается Ломоть-то, Миш. Всю внутреннюю он ему пулей прожег.
Услышав имя «Миша», Фандорин окончательно передумал уходить в черноту. Болел ушибленный затылок, но Эраст Петрович отогнал боль, загнал ее в пустоту, в ту самую черноту, откуда недавно вынырнул. Не до боли сейчас было.
– Тебя бы, Фиска, кнутом по роже, чтоб не пила, – вяло, с развальцей, произнес фальцет. – Но заради такого случая прощаю. Ловко легаша одарила.
Подошли два алых сафьяновых сапожка, встали напротив хромовых.
– Можно и по роже, Мишенька, – певуче пропел хрипловатый женский голос. – Только не гони. Третий день тебя, соколика, не видела. Истосковалася вся. Приходи нынче, поласкаю.
– После поласкаемся. – Щегольские сапожки сделали шаг и приблизились к Фандорину. – А покамест поглядим, что за жук такой припожаловал. Вертани-ка его, Шуха. Ишь, глазом высверкивает.
Эраста Петровича перевернули на спину.
Вот он каков, Миша Маленький. Ростом цыганке чуть выше плеча, а против «деловых» и вовсе недомерок. Лицо тонкое, дерганое, уголок рта подрагивает. Нехорошие глаза, будто не человек, а рыба смотрит. Но в целом, пожалуй, красавчик. Волосы поделены пробором ровнехонько пополам, на концах курчавятся. Неприятная деталь: черные усики точь-в-точь как у самого Эраста Петровича, и подкручены точно так же. Фандорин немедленно дал себе зарок, что усы фиксатуарить больше никогда не станет. Тут же подумалось: а больше, пожалуй, и не придется.
В одной руке бандитский король держал «герсталь», в другой – стилет, который Фандорин носил у лодыжки. Выходит, обыскивали.
– Ну и кто ж ты такой будешь? – спросил сквозь зубы Миша Маленький. Если смотреть снизу, он казался вовсе не маленьким, а совсем напротив – прямо Гулливером. – С какой части? С Мясницкой, что ль? Верно, оттуда. Все мои гонители там собрались, вампиры ненасытные.
Эраст Петрович, во-первых, удивился «гонителям» и «вампирам», а во-вторых сделал себе на будущее пометочку, что в Мясницкой части, кажется, взяток не берут. Полезная информация. Если, конечно, доведется воспользоваться.
– Почему вас трое пришло? – задал Миша не вполне понятный вопрос. – Или ты один, а те сами по себе?
Был соблазн кивнуть, но Фандорин решил, что правильнее промолчать. Посмотреть, что дальше будет.
Дальше было скверно. Коротко размахнувшись, Миша ударил лежащего ногой в пах. Эраст Петрович видел замах и успел подготовиться. Представил, что с размаху прыгает в прорубь. Ледяной водой обожгло так, что по сравнению с этим удар кованым сапогом показался сущим пустяком. Фандорин даже не охнул.
– Крепок старый, – подивился Миша. – Видать, придется повозиться. Ну да ничего, так оно даже антиресней, да и время имеется. Киньте его, ребята, покамест в погреб. Закусим чем бог послал, а тама и покуражимся. Распалюся-разыграюся, а Фиска меня после охолонит.
Под визгливый женский хохот коллежского асессора за ноги проволокли по полу за стойку, потом каким-то темным коридором. Скрипнула дверца погреба, и в следующий миг Эраст Петрович ухнул в кромешную тьму. Кое-как подобрался, но все равно ударился боком и плечом.
– Держи клюшки свои, горбушка! – крикнули сверху со смехом. – Погуляй там, милостыньку пособирай!
На Фандорина один за другим упали оба его коротких костылька. Тусклый квадрат наверху с треском исчез, и Эраст Петрович закрыл глаза, потому что все равно ничего не было видно.
Изогнув кисть, он пощупал пальцами путы, стягивавшие запястья. Ерунда – обычная веревка. Нужна мало-мальски твердая, желательно ребристая поверхность и некоторое количество терпения. Что это там такое? А, лесенка, о которую он только что ударился. Фандорин повернулся к лесенке спиной и принялся быстро, ритмично тереть веревку о деревянный стояк. Возни было, пожалуй, минут на тридцать.
И Эраст Петрович стал считать до тысячи восьмисот – не для того, чтобы скоротать время, а чтобы не думать о страшном. Но отсчет не мешал черным мыслям вонзаться иглами в бедное сердце коллежского асессора. Что же вы натворили, господин Фандорин! Нет вам прощения и теперь уже не будет никогда.
Как можно было притащить в этот зверинец своего старого учителя! Добрейший Ксаверий Феофилактович поверил своему молодому другу, обрадовался, что еще может послужить на пользу отечества, а вон как все вышло. И не судьба виновата, не злой рок, а неосторожность и некомпетентность того, кому отставной пристав доверял, как самому себе. Ждали, ждали хитровские шакалы Фандорина. Точнее, того, кто придет с «китаезой». На верную казнь вел близких людей бездарный сыщик Фандорин. А ведь предупреждал Грушин, что у Миши Маленького вся полиция куплена. Проболтался кому-то из своих людей несимпатичный Хуртинский, а тот послал весточку на Хитровку. Куда как просто. Потом, конечно, выяснится, что у них там в секретном отделении за иуда такой, но ведь Масу с Грушиным не вернешь. Непростительная оплошность! Нет, не оплошность, преступление.
Эраст Петрович застонал от нестерпимой душевной муки, заработал руками еще быстрей, и веревка раньше ожидаемого вдруг поползла, ослабла. Но не обрадовался коллежский асессор, а только закрыл освободившимися ладонями лицо и заплакал. Ах, Маса, Маса…
Четыре года назад, в Иокогаме, спас Фандорин, второй секретарь российского посольства, жизнь пареньку-якудза. С тех пор Масахиро стал верным – да что там – единственным другом и не раз спасал жизнь падкому на приключения дипломату, однако по-прежнему числил себя в неоплатном долгу. Ради чего, господин Фандорин, притащили вы сюда, за тридевять земель, в чужой мир, хорошего японского человека? Чтобы он нелепо, по вашей же вине, погиб от подлого удара душегуба?
Горько, невыразимо горько было Эрасту Петровичу, и если не разбил он себе голову о склизкую стену подвала, то лишь благодаря предвкушению мести. Ох, как безжалостно отомстит он убийцам! Ксаверию Феофилактовичу как христианину это, может, и все равно, а вот японская душа Масы в ожидании следующего рождения наверняка возрадуется.
За собственную жизнь Фандорин больше не опасался. Был у Миши Маленького хороший шанс прикончить коллежского асессора – там, наверху, когда тот лежал на полу оглушенный, связанный и безоружный. А теперь извините, ваше бандитское величество. Как говорят игроки, карта легла не в вашу масть.
Медный крест на цепи и чудные звездчатые вериги по-прежнему висели у бывшего горбуна на шее. Да эти болваны еще и подарок преподнесли – клюшки в погреб швырнули. А это означало, что в распоряжении Эраста Петровича был целый японский арсенал.
Он снял с шеи вериги и разъял их на звезды. Пощупал краешки – отточены, как бритва. Звезды назывались сяринкенами , и умение метать их без промаха входило в самую первую ступень подготовки ниндзя. В серьезном деле кончики еще и отравой смазывают, но Фандорин рассудил, что ладно будет и без яда. Теперь оставалось собрать нунтяку – оружие пострашнее любой сабли.
Эраст Петрович снял с себя крест на цепочке. Сам крест отложил в сторону, а цепочку разомкнул и приладил к ней свои костыльки – к одному концу и к другому. Оказалось, что на деревяшках для этой цели имеются специальные крючочки. Молодой человек, не вставая с земли, высвистел нунтякой над головой молниеносную восьмерку и остался вполне удовлетворен. Угощение готово, дело за гостями.
Нащупывая в темноте перекладины, поднялся по лесенке. Уперся головой в люк – заперто с той стороны. Что ж, подождем. Овес к лошади не ходит.
Он спрыгнул вниз, опустился на четвереньки, зашарил руками по полу. Через минуту наткнулся на какой-то раскисший рогожный куль, от которого невыносимо несло плесенью. Ничего, не до нежностей.
Эраст Петрович откинулся головой на импровизированную подушку. Было очень тихо, только шныряли во тьме юркие зверьки – наверное, мыши, а может, и крысы. Ох, скорей бы, подумал Фандорин и сам не заметил, как провалился в сон – минувшей-то ночью поспать не довелось.
Проснулся от скрежета открываемой дверцы и сразу вспомнил, где находится и почему. Неясно только было, сколько прошло времени.
По лесенке, покачиваясь, спускался человек в поддевке и юфтевых сапогах. В руке он держал свечу. Эраст Петрович узнал одного из Мишиных «деловых». Следом в люк влезли знакомые хромовые сапожки с серебряными оковками.
Всего гостей было пятеро – сам Миша Маленький и четверо давешних. Для полного удовольствия не хватало только Абдула, отчего Фандорин немного расстроился и даже вздохнул.
– Вот-вот, легаш, повздыхай, – оскалился жемчужной улыбкой Миша. – Щас ты у меня так заорешь, что крысы по щелям упрячутся. С дохлятиной обжимаешься? Энто правильно. Скоро сам такой будешь.
Фандорин посмотрел на куль, служивший ему подушкой, и в ужасе сел. С пола на него пялился проваленными глазницами давний, разложившийся труп. «Деловые» заржали. У каждого кроме Миши Маленького в руке было по свечке, а один еще и держал какие-то клещи или щипцы.
– Нешто не пондравился? – глумливо поинтересовался недомерок. – О прошлую осень шпичка поймали, тоже с Мясницкой. Знакомый ай нет? – Снова хохот, а мишин голос стал ласковым, тягучим. – Долго мучился, сердешный. Как стали мы ему кишки из брюха тянуть, и мамочку, и тятеньку вспомнил.
Эраст Петрович мог бы убить его в эту самую секунду, в завернутых за спину руках было зажато по сяринкену. Но поддаваться неразумным эмоциям недостойно благородного мужа. С Мишей нужно было потолковать. Как говорил иокогамский консул Александр Иванович Пеликан, к нему «накопились вопросы». Можно, конечно, сначала обезвредить свиту его хитровского величества. Уж больно удобно стоят: двое справа, двое слева. Огнестрельного оружия ни у кого не видно, только Миша все играется ладным «герсталем». Но это не страшно – про кнопочку он не знает, а с неснятым предохранителем револьвер стрелять не будет.
Пожалуй, лучше попытаться что-то выведать, пока Миша Маленький чувствует себя в силе. А то неизвестно, захочет ли потом говорить. По всему видать – малый с норовом. Ну как заартачится?
– Портфельчик я ищу, Мишутка. А в нем деньжищщы, аграмадные тыщщы, – пропел Фандорин голосом незадачливого мошенника-горбуна. – Ты его куды подевал-то, а?
Миша изменился в лице, а один из его подручных гнусаво спросил:
– Чего это он полощет, Миш? Какие такие тыщи?
– Завирает, сука лягавая! – рявкнул «король». – Клин промеж нас вбить хочет. Ну да ты у меня, падла, щас кровью закашляешь.
Выдернув из сапога узкий, длинный нож, Маленький сделал шаг вперед. Эраст Петрович сделал выводы. Портфель взял Миша. Это раз. В шайке об этом не знают, а, значит, делиться добычей он не намерен. Это два. Испугался разоблачения и сейчас заткнет пленнику рот. Навсегда. Это три. Нужно было менять тактику.
– Ты постой-постой, я дедок-то непростой, – зачастил Фандорин. – Ты меня в тычки, я в молчки. Ты ко мне с лаской, и я к тебе с подсказкой.
– Погоди его кончать, Миш, – схватил главаря за рукав гнусавый. – Пущай погутарит.
– От Петра Парменыча господина Хуртинского нижайшее, – подмигнул Маленькому коллежский асессор, так и впиваясь ему глазами в лицо – верна ли гипотеза. Но на сей раз Миша и глазом не повел.
– А дедок-то под малахольного куксит. Парменыча какого-то приплел. Ничего, мы ему щас мозги-то на место поставим. Кур, ты садись ему на ноги. А ты, Проня, клещи дай. Запоет кочетом, ворон поганый.
И понял Эраст Петрович, что ничего интересного ему хитрованский монарх не скажет – слишком своих стережется.
Фандорин глубоко вздохнул и на миг прикрыл глаза. Радостное нетерпение – самое опасное из чувств. От него много важных дел срывается.
Открыл Эраст Петрович глаза, улыбнулся Мише и выбросил из-за спины правую, а за ней и левую ладонь. Шших, шших – свистнули две маленькие вертячие тени. Первая вошла в горло Куру, вторая Проне. Те еще хрипели, брызгая кровью, еще шатались, еще толком не поняли, что умирают, а коллежский асессор уж подхватил с земли нунтяку и вскочил на ноги. Миша Маленький не то что предохранитель, и руку поднять не успел – деревяшка стукнула его по темечку: не слишком сильно, только оглушить. Ражий парень, которого он давеча назвал Шухой, едва разинул рот и тут же получил мощный удар по голове, от чего рухнул навзничь и более уже не шевелился. Последний из «деловых», клички которого Фандорин так и не узнал, оказался ловчее своих товарищей – от нунтяки шарахнулся, выхватил из голенища финку, увернулся и от второго удара, но беспощадная восьмерка перебила руку, что держала нож, а затем проломила резвачу череп. Эраст Петрович замер, регулируя дыхание. Двое бандитов корчились на земле, суча ногами и тщетно пытаясь зажать разорванные глотки. Двое лежали неподвижно. Миша Маленький сидел, тупо мотая головой. «Герсталь» посверкивал в стороне вороненой сталью.
Фандорин сказал себе: «Я только что убил четырех человек и ничуть об этом не жалею». Очерствел душой коллежский асессор за эту страшную ночь.
Для начала Эраст Петрович взял оглушенного за ворот, хорошенько тряхнул и влепил две звонкие оплеухи – не из мести, а чтоб побыстрее очухался. Однако затрещины произвели совершенно магическое действие. Миша Маленький вжал голову в плечи и заныл:
– Дедушка, не бей! Все скажу! Не убивай! Жизнь молодую не губи!
Фандорин смотрел на плаксиво скривившуюся смазливую мордочку и только диву давался. Человеческая натура не уставала поражать Эраста Петровича своей непредсказуемостью. Кто бы мог подумать, что разбойничий самодержец, гроза московской полиции, так расклеится от пары пощечин. Для эксперимента Фандорин чуть покачал нунтякой, и Миша сразу прекратил нытье – зачарованно уставился на мерно покачивающуюся окровавленную деревяшку, втянул голову в плечи и задрожал. Надо же – сработало. Крайняя жестокость – оборотная сторона трусости, философски подумал Эраст Петрович. Что, в сущности, неудивительно, ибо это две наихудшие черты, какие только бывают у сынов человеческих.
– Если ты хочешь, чтоб я тебя доставил в полицию, а не умертвил прямо здесь, отвечай на вопросы, – своим обычным, не юродским голосом сказал коллежский асессор.
– А отвечу – не убьешь? – пугливо спросил Миша и шмыгнул носом. Фандорин нахмурился. Что-то здесь все-таки было не так. Не мог этакий слизняк держать в страхе весь преступный мир большого города. Для этого требуются железная воля, недюжинная сила характера. Или что-то, с успехом эти качества заменяющее. Что?
– Где миллион? – мрачно спросил Эраст Петрович.
– Где был, там и есть, – быстро ответил Маленький. Нунтяка снова угрожающе качнулась.
– Прощай, Миша. Я тебя предупреждал. Мне оно и лучше, расквитаюсь с тобой за своих товарищей.
– Я честно, как перед Богом! – Щуплый, перепуганный человечек закрыл голову руками, и Фандорину от всей этой сцены вдруг стало невыносимо тошно.
– Я, дедушка, по-честному, вот Христом-Богом. Слам как был в портфеле, так и есть.
– А портфель где?
Миша сглотнул, подергал губами. Ответил едва слышно:
– Тут, в каморке потайной.
Эраст Петрович отшвырнул нунтяку – больше не понадобится. Поднял с пола «герсталь», рывком поставил Мишу на ноги.
– Идем, показывай.
Пока Маленький лез по лесенке, Фандорин снизу тыкал его стволом в зад и продолжал задавать вопросы:
– Про «китаезу» от кого узнал?
– От них, от Петра Парменыча. – Миша обернулся, поднял ручонки. – Мы ведь что, мы люди подневольные. Он наш благодетель, он заступник. Но и спрашивает строго, и забирает, почитай, половину.
Славно, скрипнул зубами Эраст Петрович. Куда как славно. Начальник секретного отделения, правая рука генерал-губернатора – шеф и покровитель московской преступности. Теперь понятно, почему этого объедка Мишу никак поймать не могут и почему он на Хитровке такую власть забрал. Ай да Хуртинский, ай да надворный советник.
Вылезли в темный коридор, пошли по лабиринту узких, затхлых переходов. Два раза свернули влево, раз направо. Миша остановился у низкой, неприметной двери, стукнул в нее хитрым условным стуком. Открыла давешняя Фиска – в одной рубашке, волосы распущены, лицо сонное и пьяное. Гостям ничуть не удивилась, на Фандорина вообще не взглянула. Прошлепала по земляному полу до кровати, плюхнулась и тут же засопела. В углу стояло щегольское трюмо, явно позаимствованное из будуара какой-то дамы. На трюмо чадил масляный светильник.
– У ней прячу, – сообщил Маленький. – Она дура, но не выдаст.
Эраст Петрович крепко взял заморыша за тонкую шею, притянул к себе и, глядя ему прямо в круглые, рыбьи глаза, спросил – чеканя каждый слог:
– А что ты учинил с генералом Соболевым?
– Ничего. – Миша трижды мелко перекрестился. – Чтоб мне на виселице околеть. Знать про генерала ничего не знаю. Петр Парменыч сказали, чтоб портфель с сейфа взял и чтоб сработал в аккурате. Сказали, не будет там никого и не хватятся. Ну, я и взял, дело плевое. Еще они говорили, как поутихнет, деньги пополам, и меня с чистыми бумагами из Москвы отправит. А если что – из-под земли достанет. Петр Парменыч достанет, он такой.
Миша снял со стены коврик, изображавший Стеньку Разина с княжной, открыл в стене какую-то дверцу и зашарил в ней рукой. А Фандорин стоял, покрывшись холодной испариной, пытался постичь весь чудовищный смысл услышанного.
Не будет там никого и не хватятся? Так сказал своему подручному Хуртинский? Значит, знал надворный советник, что Соболев живым в «Дюссо» не вернется!
Недооценил Эраст Петрович хитрованского владыку. Непрост был Миша, и не такой уж жалкий слизень, каким прикинулся. Оглянувшись через плечо, он увидел, что сыщик, как и следовало ожидать, ошарашен сообщением и руку с револьвером опустил. Шустрый мужчинка резко обернулся, Эраст Петрович увидел наставленное на него дуло обреза и едва успел ударить по нему снизу. Ствол жахнул громом и пламенем, обдал лицом жарким ветром. С потолка посыпалась труха. Палец коллежского асессора непроизвольно нажал на спусковой крючок, и снятый с предохранителя «герсталь» послушно выпалил. Миша Маленький схватился руками за живот и сел на пол, тоненько заойкал. Памятуя о бутылке, Эраст Петрович оглянулся на Фиску. Но та на грохот и головы не подняла – только ухо подушкой прикрыла.
Вот и объяснилась нежданная мишина покладистость. Ловко сыграл, усыпил-таки бдительность и привел сыщика туда, куда хотел, Откуда только ему было знать, что быстротой реакции Эраст Фандорин славился даже среди «крадущихся»?
Вопрос – здесь ли портфель. Эраст Петрович отодвинул ногой дергающееся тело, сунул руку в нишу. Пальцы нащупали бугристую кожаную поверхность. Есть!
Фандорин наклонился над Мишей. Тот часто мигал и судорожно облизывал побелевшие губы. На лбу вспыхивали капельки пота.
– Дохтура! – простонал раненый. – Все расскажу, ничего не утаю!
Ранение тяжелое, определил Эраст Петрович, но калибр у «герсталя» маленький, так что, если быстро доставить в больницу, возможно, и выживет. Надо, чтоб выжил – такой свидетель.
– Сиди и не дергайся, – сказал Фандорин вслух. – Пригоню извозчика. А попробуешь уползти – из тебя вся жизнь вытечет.
В трактире было пусто. Сквозь мутные полуоконца проникал тусклый свет раннего утра. Прямо посередине, на грязном полу, обнявшись, валялись мужик с бабой. У бабы был задран подол – Эраст Петрович отвернулся. Больше вроде бы никого. Нет, в углу на скамье спал вчерашний слепой: под головой котомка, на земле посох. Трактирщика Абдула – того, с кем Фандорину очень надо было повидаться, – не видно. Но что это? Вроде кто-то похрапывает в подсобке.
Эраст Петрович осторожно откинул ситцевую занавеску, и отлегло от сердца – вот он, паскуда. Раскинулся на сундуке, борода торчит кверху, толстогубый рот приоткрыт.
Прямо в зубы коллежский асессор и сунул ему дуло. Сказал задушевно:
– Вставай, Абдул. Утро вечера мудреней. Татарин открыл глаза. Они были черные, матовые, лишенные какого бы то ни было выражения.
– Ты побрыкайся, побеги, – попросил его Фандорин. – А я тебя тогда убью, как пса.
– Чего нам бежат, – спокойно ответил убийца и широко зевнул. – Не малец бегат.
– На виселицу пойдешь, – сказал Эраст Петрович, с ненавистью глядя в маленькие равнодушные глазки.
– Это уж как положен, – согласился трактирщик. – На все воль Аллах.
Коллежский асессор изо всех сил боролся с неудержимым зудом в указательном пальце.
– Ты еще об Аллахе, мразь! Где убитые?
– А чуланчикам пока прибрал, – охотно сообщил нелюдь. – Думал, после речк кидал. Вон он, чуланчик. – И показал на дощатую дверь..
Дверь была заперта на засов. Эраст Петрович скрутил Абдулу руки его же кожаным ремешком, а сам с тоскливо ноющим сердцем отодвинул засов. Внутри было темно.
Помедлив, коллежский асессор сделал шаг, другой и вдруг получил сзади мощный удар ребром ладони по шее. Ничего не понимая, полуоглушенный, рухнул лицом в пол, а кто-то навалился сверху, горячо задышал в ухо:
– Гдзе гаспадзин? Убивачи собака!
С трудом, с запинкой – удар-то был нешуточный, да и во вчерашнюю шишку отдался – Фандорин пролепетал по-японски:
– Так ты все-таки учишь слова, бездельник?
И не выдержал – разрыдался.
Но и на этом потрясения не кончились. Когда, перевязав Масе разбитую голову и отыскав извозчика, Фандорин вернулся за Мишей Маленьким в Фискину каморку, цыганки там не было, сам же Миша уже не сидел, привалившись к стене, а лежал на полу. Мертвый. И умер он не от раны в живот – кто-то очень аккуратно перерезал бандитскому королю горло.
Эраст Петрович с револьвером наизготовку заметался по темному коридору, но тот разветвлялся и уходил в кромешную сырую тьму. Тут не то что найти кого-то – дай Бог самому не заблудиться.
Выйдя из «Каторги» наружу, Фандорин зажмурился от выглянувшего из-за крыш солнца. Маса сидел в извозчичьей пролетке, одной рукой прижимая, вверенный ему портфель, а другой крепко держа за шиворот связанного Абдула. Рядом торчал бесформенный куль – обмотанное одеялом тело Ксаверия Феофилактовича.
– Пошел! – крикнул Эраст Петрович, вскакивая на козлы рядом с ванькой. Поскорей бы из этого проклятого Богом места. – Гони на Малую Никитскую, в жандармское!
Глава десятая, в которой генерал-губернатор пьет кофе с булочкой
Вахмистр, дежуривший у дверей Московского губернского жандармского управления (Малая Никитская, дом 20) взглянул на странную троицу, вылезавшую из извозчичьей пролетки, с любопытством, но без особого удивления – на таком посту чего только не насмотришься. Первым, споткнувшись на подножке, слез чернобородый татарин со связанными за спиной руками. За ним, подталкивая пленника в спину, спустился какой-то косоглазый в драном бешмете, белой чалме и с богатым кожаным портфелем в руке. Последним не по годам легко спрыгнул с козел старик-оборванец. Малость приглядевшись, вахмистр увидел, что у старика в руке револьвер, а у узкоглазого на голове вовсе не чалма, а намотанное полотенце, местами запачканное кровью. Дело ясное – секретная агентура с операции вернулась.
– Евгений Осипович у себя? – спросил старик молодым барским голосом, и жандарм, опытный служака, никаких вопросов задавать не стал, а только взял под козырек:
– Так точно, полчаса как прибыли.
– Вызови-ка, б-братец, дежурного офицера, – немного заикаясь, сказал ряженый. – Пусть оформит арестованного. А там, – он мрачно показал на коляску, в которой остался какой-то большущий куль. – Там наш убитый. Его пусть пока отнесут на ледник. Грушин это, отставной пристав следственной части.
– Как же, ваше благородие, отлично помним Ксаверия Феофилактовича, не один год вместе служили. – Вахмистр снял кепи и перекрестился.
Эраст Петрович быстро шел по широкому вестибюлю, Маса едва поспевал за ним, помахивая пузатым портфелем, кожаное чрево которого чуть не лопалось от пачек ассигнаций. В управлении по раннему времени было пустовато – да и не такое тут место, где толпятся посетители. Из дальнего конца коридора, где на закрытой двери красовалась табличка «Офицерский гимнастический зал», доносились крики и звон металла. Фандорин скептически покачал головой: тоже еще жизненная необходимость для жандармского офицера – на рапирах фехтовать. С кем, спрашивается? С бомбистами? Всё пережитки прошлого. Лучше бы дзюдзюцу изучали или, на худой конец, английский бокс.
Перед входом в приемную обер-полицеймейстера сказал Масе:
– Сиди тут, пока не позовут. Портфель сторожи. Голова-то болит?
– У меня голова крепкая, – гордо ответил японец.
– И слава Богу. Смотри у меня, ни с места.
Маса обиженно надул щеки, видимо, сочтя указание излишним. За высокой двустворчатой дверью оказалась секретарская, откуда, судя по табличкам, можно было попасть либо прямо, в кабинет обер-полицеймейстера, либо направо, в секретную часть. Вообще-то имелась у Евгения Осиповича и собственная канцелярия, на Тверском бульваре, однако его превосходительство предпочитал кабинет на Малой Никитской – поближе к потайным пружинам государственной машины.
– Куда? – приподнялся навстречу оборванцу дежурный адъютант.
– Коллежский асессор Фандорин, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе. По неотложному делу.
Адъютант кивнул и бросился докладывать. Через полминуты в секретарскую вышел сам Караченцев. При виде нищего бродяги замер на месте.
– Эраст Петрович, вы?! Ну и типаж. Что случилось?
– Многое.
Фандорин вошел в кабинет и затворил за собой дверь. Адъютант проводил необычного посетителя любопытным взглядом. Встал, выглянул в коридор. Никого, только напротив двери сидит какой-то киргиз. Тогда офицер на цыпочках подошел к начальственной двери и приложил ухо. Слышался ровный голос чиновника для особых поручений, время от времени прерываемый басистыми восклицаниями генерала. К сожалению, только их-то и можно было разобрать. Реплики звучали так:
– Какой такой портфель?
…
– Да как вы могли!
…
– А он что?
…
– Господи!
…
– На Хитровку?!
* * *
Тут дверь из коридора распахнулась, и адъютант едва успел отпрянуть – сделал вид, что как раз собирался постучаться к генералу, и недовольно обернулся на вошедшего. Незнакомый офицер с портфелем подмышкой успокаивающе вскинул ладонь и показал на боковую дверь, что вела в секретную часть: мол, не беспокойтесь, мне туда. Быстро прошел через просторную комнату, исчез. Адъютант снова приложил ухо.
– Кошмар! – взволнованно воскликнул Евгений Осипович. А минуту спустя ахнул:
– Хуртинский? Это невероятно!
Адъютант так и распластался по двери, надеясь разобрать хоть что-то в рассказе коллежского асессора, но здесь, как назло, влез курьер со срочным пакетом и пришлось принимать, расписываться.
Еще через две минуты из кабинета вышел генерал – раскрасневшийся, взволнованный. Однако судя по блеску генераловых глаз новости, кажется, были неплохие. За Евгением Осиповичем шел таинственный чиновник.
– Надо покончить с портфелем, и тогда займемся нашим Ванькой Каином, – сказал обер-полицеймейстер, потирая руки. – Где он, ваш японец?
– В коридоре д-дожидается.
Адъютант выглянул из-за створки, увидел, как генерал и чиновник останавливаются перед оборванным киргизом. Тот встал, церемонно поклонился, приложив ладони к ляжкам.
Коллежский асессор о чем-то встревожено спросил его на непонятном наречии.
Азиат снова поклонился и ответил что-то успокоительное. Чиновник повысил голос, явно негодуя.
На лице узкоглазого отразилась растерянность. Кажется, он оправдывался.
Генерал вертел головой то на одного, то на другого. Рыжие брови озадаченно насупились.
Схватившись рукой за лоб, коллежский асессор повернулся к адъютанту:
– Входил ли в приемную офицер с портфелем?
– Так точно. Проследовал в секретную часть.
Чиновник весьма грубо оттолкнул сначала обер-полицеймейстера, а потом и адъютанта, бросился из секретарской в боковую дверь. Остальные последовали за ним. За дверью с табличкой открылся узкий коридор, окна которого выходили во двор. Одно из окон было приоткрыто. Коллежский асессор перегнулся через подоконник.
– На земле отпечатки сапог! Он спрыгнул вниз! – простонал эмоциональный чиновник и в сердцах двинул кулаком по раме. Удар был такой силы, что все стекло с жалобным звоном высыпалось наружу.
– Эраст Петрович, да что случилось? – переполошился генерал.
– Я ничего не понимаю, – развел руками коллежский асессор. – Маса говорит, что в коридоре к нему подошел офицер, назвал его по имени, вручил пакет с печатью, взял портфель и якобы понес мне. Офицер, действительно, был, да только вместе с портфелем выпрыгнул через это вот окно. Какой-то кошмарный сон!
– Пакет? Где пакет? – спросил Караченцев.
Чиновник встрепенулся и снова залопотал по-азиатски. Халатник, проявлявший признаки чрезвычайного беспокойства, достал из-за пазухи казенный пакет и с поклоном протянул генералу. Евгений Осипович взглянул на печати и адрес.
– Хм. «В Московское губернское жандармское управление. Из отделения по охране порядка и общественной безопасности санкт-петербургского градоначальства». – Вскрыл конверт, стал читать. – «Секретно. Господину московскому обер-полицеймейстеру. На основании 16-ой статьи Высочайше утвержденного положения о мерах по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и по соглашению с санкт-петербургским генерал-губернатором, воспрещается повивальной бабке Марии Ивановой Ивановой ввиду ее политической неблагонадежности жительство в Санкт-Петербурге и Москве, о чем имею честь уведомить Ваше Превосходительство для надлежащего сведения. За начальника отделения ротмистр Шипов». Что за чушь!
Генерал повертел листок и так, и этак.
– Обычная циркулярная писулька. При чем здесь портфель?
– Чего ж тут не п-понять, – вяло проговорил переодетый коллежский асессор, от расстройства даже начав заикаться. – Кто-то ловко воспользовался тем, что Маса не понимает по-русски и с б-безграничным почтением относится к военной форме, в особенности если видит саблю на боку.
– Спросите его, как выглядел офицер, – приказал генерал.
Чиновник немного послушал сбивчивую речь азиата, да только махнул рукой:
– Говорит, желтые волосы, водянистые глаза… Мы д-для него все на одно лицо. Он. обратился к адъютанту:
– А вы разглядели этого ч-человека?
– Виноват, – развел руками тот, слегка покраснев. – Не присмотрелся. Блондин. Рост выше среднего. Обычный жандармский мундир. Капитанские погоны.
– Вас что, не учили наблюдательности и словесному п-портрету? – зло поинтересовался чиновник. – Тут от стола до двери всего десять шагов!
Адъютант молчал, покраснев еще гуще.
– Катастрофа, ваше п-превосходительство, – констатировал ряженый. – Миллион пропал. Но как, каким образом? Просто мистика! Что же теперь делать?
– Ерунда, – махнул Караченцев. – В миллионе ли дело? Найдется он, никуда не денется. Тут дела поважнее. Петру Парменычу драгоценному визитец надо нанести. Ох, фигура! – Евгений Осипович недобро улыбнулся. – Он нам все вопросы и прояснит. Надо же, как интересно все сложилось-то. Ну-с, теперь и нашему Юрию Долгорукому конец. Пригрел на груди гадюку, да как сердечно!
Коллежский асессор встрепенулся.
– Да-да, едемте к Хуртинскому. Не опоздать бы.
– Сначала придется к князю, – вздохнул обер-полицеймейстер. – Без его санкции невозможно. Ничего, я с удовольствием посмотрю, как старый лис будет крутиться. Дудки, ваше сиятельство, не открутитесь. Сверчинский! – Генерал взглянул на адъютанта. – Мою карету, да поживей. И пролетку с арестной командой – пусть к генерал-губернаторскому дому за мной следует. В статском. Пожалуй, хватит троих. Я думаю, в данном случае обойдется без пальбы. – И он снова плотоядно улыбнулся.
Адъютант бегом бросился исполнять приказ, и пять минут спустя запряженная четверкой карета уже неслась во весь опор по булыжной мостовой. Следом мягко покачивалась на рессорном ходу коляска с тремя агентами в штатском.
Проводив кортеж взглядом из окна, адъютант снял телефонный рожок и крутанул ручку. Назвал номер. Оглянувшись на дверь, вполголоса спросил:
– Господин Ведищев, это вы? Сверчинский.
* * *
Пришлось дожидаться аудиенции в приемной. Секретарь губернатора, почтительнейше извинившись перед обер-полицеймейстером, тем не менее весьма твердо заявил, что его сиятельство очень заняты, пускать кого-либо запретили и даже докладывать не велено. Караченцев взглянул на Эраста Петровича с особенной усмешкой: мол, пусть старик покуражится напоследок. Наконец – прошло никак не менее четверти часа – из-за монументальной, раззолоченной двери донесся звук колокольчика.
– Вот теперь, ваше превосходительство, доложу, – поднялся из-за своего стола секретарь.
Когда вошли в кабинет, выяснилось, каким таким значительным делом занимался князь – кушал завтрак. Собственно, с завтраком уже было покончено, и нетерпеливые визитеры застали самый последний этап трапезы: Владимир Андреевич приступил к кофею. Он сидел, аккуратно подвязанный мягкой льняной салфеткой, макал в чашку сдобную булочку от Филиппова и вид имел чрезвычайно благодушный.
– Доброе утро, господа, – ласково улыбнулся князь, проглотив кусочек. – Уж не обессудьте, если ждать пришлось. Мой Фрол строг, не велит отвлекаться, когда кушаю. Не подать ли и вам кофею? Булочки отменные, просто во рту тают.
Тут губернатор пригляделся к спутнику генерала повнимательней, удивленно заморгал. Дело в том, что Эраст Петрович по дороге на Тверскую отцепил седую бороду и парик, однако лохмотья снять возможности не имел, поэтому вид у него, и в самом деле, был непривычный.
Владимир Андреевич неодобрительно покачал головой и откашлялся.
– Эраст Петрович, я, конечно, говорил вам, что ко мне можно запросто, без мундира, но это уж, голубчик, того, чересчур. Вы что, в карты проигрались? – В голосе князя зазвучала непривычная строгость. – Я, конечно, человек без предрассудков, но все-таки попросил бы впредь в таком виде ко мне не являться. Нехорошо.
Он укоризненно покачал головой и снова зашамкал булочкой. Однако выражение лиц обер-полицеймейстера и коллежского асессора было настолько странным, что Долгорукой перестал жевать и недоуменно спросил:
– Да что стряслось, господа? Уж не пожар ли?
– Хуже, ваше высокопревосходительство. Много хуже, – сладострастно произнес Караченцев и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло. Фандорин остался стоять. – Ваш начальник секретной канцелярии – вор, преступник и покровитель всей московской уголовщины. У господина коллежского асессора есть тому все доказательства. Такой конфуз, ваше сиятельство, такой конфуз. Прямо не знаю, как выбираться будем. – Он выдержал маленькую паузу, чтобы до старика как следует дошло, и вкрадчиво продолжил. – Я ведь имел честь неоднократно доносить вашему высокопревосходительству о неблаговидном поведении господина Хуртинского, но вы не внимали. Однако мне, разумеется, и в голову не приходило, что занятия Петра Парменовича криминальны до такой степени.
Генерал-губернатор выслушал эту короткую, эффектную речь с приоткрытым ртом. Эраст Петрович ждал крика, возмущения, расспросов о доказательствах, но князь ничуть не утратил спокойствия. Когда обер-полицеймейстер выжидательно замолчал, князь задумчиво дожевал кусок, отхлебнул кофею. Потом укоризненно вздохнул.
– Очень плохо, Евгений Осипович, что вам это в голову не приходило. Вы ведь как-никак начальник московской полиции, столп законности и порядка. Я вот не жандарм, и делами загружен побольше вашего, все многотрудное городское управление на себе тащу, а Петрушку Хуртинского давно на подозрении держу.
– Неужто? – насмешливо спросил обер-полицеймейстер. – Это с каких же пор?
– Да уж порядком, – протянул князь. – Петруша мне давно нравиться перестал. Я еще три месяца назад отписал вашему министру, графу Толстову, что по имеющимся у меня сведениям надворный советник Хуртинский – не просто мздоимец, а вор и лиходей. – Князь зашелестел бумажками на столе. – Вот и копия где-то была, письмеца моего… Да вот. – Он поднял листок, помахал издали. – И ответец от графа был. Где же он? Ага. – Взял другой листок, с монограммой. – Прочитать? Министр меня полностью успокоил и велел из-за Хуртинского не тревожиться.
Губернатор надел пенсне.
– Послушайте-ка. «На могущие возникнуть у Вашего высокопревосходительства сомнения касательно деятельности надворного советника Хуртинского спешу заверить, что этот чиновник ежели подчас и ведет себя труднообъяснимым образом, то отнюдь не из преступных видов, а лишь выполняя секретное государственное задание сугубой важности, о чем ведомо и мне, и Его Императорскому Величеству. Посему хотел бы успокоить вас, дражайший Владимир Андреевич, и особо оговорить, что задание, исполняемое Хуртинским, никоим образом не направлено против…» M-м, ну да это уже к делу не относится. В общем, господа, сами видите – если здесь кто и виноват, то отнюдь не Долгорукой, а скорее ваше, Евгений Осипович, ведомство. Разве у меня могли быть основания не доверять министерству внутренних дел?
От потрясения обер-полицеймейстер потерял выдержку и порывисто поднялся, протянул руку к письму, что было довольно глупо, потому как в столь серьезном деле мистификация исключалась – слишком легко проверить. Князь благодушно протянул листок рыжему генералу.
– Да, – пробормотал тот. – Это подпись Дмитрия Андреевича. Ни малейших сомнений… Князь участливо спросил:
– Неужто вас начальство не сочло нужным известить? Ай-ай-ай, нехорошо это. Неуважительно. Стало быть, вы не знаете, что за таинственное задание исполнял Хуртинский?
Караченцев молчал, совершенно сраженный.
Фандорин же размышлял над интригующим обстоятельством – как получилось, что переписка трехмесячной давности оказалась у князя под рукой, среди текущих бумаг? Вслух же коллежский асессор сказал:
– Мне тоже неизвестно, в чем заключалась секретная деятельность г-господина Хуртинского, однако на сей раз он явно вышел за ее пределы. Его связь с хитрованскими бандитами несомненна и никакими государственными интересами оправдана быть не может. А главное: Хуртинский имеет явное касательство к смерти генерала Соболева.
И Фандорин коротко, по пунктам, изложил историю похищенного миллиона. Губернатор слушал очень внимательно. В конце решительно сказал:
– Мерзавец, очевидный мерзавец. Надо его арестовать и допросить.
– За тем мы к вам, Владимир Андреевич, и п-пришли.
Совершенно иным, чем прежде, тоном – молодцевато, почтительно – обер-полицеймейстер осведомился:
– Разрешите исполнять, ваше высокопревосходительство?
– Конечно, голубчик, – кивнул Долгорукой. – Уж он, негодяй, за все ответит.
По длинным коридорам шли быстро. Сзади громыхали в ногу агенты в штатском. Эраст Петрович не произнес ни слова и вообще старался на Караченцева не смотреть – понимал, как мучительно тот переживает свое поражение, а еще более неприятный и даже тревожный факт: оказывается, есть какие-то тайные дела, которые начальство предпочло доверить не московскому обер-полицеймейстеру, а его извечному сопернику, начальнику секретного отделения губернаторской канцелярии.
Поднялись на второй этаж, где располагались присутствия. Эраст Петрович спросил дежурившего у входа служителя, здесь ли господин Хуртинский. Выяснилось, что у себя, с самого утра.
Караченцев воспрял духом и еще больше ускорил шаг – несся по коридору пушечным ядром, только шпоры позвякивали да постукивали аксельбанты.
В приемной начальника секретного отделения было полным-полно посетителей.
– На месте? – отрывисто спросил генерал у секретаря.
– Точно так-с, ваше превосходительство, однако просили не беспокоить. Прикажете доложить?
Обер-полицеймейстер отмахнулся. Оглянулся на Фандорина, улыбнулся в густые усы и открыл дверь.
Сначала Эрасту Петровичу показалось, что Петр Парменович стоит на подоконнике и смотрит в окно. Но уже в следующее мгновение стало ясно: не стоит, а висит.
Глава одиннадцатая, в которой дело принимает неожиданный оборот
Владимир Андреевич Долгорукой, сдвинув брови, уже в третий раз читал строки, набросанные хорошо знакомым почерком: «Я, Петр Хуртинский, повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья». Строки были кривые, налезали одна на другую, а последняя и вовсе заканчивалась кляксой, будто писавший вконец ослаб от избытка раскаяния.
– Так что показал секретарь? – медленно спросил губернатор. – Перескажите еще разок, и пожалуйста, голубчик Евгений Осипович, поподробней.
Караченцев уже во второй раз, более связно и спокойно, чем в первый, изложил то, что удалось выяснить:
– Хуртинский пришел на службу, как обычно, в десять часов. Выглядел обыкновенно, никаких признаков расстройства или возбуждения секретарь не заметил. Ознакомившись с корреспонденцией, Хуртинский начал прием. Примерно без пяти одиннадцать к секретарю подошел жандармский офицер, представился капитаном Певцовым, курьером из Петербурга, прибывшим к надворному советнику по срочному делу. У капитана в руке был коричневый портфель, по описанию в точности соответствующий похищенному. Певцов был немедленно впущен в кабинет, прием посетителей приостановлен. Вскоре выглянул Хуртинский и велел никого больше до особого распоряжения не впускать и вообще ни по какому поводу не беспокоить. По словам секретаря, его начальник выглядел чрезвычайно взволнованным. Минут через десять капитан удалился и подтвердил, что господин надворный советник занят и отвлекать строго-настрого запретил, поскольку изучает секретные бумаги. А еще через четверть часа, в двадцать минут двенадцатого, появились мы с Эрастом Петровичем.
– Что сказал врач? Не убийство ли?
– Говорит, типичная картина самоповешения. Привязал на шею веревку от фрамуги и спрыгнул. Характерный перелом шейных позвонков. Да и записка, сами видите, повода для сомнений не дает. Подделка исключается.
Генерал-губернатор перекрестился, философски заметил:
– «И бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился». Нынче судьба преступника в руце Судии более праведного, чем мы с вами, господа.
У Эраста Петровича возникло ощущение, что подобная развязка князю как нельзя более кстати. Зато обер-полицеймейстер явно пал духом: думал, ухватил драгоценную ниточку, которая выведет его к целому золотому клубку, а ниточка возьми да оборвись.
Сам коллежский асессор размышлял не о государственных тайнах и межведомственных интригах, а о загадочном капитане Певцове. Совершенно очевидно, что именно этот человек за сорок минут до появления в приемной Хуртинского выманил у бедного Масы соболевский миллион. С Малой Никитской жандармский капитан (или, как склонен был полагать Фандорин, некто, переодетый в синий мундир) отправился прямиком на Тверскую. Секретарь рассмотрел его лучше, чем адъютант обер-полицеймейстера и описал так: рост примерно два аршина семь вершков, широкие плечи, соломенные волосы. Особая примета – очень светлые, почти прозрачные глаза. От этой детали Эраст Петрович поежился. В юности ему довелось столкнуться с человеком, у которого были точно такие же глаза, и Фандорин не любил вспоминать ту давнюю историю, обошедшуюся ему слишком дорого. Впрочем, тягостное воспоминание к делу не относилось, и он отогнал мрачную тень прочь.
Вопросы выстраивались в такой очередности. Действительно ли этот человек жандарм? Если да (и тем более, если нет), то в чем его роль в соболевском деле? Главное же – откуда такая дьявольская осведомленность, такая фантастическая вездесущесть?
Как раз в это время сформулировал интересовавшие его вопросы и генерал-губернатор. Правда, звучали они несколько иначе:
– Что будем делать, господа детективы? Что прикажете наверх докладывать? Убит Соболев или умер своей смертью? Чем занимался у нас, то есть у вас, Евгений Осипович, под носом Хуртинский? Куда подевался миллион? Кто такой этот Певцов? – В голосе князя за показным добродушием прорезывались угрожающие нотки. – Что скажете, ваше превосходительство, защитник наш драгоценный?
Генерал, волнуясь, вытер платком вспотевший лоб:
– У меня в управлении никакого Певцова нет. Возможно, он, действительно, прибыл из Петербурга и вел дела с Хуртинским напрямую, минуя губернскую инстанцию. Предполагаю следующее. – Караченцев нервно потянул себя за рыжую бакенбарду. – Хуртинский втайне от вас и от меня… – Обер-полицеймейстер сглотнул. – …выполнял некие конфиденциальные поручения сверху. В их число, очевидно, входило и попечение за приездом Соболева. Зачем это понадобилось – мне не ведомо. Очевидно, Хуртинский откуда-то узнал, что Соболев имеет при себе очень крупную сумму денег, причем свите об этом ничего неизвестно. В ночь с четверга на пятницу Хуртинскому доложили о скоропостижной кончине Соболева в номерах «Англия» – вероятно, агенты, ведшие негласное наблюдение за генералом, ну и… Как мы знаем, надворный советник был алчен и в средствах неразборчив. Поддался соблазну хапнуть невиданный куш и послал своего клеврета, медвежатника Мишу Маленького, изъять портфель из сейфа. Однако афера, прокрученная Хуртинским, была раскрыта капитаном Певцовым, который, по всей вероятности, был приставлен наблюдать за наблюдающим – у нас в ведомстве это часто бывает. Певцов изъял портфель, явился к Хуртинскому и обвинил его в двурушничестве и воровстве. Сразу же после ухода капитана надворный советник понял, что его песенка спета и, написав покаянную записку, повесился… Вот единственное объяснение, которое мне приходит в голову.
– Что ж, это правдоподобно, – признал Долгорукой. – Какие действия предлагаете?
– Немедленно послать запрос в Петербург касательно личности и полномочий капитана Певцова. Мы же с Эрастом Петровичем пока займемся просмотром бумаг самоубийцы. Я возьму к себе содержимое его сейфа, а господин Фандорин изучит записную книжку Хуртинского.
Коллежский асессор поневоле усмехнулся – уж больно ловко поделил генерал добычу: в одной половине содержимое всего сейфа, а в другой обычный блокнот для деловых записей, открыто лежавший на письменном столе покойного.
Долгорукой побарабанил пальцами по столу, привычным движением поправил чуть съехавший парик.
– Стало быть, Евгений Осипович, ваши выводы сводятся к следующему. Соболев не убит, а умер своей смертью. Хуртинский – жертва непомерного корыстолюбия. Певцов – человек из Петербурга. Согласны ли с этими выводами вы, Эраст Петрович?
Фандорин коротко ответил:
– Нет.
– Любопытно, – оживился губернатор. – Ну-ка, выкладывайте, что вы там навычисляли – «это раз», «это два», «это три».
– Извольте, ваше сиятельство… – Молодой человек помолчал – видимо, для пущего эффекта – и решительно начал.
– Генерал Соболев участвовал в каком-то тайном деле, суть которого нам пока неясна. Д-доказательства? Скрытно от всех собрал огромную сумму. Это раз. В гостиничном сейфе хранились секретные бумаги, утаенные от властей свитой генерала. Это два. Сам факт негласного наблюдения за Соболевым – а я думаю, что Евгений Осипович прав и наблюдение было, – это три. – Эраст Петрович мысленно добавил: «Свидетельство девицы Головиной – это четыре», однако приплетать к расследованию минскую учительницу не стал. – Делать выводы пока не готов, однако на п-предположения отважусь. Соболев был убит. Каким-то хитрым способом, имитирующим естественную смерть. Хуртинский – жертва жадности, потерял голову от безнаказанности. Тут я опять-таки согласен с Евгением Осиповичем. А истинный преступник, главная закулисная пружина – тот, кого мы знаем как «капитана Певцова». Этого человека смертельно испугался Хуртинский, хитрец и разбойник, каких п-поискать. У этого человека портфель. «Певцов» все знает и всюду успевает. Мне такая сверхъестественная ловкость очень не нравится. Блондин со светлыми глазами, дважды появлявшийся в жандармском мундире, – вот кого надо разыскать во что бы то ни стало.
Обер-полицеймейстер устало потер веки:
– Не исключаю, что Эраст Петрович прав, а я ошибаюсь. По части дедукции господин коллежский асессор даст мне сто очков вперед.
Князь, кряхтя, встал из-за стола, подошел к окну и минут пять смотрел на экипажи, рекой катившие по Тверской. Повернулся, в несвойственной ему деловитой манере сказал:
– Доложу наверх. Немедленно, шифрованной депешей. Как только ответят – вызову. Быть на месте, никуда не отлучаться. Евгений Осипович, вы где?
– У себя на Тверском бульваре. Пороюсь в бумагах Хуртинского.
– Я буду у Дюссо, – доложил Фандорин. – Честно говоря, валюсь с ног. Двое суток п-почти не спал:
– Идите, голубчик, поспите часок-другой. И приведите себя, наконец, в приличный вид. Я за вами пришлю.
Спать Эраст Петрович, собственно, не собирался, однако намеревался освежиться – принять ледяную ванну, потом хорошо бы массаж. А сон, какой там сон, когда такие дела творятся. Разве уснешь?
Фандорин отворил дверь номера и шарахнулся назад – прямо под ноги ему повалился Маса, припал замотанной башкой к полу, зачастил:
– Господин, мне нет прощения, мне нет прощения, мне нет прощения. Я не уберег вашего онси и не сумел охранить важный кожаный портфель. Но этим мои прегрешения не ограничились. Не в силах вынести позора, я хотел наложить на себя руки и посмел для этого воспользоваться вашим мечом, но меч сломался, и тем самым я совершил еще одно страшное преступление.
На столе лежала сломанная пополам парадная шпажонка.
Эраст Петрович сел на пол рядом со страдальцем. Осторожно погладил его по голове – даже через полотенце ощущалась огромная шишка.
– Маса, ты ни в чем не виноват. Грушина-сэнсэя погубил я, и этого я никогда себе не прощу. И с портфелем ты не виноват. Ты не струсил, не проявил слабость. Просто здесь другая жизнь и другие правила, к которым ты еще не привык. А шпага – дрянь, вязальная спица, зарезаться ей невозможно. Купим другую, ей цена пятьдесят рублей. Это же не фамильный меч.
Маса распрямился, по его искаженному лицу текли слезы.
– И все-таки я настаиваю, господин. Мне невозможно жить после того, как я вас так ужасно подвел. Я заслуживаю наказания.
– Хорошо, – вздохнул Фандорин. – Ты выучишь наизусть десять следующих страниц словаря.
– Нет, двадцать!
– Ладно. Но не сейчас, а потом, когда голова заживет. Пока же приготовь ледяную ванну.
Маса бросился вниз с пустым ведром, а Эраст Петрович присел к столу и раскрыл записную книжку Хуртинского. Это, собственно, была не записная книжка, а английский schedule-book, календарный дневник, в котором каждому дню года отводилась особая страница. Удобная штука – Эраст Петрович такие уже видел. Стал перелистывать, не надеясь найти что-либо существенное.
Все сколько-нибудь секретное и важное надворный советник, конечно, держал в сейфе, а в книжку записывал всякие мелочи для памяти – время деловых свиданий, аудиенций, докладов. Многие имена обозначены одной или двумя буквами. Надо будет во всем этом разобраться. На 4 July, Tuesday (то есть, по нашему 22 июня, вторнике) взгляд коллежского асессора задержался, привлеченный странной продолговатой кляксой. До сих пор ни одной кляксы и даже помарки в книжке не было – Хуртинский, по всему видно, был человеком исключительной аккуратности. И форма кляксы чуднАя – словно чернила не капнули с пера, а были размазаны нарочно. Фандорин посмотрел листок на свет. Нет, не разобрать. Осторожно провел по бумаге кончиком пальца. Кажется, что-то было написано. Покойный пользовался стальным пером, нажим у него сильный. Но прочесть не представлялось возможным.
Маса принес ведро льда, загрохотал в ванной, зашумела вода. Достав саквояж с инструментарием, Эраст Петрович вынул нужное приспособление. Перевернул страницу с кляксой, с обратной стороны приложил листочек тончайшей рисовой бумаги, несколько раз прокатил по ней каучуковым валиком. Бумага была не простая, а пропитанная особым раствором, чутко реагирующим на малейшие неровности рельефа. Подрагивающими от нетерпения пальцами коллежский асессор поднял листочек. На матовом фоне прорисовался слабый, но отчетливый контур букв: Метрополь № 19 Клонов . Записано 22-го июня. Что было в этот день? Командующий 4-ым корпусом генерал от инфантерии Соболев завершил маневры и подал рапорт об отпуске. Ну, а в гостинице «Метрополь», в 19-ом нумере находился какой-то господин Клонов. Какая между двумя этими фактами связь? Вероятно, никакой. Но с чего бы Хуртинскому понадобилось замазывать имя и адрес? Очень интересно.
Эраст Петрович разделся и залез в ледяную ванну, которая на миг заставила его отрешиться от посторонних мыслей и, как обычно, потребовала напряжения всех душевных и физических сил. Фандорин окунулся с головой и досчитал до ста двадцати, а когда вынырнул, и открыл глаза, то ахнул и залился краской: на пороге ванной стояла остолбеневшая графиня Мирабо, морганатическая супруга его высочества Евгения Максимилиановича герцога Лихтенбургского, и тоже вся пунцовая.
– Прошу извинить, мсье Фандорин, – пролепетала графиня по-французски. – Ваш слуга впустил меня в нумер и показал на эту дверь. Я полагала, здесь находится ваш кабинет…
Инстинкт воспитания, не позволявший сидеть в присутствии дамы, толкнул охваченного паникой Эраста Петровича вскочить на ноги, но в следующую секунду, в еще большей панике, он плюхнулся обратно в воду. Графиня, залившись краской, попятилась за дверь.
– Маса! – заорал Фандорин бешеным голосом. – Маса!!!
Появился мерзавец и палач с халатом в руках, поклонился.
– Что вам угодно, господин?
– Я тебе дам «что угодно»! – зашелся в крике Эраст Петрович, от возмущения совершенно потеряв лицо. – Вот за это я заставлю тебя вспороть брюхо! Да не вязальной спицей, а палочкой для риса! Я тебе, безмозглый барсук, уже объяснял, что в Европе ванна – дело интимное! Ты поставил меня в дурацкое положение, а даму заставил сгореть от стыда! – Перейдя на русский, коллежский асессор крикнул. – Прошу извинить! Располагайтесь, графиня, я сейчас! – И снова по-японски. – Подай брюки, сюртук, рубашку, гнусная каракатица!
В комнату Фандорин вышел полностью одетый и с безукоризненным пробором, но все еще красный. Он не представлял, как после случившегося скандального происшествия будет смотреть гостье в глаза. Однако графиня против ожиданий совершенно успокоилась и с любопытством разглядывала развешанные по стенам японские гравюры. Взглянула на сконфуженное лицо чиновника, и в ее синих соболевских глазах промелькнула улыбка, впрочем, тут же сменившаяся самым серьезным выражением.
– Господин Фандорин, я осмелилась придти к вам, потому что вы старый товарищ Мишеля и расследуете обстоятельства его кончины. Муж уехал вчера вечером с великим князем. Какие-то срочные дела. А я повезу тело брата в имение, хоронить. – Зинаида Дмитриевна запнулась, словно колебалась, стоит ли продолжать. И потом решительно, словно головой в омут, проговорила. – Муж уехал налегке. А в одном из его сюртуков, оставшемся здесь, прислуга нашла вот это. Эжен такой рассеянный!
Графиня протянула сложенный листок, и Фандорин заметил, что в руке у нее осталась еще какая-то бумажка. На бланке 4-го армейского корпуса размашистым почерком Соболева было написано по-французски:
«Эжен, будь 25-го утром в Москве для окончательного объяснения по известному тебе предмету. Час настал. Остановлюсь у Дюссо. Крепко обнимаю. Твой Мишель».
Эраст Петрович вопросительно взглянул на посетительницу, ожидая разъяснений.
– Это очень странно, – почему-то шепотом произнесла та. – Муж не сказал мне, что должен в Москве встретиться с Мишелем. Я вообще не знала, что брат в Москве. Эжен сказал лишь, что нам нужно сделать кое-какие визиты, а потом мы вернемся в Петербург.
– Действительно странно, – согласился Фандорин, заметив по штемпелю, что депеша отправлена из Минска с нарочным еще 16-го. – Но почему вы не спросили об этом у его высочества?
Графиня, закусив губу, протянула второй листок.
– Потому что Эжен скрыл от меня вот это.
– Что это?
– Записка Мишеля, адресованная мне. Очевидно, была приложена к депеше. Почему-то Эжен мне ее не передал.
Эраст Петрович взял листок. Видно было, что написано наспех, в последнюю минуту:
"Милая Зизи, непременно приезжай вместе с Эженом в Москву. Это очень важно. Я не могу тебе сейчас ничего объяснять, но может сдаться, (дальше полстрочки зачеркнуто) что мы долго с тобой не увидимся".
Фандорин подошел к окну и приложил записку к стеклу, чтобы прочесть зачеркнутое.
– Не трудитесь, я уже разобрала, – сказала за спиной дрогнувшим голосом Зинаида Дмитриевна. – Там написано: «что эта встреча будет последней».
Коллежский асессор взъерошил мокрые, только что причесанные волосы. Так, получается, Соболев знал, что ему угрожает опасность? И герцог об этом тоже знал? Вон оно что… Он обернулся к графине:
– Я сейчас ничего не могу вам сказать, мадам, но обещаю, что выясню все обстоятельства. – И посмотрев в полные смятения глаза Зинаиды Дмитриевны, добавил. – Разумеется, со всей возможной д-деликатностью.
* * *
Едва графиня ушла, Эраст Петрович сел за стол и по обыкновению, желая сосредоточиться, занялся каллиграфическим упражнением – стал писать иероглиф «спокойствие». Однако на третьем листке, когда до совершенства было еще очень далеко, в дверь снова постучали – резко, требовательно.
Маса пугливо оглянулся на своего священнодействующего господина, на цыпочках просеменил к двери, открыл.
Там стояла Екатерина Александровна Головина, золотоволосая возлюбленная покойного Ахиллеса. Она пылала гневом и оттого казалась еще более прекрасной.
– Вы исчезли! – воскликнула барышня вместо приветствия. – Я жду, схожу с ума от неизвестности. Что вы выяснили, Фандорин? Я сообщила вам такие важные сведения, а вы сидите тут, рисуете! Я требую объяснений!
– Сударыня, – резко перебил ее коллежский асессор. – Это я у вас требую объяснений. Извольте-ка сесть.
Взял нежданную гостью за руку, подвел к креслу и усадил. Себе придвинул стул.
– Вы сообщили мне меньше, чем знали. Что затевал Соболев? Почему он опасался за свою жизнь? Что т-такого опасного было в его поездке? Зачем ему понадобилось столько денег? К чему вообще вся эта таинственность? И, наконец, из-за чего вы рассорились? Из-за ваших, Екатерина Александровна, недомолвок я неправильно оценил ситуацию, в результате чего п-погиб один очень хороший человек. И несколько нехороших, у которых тем не менее тоже была душа.
Головина опустила голову. На ее нежном лице отразилась целая гамма сильных и, видно, не очень-то согласующихся между собой чувств. Начала она с признания:
– Да, я солгала, что не знаю, чем был увлечен Мишель. Он считал, что Россия гибнет, и хотел ее спасти. В последнее время он только и говорил, что о Царьграде, о немецкой угрозе, о великой России… А месяц назад, во время нашей последней встречи, вдруг заговорил о Бонапарте и предложил мне стать его Жозефиной… Я пришла в ужас. Мы с ним всегда придерживались различных взглядов. Он верил в историческую миссию славянства и в какой-то особенный русский путь, я же считала и считаю, то России нужны не Дарданеллы, а просвещение и конституция. – Екатерина Александровна не справилась с голосом и раздраженно взмахнула кулачком, словно помогая себе проскочить трудное место. – Когда он помянул Жозефину, я испугалась. Испугалась, что Мишель, словно бесстрашный мотылек, сгорит в том жарком огне, к которому манит его честолюбие… А еще больше испугалась, что он добьется своего. Он мог бы. Он такой целеустремленный, сильный, удачливый… Был. Во что бы он превратился, получив возможность вершить судьбами миллионов? Страшно подумать. Это был бы уже не Мишель, а кто-то совсем другой.
– И вы донесли на него? – резко спросил Эраст Петрович.
Головина в ужасе отшатнулась:
– Как вы могли такое подумать? Нет, я просто сказала: выбирай – или я, или то, что ты затеваешь. Я знала, каков будет ответ… – Она зло вытерла слезы. – Но мне и в голову не приходило, что всё закончится таким скверным и пошлым фарсом. Будущего Бонапарта убьют из-за пачки ассигнаций… Сказано в Библии – «будут постыжены гордые».
Она замахала руками – мол, всё, больше не могу, и заплакала навзрыд, уже не сдерживаясь.
Подождав пока минует пик рыданий, Фандорин вполголоса произнес:
– Похоже, д-дело здесь вовсе не в ассигнациях.
– А в чем? – всхлипнула Екатерина Александровна. – Ведь его все-таки убили, да? Я почему-то верю, что вы докопаетесь до истины. Поклянитесь, что расскажете мне всю правду о его смерти.
Эраст Петрович сконфуженно отвернулся, подумав о том, что женщины несравненно лучше мужчин – преданнее, искреннее, цельнее. Разумеется, если по-настоящему любят.
– Да-да, непременно, – пробормотал он, твердо зная, что никогда и ни за что не расскажет Екатерине Александровне всей правды о смерти ее возлюбленного.
Тут разговор пришлось оборвать, потому что за Фандориным явился посыльный от генерал-губернатора.
* * *
– Как содержимое сейфа, ваше превосходительство? – спросил коллежский асессор. – Обнаружили что-нибудь интересное?
– Массу, – с довольным видом ответил обер-полицеймейстер. – Картина темных делишек покойного в значительной мере прояснилась. Надо будет еще поколдовать с расшифровкой денежных записей. Со многих цветков наша пчелка нектар собирала, не только с Миши Маленького. А что у вас?
– Да есть кое-что, – скромно ответил Фандорин.
Разговор происходил в генерал-губернаторском кабинете. Самого Долгорукого, однако же, пока не было – по словам секретаря, его сиятельство заканчивали обед.
Наконец появился Владимир Андреевич. Вошел с видом загадочным и значительным, сел, официально откашлялся.
– Господа, по телеграфу получен ответ из Петербурга на мой подробный рапорт. Как видите, дело было сочтено настолько важным, что обошлось без проволочек. В данном случае я – всего лишь передаточное звено. Вот что пишет граф Толстов: «Милостивый государь Владимир Андреевич, в ответ на Вашу депешу довожу до Вашего сведения, что капитан Певцов, действительно, состоит при шефе Жандармского корпуса и в настоящее время находится в Москве с особым заданием. В частности, капитану предписывалось негласно изъять портфель, в котором могли содержаться документы, представляющие государственную важность. Следствие по делу о кончине генерал-адъютанта М.Д.Соболева Высочайше предписано считать законченным, о чем будет отправлено соответствующее определение и Евгению Осиповичу. Чиновника особых поручений Фандорина за самоуправство – привлечение к секретному расследованию частного лица, что повлекло за собой гибель вышеозначенного лица – Высочайшим же указанием велено от должности отстранить и поместить под домашний арест вплоть до особого распоряжения. Министр внутренних дел Д.А.Толстов».
Князь сокрушенно развел руками и молвил потрясенному Фандорину:
– Вот, голубчик, как оно повернулось. Ну да начальству видней.
Побледнев, Эраст Петрович медленно поднялся. Нет, не строгая, но, в сущности, справедливая монаршая кара заставила похолодеть его сердце. Хуже всего было то, что позорно провалилась версия, выдвинутая им с таким апломбом. Принять тайного правительственного агента за главного злодея! Какая постыдная ошибка!
– Мы тут с Евгением Осиповичем потолкуем, а вы уж, не обессудьте, ступайте к себе в гостиницу, да отдыхайте, – сочувственно сказал Долгорукой. – И не вешайте носа. Вы мне пришлись по сердцу, я за вас перед Петербургом похлопочу.
Коллежский асессор понуро направился к выходу. У самых дверей его окликнул Караченцев.
– Так что вы там обнаружили, в записной книжке? – спросил генерал и незаметно подмигнул – мол, ничего, перемелется – мука будет.
Помолчав, Эраст Петрович ответил:
– Ничего интересного, ваше п-превосходительство.
* * *
В гостинице Фандорин прямо с порога объявил:
– Маса, я обесчещен и помещен под арест. Из-за меня погиб Грушин. Это раз. У меня больше нет идей. Это два. Жизнь кончена. Это три.
Эраст Петрович дошел до постели, не раздеваясь, рухнул на подушку и тут же уснул.
Глава двенадцатая, в которой капкан захлопывается
Первое, что увидел Фандорин, открыв глаза, – заполненный розовым закатом прямоугольник окна.
На полу у постели, церемонно положив руки на колени, сидел Маса – в черном парадном кимоно, лицо строгое, на голове свежая повязка.
– Ты что это вырядился? – с любопытством спросил Эраст Петрович.
– Вы сказали, господин, что вы обесчещены и что у вас больше нет идей.
– Так что с того?
– У меня есть хорошая идея. Я все обдумал и могу предложить достойный выход из тяжелой ситуации, в которой мы оба оказались. Ко всем своим многочисленным проступкам я прибавил еще один – нарушил европейский этикет, запрещающий пускать женщину в ванную. То, что я не понимаю этого странного обычая, меня не оправдывает. Я выучил целых двадцать шесть страниц из словаря – от легкого слова вонютика , что означает «человек, от которого неприятно пахнет», до трудного слова во-су-по-мо-си-те-фу-со-то-во-ва-ние , что означает «оказание помощи», но даже это суровое испытание не сняло тяжести с моей души. Что до же вас, господин, то вы сами сказали: ваша жизнь кончена. Так давайте, господин, уйдем из жизни вместе. Я все приготовил – даже тушь и кисточку для предсмертного стихотворения.
Фандорин потянулся, ощущая блаженную ломоту в суставах.
– Отстань, Маса, – сказал он, сладко зевнув. – У меня есть идея получше. Чем это так вкусно пахнет?
– Я купил свежие бубрики , самое лучшее, что есть в России после женщин, – печально ответил слуга. – Суп из прокисшей капусты, которым здесь все питаются, просто ужасен, но бубрики – прекрасное изобретение. Я хочу напоследок потешить свою хара , прежде чем разрежу ее кинжалом.
– Я тебе разрежу, – погрозил коллежский асессор. – Дай-ка бублик, я страшно голоден. Перекусим и за работу.
* * *
– Господин Клонов, из 19-го? – переспросил кельнер (так, на германский лад, называли в «Метрополе» старших служителей). – Как же-с, отлично помним. Был такой господин, из купцов. А вы, мистер, ему знакомый будете?
К вечеру идиллический закат внезапно ретировался, вытесненный холодным ветром и быстро сгущающимся мраком. Небо посуровело, брызнуло мелким дождиком, грозившим к ночи перерасти в нешуточный ливень. В связи с погодными обстоятельствами Фандорин оделся так, чтобы противостоять стихии: кепи с клеенчатым козырьком, непромокаемая шведская куртка из перчаточной лайки, резиновые галоши. Вид у него был до невозможности иностранный, чем, очевидно, и объяснялось неожиданное обращение кельнера. Семь бед один ответ, решил коллежский асессор, он же беглый арестант, и, перегнувшись через стойку, прошептал:
– Вовсе я ему не знакомый, милейший. Я жандармского корпуса к-капитан Певцов, а дело тут важнейшее и секретнейшее.
– Понял, – тоже шепотом ответил кельнер. – Сию минуту доложу.
Он зашелестел учетной книгой.
– Вот-с. Купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов. Въехали утром 22-го, прибыли из Рязани. Съехать изволили в ночь с четверга на пятницу.
– Что?! – вскричал Фандорин. – Это с двадцать четвертого на двадцать пятое?! И прямо ночью?
– Точно так-с. Я сам не присутствовал, но тут запись – извольте взглянуть. Полный расчет произведен в полпятого утра, в ночную смену-с.
Сердце Эраста Петровича сжалось от нестерпимого азарта, знакомого только заядлым охотникам. С деланной небрежностью он спросил:
– А каков он на вид, этот Клонов?
– Обстоятельный такой господин, солидный. Одно слово – купец первой гильдии.
– Что, борода, большой живот? Опишите внешность. Есть ли особые приметы?
– Нет, бороды нет-с, и фигура не толстая. Не из Тит Титычей, а из современных коммерсантов. Одевается по-европейски. А внешность… – Кельнер подумал. – Обыкновенная внешность. Волосами блондин. Особые приметы… Разве что глаза-с. Очень уж светлые, какие у чухонцев бывают.
Фандорин хищно хлопнул ладонью по стойке. В яблочко! Вот он, главный персонаж. Въехал во вторник, за два дня до прибытия Соболева, а убрался в тот самый час, когда офицеры вносили мертвого генерала в обкраденный 47-ой номер. Горячо, очень горячо!
– Так вы говорите, солидный человек? Поди, люди к нему приходили, деловые п-партнеры?
– Никаких-с. Только пару раз нарочные с депешами. По всему видно было, что человек приехал в Москву не по делам, а больше развеяться.
– Это по чему же «по всему»?
Кельнер заговорщицки улыбнулся и сообщил на ухо:
– Как прибыли, первым делом стали насчет женского пола интересоваться. Мол, какие на Москве есть дамочки пошикарней. Чтоб непременно блондинка, да постройнее, с талией-с. С большим вкусом господин.
Эраст Петрович нахмурился. Получалось что-то странное. Не должен бы «капитан Певцов» блондинками интересоваться.
– Он об этом говорил с вами?
– Никак нет-с, это мне Тимофей Спиридоныч рассказывали. Они у нас кельнером служили, на этом самом месте. – Он вздохнул с деланной грустью. – В субботу преставился Тимофей Спиридоныч, царствие ему небесное. Завтра панихида-с.
– Как так «преставился»? – подался вперед Фандорин. – От чего?
– Обыкновенно-с. Шел вечером домой, поскользнулся, да затылком о камень. Тут недалеко, в проходном дворе. Был человек и нету. Все под Богом ходим. – Кельнер перекрестился. – Помощником я у них состоял. А теперь повышение вышло. Эх, жалко Тимофея Спиридоныча…
– Значит, Клонов с ним про дамочек говорил? – спросил коллежский асессор, остро чувствуя: вот сейчас, сейчас спадет пелена с глаз и картина произошедшего откроется во всей своей ясной и логичной цельности. – А подробней Тимофей Спиридоныч не рассказывал?
– Как же-с, любил покойник языком почесать. Говорит, обозначил девятнадцатому (так мы про меж собой постояльцев называем, по нумеру-с) всех московских блондинок высокого классу. Больше всего девятнадцатый мамзель Вандой из «Альпийской розы» заинтересовался.
Эраст Петрович на миг закрыл глаза. Вилась-вилась веревочка, да вот и кончик показался.
* * *
– Вы?
Ванда стояла в дверях, кутаясь в кружевную мантилью и испуганно смотрела на коллежского асессора, чья мокрая кожаная куртка, отражая свет лампы, казалась обрамленной сияющим нимбом. За спиной позднего посетителя шелестела и двигалась стеклянная стена дождя, еще дальше чернела тьма. С куртки на пол стекали ручейки.
– Входите, господин Фандорин, вы весь промокли.
– Самое удивительное, – сказал Эраст Петрович вместо приветствия, – что вы, мадемуазель, до сих пор еще живы.
– Благодаря вам, – передернула тонкими плечами певица. – У меня до сих пор перед глазами нож, который все приближается, приближается к моему горлу… Я по ночам спать не могу. И петь не могу.
– Я имел в виду вовсе не герра Кнабе, а Клонова. – Фандорин в упор смотрел в огромные зеленые глаза. – Расскажите мне про этого интересного господина.
Ванда не то удивилась, не то изобразила удивление.
– Клонов? Николай Клонов? При чем здесь он?
– А вот в этом мы сейчас разберемся.
Вошли в гостиную, сели. Горела только настольная лампа, накрытая зеленой шалью, отчего вся комната была похожа на подводный мир. Царство морской волшебницы, подумалось было Эрасту Петровичу, но неуместные мысли были решительно отогнаны прочь.
– Расскажите мне про к-купца первой гильдии Клонова.
Ванда взяла у него мокрую куртку, положила на пол, нимало не заботясь о сохранности пушистого персидского ковра.
– Очень привлекательный, – мечтательным тоном произнесла она, и Эраст Петрович ощутил нечто вроде укола ревности, на которую, однако же, не имел никаких прав. – Спокойный, уверенный. Хороший человек, мужчина из лучших, такого редко встретишь. Мне, во всяком случае, такие почти не попадаются. На вас чем-то похож. – Она слегка улыбнулась, и Фандорину стало не по себе – околдовывает. – Но я не понимаю, почему вы им интересуетесь?
– Этот человек не тот, за кого себя выдает. Он никакой не к-купец.
Ванда полуотвернулась, взгляд стал отсутствующим.
– Это меня не удивляет. Но я привыкла к тому, что у всех свои тайны. В чужие дела стараюсь не вмешиваться.
– Вы проницательная женщина, мадемуазель, без этого вы вряд ли преуспели бы в вашей… профессии, – Эраст Петрович смутился, понимая, что не совсем удачно выразился. – Неужели вы никогда не чувствовали исходящую от этого ч-человека угрозу?
Певица быстро обернулась к нему:
– Да-да. Иногда. Но откуда вы это знаете?
– Я имею веские основания полагать, что Клонов – человек опаснейший. – И без малейшего перехода: – Скажите, это он свел вас с Соболевым?
– Нет, вовсе нет, – так же быстро ответила Ванда. Не слишком ли быстро?
Она, кажется, сама это почувствовала и сочла нужным поправиться:
– Во всяком случае, к смерти генерала он никоим образом непричастен, клянусь вам! Все произошло именно так, как я вам рассказывала.
Вот теперь она говорила правду – или верила, что говорит правду. Все признаки – модуляции голоса, жесты, движения лицевых мускулов – были именно такими, как следует. Впрочем, не исключено, что в госпоже Толле пропадала незаурядная актриса.
Эраст Петрович поменял тактику. Мастера сыскной психилогии учат: если есть подозрение, что допрашиваемый не искренен, а лишь играет в искренность, нужно обрушить на него град быстрых, неожиданных вопросов, требующих односложного ответа.
– Клонов знал про Кнабе?
– Да. Но какое…
– Он говорил о портфеле?
– О каком портфеле?
– Упоминал Хуртинского?
– Кто это?
– Он носит оружие?
– Кажется, да. Но разве закон это запре…
– Вы с ним еще встретитесь?
– Да. То есть…
Ванда побледнела, закусила губу. Эраст Петрович понял: сейчас станет врать, и скорей, пока не начала, заговорил по-иному – очень серьезно, доверительно, даже проникновенно:
– Вы должны сказать мне, где он. Если я ошибаюсь и он не тот, кем я его считаю, ему лучше снять с себя п-подозрение сейчас. Если же я не ошибаюсь, это страшный человек, совсем не такой, как вам представляется. Насколько я понимаю его логику, он не оставит вас в живых, это не в его правилах. Я поражен тем, что вы до сих пор еще не в покойницкой Тверской полицейской части. Ну же, как мне его найти, вашего Клонова? Она молчала.
– Говорите. – Фандорин взял ее за руку. Рука была холодной, но пульс бился часто-часто. – Один раз я уже спас вас и намерен сделать это вновь. Клянусь вам, если он не убийца, я его не трону.
Ванда смотрела на молодого человека расширенными зрачками. В барышне происходила внутренняя борьба, и Фандорин не знал, чем склонить чашу весов на свою сторону. Пока он лихорадочно соображал, взгляд Ванды обрел твердость – перевесила какая-то мысль, оставшаяся Эрасту Петровичу неведомой.
– Я не знаю, где он, – окончательным тоном произнесла певица.
Фандорин немедленно встал и откланялся, более не сказав ни единого слова. К чему?
Главное, что она с Клоновым-Певцовым еще встретится. Чтобы выйти на цель, достаточно установить грамотную слежку. Коллежский асессор остановился посреди Петровки, не обращая внимания на дождь, который, правда, лил уже не так яростно, как прежде.
Какая к черту слежка! Он же под арестом и должен безвылазно сидеть в гостинице. Помощников не будет, а в одиночку толковое наблюдение не организуешь – тут нужно по меньшей мере пять-шесть опытных агентов.
Чтобы мысль свернула с заезженной колеи, Фандорин быстро и громко хлопнул в ладоши восемь раз. Спрятанные под зонтами прохожие шарахнулись от сумасшедшего, а на устах коллежского асессора появилась довольная улыбка. Ему пришла в голову оригинальная идея.
Войдя в просторный вестибюль «Дюссо», Эраст Петрович сразу повернул к стойке.
– Любезный, – начальственным голосом обратился он к портье, – соедини-ка меня с номерами «Англия», что на Петровке, а сам поди, у меня к-конфиденциальный разговор.
Портье, успевший привыкнуть к таинственному поведению важного чиновника из 20-го, поклонился, поводил пальцем по висевшему на стене листу телефонных абонентов, нашел нужный, снял рожок.
– «Англия», господин Фандорин, – сказал он, протягивая коллежскому асессору слуховую трубку. Там пропищали:
– Кто телефонирует?
Эраст Петрович выжидательно посмотрел на портье, и тот деликатно удалился в самый дальний угол вестибюля.
Лишь тогда Фандорин, приложив губы к самому переговорному отверстию, произнес:
– Извольте пригласить к аппарату госпожу Ванду. Скажите, срочно вызывает господин Клонов. Да-да, Клонов!
Сердце молодого человека билось учащенно. Пришедшая ему в голову идея была нова и до дерзости проста. Дело в том, что телефонная связь, столь стремительно завоевывавшая популярность у жителей Москвы, при всем своем удобстве технически была пока далека от совершенства. Смысл сказанного разобрать почти всегда удавалось, но тембр и нюансы голоса мембрана не передавала. В лучшем случае – и то не всегда – было слышно, мужской это голос или женский, но не более того. Газеты писали, что великий изобретатель мистер Белл разрабатывает новую модель, которая будет передавать звук гораздо лучше. Однако, как гласит китайская мудрость, своя прелесть есть и в несовершенствах. Эрасту Петровичу еще не приходилось слышать, чтобы кто-то пытался выдать себя в телефонном разговоре за другое лицо. Отчего же не попробовать?
В рожке зазвучал визгливый, прерываемый потрескиваниями голос, вовсе не похожий на вандино контральто:
– Коля, ты? Какое счастье, что ты догадался мне протелефонировать!
«Коля»? «Ты»? Хм!
А Ванда быстро, глотая слоги, кричала в трубку:
– Коля, тебе угрожает опасность! У меня только что был человек, который тебя ищет!
– Кто? – спросил Фандорин и замер – сейчас она его разоблачит.
Но Ванда ответила как ни в чем не бывало:
– Сыщик. Он очень умный и ловкий. Коля, он говорил про тебя страшные вещи!
– Чушь, – кратко отозвался Эраст Петрович, подумав, что роковая женщина, кажется, не на шутку влюблена в жандармского капитана первой гильдии.
– Правда? Я так и знала! Но все равно ужасно разволновалась! Коля, почему ты телефонируешь? Что-нибудь изменилось?
Он молчал, лихорадочно соображая, что сказать.
– Мы что, завтра не встретимся-етимся? – На линии возникло эхо, и Фандорин заткнул второе ухо, потому что разбирать быструю речь Ванды стало трудно. – Но ты обещал, что не уедешь, не попрощавшись-авшись! Ты не смеешь-еешь! Коля, что ты молчишь-чишь? Встреча отменяется-яется?
– Нет. – Собравшись с духом, он выдал фразу подлиннее. – Я только проверить, все ли ты правильно запомнила.
– Что? Что проверить?
Видно, Ванде тоже было слышно неважно, но это как раз было очень кстати.
– Все ли ты правильно запомнила! – крикнул Фандорин.
– Да-да, конечно-ечно! «Троицкое подворье», в шесть, седьмой нумер, со двора, постучать два раза, три и еще два-ва. Может быть, все-таки не в шесть, а позже-озже? Сто лет не вставала в такую рань-ань.
– Ладно, – сказал осмелевший коллежский асессор, мысленно повторив: шесть, седьмой, со двора, два-три-два. – В семь. Но никак не позже. Дела.
– Хорошо, в семь! – крикнула Ванда. Эхо и треск внезапно исчезли, ее голос раздался очень ясно и был, пожалуй, даже узнаваем. Он звучал так радостно, что Фандорину стало стыдно.
– Даю отбой, – сказал он.
– Откуда ты телефонируешь? Где ты?
Эраст Петрович воткнул рожок в гнездо и крутанул ручку. Оказывается, телефоническая мистификация необычайно легка. Надо учесть на будущее, чтобы самому не попасть впросак. Придумать для каждого собеседника свой пароль? Ну, не для каждого, конечно, а, допустим, для агентов или просто для конфиденциальных случаев.
Но думать сейчас об этом было некогда.
Про домашний арест можно забыть. Теперь есть, что предъявить начальству. Неуловимый, почти бесплотный Клонов-Певцов завтра в шесть утра будет на каком-то Троицком подворье. Черт его знает, где это, да и в любом случае без Караченцева не обойтись. Следует произвести арест обстоятельно, по всей форме. Чтоб не ушел – очень уж ловок.
* * *
Дом обер-полицеймейстера на Тверском считался одной из достопримечательностей первопрестольной. Выходя фасадом на респектабельный бульвар, где в погожие дни прогуливалось лучшее московское общество, двухэтажный дом казенного желтого цвета словно оберегал и в некотором роде даже благословлял приличную публику на изящное и безмятежное времяпрепровождение. Гуляйте, мол, просвещенные дамы и господа, по узкому европейскому променаду, вдыхайте аромат лип, и пусть вас не тревожит сопение огромного полуазиатского города, населенного по преимуществу людьми непросвещенными и невоспитанными – власть здесь, вот она, на страже цивилизации и порядка, власть никогда не спит.
В сем последнем утверждении Эраст Петрович получил возможность удостовериться, когда, перед самой полуночью, позвонил в дверь знаменитого особняка. Открыл не швейцар, а жандарм при шашке и револьвере, строго выслушал ночного посетителя, но ни слова ему не сказал и оставил дожидаться на пороге – лишь вызвал электрическим звонком дежурного адъютанта. К счастью, адъютант оказался знакомым – капитан Сверчинский. Он не без труда опознал в энглизированном господине оборванного нищего, вызвавшего утром в управлении такой переполох, и сразу стал сама любезность. Выяснилось, что Евгений Осипович, как обычно, перед сном прогуливается по бульвару. Любит ночной моцион и не пренебрегает им в любую погоду, хоть бы даже и в дождь.
Эраст Петрович вышел на бульвар, немного прошелся в сторону бронзового Пушкина – и точно: навстречу неспешным шагом шла знакомая фигура в длинной кавалерийской шинели и надвинутом на лоб башлыке. Стоило коллежскому асессору рвануться навстречу генералу, как откуда ни возьмись, будто из самой земли, по бокам выросли две бесшумные тени, а за спиной обер-полицеймейстера возникли еще два столь же решительных силуэта. Эраст Петрович покачал головой: вот оно, иллюзорное одиночество государственного человека в эпоху политического терроризма. Ни шагу без охраны Боже, куда катится Россия…
А тени уж подхватили коллежского асессора под руки – мягко, но крепко.
– Эраст Петрович, легки на помине! – обрадовался Караченцев, а на агентов прикрикнул. – Брысь! Надо же, а я тут вышагиваю, о вас размышляю. Что, не усидели под арестом?
– Не усидел, ваше п-превосходительство. Евгений Осипович, идемте в дом, время не терпит.
Генерал вопросов задавать не стал, а сразу повернул к дому. Широко шагал, то и дело искоса поглядывая на спутника.
Прошли в просторный овальный кабинет, сели к длинному зеленого сукна столу напротив друг друга. Обер-полицеймейстер крикнул:
– Сверчинский, будьте за дверью! Можете понадобиться.
Когда обшитая кожей дверь беззвучно затворилась, Караченцев нетерпеливо спросил:
– Ну что? След?
– Лучше, – сообщил Фандорин. – Преступник. Собственной персоной. П-позволите закурить?
Попыхивая сигарой, коллежский асессор рассказал о результатах своих изысканий.
Караченцев все больше и больше хмурился. Дослушав, озабоченно почесал крутой лоб, отбросил непослушную рыжую прядь.
– И как вы трактуете всю эту головоломку? Эраст Петрович стряхнул столбик пепла.
– Соболев затевал какой-то дерзкий демарш. Возможно, переворот в духе восемнадцатого столетия. В общем то, что немцы называют putsch. Сами знаете, как Михаил Дмитриевич был п-популярен в армии и народе. Авторитет же верховной власти сейчас пал так низко… Да что я вам буду толковать, на вас все жандармское управление работает, слухи собирает.
Обер-полицеймейстер кивнул..
– О заговоре мне, собственно, ничего не известно. То ли Соболев возомнил себя Бонапартом, то ли, что более вероятно, вознамерился посадить на трон кого-то из родственников государя. Не знаю и не хочу г-гадать. Да и для нашей с вами задачи это несущественно.
Караченцев на это только дернул головой и расстегнул шитый золотом воротник. Над переносицей у генерала выступили капельки пота.
– В общем, наш Ахиллес затевал что-то нешуточное, – как ни в чем не бывало продолжил коллежский асессор и пустил к потолку такую элегантную струйку дыма, что одно заглядение. – Однако были у Соболева некие т-тайные, могущественные противники, осведомленные о его планах. Клонов, он же Певцов – их человек. С его помощью антисоболевская партия решила устранить новоявленного Бонапарта, но без шума, изобразив естественную смерть. Что и было исполнено. Экзекутору помогал наш з-знакомец Хуртинский, имевший связи с антисоболевской партией и, судя по всему, представлявший в Москве ее интересы.
– Эраст Петрович, не так быстро, – взмолился обер-полицеймейстер. – У меня голова кругом. Что за партия? Где? У нас, в министерстве внутренних дел?
Фандорин пожал плечами:
– Очень возможно. Во всяком случае, без вашего шефа графа Толстова не обошлось. Вспомните письмо, оправдывающее Хуртинского, и депешу, покрывающую Певцова. Хуртинский оказался скверным исполнителем. Слишком уж надворный советник был жаден – польстился на соболевский м-миллион, решил совместить полезное с приятным. Но центральная фигура во всей этой истории несомненно – светлоглазый блондин.
Здесь коллежский асессор встрепенулся, осененный новой идеей.
– Постойте-ка… А может быть, все еще с-сложней! Ну конечно!
Он вскочил и быстро прошелся по кабинету из угла в угол – генерал только следовал взглядом за мечущимся Фандориным, боясь нарушить ход мысли многоумного чиновника.
– Не мог министр внутренних дел организовать убийство генерал-адъютанта Соболева, что бы тот ни затевал! Это нонсенс! – От волнения Эраст Петрович перестал заикаться. – Наш Клонов, скорее всего, – не тот капитан Певцов, о котором пишет граф. Вероятно, настоящего Певцова уже нет на свете. Тут пахнет очень хитрой интригой, задуманной таким образом, чтобы в случае провала все можно было свалить на ваше ведомство! – неудержимо фантазировал коллежский асессор. – Так, так, так.
Он несколько раз быстро хлопнул в ладоши – напряженно слушавший генерал от неожиданности чуть не подпрыгнул.
– Предположим, министр знает о заговоре Соболева и организует, за генералом тайную слежку. Это раз. Кто-то другой тоже знает о заговоре и хочет Соболева убить. Это два. В отличие от министра, этот человек, а вернее всего, эти люди, которых мы назовем контрзаговорщиками, законом не связаны и преследуют какие-то свои цели.
– Какие цели? – слабым голосом спросил вконец замороченный обер-полицеймейстер.
– Наверное, власть, – небрежно ответил Фандорин. – Какие же еще могут быть цели, когда интрига разворачивается на таком уровне? Контрзаговорщики имели в своем распоряжении необычайно изобретательного и предприимчивого исполнителя, который нам известен как Клонов. В том, что он никакой не купец, можно не сомневаться. Это человек незаурядный, невероятных способностей. Невидим, неуловим, неуязвим. Вездесущий, он повсюду появлялся раньше нас с вами, наносил удар первым. Хотя мы и сами действовали быстро, он постоянно оставлял нас с носом.
– А вдруг он все-таки жандармский капитан и действует по санкции министра? – спросил Караченцев. – Что если… – Он сглотнул. – Что если устранение Соболева санкционировано свыше? Извините, но мы с вами, Эраст Петрович, профессионалы и отлично знаем, что для защиты государственных интересов иногда приходится прибегать к нетрадиционным методам.
– Зачем тогда было выкрадывать портфель, да еще из жандармского управления? – пожал плечами Фандорин. – Ведь портфель и так уже попал в жандармское управление, и вы по инстанции переслали бы его в Петербург, тому же графу Толстову. Зачем было огород городить? Нет, министерство здесь не при чем. Да и убить всенародного героя – это вам не какого-нибудь генерала Пишегрю в тюрьме удавить. Поднять руку на Михаила Дмитриевича Соболева? Без суда и следствия? Нет. Евгений Осипович, при всех несовершенствах нашей власти это уж чересчур. Не поверю.
– Да, вы правы, – признал Караченцев.
– И потом легкость, с которой Клонов совершает убийства, что-то уж больно мало похожа на государеву службу.
Обер-полицеймейстер поднял ладонь:
– Погодите-погодите, не увлекайтесь. Какие, собственно, убийства? Мы ведь так и не знаем, был ли Соболев убит или все-таки умер своей смертью. По результатам вскрытия получается – умер.
– Нет, убит, – отрезал Эраст Петрович. – Хоть и непонятно, как удалось скрыть следы. Если б мы тогда знали то, что знаем сейчас, мы, возможно, проинструктировали бы профессора Веллинга провести исследование более дотошно. Он ведь заранее был уверен, что смерть произошла вследствие естественных причин, а изначальная установка определяет очень многое. И потом, – коллежский асессор остановился напротив генерала, – ведь смертью Соболева не ограничилось. Клонов обрубил все возможные концы. Я уверен, что таинственная смерть Кнабе – его рук дело. Посудите сами, разве стали бы немцы убивать своего офицера генштаба, даже с очень большого перепугу? Так в цивилизованных странах не делается. На худой конец принудили бы застрелиться, но мясницким ножом в бок? Невероятно! Клонову же это было бы очень кстати – мы с вами полностью уверились, что дело раскрыто. Если бы не всплыл портфель с миллионом, мы бы поставили в расследовании точку. Крайне подозрительна также внезапная смерть кельнера из «Метрополя». Этот злосчастный Тимофей Спиридонович, видимо, провинился только тем, что помог Клонову найти исполнительницу, Ванду. Ах, Евгений Осипович, мне все теперь кажется подозрительным! – воскликнул Фандорин. – Даже смерть Миши Маленького. Даже самоубийство Хуртинского!
– Ну уж это слишком, – скривился обер-полицеймейстер. – Ведь предсмертная записка.
– Скажите, положа руку на сердце, стал бы Петр Парменович накладывать на себя руки, оказавшись перед угрозой разоблачения? Что, такой уж он был человек чести?
– Да вообще-то вряд ли. – Теперь уже Караченцев вскочил и зашагал вдоль стены. – Скорее попробовал бы сбежать. Судя по найденным у него в сейфе бумагам, покойник имел счет в цюрихском банке. Не удалось бы сбежать – молил бы о пощаде, совал взятки судьям. Я эту породу хорошо знаю, исключительной живучести людишки. Да Хуртинский скорей на каторгу пошел бы, чем в петлю лезть. Однако записка начертана его рукой, это несомненно…
– Более всего меня пугает то, что во всех случаях подозрение об убийстве либо не возникает вовсе, либо, как в случае с Кнабе или Мишей Маленьким, оно со всей определенностью ложится на кого-то другого – в первом случае на германских агентов, во втором на Фиску. Это знак высшего профессионализма. – Эраст Петрович прищурился. – Я одного в толк не возьму – как он мог оставить в живых Ванду… Кстати, Евгений Осипович, надо немедленно выслать за ней наряд и убрать ее из «Англии». Вдруг ей протелефонирует настоящий Клонов? Или, того хуже, вздумает исправить свою непонятную оплошность?
– Сверчинский! – крикнул генерал и вышел в приемную распорядиться.
Когда вернулся, коллежский асессор стоял у висевшей на стене карты города и водил по ней пальцем.
– Где это – Троицкое подворье? – спросил он.
– «Троицкое подворье» – это номера на Покровке, недалеко от церкви Святой Троицы. Вот здесь, – показал генерал. – Хохловский переулок. Там когда-то и в самом деле было монастырское подворье, а сейчас – полутрущобный лабиринт из пристроек, флигельков, бараков. Обычно номера называют просто «Троица».
Места неблагополучные, оттуда и до Хитровки рукой подать. Однако живет в «Троице» не совсем пропащая публика – актеришки, модистки, разорившиеся коммерсанты. Надолго там жильцы не задерживаются: либо выкарабкиваются обратно, в общество, либо проваливаются еще ниже, в хитрованские пучины.
Пространно отвечая на простой вопрос, обер-полицеймейстер думал о чем-то другом, и видно было, что решение дается ему с трудом. Когда генерал договорил, наступила пауза. Эраст Петрович понял, что разговор входит в главную фазу.
– Разумеется, это весьма рискованный шаг, Евгений Осипович, – тихо сказал коллежский асессор. – Ежели мои п-предположения ошибочны, вы можете погубить карьеру, а человек вы честолюбивый. Но я потому и пришел к вам, а не к Владимиру Андреевичу, что он-то наверняка рисковать не пожелал бы. Чересчур осторожен – сказывается возраст. С другой стороны, и положение его менее щекотливо, чем ваше. В любом случае министерство затеяло за вашей спиной интригу, в которой вам, извините за откровенность, отведена роль карточного б-болвана. Граф Толстов не счел возможным посвятить вас, начальника московской полиции, в дело Соболева, однако же доверился Хуртинскому, человеку низкому и, более того, преступному. Некто еще более хитрый, чем министр, провел свою собственную операцию. Вы были в стороне от всех этих событий, но ответственность в конечном итоге ляжет на вас. Боюсь, что платить за разбитые г-горшки придется вам. А самое обидное то, что вы так и не узнаете, кто их разбил и почему. Чтобы понять истинный смысл интриги, надо взять Клонова. Тогда у вас на руках появится козырь.
– А если он все же правительственный агент, то я с треском вылечу в отставку. В лучшем случае, – мрачно возразил Караченцев.
– Евгений Осипович, замять дело все равно вряд ли удастся, да и грех – не столько даже из-за Соболева, сколько из боязни: что же это за таинственная сила в-вертит судьбами России? По какому праву? И что эта сила удумает завтра?
– На масонов намекаете? – удивился генерал. – Граф Толстов, действительно, – член ложи, да и Вячеслав Константинович Плевако, директор департамента полиции. Чуть не половина влиятельных людей в Петербурге масоны. Только им политическое убийство ни к чему, они и так кого хочешь в бараний рог согнут, по закону.
– Какие там масоны, – досадливо сморщил гладкий лоб Фандорин. – Про них все знают. Тут же просматривается настоящий комплот, не опереточный. И в случае успеха, ваше превосходительство, вы можете получить ключик к т-такой пещере Аладдина, что дух захватывает.
Евгений Осипович взволнованно зашевелил рыжими бровями. Заманчиво, очень заманчиво. И иуде Вячеславу Константиновичу (товарищ, называется), и самому графу Толстову можно преотличный штырь вставить. А не шути с Караченцевым, не делай из него дурака. Заигрались, господа, допрыгались. Ну, тайная слежка за заговорщиком – это понятно, в таком деле деликатность нужна. Однако чтобы под носом у ваших агентов убили народного героя – это уже скандал. Прошляпили, умники петербургские. Теперь, поди, волосы рвете, трясетесь в своих креслах. А тут Евгений Осипович подносит голубчика на блюдце: вот он, злодей. Хм, а, может, его на блюдечке кому повыше поднести? Дело-то ого-го какое. И мысленному взору обер-полицеймейстера открылись перспективы до такой степени заоблачные, что захватило дух. Но одновременно и засосало под ложечкой. От страха.
– Ну хорошо, – осторожно произнес Караченцев.
– Допустим, арестовали мы Клонова. А он – рот на замок и молчит. В расчете на своих покровителей. Что тогда будем делать?
– Совершенно резонная постановка вопроса, – кивнул коллежский асессор, не показывая виду, что рад переходу беседы из теоретической стадии в практическую.
– Я тоже об этом думаю. Взять Клонова будет очень непросто, а заставить г-говорить – во сто крат трудней. Поэтому имею предложение.
Евгений Осипович навострил уши, зная по опыту, что шустрый молодой человек глупости не предложит и самое трудное возьмет на себя.
– Ваши люди обложат «Троицу» со всех сторон, чтобы таракан не прошмыгнул. – Фандорин азартно припал к карте. – Вот здесь кордончик, здесь и здесь. Проходные д-дворы перекрыть по всей округе, благо раннее утро – многие еще будут спать. Вокруг самой «Троицы» – несколько лучших агентов, человека три-четыре, не больше. Они должны действовать исключительно аккуратно, хорошо маскируясь, чтоб не дай бог не спугнуть. Их дело – ждать моего сигнала. Я же п-пойду в нумер к Клонову один и заведу с ним игру в откровенность. Сразу он меня не убьет – захочет выяснить, много ли я знаю, да откуда взялся, да в чем мой интерес. И мы с ним исполним изящный па-де-де: я ему немножко завесу приоткрою – он со мной слегка пооткровенничает; п-потом снова я – снова он. Уверенный, что может убрать меня в любой момент, Клонов будет разговорчивей, чем в случае ареста. Другого способа я не вижу.
– Так ведь риск какой, – сказал Караченцев. – Если вы правы и он настолько виртуозен по части убийств, то, не ровен час…
Эраст Петрович легкомысленно пожал плечами:
– Как сказал Конфуций, благородный муж должен сам нести ответственность за свои ошибки.
– Что ж, с Богом. Большое дело. Или грудь в крестах, или голова в кустах. – Голос обер-полицеймейстера прочувствованно дрогнул. Он крепко пожал Фандорину руку. – Идите, Эраст Петрович, к себе в гостиницу и как следует выспитесь. Ни о чем не тревожьтесь, я лично подготовлю операцию. Все сделаю наилучшим образом. Утром пойдете в «Троицу» – сами посмотрите, хорошо ли замаскировались мои молодцы.
– Вы прямо как Василиса Премудрая, ваше превосходительство, – белозубо рассмеялся коллежский асессор. – Спи, Иванушка, утро вечера мудренее? Что ж, я и в самом деле немного устал, а завтра дело нешуточное. Ровно в шесть буду в «Троице». Условный сигнал, по которому ваши идут ко мне на помощь – свисток. До свистка пусть ни в коем случае не суются… Ну а если что – не дайте ему уйти. Это уж, Евгений Осипович, личная п-просьба.
– Не беспокойтесь, – серьезно сказал генерал, все еще держа молодого человека за руку. – Ювелирно исполним. Самых золотых агентов отряжу и в количестве более чем достаточном. Только уж вы, отчаянная голова, того, поосторожней.
* * *
Эраст Петрович давно уже приучил себя просыпаться во столько, во сколько определит накануне. Ровно в пять утра он открыл глаза и улыбнулся, потому что из-за подоконника как раз выглянул самый краешек солнца и было похоже, что кто-то лысый и круглоголовый подглядывает в окошко.
Насвистывая арию из «Любовного напитка», Фандорин побрился, не без удовольствия полюбовался в зеркало на свое замечательно красивое лицо. Завтракать перед сражением самураю не положено, поэтому вместо утреннего кофея коллежский асессор немного поработал с гирями и обстоятельно, не спеша занялся экипировкой. Вооружился по самой что ни на есть полной программе, ибо противник представлялся серьезным.
Маса помогал хозяину снаряжаться, проявляя все более заметное беспокойство. Наконец не выдержал:
– Господин, такое лицо у вас бывает, когда смерть очень близко.
– Ты же знаешь, настоящий самурай должен каждое утро просыпаться в полной готовности умереть, – пошутил Эраст Петрович, надевая светлый чесучовый пиджак.
– В Японии вы всегда брали меня с собой, – пожаловался слуга. – Знаю, я подвел вас уже дважды, но это больше не повторится. Клянусь – чтоб мне в следующей жизни родиться медузой! Возьмите меня, господин. Очень прошу.
Фандорин ласково щелкнул его по маленькому носу:
– На сей раз ты мне ничем не сможешь помочь. Я должен быть один. Да и не один я вовсе, со мной целая армия полицейских. Это мой противник совсем один.
– Опасный?
– Очень. Тот самый, кто обманом выманил у тебя портфель.
Маса засопел, сдвинул редкие брови и больше ничего не сказал.
* * *
Эраст Петрович решил пройтись до Покровки пешком. Ах, до чего же хороша была Москва после дождя. Свежесть, розовый флер занимающегося дня, тишина. Если умирать – то только в такое божественное утро, подумал коллежский асессор и тут же отругал себя за склонность к мелодраматизму. Прогулочным шагом, насвистывая, вышел на Лубянскую площадь, где у фонтана поили лошадей извозчики. Свернул на Солянку, блаженно вдохнул аромат свежего хлеба, донесшийся из открытых окон полуподвальной пекарни.
А вот и нужный поворот. Дома стали победнее, тротуар поуже, а на самом подходе к «Троице» пейзаж и вовсе утратил идилличность: на мостовой лужи, покосившиеся заборы, облупленные стены. Полицейского кордона при всей своей наблюдательности Эраст Петрович не заметил и очень этому порадовался.
У входа во двор посмотрел на часы – без пяти шесть. Самое время. Деревянные ворота, на них покосившаяся вывеска «Троицкое подворье». Постройки сплошь одноэтажные, каждый нумер с отдельным входом. Вон первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой нумер, надо полагать, налево, за углом.
Только бы Клонов не начал стрелять сразу, не вступая в разговоры. Надо заготовить какую-нибудь фразу, которая собьет с толку. Например: «Поклон от мадемуазель Ванды». Или незамысловатей: «Известно ли вам, что Соболев на самом деле жив?» Лишь бы не упустить инициативу. А дальше по наитию. Надежная тяжесть «герсталя» оттягивала карман.
Эраст Петрович решительно повернул в ворота. Дворник в грязном фартуке лениво возил метлой по луже. На изящного господина посмотрел исподлобья, и Эраст Петрович ему незаметно подмигнул. Убедительный дворник, ничего не скажешь. У ворот сидел еще один агент – изображал пьяного: храпел, надвинув картуз на лицо. Тоже неплохо. Фандорин оглянулся назад и увидел, как по улице семенит пузатая бабенка в надвинутом на самые глаза ковровом платке и бесформенном балахоне. Ну уж это слишком, покачал головой коллежский асессор. Фарсом попахивает.
Седьмой нумер и в самом деле оказался первым за поворотом, во внутреннем дворе. Низенькое, в две ступени крылечко. На двери белой масляной краской намалевано «№ 7».
Эраст Петрович остановился, вдохнул воздух полной грудью, выдохнул мелкими, равномерными толчками.
Поднял руку и негромко постучал.
Два раза, три, потом еще два.
Часть вторая Ахимас
Скировск
1
Отца звали Пелеф, что на древнееврейском означает «бегство». В год его рождения «христовых братьев», проживших в Моравии две сотни лет, постигла беда. Император отменил привилегию, освобождавшую общину от военной службы, потому что начал большую войну с другим императором и ему было нужно много солдат.
Община снялась в одну ночь, бросив землю и дома. Переехала в Пруссию. «Христовым братьям» было все равно, что не поделили императоры – строгая вера запрещала служить земным владыкам, приносить им присягу на верность, брать в руки оружие и носить мундир с гербовыми пуговицами, которые суть оттиски с печати Сатаны. Поэтому на своих длинных коричневых камзолах, покрой которых за два с лишним столетия почти не изменился, братья пуговиц не носили – признавали только завязки.
В Пруссии жили единоверцы. Когда-то, давным-давно, они прибыли сюда, тоже спасаясь бегством от Антихриста. Король дал им землю в вечное владение и освободил от военной службы с условием, что они осушат бескрайние прусские болота. С непроходимой трясиной братья сражались два поколения, а на третье победили ее и зажили на богатых перегноем землях сытно и привольно. Единоверцев из Моравии приняли радушно, поделились всем, что имели, и стали жить вместе хорошо, спокойно.
Достигнув двадцати одного года, Пелеф женился. Господь дал ему добрую жену, а та в положенный срок родила сына. Но потом Всевышний решил подвергнуть своих верных слуг тяжким испытаниям. Сначала был мор, и многие умерли, в том числе жена и сын Пелефа. Он не роптал, хотя жизнь изменила свой цвет, и из белой стала черной. Но Всевышнему показалось мало, Он решил явить избранникам Свою любовь во всей ее суровой непреклонности. Новый, просвещенный король постановил, что у него в державе все равны, и отменил закон, данный другим королем, тем, что жил давным-давно. Теперь и евреи, и менонниты, и «христовы братья» должны были служить в армии и защищать свою отчизну с оружием в руках. Но отчизна братьев находилась не среди осушенных прусских болот, а на небесах, поэтому Конвент духовных старшин посоветовался и решил, что надо ехать на восток, к русскому царю. Там тоже была община, и оттуда иногда приходили письма, которые шли долго, с верными людьми, потому что казенная почта от лукавого. В письмах единоверцы писали, что земля в тех краях тучна, а власти снисходительны и довольствуются малой мздой.
Собрали скарб, что могли – продали, остальное бросили. Ехали на повозках семижды семь дней и прибыли в страну с трудным названием Melitopolstschina. Земля там и вправду была жирна, но двенадцать молодых семей и с ними вдовый Пелеф захотели ехать дальше, потому что никогда не видели гор, а только читали про них в священных книгах. Невозможно было себе представить, как это может быть, чтобы твердь поднималась в небо на много тысяч локтей и достигала Божьих облаков. Молодым хотелось это увидеть, а Пелефу было все равно. Ему понравилось ехать на запряженной быками телеге через леса и поля, потому что это отвлекало от мыслей о Рахили и маленьком Ахаве, которые навсегда остались в мокрой прусской земле.
Горы оказались точь-в-точь такими, как описано в книгах. Они назывались Кавказ, и простирались во все стороны горизонта, сколько хватало глаза. Пелеф забыл про Рахиль и Ахава, потому что здесь все было другое, и даже ходить приходилось не как прежде, а сверху вниз и снизу вверх. В первый же год он женился.
Было так: «христовы братья» рубили лес на единственном пологом склоне, расчищая поле для пашни. Местные девушки смотрели, как чужие мужчины в длинных смешных одеждах споро рубят вековые сосны и корчуют цепкие пни. Девушки пересмеивались и грызли орехи. Одна из них, пятнадцатилетняя Фатима, загляделась на богатыря с белыми волосами и белой бородой. Он был могучий, но спокойный и добрый, совсем не такой, как мужчины из ее аула, злые и быстрые в движениях.
Фатиме пришлось креститься и носить другую одежду – черное платье и белый чепец. Пришлось поменять имя, из Фатимы она стала Сарой, пришлось работать по дому и хозяйству от рассвета до заката, учить чужой язык, а все воскресенье нужно было молиться и петь в молитвенном доме, который срубили раньше, чем дома для жилья. Но все это Фатиму не пугало, потому что ей с беловолосым Пелефом было хорошо и потому что Аллах не обещал женщине легкой жизни.
На следующее лето, когда Сара-Фатима лежала в родовых муках, с гор спустились немирные чеченцы, сожгли урожай пшеницы и угнали скот. Пелеф смотрел, как уводят лошадь, двух быков, трех коров, и молился, чтобы Господь не покинул его и не дал выхода его гневу. Поэтому сыну, чей первый крик раздался в ту самую минуту, когда по гладко выструганным стенам молитвенного дома поползли жадные языки пламени, отец дал имя Ахимас, что означает «брат гнева».
На второй год абреки опять явились за добычей, но ушли ни с чем, потому что на окраине отстроенной деревни стоял блокгауз, а в нем жили фельдфебель и десять солдат. За это братья заплатили воинскому начальнику пятьсот рублей.
Мальчик родился большой. Сара-Фатима чуть не умерла, когда он выходил наружу. Больше она рожать не могла. И не хотела, потому что не могла простить мужу, что он стоял и смотрел, как разбойники уводят лошадь, быка и коров.
У Ахимаса в детстве было два бога и три языка. Бог отца, строгий и злопамятный, учил: ударят по правой щеке – подставь левую; кто радуется в этой жизни, наплачется в следующей; горя и страдания бояться не надо, ибо они – благо, знак особой любви Всевышнего. Бог матери, про которого говорить вслух не следовало, был добрый: разрешал радоваться, играть и не велел давать спуску обидчикам. Про доброго Бога говорить можно было только шепотом, когда кроме матери рядом никого нет, а это значило, что Бог отца главней. Он говорил на языке, который назывался Die Sprache и представлял собой смесь голландского с немецким. Бог матери разговаривал по-чеченски. А еще был русский язык, которому Ахимаса научили солдаты из блокгауза. Мальчика очень тянуло к их тесакам и ружьям, но это было нельзя, совсем нельзя, потому что главный Бог запрещал прикасаться к оружию. А мать шептала, что ничего, можно. Она уводила сына в лес, рассказывала про смелых воинов из своего рода, учила делать подножку и бить кулаком.
Когда Ахимасу было семь лет, девятилетний Мельхиседек, сын кузнеца, нарочно брызнул ему на букварь чернилами. Ахимас сделал обидчику подножку и ударил кулаком в ухо. Мельхиседек с плачем побежал жаловаться.
Был долгий, тягостный разговор с отцом. Глаза Пелефа, такие же светлые, как у сына, стали сердитыми и грустными. Потом Ахимас весь вечер должен был простоять на коленях, читая псалмы. Но мысли его были обращены не к Богу отца, а к Богу матери. Мальчик молился, чтобы у него глаза из белых сделались черными, как у матери и ее сводного брата Хасана. Своего дядю Хасана Ахимас никогда не видел, но знал, что он сильный, храбрый, удачливый и никогда не прощает врагов. Дядя перевозил тайными горными тропами мохнатые ковры из Персии, из Турции тюки с табаком, а обратно, через границу, переправлял оружие. Ахимас часто думал о Хасане. Представлял, как тот сидит в седле, зорко оглядывая склон ущелья – не притаилась ли в засаде пограничная стража. На Хасане косматая папаха, бурка, за плечом – ружье с узорчатым прикладом.
2
В день, когда Ахимасу исполнилось десять лет, он с самого утра сидел под замком в дровяном чулане. Сам виноват – мать украдкой подарила ему маленький, но настоящий кинжал с полированным лезвием и роговой рукояткой, велела спрятать, но Ахимас не утерпел, побежал во двор испробовать клинок на остроту и был застигнут отцом. Пелеф спросил, откуда взялось оружие, а когда понял, что ответа не будет, подверг сына наказанию.
Ахимас провел в чулане полдня. Ему было ужасно жалко отобранного кинжала и еще было скучно. А после полудня, когда очень захотелось есть, раздались выстрелы и крики.
Это абрек Магома с четырьмя кунаками напал на солдат, которые стирали в ручье рубахи, потому что у них был банный день. Разбойники дали залп из кустов, убили двоих и двоих ранили. Остальные солдаты побежали к блокгаузу, но абреки сели на коней и всех зарубили шашками. Фельдфебель, который на речку не ходил, заперся в крепком бревенчатом доме с маленькими узкими оконцами и выстрелил из ружья. Магома подождал, пока русский перезарядит и снова высунется из бойницы, заранее прицелился и попал фельдфебелю круглой тяжелой пулей прямо в лоб.
Всего этого Ахимас не видел. Но он видел, припав к щели между досками, как во двор вошел бородатый одноглазый человек в белой косматой папахе, с длинным ружьем в руке (это и был Магома). Одноглазый остановился перед выбежавшими во двор родителями Ахимаса и сказал им что-то – не разобрать, что. Потом взял мать одной рукой за плечо, а другой за подбородок и поднял ей лицо кверху. Пелеф стоял, наклонив львиную голову, и шевелил губами. Молится, понял Ахимас. Сара-Фатима не молилась, она оскалила зубы и расцарапала одноглазому лицо.
Женщина не должна касаться лица мужчины, поэтому Магома вытер со щеки кровь и убил гяурку ударом кулака в висок. Потом убил и ее мужа, потому что после этого нельзя было оставлять его в живых. Пришлось убить и всех остальных жителей деревни – такой уж, видно, выпал день.
Абреки согнали скот, полезные и ценные вещи свалили на две телеги, запалили деревню с четырех концов и уехали.
Пока чеченцы убивали деревенских, Ахимас сидел в чулане тихо. Он не хотел, чтобы его тоже убили. Когда же стук копыт и скрип колес удалились в сторону Карамыкского перевала, мальчик выбил плечом доску и выбрался во двор. В чулане все равно оставаться было нельзя – задняя стена занялась, и в щели пополз серый дым.
Мать лежала на спине. Ахимас сел на корточки, потрогал синее пятно между ее глазом и ухом. Мать была по виду, как живая, но смотрела не на Ахимаса, а в небо. Оно стало для Сары-Фатимы важнее, чем сын. Еще бы, ведь там жил ее Бог. Ахимас наклонился над отцом, но у того глаза были закрыты, а борода из белой стала вся красная. Мальчик провел по ней пальцами, и они тоже окрасились в красное.
Ахимас зашел во все дворы. Там лежали мертвые женщины, мужчины и дети. Всех их Ахимас очень хорошо знал, но они его больше не узнавали. На самом деле их здесь не было, тех, кого он знал. Он остался один. Ахимас спросил сначала одного Бога, потом другого, что ему теперь делать. Подождал, но ответа не услышал.
Вокруг все горело, молитвенный дом, он же школа, загрохотал и взметнул вверх облако дыма – это провалилась крыша.
Ахимас осмотрелся по сторонам. Горы, небо, горящая земля, и ни души. В этот миг он понял, что так теперь будет всегда. Он один, и ему самому решать – оставаться или уходить, умереть или жить.
Он прислушался к себе, вдохнул запах гари и побежал к дороге, что вела сначала вверх, в межгорье, а потом вниз, в большую долину.
Он шел остаток дня и всю ночь. На рассвете повалился у обочины. Очень хотелось есть, но еще больше спать, и Ахимас уснул. Проснулся от голода. Солнце стояло в самой середине неба. Он пошел дальше и к вечеру вышел к казачьей станице.
У околицы тянулись длинные грядки огурцов. Ахимас огляделся вокруг – никого. Раньше ему и в голову не пришло бы брать чужое, потому что Бог отца сказал: «Не укради», но теперь ни отца, ни его Бога не было, и Ахимас, опустившись на четвереньки, стал жадно поедать упругие пупырчатые плоды. На зубах хрустела земля, и было не слышно, как сзади подкрался хозяин, здоровенный казак в мягких сапогах. Он схватил Ахимаса за шиворот и пару раз ожег нагайкой, приговаривая: «Не воруй, не воруй». Мальчишка не плакал и пощады не просил, а только смотрел снизу вверх белесыми волчьими глазами. От этого хозяин вошел в раж и принялся охаживать волчонка со всей силы – до тех пор, пока того не вырвало зеленой огуречной массой. Тогда казак взял Ахимаса за ухо, выволок на дорогу и дал пинка.
Ахимас шел и думал, что отец-то умер, а его Бог жив, и Божьи законы тоже живы. Спина и плечи горели огнем, но еще хуже горело все внутри.
У быстрой, неширокой речки Ахимасу встретился большой мальчик, лет четырнадцати. Казачонок нес буханку бурого хлеба и кринку молока.
– Дай, – сказал Ахимас и вырвал хлеб. Большой мальчик поставил кринку на землю и ударил его кулаком в нос. Из глаз брызнули огоньки, и Ахимас упал, а большой мальчик – он был сильнее – сел сверху и стал бить по голове. Тогда Ахимас взял с земли камень и ударил казачонка в бровь. Тот откатился в сторону, закрыл лицо руками и захныкал. Ахимас поднял камень, чтобы ударить еще раз, но вспомнил, что закон Бога говорит: «Не убий» – и не стал. Кринка во время драки опрокинулась, и молоко пролилось, но Ахимасу достался хлеб, и этого было достаточно. Он шел по дороге дальше и ел, ел, ел, пока не съел все до последней крошки.
Не надо было слушать Бога, надо было убить мальчишку. Ахимас понял это, когда, уже в сумерках, его нагнали двое верховых. Один был в фуражке с синим околышем, за спиной у него сидел казачонок с расплывшимся от кровоподтека лицом.
«Вот он, дядя Кондрат! – закричал казачонок. – Вот он, убивец!»
Ночью Ахимас сидел в холодной и слушал, как урядник Кондрат и стражник Ковальчук решают его судьбу. Ахимас не сказал им ни слова, хотя они допытывались, кто он и откуда, крутили ухо и били его по щекам. В конце концов сочли мальчишку глухонемым и оставили в покое.
«Куда его, Кондрат Пантелеич? – спросил стражник. Он сидел к Ахимасу спиной и что-то ел, запивая из кувшина. – Нешто в город везти? Может, подержать до утра, да выгнать взашей?»
«Я те выгоню, – ответил начальник, сидевший напротив и писавший гусиным пером в книге. – Атаманову сынку чуть макитру не проломил. В Кизляр его надо, звереныша, в тюрьму».
«А не жалко в тюрьму-то? Сам знаешь, Кондрат Пантелеич, каково там мальцам».
«Больше некуда, – сурово сказал урядник. – У нас тутова приютов нету».
«Так в Скировске, вроде, монашки сироток принимают?»
«Только женского полу. В тюрьму его, Ковальчук, в тюрьму. Завтра с утра и отвезешь. Вот бумаги только выправлю».
Но утром Ахимас был уже далеко. Когда урядник ушел, а стражник лег спать и захрапел, Ахимас подтянулся до окошка, протиснулся между двумя толстыми прутьями и спрыгнул на мягкую землю.
Про Скировск ему слышать приходилось – это сорок верст на закат.
Получалось, что Бога все-таки нет.
3
В Скировский монастырский приют Ахимас пришел, переодевшись девочкой – стащил с бельевой веревки ситцевое платье и платок. Главной монахине, к которой надо было обращаться «мать Пелагея», назвался Лией Вельде, беженкой из разоренной горцами деревни Нойесвельт. Вельде – это была его настоящая фамилия, а Лией звали его троюродную сестру, тоже Вельде, противную веснушчатую девчонку с писклявым голосом. Последний раз Ахимас видел ее лежащей навзничь, с рассеченным надвое лицом.
Мать Пелагея погладила немочку по белобрысой стриженой голове, спросила: «Православную веру примешь?»
И Ахимас стал русским, потому что теперь твердо знал, что Бога нет, молитвы – глупость, а значит, русская вера ничем не хуже отцовской.
В приюте ему понравилось. Кормили два раза в день, спали в настоящих кроватях. Только много молились и подол платья все время застревал между ногами.
На второй день к Ахимасу подошла девочка с тонким личиком и большими зелеными глазами. Ее звали Женя, родителей у нее тоже убили разбойники, только давно, еще прошлой осенью. «Какие у тебя, Лия, глаза прозрачные. Как вода», – сказала она. Ахимас удивился – обычно его слишком светлые глаза казались людям неприятными. Вот и урядник, когда бил, все повторял «чухна белоглазая».
Девочка Женя ходила за Ахимасом по пятам, где он, там и она. На четвертый день она застигла Ахимаса, когда он, задрав подол, мочился за сараем.
Выходило, что придется бежать, только непонятно было куда. Он решил подождать, пока выгонят, но его не выгнали. Женя никому не сказала.
На шестой день, в субботу, надо было идти в баню. Утром Женя подошла и шепнула: «Не ходи, скажи, что у тебя краски». «Какие краски?» – не понял Ахимас. «Это когда в баню нельзя, потому что из тебя кровь течет и нечисто. У некоторых наших девчонок уже бывает. У Кати, у Сони, – объяснила она, назвав двух самых старших воспитанниц. – Мать Пелагея проверять не будет, она брезгует». Ахимас так и сделал. Монашки удивились, что так рано, но в баню разрешили не ходить. Вечером он сказал Жене: «В следующую субботу уйду». По ее лицу потекли слезы. Она сказала: «Тебе нужно будет хлеба в дорогу».
Теперь она свой хлеб не ела, а потихоньку отдавала Ахимасу, и он складывал краюхи в мешок.
Но бежать Ахимасу не пришлось, потому что накануне следующего банного дня, в пятницу вечером, в приют приехал дядя Хасан. Он пошел к матери Пелагее и спросил, здесь ли девочка из немецкой деревни, которую сжег абрек Магома. Хасан сказал, что хочет поговорить с девочкой и узнать, как погибли его сестра и племянник. Мать Пелагея вызвала Лию Вельде в свою келью, а сама ушла, чтобы не слушать про злое.
Хасан оказался совсем не таким, каким представлял его Ахимас. Он был толстощекий, красноносый, с густой черной бородой и маленькими хитрыми глазами. Ахимас смотрел на него с ненавистью, потому что дядя выглядел точь-в-точь так же, как чеченцы, спалившие деревню Нойесвельт.
Разговор не получался. На вопросы сирота не отвечала или отвечала односложно, взгляд из-под белесых ресниц был упрямым и колючим.
«Моего племянника Ахимаса не нашли, – сказал Хасан по-русски с гортанным приклектыванием. – Может, Магома увел его с собой?»
Девчонка пожала плечами.
Тогда Хасан задумался и достал из сумки серебряные мониста. «Гостинец тебе, – показал он. – Красивые, из самой Шемахи. Поиграйся с ними пока, а я пойду попрошусь к игуменье на ночлег. Долго ехал, устал. Не под небом же ночевать…»
Он вышел, оставив на стуле оружие. Едва за дядей закрылась дверь, Ахимас отшвырнул мониста и кинулся к тяжелой шашке в черных ножнах с серебряной насечкой. Потянул за рукоять, и показалась полоска стали, вспыхнувшая ледяными искорками в свете лампы. Настоящая гурда, подумал Ахимас, ведя пальцем по арабской вязи.
Тихонько скрипнуло. Ахимас дернулся и увидел, как в щель на него смотрят смеющиеся черные глаза Хасана.
«Наша кровь, – сказал дядя по-чеченски, обнажая белые зубы, – она сильней, чем немецкая. Поедем отсюда, Ахимас. В горах заночуем. Под небом лучше спится».
Уже потом, когда Скировск скрылся за перевалом, Хасан положил Ахимасу руку на плечо. «Отдам тебя учиться, но сначала сделаю мужчиной. Надо Магоме за отца и мать мстить. Никуда не денешься, такой закон».
Ахимас понял: вот этот закон правильный.
4
Ночевали, где придется: в заброшенных саклях, в придорожных духанах, у дядиных кунаков, а то и просто в лесу, завернувшись в бурку. «Мужчина должен уметь найти еду, воду и путь в горах, – учил Хасан племянника своему закону. – Еще – защищать себя и честь своего рода». Ахимас не знал, что такое честь рода. У него не было рода. Но уметь защищать себя очень хотел и готов был учиться с утра до вечера.
«Затаи дыхание и представь, что от дула тянется тонкий луч. Нащупай цель этим лучом, – учил Хасан, дыша в затылок и поправляя мальчишечьи пальцы, крепко вцепившиеся в ружейное ложе. – А сила не нужна. Ружье – оно как женщина или конь, дай ему ласку и понимание». Ахимас старался понять ружье, прислушивался к его нервному железному голосу, и металл начинал гудеть ему на ухо: чуть правей, еще, а теперь стреляй. «Ва! – Дядя цокал языком и закатывал глаза. – У тебя глаз орла! Со ста шагов в бутылку! Вот так же разлетится и голова Магомы!»
Ахимас не хотел стрелять в одноглазого со ста шагов. Он хотел убить его так же, как тот убил Фатиму – ударом в висок, а еще лучше – перерезать ему горло, как Магома перерезал горло Пелефу.
Из пистолета стрелять было еще легче. «Никогда не целься, – говорил дядя. – Ствол пистолета – продолжение твоей руки. Когда ты показываешь на что-то пальцем, ты ведь не целишься, но тычешь именно туда, куда нужно. Думай, что пистолет – это твой шестой палец». Ахимас показывал длинным железным пальцем на грецкий орех, лежавший на пне, и орех разлетался в мелкое крошево.
Шашку Хасан племяннику не давал, говорил, пусть сначала рука и плечо подрастут, но кинжал подарил в первый же день и велел никогда с ним не расставаться – когда голый купаешься в ручье, вешай на шею. Прошло время, и кинжал стал для Ахимаса частью тела, гак жало для осы. Им можно было нарубить хворост для костра, выпустить кровь из подстреленного оленя, выстругать тоненькую щепку, чтобы после оленины поковырять в зубах. На привале, когда не было дела, Ахимас кидал кинжал в дерево – то стоя, то сидя, то лежа. Это занятие ему не надоедало. Сначала он мог попасть только в сосну, потом в молодой бук, потом в любую ветку на буке.
«Оружие – хорошо, – говорил Хасан, – но мужчина должен уметь справиться с врагом и без оружия: кулаками, ногами, зубами, неважно. Главное, чтобы твое сердце загорелось священной яростью, она защитит от боли, повергнет врага в ужас и принесет тебе победу. Пусть кровь бросится тебе в голову, пусть мир окутается красным туманом, и тогда тебе будет все нипочем. Если тебя ранят или убьют – ты и не заметишь. Вот что такое священная ярость». Ахимас с дядей не спорил, но был не согласен. Он не хотел, чтобы его ранили или убили. Для того чтобы остаться в живых, нужно все видеть, а ярость и красный туман ни к чему. Мальчик знал, что сможет обойтись без них.
Однажды, это было уже зимой, дядя вернулся из духана радостный. Верный человек сообщил ему, что Магома приехал из Грузии с добычей и теперь пирует в Чанахе. Это было близко, два дня пути.
В Чанахе, большом немирном ауле, остановились у дядиного кунака. Хасан пошел разузнать, что к чему, его долго не было, а вернулся поздно, хмурый. Сказал, трудное дело. Магома – сильный и хитрый. Трое из тех четверых, что были с ним в немецкой деревне, приехали и пируют вместе с ним. Четвертого, кривоногого Мусу, убили сваны. Теперь вместо него Джафар из Назрана. Значит, их пятеро.
Вечером дядя хорошо поел, помолился и лег спать. Перед тем как уснуть сказал: «На рассвете, когда Магома и его люди будут усталые и пьяные, мы пойдем мстить. Ты увидишь, как Магома умрет и окунешь пальцы в кровь того, кто убил твою мать».
Хасан повернулся лицом к стене и сразу уснул, а мальчик осторожно снял с его шеи шелковый зеленый мешочек. Там лежал толченый корень ядовитого ирганчайского гриба. Дядя говорил, что если тебя поймала пограничная стража и посадила в каменный мешок, откуда не видно гор и неба, нужно посыпать порошком на язык, накопить побольше слюны и проглотить. Не успеешь пять раз произнести имя Аллаха – и в темнице останется только твое никчемное тело.
Ахимас взял шаровары, платье и платок дочки хозяина. Еще взял из погреба кувшин с вином и высыпал туда содержимое мешочка.
В духане сидели мужчины, разговаривали, пили вино и играли в нарды, но Магомы с товарищами там не было. Ахимас стал ждать. Скоро он увидел, как сын духанщика несет сыр и лепешки в соседнюю комнату, и понял, что Магома там.
Когда сын духанщика ушел, Ахимас вошел туда и, не поднимая глаз, молча поставил свой кувшин на стол.
«Хорошее вино, девочка?» – спросил одноглазый и чернобородый, которого он так хорошо запомнил.
Ахимас кивнул, отошел в угол и сел на корточки. Он не знал, как быть с Джафаром из Назрана. Джафар был совсем молодой, лет семнадцать. Не сказать ли ему, что его конь волнуется и грызет коновязь – пусть сходит, проведает? Но Ахимас вспомнил про казачонка и понял, что делать этого нельзя. Джафар ему ничего не должен, но все равно умрет, потому что такая у него судьба.
И Джафар умер первым. Он выпил из кувшина вместе со всеми и почти сразу ткнулся лицом в стол. Второй абрек засмеялся, но смех перешел в сип. Третий сказал: «Воздуха нет», схватился за грудь и упал. «Что это со мной такое, Магома?» – спросил четвертый заплетающимся языком, сполз со скамьи, свернулся калачи-, ком и застыл. Сам Магома сидел молча, и лицо его было таким же багровым, как разлившееся по столу вино.
Одноглазый посмотрел на своих умирающих товарищей, потом уставился на терпеливо ждавшего Ахимаса. «Ты чья, девочка? – спросил Магома, с трудом выговаривая слова. – Почему у тебя такие белые глаза?» «Я не девочка, – ответил Ахимас. – Я Ахимас, сын Фатимы. А ты мертвец». Магома ощерил желтые зубы, словно очень обрадовался этим словам, медленно потянул из ножен шашку с золоченой рукоятью, но так и не вытянул, а захрипел и повалился на земляной пол. Ахимас встал, вынул из-под девчоночьего платья кинжал и, глядя Магоме в единственный немигающий глаз, полоснул по горлу – быстрым и скользящим движением, как учил дядя. Потом опустил пальцы в горячую, бьющую толчками кровь.
Евгения
1
В двадцать лет Ахимас Вельде был вежливым, немногословным молодым человеком, выглядевшим старше своего возраста. Для публики, приезжающей полечиться на знаменитые источники Соленоводска, да и для местного общества он был просто воспитанный юноша из богатой купеческой семьи, студент Харьковского университета, пребывающий в долгом отпуску для поправления здоровья. Но среди знающих людей , которые мало с кем делились своим знанием, Ахимас Вельде слыл человеком солидным и серьезным, который всегда делает то, за что берется. Знающие люди за глаза называли его Аксахир, что означает Белый Колдун. Ахимас принимал прозвище как должное: колдун так колдун. Хотя колдовство тут было не при чем, все решали расчет, хладнокровие и психология.
Билет студента Харьковского императорского университета дядя купил за триста пятьдесят рублей ассигнациями – недорого. Аттестат гимназии, с гербовой печатью и настоящими подписями, обошелся дороже.
После Чанаха Хасан определил племянника на учение в тихий город Соленоводск, заплатил за год вперед и уехал в горы. Ахимас жил в пансионе с другими мальчиками, чьи отцы служили в дальних гарнизонах или водили караваны с запада на восток, от Черного моря до Каспия, и с севера на юг, от Ростова до Эрзерума. Со сверстниками Ахимас не сошелся – у него не было с ними ничего общего. Он знал то, чего они не знали и вряд ли когда-либо могли узнать. Из-за этого в первый же год, когда Ахимас учился в подготовительном классе гимназии, возникла трудность. Крепкий, плечистый мальчик по фамилии Кикин, державший в страхе и подчинении весь пансион, невзлюбил «чухонца», а вслед за ним в травлю включились и остальные. Ахимас пробовал терпеть, потому что в одиночку со всеми ему было не справиться, но становилось только хуже. Однажды вечером в спальне он обнаружил, что вся его наволочка вымазана коровьим навозом, и понял: нужно что-то делать.
Ахимас взвесил все возможные варианты.
Можно дождаться возвращения дяди и попросить его о помощи. Но когда Хасан вернется – неизвестно. Главное же, очень не хотелось, чтобы в глазах дяди угас уважительный интерес, появившийся после Чанаха.
Можно попытаться избить Кикина, но это вряд ли получится – тот старше, сильнее и не станет драться один на один.
Можно пожаловаться попечителю. Но у Кикина отец полковник, а Ахимас непонятно кто, племянник дикого горца, расплатившегося за пансион и гимназию турецкими золотыми монетами из кожаного кисета.
Самым простым и правильным было такое решение: чтобы Кикина не стало. Ахимас пораскинул мозгами и придумал, как это сделать чисто и аккуратно.
Кикин отвешивал «чухне» пинки, сыпал за шиворот железные кнопки и плевал из трубочки жеваной бумагой, Ахимас же дожидался мая. В мае началось лето, и воспитанники стали бегать на Кумку купаться. Еще с начала апреля, когда вода была обжигающе холодной, Ахимас начал учиться нырять. К маю он уже мог плавать под водой с открытыми глазами, изучил речное дно и без труда задерживал дыхание на целую минуту. Все было готово.
Получилось очень просто, как и задумывалось. Все пришли на реку. Ахимас нырнул, снизу дернул Кикина за ногу и утянул под воду. В руке Ахимас держал веревку, другой конец которой был накрепко привязан к куску топляка. Когда-то Хасан научил племянника кабардинскому узлу – затягивается в секунду, а кто не знает секрета, нипочем не развяжет.
Одним движением Ахимас затянул узел на лодыжке врага, всплыл на поверхность и вылез на берег. Досчитал до пятисот, снова нырнул. Кикин лежал на дне. Его рот был открыт, глаза тоже. Ахимас прислушался к себе и не ощутил ничего кроме спокойного удовлетворения от хорошо сделанной работы. Развязал веревку, вынырнул. Мальчишки кричали и плескали друг в друга водой. Кикина хватились нескоро.
После того, как эта трудность разрешилась, жить в пансионе стало гораздо лучше. Без заводилы Кикина травить «чухну» стало некому. Ахимас переходил из класса в класс. Учился не хорошо и не плохо. Чувствовал, что из всех этих наук ему в жизни мало что пригодится. Хасан приезжал редко, но всякий раз увозил племянника на одну-две недели в горы – поохотиться и поночевать под звездным небом.
* * *
Когда Ахимас заканчивал шестой класс, возникла новая трудность. За городом, на третьей версте Ставропольского тракта, был веселый дом, куда по вечерам ездили отдыхающие на водах мужчины. С некоторых пор на третью версту повадился и Ахимас, который к шестнадцати вытянулся, раздался в плечах и вполне мог сойти за двадцатилетнего. Это было настоящее, не то что заучивать по-древнегречески куски из «Илиады».
Однажды Ахимасу не повезло. Внизу, в общем зале, где раскрашенные девки пили лимонад и ждали, пока их поведут наверх, он встретил инспектора гимназии, коллежского, советника Тенетова – в сюртуке и с фальшивой бородой. Тенетов понял по взгляду, что узнан, ничего Ахимасу не сказал, но с того дня проникся к белобрысому шестикласснику лютой ненавистью. Скоро стало ясно, к чему ведет инспектор – непременно срежет на летних экзаменах.
Оставаться на второй год было стыдно и скучно. Ахимас задумался, как быть.
Будь это не Тенетов, а кто-то другой из преподавателей, Хасан дал бы взятку. Но Тенетов мзды не брал и очень этим гордился. Мзда ему была не нужна – два года назад коллежский советник женился на купеческой вдове, взял в приданое сто сорок тысяч и лучший дом во всем городе.
Изменить отношения с Тенетовым не представлялось возможным: при одном взгляде на Ахимаса инспектора начинало трясти.
Перебрав все возможные варианты, Ахимас остановился на самом верном.
В ту весну в Соленоводске пошаливали: лихие люди подходили к позднему прохожему, били ножом в сердце и забирали часы, бумажник, если были – кольца. Говорили, будто из Ростова на гастроли приехала знаменитая шайка «Мясники».
Однажды вечером, когда инспектор шел из ресторации Петросова домой по темной, пустынной улице, Ахимас подошел к нему и ударил кинжалом в сердце. Снял с упавшего часы на золотой цепочке, взял бумажник. Часы и бумажник бросил в реку, деньги – двадцать семь рублей ассигнациями – оставил себе.
Думал, что трудность решена, но вышло плохо. Служанка из соседнего дома видела Ахимаса, когда он быстро шел от места убийства, вытирая нож пучком травы. Служанка донесла в полицию, и Ахимаса посадили в арестантскую.
Хорошо хоть дядя в ту пору был в городе.
Дядя пригрозил служанке, что отрежет ей нос и уши, и она пошла к исправнику, сказала, что обозналась. Потом Хасан сходил к исправнику сам, заплатил пять тысяч серебром – все, что накопил контрабандой – и арестанта выпустили.
Ахимасу было стыдно. Когда дядя усадил его напротив себя, Ахимас не мог смотреть ему в глаза. Потом рассказал всю правду – и про Кикина, и про инспектора.
После долгого молчания Хасан вздохнул. Сказал: «Аллах всякому существу свое предназначение находит. Хватит учиться, мальчик, будем дело делать».
И началась другая жизнь.
2
Раньше Хасан привозил из Турции и Персии контрабандный товар, продавал перекупщикам. Теперь стал возить сам – в Екатеринодар, Ставрополь, Ростов, на нижегородскую ярмарку. Брали хорошо, потому что Хасан не дорожился. Он и покупатель били по рукам, обмывали сделку. Потом Ахимас догонял покупателя, убивал, а товар привозил обратно – до следующей продажи. Выгоднее всего съездили в Нижний в 59-ом. Продали одну и ту же партию мерлушки, десять тюков, три раза. Первый раз за тысячу триста рублей (Ахимас догнал купца с приказчиком на лесной дороге, убил обоих кинжалом); второй раз за тысячу сто (барышник только и успел, что удивленно ойкнуть, когда вежливый студент-попутчик всадил ему обоюдоострый клинок в печень); в третий раз – за тысячу пятьсот (у армянина в поясе, вот удача, нашлось еще без малого три тысячи).
Убивая, Ахимас был спокоен и огорчался, только если смерть не была мгновенной. Но такое случалось редко – рука у него была верная.
Так продолжалось три года. За это время князь Барятинский взял в плен имама Шамиля, и большая война на Кавказе кончилась. Дядя Хасан женился на девушке из хорошего горского рода, потом взял и вторую жену, из рода победнее, – по бумагам она была его воспитанницей. Купил в Соленоводске дом с большим садом, по саду гуляли визгливые павлины. Хасан стал толстый, полюбил пить на веранде шампанское и философствовать. В горы за контрабандой ездить ленился – теперь знающие люди привозили ему товар сами. Долго сидели, пили чай, спорили из-за цены. Если переговоры получались трудные, Хасан посылал за Ахимасом. Тот входил, вежливо касался рукой лба и молча смотрел на упрямца своими светлыми спокойными глазами. Это действовало.
Однажды осенью, на следующий год после того, как в России освободили крестьян, к Хасану приехал старый кунак Абылгази. Рассказал, что в Семигорске появился новый человек, из выкрестов, имя ему Лазарь Медведев. Приехал в прошлый год лечиться от живота и понравилось, остался. Женился на красивой бесприданнице, построил на холме дом с колоннами, купил три источника. Теперь все приезжие пьют воды и принимают ванны только у Медведева, а еще говорят, что каждую неделю он отправляет в Петербург и Москву по десять тысяч бутылок минеральной воды. Но самое интересное не это, а то, что у Лазаря есть железная комната. Выкрест не верит в банки – и правильно делает, мудрый человек. Все свои огромные деньги он хранит в подвале под домом. Там у него камора, в которой все стены железные, а дверь такая, что из пушки стреляй – не прошибешь. Трудно в такую комнату попасть, сказал Абылгази, поэтому за свой рассказ он не просит вперед, а согласен подождать расчета сколько понадобится, и просит скромно – всего по гривеннику с каждого рубля, что достанется Хасану.
«Железная комната – это очень трудно, – важно покивал Хасан, прежде о таких комнатах не слыхивавший. – Поэтому, если мне пособит Аллах, получишь, почтенный, по пять копеек с рубля».
Потом позвал племянника, передал ему слова старого Абылгази и сказал: «Езжай в Семигорск. Посмотри, что за комната такая».
3
Посмотреть на железную комнату получилось легче, чем думал Ахимас.
Он явился к Медведеву, одетый в серую визитку и в сером же цилиндре. Сначала, еще из гостиницы, послал карточку, на ней было напечатано золотыми буквами:
Торговый дом «Хасан Радаев»
АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ ВЕЛЬДЕ, компаньон.
Медведев ответил запиской, что о торговом доме уважаемого Хасана Радаева наслышан и просит пожаловать незамедлительно. И Ахимас отправился в новый, красивый дом, что стоял на краю города, над крутым обрывом, и был со всех сторон обнесен высокой каменной стеной. Не дом – крепость. В таком можно и осаду пересидеть.
Когда Ахимас вошел в дубовые ворота, это впечатление еще больше усилилось: по двору прогуливались двое часовых с штуцерами, и были часовые в военной форме, только без погон.
Хозяин был лыс, крутолоб, с крепким брюшком и сметливыми черными глазами. Он усадил молодого человека за стол, предложил кофе и сигару. После десяти минут вежливого, неторопливого разговора о политике и ценах на шерсть спросил, чем может быть полезен почтенному господину Радаеву.
Тогда Ахимас изложил деловое предложение, придуманное им для предлога. Надо наладить обмен минеральной водой между Соленоводском и Семигорском, сказал он. У вас лечат от желудка, у нас – от почек. Многие приезжие хотят поправить и то, и другое. Чтобы людям зря не трястись по горам за сто верст, не устроить ли в Соленоводске магазин фирмы «Медведев», а в Семигорске – магазин торгового дома «Радаев». И вам, и нам выгода.
«Мысль хорошая, – одобрил выкрест. – Очень хорошая. Только на дороге много разбойников. Как я буду из Соленоводска выручку возить?». «Зачем возить? – удивился Ахимас. – Можно в банк класть». Медведев погладил венчик курчавых волос вокруг лысины, улыбнулся: «Не верю я в банки, Афанасий Петрович. Предпочитаю денежки у себя хранить». «Так ведь опасно у себя, ограбить могут», – осуждающе покачал головой Ахимас. "Меня не ограбят. – Медведев хитро подмигнул.
– Во-первых, у меня в доме отставные солдаты живут из кантонистов, днем и ночью посменно двор стерегут. А еще больше я на бронированную комнату полагаюсь. Туда никто кроме меня попасть не может". Ахимас хотел спросить, что за комната такая, но не успел – хозяин сам предложил: «Не угодно ли взглянуть?»
Пока спускались в подвал (туда из двора вел отдельный вход), Медведев рассказал, как инженер из Штутгарта строил ему денежное хранилище со стальной дверью толщиной в восемь дюймов. На двери цифровой замок, восьмизначная комбинация. Ее знает только он сам, Медведев, и каждый день меняет.
Вошли в подземное помещение, где горел керосиновый фонарь. Ахимас увидел стальную стену и кованую, в круглых заклепках дверь. «Такую не открыть и не взорвать, – похвастался хозяин. – У меня сам городничий свои сбережения хранит, и начальник полиции, и купцы местные. Я за хранение недешево беру, но людям все равно выгодно. Тут понадежней, чем в любом банке». Ахимас почтительно кивнул, заинтересовавшись известием о том, что в железной комнате, оказывается, хранятся не только деньги самого Медведева.
Но тут выкрест сказал неожиданное: «Так что передайте вашему уважаемому дяде, дай ему Бог здоровья и благополучия в делах, чтоб не изволил беспокоиться. Я на Кавказе человек новый, но про тех, кого надо знать, знаю. Поклон Хасану Мурадовичу и благодарность за внимание к моей персоне. А идея насчет обмена водами хорошая. Ваша идея?» Он покровительственно похлопал молодого человека по спине и пригласил бывать у него в доме – по четвергам там собирается все лучшее семигорское общество.
То, что выкрест оказался человеком ловким и осведомленным, еще не было трудностью. Трудность обнаружилась в четверг, когда Ахимас, приняв приглашение, явился в дом над обрывом, чтоб изучить расположение комнат.
План пока представлялся таким: ночью перебить охрану, приставить хозяину кинжал к горлу и посмотреть, что ему дороже – железная комната или жизнь. План был прост, но Ахимасу не очень нравился. Во-первых, не обойтись без помощников. Во-вторых, есть люди, для которых деньги дороже жизни, и чутье подсказывало молодому человеку, что Лазарь Медведев из их числа.
Гостей на четверге собралось много, и Ахимас надеялся, что попозже, когда сядут за стол и хорошенько выпьют, ему удастся незаметно отлучиться и осмотреть дом. Но до этого не дошло, потому что в самом начале вечера обозначилась уже упомянутая трудность.
Когда хозяин представлял гостя жене, Ахимас отметил лишь, что старый Абылгази не солгал – женщина молода и хороша собой: золотисто-пепельные волосы, красивый рисунок глаз. Звали ее Евгения Алексеевна. Но прелести мадам Медведевой к делу касательства не имели, поэтому, приложившись к тонкой белой руке, Ахимас прошел в гостиную и встал в самом дальнем углу, у портьеры, откуда было хорошо видно все общество и дверь, ведущую во внутренние покои.
Там его и отыскала хозяйка. Она подошла и тихо спросила: «Это ты, Лия?» Сама себе ответила: «Ты. Таких глаз ни у кого больше нет».
Ахимас молчал, охваченный странным, не бывалым прежде оцепенением, а Евгения Алексеевна быстрым, срывающимся полушепотом продолжила: «Зачем ты здесь? Муж говорит, что ты разбойник и убийца, что ты хочешь его ограбить. Это правда? Не отвечай, мне все равно. Я тебя так ждала. Потом перестала ждать и вышла замуж, а ты взял и приехал. Ты заберешь меня отсюда? Это ведь ничего, что я тебя не дождалась, ты не сердишься? Ты ведь помнишь меня? Я – Женя, из скировского приюта».
Тут Ахимас вдруг ясно увидел перед собой картину, которую за все эти годы ни разу не вспоминал: Хасан увозит его из приюта, а худенькая девочка молча бежит за конем. Кажется, напоследок она крикнула: «Лия, я буду тебя ждать!»
Эту трудность обычным способом было не разрешить. Ахимас не знал, чем объяснить поведение жены Медведева. Может быть, это и есть любовь, про которую пишут в романах? Но он не верил романам и после гимназии ни к одному из них не прикоснулся. Было тревожно и неуютно.
Ахимас ушел с вечера, ничего не сказав Евгении Алексеевне. Сел на коня, вернулся в Соленоводск. Рассказал дяде про железную комнату и про возникшую трудность. Хасан подумал и сказал: «Жена, предающая мужа – это плохо. Но не нам разбираться в хитросплетениях судьбы, надо просто делать то, что ей угодно. А судьбе угодно, чтобы мы попали в железную комнату с помощью жены Медведева, – это ясно».
4
Хасан и Ахимас поднялись к дому Медведева пешком, чтоб не будоражить часовых стуком копыт. Коней оставили под обрывом, в роще. Внизу, в долине, светились редкие огоньки – Семигорск уже спал. По черно-зеленому небу легко скользили прозрачные облака, отчего ночь поминутно то светлела, то темнела.
План составил Ахимас. Евгения откроет на условный стук калитку сада. Они прокрадутся садом во двор, оглушат обоих часовых и спустятся в подвал. Евгения откроет бронированную дверь, потому что муж показывал ей, как это делается, а номер комбинации он пишет на бумажке и прячет у себя в спальне за иконой. Боится, что забудет комбинацию, и тогда придется разбирать каменную кладку пола – иначе в железную комнату не попасть. Они заберут не все, а только то, что смогут унести. Евгению Ахимас возьмет с собой.
Когда договаривались, она вдруг заглянула ему в глаза и спросила: «Лия, а ты меня не обманешь?»
Он не знал, как с ней быть. Дядя совета не давал. «Когда наступит миг решать, сердце тебе подскажет», – сказал Хасан. Но лошадей взял три. Одна Хасану, другая Ахимасу, третья для добычи. Племянник молча смотрел, как Хасан выводит из конюшни только рыжую, вороного и гнедую, но ничего не сказал.
Бесшумно двигаясь вдоль белой стены, Ахимас думал: как это – сердце подскажет? Сердце пока молчало.
Калитка открылась сразу же, не скрипнув смазанными петлями. В проеме стояла Евгения. Она была в папахе и бурке. Собралась в путь.
«Иди сзади, женщина», – шепнул Хасан, и она посторонилась, давая дорогу.
Отставных солдат у Медведева было шестеро. Они дежурили по двое, сменяясь каждые четыре часа.
Ахимас припал к яблоне и стал смотреть, что делается во дворе. Один часовой дремал, сидя на тумбе возле ворот и обхватив ружье. Второй мерно шагал от ворот к дому и обратно: тридцать шагов туда, тридцать обратно.
Часовых, конечно, надо было убить – когда Ахимас в разговоре с Евгенией согласился, что только оглушит их и свяжет, он знал: это обещание сдержать нельзя.
Ахимас подождал, пока бодрствующий часовой остановится раскурить трубку, беззвучно подбежал сзади в своих мягких чувяках и ударил кастетом повыше уха. Кастет – незаменимая вещь, когда нужно убить очень быстро. Лучше, чем нож, потому что нож надо вынимать из раны, а это лишняя секунда.
Солдат не вскрикнул, а обмякшее тело Ахимас подхватил на руки, но второй спал чутко – от хруста проламываемой кости зашевелился и повернул голову.
Тогда Ахимас оттолкнул мертвое тело и в три огромных прыжка оказался у ворот. Солдат разинул темный рот, но крикнуть не успел. От удара в висок его голова качнулась назад и глухо стукнулась о крепкие дубовые доски.
Одного мертвеца Ахимас оттащил в тень, второго посадил так же, как раньше.
Махнул рукой, и в освещенный луной двор вышли Хасан и Евгения. Женщина молча посмотрела на сидящий труп и обхватила себя руками за плечи. Ее зубы мелко, дробно стучали. Теперь, при свете луны, Ахимас разглядел, что под буркой на ней черкеска с газырями, а у пояса кинжал.
«Иди, женщина, открывай железную комнату», – подтолкнул ее Хасан.
По ступенькам спустились в подвал. Дверь Евгения открыла ключом. Внизу, в квадратном помещении, одна стена которого была сплошь из стали, Евгения зажгла лампу. Взялась за колесо на бронированной двери, стала крутить его то вправо, то влево, заглядывая в бумажку. Хасан смотрел с любопытством, качал головой. В двери что-то щелкнуло, Евгения потянула створку на себя, но сталь была для нее слишком тяжелой.
Хасан отодвинул женщину в сторону, крякнул, и плита сначала с трудом, а потом все легче и легче пошла вовне.
Ахимас взял лампу и вошел внутрь. Комната была меньше, чем он представлял: шагов десять в ширину, шагов пятнадцать в длину. В комнате были сундуки, мешочки и канцелярские папки.
Хасан открыл один сундук и тут же захлопнул – там лежали серебряные слитки. Их много не унесешь, тяжело. Зато в мешочках позвякивали золотые монеты, и дядя одобрительно зачмокал. Стал совать мешочки за пазуху, а потом кидать в бурку.
Ахимас больше заинтересовался папками. В них оказались акции и облигации. Он стал отбирать те, что массового тиража и повыше номиналом. Акции Ротшильда, Крупна и хлудовских мануфактур стоили дороже золота, но Хасан был человеком старой закалки и ни за что бы в это не поверил.
Закряхтев, он взвалил на спину тяжелый узел, с сожалением оглянулся – мешочков оставалось еще много, – вздохнул и направился к выходу. У Ахимаса за пазухой лежала толстая пачка ценных бумаг. Евгения не взяла ничего.
Когда дядя стал подниматься по невысокой лестнице во двор, ударил залп. Хасан опрокинулся и съехал по ступенькам головой вниз. Лицо у него было такое, какое бывает у человека, застигнутого внезапной смертью. Из развязавшейся бурки, посверкивая и звеня, вниз сыпалось золото.
Ахимас опустился на четвереньки, вскарабкался по лестнице и осторожно высунулся. В руке у него был длинноствольный американский револьвер «кольт», заряженный шестью пулями.
Никого во дворе не было. Враги засели на веранде дома, снизу не разглядеть. Но и Ахимаса они тоже вряд ли видели, потому что ступени лестницы были в густой тени.
«Один из вас убит! – раздался голос Лазаря Медведева. – Кто, Хасан или Ахимас?»
Ахимас прицелился на голос, но стрелять не стал – не любил промахиваться.
«Хасан, это был Хасан, – уверенно крикнул выкрест. – Вы, господин Вельде, фигурой постройнее. Выходите, молодой человек. Вам некуда деться. Известно ли вам, что такое электричество? Когда открывается дверь хранилища, у меня в спальне срабатывает сигнал. Нас здесь четверо – я и трое моих вояк. А четвертого я послал за приставом. Выходите, не будем тянуть время! Час-то поздний!»
Они пальнули еще раз – видимо, для острастки. Пули защелкали по каменным стенам.
Евгения шепнула сзади: «Я выйду. Темно, я в бурке, они не поймут. Решат, что это ты. Они выйдут из укрытия, и ты их всех застрелишь».
Ахимас обдумал ее предложение. Теперь можно было бы взять Евгению с собой – одна лошадь освободилась. Жалко только, до рощи не добраться. «Нет, – сказал он. – Они слишком меня боятся и сразу станут стрелять».
«Не станут, – ответила Евгения. – Я высоко подниму руки».
Она легко переступила через лежащего Ахимаса и вышла во двор, раскинув руки в стороны, словно боялась потерять равновесие. Прошла шагов пять, и нестройно грянули выстрелы.
Евгению откинуло назад. К неподвижному телу с темной галереи осторожно спустились четыре тени. Я был прав, подумал Ахимас, они стали стрелять. И убил всех четверых.
* * *
В последующие годы он редко вспоминал о Евгении. Только если случайно что-нибудь напомнит. Или во сне.
Мэтр Ликоль
1
В тридцать лет Ахимас Вельде любил играть на рулетке. Дело было не в деньгах, деньги он зарабатывал другим способом – много, гораздо больше, чем мог истратить. Ему нравилось побеждать слепой случай и властвовать над стихией цифр. Уютно потрескивающий штурвал рулеточного колеса, сверкая металлом и полированным красным деревом, вращался по собственным, казалось бы, ему одному ведомым законам, но правильный расчет, выдержка и контроль над эмоциями срабатывали здесь точно так же, как во всех прочих известных Ахимасу ситуациях, а стало быть, закон был все тот же, знакомый с детства. Единство жизни при бесконечном многообразии ее форм – вот главное, что занимало Ахимаса. Каждое новое подтверждение этой истины заставляло его ровно бьющееся сердце чуть-чуть убыстрять ритм.
В его жизни выпадали продолжительные периоды праздности, когда нужно было себя чем-то занять. Отличное изобретение сделали англичане, оно называлось hobby. У Ахимаса таких hobby было два: рулетка и женщины. Женщин он предпочитал самых лучших, самых настоящих – профессиональных женщин . Они были нетребовательны и предсказуемы, понимали, что есть правила, которые следует соблюдать. Женщины тоже были бесконечно разнообразны, оставаясь при этом единой, неизменной Женщиной. Ахимас заказывал в парижском агентстве самых дорогих – обычно на месяц. Если попадалась очень хорошая, продлевал контракт еще на один срок, но никогда дольше – такое у него было правило.
Последние два года он жил на немецком курорте Рулетенбург, потому что здесь, в самом веселом городе Европы, оба его hobby осуществлялись без труда. Рулетенбург был похож на Соленоводск – тоже минеральные источники, тоже ленивые, праздные толпы, где никто никого не знает и никем не интересуется. Не хватало только гор, но общее впечатление временности, сиюминутности, не настоящести было точно такое же. Ахимасу казалось, что курорт – это аккуратный, чистенький макет жизни, исполненный в масштабе 1:500 или 1:1000. Человек живет на свете пятьсот месяцев, а если повезет, то тысячу, в Рулетенбург же приезжали на месяц. То есть существование курортного жителя длилось в среднем тридцать дней – именно с такой периодичностью сменялись здесь поколения. В этот срок умещалось всё – радость приезда, привыкание, первые признаки скуки, грусть по поводу возвращения в другой, большой мир. Здесь были коротенькие романы, бурные, но маленькие страсти, были свои мимолетные знаменитости и недолговечные сенсации. Сам же Ахимас был постоянным зрителем этого кукольного театра. Он установил себе собственный срок существования, не такой, как у всех остальных.
Жил он в одном из лучших номеров отеля «Кайзер», где останавливались индийские набобы, американские золотопромышленники и русские великие князья, путешествующие инкогнито. Посредники знали, где его найти. Когда Ахимас брал заказ, номер оставался за ним, и иногда пустовал неделями, а то и месяцами – в зависимости от сложности дела.
Жизнь была приятной. Периоды напряжения перемежались периодами отдыха, когда глаз радовало зеленое сукно, слух – мерный перестук рулеточного колеса. Вокруг кипели концентрированные масштабом времени страсти: солидные господа бледнели и краснели, дамы падали в обморок, кто-то трясущимися руками вытряхивал из бумажника последний золотой. Наблюдать за этим захватывающим спектаклем Ахимасу не надоедало. Сам он не проигрывал никогда, потому что у него была Система.
Система была настолько проста и очевидна, что поразительно, как ею не пользовались другие. Им просто не хватало терпения, выдержки, умения контролировать эмоции – всего того, что у Ахимаса имелось в избытке. Надо было всего лишь ставить на один и тот же сектор, постоянно удваивая ставку. Если у тебя денег много, рано или поздно вернешь все, что проиграл и сколько-то выиграешь. Вот и весь секрет. Только ставить нужно не на одиночное число, а на большой сектор. Ахимас обычно предпочитал треть.
Он шел к столу, где играли без ограничения ставок, ждал, пока выигрыш обойдет какую-нибудь из третей шесть раз кряду, и тогда начинал игру. На первый раз ставил золотой. Если треть не выпадала, ставил на нее два золотых, потом четыре, потом восемь, и так до тех пор, пока шарик не попадал туда, куда должно. Поднимать ставку Ахимас мог до каких угодно высот – денег хватало. Один раз, перед последним Рождеством, вторая треть, на которую он ставил, не выпадала двадцать два раза – шесть подготовительных бросков и шестнадцать под ставку. Но Ахимас не сомневался в успехе, ибо каждая неудача увеличивала шансы.
Бросая на стол чеки, на которых все возрастало число нулей, он вспоминал случай из своего американского периода.
Дело было в 66-ом. Тогда он получил солидный заказ из Луизианы. Нужно было ликвидировать комиссара федерального правительства, который мешал «карпетбэггерам» делить концессии. «Карпетбэггерами», то есть «саквояжниками», назывались предприимчивые авантюристы с Севера, приезжавшие на побежденный Юг с одним тощим саквояжем, а уезжавшие обратно в персональных пульманах.
Время было смутное, человеческая жизнь в Луизиане стоила недорого. Однако за комиссара давали хорошие деньги – очень уж трудно было до него добраться. Комиссар знал, что на него охотятся, и вел себя мудро: вообще не выходил из своей резиденции. Спал, ел, подписывал бумаги в четырех стенах. Резиденцию днем и ночью охраняли солдаты в синих мундирах.
Ахимас остановился в гостинице, расположенной от резиденции в трехстах шагах – подобраться ближе не удалось. Из номера было видно окно Комиссарова кабинета. По утрам, ровно в половине восьмого, объект раздвигал шторы. Это действие занимало три секунды – на таком большом расстоянии толком не прицелишься. Окно было разделено на две части широким стояком рамы. Дополнительная трудность состояла в том, что, отдергивая занавески, комиссар оказывался то чуть правее стояка, то чуть левее. Шанс для выстрела был всего один – промахнешься, пиши пропало, другого случая не представится. Поэтому действовать следовало наверняка.
Вариантов было только два: мишень окажется или справа, или слева. Пусть будет справа, решил Ахимас. Какая разница. Длинноствольная винтовка с зажатым в тисках ложем была наведена на шесть дюймов правее стояка, как раз на уровне груди. Вернее всего было бы установить две винтовки, справа и слева, но для этого потребовался бы ассистент, а Ахимас в те годы (да и сейчас, разве что кроме крайней необходимости) предпочитал обходиться без помощников.
Пуля была особенная, разрывная, с раскрывающимися лепестками. Внутри – эссенция трупного яда. Достаточно, чтобы в кровь попала хоть малая частица, и любое, даже легкое ранение станет смертельным.
Все было готово. В первое утро комиссар подошел слева. Во второе тоже. Ахимас не подгонял время – он знал, что завтра или послезавтра занавески отдернутся справа, и тогда он спустит курок.
Но комиссара словно подменили. С того самого дня, как был установлен прицел, он шесть дней подряд раздвигал шторы не справа, а слева.
Ахимас решил, что у объекта выработалась рутина, и переместил прицел на шесть дюймов левее центра. Так на седьмое утро комиссар подошел справа! И на восьмое, и на девятое.
Тогда Ахимас понял, что в игре со слепым случаем главное – не суетиться. Он терпеливо ждал. На одиннадцатое утро комиссар подошел, откуда нужно, и работа была сделана.
Вот и на прошлое Рождество, на семнадцатый раз, когда ставка поднялась до шестидесяти пяти тысяч, шарик, наконец, попал куда нужно, и Ахимасу отсчитали без малого двести тысяч. Это окупило все проигранные ставки, и еще немного осталось в плюсе.
2
То сентябрьское утро 1872 года начиналось как обычно. Ахимас позавтракал вдвоем с Азалией. Это была тонкая, гибкая китаянка с удивительным, похожим на хрустальный колокольчик голосом. На самом деле звали ее как-то по-другому, но по-китайски имя значило «Азалия» – это сообщили из агентства. Ее прислали Ахимасу на пробу, как образец восточного товара, который совсем недавно начал поступать на европейский рынок. Цена была вполовину меньше обычной, а если бы мсье Вельде захотел вернуть девушку раньше срока, деньги были бы ему возвращены. В обмен на столь льготные условия агентство просило знатока и постоянного клиента дать свое авторитетное заключение как о способностях Азалии, так и о перспективах желтого товара в целом.
Ахимас был склонен дать самую высшую оценку. По утрам, когда Азалия напевала, сидя перед венецианским зеркалом, в груди у Ахимаса что-то сжималось, и это ему не нравилось. Китаянка была слишком хороша. Вдруг привыкнешь и не захочется расставаться? Он уже решил, что отправит ее раньше срока. Но денег назад не потребует и даст отличную рекомендацию, чтобы не испортить девушке карьеру.
В два пятнадцать, по всегдашнему обыкновению, Ахимас вошел в воксал. Он был в пиджаке цвета какао с молоком, клетчатых панталонах и желтых перчатках. Навстречу завсегдатаю бросились служители, взяли тросточку и цилиндр. К герру Вельде в игорных домах Рулетенбурга привыкли. Поначалу воспринимали его манеру игры как неизбежное зло, а потом заметили, что постоянное удвоение ставок, практикуемое немногословным блондином с холодными светлыми глазами, распаляет азарт у соседей по столу. И Ахимас стал в игорных заведениях дорогим гостем.
Он выпил свой обычный кофе с ликером, просмотрел газеты. Англия и Россия не могли договориться по поводу таможенных пошлин. Франция задерживала выплату репараций, в связи с чем Бисмарк направил в Париж угрожающую ноту. В Бельгии вот-вот начнется процесс над Брюссельским Крысоловом.
Выкурив сигару, Ахимас подошел к столу № 12, где шла игра по крупной.
Играли трое, и какой-то седой господин просто сидел, нервно щелкал крышкой золотых часов. Увидев Ахимаса, так и впился глазами. Опыт и чутье подсказали: клиент. Пришел неслучайно, дожидается. Но Ахимас не подал виду – пусть подойдет сам.
Через восемь с половиной минут определилась треть – третья, с 24 до 36. Поставил фридрихсдор. Выиграл три. Седой все смотрел, лицо у него было бледное. Ахимас подождал еще одиннадцать минут, пока не обозначился следующий сектор. Поставил золотой на первую треть, с 1 до 12. Выпало 13. Во второй раз поставил два золотых. Выпало зеро. Поставил четыре золотых. Выпало 8. Выигрыш 12 фридрихсдоров. Пять золотых в плюсе. Все шло нормально, без неожиданностей.
Тут седой, наконец, встал. Подошел, вполголоса осведомился: «Господин Вельде?» Ахимас кивнул, продолжая следить за вращением колеса. «Я к вам по рекомендации барона де…» (седой назвал имя брюссельского посредника). Он волновался все больше. Шепотом пояснил: «У меня к вам очень важное дело…» «Не угодно ли прогуляться?» – перебил Ахимас, убирая золотые в портмоне.
Седой господин оказался Леоном Фехтелем, владельцем известного на всю Европу бельгийского банкирского дома «Фехтель и Фехтель». У банкира была серьезная проблема. «Читали ли вы о Брюссельском Крысолове?» – спросил он, когда они сели в парке на скамейку.
Все газеты писали о том, что наконец-то схвачен маньяк, похищавший маленьких девочек. В «Пти-паризьен» было напечатано, что полиция арестовала «г-на Ф.», владельца загородной виллы под Брюсселем. Садовник донес, что слышал ночью доносившиеся из подвала приглушенные детские стоны. Полиция тайно проникла в дом, провела обыск и обнаружила в подвале потайную дверь, а за ней такое, что, по утверждению газеты, «бумага не вынесла бы описания этой чудовищной картины». Картина, тем не менее, была обрисована уже в следующем абзаце, причем со всеми подробностями. В дубовых бочках полиция нашла маринованные части тел семи из девочек, пропавших в Брюсселе и его окрестностях за последние два года. Один труп был совсем свежий, со следами неописуемых истязаний. Всего за последние годы бесследно исчезли четырнадцать девочек в возрасте от шести до тринадцати лет. Несколько раз видели, как прилично одетый господин с густыми черными бакенбардами сажает в свой экипаж маленьких торговок цветами и папиросами. Один раз свидетель слышал, как человек с бакенбардами уговаривал 11-летнюю цветочницу Люсиль Лану отвезти к нему домой всю корзину, обещая за это показать ей механическое пианино, которое само играет чудесные мелодии. После того случая газеты перестали звать монстра «Синей Бородой» и окрестили «Брюссельским крысоловом», по аналогии со сказочным Крысоловом, заманивавшим детей звуками волшебной музыки.
Про арестованного г-на Ф. сообщалось, что это человек из высшего общества, представитель золотой молодежи. У него, действительно, были густые черные бакенбарды, а на вилле имелось механическое пианино. Мотив преступлений ясен, писала «Ивнинг стандард» – извращенное сладострастие в духе маркиза де Сада.
Дата и место судебного процесса уже определились: 24 сентября в городке Мерлен, расположенном в получасе езды от бельгийской столицы.
«Я читал про Брюссельского Крысолова», – сказал Ахимас и взглядом поторопил надолго замолчавшего собеседника. Тот, ломая усыпанные перстнями пухлые руки, воскликнул: «Г-н Ф. – это мой единственный сын Пьер Фехтель! Его ждет эшафот! Спасите его!»
«Вас неверно информировали о роде моей деятельности. Я не спасаю жизнь, я отнимаю ее», – улыбнулся тонкими губами Ахимас. Банкир горячо зашептал: «Мне сказали, что вы творите чудеса. Что, если не возьметесь вы – значит, надежды нет. Умоляю вас. Я заплачу. Я очень богатый человек, господин Вельде, очень».
Ахимас после паузы спросил: «Вы уверены, что вам нужен такой сын?» Фехтель-старший ответил без колебаний, было видно, что этот вопрос он уже задавал себе сам: «Другого сына у меня нет и не будет. Он всегда был непутевым мальчиком, но душа у него добрая. Если мне удастся вызволить его из этой истории, он получит урок на всю жизнь. Я виделся с ним в тюрьме. Он так напуган!»
Тогда Ахимас попросил рассказать о предстоящем процессе.
«Непутевого» наследника должны были защищать два самых дорогих адвоката. Линия защиты строилась на доказательстве невменяемости обвиняемого. Однако, по словам банкира, шансов на благоприятный вердикт медицинских экспертов мало – они так ожесточены против мальчика, что даже не согласились на «беспрецедентно высокий гонорар». Последнее обстоятельство, кажется, потрясло господина Фехтеля-старшего больше всего.
В первый день процесса адвокаты должны были объявить, признает ли их подзащитный себя виновным. Если да – приговор вынесет судья; если нет – решение будут принимать присяжные. В случае, если психиатрическая экспертиза сочтет Пьера Фехтеля ответственным за свои поступки, защитники рекомендовали пойти по первому пути.
Дело в том, горячась объяснил безутешный отец, что палачи из министерства юстиции выбрали Мерлен неслучайно – трое из пропавших девочек жили именно в этом городке. «Честного суда в Мерлене не будет», – так выразился банкир. Население городка возбуждено до крайности. Вокруг здания суда по ночам жгут костры. Позавчера в тюрьму пыталась ворваться толпа, чтобы растерзать арестованного – пришлось утроить охрану.
Господин Фехтель провел тайные переговоры с судьей, и тот оказался человеком разумным. Если решение будет зависеть от него, мальчик получит пожизненное заключение. Но это мало что даст. Предубеждение публики против Брюссельского Крысолова столь велико, что прокурор наверняка опротестует такой приговор и будет назначено повторное разбирательство.
«Вся надежда только на вас, господин Вельде, – сказал в заключение банкир. – Я всегда считал себя человеком, для которого невозможного не существует. Но в данном случае я бессилен, а речь идет о жизни моего сына».
Ахимас с любопытством смотрел в багровое лицо миллионера. Было видно, что этот человек не привык проявлять эмоции. Например сейчас, в момент сильнейшего потрясения, его толстые губы расползались в нелепой улыбке, а из одного глаза стекала слеза. Это было интересно: непривыкшее к экспрессивной мимике лицо не умело изобразить гримасу скорби. «Сколько?» – спросил Ахимас. Фехтель судорожно сглотнул. «Если мальчик останется жив – полмиллиона франков. Не бельгийских, французских», – поспешно добавил он, когда собеседник ничего не сказал.
Ахимас кивнул, и в глазах банкира вспыхнул безумный огонек. Точно таким же огоньком загорались глаза тех сумасбродов, кто ставил у рулетки все свои деньги на зеро. Этот огонек назывался «а вдруг?». С той лишь разницей, что у господина Фехтеля деньги явно были не последние. «Если же вам вдруг… – голос банкира дрогнул. – Если вам удастся не только спасти Пьеру жизнь, но и вернуть ему свободу, вы получите миллион».
Такой гонорар Ахимасу еще никогда не предлагали. Он по привычке перевел сумму в английские фунты (без малого тридцать тысяч), в американские доллары (семьдесят пять тысяч) и в рубли (вышло больше трехсот тысяч). Много, очень много.
Чуть прищурившись, Ахимас медленно проговорил: «Пусть ваш сын откажется от психиатрической экспертизы, объявит себя невиновным и потребует суда присяжных. А ваших дорогих адвокатов увольте. Я сам найду адвоката».
3
Этьен Ликоль жалел только об одном – что матушка не дожила. Как она мечтала, что ее мальчик выучится на адвоката и облачится в черную мантию с белым прямоугольным галстуком. Плата за учение в университете съедала всю ее вдовью пенсию, матушка скупилась на докторов и лекарства и вот не дожила – умерла прошлой весной. Этьен стиснул зубы, не дал себе расклеиться. Днем бегал по урокам, учебники штудировал по ночам, и доучился-таки – заветный диплом с королевской печатью был получен. Матушка могла гордиться своим сыном.
Прочие выпускники, новоиспеченные адвокаты, звали его в загородный ресторан – «обмыть мантию», но Этьен отказался. У него не было денег на кутежи, а главное – хотелось в такой день побыть одному. Он медленно спускался по широкой мраморной лестнице Дворца Правосудия, где проходила торжественная церемония. Весь город с его шпилями, башнями и статуями на крышах лежал внизу, у подножия холма. Этьен остановился, наслаждаясь пейзажем, который казался ему приветливым и гостеприимным. Брюссель словно раздвигал объятья навстречу новоиспеченному мэтру Ликолю и сулил ему множество самых разных сюрпризов – в основном, конечно, приятных.
Кто спорит, диплом – это лишь полдела. Без связей и полезных знакомств хороших клиентов не найти. Да и все равно нет средств обзавестись собственной конторой. Придется идти в помощники к мэтру Винеру или к мэтру Ван Гелену. Ну да это ничего – хоть какое-то жалование все равно ведь положат.
Этьен Ликоль прижал к груди папку, в которой лежал диплом с красной печатью, подставил лицо теплому сентябрьскому солнцу и зажмурился от полноты чувств.
В этом нелепом положении и застал его Ахимас Вельде.
Паренька он присмотрел еще в зале, когда звучали скучные напыщенные речи. По типажу юнец подходил идеально: миловидный, но не красавчик. Тоненький, узкоплечий. Широко раскрытые честные глаза. Когда вышел произносить слова клятвы, голос тоже оказался подходящий – звонкий, мальчишеский, дрожащий от волнения. Лучше же всего было то, что сразу видно: не какой-нибудь барчук, а плебейская косточка, работяга.
Пока длилась бесконечная церемония, Ахимас успел навести справки. Рассеялись последние сомнения: идеальный материал. Оставались пустяки.
Он неслышно приблизился к худенькому юноше и откашлялся.
Этьен вздрогнул, открыл глаза, обернулся. Перед ним стоял невесть откуда взявшийся господин в дорожном сюртуке, с тросточкой. Глаза у незнакомца были серьезные, внимательные. И цвета не совсем обычного – очень уж светлые. «Мэтр Ликоль?» – спросил человек с легким акцентом. Этьена впервые назвали «мэтром», это было приятно.
Как и следовало ожидать, мальчик сначала просиял, узнав, что ему предлагают вести дело, а когда прозвучало имя клиента, пришел в ужас. Пока возмущался, размахивал руками, твердил, что этого негодяя, это чудовище никогда и ни за что защищать не станет, Ахимас молчал. Заговорил лишь тогда, когда Ликоль, исчерпав запас негодования, промямлил: «Да и не справиться мне с таким делом. Видите ли, мсье, я пока еще очень неопытен, только что получил диплом».
Тут настал черед Ахимаса. Он сказал: «Вы хотите двадцать, а то и тридцать лет работать за гроши, добывая деньги и славу для других адвокатов? Да, году этак в 1900-ом вы, наконец, накопите нужное количество сантимов, чтобы открыть собственную практику, но к тому времени вы будете лысым, беззубым неудачником с больной печенью, а главное, из вас вытечет весь жизненный сок. Он по капле прольется у вас между пальцев, дорогой мэтр, – в обмен на скопленные гроши. Я же предлагаю вам гораздо большее, и прямо сейчас. Уже в свои двадцать три года вы получите хорошие деньги и громкое имя. Причем даже в том случае, если процесс будет проигран. Имя в вашей профессии еще важней, чем деньги. Да, ваша слава будет с привкусом скандала, но это лучше, чем всю жизнь прозябать на побегушках. Денег же вы получите достаточно, чтобы открыть собственную контору. Многие вас возневавидят, но будут и такие, кто оценит мужество молодого адвоката, не побоявшегося идти наперекор всему обществу».
Ахимас минуту выждал, чтобы у паренька было время осознать сказанное. Потом перешел ко второй части, которая, по его разумению, должна была оказать на мальчишку решающее воздействие.
«А может быть, вы просто боитесь? Я слышал, вы только что клялись „отстаивать справедливость и право человека на судебную защиту невзирая на любые препоны и давление“? Знаете, почему из всех выпускников я выбрал именно вас? Потому что вы единственный, кто произнес эти слова с настоящим чувством. Во всяком случае, так мне показалось».
Этьен молчал, с ужасом ощущая, что его подхватывает стремительный поток, которому невозможно противиться. «И главное, – значительно понизил голос незнакомец. – Пьер Фехтель невиновен. Он никакой не Крысолов, а жертва стечения обстоятельств и неуемного полицейского рвения. Если вы не вмешаетесь, невинный человек пойдет на эшафот. Да, вам будет очень трудно. На вас обрушится поток оскорблений, никто не захочет давать показания в пользу „чудовища“. Но вы будете не одиноки. Вам буду помогать я. Оставаясь в тени, я стану вашими глазами И ушами. У меня уже есть кое-какие доказательства, если не полностью подтверждающие невиновность Пьера Фехтеля, то по крайней мере ставящие под сомнение улики обвинения. И я раздобуду еще».
«Какие доказательства?» – слабым голосом спросил Этьен.
4
В маленьком зале мерленского городского суда, рассчитанном всего на сто мест, набилось по меньшей мере человек триста, а еще больше народу толпилось в коридоре и под окнами, на площади.
Появление прокурора Ренана встретили громом оваций. Когда же привезли преступника, бледного тонкогубого мужчину с близко посаженными черными глазами и некогда ухоженными, а теперь растрепанными и неровно отросшими бакенбардами, в зале сначала воцарилась мертвая тишина, а потом грянула такая буря, что судья, мэтр Виксен, сломал колокольчик, призывая собравшихся к порядку.
Судья вызвал представителя защиты, и все впервые обратили внимание на щуплого молодого человека, которому просторная адвокатская мантия была явно велика. То бледнея, то краснея, мэтр Ликоль лепетал что-то едва слышное, а на нетерпеливый вопрос судьи, признает ли себя подзащитный виновным, вдруг звонко пискнул: «Нет, ваша честь!» Зал снова взорвался негодованием. «А такой с виду приличный юноша!» – крикнул кто-то из женщин.
* * *
Процесс продолжался три дня.
В первый день выступали свидетели обвинения. Сначала – полицейские, обнаружившие страшную комнату и потом допрашивавшие арестованного. По словам комиссара, Пьер Фехтель дрожал, путался в показаниях, не мог ничего объяснить и сулил огромные деньги, если его оставят в покое.
Садовник, донесший в полицию о подозрительных криках, в суд не явился, но он был и не нужен. Прокурор вызвал свидетелей, которые живо описали беспутство и развратность Фехтеля, вечно требовавшего в борделях самых молоденьких и субтильных девушек. Мадам одного из домов терпимости рассказала, как обвиняемый мучил ее «дочурок» раскаленными завивочными щипцами, а бедняжки терпели, потому что за каждый ожог негодяй платил по золотому.
Зал разразился аплодисментами, когда человек, видевший, как уезжала в карете цветочница Люсиль Лану (чью голову с выколотыми глазами и отрезанным носом нашли потом в бочке), опознал в Фехтеле того самого господина, что расписывал чудесные возможности механического пианино.
Присяжным предъявили улики: орудия истязаний, фотографический аппарат и пластины, обнаруженные в потайной комнате. Выступил фотограф мсье Брюль, три года назад обучавший Пьера Фехтеля искусству съемки.
Напоследок присяжным предъявили альбом с фотографическими карточками, найденный в страшном подвале. Публике и журналистам фотографии не показали, но один из присяжных упал в обморок, а другого вырвало.
Адвокат Ликоль сидел, по-ученически склонив голову и все показания старательно записывал в тетрадь. Когда ему продемонстрировали карточки, он стал белее мела и пошатнулся. «Вот-вот, полюбуйся, мозгляк!» – крикнули из зала.
Вечером, по окончании заседания был инцидент: когда Ликоль выходил из зала, к нему подошла мать одной из убитых девочек и плюнула в лицо.
* * *
Во второй день свидетелей допрашивал защитник. Он поинтересовался у полицейских, кричали ли они на арестованного. («Нет, мы с ним целовались», – саркастически ответил комиссар под одобрительный хохот зала.)
У свидетеля похищения Люсиль Лану адвокат спросил, видел ли он человека, с которым уехала цветочница, анфас. Нет, не видел, ответил свидетель, но зато он очень хорошо запомнил бакенбарды.
Далее мэтр Ликоль хотел знать, какого рода фотографии делал Пьер Фехтель, когда учился любительской съемке. Оказалось, что он снимал натюрморты, пейзажи и новорожденных котят. (Это сообщение было встречено свистом и улюлюканьем, после чего судья велел вывести из зала половину зрителей).
В заключение адвокат потребовал, чтобы в суд принудительно доставили главного свидетеля, садовника, и заседание было прервано на час.
В перерыве к Ликолю подошел местный кюре и спросил, верует ли он в Господа нашего Иисуса. Ликоль ответил, что верует и что Иисус учил милосердию к грешникам.
По возобновлении заседания пристав объявил, что садовника нет и что его никто не видел уже три дня. Адвокат вежливо поблагодарил и сказал-, что больше вопросов к свидетелям не имеет.
Далее наступил звездный час прокурора; который блестяще провел допрос обвиняемого. Пьер Фехтель не смог удовлетворительно ответить ни на один вопрос. На предъявленные ему фотографические карточки долго смотрел, сглатывая слюну. Потом сказал, что видит их впервые. На вопрос, ему ли принадлежит фотоаппарат марки «Вебер и сыновья», пошептавшись с адвокатом, сказал, что да, ему, но что он утратил интерес к фотографии еще год назад, засунул аппарат на чердак и с тех пор его не видел. Вопрос о том, может ли обвиняемый смотреть в глаза родителям девочек, вызвал бурю оваций, но по требованию защиты был снят.
Вечером, вернувшись в гостиницу, Этьен увидел, что его вещи выброшены за дверь и валяются в грязи. Мучительно краснея, он ползал на четвереньках, собирая свои заштопанные кальсоны и испачканные манишки с бумажными воротничками.
Полюбоваться этой сценой собралась целая толпа, осыпавшая «продажную тварь» руганью. Когда Этьен, наконец, уложил вещи в новый, специально для поездки купленный саквояж, к нему подошел местный кабатчик и наотмашь влепил две пощечины, громогласно объявив: «Это тебе вдобавок к гонорару».
Поскольку ни одна из трех других мерленских гостиниц принять Ликоля не пожелала, мэрия предоставила адвокату для ночлега домик станционного сторожа, который в прошлом месяце ушел на пенсию, а нового еще не взяли.
Наутро на белой крашеной стене домика появилась надпись углем: «Ты сдохнешь, как собака!».
* * *
В третий день прокурор Ренан превзошел сам себя. Он произнес великолепную обвинительную речь, продолжавшуюся с десяти утра до трех часов дня. В зале рыдали и сыпали проклятьями. Присяжные, солидные мужчины, каждый из которых платил налог не меньше пятисот франков в год, сидели насупленные и суровые.
Адвокат был бледен и – в зале заметили – несколько раз как бы вопросительно оглядывался на своего подзащитного. Но тот сидел, втянув голову в плечи и закрыв лицо руками. Когда прокурор потребовал смертной казни, публика в едином порыве поднялась и стала скандировать «э-ша-фот, э-ша-фот!» Плечи Фехтеля задергались в судороге, пришлось давать ему нюхательную соль.
Слово защите было предоставлено после перерыва, в четыре часа пополудни.
Ликолю долго не давали говорить – нарочно шуршали ногами, скрипели стульями, громко сморкались. Багровый от волнения адвокат ждал, комкая листок, исписанный ровным почерком отличника.
Но начав говорить, Этьен в листок ни разу не заглянул. Вот его речь слово в слово, напечатанная в вечерних выпусках газет с самыми уничижительными комментариями.
"Ваша честь господин судья, господа присяжные. Мой подзащитный – слабый, испорченный и даже порочный человек. Но вы ведь судите его не за это… Ясно одно: в доме моего подзащитного, точнее в потайной комнате подвала, о существовании которой Пьер Фехтель мог и не знать , произошло страшное преступление. Целый ряд преступлений. Вопрос в том, кто их совершил. (Голос громко: «Да уж, загадка». Смех в зале).
У защиты есть своя версия. Я предполагаю, что убийства совершал садовник Жан Вуатюр, сообщивший в полицию о загадочных криках. Этот человек ненавидел хозяина, потому что тот за пьянство снизил ему жалование. Есть свидетели, которых при необходимости можно вызвать, – они подтвердят этот факт. Характер у садовника странный, неуживчивый. Пять лет назад от него ушла жена, забрав детей. Известно, что у людей такого типа, как Вуатюр, часто развивается болезненная чувственность вкупе с агрессивностью. Он хорошо знал устройство дома и легко мог устроить потайную комнату без ведома хозяина. Мог он и взять с чердака надоевший мсье Фехтелю фотоаппарат, мог научиться им пользоваться. Мог брать одежду хозяина во время его частых отлучек. Мог приклеить фальшивые бакенбарды, которые так легко опознать. Согласитесь, что если бы Пьер Фехтель шел на такие тяжкие преступления, он давно избавился бы от столь явной приметы. Поймите меня правильно, господа присяжные. Я не утверждаю, что садовник сделал все это – лишь то, что он мог все это сделать. Главный же вопрос – почему садовник, давший толчок всему следствию, столь внезапно исчез? Объяснение возможно только одно – он испугался, что на суде его истинное участие в деле будет раскрыто, и тогда он понесет заслуженную кару… – До сего места мэтр Ликоль говорил складно и даже живо, но тут вдруг запнулся. – И я вот что еще хочу сказать. В этой истории много неясного. Если честно, я сам не знаю, виновен ли мой подзащитный. Но пока остается хоть тень сомнения – а в этой истории, как я вам только что продемонстрировал, сомнений много – нельзя человека отправлять на казнь. На факультете меня учили, что лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного… Вот и все, что я хотел сказать, господа".
В десять минут пятого речь была закончена. Адвокат сел на место, вытирая покрытый испариной лоб.
В зале кое-где раздались смешки, но общее впечатление от речи было смешанным. Репортер «Суар» слышал (и потом написал в газете), как известный адвокат Ян Ван Бреверн сказал соседу, тоже юристу: «Мальчишка в сущности прав. С точки зрения высшего смысла юриспруденции. Но в данном случае это ничего не меняет».
Судья позвонил в колокольчик, укоризненно покачал головой, глядя на несолидного защитника: «Я полагал, что речь мэтра Ликоля продлится до конца сегодняшнего заседания и еще все завтрашнее утро. Сейчас же я в затруднении… Объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Напутственное слово присяжным я произнесу завтра утром. После чего вы, господа, удалитесь для вынесения вердикта».
Но наутро заседание не состоялось.
Ночью был пожар. Спалили будку станционного сторожа. Мэтр Ликоль сгорел заживо, потому что дверь была подперта снаружи. На закопченной стене осталась надпись «Ты сдохнешь, как собака» – никто не удосужился ее стереть. Свидетелей поджога не обнаружилось.
Процесс был прерван на несколько дней. В общественном мнении происходили неуловимые, но несомненные перемены. Газеты перепечатали последнюю речь мэтра Ликоля еще раз, но уже без глумления, а с сочувственными комментариями уважаемых юристов. Появились трогательные репортажи о короткой и трудной жизни паренька из бедной семьи, пять лет учившегося в университете, чтобы пробыть адвокатом чуть больше недели. С газетных полос на читателей смотрели рисованные портреты: мальчишеское лицо с большими, искренними глазами.
Гильдия адвокатов опубликовала декларацию в защиту свободного и объективного судопроизводства, которое не должно подвергаться шантажу со стороны эмоционального и скорого на расправу общества.
Завершающее заседание состоялось на следующий день после похорон.
Сначала по предложению судьи присутствующие почтили память Этьена Ликоля минутой молчания. Встали все, даже родители погибших девочек. В напутственном слове судья Виксен порекомендовал присяжным не поддаваться давлению извне и напомнил, что, когда речь идет о смертной казни, вердикт «виновен» считается действительным, если за него проголосовали по меньшей мере две трети заседателей.
Присяжные совещались четыре с половиной часа. Семь из двенадцати сказали «невиновен» и потребовали от суда освободить Пьера Фехтеля за недостаточностью доказательств.
* * *
Трудная работа была исполнена чисто. Труп садовника лежал в яме с негашеной известью. Что же касается мальчика-адвоката, то он умер без мучений и страха – Ахимас убил его во сне, еще до того, как поджег сторожку.
«Троица»
1
В год своего сорокалетия Ахимас Вельде стал подумывать, не пора ли удалиться от дел.
Нет, он не пресытился работой – она по-прежнему давала ему удовлетворение и заставляла его спокойное сердце биться чуть быстрей. Не потерял он и форму – наоборот, достиг самого пика зрелости и мастерства.
Причина была другая. Из работы ушел смысл.
Сам процесс убийства удовольствия Ахимасу не приносил, кроме тех очень редких случаев, когда примешивалось личное.
С убийствами обстояло просто. Ахимас существовал во вселенной один, со всех сторон окруженный самыми разными формами чужой жизни – растениями, животными, людьми. Жизнь эта находилась в беспрерывном движении: зарождалась, изменялась, прерывалась. Наблюдать за ее метаморфозами было интересно, еще интереснее – влиять на них посредством своих действий. Если вытоптать живое на одном участке вселенной, в целом от этого мало что менялось – жизнь с восхитительной цепкостью заделывала образовавшуюся брешь. Иногда жизнь представлялась Ахимасу буйно заросшим газоном, в котором он выстригал линию своей судьбы. Тут требовались аккуратность и обдуманность: не оставлять мешающих травинок, но и не трогать лишних, чтобы не нарушился ровный и чистый контур. Оглядываясь на пройденный путь, Ахимас видел не срезанную траву, а идеальную траекторию своего движения.
До сих пор стимулов для работы было два: найти решение и получить деньги.
Однако первое занимало Ахимаса уже не так, как раньше – для него осталось мало по-настоящему трудных задач, решать которые было интересно.
Понемногу утрачивало смысл и второе.
На номерном счете в цюрихском банке лежало без малого семь миллионов швейцарских франков. В Лондоне, в сейфе банка «Бэринг», хранилось ценных бумаг и золотых слитков на семьдесят пять тысяч фунтов стерлингов.
Много ли денег нужно человеку, если он не коллекционирует произведения искусства или бриллианты, не строит финансовую империю и не одержим политическим честолюбием?
Расходы Ахимаса устоялись: двести-триста тысяч франков в год уходило на обычные траты, еще в сто тысяч обходилось содержание виллы. Деньги за нее были выплачены полностью еще в позапрошлом году, все два с половиной миллиона. Дорого, конечно, но к сорока годам у человека должен быть свой дом. Семьи, если человек особого склада, может и не быть, а дом нужен.
Своим жилищем Ахимас был доволен. Дом полностью соответствовал характеру владельца.
Над Женевским озером, на самом краю узкой скалы прилепилась небольшая вилла белого мрамора. С одной стороны – пустое, вольное пространство, с другой – кипарисы. За кипарисами – высокая каменная стена, за ней отвесный спуск в долину.
Ахимас мог часами сидеть на веранде, что висела над водной гладью, смотреть на озеро и на дальние горы. Озеро и горы тоже были формой жизни, но без суеты и возни, присущей фауне и флоре. С этой формой жизни сделать что-либо было трудно, она не зависела от Ахимаса и потому вызывала уважение.
В саду, среди кипарисов, белел изящный эрмитаж с круглыми башенками по углам. В эрмитаже жила черкешенка Лейла. Ахимас привез ее прошлой осенью из Константинополя. С парижским агентством и ежемесячной сменой профессиональных женщин было давно покончено – наступил момент, когда они перестали казаться Ахимасу такими уж разными. У него выработался свой вкус.
Вкус был такой: женщина должна быть красивой без приторности, с природной грацией, не слишком разговорчивой, страстной без навязчивости, нелюбопытной и главное – обладающей женским инстинктом, который позволяет безошибочно чувствовать настроение и желания мужчины.
Лейла была почти идеальной. Она могла с утра до вечера расчесывать длинные черные волосы, напевать, играть сама с собой в нарды. Никогда не дулась, не требовала внимания. Кроме родного языка она знала турецкий и чеченский, поэтому разговаривать с ней мог только Ахимас, с прислугой Лейла объяснялась жестами. Если же ему хотелось развлечься, она знала множество увлекательных историй из константинопольской жизни – раньше Лейла жила в гареме у великого везиря.
В последнее время Ахимас брал работу редко, два-три раза в год: или за очень большие деньги, или за какую-нибудь особенную награду. Например, в марте поступил тайный заказ от итальянского правительства – разыскать и уничтожить анархиста Джино Дзаппу по прозвищу Шакал, который намеревался убить короля Умберто. Террорист считался крайне опасным и совершенно неуловимым.
Само по себе дело оказалось несложным (Шакала выследили помощники Ахимаса, а ему самому осталось только съездить в Лугано и один раз нажать на спусковой крючок), но примечателен был обещанный гонорар. Во-первых, Ахимас получил итальянский дипломатический паспорт на имя кавалера Вельде, а во-вторых, привилегию на покупку острова Санта-Кроче в Тирренском море. Если бы Ахимас пожелал воспользоваться привилегией и выкупить этот клочок суши, он получил бы не только титул графа Санта-Кроче, но и право экстерриториальности, что выглядело особенно привлекательно. Сам себе государь, сам себе полиция, сам себе суд? Хм.
Из любопытства Ахимас съездил взглянуть на остров и был околдован им. Там не было ничего примечательного, только скалы, пара оливковых рощиц, бухта. По берегу весь островок можно было обойти за час. Последние четыреста лет здесь никто не жил, лишь изредка заплывали рыбаки пополнить запас пресной воды.
Графское звание Ахимаса привлекало мало, хотя в путешествиях по Европе громкий титул иногда небесполезен. Но собственный остров?
Там он мог бы быть наедине с морем и небом. Там можно создать собственный мир, принадлежащий только ему одному. Заманчиво.
Удалиться на покой. Плавать под парусом, охотиться на горных коз, чувствовать, что время остановилось и неотличимо от вечности.
Хватит приключений, уж не мальчик.
И, может быть, обзавестись семьей?
Не то чтобы он думал о семье всерьез – скорее для гимнастики ума. Ахимас знал, что семьи у него никогда не будет. Он боялся того, что, лишившись одиночества, станет бояться смерти. Как боятся ее другие.
Сейчас он не страшился смерти вовсе. Это составляло фундамент, на котором стояло крепкое здание, именуемое Ахимасом Вельде. Ну, даст пистолет осечку, или жертва окажется чересчур ловкой и удачливой. Тогда Ахимас умрет, только и всего. Это значит, что больше ничего не будет. Кто-то из древних – кажется, Эпикур, – по этому поводу уже все сказал: пока есть я, смерти нет, а когда придет она, то не будет меня.
Ахимас Вельде пожил и повидал достаточно. Только любви не знал, но это уже из-за профессии. Привязанность ослабляет, а любовь – та вовсе делает беззащитным. Ахимас же был неуязвим. Поди возьми человека, который ничего не боится, никем и ничем не дорожит.
Но собственный остров – об этом стоило поразмыслить.
Возникала одна проблема – финансовая. Выкуп привилегии стоил дорого, на это ушли бы все средства из цюрихского и лондонского банков. А на что обустраивать свое графство? Можно продать виллу, но этого, пожалуй, не хватит. Тут нужен капитал поосновательней.
Или же выкинуть эти фантазии из головы?
Однако свой остров – это больше, чем своя скала, а море больше, чем озеро. Можно ли довольствоваться малым, если тебе предлагается большее?
* * *
Вот какого рода раздумья занимали Ахимаса, когда его посетил человек в маске.
2
Сначала дворецкий Арчибальд принес карточку – кусок белого картона с золотой коронеткой и готической вязью «Барон Евгениус Фон Штайниц» . К карточке была приложена записка по-немецки:
«Барон фон Штайниц просит господина Вельде принять его нынче в десять часов вечера по конфиденциальному делу».
Ахимас обратил внимание на то, что верхний край листка обрезан. Очевидно, будущий визитер не желал, чтобы Ахимас увидел монограмму, а стало быть, на самом деле он был, если и «фон», то во всяком случае не Штайниц.
Посетитель прибыл ровно в десять, минута в минуту. Такая пунктуальность позволяла предположить, что это действительно немец. Лицо барона было скрыто бархатной полумаской, за что гость учтиво извинился, сославшись на крайнюю деликатность дела. Ничего особенно примечательного во внешности фон Штайница Ахимас не заметил – светлые волосы, аккуратные бакенбарды, беспокойные голубые глаза. На бароне был плащ, цилиндр, крахмальная рубашка с белым галстуком, черный фрак.
Сели на веранде. Внизу мерцало освещенное луной озеро. Фон Штайниц даже не взглянул на умиротворяющий пейзаж, все рассматривал Ахимаса через прорези своей опереточной маски. Начинать разговор не спешил – закинул ногу на ногу, закурил сигару.
Ахимас все это уже много раз видел и спокойно ждал, когда визитер решится начать.
– Я обращаюсь к вам по рекомендации господина Дю Балле, – наконец, произнес барон. – Он просил передать вам нижайший поклон и пожелания полнейшего… то есть нет, совершеннейшего благополучия.
Услышав имя парижского посредника и его пароль, Ахимас молча кивнул.
– У меня дело огромной важности и сугубой конфиденциальности, – понизив голос, сообщил фон Штайниц.
– Именно с такими ко мне обычно и обращаются, – бесстрастно отметил Ахимас.
До сего момента разговор шел по-немецки. Внезапно посетитель перешел на русский. Говорил чисто, правильно, только слегка картавил на твердом "л":
– Работу следует выповнить в России, в Москве. Нужно, чтобы дево сдевав иностранец, хорошо знающий русский язык и обычаи. Вы подходите идеально. Мы навели о вас справки.
«Навели справки? Да еще „мы“?» – Ахимасу это не понравилось.
Он хотел было немедленно прервать разговор, пока гость не сказал лишнего, но тут картавый сказал:
– За выповнение этого свожного и деликатного дева вы повучите миллион французских франков авансом, а по исповнении нашего… м-м… контракта миллион рублей.
Это меняло дело. Такая сумма была бы достойным завершением блестящей профессиональной карьеры. Ахимас вспомнил причудливый контур Санта-Кроче, когда островок впервые появляется на горизонте – этакая шляпа-котелок, лежащая на зеленом бархате.
– Вы, сударь, посредник, – сухо сказал он вслух по-немецки. – А мой принцип – иметь дело напрямую с заказчиком. Условия мои таковы. Вы немедленно переводите задаток на мой счет в Цюрих. После этого я встречаюсь с заказчиком в указанном им месте, и он излагает мне всю подоплеку дела. Если условия меня почему-либо не устроят, я верну половину задатка.
«Барон Евгениус фон Штайниц» возмущенно всплеснул холеной рукой (на безымянном пальце сверкнул старинный сапфир), но Ахимас уже поднялся.
– Я буду говорить только с первым лицом. Или ищите другого исполнителя.
3
Встреча с заказчиком состоялась в Санкт-Петербурге, на тихой улочке, куда Ахимаса привезли в закрытом фаэтоне. Экипаж долго петлял по улицам, окна были наглухо зашторены. Эта предосторожность вызвала у Ахимаса улыбку.
Запомнить дорогу он не пытался, хотя географию российской столицы знал в совершенстве – в свое время приходилось выполнять здесь несколько серьезных контрактов. Но украдкой подсматривать в щелку и считать повороты нужды не было. Ахимас позаботился о своей безопасности: во-первых, подобающим образом вооружился, а во-вторых, привез с собой четверых помощников.
Они ехали в Россию в соседнем вагоне и сейчас следовали за фаэтоном в двух пролетках. Помощники были профессионалами, и Ахимас знал, что они не отстанут и себя не обнаружат.
Фаэтон остановился. Молчаливый кучер, встретивший Ахимаса на вокзале и, судя по офицерской выправке, явно не бывший кучером, открыл дверцу и жестом велел следовать за ним.
На улице ни души. Одноэтажный особняк. Скромный, но чистенький. Необычно только одно: несмотря на лето, все окна закрыты и задвинуты гардины. Одна чуть колыхнулась, и тонкие губы Ахимаса снова на миг раздвинулись в улыбке. Эти дилетантские хитрости начинали его забавлять. Все было ясно: аристократы, играющие в заговор.
Провожатый вел куда-то через анфиладу темных комнат. Перед последней остановился, пропуская вперед. Когда Ахимас вошел, створки за его спиной закрылись, раздался звук запирающего ключа.
Ахимас с любопытством огляделся. Занятная комнатка – ни одного окна. Из мебели только небольшой круглый стол и возле него два кресла с высокими спинками. Впрочем, разглядеть помещение было сложно, так как горела всего одна свеча, и ее слабый свет не достигал терявшихся во мраке углов.
Выждав, пока глаза свыкнутся с темнотой, Ахимас привычным взглядом осмотрел стены. Ничего подозрительного не обнаружил – ни потайных окошек, из которых можно было бы держать его на мушке, ни дополнительных дверей. Оказалось, что в дальнем углу стоит еще один стул.
Ахимас сел в кресло. Минут через пять дверь распахнулась, и вошел высокий мужчина. Вторым креслом не воспользовался – пересек комнату и, не здороваясь, сел на стул.
Выходило, что заказчик не так прост. Отличная уловка: Ахимас сидел на виду, освещенный свечой, а партнер оказался в густой тени. И лица было не видно – только силуэт.
Этот, в отличие от «барона фон Штайница», времени не терял, а сразу перешел к делу.
– Вы хотели встретиться с первым лицом, – сказал человек в углу по-русски. – Я согласился. Смотрите же, не разочаруйте меня, господин Вельде. Представляться не буду, для вас я monsieur NN.
По выговору – человек из высшего общества. На слух – лет сорок. Но, может быть, и меньше – это голос, привыкший командовать, а такие всегда звучат старше. По повадке – человек серьезный.
Вывод: если и великосветский заговор, то нешуточный.
– Излагайте суть дела, – сказал Ахимас.
– Вы хорошо говорите по-русски, – кивнула головой тень. – Мне докладывали, что в прошлом вы российский подданный. Это очень кстати. Не понадобятся лишние разъяснения. И уж во всяком случае, не придется втолковывать, насколько значительна персона, которую нужно убить.
Ахимас отметил удивительную ясность выражений – никаких экивоков, никаких «устранить», «обезвредить» или «нейтрализовать».
А monsieur NN все так же ровно, безо всякой паузы, сообщил:
– Это Михаил Соболев.
– Тот, кого называют Белым Генералом? – уточнил Ахимас. – Герой последних войн и самый популярный военачальник российской армии?
– Да, генерал-адъютант Соболев, командующий четвертым армейским корпусом, – бесстрастно подтвердил силуэт.
– Прошу извинить, но должен ответить отказом, – вежливо произнес Ахимас и скрестил руки на груди.
По науке о жестах эта поза означает спокойствие и непреклонную решимость. Ну, а кроме того пальцы правой руки легли на рукоятку маленького револьвера, лежавшего в специальном жилетном кармане. Револьвер назывался «велодог» и был изобретен для велосипедистов, которым докучают бродячие собаки. Четыре круглоголовые пульки двадцать второго калибра. Безделушка, конечно, но в ситуациях, подобных нынешней, может оказаться очень полезной.
Отказ от выполнения заказа после того, как объект уже назван, – самый опасный момент. В случае осложнений Ахимас намеревался действовать так: всадить заказчику пулю в лоб и отскочить в самый темный угол. Взять там Ахимаса будет непросто.
При входе обыска не было, так что весь арсенал остался нетронутым – и «кольт», изготовленный по индивидуальному заказу, и метательный нож, и пружинный испанский нож. Минуты две продержаться можно, а потом на выстрелы подоспеют помощники. Поэтому Ахимас был напряжен, но спокоен.
– Неужто вы тоже относитесь к числу приверженцев Соболева? – с раздражением спросил заказчик.
– Мне нет дела до Соболева, я приверженец здравого смысла. А здравый смысл велит мне не участвовать в делах, которые подразумевают последующее устранение исполнителя, то есть в данном случае меня. После акции такого масштаба свидетелей не оставляют. Советую вам поискать кого-нибудь из новичков. Обычное политическое убийство – дело не такое уж хитрое.
Ахимас поднялся и осторожно попятился к двери, готовый в любую секунду стрелять.
– Сядьте. – Человек в углу повелительным жестом указал на кресло. – Мне нужен не новичок, а самый лучший в вашем ремесле, потому что дело очень даже хитрое. Вы это увидите сами. Но сначала я открою вам некоторые обстоятельства, которые избавят вас от подозрений.
Чувствовалось, что monsieur NN не привык давать объяснений и сдерживается, чтобы не вспылить.
– Это не политическое убийство и не заговор. Наоборот, заговорщик и государственный преступник – Соболев, которому не дают покоя лавры Корсиканца. Наш герой замыслил не более не менее как военный переворот. В заговоре участвуют офицеры его корпуса, а также бывшие соратники генерала, многие из которых служат в гвардии. Опаснее всего то, что Соболев популярен не только в армии, но и во всех слоях общества. А мы, двор и правительство, вызываем у одних недовольство, а у других и открытую ненависть. Престиж царствующего дома очень упал после позорной охоты на самодержца, закончившейся его убийством. Затравили помазанника Божьего, как зайца на псовой охоте!
Голос говорившего налился грозной силой, и за спиной Ахимаса немедленно скрипнула дверь. Тот, для кого двор и правительство входили в категорию «мы», нетерпеливо махнул рукой в белой перчатке, и дверь снова закрылась. Дальше таинственный господин говорил уже спокойнее, без гнева.
– Нам известен план заговорщиков. Сейчас Соболев проводит маневры, истинная цель которых – репетиция переворота. Затем он в сопровождении своих клевретов выедет в Москву, чтобы там, на отдалении от Петербурга, встретиться кое с кем из гвардейских генералов, заручиться их поддержкой и разработать окончательную диспозицию. Удар будет нанесен в первых числах июля, во время смотра в Царском Селе. Соболев намерен взять членов царского семейства под «временную опеку» – ради их же блага и во имя спасения отечества. – В голосе зазвучал тяжелый сарказм. – Само отечество будет объявлено пребывающим в опасности, и в нем придется установить военную диктатуру. Есть серьезные основания полагать, что этот безумный прожект будет поддержан значительной частью армии, дворянства, купечества и даже крестьянства. Белый Генерал идеально подходит на роль спасителя отечества!
Monsieur NN поднялся, сердито прошелся вдоль стены, похрустывая пальцами. Держался, впрочем, по-прежнему в тени, лица не показывал. Ахимас разглядел только породистый нос и пышные бакенбарды.
– Знайте же, господин Вельде, что в данном случае вы не совершите никакого преступления, потому что Соболев приговорен к смерти судом, в котором участвовали высшие сановники империи. Из двадцати высочайше назначенных судей за смертную казнь проголосовали семнадцать. И приговор уже утвержден императором. Суд был тайным, но оттого не менее законным. Тот господин, которого вы сочли посредником, был одним из судей и действовал в интересах международной безопасности и мира в Европе. Как вам, вероятно, известно, Соболев – предводитель воинственной славянской партии, и его приход к власти неминуемо привел бы к войне с Германией и Австро-Венгрией. Государственный человек остановился и стал смотреть на невозмутимого слушателя.
– Поэтому вам нечего опасаться за свою жизнь. Вы имеете дело не с преступниками, а с высшей властью великой империи. Вам предлагается роль не убийцы, а палача. Мое объяснение вас удовлетворило?
– Допустим. – Ахимас положил руки на стол. Стрельбы, кажется, не предвиделось. – Но в чем, собственно, сложность дела? Почему генерала нельзя просто отравить или, на худой конец, застрелить?
– Ага, стало быть, вы согласны. – Monsieur NN удовлетворенно кивнул и опустился на стул. – Теперь я объясню, зачем нам понадобился такой авторитетный специалист. Начнем с того, что добраться до Соболева очень непросто. Он днем и ночью окружен адъютантами и ординарцами, которые ему фанатично преданы. Да и нельзя его просто убить – вся Россия встанет на дыбы. Он должен умереть естественным образом, безо всяких двусмысленностей и подозрений. Но и этого мало. Устранить злоумышленника при помощи яда мы смогли бы и сами. Однако заговор зашел слишком далеко. Даже смерть предводителя может не остановить заговорщиков. Они доведут свое дело до конца, считая, что действуют, выполняя заветы Соболева. Вероятнее всего, без вождя у них ничего не выйдет, но Россия погрузится в кровавый хаос, и верховная власть будет окончательно скомпрометирована. По сравнению с господами соболевцами декабристы покажутся шалунишками. И сейчас я поставлю перед вами задачу во всей ее головоломной полноте.
Он энергично подытожил, рубя темноту взмахами белой перчатки:
– Соболева нужно уничтожить так, чтобы для широкой публики его смерть выглядела естественной и не вызвала возмущения. Мы устроим ему пышные похороны, поставим памятник и даже назовем в его честь какой-нибудь корабль. Нельзя лишить Россию единственного национального героя. Однако в то же время Соболев должен умереть таким образом, чтобы его сообщники были деморализованы и лишились своего знамени. Оставшись героем в глазах толпы, он должен утратить этот ореол среди заговорщиков. Так что, сами видите, новичку такую задачу не выполнить. Скажите, выполнима ли она вообще?
Впервые в голосе говорившего зазвучало нечто, похожее на неуверенность.
Ахимас спросил:
– Как и когда я получу остаток суммы? Monsieur NN облегченно вздохнул.
– Когда Соболев выедет в Москву, у него будет при себе весь денежный фонд заговора – около миллиона рублей. Подготовка переворота требует немалых расходов. Убив Соболева, вы заберете деньги себе. Надеюсь, с этой задачей вы справитесь без труда?
– Сегодня по русскому стилю 21 июня. Вы говорите, переворот назначен на начало июля. Когда Соболев выезжает в Москву?
– Завтра. Самое позднее – послезавтра. И пробудет там до 27-го. Потом заедет к себе в рязанское имение и оттуда сразу в Петербург. Нам известно, что встречи с генералами у него назначены на 25-ое, 26-ое и 27-ое. Из Петербурга в Москву для этого специально приедут… Впрочем, не буду называть лишних имен. Без Соболева эти люди неопасны. Со временем мы тихо, без огласки отправим их в отставку. Но все же лучше, чтобы Соболев с ними встретиться не успел. Мы не хотим, чтобы заслуженные генералы запятнали себя государственной изменой.
– В ваших обстоятельствах подобные нежности непозволительны, – не удержался от резкости Ахимас. Задача и без дополнительного ужесточения сроков была непростой. – Вы хотите, чтобы я сделал дело до 25 июня, то есть даете мне всего три дня. Маловато. Постараюсь, но не обещаю.
В тот же день Ахимас, расплатившись, отпустил помощников – в их услугах он больше не нуждался.
Сам же ночным поездом выехал в Москву.
4
По классификации, некогда разработанной Ахимасом, задача относилась к четвертой, самой высокой категории сложности: замаскированное убийство знаменитости в максимально сжатые сроки с дополнительными условиями.
Трудностей было три.
Первая: сильная, преданная охрана.
Вторая: имитация естественной смерти.
Третья: смерть должна в глазах широкой публики выглядеть пристойной, а в глазах узкого круга посвященных постыдной.
Интересно.
Ахимас удобно расположился на бархатном диванчике купе первого класса, предвкушая плодотворную мыслительную работу. Десяти часов дороги должно было хватить. Спать необязательно – при необходимости он мог обходиться без сна и трое, и четверо суток. Спасибо дяде Хасану и его выучке.
Also, der Reihe nach [Итак, по порядку, (нем.)].
Он достал сведения, предоставленные по его просьбе заказчиком. Здесь было полное досье на Соболева, как видно, подбиравшееся не один год: подробная биография с послужным списком, пристрастия, связи. Никаких полезных причуд, за которые можно было бы уцепиться, не обнаружилось – не игрок, не опиумист, не запойный пьяница. В личностной характеристике преобладало слово «отличный»: отличный наездник, отличный стрелок, отличный биллиардист. Ладно.
Ахимас перешел к графе «пристрастия». Пьет умеренно, предпочитает «шато-икем», курит бразильские сигары, любит русские романсы, в особенности «Рябину» (сочинение г-на И.Сурикова). Так-так.
«Интимные привычки». Увы, тут ждало разочарование. Не педераст, не последователь маркиза де Сада, не педофил. В прошлом, правда, известный ловелас, однако в последние два года хранил верность любовнице, учительнице минской женской гимназии Екатерине Головиной. Есть сведения, что месяц назад предложил ей узаконить отношения, но Головина по неизвестной причине ответила отказом, и отношения пресеклись. Так, тут что-то есть.
Ахимас задумчиво посмотрел в окно. Взял следующий документ. Имена и характеристики офицеров свиты Соболева. Люди по большей части боевые, бывалые. В поездках генерала сопровождает никак не меньше семи-восьми человек. В одиночку Соболев никуда не ходит. Это нехорошо. Еще хуже было то, что принимаемую генералом пищу проверяли, причем не один, а двое: старший ординарец есаул Гукмасов и личный камердинер.
Однако изобразить естественную, не вызывающую подозрений смерть можно только при помощи яда. Несчастный случай не годится – это всегда дурно пахнет.
Как дать объекту яд, минуя проверку? Кто ближе Соболеву, чем ординарец и камердинер?
Получалось, что никто. В Минске у объекта была пассия, уж из ее-то рук он, наверно, ел без проверки. Но отношения прерваны.
Однако стоп. Мысль в правильном направлении. Ближе всего к мужчине может подобраться женщина, даже недавняя знакомая. Естественно, при условии, что они вступили в связь. Тут уж адъютантам с камердинерами придется подождать за дверью.
Так, когда Соболев порвал с любовницей? Месяц назад. Стало быть, оголодал – на маневрах ему было не до амуров, да и сообщили бы в сводке. Мужчина он полнокровный, в самом соку. Опять же затевает рискованное дело, которое неизвестно чем для него закончится.
Ахимас прищурился.
Напротив сидела дама с сыном-кадетом, вполголоса уговаривала вести себя прилично и не вертеться.
– Ты ведь видишь, Серж, этот господин работает, а ты капризничаешь, – сказала дама по-французски.
Мальчик посмотрел на аккуратного блондина в добротном сером пиджаке. Разложил на, коленях какие-то скучные бумаги и губами шевелит, немчура.
Немчура взглянул на кадета исподлобья и неожиданно подмигнул белесым глазом.
Серж набычился.
У прославленного Ахилла есть пята, и не слишком оригинальная, пришел к заключению Ахимас. Нечего мудрить и изобретать порох. Чем проще, тем верней.
Логическая схема выстроилась сама собой.
1) Женщина – самая подходящая приманка для крепкого, уставшего от воздержания мужчины Соболевского склада.
2) Через женщину проще всего дать объекту яд.
3) Разврат в России считается делом постыдным и уж во всяком случае недостойным национального героя. Если герой умер не на поле брани или хотя бы не на больничном ложе, а испустил дух на ложе порока, с любовницей, а еще лучше со шлюхой, это, по русским понятиям a) неприлично, b) комично, c) просто глупо. Героям такого не прощают.
Остальное сделает свита. Адъютанты в лепешку расшибутся, чтобы утаить неблаговидные обстоятельства смерти Белого Генерала от публики. Однако среди своих, среди заговорщиков, слух разнесется мигом. Трудно идти против императора без вождя, да еще, если вместо рыцарственного знамени над головой развевается запятнанная простыня. И Белый Генерал перестанет быть для своих приверженцев таким уж белым.
Что ж, метод определился. Теперь техника.
В чемодане среди прочих полезных вещей у Ахимаса имелся неплохой подбор химикатов. В данном случае идеально подходил экстракт сока амазонского папоротника. Двух капель бесцветной и почти безвкусной жидкости было достаточно, чтобы при незначительном учащении сердцебиения у здорового человека произошел паралич дыхания и разрыв сердечной мышцы. Смерть при этом выглядела совершенно естественно, никому и в голову не пришло бы заподозрить отравление. В любом случае, уже через два-три часа обнаружить следы яда было невозможно.
Средство было надежное, неоднократно опробованное. Последний раз Ахимас воспользовался им в позапрошлом году, выполняя заказ одного лондонского шалопая, пожелавшего избавиться от дяди-миллионера. Операция была проведена просто и изящно. Любящий племянник устроил обед в честь дорогого родственника. Среди гостей был и Ахимас. Он сначала выпил со стариком отравленного шампанского, а потом, улучив момент, шепнул миллионеру, что племянничек хочет его извести. Дядя побагровел, схватился за сердце и рухнул, как подкошенный. Смерть произошла на глазах у дюжины свидетелей. Ахимас вернулся в гостиницу медленным, размеренным шагом – чтобы дать отраве время рассосаться и ослабнуть.
Объект был пожилым человеком с неважным здоровьем. Опыт показывал, что на сильного, молодого мужчину препарат действует, когда биение пульса достигает 80-85 ударов в минуту.
Стало быть, вопрос звучал следующим образом: разгонится ли кровь у героического генерала в момент любовной страсти до 85 ударов?
Ответ: непременно разгонится, на то она и страсть. Особенно, если предмет страсти окажется достаточно знойным.
Оставался пустяк – найти подходящую кокотку.
5
В Москве, согласно инструкции, Ахимас остановился в новой фешенебельной гостинице «Метрополь» под именем купца Николая Николаевича Клонова из Рязани.
По номеру, полученному от monsieur NN, протелефонировал московскому представителю заказчика, которого было велено называть «господин Немо». Эти нелепые прозвища уже не казались Ахимасу смехотворными – видно было, что здесь не шутят.
– Слушаю, – прошелестел голос в трубке.
– Это Клонов, – сказал Ахимас в переговорное устройство. – Мне нужен господин Немо.
– Слушаю, – повторил голос.
– Передайте, чтобы мне срочно доставили словесный портрет Екатерины Головиной.
Ахимас еще раз повторил имя любовницы Соболева и разъединился.
М-да, конспираторы из защитников престола неважные. Ахимас взял у кельнера телефонный справочник и посмотрел, что за абонент числится под номером 211. Надворный советник Петр Парменович Хуртинский, начальник секретной канцелярии московского генерал-губернатора. Неплохо.
Через два часа курьер доставил в гостиницу запечатанную депешу. Телеграмма была короткой:
«Блондинка, серо-голубые глаза, нос с небольшой горбинкой, худощавая, стройная, рост два аршина четыре вершка, бюст небольшой, талия тонкая, на правой щеке родинка, на левой коленке шрам от падения с лошади. NN»
Про левую коленку и родинку было лишнее. Главное, что определился типаж: худосочная блондинка небольшого роста.
– Скажи-ка, любезный, тебя как звать?
Нумер 19-ый смотрел на кельнера как-то неопределенно, словно бы смущаясь. Служителю, человеку бывалому, этот тон и выражение были очень хорошо знакомы. Он убрал с лица улыбку, чтобы не смущать постояльца излишней понятливостью, и ответил:
– Тимофей, ваше степенство. Не будет ли каких поручений?
19-ый (по книге – купец первой гильдии из Рязани) отвел Тимофея от конторки к окну, сунул рублевик.
– Скучно мне, братец. Одиноко. Как бы того… скрасить. Купец захлопал белобрысыми ресницами, порозовел. Приятно иметь дело с таким деликатным человеком. Кельнер развел руками:
– Чего же проще, сударь. У нас в Москве веселых барышень в избытке-с. Прикажете адресок подсказать?
– Нет, не надо адресок. Мне бы какую-нибудь особенную, чтоб с понятием. Не люблю я дешевых-то, – воспрял духом рязанец.
– Есть и такие. – Тимофей принялся загибать пальцы. – В «Яре» поет Варя Серебряная – авантажная девица, со всяким не пойдет. Имеется мамзель Карменсита, очень современная особа, с ней по телефону договариваются. В «Альпийской розе» поет мамзель Ванда, с исключительным разбором барышня. Во Французской оперетке танцорки две, Лизетт и Анизетт, оченно популярны-с. Теперь среди актрисок…
– Вот-вот, мне бы актрису, – оживился 19-ый. – Только на мой вкус. Я, Тимофей, дебелых не уважаю. Мне бы стройненькую, с талией, умеренного росточка и чтоб непременно блондинка.
Кельнер подумал и приговорил:
– Тогда получается, что Ванда из «Розы». Блондинка и тоща. Но успех имеет. Остальные по большей части в теле. Ничего не поделаешь, сударь, мода-с.
– Расскажи-ка мне, что за Ванда такая.
– Немка. Обхождения благородного, себя ценит дорого. Живет одна, в номерах «Англия», с отдельным входом. Может себе позволить-с – по пятьсот целковых за удовольствие берет. И переборчива, только с тем идет, кто понравится.
– Пятьсот целковых? Однако! – Купец, похоже, заинтересовался. – А где бы мне, Тимофей, на эту Ванду посмотреть? Что за «Альпийская роза» такая?
Кельнер показал в окно:
– Да здесь, близехонько, на Софийке. Почитай, каждый вечер поет. Ресторанчик не особенный, с нашим или хоть со «Славянским базаром» никакого сравнения-с. Больше, извиняюсь, немчура ходит. А наши-, русские, разве на Ванду поглазеть. Ну, и кто с серьезными намерениями – ангажировать.
– И как же ее ангажируют?
– Тут свое обхождение, – с удовольствием принялся описывать Тимофей. – Надобно ее сначала за стол пригласить. Но так подозвать – не сядет. Перво-наперво букетик фиалок послать, да обернуть сотенной. Мамзель на вас издали поглядит. Если сразу не понравитесь – сотенную назад пришлет. А коли не вернула, значит, подсядет. Но это еще полдела-с. Может присесть, поболтать о том, о сем, а после все равно откажет. И сотню уж не вернет, раз время потратила. Говорят, она этими отказными сотнями больше, чем пятисотенными зарабатывает. Так уж она себя поставила, эта самая Ванда.
* * *
Вечером Ахимас сидел в «Альпийской розе», потягивал неплохое рейнское и приглядывался к певичке. Немочка и в самом деле была хороша. Похожа на вакханку. Лицо совсем не немецкое – дерзкое, бесшабашное, зеленые глаза отливают расплавленным серебром. Ахимас очень хорошо знал этот особенный оттенок, встречающийся лишь у самых драгоценных представительниц женской породы. Не на пухлые губки и не на точеный носик, а на это переливчатое серебро падки мужчины, слепнут от неверного блеска, теряют разум. А каков голос! Ахимас, искушенный ценитель женской красоты, знал, что в голосе половина очарования. Когда он такой грудной и при этом чуть подернутый хрипотцой, будто прихваченный инеем или, наоборот, опаленный огнем, это опасно. Лучше, подобно Одиссею, привязаться к мачте, иначе утонешь. Не устоять бравому генералу против этой сирены, нипочем не устоять.
Однако имелся некоторый запас времени. Нынче еще только вторник, Соболев прибудет в четверг, так что была возможность присмотреться к мадемуазель Ванде получше.
За вечер ей посылали букеты дважды. Один, отправленный жирным купцом в малиновом сюртуке, Ванда вернула сразу, даже не прикоснувшись. Купчина тут же ушел, стуча сапогами и выражаясь по матери.
Второй букет прислал гвардейский полковник с шрамом через щеку. Певица поднесла фиалки к лицу, банкноту спрятала в кружевной рукав, но к гвардейцу подсела нескоро и просидела с ним недолго. Ахимас не слышал, о чем они говорили, но закончилась беседа тем, что Ванда, запрокинув голову, рассмеялась, ударила полковника веером по руке и отошла. Гвардеец философски пожал золотопогонными плечами и некоторое время спустя послал еще один букет, но его Ванда сразу вернула.
Зато, когда некий краснощекий блондин, явно уступавший отвергнутому офицеру по части импозантности, небрежно поманил гордячку пальцем, она себя ждать не заставила – немедленно подсела к его столу. Блондин что-то лениво говорил ей, постукивая по скатерти короткими в рыжеватых волосках пальцами, а она слушала молча, без улыбки, дважды кивнула. Неужто сутенер, удивился Ахимас. Непохож.
Однако в полночь, когда Ванда вышла из бокового подъезда (Ахимас караулил на улице) именно краснощекий поджидал Ванду на улице в коляске, и уехала она тоже с ним. Ахимас следовал сзади в одноместной коляске, предусмотрительно взятой напрокат в «Метрополе». Проехали по Кузнецкому мосту, свернули на Петровку. У большого углового дома с подсвеченной электричеством вывеской «Англия» Ванда и ее спутник сошли и кучера отпустили. Час был поздний, а это означало, что несимпатичный кавалер останется ночевать. Кто он, любовник? Но что-то вид у Ванды не слишком счастливый.
Надо будет навести справки у «господина Немо».
6
Чтобы не рисковать и не тратить времени попусту, Ахимас не завернул фиалки в сотенный билет, а продел в колечко с изумрудом, купленное днем на Кузнецком. От денег женщина отказаться может, от дорогой безделушки никогда.
Прием, разумеется, подействовал. Ванда с любопытством рассмотрела подарок, а затем столь же заинтересованно отыскала глазами дарителя. Ахимас слегка поклонился. Сегодня он был в английском смокинге и белом галстуке с бриллиантовой заколкой. По виду не то британский лорд, не то современный предприниматель – новая космополитическая порода, начинавшая задавать тон в Европе и России.
Вчерашнего бесцеремонного блондина, о котором Ахимас получил исчерпывающие (и весьма примечательные} сведения, в зале не было.
Допев песенку, Ванда села напротив, заглянула Ахимасу в лицо и вдруг сказала:
– Какие глаза-то прозрачные. Будто ручей.
От этой фразы у Ахимаса почему-то на миг ежа лось сердце. Возникло некое смутное, ускользающее воспоминание из тех, что французы называют deja vu. Он чуть нахмурился. Глупости какие, уж Ахимаса Вельде женскими хитростями на крючок не подцепить.
– Купец первой гильдии Николай Николаевич Клонов, председатель Рязанского коммерческого общества, – представился он.
– Купец? – удивилась зеленоглазая. – Не похожи. Скорей моряк. Или разбойник.
Она хрипловато рассмеялась, и Ахимасу второй раз стало не по себе. Никто и никогда еще не говорил ему, что он похож на разбойника. Он должен выглядеть заурядно и добропорядочно – таково непременное условие профессии.
А певичка между тем продолжала удивлять.
– И выговор у вас не рязанский, – насмешливо обронила она. – Вы часом не иностранец?
В речи у Ахимаса и в самом деле, кажется, имелся легчайший, почти неразличимый акцент – некоторая нерусская металличность, сохранившаяся с детства, но чтобы расслышать ее, требовалась незаурядная тонкость слуха. Тем более удивительно было услышать такое от немки.
– Я долго жил в Цюрихе, – сказал он. – Там у нашей компании представительство. Русский лен и ситец.
– Ну, и чего вы от меня хотите, швейцарско-рязанский коммерсант? – как ни в чем не бывало продолжила женщина. – Совершить со мной коммерцию? Я угадала?
Ахимас успокоился – певичка просто кокетничала.
– Вот именно, – сказал он серьезно и уверенно, как всегда говорил с женщинами этого типа. – У меня к вам деловое конфиденциальное предложение.
Она расхохоталась, обнажив мелкие ровные зубы.
– Конфиденциальное? Красиво излагаете, мсье Клонов. Мне обычно и делают исключительно конфиденциальные предложения.
Вот это Ахимас вспомнил: то же самое и примерно в таких же словах он ответил неделю назад «барону фон Штайницу». Поневоле улыбнулся, но тут же вновь заговорил серьезно:
– Это не то, что вы думаете, сударыня. Рязанское коммерческое общество, председателем которого я имею честь состоять, поручило мне сделать какой-нибудь дорогой, необычный подарок одному нашему земляку, человеку заслуженному и знаменитому. Я могу выбрать подарок на свое усмотрение, но наш земляк должен непременно остаться доволен. У нас в Рязани очень любят и чтут этого человека. Подарок мы желаем сделать деликатно, без навязчивости. Даже анонимно. Он и не узнает, что деньги были собраны купечеством его родной Рязани по подписке. Я долго думал, чем бы одарить счастливца, которому судьба дала абсолютно всё. А потом увидел вас и понял, что самый лучший дар – такая женщина, как вы. – Удивительно, но она покраснела.
– Как вы смеете! – Глаза так и вспыхнули. – Я не вещь, чтобы меня дарить!
– Не вас, мадемуазель, а всего лишь ваше время и ваше профессиональное мастерство, – сурово произнес Ахимас. – Или меня ввели в заблуждение и вы не торгуете своим временем и искусством?
Она смотрела на него с ненавистью.
– Да знаете ли вы, купец первой гильдии, что достаточно одного моего слова, и вас выкинут отсюда на улицу?
Он улыбнулся одними губами.
– Меня еще никто никогда на улицу не выкидывал, сударыня. Уверяю вас, это совершенно исключено.
Наклонился вперед и, глядя прямо в искрящиеся бешенством глаза, сказал:
– Быть куртизанкой наполовину невозможно, мадемуазель. Лучше уж честные деловые отношения: работа в обмен на деньги. Или вы занимаетесь своим ремеслом ради удовольствия?
Искорки потухли, широкий, чувственный рот покривился в горькой усмешке.
– Какое там удовольствие… Закажите-ка мне шампанского. Я только шампанское пью" иначе в моем «ремесле» нельзя – сопьешься. А петь сегодня больше не буду. – Ванда подала знак официанту, и тот, видимо, зная ее привычки, принес бутылку «клико». – Вы правы, господин философ. Быть продажной наполовину – только себя обманывать.
Она выпила бокал до самого дна, но снова наполнить его не позволила. Всё шло благополучно, и Ахимаса тревожило только одно: на него, вандиного избранника, со всех сторон пялились. Но ничего, он покинет ресторан в одиночестве, его сочтут очередным неудачником и сразу же забудут.
– Со мной редко так разговаривают. – От шампанского взгляд певички не прояснился, а напротив стал грустным. – Больше лебезят. Сначала. А потом говорят «ты» и манят в содержанки. Знаете, чего я хочу?
– Знаю. Денег. Свободы, которую они дают, – рассеянно обронил Ахимас, додумывая детали последующих действий.
Она потрясенно уставилась на него.
– Откуда вы знаете?
– Сам таков, – коротко ответил он. – Так сколько вам нужно денег, чтоб вы наконец почувствовали себя свободной?
Ванда вздохнула.
– Сто тысяч. Я давно это высчитала, еще когда дурочкой была и уроками музыки перебивалась. Не буду про это… Неинтересно. Я долго в бедности жила, почти в нищете. До двадцати лет. А потом решила: все, хватит. Стану богатой и свободной. Три года с тех пор прошло.
– И как, стали?
– Еще столько же и стану.
– Стало быть, тысяч пятьдесят уже есть? – усмехнулся Ахимас. Певичка ему определен по нравилась.
– Есть, – засмеялась она, но уже без горечи и вызова, а задорно, как пела свои парижские шансонетки. Это ему тоже понравилось – что не упивается жалостью к себе.
– Могу сократить вашу каторгу по меньшей мере на полгода, – сказал он, поддевая серебряной вилочкой устрицу. – Общество собрало на подарок десять тысяч.
По выражению вандиного лица Ахимас понял, что она не в том настроении, чтобы рассуждать хладнокровно, и сейчас пошлет его к черту вместе с десятью тысячами, а потому поспешил добавить:
– Не отказывайтесь, будете жалеть. К тому же вы не знаете, о ком идет речь. О, мадемуазель Ванда, это великий человек, такой человек, за ночь с которым многие дамы, причем из самого хорошего общества, сами заплатили бы немалые деньги.
Он замолчал, зная, что теперь она не уйдет. Еще не родилась женщина, у которой гордость была бы сильнее любопытства.
Ванда сердито смотрела исподлобья. Потом не выдержала, фыркнула:
– Ну говорите же, не томите, змей рязанский.
– Сам генерал Соболев, несравненный Ахиллес и рязанский помещик, – с важным видом произнес Ахимас. – Вот кого я вам предлагаю, а не какого-нибудь купчину с брюхом до коленок. Потом, в свободной жизни, еще мемуар напишете. Десять тысяч да Ахиллес в придачу – по-моему, неплохо.
По лицу певички было видно – колеблется.
– И еще кое-что вам предложу, – уже совсем тихо произнес, даже прошептал Ахимас. – Могу раз и навсегда избавить вас от общества герра Кнабе. Если, конечно, пожелаете.
Ванда вздрогнула. Спросила испуганно:
– Кто ты, Николай Клонов? Ты ведь не купец?
– Купец-купец. – Он щелкнул пальцами, чтобы подали счет. – Лен, ситец, парусина. По поводу моей осведомленности не удивляйтесь. Общество поручило мне важное дело, а в делах я люблю доскональность.
– То-то ты вчера так пялился, когда я с Кнабе сидела, – неожиданно сказала она.
Наблюдательна, подумал Ахимас, еще не решив, хорошо это или плохо. И то, что стала говорить ему «ты», тоже требовало осмысления. Что будет удобнее – доверительность или дистанция?
– А как ты можешь меня от него избавить? – жадно спросила Ванда. – Ты ведь даже не знаешь, кто он… – И, словно спохватившись, перебила сама себя. – С чего ты вообще взял, что я хочу от него избавиться?
– Дело ваше, мадемуазель, – пожал плечами Ахимас, решив, что дистанция в данном случае эффективнее. – Ну так что, согласны?
– Согласна. – Она вздохнула. – Что-то мне подсказывает: от тебя все равно не отвяжешься. Ахимас кивнул:
– Вы очень умная женщина. Завтра сюда не приезжайте. Вечером, часов с пяти, будьте у себя. Я заеду к вам в «Англию», мы обо всем окончательно договоримся. И уж постарайтесь быть одна.
– Я буду одна. – Она смотрела на него как-то странно, он не понимал, что означает этот взгляд. Внезапно спросила:
– Коля, а ты меня не обманешь?
Даже не сами слова – интонация, с которой они были произнесены, вдруг показались Ахимасу до замирания сердца знакомыми.
И он вспомнил. В самом деле – deja vu. Это уже было.
То же самое сказала когда-то Евгения, двадцать лет назад, перед ограблением железной комнаты. И про прозрачные глаза – тоже она, девочка Женя, в скировском приюте.
Ахимас расстегнул крахмальный воротничок – что-то дышать стало трудно.
Ровным голосом произнес:
– Честное купеческое. Итак, мадемуазель, до завтра.
7
В гостинице Ахимаса дожидался нарочный с депешей из Петербурга.
«Взял месячный отпуск и выехал поездом в Москву. Завтра прибывает в пять пополудни. Остановится в гостинице „Дюссо“, Театральный проезд, в нумере 47. Сопровождают семь офицеров и камердинер. Ваше вознаграждение в коричневом портфеле. Первая встреча назначена на пятницу в 10 утра с командующим Петербургским округом Ганецким. Напоминаю, что эта встреча нежелательна. NN».
* * *
24 июня, в четверг, Ахимас, одетый в полосатую визитку, с набриолиненным пробором и в соломенном канотье, с самого утра крутился в вестибюле «Дюссо». Успел наладить деловые отношения с портье, швейцаром и уборщиком, который обслуживал крыло, предназначенное для высокого гостя. Налаживанию отношений способствовали два обстоятельства: во-первых, карточка корреспондента «Московских губернских ведомостей», доставленная от господина Немо, а во-вторых, щедрая подмазка (портье получил четвертную, швейцар десятку, уборщик трешницу). Самой полезной инвестицией оказалась именно трешница – уборщик тайком провел репортера в 47-ой.
Ахимас поахал на роскошную обстановку, посмотрел, куда выходят окна (во двор, в сторону Рождественки, очень хорошо), обратил внимание на несгораемый шкаф, встроенный в стену спальни. Это тоже было удачно – не придется переворачивать все вверх дном в поисках денег. Портфель, разумеется, будет лежать в сейфе, а замок самый что ни на есть обычный, бельгийский «Ван-Липпен», пять минут возни. В благодарность за услугу корреспондент «Московских ведомостей» дал уборщику еще полтинник, да так неудачно, что монета выпала и закатилась под диван. Пока малый ползал на карачках, Ахимас поколдовал над шпингалетом боковой створки окна: подвинул так, чтобы еле-еле держался. Чуть снаружи подтолкнуть, и окно раскроется.
В половине шестого Ахимас с репортерским блокнотом в руке стоял у входа в толпе корреспондентов и зевак, наблюдая приезд великого человека. Когда Соболев в белом мундире вышел из кареты, в толпе попытались крикнуть «ура», но герой глянул на москвичей так сердито, а адъютанты замахали так отчаянно, что овация скисла, толком не развернувшись.
Белый Генерал показался Ахимасу удивительно похожим на сома: набыченный лоб, глаза чуть навыкате, длинные усы и широкие бакенбарды вразлет, несколько напоминающие жабры. Но нет, сом ленив и добродушен, а этот повел вокруг таким стальным взглядом, что Ахимас немедленно перевел объект в разряд крупных Морских хищников. Рыба-молот, никак не меньше.
Впереди плыла рыба-лоцман, бравый есаул, свирепо рассекавший толпу взмахами белых перчаток. По обе стороны от генерала шли по трое офицеров. Замыкал шествие камердинер, который, однако же, от дверей повернул обратно к экипажу и стал руководить разгрузкой багажа.
Ахимас успел заметить, что Соболев несет в.руке большой и, кажется, довольно тяжелый портфель телячьей кожи. Комично: объект сам притащил гонорар за свое устранение.
Корреспонденты бросились за героем в вестибюль, надеясь хоть чем-то поживиться – задать вопросец, усмотреть какую-нибудь детальку. Ахимас же повел себя иначе. Он неспешно приблизился к камердинеру и уважительно покашлял, как бы объявляя о своем присутствии. Однако с расспросами не лез, ждал, пока обратят внимание.
Камердинер – старый, обрюзгший, с сердитыми седыми бровями (Ахимас знал всю его биографию, привычки и слабости, включая пагубную предрасположенность к утреннему похмелению) – недовольно покосился на ферта в соломенной шляпе, но деликатность оценил и милостиво повернулся вполоборота.
– Корреспондент «Московских губернских ведомостей», – немедленно воспользовался предоставленной возможностью Ахимас. – Не смея обременять его высокопревосходительство докучными расспросами, хотел бы все-таки от имени москвичей поинтересоваться, каковы намерения Белого Генерала по случаю посещения первопрестольной? Кому же и знать как не вам, Антон Лукич.
– Знать-то знаем, да не всякому говорим, – строго ответил камердинер, но было видно, что польщен.
Ахимас раскрыл блокнот и изобразил готовность благоговейно записывать каждое драгоценное слово. Лукич приосанился, перешел на возвышенный стиль речи:
– Сегодня отдохновение намечено. Устали после маневров и железнодорожного путешествия. Никаких визитов, никаких званых вечеров и, упаси боже, не велено подпускать вашу братию. Адресов, депутаций тоже ни-ни. Ужин велено в гостиничной ресторации заказать, на половину девятого. Ежели хотите посмотреть – берите столик, пока не поздно. Но глазеть только издали и с вопросами не лезть.
Молитвенно приложив руку к груди, Ахимас сахарно осведомился:
– А каковы виды его высокопревосходительства на вечер?
Камердинер насупился:
– Не моего ума дело и тем более не вашего.
Отлично, подумал Ахимас. Деловые встречи у объекта начинаются завтра, а нынешний вечер, кажется, и в самом деле посвящается «отдохновению». Тут наши интересы совпадают.
Теперь следовало подготовить Ванду.
Она не подвела, ждала у себя на квартире и была одна. На Ахимаса взглянула как-то странно, будто ждала от него чего-то, но когда гость заговорил о деле, взгляд барышни стал скучающим.
– Договорились ведь, – небрежно обронила она.
– Чего рассусоливать? Я, Коля, свое ремесло знаю.
Ахимас осмотрел комнату, являвшуюся одновременно гостиной и будуаром. Все было, как надо: цветы, свечи, фрукты. Себе певичка запасла шампанского, но не забыла и про бутылку «шато-икема», о чем была предупреждена накануне.
В бордовом платье с низким вырезом, обтянутой талией и будоражащим воображение турнюром, Ванда была умопомрачительно соблазнительна. Так-то оно так, но клюнет ли рыбина?
По рассуждению Ахимаса, должна была клюнуть.
1) Ни один нормальный, здоровый мужчина вандиного натиска не выдержит.
2) Если сведения верны, а до сих пор monsieur NN не подводил, Соболев не просто нормальный мужчина, но мужчина, который уже по меньшей мере месяц говеет.
3) Мадемуазель Ванда – тот же женский типаж, что минская пассия генерала, которой он делал предложение, но был отвергнут, а позднее и брошен.
В общем, пороховая мина готова. Однако для верности нужна и какая-нибудь искра.
– Что, Коля, лоб морщишь? Боишься, что не понравлюсь я твоему земляку? – спросила Ванда вроде бы с вызовом, но Ахимас уловил в тоне затаенное беспокойство. Любая раскрасавица и завзятая разбивательница сердец нуждается в постоянных подтверждениях своей неотразимости. В сердце всякой роковой женщины шевелится червячок, нашептывающий: а вдруг чары рассеялись, вдруг волшебство больше не повторится?
В зависимости от характера, женщину нужно либо уверить, что она всех милее, прекрасней и белее, либо, наоборот, пробудить в ней дух соревновательности. Ахимас был уверен, что Ванда относится ко второму типу.
– Видел его сегодня, – вздохнул он, глядя на певичку с сомнением. – Опасаюсь, не ошибся ли с подарком. У нас в Рязани Михаила Дмитриевича сердцеедом считают, а он уж больно серьезен. Вдруг ничего не выйдет? Вдруг не заинтересуется генерал нашим даром?
– Ну, это не твоя печаль, – сверкнула глазами Ванда. – Твое дело деньги платить. Принес?
Он молча положил на стол пачку.
Ванда взяла деньги, нарочно сделала вид, что пересчитывает.
– Все десять тысяч? То-то. – Она легонько стукнула Ахимаса пальчиком по носу. – Ты, Коля, не опасайся. Вы, мужчины, народец нехитрый. Не уйдет от меня твой герой. Скажи, он песни любит? Там у Дюссо в ресторане, кажется, роялино есть.
Вот оно, подумал Ахимас. Искра для мины.
– Да, любит. Больше всего романс «Рябина». Знаете такой?
Ванда задумалась, покачала головой.
– Нет, я русских песен мало пою, все больше европейские. Ну да не беда, сейчас отыщу.
Взяла с пианино песенник, полистала, нашла.
– Этот, что ли?
Пробежала пальцами по клавишам, помурлыкала без слов, потом вполголоса напела:
Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне сиротинке
Век одной качаться.
– Экая дрянь чувствительная. Герои – публика сентиментальная. – Она мельком оглянулась на Ахимаса. – Ты иди теперь. Схватит генерал ваш рязанский подарок, обеими руками уцепится.
Ахимас не уходил.
– Даме приходить в ресторан одной не положено. Как с этим быть?
Ванда страдальчески закатила глаза.
– Коля, я в твою торговлю парусиной не лезу, вот и ты в мою профессию не лезь.
Он постоял с минуту, слушая, как низкий, страстный голос изнывает от желания прильнуть к дубу. Потом тихо повернулся, пошел к двери.
Мелодия прервалась. Ванда спросила вслед:
– А не жалко, Коля? Меня другому отдавать?
Ахимас обернулся.
– Ладно, иди, – махнула она. – Дело есть дело.
8
В ресторане гостиницы «Дюссо» все столы были заняты, но заранее прирученный портье не подвел – приберег для господина репортера самый удобный: в углу, с обзором всего зала. Без двадцати девять, звеня шпорами, вошли сначала трое офицеров, потом сам генерал, потом еще четверо. Прочие гости, строго-настрого предупрежденные метрдотелем не докучать герою знаками внимания, вели себя деликатно и делали вид, что явились в ресторан не поглазеть на великого человека, а просто поужинать.
Соболев взял карту вин, не обнаружил в ней «шато-икема» и велел послать за ним в магазин Леве. Свита предпочла шампанское и коньяк.
Господа военные переговаривались вполголоса, несколько раз грянул дружный хохот, причем особенно выделялся заливистый генеральский баритон. Судя по всему, заговорщики пребывали в отличном расположении духа, что Ахимаса вполне устраивало.
В пять минут десятого, когда «шато-икем» не только доставили, но уже и откупорили, двери ресторации распахнулись, словно под напором волшебного ветра, и на пороге появилась Ванда. Она картинно застыла, подавшись вперед всем своим гибким телом. Лицо раскраснелось, огромные глаза сияли полуночными звездами. Весь зал обернулся на звук, да так и замер, околдованный чудесным зрелищем. Славный генерал и вовсе будто окоченел, не донеся до рта вилку с маринованным рыжиком.
Ванда чуть-чуть подержала паузу – ровно столько, чтобы зрители оценили эффект, но не успели снова уткнуться в тарелки.
– Вот он, наш герой! – звонко воскликнуло чудесное видение.
И порывисто, цокая каблучками, влетело в зал.
Зашелестел бордовый шелк, закачалось страусиное перо на широкополой шляпе. Метрдотель в ужасе всплеснул руками, памятуя о запрете на публичные сцены, однако он зря тревожился: Соболев ничуть не возмутился, вытер блестевшие губы салфеткой и галантно поднялся.
– Что же вы сидите, господа, и не чествуете славу земли русской!? – обернулась к залу восторженная патриотка, ни на миг не выпуская инициативы. – Михаилу Дмитричу Соболеву ура!
Казалось, гости только этого и ждали. Все повскакивали с мест, зааплодировали, и грянуло такое энтузиастическое «ура», что под потолком покачнулась хрустальная люстра.
Генерал симпатично покраснел, кланяясь на все стороны. Несмотря на всеевропейскую известность и всероссийское обожание, он, кажется, так и не привык к публичным восторгам.
Красавица стремительно подошла к герою, раскинула тонкие руки:
– Позвольте поцеловать вас от имени всех москвичек! – и, крепко обхватив за шею, троекратно облобызала по старомосковскому обычаю – прямо в уста.
Соболев побагровел еще пуще.
– Гукмасов, пересядь, – тронул он за плечо черноусого есаула и показал на освободившийся стул. – Окажите честь, сударыня.
– Нет-нет, что вы! – испугалась прекрасная блондинка. – Разве я посмею? Если позволите, я лучше спою для вас свою любимую песню.
И все так же порывисто направилась к стоявшему в центре зала белому роялино.
На взгляд Ахимаса Ванда действовала чересчур прямолинейно, даже грубо, однако видно было, что она совершенно в себе уверена и отлично знает, что делает.
Приятно иметь дело с профессионалкой. Он окончательно в этом убедился, когда по залу поплыл глубокий, с хрипотцой голос, от которого с первых же нот так и стиснулось сердце:
Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?
Ахимас встал и тихо вышел. Никто не обратил на него внимания – все слушали песню.
Теперь незаметно пробраться в номер Ванды и подменить бутылку «шато-икема».
9
Операция прошла до скучного просто. Ничего кроме терпения не понадобилось.
В четверть первого к «Англии» подкатили три пролетки: в первой объект с Вандой, в двух других – офицеры, все семеро.
Ахимас (с накладной бородой и в очках, этаким приват-доцентом) заранее снял двухкомнатный номер, выходивший окнами на обе стороны – и на улицу, и во двор, где располагался флигель. Свет погасил, чтобы не заметили силуэта.
Охраняли генерала хорошо. Когда Соболев и его спутница скрылись за дверью вандиной квартиры, офицеры приготовились оберегать досуг своего начальника: один остался на улице, у входа в номера, другой стал прогуливаться по внутреннему двору, третий тихонько проскользнул во флигель и, видимо, занял пост в прихожей. Четверо остальных отправились в буфет. Видимо, будут дежурить по очереди.
Без двадцати трех минут час электрический свет в окнах квартиры погас, и на шторы изнутри легло приглушенное красное сияние. Ахимас одобрительно кивнул – певичка действовала по всей парижской науке.
Прогуливавшийся по двору офицер воровато оглянулся, подошел к красному окну и встал на цыпочки, однако тут же, словно устыдившись, отпрянул и снова принялся расхаживать взад-вперед, насвистывая с преувеличенной бодростью.
Ахимас не отрываясь смотрел на минутную стрелку часов. Что если Белый Генерал, славящийся хладнокровием в бою, никогда не теряет головы и его пульс не учащается даже от страсти? Маловероятно, ибо противоречит физиологии. Вон как он вспыхнул от вандиных поцелуев в ресторане, а тут поцелуями не ограничится.
Скорее, возможно, что он почему-либо не притронется к «шато-икему». Но по психологии должен. Если любовники не бросаются друг другу в объятья в первый же миг – а прежде чем в будуаре погасла лампа, прошло добрых двадцать минут, – то им нужно чем-то себя занять. Лучше всего – выпить бокал любимого вина, так кстати оказавшегося под рукой. Ну, а не выпьет сегодня – выпьет завтра. Или послезавтра. В Москве Соболев пробудет до 27-го, и можно не сомневаться, что отныне он предпочтет ночевать не в своем 47-м номере, а здесь. Рязанское купеческое общество с удовольствием оплатит земляку этот абонемент – денег на накладные расходы от monsieur NN получено более чем достаточно.
В пять минут второго Ахимас услышал приглушенный женский вскрик, потом еще один, громче и длиннее, но слов не разобрал. Офицер во дворе встрепенулся, бегом бросился к флигелю. Минуту спустя в окнах вспыхнул яркий свет, и по шторам заметались тени.
Вот и всё.
* * *
Ахимас шел в сторону Театрального проезда не спеша, помахивал тросточкой. Времени было много. До «Дюссо» семь минут неторопливым шагом – он еще днем дважды прошел самым коротким маршрутом и замерил по часам. Пока суета да паника, пока пытаются привести генерала в чувство, пока спорят – вызывать доктора в «Англию» или сначала для приличия перевезти к Дюссо, пройдет никак не менее часа.
Проблема была в другом – что теперь делать с Вандой. Элементарные правила гигиены требовали после операции за собой убрать, чтобы было чисто. Конечно, никакого следствия и разбирательства не будет – тут офицеры постараются, да и monsieur NN не допустит. И уж совершенно невероятно, чтобы Ванда догадалась о подмененной бутылке. Однако если все-таки всплывет рязанский даритель, если выяснится, что подлинный Николай Николаевич Клонов никуда из родного лабаза не отлучался, выйдет ненужное осложнение. Как говорится, береженого бог бережет.
Ахимас поморщился. Увы, в его работе имелись свои неприятные моменты.
С такими невеселыми, но необходимыми мыслями он завернул с Софийки в подворотню, очень кстати выводившую в задний двор «Дюссо», как раз под окна Соболевских апартаментов.
Оглядев темные окна (постояльцы гостиницы уже давно спали), Ахимас поставил к стене заранее присмотренный ящик. От легкого толчка окно спальни бесшумно растворилось, лишь чуть звякнул шпингалет. Пять секунд спустя Ахимас был уже внутри.
Покачал пружину карманного фонарика, и тот ожил, рассек тьму лучиком света – слабого, но вполне достаточного, чтобы найти сейф.
Ахимас сунул в замочную скважину отмычку, стал методично, равномерно поворачивать ее вправо-влево. Во взломных делах он считал себя дилетантом, но за долгую карьеру чему только не научишься. На четвертой минуте щелкнуло – это вышел первый из трех пальцев замка. Остальные два заняли меньше времени – минуты две.
Скрипнула стольная дверца. Ахимас сунул руку, нащупал какие-то листы. Посветил фонариком: списки с именами, схемы. Наверное, monsieur NN был бы рад заполучить эти бумаги, но условия контракта похищение документов не предполагали.
Да и не до бумаг было сейчас Ахимасу.
Его ждал сюрприз: портфеля в сейфе не оказалось.
10
Всю пятницу Ахимас пролежал на кровати, сосредоточенно размышляя. Он знал по опыту: когда попадаешь в переплет, лучше не поддаваться первому порыву, а замереть, застыть, как это делает кобра перед молниеносным, убийственным броском. Если, конечно, паузу позволяют обстоятельства. В данном случае позволяли, ибо основные меры предосторожности были приняты. Минувшей ночью Ахимас съехал из «Метрополя» и перебрался в «Троицу», дешевые номера на Троицком подворье. От кривых и грязных покровских переулков было рукой подать до Хитровки, а портфель следовало искать именно там.
Покинув «Метрополь», Ахимас не стал брать извозчика. Долго кружил по предрассветным улицам, проверяя, нет ли слежки, а в «Троице» записался под другим именем.
Номер был грязный и темный, но расположен удобно, с отдельным входом и хорошим обзором двора.
Произошедшее нужно было как следует обдумать.
Вчера ночью он тщательно осмотрел Соболевские апартаменты, но портфеля так и не нашел. Зато обнаружил на подоконнике крайнего, наглухо закрытого окна спальни комочек грязи. Задрал голову вверх – форточка приоткрыта. Кто-то недавно отсюда вылез.
Ахимас сосредоточенно посмотрел на форточку, подумал, сделал выводы.
Грязь с подоконника смахнул. Окно, через которое влез, закрыл.
Из номера вышел через дверь, которую потом снаружи закрыл отмычкой.
В фойе было тихо и темно, только чадила свеча на конторке у ночного швейцара. Сам швейцар клевал носом и бесшумного появления темной фигуры, выскользнувшей из коридора, не заметил. Когда звякнул колокольчик, швейцар вскинулся, но постоялец уже был на улице. Не спится же, прости Господи, зевнул служитель, перекрестил рот и пошел задвигать засов.
Ахимас быстро шел в сторону «Метрополя», прикидывая, как действовать дальше. Небо начинало сереть – ночи в конце июня короткие.
Из-за угла выехала пролетка. Ахимас узнал силуэт Соболевского есаула. Он сидел, обхватив обеими руками фигуру в белом. С другой стороны фигуру поддерживал еще один офицер. Голова у белого безвольно покачивалась в такт цокоту копыт. Следом проехали еще две коляски.
Интересно, рассеянно подумал Ахимас, как они пронесут его мимо швейцара. Верно уж что-нибудь придумают, люди военные.
Кратчайший путь к «Метрополю» лежал через проходной двор – этой дорогой за минувшие двое суток Ахимас ходил неоднократно.
Когда он шел под темной аркой, гулко стуча по каменным плитам, вдруг ощутилось постороннее присутствие. Ахимас уловил его не зрением и даже не слухом, а каким-то необъяснимым периферийным чувством, которое уже не раз спасало ему жизнь. Кожа затылка будто почуяла какое-то движение сзади, легчайшее шевеление воздуха. Это могла быть прошмыгнувшая кошка или взбежавшая на кучу отбросов крыса, но Ахимас в подобных случаях не боялся показаться самому себе смешным – не раздумывая, он отпрянул в сторону.
Щеку словно обдало сквозняком, дунувшим сверху вниз. Краешком глаза Ахимас увидел, как возле самого его уха воздух рассекла тускло блеснувшая сталь. Быстрым, отработанным движением он выхватил «велодог» и выстрелил не целясь.
Глухой вскрик, в сторону метнулась тень.
Ахимас догнал бегущего в два прыжка и точно, сильно ударил тростью сверху вниз.
Посветил на упавшего фонариком. Грубое, звериное лицо. Сквозь спутанные сальные волосы сочилась черная кровь. Короткие сильные пальцы зажимали бок и тоже были мокры от крови.
Одет нападавший был по-русски: косоворотка, суконный жилет, плисовые штаны, смазные сапоги. На земле валялся топор с необычно короткой рукоятью.
Ахимас наклонился ниже, светя лучом прямо в лицо. Блеснули круглые глаза с неестественно расширенными зрачками.
С Неглинного проезда донесся свисток, с Театрального еще один. Времени было мало.
Он присел на корточки, взял упавшего двумя пальцами пониже скул, стиснул. Топор отшвырнул в сторону.
– Кто подослал?
– От бедности мы, барин, – прохрипел раненый. – Прощения просим.
Ахимас надавил пальцем на лицевой нерв. Дал лежащему немного покорчиться от боли и повторил вопрос:
– Кто?
– Пусти… пусти, баклан, – выдохнул раненый, колотя каблуками по камню. – Кончаюсь я…
– Кто? – спросил Ахимас в третий раз и надавил на глазное яблоко.
Изо рта умирающего вместе со стоном вырвалась широкая струя крови.
– Миша, – пробулькал едва слышный голос. – Миша Маленький…Пусти! Больно!
– Какой такой Миша? – Ахимас надавил сильнее.
Вот это было ошибкой. Несостоявшийся убийца и так доживал последние мгновения. Стон перешел в сип, кровь сплошным потоком хлынула на бороду. Было ясно, что больше он ничего сказать не сможет. Ахимас выпрямился. Свисток городового разливался трелью уже совсем близко.
К полудню все варианты были рассмотрены, оформилось и решение.
Итак, Ахимаса сначала обокрали, а потом попытались убить. Связаны ли между собой два эти события? Безусловно. Тот, кто подстерегал в подворотне, знал, когда и какой дорогой пойдет Ахимас.
Значит, 1) за ним следили накануне, когда он проверял маршрут, и следили очень ловко – он хвоста не заметил; 2) кто-то отлично знал, чем Ахимас занимался минувшей ночью; 3) портфель взял человек, уверенный, что Соболев к себе в номер больше не вернется – иначе зачем было так аккуратно запирать за собой сейф и вылезать через форточку? Ведь генерал все равно обнаружил бы пропажу.
Вопрос: кто знал и про операцию, и про портфель?
Ответ: только monsieur NN и его люди.
Если бы Ахимаса просто попытались убрать, это было бы обидно, но понятно.
Обидно, потому что он, профессионал высшей категории, неправильно оценил ситуацию, ошибся в расчете, дал себя обмануть.
Понятно, потому что в таком крупном и чреватом осложнениями деле исполнителя, конечно, следует убрать. Сам Ахимас на месте заказчика поступил бы именно так. Тайный императорский суд, возможно, выдумка. Но придумано ловко, даже бывалый господин Вельде купился.
В общем, все это было бы объяснимо и даже неудивительно, если б не исчезновение портфеля.
Monsieur NN и кража со взломом? Абсурд. Взять миллион, но оставить архив заговорщиков? Невероятно. А представить, что зверомордый убийца из подворотни хоть как-то связан с NN или с «бароном фон Штайницем» и вовсе было невозможно.
«Баклан» – так обозвал Ахимаса мастер топора. Кажется, на уголовном жаргоне это ругательное слово означает крайнюю степень презрения – не вор, не налетчик, а мирный обыватель.
Значит, это был уголовник? Персонаж со знаменитой Хитровки?
По повадке и разговору так оно и есть. А у NN кучер, и тот с офицерской выправкой. Что-то здесь не складывалось.
Ахимас попробовал зайти с другой стороны, так как информации для аналитического разбора было недостаточно. Если неясны исходные, удобнее начать с определения целей.
Что необходимо сделать?
1) Убрать за собой после операции.
2) Найти портфель.
3) Рассчитаться с теми или с тем, кто повел против Ахимаса Вельде нечестную игру.
Именно в такой последовательности. Сначала защититься, потом вернуть свое, а возмездие на десерт. Но десерт будет обязательно: это вопрос принципа и профессиональной этики.
На уровне практических шагов этапы плана сводились к следующему:
1) Убрать Ванду. Жаль, конечно, но придется.
2) Заняться таинственным Мишей Маленьким.
3) Через этого самого Мишу можно будет обеспечить и десерт. Кто-то из людей Monsieur NN поддерживает странные знакомства.
Разработав программу действий, Ахимас повернулся на бок и моментально уснул.
Выполнение пункта № 1 было назначено на вечер.
11
В квартиру Ванды он пробрался, никем не замеченный. Как и следовало ожидать, певица еще не вернулась из «Альпийской розы». Между будуаром и прихожей находилась гардеробная комнатка, вся увешанная платьями и уставленная коробками – обувными и шляпными. Расположение этой каморки было просто идеальным: одна ее дверца вела в будуар, вторая в переднюю.
Если Ванда приедет одна, все произойдет быстро, без осложнений. Она откроет дверцу, чтобы переодеться, и в ту же секунду умрет, даже не успев испугаться. Ахимасу очень не хотелось, чтобы она перед смертью испытала ужас или боль.
Он подумал, что будет уместнее – несчастный случай или самоубийство, – и остановился на самоубийстве. Мало ли из-за чего может наложить на себя руки дамочка полусвета?
Задачу облегчало то, что Ванда не пользовалась услугами горничной. Если с детства привык ухаживать за собой сам, удобнее обходиться без прислуги – это он знал по собственному опыту. На острове Санта-Кроче слуги будут жить отдельно, он построит для них дом на отдалении от графских покоев. Понадобятся – всегда можно вызвать.
А если Ванда вернется не одна?
Что ж, тогда самоубийство будет двойным. Это сейчас модно.
Раздался звук отпираемой двери, легкие шаги.
Одна.
Ахимас покривился, вспомнив, каким голосом она спросила: «Коля, а ты меня не обманешь?». В этот самый миг дверца гардеробной приоткрылась со стороны будуара, и тонкая обнаженная рука сдернула с вешалки шелковый китайский халат с драконами.
Момент был упущен. Ахимас посмотрел в щелку. Ванда стояла перед зеркалом, так и не сняв платья, халат держала в руке.
Три беззвучных шага, и дело будет сделано. Она едва успеет увидеть в зеркале выросшую за спиной фигуру.
Ахимас тихо приоткрыл дверцу и тут же отпрянул: коротко тренькнул электрический звонок.
Ванда вышла в переднюю, коротко перемолвилась с кем-то парой слов и вернулась в гостиную, рассматривая маленькую картонку. Визитная карточка?
Теперь она стояла к Ахимасу вполоборота, и он увидел, как дрогнуло ее лицо.
Почти сразу же в дверь снова позвонили.
Подслушать, что говорилось в передней, опять не удалось – с той стороны дверца была плотно закрыта. Но Ванда и поздний гость сразу же прошли в комнату, так что Ахимас мог не только всё слышать, но и видеть.
И здесь судьба подкинула неожиданный сюрприз. Когда посетитель – стройный, молодой мужчина в модном сюртуке – вошел в освещенный круг от абажура, Ахимас сразу узнал это лицо. За минувшие годы оно сильно изменилось, возмужало, утратило юношескую мягкость, но это безусловно был тот самый человек. Внешность «объектов» Ахимас запоминал навсегда, помнил их всех до мельчайших деталей, а уж этого подавно.
История была давняя, из того интересного периода, когда Ахимас работал на постоянном контракте с организацией «Азазель». Очень серьезные были господа и платили по высшему разряду, но романтики. Чего хотя бы стойло непременное условие перед каждой акцией произносить слово «Азазель»? Сантименты. Но Ахимас смешное условие соблюдал – контракт есть контракт.
Смотреть на красавчика-брюнета было неприятно. Прежде всего потому, что он все еще дышал и ходил по земле. За всю профессиональную карьеру неудачи с Ахимасом случались только трижды, и сейчас он видел перед собой живое напоминание об одной из них. Казалось бы, грех жаловаться, три срыва за 20 лет работы – очень недурная результативность. Но настроение, и без того скверное, окончательно испортилось.
Как же звали этого молокососа? Что-то на "Ф".
– У вас на карточке, господин Фандорин, написано: «Мне всё известно». Что «всё»? Кто вы вообще такой? – неприязненно спросила Ванда.
Да-да, Фандорин, вот как его звали. Эраст Петрович Фандорин. Ах вот как, теперь он чиновник особых поручений у генерал-губернатора?
Внимательно слушая происходящий в комнате разговор, Ахимас пытался понять, что означает эта неожиданная встреча. Он знал: подобные казусы случайными не бывают, это какой-то знак судьбы. Хороший или плохой?
Чувство аккуратности призывало убить брюнета, хотя срок заказа давным-давно истек, а сами заказчики бесследно исчезли. Некрасиво оставлять недоделанную работу. Но, с другой стороны, поддаваться эмоциям было бы непрофессионально. Пусть господин Фандорин идет своей дорогой. В конце концов тогда, шесть лет назад, у Ахимаса не было к нему ничего личного.
Чиновник повернул разговор в самое опасное русло – к «шато-икему», и Ахимас уже готов был изменить свое решение: господин Фандорин живым отсюда не уйдет. Но тут удивила Ванда: ни cловом не обмолвилась о рязанском купце и его поразительной осведомленности по части привычек покойного героя. Увела разговор в сторону. Что бы это значило?
Вскоре брюнет откланялся.
Ванда сидела у стола, закрыв лицо руками. Убить ее сейчас было проще простого, но Ахимас медлил.
Зачем убивать? Допрос она выдержала, ничего лишнего не сказала. Раз уж власти оказались так проницательны, что разгадали доморощенную конспирацию соболевской свиты и вышли на мадемуазель Ванду, лучше ее пока не трогать. Внезапное самоубийство свидетельницы покажется подозрительным.
Ахимас сердито тряхнул головой. Не нужно обманывать самого себя, это не в его правилах. Просто отговорки, чтобы оставить ее в живых. Как раз теперь самоубийство невольной виновницы национальной трагедии будет выглядеть вполне объяснимым: раскаяние, нервный срыв, страх перед возможными последствиями. Хватит терять время, за дело!
Снова звонок.
У мадемуазель Ванды сегодня настоящий аншлаг.
И посетитель снова оказался из числа знакомых, только, в отличие от Фандорина, не давних, а свежих. Германский резидент Ганс-Георг Кнабе.
Первые же слова резидента заставили Ахимаса насторожиться.
– Вы плохо мне служите, фрейлейн Толле.
Вот это фокус. Ахимас слушал и не верил своим ушам. Какой еще «препарат»? Ванда получила задание отравить Соболева? «Бог хранит Германию»? Бред! Или же необычайное стечение обстоятельств, из которого можно извлечь пользу.
Едва за немцем закрылась дверь, как Ахимас вышел из своего укрытия. Вернувшаяся в комнату Ванда не сразу заметила, что в углу кто-то стоит, а когда увидела – схватилась рукой за сердце и тонко вскрикнула.
– Вы германская агентка? – с любопытством спросил Ахимас, готовый зажать ей рот, если вздумает шуметь. – Морочили мне голову?
– Коля… – пролепетала она, вскинув ладонь ко рту.
– Ты подслушивал? Кто ты? Кто вы?
Он нетерпеливо тряхнул головой, словно отгоняя муху.
– Где препарат?
– Как вы сюда попали? Зачем? – бормотала Ванда, кажется, не слыша его вопросов.
Ахимас взял ее за плечи, усадил. Она смотрела на него расширенными зрачками, в них отражались два крошечных абажура.
– Странный у нас разговор, мадемуазель, – сказал он, садясь напротив. – Одни вопросы и никаких ответов. Кто-то должен начать первый. Пусть это буду я. Вы задали мне три вопроса: кто я, как сюда попал и зачем. Отвечаю. Я – Николай Николаевич Клонов. Попал сюда через дверь. А зачем – думаю, вам понятно. Я дал вам ангажемент, целью которого было доставить удовольствие нашему знаменитому земляку Михаилу Дмитриевичу Соболеву, а он мало что удовольствия не получил, но еще и приказал долго жить. Как же тут не разобраться? Это было бы необстоятельно, не по-купечески. Что я обществу доложу? Да ведь и деньги потрачены.
– Я верну ваши деньги, – быстро сказала Ванда и рванулась с места.
– Тут уж не до денег, – остановил ее Ахимас. – Постоял я, послушал, о чем вы с гостями вашими толкуете и вижу – дело-то совсем другого коленкору. Выходит, у вас с господином Кнабе своя игра была. Мне желательно знать, мадемуазель, что вы учинили с народным героем.
– Ничего. Клянусь! – Она метнулась к шкафчику, что-то достала оттуда. – Вот пузырек, который я получила от Кнабе. Видите, полон. А в чужие игры я не играю.
По ее лицу катились слезы, но смотрела она без мольбы, и жалостности во взгляде тоже не было. Что ни говори, незаурядная женщина. Не раскисла, хоть и попала в ситуацию поистине аховую: с одной стороны русская полиция, с другой германская разведка, с третьей он, Ахимас Вельде, который будет похуже всех полиций и разведок вместе взятых. Правда, она об этом не догадывается. Он взглянул на ее напряженное лицо. Или догадывается?
Ахимас взболтал пузырек, посмотрел на свет, понюхал пробку. Кажется, вульгарный цианид.
– Мадемуазель, расскажите мне все без утайки. С каких пор вы связаны с германской разведкой? Что поручил вам Кнабе?
С Вандой произошла какая-то не вполне понятная перемена. Она больше не дрожала, слезы высохли, а в глазах появилось особенное выражение, которое Ахимас однажды уже видел – вчера вечером, когда она спросила, не жаль ли ему отдавать ее другому.
Она пересела ближе, на подлокотник кресла, положила Ахимасу руку на плечо. Голос стал тихим, усталым.
– Конечно, Коля. Я все тебе расскажу. Ничего не утаю. Кнабе – германский шпион. Ко мне уж третий год ходит. Я тогда дура была, хотела поскорей денег скопить, а он платил щедро. Не за любовь – за сведения. Ко мне ведь разные мужчины ходят, все больше козырной масти. Попадаются и короли с тузами. Вроде твоего Соболева. А в постели у мужчин язык развязывается. – Она провела пальцем по его щеке. – У такого, как ты, наверно, не развяжется. Но таких мало. Думаешь, я пятьдесят тысяч одной постелью заработала? Нет, милый, я разборчива, мне понравиться нужно. Бывало, конечно, что Кнабе меня нарочно кому-то подставлял. Вроде как ты с Соболевым. Я попробовала было взбрыкивать, но он меня живо в клещи взял. Сначала-то сладко пел. Мол, что вам жить в России, фрейлейн, вы ведь немка, у вас есть своя родина. Она не забудет ваших заслуг, вас там ждут почет и безопасность. Тут вы всегда будете кокоткой, даже и при деньгах, а в Германии о вашем прошлом никто и не узнает. Как только пожелаете, мы поможем вам устроиться с почетом и комфортом. А после разговор пошел другой: все больше про длинные руки и про то, что право на германское подданство еще нужно заслужить. Мне уж и не надо их проклятого подданства, а никуда не денешься. Как удавкой горло стянул. Он и убить может. Очень даже запросто. Чтоб другим неповадно было. Я ведь у него не одна такая. – Ванда поежилась, но тут же беззаботно тряхнула пышной прической и продолжила:
– Позавчера, когда Кнабе узнал про Соболева, – сама, дура, рассказала, хотела отличиться – пристал насмерть. Стал говорить, что Соболев – заклятый враг Германии. Бормотал про какой-то заговор военных. Мол, если Соболева не устранить, будет большая война, а Германия к ней еще не готова. Сказал: «Я ломаю голову, как остановить этого скифа, а тут такая удача! Это само провидение!» Принес мне склянку с ядом. Сулил золотые горы – я ни в какую. Тогда стал грозить. Как бешеный сделался. Я решила с ним не спорить, пообещала. Но яда Соболеву я не давала, честное слово. Он сам умер, от сердца. Коля, поверь мне. Я скверная, циничная, продажная, но я не убийца.
Вот теперь в зеленых глазах читалась мольба, но приниженности все равно не было. Гордая женщина. Однако оставлять в живых все-таки нельзя. Жаль.
Ахимас вздохнул и положил правую руку на ее обнаженную шею. Большой палец лег на артерию, средний на четвертый позвонок, под основание черепа. Оставалось сильно сжать, и эти яркие глаза, доверчиво смотрящие на него сверху вниз, затуманятся, погаснут.
И тут произошло неожиданное – Ванда сама обхватила Ахимаса за шею, притянула к себе и прижалась горячей щекой к его лбу.
– Это ты? – прошептала она. – Это я тебя так долго ждала?
Ахимас смотрел на ее белую, нежную кожу. С ним происходило что-то странное.
12
Когда он уходил на рассвете, Ванда крепко спала, по-детски приоткрыв рот.
Ахимас минуту постоял над ней, чувствуя диковинное шевеление в левой части груди. Потом тихо вышел.
Она не скажет, думал он, выходя на Петровку. Раз вчера не сказала Фандорину, то теперь тем более. Убивать ее незачем.
Но на душе было смутно: недопустимо смешивать работу с личным. Раньше он никогда себе такого не позволял.
«А Евгения?» – напомнил голос, находившийся там же, где происходило тревожащее шевеление. Видно, и в самом деле пора на покой.
То, что случилось ночью, не повторится. С Вандой больше никаких контактов.
Кто может связать купца Клонова, до вчерашнего дня жившего в «Метрополе», с певицей из ресторана «Альпийская роза»? Никто. Разве что кельнер Тимофей. Маловероятно, но лучше не рисковать. Так будет аккуратней, а много времени не займет.
Голос шепнул: «Кельнер умрет, чтобы Ванда могла жить».
Ничего, зато с Кнабе, кажется, получалось удачно. Господин Фандорин вчера вечером наверняка столкнулся с резидентом, когда уходил от Ванды. Будучи сыщиком дотошным и сообразительным, не мог не заинтересоваться поздним гостем. Резонно также предположить, что истинный характер деятельности герра Кнабе русским властям хорошо известен. Резидент разведки – фигура заметная.
Наметился отличный маневр, который уведет расследование в безопасную сторону.
«И Ванда избавится от удавки», – добавил безжалостно проницательный голос.
Ахимас обосновался на чердаке, напротив дома Кнабе. Пункт был удобный, с хорошим обзором окон третьего этажа, где квартировал резидент.
На удачу день выдался жаркий. Правда, крыша над чердаком уже к восьми часам раскалилась, и стало душно, но к мелким неудобствам Ахимас был нечувствителен. Зато окна Кнабе были нараспашку.
Все перемещения резидента из комнаты в комнату были как на ладони: вот он побрился перед зеркалом, выпил кофе, пролистал газета, что-то отчеркивая в них карандашом. Судя по бодрым движениям и выражению лица (наблюдение велось при помощи двенадцатикратного бинокля), господин Кнабе пребывал в отличном расположении духа.
В одиннадцатом часу он вышел из подъезда и зашагал в сторону Петровских ворот. Ахимас пристроился сзади. По виду его можно было принять за конторщика или приказчика: картуз с потрескавшимся лаковым козырьком, добротный долгополый сюртук, седая козлиная бороденка.
Энергично отмахивая рукой, Кнабе в каких-нибудь четверть часа дошагал до почтамта. Внутри здания Ахи-. мае сократил дистанцию и, когда резидент подошел к окошку телеграфа, встал сзади.
Резидент весело поздоровался с приемщиком, который, видно, принимал от него телеграммы не в первый раз, и протянул листок:
– Как всегда, в Берлин, в компанию «Кербель унд Шмидт». Биржевые котировочки. Только уж, – он улыбнулся, – сделайте милость, Пантелеймон Кузьмин, не отдавайте Сердюку, как в прошлый раз. А то Сердюк две цифры местами перепутал, так у меня потом с начальством неприятности были. Не в службу, а в дружбу – дайте Семенову, пусть он отправит.
– Хорошо, Иван Егорыч, – так же весело ответил приемщик. – Исполним.
– Мне скоро ответ должен быть, так я снова зайду, – сказал Кнабе и, скользнув взглядом по лицу Ахимаса, направился к выходу.
Теперь походка резидента стала неспешной, прогулочной. Легкомысленно насвистывая, он шел по тротуару. Разок очень профессионально проверил, нет ли слежки – скорее, по привычке. Непохоже, чтобы подозревал наблюдение.
А между тем, наблюдение велось, и довольно грамотно. Ахимас обнаружил слежку не сразу. Но мастеровой на противоположной стороне улице что-то больно уж пристально изучал витрины дорогих магазинов, которые ему явно были не по карману. Ясное дело: следит по отражению в стеклах. И сзади, шагах в пятидесяти еле-еле катил извозчик. Один раз его окликнули – отказал, второй – то же самое. Интересный извозчик.
Кажется, господин Фандорин вчера, действительно, времени даром не терял.
Ахимас принял меры предосторожности, чтобы не примелькаться. Зашел в подворотню, одним движением сдернул бороденку, нацепил очки с простыми стеклами, сбросил картуз и вывернул сюртук наизнанку. Изнанка у сюртука оказалась необычной – чиновничий мундир со споротыми петлицами. Вошел в подворотню конторщик, а десять секунд спустя вышел отставной чиновник.
Кнабе далеко уйти не успел. Постоял у зеркальных дверей французской кондитерской, вошел внутрь.
Ахимас за ним.
Резидент с аппетитом кушал крем-брюле, запивая сельтерской. Откуда ни возьмись за соседним столиком появился молодой человек в летнем костюме с очень уж проворным взглядом. Закрылся модным журналом, но нет-нет, да и взглянет поверх обложки. Давешний извозчик остановился у тротуара. Мастеровой, правда, исчез. Крепко же взяли герра Кнабе в оборот. Ну да это ничего, даже на руку. Только бы не арестовали. По всему не должны – к чему тогда слежка. Хотят контакты выявить. А никаких контактов у Кнабе нет, иначе не сносился бы с Берлином посредством депеш.
Резидент просидел в кондитерской долго. После мороженого съел марципан, выпил какао, потом заказал тутти-фрутти. Аппетит у него был отменный. Молодого филера сменил другой, постарше. Вместо одного извозчика у тротуара застрял другой, столь же упорно не желающий никого сажать.
Ахимас решил, что хватит мозолить полиции глаза, и ушел первым. Занял пост на почтамте и стал ждать. По дороге понизил свой социальный статус: сюртук скинул, рубашку из штанов выпустил и перепоясал ремешком, очки снял, на голову натянул суконный колпак.
Когда объявился Кнабе, Ахимас стоял прямо подле телеграфного окошка и, старательно шевеля губами, водил карандашом по бланку.
– Слышь, мил человек, – обратился он к служителю. – А точно к завтрему придет?
– Я же сказал тебе, придет прямо нынче, – снисходительно ответил тот. – Да ты коротко пиши, это тебе не письмо, а то по миру пойдешь. Иван Егорыч, вам телеграмма!
Ахимас сделал вид, что сердито косится на розовощекого немца, а сам заглянул в высунувшийся из окошка листок.
Немного текста и колонки цифр – по виду, котировки каких-то акций. М-да, грубовато работают в Берлине. Недооценивают русскую жандармерию.
Кнабе на депешу взглянул мельком, сунул в карман. Разумеется, шифровка. Теперь наверняка отправится домой, раскодировать.
Ахимас прервал наблюдение и вернулся на свой чердачный наблюдательный пункт.
Резидент уже был дома – очевидно, приехал на извозчике (уж не на том ли самом?). Сидел у стола, шелестел какой-то книгой, что-то выписывал на листок.
Потом началось интересное. Движения Кнабе ускорились. Он несколько раз нервно потер лоб. Швырнул книгу на пол, обхватил голову руками. Вскочил, забегал по комнате. Снова прочел свои записи.
Похоже, полученное известие было не из приятных.
Дальше пошло еще интересней. Резидент сбегал куда-то вглубь квартиры, вернулся с револьвером в руке.
Сел перед зеркалом. Трижды подносил револьвер к виску, один раз засунул ствол в рот.
Ахимас покачал головой. Ах, как кстати. Просто сказка. Ну давай же, стреляйся.
Что же ему такое сообщили из Берлина? Впрочем, ясно. Проявленная резидентом инициатива не получила одобрения. Мягко говоря. Карьера воображаемого убийцы генерала Соболева безнадежно загублена.
Нет, не застрелился. Опустил руку с револьвером. Снова забегал по комнате. Сунул револьвер в карман. Жаль.
Что в квартире происходило дальше, Ахимас не видел, потому что Кнабе закрыл окна.
Часа три пришлось любоваться на солнечные зайчики, вспыхивавшие на оконных стеклах. Ахимас поглядывал на топчущегося внизу филера и прикидывал, как будет выглядеть замок, который в скором времени вырастет на самой высокой скале острова Санта-Кроче. Замок будет напоминать башню вроде тех, что стерегут покой горных кавказских аулов, но на верхней площадке непременно разместится сад. Пальмы, конечно, придется высадить в кадках, а вот для кустов можно настелить дерн.
Ахимас как раз решал проблему полива висячего сада, когда Кнабе вышел из подъезда. Сначала засуетился филер – отскочил от двери и спрятался за угол, а секунду спустя появился резидент собственной персоной. Он встал у подъезда, чего-то ожидая. Вскоре выяснилось, чего.
Из подворотни выехала одноместная коляска, запряженная буланым конем. Конюх спрыгнул с козел, передал вожжи Кнабе, тот ловко вскочил в коляску, и буланый резво пошел рысью.
Вот это была неожиданность. Кнабе уходил от наблюдения, и проследить за ним не было никакой возможности. Ахимас припал к биноклю и успел увидеть, как резидент прицепляет рыжую бороду. Что это он такое удумал?
Филер, однако, вел себя спокойно. Проводил коляску взглядом, записал что-то в книжечку и ушел. Видно, знал, куда и зачем отправился Кнабе.
Что ж, раз резидент уехал с пустыми руками, значит, вернется. Пора было готовить операцию.
Пять минут спустя Ахимас уже был в квартире. Не спеша осмотрелся. Нашел два тайника. В одном – маленькая химическая лаборатория: симпатические чернила, яды, целая бутыль нитроглицерина (Кремль, что ли, собрался взрывать?). В другом – несколько револьверов и деньги, на вид тысяч тридцать, книга с логарифмическими таблицами – надо полагать, ключ к шифру.
Тайники Ахимас трогать не стал – пусть жандармам достанутся. Расшифрованную депешу Кнабе, к сожалению, сжег – в умывальнике виднелись следы пепла.
Плохо, что в квартире не имелось черного хода. Из коридора окно выводило на крышу пристройки. Ахимас вылез, походил по гулко громыхающему железу и убедился, что с крыши деваться некуда. Водосточная труба проржавела, по ней не слезешь. Ладно.
Сел у окна, приготовился к долгому ожиданию.
В десятом часу, когда сеет долгого летнего дня уже начинал меркнуть, из-за угла вынеслась знакомая коляска. Буланый несся во весь опор, роняя хлопья пены. Кнабе правил стоя и отчаянно размахивал кнутом. Погоня?
Вроде бы нет, не слышно. Резидент бросил вожжи, нырнул в подъезд. Пора.
Ахимас занял заранее облюбованное место – в прихожей, за вешалкой. В руке держал острый нож, прихваченный с кухни.
Квартира была подготовлена – все вверх дном, шкафы выпотрошены, даже перина распорота. Грубая имитация ограбления. Господин Фандорин должен придти к выводу, что герра Кнабе убрали свои, довольно неловко изобразив обычное уголовное преступление. Само дело заняло секунду.
Лязгнул ключ, Кнабе успел пробежать по темному коридору всего несколько шагов и умер, так и не поняв, что произошло.
Ахимас внимательно осмотрелся – все ли чисто, и вышел на лестницу.
Внизу хлопнула дверь, раздались громкие голоса. Кто-то бежал вверх. Нехорошо.
Он попятился назад, в квартиру. Кажется, стукнул дверью громче нужного.
Времени было с четверть минуты, никак не больше. Открыл окно в конце коридора и снова спрятался за вешалку.
Буквально в следующее мгновение в квартиру ворвался человек. По виду купец.
В руке у «купца» был револьвер, «герсталь-агент». Хорошая машинка, Ахимас раньше сам таким пользовался. «Купец» замер над неподвижным телом, потом, как и следовало, пометался по комнатам и вылез в окно на крышу.
На лестнице было тихо. Ахимас бесшумно выскользнул из квартиры.
Оставалось только закончить с кельнером из «Метрополя», и первый пункт плана можно будет считать выполненным.
13
Перед тем, как приступить ко второму пункту, пришлось слегка поработать мозгами.
Ночью Ахимас лежал у себя в «Троице», смотрел в потолок и размышлял.
Итак, уборка завершена.
С кельнером исполнено. Полиции можно не опасаться – немецкой линии им надолго хватит.
Самое время заняться похищенным гонораром.
Вопрос: как найти бандита по прозвищу Миша Маленький?
Что про него известно?
Это главарь шайки – иначе не смог бы сначала выследить, а потом подослать убийцу. Пока вроде бы всё.
Теперь медвежатник, похитивший портфель. Что можно сказать о нем? В форточку нормальному мужчине не пролезть. Значит, подросток? Нет, подросток вряд ли сумел бы так ловко вскрыть сейф, тут нужен опыт. Сработано в целом аккуратно: без разбитого стекла, без следов взлома. Медвежатник даже сейф за собой запер. Итак, не подросток, маленький мужчина. И Миша тоже Маленький. Резонно предположить, что он и медвежатник – одно и то же лицо. Значит, портфель у этого самого Миши.
Итог: субтильный, ловкий мужичонка по прозвищу Миша Маленький, умеющий бомбить сейфы и возглавляющий серьезную шайку.
Совсем немало.
Можно не сомневаться, что на Хитровке такого заметного специалиста хорошо знают.
Но именно поэтому так просто на него не выйдешь. Выдавать себя за уголовника бесполезно – нужно знать привычки, жаргон, этикет. Надежнее будет изобразить «баклана», нуждающегося в услугах хорошего медвежатника.
Допустим, приказчика, который мечтает потихоньку наведаться в хозяйский сейф.
* * *
В воскресенье с утра, прежде чем отправиться на Хитровку, Ахимас не удержался – завернул на Мясницкую, чтобы посмотреть на похоронную процессию.
Зрелище впечатляло. Ни одна из акций за всю его многолетнюю карьеру не давала такого эффекта.
Ахимас стоял в причитающей, крестящейся толпе и чувствовал себя главным персонажем этого грандиозного представления, его невидимым центром.
Это было непривычное, пьянящее чувство.
Вон за катафалком едет важный генерал на вороной кобыле. Чваный, надутый. Уверен, что на этом спектакле он – звезда первой величины.
А сам, как и все остальные, – не более чем кукла. Кукольник же скромно стоял на тротуаре, затерянный средь моря лиц. Никто его не знал, никто на него не смотрел, но сознание единственности своей роли кружило голову сильнее любого вина.
– Сам Кирилл Александрович, царев братец, – сказал кто-то про конного генерала. – Видный мужчина.
Внезапно, оттолкнув жандарма из оцепления, к катафалку из толпы бросилась женщина в черном платке.
– На кого ты нас покинул, отец родной! – визгливо заголосила она, падая лицом на малиновый бархат.
От истошного крика арабская лошадь великого князя испуганно раздула ноздри и вскинулась на дыбы.
Один из адъютантов кинулся было, чтобы схватить запаниковавшую лошадь под уздцы, но Кирилл Александрович звонким, властным голосом осадил его:
– Назад, Неплюев! Не соваться! Я сам!
Без труда удержавшись в седле, он в два счета заставил лошадь образумиться. Нервно пофыркивая, она пошла дробной иноходью вбок, потом выровнялась. Истеричную плакальщицу под руки увели обратно в толпу, и на этом маленький инцидент был исчерпан.
Но настроение Ахимаса переменилось. Он уже не чувствовал себя кукловодом в театре марионеток.
Голос, приказавший адъютанту «не соваться», был ему слишком хорошо знаком. Такой, раз услышав, не спутаешь.
Какая неожиданная встреча, monsieur NN.
Ахимас проводил взглядом осанистую фигуру в кавалергардском мундире. Вот кто истинный кукольник, вот кто дергает за веревочки. А кавалер Вельде, он же будущий граф Санта-Кроче, – предмет реквизита, не более того. Ну и пусть.
* * *
Весь день он провел на Хитровке. И сюда доносился погребальный перезвон сорока сороков, но хитрованцам не было дела до «чистого» города, скорбевшего по какому-то генералу. Здесь, словно в капле грязной воды под микроскопом, копошилась своя собственная потайная жизнь.
Ахимаса, одетого приказчиком, дважды пытались ограбить и трижды залезали в карман, причем один раз успешно: незаметно полоснули чем-то острым по суконной поддевке и вытащили кошель. Денег там была самая малость, но мастерство впечатляло.
С поисками медвежатника тоже долго не ладилось. Чаще всего разговор с местными обитателями вообще не получался, а если и получался, то предлагали не тех, кого надо – то какого-то Кирюху, то Штукаря, то Кольшу Гимназиста. Лишь в пятом часу впервые прозвучало имя Миши Маленького.
Дело было так. Ахимас сидел в трактире «Сибирь», где собирались барышники и профессиональные нищие позажиточней, беседовал с одним перспективным оборванцем. Глаза у оборванца были с тем особым быстрым перемещением фокуса, какой бывает только у воров и торговцев краденым.
Ахимас угощал собеседника сивухой, изображал хитрого, но недалекого приказчика из галантерейного магазина на Тверской. Когда помянул, что у хозяина в сейфе денег без счету и, если б знающий человек обучил замок открывать, то запросто можно было бы разок-другой в неделю оттуда по две-три сотни мелкими брать, никто не хватится, – взгляд у оборванца стал острым: глупая добыча сама шла в руки.
– К Мише тебе надо, – уверенно сказал эксперт. – Он сделает чисто.
Изобразив сомнение, Ахимас спросил:
– Человек-то с понятием? Не рвань?
– Кто, Миша Маленький? – презрительно глянул на него оборванец. – Сам ты против него рвань. Ты вот что, дядя. Ты вечерком в «Каторгу» загляни, там Мишины ребята кажный вечер гуляют. А я забегу, шепну про тебя. Встретят в лучшем виде.
И глаза хитрованца блеснули – видно, надеялся от Миши Маленького за такую жирную наводку комиссионные получить.
С раннего вечера Ахимас засел в «Каторге». Явился туда уже не приказчиком, а слепым побирушкой: в рубище, лаптях, на глаза, под веки, вдел прозрачные пленки из телячьего пузыря. Видно через них было, как сквозь туман, но зато полное впечатление, что глаза затянуты бельмами. По опыту Ахимас знал, что слепые ни у кого подозрений не вызывают и внимания на себя не обращают. Если тихо сидеть, то окружающие слепого будто и вовсе видеть перестают.
А сидел он тихо. Не столько приглядывался, сколько прислушивался. Поодаль за столом собралась компания явных бандитов. Возможно, из мишиной шайки, но щуплого и юркого среди них не было.
События начались, когда за подслеповатыми подвальными оконцами уже стемнело.
Сначала Ахимас не обратил внимания на очередных посетителей. Вошли двое: старьевщик и кривоногий киргиз в засаленном халате. Через минуту появился еще один – скрюченный горбун. В голову бы не пришло, что это сыскные. Надо отдать московской полиции должное, работает неплохо. И все же уголовные ряженых агентов каким-то образом раскусили.
Все произошло в минуту. Только что было тихо и мирно, и вот двое – старьевщик и киргиз – уже лежали замертво, горбун валялся оглушенный, а один из бандитов катался по полу и противным, будто притворяющимся голосом кричал, что моченьки нету.
Скоро появился и тот, кого Ахимас ждал. Быстрый, дерганый франтик в европейском платье, но брюки при этом заправлены в начищенные до блеска хромовые сапожки. Этот криминальный типаж Ахимасу был отлично известен и по его собственной классификации относился к разряду «хорьков» – хищник мелкий, но опасный. Странно, что Миша Маленький достиг в московском уголовном мире такого видного положения. Из «хорьков» обычно получаются провокаторы и двойные агенты.
Ничего, скоро выяснится, что это за фигура.
Убитых агентов унесли за загородку, оглушенного тоже куда-то уволокли.
Миша и его головорезы сели за стол, стали пить и есть. Тот, что лежал и стонал, вскоре затих, но это событие прошло незамеченным. Лишь полчаса спустя, спохватившись, бандиты выпили «за упокой души Сени Ломтя», а Миша Маленький тонким голосом произнес прочувствованную речь, наполовину состоявшую из непонятных Ахимасу словечек. Покойника говоривший уважительно называл «фартовым деловиком», остальные согласно кивали. Поминки длились недолго. Ломтя оттащили за ноги туда же, куда перед тем убитых агентов, и пир продолжился как ни в чем не бывало.
Ахимас старался не упустить ни единого слова из разговора бандитов. Чем дальше, тем больше крепло убеждение, что о похищенном миллионе они не знают. Стало быть, Миша провернул дельце в одиночку, без товарищей.
Ничего, теперь никуда не денется. Надо было только выждать удобный момент для разговора с глазу на глаз.
Под утро, когда трактир опустел, Миша поднялся и громко сказал:
– Ну, будя языки чесать. Кто куда, а я к Фиске под бочок. Но поперву пойдем с лягашом потолкуем.
Вся шайка, похохатывая, удалилась за стойку, вглубь подвала.
Ахимас огляделся. Трактирщик давно храпел за дощатой перегородкой, из посетителей остались только двое – упившиеся до потери сознания мужик и баба. Самое время.
За стойкой оказался темный коридор. Впереди, в полу, смутно светился квадрат, оттуда доносились приглушенные голоса. Погреб?
Ахимас вынул из одного глаза пленку. Осторожно заглянул вниз. Все пятеро бандитов были тут.
Пятеро – многовато. Придется подождать, пока они прикончат фальшивого горбуна, а после, когда станут вылезать, тихо уложить по одному.
Однако все получилось иначе.
Агент оказался малый не промах. Такой сноровки Ахимасу видеть еще не приходилось. «Горбун» управился со всей шайкой в считанные секунды. Он, не вставая, по очереди дернул обеими руками, и двое разбойников схватились за горло. Ножи, что ли, он в них метнул? Двум другим агент проломил черепа весьма любопытным приспособлением – деревяшка на цепочке. Надо же, просто, а какой эффект.
Но еще большее уважение вызывала ловкость, с которой «горбун» провел допрос. Теперь Ахимас знал все, что требовалось. Он спрятался в тень и неслышно последовал по темному лабиринту за сыщиком и его пленником.
Они зашли в какую-то дверь, и минуту спустя оттуда ударило выстрелами. Чья взяла? Ахимас был уверен, что не Мишина. А коли так, то соваться под пулю столь проворного агента неразумно. Лучше подстеречь его в коридоре. Нет, слишком темно. Можно промахнуться, уложить не насмерть.
Ахимас вернулся в трактир, лег на лавку.
Почти сразу появился ловкий агент, и, что приятно, с портфелем. Стрелять или подождать еще? Но «горбун» держал револьвер наготове. Реакция у него молниеносная, начнет палить на малейшее шевеление. Ахимас прищурил свободный от бельма глаз. Никак знакомый «герсталь»? Уж не тот ли это «купец», что был у Кнабе?
А события развивались с головокружительной быстротой. Агент арестовал трактирщика, нашел своих людей, один из которых, киргиз, оказался жив.
Интересная деталь: когда «горбун» заматывал азиату полотенцем разбитую голову, они разговаривали между собой по-японски. Вот уж поистине чудеса – японец на Хитровке. Звуки этого рокочущего наречия Ахимасу были знакомы по делу трехлетней давности, когда довелось выполнять заказ в Гонконге. Агент называл японца «Маса».
Теперь, когда ряженый сыщик больше не изображал голосом старческую надтреснутость, тембр показался Ахимасу знакомым. Он прислушался повнимательней – никак господин Фандорин! Оборотистый молодой человек, ничего не скажешь. Таких встретишь нечасто.
И Ахимас окончательно решил, что рисковать не стоит. С подобным субъектом надо быть вдвойне осторожным. Тем более что сыщик не расслаблялся – стрелял глазами во все стороны и «герсталь» держал под рукой.
Все трое – Фандорин, японец и связанный трактирщик – вышли на улицу. Ахимас наблюдал за ними через пыльное оконце. Сыщик, не выпуская портфеля, отправился искать извозчика, японец остался сторожить арестанта. Трактирщик попробовал было брыкаться, но коротышка злобно зашипел и одним движением сбил дюжего татарина с ног.
За портфелем еще придется побегать, подумал Ахимас. Рано или поздно господин Фандорин успокоится и расслабится. Пока же следовало проверить, мертв ли должник, Миша Малелький.
Ахимас быстро прошел темным коридором, потянул приоткрытую дверь. За ней оказалась тускло освещенная каморка. Кажется, никого.
Он подошел к смятой кровати. Пощупал – еще теплая.
Тут из угла донесся тихий стон. Ахимас резко обернулся и увидел съежившуюся фигурку. Миша Маленький сидел на полу, держась руками за живот. Поднял влажно блестевшие глаза, рот плаксиво искривился, из него снова вырвался тоненький, жалобный звук.
– Браток, это я, Миша… Раненый я… Помоги… Ты кто, браток?
Ахимас щелкнул лезвием навахи, наклонился и чиркнул сидящего по горлу. Так будет спокойней. Да и долг платежом красен.
Бегом вернулся в трактир, лег на лавку. С улицы донесся стук копыт, скрип колес. Вбежал Фандорин, на сей раз без портфеля. Скрылся в коридоре – это он за Мишей Маленьким. Но где портфель? Оставил японцу?
Ахимас скинул ноги с лавки.
Нет, не успеть.
Снова лег, начиная злиться. Но поддаваться раздражению было нельзя – от этого все ошибки.
Из недр подземного лабиринта вынырнул Фандорин: лицо перекошено, водит «герсталем» во все стороны.
Мельком глянул на слепого, бросился из трактира вон.
С улицы донеслось:
– Пошел! Гони на Малую Никитскую, в жандармское!
Ахимас сорвал бельма. Нужно было торопиться.
14
К зданию жандармского управления он подкатил на лихаче, спрыгнул на ходу и нетерпеливо спросил у часового:
– Тут двое наших арестованного привезли, где они?
Жандарм ничуть не удивился требовательности решительного человека в рубище, но с начальственным блеском в глазах.
– Так что прямиком к их превосходительству отправились. Двух минут не прошло. А задержанного оформляют, он в дежурной.
– Черт с ним, с задержанным! – раздраженно махнул ряженый. – Мне Фандорин нужен. Говоришь, к его превосходительству?
– Так точно. По лесенке, а потом в коридор налево.
– Без тебя знаю!
Ахимас взбежал из вестибюля по невысокой лестнице на первый этаж. Посмотрел вправо – там в дальнем конце коридора белела дверь, из-за которой доносился звон металла. Ясно, гимнастический зал. Ничего опасного.
Повернул налево. Широкий коридор был пуст, лишь изредка из кабинетов выныривали деловитые порученцы в Мундирах и штатском, чтобы сразу же исчезнуть за другой дверью.
Ахимас так и замер: после длинной череды нелепиц и неудач, фортуна, наконец, сменила гнев на милость. Перед дверью с табличкой «Приемная» сидел японец с портфелем в руках.
Фандорин, очевидно, докладывал начальству о ночных событиях. Почему вошел без портфеля? Хочет покрасоваться, поэффектничать. Событий за ночь произошло много, сыщику найдется что рассказать, так что несколько минут в запасе есть.
Подойти неспешным шагом. Ударить ножом под ключицу. Взять портфель. Выйти так же, как вошел. Минутное дело.
Ахимас внимательно посмотрел на японца. Тот глядел прямо перед собой, держал портфель обеими руками и был похож на сжатую пружину. В Гонконге Ахимас имел возможность наблюдать, как японцы владеют искусством боя без оружия. Куда там мастерам английского бокса или французской борьбы. Этот коротышка одним броском кинул наземь здоровенного татарина-трактирщика. Минутное дело?
Рисковать нельзя. Малейшая заминка, шум, и набегут со всех сторон.
Думать, думать, время уходит.
Он развернулся и быстро пошел туда, где звенели рапиры. Открыв дверь с надписью «Офицерский гимнастический зал», Ахимас увидел с десяток фигур в масках и белых фехтовальных костюмах. Тоже мушкетеры выискались.
Ага, вот и вход в гардеробную.
Он скинул рубище и лапти, надел первый попавшийся мундир, сапоги подобрал по размеру – это важно. Скорей, скорей.
Когда бежал деловитой рысцой в обратную сторону, в глаза бросилась табличка «Экспедиция».
За стойкой сидел чиновник, сортировал конверты.
– Для капитана Певцова корреспонденции нет? – назвал Ахимас первую попавшуюся фамилию.
– Никак нет.
– А вы все-таки проверьте.
Чиновник пожал плечами, уткнулся носом в конторскую книгу, зашелестел страницами.
Ахимас незаметно взял со стойки казенный пакет с печатями, сунул за обшлаг.
– Ладно, не трудитесь. Позже загляну.
К японцу приблизился чеканным шагом, отсалютовал.
– Господин Маса?
Азиат вскочил, низко поклонился.
– Я к вам по поручению господина Фандорина. Фандорин, понимаете?
Японец поклонился еще ниже. Отлично, кажется, по-русски ни бельмеса.
– Вот письменное распоряжение забрать у вас портфель.
Ахимас протянул пакет и одновременно показал на портфель.
Японец заколебался. Ахимас ждал, отсчитывая секунды. В спрятанной за спину левой руке был зажат нож. Еще пять секунд, и надо будет бить. Ждать больше нельзя.
Пять, четыре, три, два…
Японец еще раз поклонился, отдал портфель, а пакет взял обеими руками и приложил ко лбу. Умирать ему, видимо, еще было рано.
Ахимас отдал честь, развернулся и вошел в приемную. По коридору уйти было невозможно – это показалось бы японцу странным.
Просторная комната. Впереди кабинет начальника – Фандорин наверняка там. Слева окно. Справа табличка «Секретная часть».
Адъютант маячил у двери начальника, что было кстати. Ахимас сделал ему успокоительный жест и нырнул в дверь справа. Там снова повезло – фортуна добрела прямо на глазах. Не кабинет, где пришлось бы импровизировать, а коридорчик с окнами во двор.
Прощайте, господа жандармы.
Ахимас Вельде переходит к последнему, третьему пункту своей программы.
* * *
На присутственный этаж генерал-губернаторского дома вошел бравый жандармский капитан, строго спросил у служителя, где кабинет надворного советника Хуртинского, и зашагал в указанном направлении, помахивая тяжелым портфелем.
Хуртинский встретил «срочного курьера из Петербурга» фальшиво-любезной улыбкой. Ахимас тоже улыбнулся, но безо всякой фальши, искренне – давно ждал этой встречи.
– Здравствуй, мерзавец, – сказал он, глядя в тусклые серые глаза господина Немо, лукавого раба monsieur NN. – Я – Клонов. Это – портфель Соболева. А это – твоя смерть. – И щелкнул навахой.
Лицо надворного советника сделалось белым-белым, а глаза черными-черными, потому что расширившиеся зрачки начисто съели радужную оболочку.
– Я все объясню, – беззвучно прошелестел начальник секретной канцелярии. – Только не убивайте!
– Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже лежал с перерезанной глоткой. А мне нужно от тебя другое, – повысил голос Ахимас, изображая ледяную ярость.
– Все что угодно! Только ради бога тише! Хуртинский высунулся в приемную и велел, секретарю никого не впускать.
– Послушайте, я все объясню… – зашептал он, вернувшись.
– Великому князю объяснишь, Иуда, – перебил Ахимас. – Садись, пиши. Пиши! – Он замахнулся ножом, и Хуртинский в ужасе попятился.
– Хорошо-хорошо. Но что писать?
– Правду.
Ахимас встал за спиной у дрожащего чиновника.
Надворный советник пугливо оглянулся, но глаза вновь стали из черных серенькими. Должно быть, хитроумный господин Немо уже раскидывал мозгами, как будет выкручиваться.
– Пиши: «Я, Петр Хуртинский, повинен в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья. Довожу до сведения Вашего императорского высочества, что…»
Когда Хуртинский дописал слово «судья», Ахимас ударом ладони переломил ему шейные позвонки.
Подвесил труп на шнурке от фрамуги. С удовлетворением посмотрел в удивленное лицо трупа. Неблагодарное занятие – валять дурака с Ахимасом Вельде.
Всё, дела в Москве были закончены.
* * *
С почтамта, все еще не сняв жандармского мундира, Ахимас отправил телеграмму monsieur NN по резервному адресу. Из газет было известно, что Кирилл Александрович еще вчера отбыл в Петербург.
Депеша была такого содержания:
«Расчет получен. Г-н Немо оказался недобросовестным партнером. Возникли осложнения с г-ном Фандориным из московского филиала компании. Требуется Ваше содействие. Клонов».
Поколебавшись, указал адрес в «Троице». Определенный риск в этом, конечно, был, но, пожалуй, в пределах допустимого. Теперь, когда известно, кто таков NN, вероятность двойной игры представлялась незначительной. Слишком важная персона, чтобы суетиться.
А вот помощь великого князя, действительно, нужна. Операция закончена, но не хватало еще потянуть за собой в Европу хвост полицейского расследования. Зачем это нужно будущему графу Санта-Кроче? Господин Фандорин чересчур сообразителен и быстр. Пусть его попридержат.
Потом заехал на Брянский вокзал, купил билет на парижский поезд. Завтра, в восемь утра, Ахимас Вельде покинет город, где выполнил свой последний заказ. Блестящая профессиональная карьера завершилась с подобающим размахом.
Вдруг захотелось сделать себе подарок. У вольного человека, тем более уже удалившегося от дел, могут быть свои слабости.
Написал письмо: "Завтра в шесть утра будь в «Троицком подворье», что в Хохловском переулке. Мой номер седьмой, вход со двора. Постучи два раза, потом три, потом еще два. Уезжаю, хочу проститься. Николай ". Отправил с вокзала городской почтой, обозначив на конверте: «Г-же Толле в собственные руки. Нумера „Англия“, угол Петровки и Столешникова».
Ничего, можно. Все убрано чисто. Самому, конечно, соваться не стоит – за Вандой могут негласно следить. Но скоро слежка будет снята и дело прекращено, об этом позаботится monsieur NN.
Сделать Ванде прощальный подарок – дать ей эти несчастные пятьдесят тысяч, чтобы почувствовала себя свободной и жила так, как ей нравится.
И, может быть, договориться о новой встрече? В другой, вольной жизни.
Голос, с некоторых пор поселившийся у Ахимаса в левой половине груди и до поры до времени заглушаемый деловыми соображениями, теперь совершенно распоясался. «А зачем расставаться? – шепнул он. – Граф Санта-Кроче это совсем не то, что Ахимас Вельде. Его сиятельству необязательно быть одному».
Голосу было велено заткнуться, но Ахимас все же вернулся в кассу, вернул билет и взял вместо него двухместное купе. Лишние сто двадцать рублей – пустяк, а путешествовать без соседей будет приятнее. «Ха-ха», – откомментировал голос.
Завтра решу, при встрече, приговорил Ахимас. Она или получит пятьдесят тысяч, или уедет со мной.
Вдруг вспомнилось: это уже было. Двадцать лет назад, с Евгенией. Только тогда, еще ничего не решив, он не захватил для нее коня. А теперь конь приготовлен.
Весь остаток дня Ахимас думал только об этом. Вечером лежал у себя в комнате и не мог уснуть, чего раньше никогда не случалось.
Наконец, мысли начали путаться, вытесняемые бессвязными, мимолетными образами. Возникла Ванда, ее лицо чуть колыхнулось и, неуловимо изменившись, превратилось в лицо Евгении. Странно, а он думал, что ее черты давно стерлись из памяти. Ванда-Евгения нежно посмотрела на него и сказала: «Какие у тебя, Лия, глаза прозрачные. Как вода».
От негромкого стука в дверь Ахимас, еще толком не проснувшись, рывком сел но кровати и выдернул из-под подушки револьвер. За окном серел рассвет.
Снова постучали – подряд, без интервалов.
Неслышно ступая, он спустился по лесенке.
– Господин Клонов! – раздался голос. – Вам срочная депеша! От monsieur NN!
Ахимас открыл, держа руку с револьвером за спиной.
Увидел высокого человека в плаще. Лица под длинным козырьком кепи было не видно, только по-военному подкрученные усы. Отдав пакет, посланец безмолвно удалило", скрылся в мутных предутренних сумерках.
"Господин Вельде, расследование прекращено, однако возникло маленькое осложнение. Коллежский асессор Фандорин, действуя самопроизвольно, узнал ваше местонахождение к намерен вас арестовать. Об этом нам сообщил московский обер-полицеймейстер, запросив нашей санкции. Мы приказали не предпринимать никаких действий, однако коллежского асессора об этом не извещать. Фандорин явится к вам в шесть утра. Он придет один, не зная, что полицейской поддержки не будет. Этот человек своими действиями ставит под угрозу результат всей акции. Поступите с ним по своему усмотрению.
Благодарю за хорошо выполненную работу. NN"
У Ахимаса возникла два чувство: одно приятное, второе скверное.
С приятным все было понятно. Убить Фандорина – это красивый штрих в завершение послужного списка. И для дело необходимо, и давний счет закроет. Аккуратно получится, чисто.
Но вот со вторым чувством выходило сложнее. Откуда Фандорин узнал адрес? Ведь не от NN же. И потом, шесть часов – это время, назначенное Ванде. Неужто выдала? Это всё меняло.
Он посмотрел на часы. Половина пятого. Времени для подготовки более чем достаточно. Риска, конечно, никакого, все преимущества у Ахимаса, но господин Фандорин – человек серьезный, небрежность недопустима.
Опять же возникла дополнительная сложность. Убить того, кто не ожидает нападения, легко, однако нужно, чтобы Фандорин сначала ответил, откуда ему известен адрес.
Только бы не от Ванды.
Ничего важнее этого для Ахимаса сейчас не было.
* * *
С половины шестого он занял пост у окна, за шторой.
В три минуты седьмого в залитый мягким утренним светом двор вошел человек в щегольском кремовом пиджаке и модных узких брюках. Теперь Ахимас имел возможность рассмотреть лицо старого знакомца во всех подробностях. Лицо ему понравилось – энергичное, умное. Достойный оппонент. Только с союзниками ему не повезло.
Фандорин остановился у двери, вдохнул полную грудь воздуха. Зачем-то раздул щеки, выдохнул мелкими толчками. Гимнастика, что ли, такая?
Поднял руку и негромко постучал.
Два раза, три, потом еще два.
Часть третья Белое и черное
Свейские ворота или Глава предпоследняя, в которой Фандорин превращается в ничто
Эраст Петрович прислушался – тихо. Постучал снова. Ничего. Осторожно толкнул дверь, и она внезапно подалась, недобро скрипнув.
Неужели капкан пуст?
Выставив вперед руку с револьвером, быстро взбежал по лесенке в три ступени и оказался в квадратной комнате с невысоким потолком.
После яркого солнечного света комната показалась совсем темной. Справа темно-серый прямоугольник зашторенного окна, дальше, у стены – железная кровать, шкаф, стул.
Что это там, на кровати? Силуэт, накрытый одеялом. Кто-то лежит.
Глаза коллежского асессора уже привыкли к тусклому свету, и он разглядел руку, вернее рукав, безжизненно свесившийся из-под одеяла. Кисть в перчатке была вывернута ладонью вверх. На полу лежал револьвер «кольт», рядом растеклась темная лужица.
Вот это сюрприз. С тоскливо защемившим от разочарования сердцем Фандорин сунул в карман ненужный «герсталь», пересек комнату и отдернул одеяло.
* * *
Ахимас неподвижно стоял у окна за плотной занавеской. Когда сыщик постучал в дверь условным стуком, на душе сделалось мерзко. Значит, все-таки Ванда…
В комнате все было подготовлено для того, чтобы Фандорин не шарил взглядом по комнате, а сразу сфокусировал зрение в ложном направлении, повернулся спиной и убрал оружие.
Все три цели были благополучно достигнуты.
– Ну вот, – вполголоса сказал Ахимас. – А теперь руки на затылок. И не вздумайте поворачиваться, господин Фандорин. Убью.
* * *
Досада – вот первое чувство, охватившее Эраста Петровича, когда он увидел под одеялом примитивную куклу из одежды и услышал сзади спокойный, уверенный голос. Как глупо попался!
Но досаду тут же вытеснило недоумение. Почему Клонов-Певцов был готов? Караулил у окна, увидел, что вместо Ванды пришел кто-то другой? Но назвал-то по имени! Получается, знал и ждал. Откуда знал? Неужто Ванда все-таки успела известить? Но тогда почему ждал, почему не скрылся?
Выходило, что объект знал о предстоящем визите «господина Фандорина», но не о полицейской операции. Чудно.
Впрочем, строить гипотезы было не ко времени. Что делать? Метнуться в сторону? Попасть в человека, прошедшего курс обучения у «крадущихся», гораздо сложнее, чем себе воображает фальшивый жандармский капитан.
Но в любом случае на выстрелы нагрянет полиция, откроет пальбу, и тогда объект взять живьем не удастся.
Фандорин положил руки на затылок. Спокойно, в тон оппоненту, спросил.
– И что дальше?
* * *
– Снять пиджак, – приказал Ахимас. – Бросить на середину комнаты.
Пиджак брякнул весьма ощутимо – видно, кроме «герсталя» в карманах было припасено что-то еще.
Сзади на поясе у сыщика была кобура с маленьким пистолетиком.
– Отстегнуть «дерринджер». Под кровать его, подальше. Теперь нагнуться – медленно. Задрать левую штанину. Выше. Правую.
Так и есть – у левой лодыжки рукояткой вниз закреплен стилет. Хорошо экипировался господин Фандорин. Приятно иметь дело с предусмотрительным человеком.
– Теперь можете повернуться.
Повернулся сыщик правильно: безо всякой спешки, чтобы попусту не нервировать противника.
Зачем это у него на подтяжках четыре металлических звезды? Верно, опять какие-нибудь восточные хитрости.
– Отстегнуть подтяжки. Под кровать.
Смазливая физиономия сыщика исказилась от ярости. Длинные ресницы дрогнули – Фандорин щурился, пытаясь разглядеть лицо своего визави, стоявшего спиной к свету.
Что ж, теперь можно и показаться, проверить, хорошая ли у молодого человека зрительная память.
Оказалось, что хорошая: Ахимас сделал два шага вперед и с удовлетворением заметил, как щеки красавчика сначала покрылись багровыми пятнами, а потом сразу побелели.
Так-то, юноша. Судьба – дама с причудами.
* * *
Это не человек, а какой-то дьявол! Даже в сяринкенах распознал оружие. Эраст Петрович клокотал от бешенства, лишившись всего своего арсенала.
Или, точнее, почти всего.
Из всех многочисленных предметов обороны (надо же, а казалось, что переусердствовал со сборами) осталась только стрелка в рукаве рубашки. Стрелка была тонкая, стальная, закреплена на пружине. Достаточно резко согнуть локоть, и пружина распрямится. Но убить стрелкой трудно – разве что если точно в глаз угодить. Да и какое может быть резкое движение, если тебя держат под дулом шестизарядного «баярда»?
Тут темный силуэт придвинулся, и Фандорин наконец разглядел черты противника.
Эти глаза! Эти белые глаза! То самое лицо, которое столько лет снилось Эрасту Петровичу по ночам. Не может быть! Опять кошмар! Поскорее проснуться.
* * *
Надо было воспользоваться психологическим преимуществом, пока объект не пришел в себя.
– Кто сообщил адрес, время и условный сигнал?
Сыщик молчал.
Ахимас опустил дуло ниже, целя в коленную чашечку, но Фандорин, кажется, не испугался. Наоборот, бледности вроде бы поубавилось.
– Ванда? – не выдержал Ахимас, и в голосе прорвалась предательская хрипотца.
Нет, этот не ответит, подумал он. Умрет, но не скажет ни слова. Такой уж типаж. И тут сыщик вдруг разомкнул уста:
– Отвечу. В обмен на мой вопрос. Как был убит Соболев?
Ахимас покачал головой. Его не уставала удивлять человеческая экстравагантность. Впрочем, профессиональное любопытство на пороге смерти заслуживает уважения.
– Идет, – кивнул он. – Но ответ должен быть честным. Слово?
– Слово.
– Экстракт амазонского папоротника. Паралич сердечной мышцы при учащенном сердцебиении. Никаких следов. «Шато-икем».
Дополнительных пояснений не понадобилось.
– Ах, вот оно что… – пробормотал Фандорин.
– Так это Ванда? – сквозь стиснутые зубы спросил Ахимас.
– Нет. Она вас не выдала. Ахимас чуть не задохнулся от неимоверного облегчения – на миг даже закрыл глаза.
* * *
Когда лицо человека из прошлого напряглось в ожидании ответа, Эраст Петрович понял, почему он до сих пор еще жив.
Но едва прозвучит ответ на вопрос, имеющий для белоглазого такое значение, как немедленно грянет выстрел.
Тут не упустить бы миг, когда палец чуть шевельнется на спусковом крючке, начав движение. Имея дело с безоружным, вооруженный неминуемо приглушает свои инстинкты, ощущая себя в безопасности, чересчур полагается на бездушный металл. Реакции такого человека замедленны – это азбука искусства «крадущихся».
Правильно угадать момент – главное. Первый рывок вперед и влево, пуля пройдет правее. Потом броситься под ноги – вторая пуля пройдет над головой. И тогда подсечку.
Рискованно. Восемь шагов – многовато. А если объект догадается чуть отступить назад, то вообще пиши пропало.
Но выбора не было.
И тут белоглазый впервые совершил оплошность – на секунду прикрыл глаза.
Этого было достаточно. Эраст Петрович не стал рисковать, бросаясь под пули, а вместо этого прямо с места пружинисто прыгнул в окно.
Локтями вышиб раму, вылетел в вихре стеклянных осколков, перевернулся в воздухе и благополучно приземлился на корточки. Даже не порезался.
В ушах звенело – видимо, белоглазый все же успел выстрелить. Но, разумеется, не попал.
Фандорин побежал вдоль стены. Рванул из брючного кармана свисток и подал условный сигнал для начала операции.
* * *
Никогда еще Ахимас не видел, чтобы человек двигался с такой быстротой. Только что стоял на месте, и вот лаковые штиблеты с белыми гамашами уже исчезли за окном. Он выстрелил, но на долю секунды позже, чем следовало.
Не задумываясь, перескочил через засыпанный стеклом подоконник. Упал на четвереньки.
Сыщик бежал и отчаянно дул в свисток. Ахимасу даже стало его немного жаль – бедняга рассчитывал на подмогу.
Легкий, как мальчишка, Фандорин уже сворачивал за угол. Ахимас выстрелил с бедра – от стены брызнула штукатурка. Нехорошо.
Но внешний двор побольше внутреннего. До ворот объекту не добежать.
* * *
Вон они, ворота – с деревянным навесом, с резными столбами. Исконно русские, допетровской конструкции, а зовутся почему-то «свейскими». Видно, в незапамятные времена научились москвитяне этой плотницкой премудрости у какого-нибудь шведского купца.
Посреди двора застыл с метлой в руках дворник, разинув щербатый рот. Тот, что изображал пьяного, так и сидел на скамейке, пялился на бегущего коллежского асессора. К стенке испуганно жалась давешняя бабенка в ковровом платке и балахоне. Эраст Петрович вдруг понял – это не агенты! Просто дворник, просто забулдыга, просто побирушка.
Сзади звук бегущих шагов.
Фандорин сделал зигзаг в сторону – и вовремя: плечо обожгло горячим. Ерунда, по касательной.
За воротами виднелась золотая от солнца улица. Вроде бы близко, а не успеть.
Эраст Петрович остановился, развернулся. Какой смысл пулю в спину получать?
Остановился и белоглазый. Было три выстрела, значит, в «баярде» еще три пули. Более чем достаточно, чтобы прекратить земной путь господина Фандорина, двадцати шести лет от роду, родственников не имеющего. Расстояние – пятнадцать шагов. Слишком много, чтобы пытаться что-то предпринять. Где Караченцев? Где его люди? Думать об этом было некогда.
Под манжетом была стрела, вряд ли действенная на таком отдалении. Тем не менее Эраст Петрович поднял руку, готовясь резко согнуть ее в локте.
Белоглазый тоже неспешно нацелил ему в грудь.
У коллежского асессора возникла мимолетная ассоциация: сцена дуэли из оперы «Евгений Онегин». Сейчас белоглазый запоет: «Паду ли я, стрелой пронзенный».
* * *
Две пули в грудь. Потом подойти и третью в голову.
На выстрелы никто не прибежит. В этих местах городового днем с огнем не сыщешь. Можно не торопиться.
Тут, угловым зрением, Ахимас уловил какое-то быстрое движение. Стремительная приземистая тень метнулась от стены.
Резко развернувшись, он увидел перекошенное в свирепой гримасе узкоглазое лицо под нелепым ковровым платком, увидел разинутый в клекочущем крике рот. Японец!
Палец нажал гашетку.
* * *
Бабенка, что робко жалась к стене, вдруг издала боевой клич иокогамских якудза и кинулась на белоглазого по всем правилам дзюдзюцу.
Тот проворно обернулся и выстрелил, но бабенка нырнула под пулю и исключительно грамотным ударом мавасигири из четвертой позиции сбила стрелявшего с ног. Нелепый ковровый платок съехал на плечи, показалась черноволосая голова, обмотанная белым полотенцем.
Маса! Но откуда? Выследил, проходимец! То-то так легко согласился отпустить хозяина одного!
И не платок это вовсе, половичок из «Дюссо». А балахон – чехол от кресла!
Но проявлять запоздалую наблюдательность было некогда. Эраст Петрович ринулся вперед, выставив руку со стрелой, но стрелять поостерегся – не угодить бы в Масу.
Японец ударил белоглазого ребром ладони по запястью – «баярд» отлетел в сторону, ударился о камень и грохнул прямо в синее небо.
В следующую секунду железный кулак со всей силы ударил японца в висок, и Маса обмяк, ткнулся носом в землю.
Белоглазый мельком глянул на надвигающегося Фандорина, на валяющийся поодаль револьвер, гуттаперчево вскочил на ноги и кинулся обратно, к внутреннему двору.
* * *
До «баярда» было не достать. Противник ловок, владеет навыками рукопашного боя. Пока будешь с ним возиться, очнется японец, а с двумя такими мастерами в одиночку не справиться.
Назад, в комнату. Там на полу, возле кровати, заряженный «кольт».
* * *
Чуть замедлив бег, Фандорин подхватил с земли револьвер. На это ушло каких-нибудь полсекунды, но белоглазый успел свернуть за угол. Снова, как давеча, возникла неуместная мысль: будто дети в салочки – то дружно бежим в одну сторону, то так же дружно обратно.
Было пять выстрелов, в барабане всего один патрон. Промахнуться нельзя.
Эраст Петрович обогнул угол и увидел, что белоглазый уже схватился рукой за дверь седьмого номера. Не целясь, коллежский асессор пустил стрелу.
Бесполезно – объект скрылся в проеме.
* * *
За дверью Ахимас вдруг споткнулся, подломилась нога и больше/не желала слушаться.
Он недоуменно глянул – сбоку из щиколотки торчал металлический штырь. Что за наваждение!
Превозмогая острую боль, кое-как преодолел ступеньки, на четвереньках пополз по полу – туда, где чернел «кольт». В то мгновение, когда пальцы сомкнулись на рифленой рукоятке, сзади ударил гром.
* * *
Есть!
Темная фигура вытянулась во весь рост. Из разжавшихся пальцев выскользнул черный револьвер.
Эраст Петрович в два прыжка пересек комнату и подхватил с пола оружие. Взвел курок, на всякий случай попятился.
Белоглазый лежал ничком. Посреди спины набухало мокрое пятно.
Сзади раздался топот, но коллежский асессор не обернулся – узнал короткие шажки Масы.
Сказал по-японски:
– Переверни его. Только осторожней, он очень опасен.
* * *
За сорок лет жизни Ахимас не разу не был ранен, очень этим гордился, но втайне страшился, что рано или поздно везение кончится. Смерти не боялся, а ранения – боли, беспомощности – да, страшился. Вдруг мука окажется невыносимой? Вдруг он утратит контроль над телом и духом, как это много раз на его глазах происходило с другими?
Больно не было. Совсем. А вот тело слушаться перестало.
Перебит позвоночник, подумал он. Граф Санта-Кроче на свой остров не попадет. Мысль была будничная, без сожаления.
Потом что-то произошло. Только что перед глазами были пыльные доски пола. Теперь вдруг оказался серый, затянутый по углам паутиной потолок.
Ахимас переместил взгляд. Над ним стоял Фандорин с револьвером в руке.
Какой нелепый у человека вид, если смотреть снизу. Именно такими нас видят собаки, червяки, букашки.
– Вы меня слышите? – спросил сыщик.
– Да, – ответил Ахимас и сам удивился, какой ровный и звучный у него голос.
Кровь лилась не переставая – это он чувствовал. Если ее не остановить, скоро всё кончится. Это хорошо. Надо сделать так, чтобы кровь не останавливали. Для этого нужно было говорить.
* * *
Лежащий смотрел пристально, будто пытался разглядеть в лице Эраста Петровича что-то очень важное. Потом заговорил. Скупыми, ясными предложениями.
– Предлагаю сделку. Я спасаю вам жизнь. Вы выполняете мою просьбу.
– Какую просьбу? – удивился Фандорин, уверенный, что у белоглазого бред. – И как вы можете спасти мне жизнь?
– О просьбе после. Вы обречены. Спасти могу только я. Вас убьют ваши же начальники. Они вас вычеркнули. Из жизни. Я не смог вас убить. Другие сделают это.
– Чушь! – воскликнул Эраст Петрович, но под ложечкой противно засосало. Куда подавалась полиция? Где Караченцев?
– Давайте так. – Раненый облизнул серые губы. – Я говорю, что вам делать. Если вы мне верите, то выполняете просьбу. Если нет – нет. Слово?
Фандорин кивнул, заворожено глядя на человека, явившегося из прошлого.
– Просьба такая. Под кроватью портфель. Тот самый. Его никто искать не будет. Он всем только мешает. Портфель ваш. Там же конверт. В нем пятьдесят тысяч. Конверт отошлите Ванде. Сделаете?
– Нет! – возмутился коллежский асессор. – Все деньги будут переданы властям. Я не вор! Я чиновник и дворянин.
* * *
Ахимас прислушался к тому, что происходило с его телом. Кажется, времени остается меньше, чем он думал. Говорить становилось все труднее. Успеть бы.
– Вы никто и ничто. Вы труп. – Силуэт сыщика начинал расплываться, и Ахимас заговорил быстрее. – Соболев приговорен тайным судом. Императорским. Теперь вы знаете всю правду. За это вас убьют. Государственная необходимость. В портфеле несколько паспортов. Билеты на парижский поезд. Отходит в восемь. Успеете. Иначе смерть.
В глазах потемнело. Ахимас сделал усилие и отогнал пелену.
Соображай быстрей, поторопил он. Ты умный, а у меня уже нет времени.
* * *
Белоглазый говорил правду.
Когда Эрасту Петровичу это стало окончательно ясно, он покачнулся.
Если так, он – конченый человек. Лишился всего – службы, чести, жизненного смысла. Негодяй Караченцев предал его, послал на верную смерть. Нет, не Караченцев – государство, держава, отчизна.
Если остался жив, то лишь благодаря чуду. Точнее Масе.
Фандорин оглянулся на слугу. Тот таращил глаза, приложив руку к ушибленному виску.
Бедняжка. Никакая голова, даже самая чугунная, такого обращения не выдержит. Ах, Маса, Маса, что же нам с тобой делать? Связал ты свою жизнь не с тем, с кем нужно.
– Просьбу. Обещайте, – едва слышно прошептал умирающий.
– Выполню, – нехотя буркнул Эраст Петрович. Белоглазый улыбнулся и закрыл глаза.
* * *
Ахимас улыбнулся и закрыл глаза.
Все хорошо. Хорошая жизнь, хороший конец.
Умирай, приказал он себе.
И умер.
Глава последняя, в которой все устраивается наилучшим образом
Вокзальный колокол ударил во второй раз, и локомотив «эриксон» нетерпеливо засопел дымом, готовый сорваться с места и побежать по сияющим рельсам вдогонку за солнцем. Трансевропейский экспресс «Москва-Варшава-Берлин-Париж» готовился к отправлению.
В спальном купе первого класса (бронза-бархат-красное дерево) сидел мрачный молодой человек в испачканном, порванном на локтях кремовом пиджаке, невидящим взглядом смотрел в окно, жевал сигару и тоже попыхивал дымом, но, в отличие от паровоза, безо всякого энтузиазма.
Двадцать шесть лет, а жизнь кончена, думал отъезжающий. Всего четыре дня назад вернулся, полный надежд и сил. И вот вынужден покидать родной город – безвозвратно, навсегда. Опороченный, преследуемый, бросивший службу, изменивший долгу и отечеству. Нет, не изменивший, это отечество предало своего верного слугу! Хороши государственные интересы, если честного работника сначала превращают в бессмысленный винтик, а потом и вовсе собираются уничтожить. Читайте Конфуция, господа блюстители престола. Там сказано: благородный муж не может быть ничьим орудием.
Что теперь? Ославят, выставят вором, объявят розыск на всю Европу.
Впрочем, вором не выставят – про портфель предпочтут не поминать.
И в розыск тоже не объявят, им огласка ни к чему.
Будут охотиться, рано или поздно найдут и убьют. Трудно ли найти путешественника, которого сопровождает слуга-японец? А куда Масу денешь? Один он в Европе пропадет.
Где он, кстати?
Эраст Петрович вынул брегет. До отправления оставалось две минуты.
На вокзал приехали вовремя, коллежский асессор (собственно, уже бывший) даже успел отправить в «Англию» некий пакет на имя госпожи Толле, но без четверти восемь, когда уже сидели в купе, Маса взбунтовался: заявил, что голоден, что есть в вагоне-ресторане куриные яйца, мерзкое коровье масло и сырое, пропахшее дымом свиное мясо решительно отказывается, и отправился на поиски горячих бубликов.
Колокол ударил в третий раз, паровоз бодро, полнокровно загудел.
Не заплутал бы, пузырь косолапый. Фандорин обеспокоено высунулся в окно.
Вон он, катится по платформе с бумажным кульком изрядного размера. Голова замотана белым с двух сторон: шишка на затылке еще не прошла, а теперь и на виске кровоподтек.
Но кто это с ним?
Эраст Петрович прикрыл ладонью глаза от солнца.
Высокий, худой, с пышными седыми бакенбардами, в ливрее.
Фрол Григорьевич Ведищев, личный камердинер князя Долгорукого! Он-то что здесь делает? Ах, как некстати!
Ведищев заметил, замахал рукой:
– Господин Фандорин, ваше высокоблагородие! Я за вами!
Эраст Петрович отпрянул от окна, но тут же устыдился. Глупо. И бессмысленно. Да и разобраться надо, что за чудеса такие.
Вышел на перрон, держа портфель подмышкой.
– Уф, еле поспел…
Ведищев отдувался, вытирая пестрым платком распаренную лысину.
– Едемте, сударь, их сиятельство ждут.
– Но как вы м-меня нашли?
Молодой человек оглянулся на вагон, медленно тронувшийся с места.
Что ж, пусть себе. Какой смысл бежать по железной дороге, если маршрут известен властям? Дадут телеграмму и арестуют на первой же станции.
Придется выбираться из Москвы как-то иначе.
– Не могу я к его сиятельству, Фрол Григорьевич. Мои обстоятельства таковы, что я вынужден покинуть службу… Я… Я должен срочно уехать. А князю я все объясню в п-письме.
Да-да! Написать обо всем Долгорукому. Пусть хоть кто-то узнает подоплеку этой страшной и неприглядной истории.
– Чего зря бумагу переводить? – добродушно пожал плечами Ведищев. – Обстоятельства ваши его сиятельству преотлично известны. Поедемте, самолично все и обскажете. И про убивца этого, чтоб ему в геенне сгореть, и про то, как вас полицмейстер-иуда обманул.
Эраст Петрович задохнулся:
– Но… но каким образом?! Откуда вам все известно?
– Имеем свои возможности, – туманно ответил камердинер. – Про сегодняшнее ваше дело узнали заблаговременно. Я и человечка своего послал – посмотреть, чего будет. Не заприметили там? Такой в картузе, пьяным прикидывался. Он вообще-то трезвейшего поведения, в рот не берет, даже на пасху не разговляется. За то и держу: Он и сообщил, что вы велели извозчику на Брянский ехать. Ох, насилу я за вами поспел. А отыскал просто промыслом Божьим. Хорошо, вашего косоглазого в буфете усмотрел, а то бегай тут по всем вагонам. Мне, поди, не двадцать лет, как вам, сударь.
– Но известно ли его сиятельству… что здесь дело особенно" тонкости?
– Нет тут никакой тонкости, и дело самое простое, полицейское, – отрезал Ведищев. – Вы договорились с полицмейстером подозрительного человека заарестовать, мошенника, который себя за рязанского купца выдавал. Говорят, почтеннейший человек – настоящий Клонов-то, семи пудов весу. Караченцев, дурья башка, время перепутал и пришлось вам самому жизнью своей рисковать. Жалко, не вышло злодея живьем взять. Теперь не узнаем, какой у него умысел был. Ну, хорошо хоть вы, батюшка, живой да здоровый. Его сиятельство уж все как есть в Питер отписал, самому государю. А дальше ясно: полицмейстера за дурость в шею погонят, назначат нового, ну а вашему высокоблагородию награждение выйдет. И очень просто.
– Очень п-просто? – переспросил Эраст Петрович, пытливо глядя в выцветшие глазки старика.
– Куда проще. Или еще чего было?
– …Нет, больше ничего не было, – немного подумав, ответил Фандорин.
– Ну вот видите. Ишь, какой портфельчик-то у вас. Хорошая вещь. Поди, иностранной работы?
– Портфель не мой, – встрепенулся коллежский асессор (никакой не бывший, а самый что ни есть действительный). – Собираюсь в городскую Думу переслать. Крупное пожертвование от анонимного дарителя, на завершение устройства Храма.
– И сильно крупное? – внимательно взглянул на молодого человека камердинер.
– Почти миллион рублей.
Ведищев одобрительно кивнул.
– То-то Владимиру Андреичу радость. Покончим наконец с Храмом, будь он неладен. Хватит из городской казны деньги тянуть. – Он истово закрестился. – Ох, не перевелись на Руси благодетели, дай им Бог здоровьичка, а когда помрут – мирного успокоения.
Недокрестившись, Фрол Григорьевич вдруг спохватился, замахал руками:
– Едем, Эраст Петрович, едем, батюшка. Его сиятельство сказали, что без вас завтракать не сядут. А у них режим – в полдевятого надо кашку кушать. На площади губернаторская карета ждет, вмиг домчим. Об азиате вашем не беспокойтесь, я его к себе заберу, сами-то мы тоже еще не завтракамши. У меня вчерашних штец с потрошками целый чугунок – больно хороши. А бублики эти выкинем – нечего тестом-то напираться, одно пучение живота.
Фандорин сочувственно посмотрел на Масу, который, раздувая ноздри, блаженно принюхивался к аромату из кулька. Беднягу ждало тяжкое испытание.

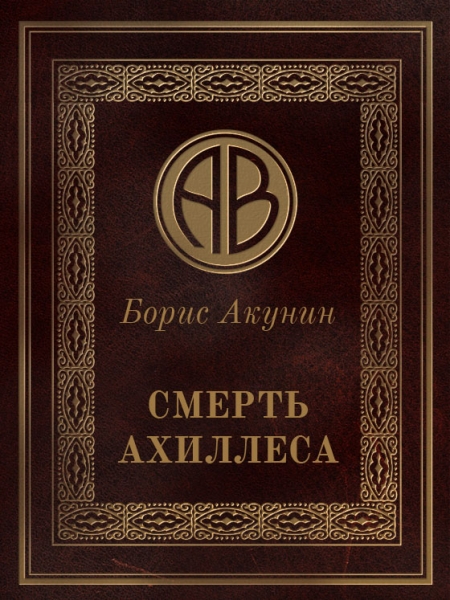

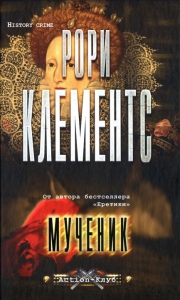

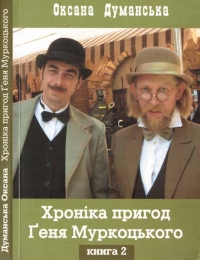



Комментарии к книге «Смерть Ахиллеса», Борис Акунин
Всего 0 комментариев