Пролог
Шампанское пенилось и выплёскивалось из раскрытого рояля.
– Господа, эт-то штор-р-р-м!!! – взревел Андрон Панкратов, купец первой гильдии, вращая налитыми кровью глазами, и стал дуть на пену, раздувая красные лоснящиеся щёки.
– Хозяин, а игде рыба-то??? – завопил цыганского вида купчик, опрокидывая рюмку водки.
– Будет вам рыба-с, господа, – устало отвечал хозяин ресторации, радостно подсчитывая в уме, сколько заработает его заведение на этом купеческом гулянии.
– А что за рыба? – спрашивали захмелевшие посетители, сгрудившись вокруг наполненного шампанским рояля.
– Увы, для наших сомов и осетров места в рояле мало, а потому, изволите видеть, кильки да сардинки, в основном-с.
Наконец, пена сошла, и в золоте безжалостно загубленного вина появились мелкие рыбёшки. Рёв какого-то звериного восторга приветствовал это.
– Хозяин, хлеба подай! Прикармливать их будем!!! – заорал кто-то.
Немедля подали хлеб, и бородатые здоровые мужики, купцы всех гильдий, веселясь под стать малым детям, начали крошить его в шампанское.
– Эх, гулять-колотить! А ну, как, господа, махнуть бы таперича по Волге-матушке! Как пращуры наши, на строгах… – пьяно крикнул молодой купец с рыжеватой бородой, комкая в руках блин вместо салфетки.
– Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Востроносые челны!.. – забасил Илья Давыдович Докукин, богатырь двухметрового роста, известный на всю Москву купеческий сын, прожигавший отцовское наследство.
– Ох, Илюха, тебе б в певчие церковные, Господу нашему славу петь – цены бы не было! Слыхал я, быдто сам иерей хвалил тебя? Вот, на Знаменке дьякон один есть: так у него голосище – ох-ох-ох! Стены Божиего храма сотрясаются! От такого все бесы прочь прячутся, в самое что ни на есть пекло!
– Гулять-колотить! По что ж ты, Илюша, примолк? Потешь душу!
– Волга-Волга, мать родная,
Волга русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака!
– Ох, сукин сын! – рявкнул Панкратов, утирая слёзы. – Всю душу вынул и перевернул… А, вот, прав был Разин! Так с ними, с бабами, и надо! За шиворот да за борт её! И учить курв кулаком почаще, чтобы мужу слова поперёк сказать не смели!
– Чай, кабы дочку твою кто разобидел, ты б, Игнатьич, кулаком бы тогда шельмеца поучил!
– Дочь – дело другое, – Панкратов стукнул кулаком по столу. – Мою дочь только сам я, Андрон Панкратов, учить право имею! Потому как моя собственность! Моя кровь!
– Небось, за князя какого отдать её думку имеешь?
– А и не всякий князь Груши моей стоит! Краше девки на всю Москву нонече не сыскать! Зря, что ли, учителей я ей водил?! Чтоб, аки благородная, выступать могла. И любой графиньке-шишиморе моя Груша нос утрёт!
– Эк понесло-то тебя, Игнатьич, эк понесло! – ухмыльнулся Козьма Русаков.
– Молчи, шельма энтакая! Аль я, по-твоему, не ведаю, что сынок твой под Грушку мою клиношки подбивает? Да, вот, выкусите! – Панкратов показал всем кукиш.
– А, чёрт с тобой, старый ты рассатраповский сатрап! – махнул рукой Русаков. – Давай лучше ещё по чарочке!
– И то верно!
Между тем, Илья, пошатываясь, подошёл к сидящему в углу скромно одетому молодому ещё человеку со светло-русой бородой и длинными до плеч волосами.
– Ты чего, кимряк, не весел? – прорычал он. – Аль не нравится тебе наша компания?
Кимряк покрутил ус и отозвался:
– Компания, как компания. Не хуже и не лучше других. А веселье ваше и впрямь не по мне.
– Это оттого, что выпил ты мало! – назидательно произнёс Докукин. – Это же и неприлично прямо, и нам всем обида. Сидишь здесь, что филин мрачный, трезвый почти да только глазами на нас зыркаешь.
– Напиваться пьяным желания не имею и удовольствия в том не нахожу. Слушай, Илья, зачем ты, вообще, меня потащил с собою? Я не дюже богат да и на Москве человек новый. Окромя Ямского нашего приказу и не видал толком ничего…
– Так для того и потащил, Прошка, чтоб повидал! Эх, Прошка, экой ты, право, сапог! Вот, как есть сапог! Все вы, что ли, кимряки, такие? Окромя своих сапог ничего не знаете?
– Разные есть, – отозвался Прохор. – Дело своё мы справно знаем: то истинная правда. Но отчего же только его? У нас и весьма учёные люди найдутся. Кабы все мы сапоги были, так разве матушка Екатерина едино нам, кимрякам, вольность бы пожаловала? А куролесить да опиваться до безобразия полного – так то большого ума не требует.
– За последние слова твои не оскорбляюсь на тебя нынче только оттого, что пьян и потому добр и весел! А на будущее ты мне попрёков делать не смей и учить меня! Отцовыми поучениями по горло сыт. Довольно!
– Вольному воля, Илья!
– И всё-таки я не уймусь, пока не развеселю тебя! До вина ты не падок… Что ж, полюбуешься на кралей наших.
– Сохрани Господь! Избавь меня от твоих Мимочек и прочего зверинца! Иначе я ей-Богу уйду!
– Не сметь! Я тебя пригласил, как друга своего, а ты меня оскорбить желаешь?! – громыхнул Илья. – Да знаешь, кто будешь после этого?!
– Хорошо-хорошо, я не уйду и дождусь конца вашего веселья, но не неволь меня ни к чему и не пытайся толкнуть в объятья какой-нибудь подлянки. У меня есть невеста, и я люблю её.
– Тьфу на тебя, Прошка… А ещё друг! Для него ж стараешься, а он не ценит! – обиженно буркнул Илья. – Невеста… Где она – невеста-то?
В этот момент хозяин ресторации провозгласил:
– А теперь, господа, попрошу внимания! Настало время для самого экзотического блюда нашего меню, самого сладкого десерта! Шансоньетка с гарниром!
Прохор поморщился, отпил глоток вина, поднял глаза и поперхнулся от увиденного. Четверо половых внесли в зал огромный поднос, на котором среди разнообразного гарнира, самого настоящего, лежала абсолютно голая молодая женщина. Лицо её было сильно накрашено, но Прохор не мог не узнать его… Ещё год назад это лицо преследовало его, как наваждение, не отпускало, манило, сводило с ума.
Прохор Алексеевич Голенищев происходил из семьи потомственных кимрских сапожников, чья обувь славилась прочностью и удобством по всей России. Отец Прохора, человек предприимчивый и не лишённый некоторого образования, бывал за границей, изучая там новые машины, и по возвращении в родные края создал небольшую артель, приобретшую вскорости масштабы целой мануфактуры. Двух сыновей Алексей Алексеевич постарался также в нужных пределах приобщить к наукам. Старший, Фёдор, с ранней молодости взялся помогать отцу в его деле, Прохор же имел к тому меньшую склонность, хотя и отличался добросовестностью во всём, что поручалось ему. Отец, впрочем, не особенно давил на любимого младшего сына, позволяя ему до определённой степени жить по своей охоте. Тем более, что Прохор отличался тихим нравом и богобоязненностью, а потому особых опасений родителю не внушал.
Ещё в отрочестве Прохор подружился с соседской девочкой-сироткой, Мариной, которая жила у тётки, имевшей пятерых родных детей и державшей племянницу в чёрном теле. Тётка Мария Кирилловна была женщиной властной и деспотичной. Даже собственный муж боялся её и оттого считался образцовым семьянином: никогда не смел он ни заглядеться на других женщин, ни напиться пьяным в компании, а в церкви стоял с видом сокрушённым, потупив очи долу. В семье царил прочный и неколебимый матриархат.
Марина с ранних лет отличалась редкой красотой. Красотой не волжской, не русской даже, но какой-то восточной. Прохору казалось, что персиянка, которую бросил за борт Стенька Разин, должна была быть похожа на Марину. Ни дать – ни взять персидская княжна! Будто бы огонь разлит в ней и выхода не находит! Вулкан, а не девка! Чаровница! А ещё у Марины был необычайно сильный и красивый голос. Бывало, сидя на берегу Волги, она заводила ту самую песню, про Стеньку Разина, и голос её разносился, кажется, на несколько вёрст по реке…
Марина уже в четырнадцать лет была писаной красавицей, с которой не могли сравниться и старшие её подруги, уже невесты. Когда плавной поступью проходила она по улице, задорно поглядывая из-под длинных ресниц бархатными, фиалковым глазами, мужчины – от юношей до стариков – провожали её восторженными взглядами, а женщины кривились.
Однако, именно в тот год Марина вдруг сильно изменилась. Она стала печальной, нервной. Казалось, что что-то гнетёт её, гася прежнюю резвость и весёлость. Прохор не раз спрашивал девушку о причинах её грусти, но та упрямо хранила молчание.
Минуло два года. Прохор, коему в ту пору исполнилось лишь восемнадцать, чувствовал, что всё больше привязывается к Марине, так что это уже походило на болезнь. В то время в Кимрах проездом остановился модный в ту пору литератор, колесивший по Волге, дабы написать большую поэму не то о Стеньке Разине, не то ещё о чём-то. Случилось ему увидеть и, главное, услышать красавицу Марину. Литератор сплеснул руками:
– Се маньифик!1 Божественно! Вы же готовая персидская княжна! О, я, быть может, напишу пьесу! Мы сделаем оперу… Да что же вам делать в этой глуши! Ваше место в Москве, в Петербурге! На сцене! На обратном пути я непременно, непременно вернусь за вами! Божественно!
Марина была вне себя от радости:
– Прошенька, представляешь ли ты? Я, Маришка Бояринцева, вдруг выйду на сцену Императорского театра! И мне будут рукоплескать! Какое чудо!
– Ты бы не слишком доверяла этому господину… – заметил Прохор. – Мало ли… Может, пошутил он с тобою…
– Нет, он не мог! Это же известный писатель! И, по всему видать, человек благородный!
Проходили недели, а литератор всё не объявлялся. Марина мрачнела день ото дня, избегала даже Прохора. Неожиданно в какой-то июльский день он получил от неё записку:
«Бесценный мой дружочек Прошенька, голубчик! Я пред тобой виновата, так как вот уже месяц ни за что обижаю тебя, избегая встреч. Прости меня и приходи сегодня вечером на наше место!»
Едва дождавшись вечера, Прохор поспешил к указанному месту, где обычно встречались они в стороне от людских глаз. Сердце замирало от самых разных предчувствий: что сулит встреча это? Прогонит ли навовсе, или наоборот откликнется, наконец, на любовь его?
Марина сидела на берегу и плела венок. Солнце алой полосой догорало за рекой, и дневная духота сменялась ласковой, наполненной ароматом трав, цветов и леса вечерней прохладой. Увидев Прохора, Марина отложила венок и поднялась ему навстречу:
– Здравствуй, Прошенька!
– Здравствуй… Случилось что, персияночка моя ненаглядная?
– Нет, Проша, ничего… Просто увидеть тебя хотела. Ведь слышу же я тоску твою… Не могу не слышать.
Марина подалась вперёд, коснулась тёплыми ладонями плеч Прохора, прильнула к нему взволнованно поднимающейся грудью. Прохор почувствовал, как затягивают его фиалковые её глаза-омуты, от взгляда этого, от прикосновений её его бросило в жар, и по телу разлилась сладкая истома.
– Ты что, Маришенька, ты что? – прошептал он охрипшим вдруг голосом.
– Ничего, голубчик… Милый мой…
На мгновение Прохору сделалось не по себе. Первый раз был он так близок с женщиной. Это волновало и пугало. Влажные губы Марины прильнули к его, пересохшим. Прохор обнял красавицу и почувствовал, как её пальцы расстёгивают на нём рубаху. Ещё несколько мгновений, и его руки ласкали горячее, нежное тело девушки. Уже позднее, вспоминая эту ночь, Прохор заметил, что Марина вела себя уверенно, ничуть не робея… Безошибочное чутьё страстного, неуправляемого женского естества? Или… опыт? Но откуда же такой опыт у шестнадцатилетней девушки? Однако, в ту ночь Прохор не обратил на это внимание, он наслаждался обладанием ею, полным обладанием самой прекрасной женщиной на свете. Когда уже задымалась заря, Прохор в изнеможении шепнул:
– Теперь ты моя, милая персияночка. Только моя.
– А за борт не бросишь меня, как Стенька? – отозвалась она, приникнув к нему тёмнокудрой головой.
– Никогда… Я тебя любить буду. И отцу скажу, что ты моя невеста!
– Голубчик ты мой, – Марина погладила Прохора по русым волосам. – И как же я без тебя буду?..
– Ты со мной будешь… – отозвался Прохор, лаская её.
Он задремал совсем ненадолго, а, когда очнулся, было уже утро, а Марина исчезла куда-то… Домой Прохор вернулся лишь к полудню и там узнал от брата сокрушительное известие:
– Маришка-то твоя с господином литератором сей ночью сбежала!
– Врёшь! – закричал Прохор.
– Охота мне приспела врать тебе! Он же ещё накануне в город приехал. Только уж по-тихому, без шума. Филька ещё подвозил его. А Маришка тётке письмо оставила. Да только, что в нём, от неё недомочься. Говорят, как прочла его, так с нею худо сделалось. Врач приходил, кровь отворял … Кстати, тебе она тоже письмецо оставила.
– Где?!
– Вот, – Фёдор протянул брату запечатанный конверт.
Не помня себя от горя, Прохор взбежал в свою комнату и там дрожащими руками распечатал письмо и прочитал:
«Милый мой голубчик Проша, следовало тебе меня, змею подколодную, утопить… Уезжаю я в Москву с господином литератором, что приехал за мною, как обещал. Не поминай меня лихом и не суди: ты слишком многого обо мне не ведаешь (дай Бог и не узнаешь!), чтобы судить… Прощай! Твоя персияночка».
Прохор взвыл, как раненый зверь, повалился на пол и зарыдал. Целый год Прохор оправлялся от постигшего его горя и вызванной им болезни, после чего отец, поругавшись на то, «какая нонеча молодёжь шибко изнеженная пошла», отправил его за границу. Оттуда Прохор вернулся уже вполне здоровым. Пережитое казалось ему теперь каким-то наваждением, временным помешательством, почти постыдным. «Может, в самом деле, ведьмой она была да приворожила так?» – мелькала иногда мысль. Иногда Марина снилась ему, но вскоре сны эти стали реже и, наконец, вовсе прекратились.
В то время Прохор сошёлся с милой и доброй девушкой, семнадцатилетней Варей, дочерью живущего в соседнем городе близкого друга своего отца. Прохор и прежде знавал её, но не обращал внимания, увлечённый одной лишь Мариной. К тому же Варенька выглядела в то время ещё совсем ребёнком. Даже теперь в её тонкой фигурке сохранялась ещё какая-то угловатость, впрочем, добавлявшая ей хрупкости и невинности. Варя не была красавицей, но отличалась кротостью, добротой и скромностью. Эта нежная девушка, похожая на нераспустившийся ещё бутон, очень полюбилась Прохору. Он стал бывать у неё часто и, наконец, сделал ей предложение. После помолвки отец отправил младшего сына по делам в Москву, так как Фёдор имел неосторожность сломать ногу и ехать не мог.
Всего ожидал Прохор от Москвы, но только не такой чудовищной встречи! От вида обнажённой Марины, лежащей на подносе с гарниром, вызывающей хохот пьяных купцов, кровь бросилась ему в голову. Прохору хотелось убежать, провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть этого зрелища. Как сквозь туман долетал до него торжественный голос хозяина:
– Поскольку наше изысканное блюдо весьма редко-с, то отведать его сможет только тот, у кого на сие удовольствие хватит средств! Аукцион, господа! Делайте ваши ставки!
– Тысячу рублей! Теперь же! – крикнул рыжебородый купчик.
– Тысячу пятьсот! – рявкнул Панкратов.
– Две! – подал голос Русаков, откупоривая бутылку шампанского.
– За такое вкусное блюдо и двух не жалко!
– Полакомимся!
– Две с половиною даю!
– Две с половиной раз! – поднял руку хозяин.
Прохор скомкал салфетку, опрокинул рюмку водки и, поднявшись, сказал:
– Три тысячи!
Докукин удивлённо поглядел на приятеля:
– Эхма! Вот те и смиренник! Не зря говорят в тихом омуте черти водятся… Но ты прав, дружище: блюдо-то и впрямь скусное, и приправ не надо… Я сам думал силёнки попробовать, но, раз уж тебя так разобрало, то уступаю. Если не хватит, так я за тебя доплачу! Мне моих Зизи и Лили, и Жозефины достанет…
– Четыре! – громыхнул Панкратов, разрубая воздух жилистой рукой.
– Игнатьич, оставь дочке на приданное! – осклабился Русаков.
– Не про твою честь ейное приданное! Захочу – и сам растрачу теперь же! Моё добро! А ты не лезь! Что, кишка тонка – пять тысяч за энто блюдо предложить?
– Отчего ж, Игнатьич? У меня дочерей, слава Господу, за неименьем! Пять!
– Сволочь! – зарычал Панкратов, хватая Русакова за грудки.
– Господа! Господа! Прошу не устраивать в нашем заведении мордобитья!
Подскочившие половые проворно разняли соперников.
– Самодур! – визгливо крикнул Русаков.
– Шесть тысяч! – выдохнул Прохор.
– Шесть тысяч – раз… Шесть тысяч – два… Шесть тысяч – три! Продано! Вы теперь уплотите-с или векселёчек-с? – хозяин любезно улыбнулся Прохору.
– Он теперь уплотит! – ответил Илья, вытаскивая из-за пазухи пачку банкнот и швыряя их хозяину.
– Премного благодарен-с! Господину будет угодно-с здесь угощаться, или же попотчеваться изысканным блюдом где-нибудь в ином месте-с?
– В ином! Наряди энту экзотическую селёдку в шубу, усади в мои сани, а господин уж сам ея свезёт, куды потребно. Понял, али нет?
– Как не понять! В наилучшем виде-с всё сей же час будет! – хозяин раскланялся и исчез вместе с «блюдом» и державшими его половыми.
– Илья, я благодарен тебе, конечно, но ведь я бы мог и вексель подписать… – начал Прохор.
– Какой, черти тебя забери, вексель?! За мой счёт гуляем сегодня! У меня именины!
– Какие именины? Они были у тебя, как мне помнится…
– Не важно! И нуден же ты, Прошка! У русского человека именины тогда, когда они сердцу евонному потребны. А моё сердце всегда их требует! Масленицу опять же спроваживаем! Веселись, народ православный, гуляй во все тяжкие, пей до полного упокоя! Эхма! Да чего объяснять тебе!
– Деньги я верну тебе, Илья.
– Не смей! – Докукин показал свой громадный кулак. – Не смей обижать друга! А то я ить и прибить могу. Знаешь ты хоть, душа пропащая, куда везти свой трофей?
– Не знаю… – признался Прохор.
– В Святые номера свезёшь! Что на Трубной! Там скажешь, что от меня: меня там все знают – лучший номер дадут. Куда ехать, Гаврила мой знает. И, смотри там, денег никому не давай. А то оне, твою невинность почуяв, вмиг обнаглеют и ободрать решат. Скажешь, Илья Докукин за всё платит!
– Илья…
– После сочтёмся! Ну, брат, с Богом! Езжай уж, а не то «блюдо» остынет. Эхма! Завидую, брат, если честно! – Докукин крепко обнял приятеля, и Прохор покинул ресторацию, провожаемый завистливыми и недружелюбными взглядами.
Сани уже стояли наготове, тройка быстрых коней, коими безумно гордился Докукин, нетерпеливо били копытами о снег, фыркали, потряхивали гривами. В санях сидела, укутавшись в меховое манто, Марина. Прохор закусил губу и, сев с нею рядом, велел ямщику:
– Трогай, Гаврила. Знаешь, небось, куда?
– Как не знать, барин! – отозвался ямщик. – Н-но, милые! Балуйтесь!
Кони сорвались с места, в лицо ударил холодный ветер, смешанный с редким снегом. Тускло освещали московские улицы масляные фонари, изредка проносились мимо чужие сани: богатые и победнее, но все празднично убранные, во всех почти – хмельные, весёлые люди, шумящие, поющие. Провожали зиму, которая, не спешила уходить и создавала иллюзию своей вечности, неизменности, навсегдашности. До сожжения Масленицы оставалось лишь несколько дней. После надлежало всем примириться, притихнуть, смирить страсти и молиться, приготовляясь к Воскресению Христову. И в эти последние перед Великим Постом дни гулял народ, будто в последний раз.
Ехали всю дорогу молча. В заведении, прозванном Святыми номерами, расположенном при ресторане «Эрмитаж», гостей встретили, как родных:
– От Ильи Давыдыча? Всегда рады-с! Пожалуйте-с!
Пышная дама провела их в просторный номер.
– Будут ли какие-нибудь указания-с? – осведомилась она у Прохора.
– Нет-нет, – покачал головой тот. – Одна просьба: не беспокоить.
– Известное дело-с! Как можно-с! – закивала дама с понимающим видом и исчезла.
Прохор вошёл в комнату и запер дверь на ключ. Марина с каменным лицом лежала на постели. Увидев его, она распахнула свой балахон (более под шубою ничего не оказалось), обнажив белое, красивое тело, и усмехнулась:
– Ну, милый, давай. Иди ко мне…
Прохор сплюнул:
– Дура! Прикройся немедленно!
Марина покорно запахнула балахон, села на постели, обхватила руками ноги и, положив голову на колени, исподлобья взглянула на Прохора. Он же закурил папиросу, нервно прошёлся по комнате и, наконец, опустился на стул.
– Что ж ты сидишь, Проша? Утро уж скоро, – заметила Марина. – Для чего ж ты шесть тысяч-то на меня извёл? Отец-то, поди, осерчает.
– Как ты могла? – вскрикнул Прохор. – Как ты до такого дойти могла?! За меня замуж не пошла, а здесь… Здесь…
Марина поправила разметавшиеся чёрные волосы:
– Твоё счастье, что замуж за тебя я не пошла. Зачем тебе такая жена, голубчик Проша? Извела бы тебя и только…
– А как же твой литератор? Театр?
– Театр… – Марина рассмеялась. – Вот, мой театр… Видел ты… А литератор… В любви клялся, букетами да духами задаривал. Привёз в Москву, квартирку снял. Вначале жил со мною. Потом – наведывался частенько. Помилуемся с ним ночку-другую, а с тем и уйдёт… Потом – реже… А потом – вовсе исчез. Денег у меня не осталось. Из квартиры съехать пришлось… Так и началось всё: один, другой, третий… А в «Саратове» я шансоньеткой числюсь. Жемчужина Персии! Песни пою, непристойные танцы отплясываю и…
– Замолчи! – Прохор вскочил со стула. – Я не желаю слушать! Я не верю, чтобы ты такой стать могла! Скажи, почему ты не вернулась домой?
– Домой?! – Марина привстала на постели. – Это к извергу-то???
– Кого ты имеешь ввиду?
– А ты так ничего и не знаешь? Что ж, тётя Маша ничем раскрывшейся тайны не выдала?
– Мария Кирилловна скончалась. С ней удар сделался после твоего побега. А муж её пьёт теперь горькую… С тоски по ней…
– Надо же… – Марина опустила голову. – Что ж, Бог мне свидетель, я не желала её смерти… Я лишь хотела ему отомстить…
– Да кому же, наконец?
– А дядьке моему, Тимофею Трофимычу! – на лице Марины выступили пятна. – Вина нет?
– Нет!
– Жаль!
– Да чем же тебя Тимофей Трофимович-то досадил? Он ведь совершенно безобидный человек. Тише его и нет никого во всём городе!
– Уж конечно! На людях он тихий был. Тётки смертельно боялся, вот, и виду не казал… Развратник-тихушник… Ничтожество… На стороне развлекаться – узнают, выдадут. Зачем рисковать? Когда в собственном доме жёнина племянница-красавица подрастает, сиротка, за которую вступиться некому!
Прохор побледнел:
– Что ты хочешь сказать?..
– Да ты не волнуйся, Прохор Алексеич! Ты слушай, слушай! Всю правду слушай! Ей я эту правду в письме написала! Она и померла-то, её узнавши и не выдержав. Так и ты узнай! Мне четырнадцать годков тогда стукнуло… Дядька-то мой уж и прежде шибко ласков со мною был, когда тётки поблизости не было. То платочек подарит, то конфету вкусную, да поглядывал всё, аки пёс голодный на кость. Тётка частенько по делам уезжала. Так, вот, он момент и улучил… Дома никого не было. Подошёл он ко мне, улыбается, погладил так ласково-ласково, а потом рот мне ладонью загородил и в амбар поволок, а там уж натешился вволю… Потом предупредил, что, коли я рот раскрою, так он мне его навсегда затворит, да добавил, что всё одно мне никто не поверит. Денег дал… Я понадеялась было, что на том и отстанет он. Но не тут-то было! С этого раза он сам не свой сделался. Глянет на меня, и глаза так и загорятся. А, чуть тётка в отъезд, так уж он ко мне. Я и не противилась больше. Об одном только мечтала: отомстить однажды и ему, и тётке. Ей я мстила уже тем, что муженёк её со мною ей изменял. Но до чего ж мерзко-то! Как начнёт он руками своими холодными теребить меня, так и жить мне не хотелось! А ещё словечки ласковые на ухо шепчет… Мерзость-то! И деньги после исправно оставлял: «Купи себе, Маринушка, чего твоей душеньке угодно!» Сказать кому – стыдно было. От него, от стыда этого, и сбежала! Ах, Проша, да я от него не то что с литератором, я бы с бродягой последним дёру дала! И не по ней он теперь тоскует! А по мне! Сколько раз говорил, что её придушил бы да со мною бы открыто жить стал, потому что меня лучше в целом свете нет! И не врал! Мне – не врал! Сукин сын…
Прохор со стоном закрыл лицо руками:
– Боже мой, как же это всё страшно… Бедная, несчастная… – слёзы потекли из его глаз.
Марина с удивлением посмотрела на него, подошла осторожно:
– Что ты, что ты, голубчик? Прости меня… Не хотела я огорчить тебя… Единственный ты, кого бы я огорчить не хотела… Но о ком же ты сокрушаешься так? Да взгляни же на меня! Кто я теперь! Дрянь! Зря мы с тобою встретились, зря привёз ты меня сюда. Пойду я лучше…
– Нет, – Прохор крепко схватил Марину за руку. – Ещё ничего не потеряно. Всё ещё можно поправить! По крайней мере, многое!
– Бог с тобой, Прохор Алексеич! – Марина расхохоталась. – Может, ты ещё и замуж позовёшь? Может, ты ещё и любишь меня?!
– Не позову, – ответил Прохор. – И… не люблю. Я был болен после твоего побега. Но, отболев раз, я уже не заболею вновь. Я люблю другую женщину, и скоро она станет моей женой. Но тебя я не оставлю и помогу тебе начать новую жизнь.
– Зачем?! – вскрикнула Марина. – Оставь меня! Не воображай меня страдалицей и невинной жертвой! Была б такой – в Волге бы утопилась! В монастырь бы ушла! А ведь я – не ушла! Кому ты помогать собрался, голубчик? Да знаешь ли ты, со сколькими я постель свою делила? С купцами, с писателями, с дворянами – кого только не было! А ты мне помогать собрался!
– Прекрати! Я сниму для тебя комнату. Сначала буду помогать тебе деньгами, пока мы не найдём тебе честного заработка. Ты справишься, я уверен в этом!
– Честного заработка? Проша, посмотри на меня внимательно. Неужели ты думаешь, что я ещё способна жить, как честная женщина?
– Способна! И я всё сделаю для этого! И не пытайся спорить со мной. Однажды ты уже решила всё сама – и что вышло? А теперь решу я! – решительно ответил Прохор.
– А ты изменился… На своего отца похож стал… Только добрее пока. И наивнее.
За окном рассвело. Прохор докурил очередную папиросу и сказал:
– Собирайся, Марина, и поедем.
– Куда?
– Увидишь.
Покинув Святые номера, Прохор остановил извозчика и велел ему ехать в Замоскворечье. Ранним утром улицы были пустынны, мороз щипал щёки, а в багряных лучах зимнего солнца торжественно горели купола многочисленных московских церквей. Как и накануне ночью, и Прохор, и Марина хранили молчание, переживая в душе каждый свою боль.
***
В последнее время он выходил на улицу с опаской, а шёл с оглядкой, ища мест людных, чтобы в них затеряться. Но они всё-таки выследили его. Зашли с двух сторон, и один тотчас незаметно из-под рукава упёр в бок острый нож.
– Пойдём-ка с нами, Пиковая Дама, тебя Кочегар зело как лицезреть желает! – прохрипел Фомка, дыша в лицо пленнику многодневным перегаром.
– Но я, позвольте, спешу… – неуверенно начал «Пиковая Дама».
– А уж мы-то как поспешаем! А уж Кочегар-то как спешит! Цельный месяц ждёт да ждёт тебя, всё-то спрашивает: куда это наша Пиковая Дама подевалася? С нашими деньгами?! Чего рожу воротишь, гнида? Знаешь, кошка, чьё мясо слопал!
– Да разве ж я обману? Я отдам… Клянусь чем угодно!
– А про то ты Кочегару и будешь трезвонить. А нам – без надобности. А уж Кочегар решит – придавить тебя да прикопать, али обождать, поколиче ты нам долг возвернёшь!
– Но я, в самом деле, спешу…
– А ты не спеши, родной, – усмехнулся Калач, щуря единственный глаз. – Куда нам спешить-то? На нары да на тот свет мы завсегда успеем! Ну, пошёл живее!
– Куда вы меня ведёте? – сдавленно спросил «Пиковая Дама».
– На мельницу… – буркнул Фомка.
В ближайшей подворотне их дожидалась коляска, запряжённая понурой кобылкой. Фомка и Калач сели по бокам от пленника, и коляска неспешно покатила вперёд, петляя по переулкам и дворам так, точно пассажиры опасались слежки и заметали следы.
«Мельница» располагалась в так называемой Волчьей долине, на Трубном бульваре, совсем недалеко от сияющего куполами Храма Христа Спасителя. Оставалось лишь удивляться, что столь мрачное место тесно соседствовало со святыней. Волчью долину порядочные обыватели старались обходить стороной, зная наверное, какого рода народ там обитает. Совсем недавно здесь из Москвы-реки выловлен был труп некого присяжного поверенного. Несчастный был зарезан и сброшен в воду. Полиция прочесала окрестности, произвела облаву в притонах и на подворьях, но убийц так и не нашли. Всё знающие торговцы с Хитрова рынка толковали, что убитый имел большую слабость к игре, проиграл много, а долг не вернул, за что его и порешили…
«Мельницей» на жаргоне именовалась квартира, где собирались карточные шулеры. Туда же приходили азартные и состоятельные игроки, и начиналась игра, длящаяся иной раз несколько суток кряду. Играли ослеплённо, проигрывали целые состояния, благополучно оседавшие в карманах «гостеприимных» хозяев. И снова приходили, и уходили нищими… Известно было, что даже весьма знатный государственный муж оставил на «мельнице» весьма крупную сумму казённых денег, после чего вынужден был застрелиться. А некий граф Ш* после проигрыша даже обратился в полицию. Впрочем, обращение это особых последствий не имело, так как граф не имел понятия, где располагалась злополучная квартира. Дело в том, что желавших искусить судьбу на «мельницу» привозили на извозчике с завязанными глазами, предварительно долго возя по городу, чтобы создать иллюзию дальнего пути. Поэтому на вопрос сотрудника сыскной полиции:
– Где же, граф, находится квартира, на которой вас обчистили? – растерянный Ш* пролепетал:
– Не знаю… Полагаю, где-то на окраине Москвы, ежели судить по тому, сколь долго мы добирались…
– Да зачем же вы поехали туда? Ведь, яснее дня Божьего, что там шулера! – недоумевал полицейский.
– Сам себе удивляюсь…
На этот вопрос не смог бы ответить ни один из обчищенных на «мельнице». Это была какая-то непостижимая загадка человеческой души: желание пощекотать нервы, надежда обмануть не шулера даже (мелко для широты нашей!), но через него больше – самого отца всякой лжи, поиграть с чёртом. Чёрт манил. К чёрту шли. Чёртом обольщались. С чёртом играли. Чёрту проигрывали.
Верховодил на «мельнице» некто Кочегар. Видом своим он более всего напоминал именно чёрта: чёрные кучерявые волосы, смуглое до черноты лицо, на котором сияли белки выпуклых глаз и на удивление белые ровные зубы. Кочегар был красив. Носил он алую рубаху и золотое кольцо в ухе, что добавляло ему схожести с цыганами. Сам Кочегар любил прихвастнуть, что родная мать его была цыганкой-ведьмой. И этому верилось…
У Кочегара была своя свита. В карты она не играла, а лишь верно служила своему хозяину. Свиту составляли четверо человек: Калач, Фомка, Бубен и Юла. Кривой Калач со страшным шрамом через всё лицо прозывался ещё двуликим Янусом, так как к тем, к кому благоволил, поворачивался не изуродованной половиной лица, отличавшейся изрядным благообразием, а тех, кого не любил, пугал страшной другой половиной. Будто бы два разных человека. Фомка, широкоплечий гигант, с огромными руками, более похожими на медвежьи лапы, был вторым в иерархии свиты. Если Калач был другом и даже советником Кочегара, то Фомке отводилось роль охранника, физической силы. Бубен же производил впечатление шута: тощий, с непропорционально крупной головой, он одним видом своим уже вызывал насмешку. Зубов у Бубена не было: выбили. Потому, говоря, он чудовищно шепелявил и брызгал слюной. Его можно было ударить, и это воспринималось им, как само собой разумеющееся. За то и прозвали его вначале Барабаном, а затем – Бубном. Юла был шустрым и сметливым подростком с весёлыми глазами и коротко остриженной головой.
– Меня прежде за волосы всё дворники таскали, а так я и обкорнался: выкусите теперь! – говорил он, поглаживая гладкий череп.
Это был паж хозяина «мельницы».
А ещё у хозяина была хозяйка… Чернобровая красавица, будто бы только что сошедшая со страниц Ветхого Завета. Она ходила плавно, как кошка, расчёсывая густые, вьющиеся рыжие волосы и поглядывая из-под ресниц зелёными кошачьими же глазами. Кочегар звал её «Дивушкой». Свита (в глаза) – Юдифью, за глаза – «кочегаровой мамошкой».
Сама «мельница» представляла собой просторную комнату с плотно зашторенными окнами. Посреди неё стоял стол, за которым играли и пили горькое вино. Сам хозяин пил мало, а гости, чем больше проигрывали, тем больше пили. На столе горели несколько свечей, освещавших игру, но оставлявших в потёмках остальную комнату. Кочегар садился во главе стола. Позади него располагался Калач, отбивая своим уродством желание игроков смотреть в сторону хозяина, улыбался насмешливо. Фомка становился в дверях и застывал, точно изваяние. О чём-то толковали, подчас тузя друг друга, Бубен и Юла. А на стоявшем у стены диване сидела хозяйка и поглаживала смуглой рукой лежавшую у неё на коленях чёрную, желтоглазую кошку.
Первое, что приходило на ум гостю «мельницы»: дантевское «Оставь надежду всяк сюда входящий». Это было самое настоящее царство Аида, преисподняя. А в ней – сам отец лжи со своей свитой. Это пугало, но и влекло, и завораживало, как всё тайное и… страшное.
Первый раз «Пиковая Дама» попал на «мельницу» за компанию со своим другом, которого Кочегар называл «Царевичем». «Царевич» был аристократом до мозга костей, от кончиков светлых волос до ногтей пальцев ног. Глядя на него, «Пиковая Дама» умирал от восхищения и зависти. Никто не имел такой царственной стати, такого гордого профиля, такой осанки, походки, никто не умел с таким вкусом носить дорогие костюмы! А этот белый бурнус, так идущий к нему! А личный экипаж… А ещё у «Царевича» была знатная фамилия. И деньги! Большие! Их хватало на скачки и театры, на женщин и на рестораны, на поездки заграницу и игру… Счастливчик, баловень судьбы – всё дано ему единым правом рождения! Вокруг «Царевича» всегда вились многочисленные приятели, раболепствующие перед ним, и он купался в этой своей (чем заслуженной?!) славе. Среди них был и «Пиковая Дама», страстно желавший стать похожим на своего кумира, которому поклонялся, стать равным ему, иметь его славу.
Оказавшись тогда на «мельнице» он похолодел от страха, а «Царевич», этот барский сынуля, ничуть не смутился. Он стоял напротив Кочегара, как бог перед сатаной, глядя спокойно и холодно своими необычайно светлыми, почти прозрачными глазами. Кочегар блеснул угольками глаз и пригласил гостей садиться. Игра началась. «Царевич» вина пить не стал. Он играл спокойно, уверенно и… выиграл! Это потрясло даже свиту Кочегара. Но тот лишь улыбнулся своей улыбкой – волчьим оскалом:
– С вами, ваше сиятельство, играть, как у нас заведено, негоже. Вы – равный. У вас все карты на руках, как и у меня. Я в вас ещё, как вошли вы, равного узнал. А с равными должно играть честно. Я с вами, как с царём, играл. И, как царю, проиграл. Но более сюда не приходите. Царям на «мельнице» делать нечего.
«Царевич» учтиво раскланялся со всеми присутствующими, Калач завязал ему глаза и увёл. Следом вывели и «Пиковую Даму».
«Пиковой Дамой» окрестил его, разумеется, Кочегар. На вопрос, почему, лукаво ухмыльнулся, тасуя карты:
– На короля ты, шурыга-мурыга, не тянешь, не взыщи. Ты, мил человек, на даму похожий. Лицо у тебя гладкое, тело белое. Прямо дева красная, а не мужик! А пиковая, потому как на червовую, тоже не пойдёшь. Червовая – страстная да не злая. Она от широты души гуляет. А у тебя душа чёрная, алчная! Дрянь-душа, одним словом. Потому ты самым нутром своим Пиковая Дама есть!
Вскоре после той игры «Царевич» отбыл за границу, а «Пиковая Дама» заболел навязчивой идеей вновь попасть на «мельницу» и повторить триумф своего кумира. Однажды, прямо у Хитрова рынка заметил он большеголового человека, сильно побитого, и узнал в нём одного из свиты Кочегара – Бубена.
– Что, Бубен, игра у вас на «мельнице» бывает ещё? – спросил его «Пиковая Дама».
– Как не бывать! А тебе что за дело? Али гроши в карманах перегрызлись?
– Не твоё дело! Как мне попасть на «мельницу»?
– Я таких дел решать полномочий не имею. Ты завтрева приходи, с Калачом потолкуй.
На другой день «Пиковая Дама» несколько часов бродил по Хитрову рынку, пока, наконец, к нему не подошёл Калач.
– Ступай за мной, – хрипло сказал он.
А дальше была прогулка по безлюдным улицам, тёмный закоулок, извозчик на старенькой лошадёнке (тоже, видать, из свиты), чёрная повязка на глаза, долгая дорога, тёмная комната и встречный оскал Кочегара.
Денег у «Пиковой Дамы» было немного, и он быстро проиграл их, но остановиться уже не мог. Вскоре он выписал пачку векселей на изрядную сумму и лишь потом спохватился, в какую страшную кабалу загнал себя. В ужасе поглядев на усмехающегося Кочегара и изуродованный профиль Калача, неудачливый игрок произнёс, задыхаясь:
– Но ведь вы передёргивали! Вы шулер!
Кочегар и вся его свита расхохотались.
– Вот шурыга-мурыга! А ты разве ж не ведал, куда идёшь? Зачем шёл? Зачем играл?
– Но мой друг… С ним вы честно играли!
– А ты себя с ним не равняй! Он уж тем, что во всём блеске сюда явился, глаз не отводя и страха не ведая, честь нам оказал. Он – царь! А ты – лакуза пресмыкающаяся! Проваливай отсюда и ищи деньги, чтоб долг мне возвратить!
– Не стану! Векселя вы всё равно к взысканию не предъявите, потому как с законом сами не дружите!
– Догадливый, шурыга-мурыга, а Калач? Догадливый!
Калач наклонился к «Пиковой Даме» и сказал:
– Правильно, лакуза, векселя мы твои нигде не предъявим, чтоб тебя в долговую яму упекли. Мы, коль не уплатишь, тебя сами в яму отправим. В такую, из которой не вылазят. Глубокую выкопаем, чтоб наверняка. Присяжного поверенного-то помнишь, что в речке утонул, а прежде ножичком подавился? Тоже, вот, платить не хотел… Сволочь. Простуда-то она штука коварная. Может легко обойтись, а может к воспалению лёгких привести, да и со святыми упокой!
Как везли его с «мельницы» на рассвете, как высаживали в тёмном закоулке, «Пиковая Дама» помнил смутно. Придя в себя, он решил попытаться скрыться: занял денег у приятеля, уехал в другой город, где пробыл целых три недели, а, когда деньги закончились, осторожно вернулся в Москву, где стал за версту обходить все злачные места, у которых был риск столкнуться со свитой Кочегара. Но она всё-таки отыскала его. И вновь: повязка, долгая дорога, тёмная комната и чёрный Кочегар.
– А, лакуза простуженная! – оскалился он, играя картами. – Наконец-то! Зело не хватает колоде нашей пиковой дамы… Что, гнида, смыться хотел? Думал, после трёх недель отсидки в чужом городе мы не сыщем тебя? Думал, такой дурак Кочегар? Я Бутырскую Академию с отличием закончил! И ребята мои – сплошь глазастые2. Их на мякине не проведёшь! Так что ж, шурыга-мурыга, где деньги-то мои?
«Пиковая Дама» хлопнулся на колени, размазывая по лицу слёзы:
– Ну, где, где же я возьму такую сумму?! Пощадите, не убивайте! Да за что же…
– Заткнись! – рявкнул Кочегар, хрустнув пальцами. – Тьфу! Не человек, а гниль… И зачем это Царевич тебя коленом-то под зад не прогнал? Палками-то? Уж я бы прогнал! Встань, тварь, а то не удержусь да и прибью тебя.
«Пиковая Дама» поднялся, дрожа всем телом. Кочегар поглядел на него с неприкрытым презрением и прошипел:
– Даю тебе три месяца, чтобы со мною рассчитаться. А, если не успеешь или попытаешься обмануть, так гляди: укокаю, как червяка, раздавлю. Понял, шурыга-мурыга?
– Понял… Спасибо… Я постараюсь… Я… – начал «Пиковая Дама», истерично заикаясь.
– Калач, Фомка уберите отсюда это ничтожество! – скомандовал Кочегар.
Калач завязал «Пиковой Даме» глаза, Фомка сгрёб его в охапку и унёс с «мельницы», зло бранясь:
– Был бы я на месте Кочегара, так велел бы тебя отделать, как нашего Бубена намедни в бане! Слышь, Калач, может, всыпать ему?
– Кочегар приказывал?
– Нет…
– Значит, не надо. Ты, пожалуй, ещё и впрямь укокаешь его. Силушки-то в тебе, Фомка, немеренно. А этому, как моя маруха скажет, полумужчинке – много ли надо? Дашь ему щелбана, он и окочурится. Свези его, откель доставили, да возвращайся. А я ноне с вами не поеду: дельце одно есть, поважнее.
– Добро, Калач!
«Самому, что ли, удавиться? – думал «Пиковая Дама» на обратном пути. – Самому всё не так жутко… Жаль, пистолета у меня нет. Из пистолета всего лучше кончать… А, впрочем, на тот свет я ещё, в самом деле, успею… Три месяца есть ещё: может, что и помаклачу…»
***
Солнце разливалось по небу ясной улыбкой, в лучах которой сияли купола Новодевичьего монастыря, красно-белые стены которого дремали под лазурным покровом небес.
Пётр Андреевич Вигель неспешно прогуливался вдоль пруда, бросая крошки хлеба скользящим по его глади уткам. Это был молодой человек весьма привлекательной наружности: высокий, широкоплечий, стройный, со светлыми волосами, причёсанными «по-учёному»3, и большими синими глазами. Губы его были несколько тонки и всегда готовы расплыться в ясной улыбке, в которой сквозила вся радость, всё счастье и непосредственность молодости. Даже новый, безукоризненно сидевший на нём мундир, не придавал ему строгости, тем более, суровости, отличающей сотрудников полицейского ведомства.
Из-за монастырских стен раздался колокольный звон, наполняющий душу чем-то недосягаемо горним. Вигель перекрестился и стал ожидающе смотреть на врата монастыря. Из них выходило много празднично одетого люда. Одной из последних вышла хрупкая девушка в креповом платье и платке, покрывающим её хорошенькую головку на безупречно стройной шейке. Девушка была ещё совсем юной, но в серых, глубоких глазах её уже таилась неуловимая печаль, а улыбка всегда оставалась чуть-чуть грустной. Её нельзя было назвать красавицей, но какая-то неизъяснимая очаровательность, красота внутренняя влекла к ней.
Девушку сопровождали две девочки, весело смеющиеся и носившиеся друг за другом.
Едва завидев её, Вигель пошёл ей навстречу и, поклонившись, произнёс сияюще:
– Здравствуйте, дорогая Ольга Романовна! Я ждал вас! Я хотел видеть вас! Я скучал по вам…
– Полноте, Пётр Андреевич, ведь мы с вами каждый день почитай видимся! Вот лишь давеча вы на лестнице остановили меня, и мы с вами без малого четверть часа разговаривали, – чуть улыбнулась Ольга.
– Всего-навсего! Если б можно было говорить часами!
– Ах, я бы тогда надоела вам глупыми своими разговорами.
– Как можно! Вы совершенство, Ольга Романовна! Кстати, поздравьте меня: отныне я состою на службе! Вот, и мундир пошил, как видите!
– Экий вы важнючка! – ласково сказала Ольга. – Мундир вам идёт, очень идёт. И какая же ваша должность?
– Помощник следователя, Ольга Романовна. О, вы не можете представить, как мне повезло! Я буду помощником самого Николая Степановича Немировского! – в голосе Вигеля зазвучал восторг.
– Немировский? Простите меня великодушно, но я не знаю, кто он.
– Ольга Романовна, это великий сыщик! Он столько громких дел распутал за свою жизнь, сколько я книг не прочёл… Статский советник, редкостный умница, гроза преступного мира! Сквозь огонь видит! Я и мечтать не мог, чтобы начать службу под его шефством! Это невероятная удача! Я нынче счастливейший из людей!
– Я очень рада за вас, голубчик Пётр Андреевич, что вы так счастливы!
– А вы можете сделать меня ещё счастливее, Ольга Романовна.
– Вот как? Каким же образом?
– Не откажите несколько прогуляться со мною!
– Ах, это не совсем удобно…
– Ольга Романовна, да ведь у меня праздник сегодня, а, кроме вас, мне не с кем разделить его! Мы уж год знакомы с вами, дружны, как брат и сестра, и больше даже…
– Не надо!
– Хорошо, не буду. Но прошу вас, не отказывайте мне! Нынче и погода, как нарочно, чудная. Для чего же вам в четырёх стенах сидеть? Хотите, я пред вами на колени встану?
Ольга посмотрела на устремлённые на неё сияющие синие глаза и махнула рукой:
– Что с вами поделаешь, Пётр Андреевич! Гулять, так гулять! Погодите, отправлю лишь сестёр домой. Надя, Лиза! – окликнула она девочек.
Те послушно подбежали к старшей сестре и, малым реверансом поприветствовав Вигеля, приготовились слушать указания.
– Бегите домой. Скажете бабушке, что я решила немного пройтись и буду к обеду, – сказала им Ольга.
– Не опаздывай, Олинька, – ответила Надя. – Ты не забыла, что к нам Сергей Сергеевич будет?
– Конечно, я помню.
– Как это хорошо! Сергей Сергеевич добрый! Он, наверное, нам конфет привезёт, – мечтательно произнесла Лиза.
– Нельзя быть такой корыстной, Лиза, – вздохнула Ольга.
– Но он всегда привозит! Он ведь добрый, правда?
– Правда! Ну, ступайте! И будьте осторожны!
Надя и Лиза убежали. Ольга обернулась к Вигелю и заметила, что лицо его омрачилось.
– Опять Сергей Сергеевич? – вымолвил он.
– А что Сергей Сергеевич? Он хоть не бездушник какой… Жалеет нас. И ведь единственный друг нашей семьи.
– Ольга Романовна! Ну, кого вы обмануть сейчас хотите? Меня ли? Или себя? Ведь вы же знаете, для чего он ходит к вам…
– Знаю, Пётр Андреевич. Так и что же с этого? Если бы не он, то как бы мы жили? Бабушка хворая совсем стала, а сёстры – совсем ещё дети. Сироты… Неужели думаете вы, что по передним ходить сладко? У дальних родственников да старых отцовых друзей, кои забыли его давным-давно, подачки просить, на обеды напрашиваться, чтобы дети сыты были? Мы с бабушкой так и ходили, пока она ходить ещё могла. А что просить у них? Всё, что у камня слёз. Не допросишься… А унижения-то сколько!
– Нож в сердце вы мне, Ольга Романовна, вонзаете. Но послушайте! Я ведь служу теперь! Я вскоре твёрдо на ноги встану и тогда смогу помочь и вам, и вашей семье. А пока всё, чем обладаю я, ваше! Сердце моё – ваше! Ведь у меня никого нет ближе вас! Я ради вас на всё пойду, Ольга Романовна!
– Перестаньте, Пётр Андреевич! – Ольга сорвала с головы платок и глубоко вздохнула. – Я не могу теперь о себе думать, вы знаете это. Я матушке, когда отходила она, обещала, что всё сделаю, чтобы они благополучны были. Пусть уж из трёх сестёр одна несчастною будет, чем всем страдать. Я клятву дала, понимаете ли? Бог миловал, не пришлось мне ни воровать, ни постыдным чем заниматься, так неужто гневить его стану? Положение-то наше беженское, хуже беженского… Грош с копейкою не сталкивается. Сестёр бы учить след, а как? У нас иной день хлеба-то нет… А Сергей Сергеевич единственный заступник наш…
– И, что же, замуж пойдёте за него? – тихо спросил Вигель.
– Не спрашивайте, Пётр Андреевич! Сами вы знаете, что не люб он мне. Знаете, и кто люб…
Вигель порывисто схватили Ольгу за руку:
– Я вас никому ни отдам…
– Оставим это, Пётр Андреевич. Ведь мы с вами гулять собирались… Пойдёмте же!
Вигель взял Ольгу под руку, и они медленно пошли по дороге.
Пётр Андреевич Вигель происходил из остзейских немцев. Род его был дворянский, хотя не очень известный и вконец обедневший. Его отец, в своё время, перебрался в Москву, где женился на дочери отставного полковника Ивченко, и стал работать врачом в одной из больниц, ведя при этом частную практику. Матери своей Пётр не помнил, так как она скончалась, когда ему не было ещё и года. Отец же был суровым, педантичным немцем, человеком весьма жёстким, хотя очень хорошим врачом. Других родственников не было. То есть были где-то в Литве, но с ними не поддерживалось никаких сношений. С ранних лет Пётр пристрастился к чтению и свои карманные деньги тратил, в основном, в книжных рядах, вызволяя очередные творения столь дорогих его сердцу писателей и поэтов. Лишь одного места избегал он – Никольского рынка, где торговали низкопробной литературой, авторов которой Пётр презрительно называл «маралами».
Жили Вигели более чем скромно. Отец отказывал себе во всём, чтобы дать сыну надлежащее образование, вывести его тем самым в люди. Однажды в больнице случилась кража, в которой обвинили близкого друга Вигеля. Тогда Пётр устроил своё расследование и нашёл настоящего вора и саму покражу. С той поры юноша возымел мечту сделаться сыщиком. Отец не очень одобрял этого желания, но, в конце концов, махнул рукой: по крайней мере, делом сын заниматься будет, по крайней мере, не поэт какой-нибудь – бумагомаратель. Поэтов старший Вигель отчего-то особенно не жаловал.
После смерти отца Пётр понял, что оплачивать квартиру, которую тот нанимал, он не в состоянии, и начал подыскивать что-то более дешёвое.
Очень скоро он нашёл маленькую, но приличную квартирку в доме, расположенном недалеко от Новодевичьего монастыря. Денег старик-хозяин брал со своих жильцов немного, и Вигель решил, то лучшего пристанища ему не найти.
Этажом выше проживала семья Зайцевых. Хозяин рассказывал, что господин Зайцев, «из благородных-с», погиб в результате какого-то несчастного случая, а жена его годом позже умерла от чахотки, оставив троих дочерей, две из которых были ещё совсем крохами. Приглядывать за сиротами стала старая бабка, Анна Саввична, а за квартиру будто бы уплачивал некий друг покойного Зайцева.
Со старшей сестрою, Ольгой Романовной, Вигель в первый раз столкнулся на лестнице и в тот же миг понял, что поэты и писатели не лгали, говоря о любви с первого взгляда. Кроткая, хрупкая, чистая – она показалось ему похожей на ангела. Между ними как-то сразу возникла глубокая симпатия и доверительные отношения. Вигель приносил Ольге книги из своей библиотеки, которые она, по бедности, купить не могла, а потом они часами обсуждали прочитанное, и это были самые счастливые мгновения для обоих. Когда этой зимой Ольга захворала, то Пётр, подчас сам оставаясь голодным, покупал ей фрукты и приносил необходимые лекарства (с последними трудностей не было, благодаря некогда спасённому доктору).
Но было огромное препятствие у этой любви. Его скудное материальное положение и её крайняя нищета, помноженная на заботу о младших сёстрах и вконец сдавшей бабушке. А ещё был – благодетель. Сергей Сергеевич Тягаев. Пожилой, хотя ещё интересный мужчина, барин. Барин всею статью, всяким движением, существом своим. Человек состоятельный, он был известен в Москве, как меценат, жертвовавший деньги на монастыри, богадельни, искусство. Тягаев в молодости был близким другом покойного Зайцева и его жены, часто бывал в доме и Олиньку знал с пелёнок. Потом несколько лет жил он в Петербурге, а, когда вернулся, нашёл осиротевшее семейство своего друга в непроходимой нищете. Ольга пыталась было давать уроки, но после того, как в одном доме, куда её пригласили, хозяин попытался ею овладеть, девушка вынуждена была от этого скудного заработка отказаться. Сергей Сергеевич явился настоящим спасителем. Он снял для Зайцевых чистую и приличную квартиру, сам стал находить дома, где Ольга могла бы без опаски давать детям уроки музыки, к коей имела большой талант. В то же время Тягаев делал всё, чтобы его помощь не выглядела унизительным подаянием, зная, как таковое уязвляет. В последнее время Сергей Сергеевич бывал у Зайцевых часто, и однажды Анна Саввична проговорилась Вигелю, что надеется, что благодетель сделает предложение её Олиньке. Одна мысль об этом повергала Петра в отчаяние…
Вигель часто сопровождал Ольгу во время прогулок. Особенно любили они Нескучный сад и Воробьёвы горы. В этот день отправились в Нескучный.
– Ольга Романовна, – сказал Вигель, – позвольте мне ваш портрет теперь нарисовать. Вы необыкновенная нынче, сияющая!
– Бог с вами, Пётр Андреевич, с чего бы мне сиять? Разве оттого, что причастилась, и от того на душе у меня легче стало.
– Вы ангел, Ольга Романовна, – серьёзно произнёс Пётр. – Так позволите?
– Сделайте одолжение, – пожала плечами Ольга, опускаясь на край скамьи.
Вигель опустился неподалёку и, извлекши блокнот и карандаш, принялся за дело.
– Я теперь лишь набросок сделаю, а после уж настоящий портрет, – сказал он.
– Сколько же талантов у вас, милый Пётр Андреевич!
– Перефразируя господина Островского, талант – хорошо, а счастье – лучше, – улыбнулся Вигель.
– Ах, да, чудно, что вы мне напомнили. Ведь я хотела поблагодарить вас за последние номера «Русского Вестника», что вы мне принесли. Я как раз читать окончила.
– Там, кажется, были последние части сочинения графа Толстого «Анна Каренина»?
– Да-да. Только я не читала сразу, как выходили, первые. Я дождалась окончания, а затем лишь прочла всё разом.
– И каково же ваше мнение, Ольга Романовна?
– Сказать по правде, это сочинение мне не очень понравилось, – сказала Ольга.
– Неужели? – поразился Пётр Андреевич. – Да ведь все нахваливают его!
– Может быть, я недостаточно понимаю, но мне не близок образ самой Анны. Я не понимаю, как женщина может оставить родных детей! Это же, это же… Этого ни одна мать не сделает! А, если не мать, то разве же женщина? Нет, женщина – это, прежде всего, мать. А лишь после остальное. Нет, такой женщины я понять не могу.
– Вам не жаль её?
– Жаль. Как жаль всякую заблудшую душу. Но лишь сожаление и может вызывать она. И, наконец, мне непонятно, как женщина может оставить мужа. Пусть и нелюбимого. Вы помните Татьяну, Пётр Андреевич? «Но я другому отдана и буду век ему верна!» Вот, образец женщины! Вот, героиня, которая вызывает уважение и любовь! Самопожертвование, честь, семья, верность… Верность – это же главное качество женщины…
– А вы знаете, Ольга Романовна, вы очень похожи на Татьяну. Столь чисты и искренни… – заметил Вигель, который при фразе «но я другому отдана» ощутил себя на месте отвергаемого Онегина. Неужели же также Ольга отвергнет его самого ради благодетеля Сергея Сергеевича?..
– Когда мама была жива, она любила читать вслух «Евгения Онегина». И образ Татьяны с тех пор впитан мной. А Карениной я принять не могу… Она… эгоистка… А эгоизм – по-моему, самое скверное качество в человеке. Тем более, в женщине, суть которой любовь. Не страсть, а любовь. В самом широком смысле. Милосердие… Вы не согласны со мною?
– О женской сути или о романе графа Толстого?
– О романе.
– Признаюсь, я менее критичен, чем вы, милая Ольга Романовна, но вы правы, потому что говорите, как ангел, а ангел ошибаться не может, – Вигель захлопнул блокнот.
– Уже закончили?
– Да! Благодарю вас, Ольга Романовна!
– Но покажите же!
– Нет, Ольга Романовна! Вы увидите уже готовый портрет! Потерпите!
– Вредный вы человек! – рассмеялась Ольга Романовна. – Однако же, мне нужно возвращаться, иначе бабушка рассердится. Уже скоро обед.
Вигель вздохнул:
– Отчего всё хорошее оканчивается так обидно быстро? Не волнуйтесь, вы не опоздаете: я самого быстрого извозчика возьму, и он домчит нас, как ветер…
– Спасибо вам, Пётр Андреевич, – тихо сказала Ольга. – И за прогулку, и… за всё…
Вигель поднёс руку Ольги к губам и долго не отпускал её, глядя в её серые глаза под чуть приподнятыми, точно удивлёнными, дугами бровей…
Целый месяц Прохор Голенищев пытался вернуть Марину к честной жизни. Он нашёл ей работу швеи, но видел, что работа эта не по нутру строптивой красавице.
– Пальцы исколола, денег кот наплакал! – жаловалась она. – В «Саратове» за один выход…
– Молчи! – кричал Прохор, но всё больше чувствовал, что все его труды бесполезны…
Окончив свои дела и оставив Марине денег, он отбыл в родные края, где встретили его насторожённо, подозрительно, будто осуждали за что-то. Эта загадка разрешилась при встрече с Варей, которая спросила без обиняков:
– Слышала я, Проша, будто ты на Москве с другою слюбился… Верно ли говорят люди?
– Врут, моя лебёдушка.
– Сказывали, будто квартиру нанял для неё и сам к ней наезжаешь… – голос Варвары зазвенел. – Проша, Христом-Богом прошу, не лги мне!
– Не буду лгать, – сказал Прохор твёрдо. – Только и ты выслушай меня и поверь так, как если бы я на исповеди говорил.
– Говори!
– Квартира в Москве, в самом деле, есть. Вернее комната. Снята она для женщины, в судьбе которой я принимаю посильное участие. Когда-то она жила в нашем городе. Мы были дружны с детства…
– И ты… любил её? Любил?
– Любил, Варя. Больше жизни любил, не скрываю. Но любовь эта в прошлом.
– Первая любовь – самая крепкая. Она не проходит!
– Варя, ведь ты обещала верить мне! Я говорю тебе чистую правду, как перед Богом. Этой женщины я больше не люблю.
– Тогда для чего снял ей квартиру и бывал у неё?
– Я встретил её в Москве совершенно случайно. Она находилась в положении отчаянном, и мне сделалось жаль её, как жаль было бы любого близкого некогда человека, попавшего в беду. Она низко пала, потому что люди обошлись с нею очень жестоко. Я не могу уже даже любить её, но не могу и не жалеть! Я захотел помочь ей выбраться из той ужасной ямы, в которую она попала. Неужели за это достоин я осуждения? Разве только больше чести мне было бы в том, что я, увидев некогда дорогого человека, непростительно падшего, посмеялся бы над ним, презрел да отвернулся? Я снял ей комнату, помог деньгами, нашёл честную работу. Вот и всё!
– А она, Проша, любила ли тебя?
– Не знаю, Варя.
– А… был ли ты с нею? Тогда, прежде? – Варвара покраснела и отвела взор.
– Это нескромный вопрос, Варя. Но, если тебе это непременно надо знать, то был. Станешь ли осуждать меня за то? Это было ещё за два года до нашего знакомства.
– А в Москве? В Москве, когда навещал её, ты был с нею?
– Нет, Варя! Более того, и в мыслях своих не имел того. Ни делом, ни помыслом я не согрешил пред тобою. И на том крест целую! – Прохор извлёк из-под рубахи крест, приложился к нему и перекрестился на стоящую в углу икону. – Веришь ли теперь мне?
– Верю, – улыбнулась Варя, обнимая его и прильнув щекою к его груди.
– Одну тебя люблю, никого другого нет и не будет в моём сердце, – прошептал Прохор, целуя невесту.
Через некоторое время он вновь отправился по делам в Москву, где нашёл комнату Марины пустой. Старуха-хозяйка только усмехнулась:
– Ходил к ней какой-то хлыщ. В очках да с бородкою. И, кажется, из состоятельных. Ходил-ходил, а потом и увёз вашу мадаму. Куда уж – не имею понятия. Экая вертихвостка! Чуть хозяин за порог, так она уж и хвост на бок! Вот, девки-то пошли! Ни стыда, ни совести!
К своему удивлению, Прохор почувствовал, что это известие не огорчило его. Более того, вызвало облегчение. Теперь ему хотелось лишь одного: больше никогда ничего не слышать о Марине и не видеть её.
В считанные дни он окончил дела, вернул долг Докукину, отпиравшемуся, но деньги всё-таки взявшему, так как лишь накануне проиграл крупную сумму на скачках, и с лёгким сердцем вернулся в родные Кимры, где вскорости обвенчался с Варварой…
Глава
I
ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ
– Эк, горой вас раздуй! Здесь что, место преступления или лавка мясника?! – зычно рявкнул сотрудник сыскной полиции Василий Романенко, едва переступив порог квартиры убитого ростовщика и тотчас угодив сапогом в лужу крови.
Квартира и впрямь представляла собой зрелище пугающее. Посреди просторной комнаты лежал ещё не старый мужчина, элегантно одетый, с тремя пулевыми ранами в груди. Судя по многочисленным лужам крови, оставленным на полу, убитый умер не сразу, а пытался убежать от убийцы, который, по-видимому, напал на него в соседнем помещении. Заглянув туда, Романенко увидел накрытый на двоих стол с опрокинутым и разбитым вдребезги графином (судя по запаху, в нём была водка) и нетронутой закуской, несколько опрокинутых стульев. В стене обнаружилась небольшая ниша, дверца которой была распахнута. Видимо, это был тайник. На ручке двери, разделявшей помещения, виднелся отчётливый отпечаток окровавленной руки. Очевидно, после первого выстрела несчастный ещё пытался спастись, захлопнуть дверь и не выпустить убийцу, но это ему не удалось. Недалеко от трупа на полу сидела молодая очень красивая женщина с отсутствующим взглядом широко распахнутых глаз, сжимавшая в руках револьвер.
Чтобы вполне оценить картину произошедшего Романенко понадобилось несколько минут, после чего он подозвал к себе квартального надзирателя:
– Докладывай, Кулебяка.
– Да что докладывать, Василь Васильич? Сами, буде, видите, какое тут смертоубийство, – вздохнул Кулебяка, отирая платком сияющую лысину.
– Да уж вижу! – зло бросил Романенко. – Час от часу нелегче! Мало мне Рахманова, так ещё это теперь… Черти бы их драли всех!
– Никак начальство опять лютует, Василь Васильич?
– И его бы тоже черти драли… Вынь да положь им Рахманова! Что я, рожу его, что ли? Он, каторжанин, с пересылки дёру дал, а из меня теперь жилы тянут, будто бы я его упустил… Да ты что ж мне зубы-то заговариваешь? Ты мне давай о нонешнем пой. Кто труп нашёл? Какие свидетели есть? Слышал ли кто выстрелы? Это кто? – Романенко кивнул на неподвижную женщину.
– Это, буде, сожительница покойного Михаила Осипыча Лавровича. Как зовут, неизвестно покуда, так как она, подлянка, молчит. Но, склоняюсь к мнению, что она его и спровадила на тот свет. Мы её так и нашли: с пистолетом в руках. Свидетелей покуда, буде, лишь двое. Дворник тутошный Клим Карпыч да соседка Варвара Антиповна. Желаете сами беседу с ними иметь?
– Да уж, пожалуй, – ответил Романенко, снимая с себя мешковатый сак. – Я, братец, привык сам всё выслушивать и осматривать, а то неспокойно мне. Где с ними потолковать-то можно?
– Так, я полагаю, у Варвары Антиповны. Буде она этажом выше проживает. И дворник там теперь. Я нарочно распорядился, чтобы не искать потом. И доктора пришлю к вам. Он, буде, сюда ещё прежде нас прибыл, так что кое-что рассказать может.
– Так уж пойду возьму их в разделку, – решил Романенко.
– Разрешите и мне с вами, – подал голос молодой человек с ярко синими глазами, который всё это время задумчиво бродил по квартире, пристально рассматривая каждый угол, каждую деталь.
– А с кем имею честь? – полюбопытствовал Василь Васильич.
– Помощник следователя Немировского, титулярный советник Пётр Андреевич Вигель.
– Рад знакомству, – Романенко протянул Вигелю руку. – Василь Васильич Романенко.
– Я о вас слышал, – улыбнулся Вигель, пожимая руку Романенко. – Так что же, не будете возражать против моего присутствия?
– Да с какой же стати? Ваше полное право, – Василь Васильич направился к двери, приговаривая: – Цоп-топ по болоту шёл поп на охоту…
Вигель последовал за ним.
Дверь в квартиру Варвары Антиповны оказалась открытой, и изнутри доносились приглушённые голоса. Хозяйка вместе с дворником пребывали на кухне, сидя за наскоро накрытым столом.
– Хороша у вас наливочка, Варвара Антиповна! – крякнул Клим Карпыч, ставя опорожнённую рюмку на стол.
– Муж-покойник ещё вкуснее приготовлять умел. Мастер был, царствие ему небесное!
Романенко вошёл в кухню, отбросив со лба свои тёмные нестриженные давно волосы, имеющие вид причёски, называемой «а ля мужик».
– Доброго здоровья всем, – сказал он.
– Здорово, ваше благородие! – отозвался дворник.
– И тебе, батюшка, доброго, – ответила хозяйка. – Присаживайтесь. Не хотите ли угоститься?
– Я на службе, благодарю, – Романенко сел за стол.
Следом за ним в кухню вошёл Вигель и примостился в углу, с интересом всматриваясь в лица присутствующих. Дворник покосился на него, затем – на Василь Васильча, и сказал:
– Вот, мы тут соседушку помянуть собрались…
– Не рановато ли поминать-то начал, борода? – нахмурился Романенко. – Ведь мне тебя, чёрта, ещё поспрошать надо, а ты уж глазом стреляешь.
– Господь с вами, ваше благородие! Я ж едва пригубил! Да мне ж, чтобы уж не соображать ничего, надо цельный этот самый графин без закуси употребить, и того мало будет! Так что вы свои вопросы задавайте. Я отвечать готовый.
– Ну, для начала расскажите-ка мне оба всё, что знаете об убиенном нынче Лавровиче.
– Да что рассказывать, ваше благородие? Близко мы его не знавали. В Москву приехал он с год тому назад. Обосновался в нашем доме да ссудную лавку открыл. Сами понимаете, что люди разные к нему шатались. Правда, приходили они не через парадный подъезд, чтобы лишних неудобств не делать, а через чёрный ход. Были и господа солидные, и студенты… Некоторые и частенько заглядывали…
– Михаил Осипыч, царствие ему небесное, человек неплохой был, – продолжила Варвара Антиповна. – У него обычно тихо было. Не пил, не буйствовал, всегда такой вежливый да обходительный был. Даже и не подумаешь, что таким делом занимается… Правда, слабость была у него… Даже не знаю, как сказать…
– Что ты, мать, зарделась-то? Дело-то обычное! До баб был падок покойник, ваше благородие! Весьма даже охоч! Месяц спустя как он приехал да обосновался стала к нему краля ходить. Вся такая пышная да размалёванная! Известного, в общем, сорта краля! Пробы ставить негде. У ней даже голос хриплый такой был…
– А смех такой нахальный! Аж у меня слыхать было! И ругалась непотребно! Сам-то покойник не позволял себе, а, вот, она… Прямо подлянка, прости господи! Стыд один!
– Зато, по всему видать, горяча была, аки конь необъезженный. Скусная.
– Жила она здесь?
– Да нет, батюшка. Господь миловал. Но бывала часто. А иногда и другие бывали…
– А потом куда-то испарилась. А он откель-то новую кралю приволок. Вы её видали, должно. Месяца три назад привёз и поселил у себя.
– Как звать её, не знаете?
– Не знаем, батюшка. Он её всё какими-то ласкательными прозвищами называл, а по имени – никогда. Даже чудно. А, как она появилась, так других он приводить сюда перестал.
– Однажды та шушундра, прежняя-то его приходила, так он её даже в дом не пустил.
– А что она хотела?
– По-моему, денег, батюшка. Ух, как она на него серчала! А он ей так спокойно ответил: «Ты свой отступной уж получила! Больше ни алтына не получишь. А ещё раз заявишься, так я уж устрою, чтобы и положенной уже суммы ты не увидела!» С тем она и ушла, зараза.
– Только, ваше благородие, горбатого, видно, могила исправит. Стал Михал Осипыч из дому часто в последнюю пору отлучаться. Раз был я у родственников. Недели две назад, кажись… Шёл я мимо одной ресторации. Глядь: а из неё выходит наш Михал Осипыч с какой-то барышней, совсем-совсем юной. Извозчика остановил, подсадил её, сам следом сел, приобнял её и велел везти их в Газетный переулок. По всему видать, ваше благородие, что в «Кавказ» он свою кралю новую повёз, в номера тамошние.
– Вот, бесстыдник-то! – покачала головой Варвара Антиповна.
– А нонешняя-то его, видать, про то узнала.
– И какие тут скандалы начались! Батюшки святы! Прежде она такая тихая была! А тут криком кричала на него!
– Что кричала-то?
– Ой, батюшка, глуховата я. Плохо расслышала. Но угрожала! Точно помню. Убить грозилась! Как раз намедни это было.
– У Михайлы Осипыча револьверт был. Так она им завладела. Я вечор в окно заглядываю и вижу такую картину: стоит он посредь комнаты, а она на диване сидит и револьверт на него направляет. То на него наведёт, то к виску своему приставит. Он ей крикнул что-то. Крикнул и убежал. Из дома выбежал, я его спрашиваю: «Михал Осипыч, что ж вы мер не предпримите? А ну, как она, подлянка, в вас пульнёт?» А он мне: «Нет. Никогда она в меня не выстрелит. Это она пугает только». А вечером, когда он вернулся, так она ему в ноги кинулась, ноги обхватила, рыдает! Мол, прости дуру! На том и примирились… Да только, вот, ненадолго хватило…
– Эх, неужто она его? – вздохнула Варвара Антиповна. – Даже не верится. Такая тихая, красивая… Жалко её.
– Что сегодня случилось, можете рассказать что-нибудь?
– С утра я, батюшка, слышала, как они ругались. Он кричал, чтобы она револьверт вернула, а она не отдавала. Потом всё тихо было. А потом я к обедне ушла. Я всякий день в этот час к обедне хожу. Пришла, а тут такое… – старушка всхлипнула и поправила выбившуюся из-под чепца прядь.
– А я вечор употребил крепко… – признался дворник. – У приятеля моего именины были. А я, когда с перепою, так сплю по полдня, как убитый, совершенно бесчувственный.
– Хорош гусь!
– Грешен, ваше благородие!
– И что ж, неужели выстрелов не слыхал?
– Да помстилось во сне… Так, говорю ж, пьян был. Думал, снится… А очнулся я уж, когда вопли услышал. Она так, бедняга, кричала, как зарезанная…
– Сразу после выстрелов?
– Да откуда ж я помнить могу? – пожал плечами дворник. – Услышал я её вопли, кинулся к Михал Осипычу в квартиру. А там он лежит… А она над ним стоит: руки окровавленные, в одной пистолет держит, в лице ни кровинке, вопит. Велела врача звать. А доктор-то у нас недалече живёт: я к нему, а затем к квартальному надзирателю… Вот и всё.
– А вы были в квартире после убийства? – подал голос Вигель.
– Были, батюшка, – кивнула Варвара Антиповна.
– И, что же? Не пропало ли что?
– Да кто ж его знает, ваше благородие! – махнул рукой дворник. – Я у покойника в приятелях не хаживал. Шут его знает, что у него там было…
– Я не совсем уверена… – Варвара Антиповна помялась. – У Михаила Осиповича часы были. Бригет. Золотые. Известной марки. С брильянтом даже. Очень дорогие. Он иногда хвастал ими: уж очень ими покойник дорожил и гордился. Я, правда, на него, убитого, мельком лишь глянула… Страшно ведь! Он там лежит, в крови весь… Но, по-моему, часов не было…
– Так он мог их в другом костюме оставить, – пожал плечами Романенко.
– Разумеется… Я так… На всякий случай.
– Ладно, проверим, что там с часами. Впрочем, картина, по первому абцугу, весьма явственной представляется: убийство из ревности. Банальный случай. Надо только установить личность этой дамы… А что, больше никто в доме не живёт?
– Нет, батюшка. Есть ещё одна квартира, на третьем этаже. Но она уж полгода пустует. А прежде там жил какой-то чиновник с семейством. А потом переехал… Теперь, вот, одна осталась! – Варвара Антиповна утёрла глаза платком.
– Теперь можно помянуть? – спросил Клим Карпыч Романенко.
– Поминай уж! – махнул рукой Василь Васильич, поднимаясь из-за стола. – Пойдёмте с доктором потолкуем, – добавил он, обращаясь к Вигелю.
В дверях квартиры убитого сыщики столкнулись с носилками, на коих выносили труп. Вигель приподнял покрывавшую покойника простыню и со вздохом опустил опять.
Внутри картина переменилась мало. Сожительница Лавровича сидела на том же месте и в той же позе. Только пистолета в её руках уже не было. Его забрал квартальный надзиратель, сидевший тут же за письменным столом и что-то записывающий. У окна стоял высокий сухопарый господин с глубоко посаженными глазами и курил.
– А, Василь Васильич, Петр Андреич, допросили уже? – повернулся всем своим плотным торсом Кулебяка. – Вот, я попросил доктора Жуховцева задержаться. Можете поговорить с ним.
Сухопарый господин поклонился:
– Жуховцев, Иван Аркадьевич. Честно говоря, мне особенно нечего вам сказать… Смерть наступила в результате трёх пулевых ранений, два из которых, по крайней мере, были смертельными. Первая пуля попала в живот и прошла навылет. После этого потерпевший выбежал из той комнаты в эту и попытался захлопнуть дверь, но ему это не удалось. Убийца выстрелил ещё два раза. Последний раз уже в лежащего. Пули попали область сердца. Вот, и всё. Когда я пришёл, делать мне уже было нечего.
– А как вела себя эта дама? – спросил Романенко.
– Да так же, как и теперь. У неё глубокий шок. Правда, вначале она всё повторяла: «Это я виновата. Гадина я. Лучше б мне вовсе не жить… Прости меня, голубчик…» Она ещё имя называла… Но не имя убитого, что меня удивило.
– Какое же имя?
– Из головы вылетело, простите. Я был занят осмотром жертвы, надеясь, что ещё можно сделать что-то… А она почти сразу замолчала.
– Странное дело, у кого же она прощения могла просить?
– Этого уж я не знаю. Я могу идти? Меня ещё сегодня ждут пациенты…
– Да, конечно, доктор. Спасибо вам.
– Всего доброго! – Жуховцев откланялся и вышел.
Романенко прошёлся по комнате и, остановившись возле Вигеля, сидевшего на диване и что-то рисовавшего карандашом в блокноте, заглянул ему через плечо. С белой страницы на него смотрел портрет безымянной сожительницы Лавровича.
– Ба! – ахнул Василь Васильич, прищурив бирюзовые глаза. – Да вы, Пётр Андреич, прямо-таки художник, как я погляжу! Как это ловко у вас вышло! А ведь пригодиться ваш портрет может, чтобы личность нашей дамочки выяснить.
– Вы всё-таки полагаете, Василь Васильич, что она и есть убийца? – спросил Вигель, пряча блокнот.
В этот момент вошли двое полицейских и, осторожно подняв под руки убитую горем женщину, увели её.
– Да все улики на лицо как будто!
– Как будто… Но есть много странностей.
– Каких же? – Романенко закурил папиросу и опустился на стул.
– Во-первых, открытый тайник, где покойник, по-видимому, хранил деньги и ценные бумаги.
– Он мог сам открыть его зачем-нибудь.
– Мог, – согласился Вигель. – Но почему при осмотре квартиры ни денег, ни ценных бумаг обнаружено не было? Вещи, принятые в заклад, на месте. Они хранились в шкатулке, в ящике бюро, запертом на ключ. Я ничего не путаю, господин Кулебяка?
– Никак нет. Всё так.
– Спрашивается, куда могли деться деньги и ценные бумаги? А также часы? Варвара Антиповна оказалась права: часов нет. Итого, на лицо кража!
– Да не спешите вы так. Часы покойник мог, в конце концов, потерять. Или отдать в починку. Что ещё вас не устраивает, милейший Пётр Андреевич?
– Ещё меня не устаивает само убийство. Пули были выпущены точно, метко, холоднокровно. Если предположить, что стреляла вышедшая из себя от ревности женщина (впрочем, любящая женщина: помните сцену примирения, которую нам описал дворник?), то пули должны были бы попасть, куда попало. Более того, если она выстрелила в состоянии приближённом к помешательству, сгоряча, так сказать, то вид крови (вид страданий любимого человека!) должен был бы остановить её. Но нет! Она бежит за ним. И стреляет ещё. Причём, заметьте, точнее, чем прежде. И ещё раз – в лежащего уже! Нет, это никак не походит на убийство из ревности, в состоянии аффекта.
– Вы ещё и психолог! – усмехнулся Романенко. – Что ж, не оспариваю: в ваших доводах есть смысл. Эх, освинел народ: убивают, воруют – чем дальше, тем больше. Однако, пока эта метреска – единственная наша подозреваемая. К слову, забыл спросить вас, этим делом будет заниматься следователь Немировский?
– Да.
– Это хорошо. Это очень хорошо! Во-первых, замечательно умный человек, с которым работать в удовольствие. Во-вторых, чудо как с людьми разговаривать умеет. Может, и нашу даму разговорит. Если уж он не сумеет, так уж и не знаю…
– Так, если здесь работа завершена, не направиться ли нам прямо к Николаю Степановичу? Составим план расследования. Мне отчего-то кажется, что дело это весьма интересным будет.
– Романтик вы! – заметил Романенко. – Однако, вы правы, едемте. Иван Мефодьевич, заканчивай здесь всё, а мы уж пойдём, – повернулся он к Кулебяке.
– Будет сделано, Василь Васильич! До свиданьица! – кивнул Кулебяка.
– И тебе не хворать, – Романенко накинул свой сак и вместе с Вигелем вышел на улицу. Там дожидалась их пролётка.
По дороге Василь Васильич спросил:
– А всё-таки какие версии у вас?
Вигель задумчиво сдвинул брови:
– Первая: убийство сожительницей из ревности со всеми не выясненными странностями. Второе: хладнокровное убийство ею же с целью ограбления… Впрочем, мало вероятно, потому что тогда бы она сбежала, а не осталась на месте преступления с оружием в руках и не звала бы на помощь. Может быть, у неё был сообщник. Ведь называла же она чьё-то имя, по свидетельству доктора. Он-то и совершил преступление, забрав деньги, а она помешалась, когда осознала ужас содеянного…
– Вам бы романы писать, – усмехнулся Романенко. – Это же не версии, а лабуда какая-то, уж извините. По мне, так есть одна ещё версия. Первая любовница Лавровича, которая требовала с него денег. Правда, непонятно, какую роль в таком раскладе играет наша таинственная незнакомка. Так что это тоже, конечно, версия сродни вашей… Романическая.
– А если ограбление? Вообще не связанное с его женщинами? Ведь никто не видел, кто входил и кто выходил от Лавровича сегодня! Может такое быть?
– Быть всё может. Но револьвер был в руках у этой очаровательный метрески, которую вы столь недурственно изобразили. Пока ясно одно: убил Лавровича кто-то из своих. Кто-то, кого он хорошо знал и от кого не ждал нападения. Более того, готовился с ним или с ней отобедать, водочки выпить да грибочками закусить. Чужих водку пить не приглашают. Тем более, ростовщики! Кстати, я бы водочки теперь выпил… Так жалко было её, разлитую там… Вы какую водочку предпочитаете, Пётр Андреевич?
– Кизлярскую, – улыбнулся Вигель.
– А я Ерофеича предпочитаю. Можно и лачком покрыть…
– Да нет, водка с пивом – это чересчур!
– Это вы от молодости говорите. Не привыкли ещё. Вот, раскроем это дело с вами и айда в ресторацию. В «Палермо»! Няни откушаем да калачей фаршированных! Настоящая русская еда! А лучше – в баню! Я баню очень уважаю. Из Ламакинских как заново родившийся выходишь! Вы как насчёт баньки?
– С удовольствием, Василь Васильич!
– Ну, вот, и славно! – улыбнулся Романенко, откинув голову и закрыв глаза. – Не поверите, милостивый государь, третьи сутки не сполю с этим жульём, горой его раздуй…
– Приехали! – доложил извозчик.
– Вот, чёрт, а? Так и не успел вздремнуть, – вздохнул Василь Васильич. – Найду этого сукина сына Рахманова, так самолично в битое мясо превращу! А я его… найду! Не родился ещё вор, которого бы Василий Романенко в Москве не нашёл!
***
Евдокия Васильевна Луцкая отложила счета и, откинувшись на спинку глубокого кресла, сняла очки и закрыла глаза. Мелодично звякнули украшавшие её запястья серебряные браслеты, следы былой роскоши… Когда-то Евдокия Васильевна была принята в обществе, блистала на балах и часто бывала в театре. С того времени осталась лишь до сей поры безупречная царственная стать, манеры, почти странные среди окружавшей её бедности, да эти браслеты. Когда-то у неё был свой дом, не большой, но уютный. Дом, где она была счастлива несколько лет, будучи женой лучшего, как казалось ей, человека. Однако, природа скупа на счастье и, дав его однажды в избытке, после компенсирует… горем. Горе в семью Луцких вломилось, как шайка разбойников-громил, варваров. Вначале сгорело дотла небольшое имение под Калугой, приносившее Луцким большую часть дохода, потом, не вынеся случившегося, ударом скончался глава семейства. Скончался, не оставив семье ничего, кроме долгов. С долгами вдова рассчиталась, продав дом, а сама вместе с дочерью, верной её нянькой, ставшей с той поры и кухаркой, перебралась в меблированные комнаты на Сретенском бульваре. По смерти мужа Евдокии Васильевне был положен пенсион, но был он весьма мал, и его не хватало. А ведь дочери, барышне на выданье, нужно было хоть какое-то образование дать, одеться прилично. И комнаты должны были выглядеть хоть небогато, но достойно, чтобы нестыдно было принимать редких гостей. Просить у кого-то помощи Луцкая не желала. Мешала врождённая гордость.
– Я и умирать буду – стоя! – говорила она.
Эта гордая барыня, однако, втайне занялась вместе с няней шитьём, портя зимними ночами свои некогда сияющие глаза. В случае крайности, продавали оставшиеся ценные вещи.
Вскоре в новом жилище Луцких появился ещё один жилец. Его звали Сергей Никитенко. Был он студентом, но до того бедным, что не имел даже пальто, а в холод спасался пледом. Прежде Никитенко жил, как и многие студенты, в Латинском квартале, но, заболев чахоткой, вынужден был, не имея средств к существованию, оставить университет. Тогда-то и предложил он давать уроки нуждающимся по разным предметам за предоставление угла и пропитания.
Вначале Евдокия Васильевна была против, чтобы какой-то студент жил в их доме: мало ли, что ждать от него? Но когда он явился к ней, худой, бледный, с запавшими и болезненными глазами и длинными, прилипшими ко лбу волосами, в своей нищенской фризке, башлыке, пледе и ботинках, подошва на одном из которых отвалилась и была привязана платком, держа в одной руке связку книг, а в другой ящичек, в коем оказался микроскоп, старая барыня поняла, что просто не может выгнать этого несчастного, больного юношу на улицу, где бушевала зима, которая непременно свела бы его в могилу. Ей, всегда мечтавшей о сыне, стало жаль Никитенко, матерински жаль, захотелось приласкать его, обогреть… Луцкая взяла его учителем для своей дочери Зины не за знания, оценить коих не имела возможности, а из человеколюбия, которое не смогло убить даже собственное бедственное положение.
Впрочем, юноша, в самом деле, оказался знающим и с успехом обучал Зиночку математике, географии и иным полезным наукам, не исключая астрономии. Правда, он часто болел, а вначале, в первую зиму ту и вовсе несколько недель пролежал, харкая кровью, и лишь жарко натопленные комнаты и заботы няни, Нины Марковны, а также участие Евдокии Васильевны и Зины, поставили его на ноги. С тех пор прошёл почти год, и за это время Никитенко стал для Луцких членом семьи: сыном, братом – в общем, человеком родным и дорогим.
Вот, и теперь, сквозь тонкую перегородку, Луцкая слышала, как Серёжа растолковывал Зиночке очередную теорему, а та смеялась в ответ:
– Серёжинька, может быть, я вам лучше на фортепиано сыграю?
– Сыграете, Зиночка, но после урока, – тихий, вкрадчивый голос.
Евдокия Васильевна запахнула душегрейку и вздохнула:
– Ох-ох-ох, жизнь наша сибирская: куда ни кинь – всюду клин… Се терибль!4
– Что, матушка, опять случилось что? – спросила Нина Марковна, входя в комнату, чуть приволакивая ногу.
– Да всё то же, Марковна… Денег нет, ничего нет… Ты, чаю, с базара?
– С базара, родимая. Цены-то прямо басурманские! Не подступиться ни к чему… Вот, прежде-то жизня была. Манность небесная да и только!
– Что в городе-то слыхать? Потешь меня, расскажи что-нибудь…
– А что ж рассказывать, матушка? Говорят, будто бы Брюс воскрес-таки и зараз по городу шастает. Хотя и расчленил его ученик-то подлый, а сам с его женою, ведьмой, сбежал, а Брюс таки посильнее его колдуном оказался. Вот, минуло сто лет, он и возвернулся. Такие-то страсти, матушка! – старуха округлила глаза.
– Марковна! – рассмеялась Евдокия Васильевна. – Да ведь это же чушь всё… Глупости… Неужто ты веришь этим россказням?
– Ты, родимая, сама же просила рассказать, о чём говорят. А поверить-то тоже можно. Нынче-то такие дела тёмные делаются, что не приведи Господь! Люди среди бела дня пропадают. А иных убивают… Вот, намедни, сказывают, ростовщика в собственному дому не то застрелили, не то зарезали. Полюбовница евонная… Кровисчи там было, кровисчи! Мне молочник говорил…
– Ну, полно, Марковна, ужасы всякие рассказывать! Се терибль!2 И так кошки на душе скребут…
– А ещё торговец один всякие женскому полу нужные вещи предлагал… Ходит с узлом, а в узле кружева всякие да платки, да шали…
– Вот ещё! Нужна-то нам чухонская рухлядь! Нам бы, Марковна, – Луцкая понизила голос, – Серёже пальто, какое ни на есть, справить. Зима уж почитай! А у него пальто нет… Опять ему всю зиму из дому носу не высовывать, у печи сидеть… Нужно ему пальто. Ведь хворый он такой…
– Нужно-то оно нужно, да откуда ж взять? У нас же грош с копейкою не сталкивается! – вздохнула няня.
– А то я сама о том не знаю… Так ведь продать можно что-нибудь… Серьги мои, например. Анатоль в прошлый раз за весьма серьёзную сумму кольцо моё продал… А Зиночке такой чудный медальон подарил… Что-то не заходил он давно к нам… Странно… Уж не забыл ли он нашу Зину? Ведь лучшей-то пары ей не сыскать… Кругом-то всё алтынники да охмурялы… Честного человека и не отыщешь!
– Ох, Евдокия Васильевна, не во гнев тебе будет сказано, но не нравится мне ваш Анатоль! – покачала головой Нина Марковна.
– Да чем же, помилуй?
– Лицом он, матушка, бел, а душой черен! Помяни моё слово!
– Глупости ты болтаешь, Марковна! – рассердилась Луцкая. – Мы Анатолю стольким обязаны! Уж он и в делах мне помогает, и Зиночку на выставки да в приличные места водит, и подарки дарит, и вежлив, и собою хорош! Сразу видать, порядочный человек!
– Воля твоя, барыня, а не верю я ему.
Евдокия Васильевна махнула рукой, звякнув браслетами:
– Пойди лучше на кухню, принеси-ка мне травничку. Нервы что-то шалят у меня…
– Сейчас, матушка, – кивнула няня, кутаясь в залатанную местами шаль, и направилась на кухню.
Анатоль, ставший причиной раздора в доме Луцких, появился прошлой весной. Тогда Нина Марковна и Зина возвращались с базара. Ноша их была тяжёлая, и обе изрядно запыхались. Внезапно рядом остановилась коляска, и молодой человек учтиво предложил подвезти их. Зина немедля согласилась, и Нина Марковна сочла, что ничего дурного в том, чтобы воспользоваться любезным предложением, нет.
На другой день Анатоль, оказавшийся студентом и представившийся отпрыском довольно известной фамилии, явился к Луцким с визитом и сразу покорил и мать, и дочь внешним изяществом, безупречностью манер, тонкостью беседы и тем, что пришёл не с пустыми руками, а с подарком: большой коробкой шоколадных конфет. Молодой человек был весьма тонок в кости и двигался, танцуя, точно вместо суставов у него были шарниры, а к подошвам приделаны пружины. Черты белого лица его, обрамлённого белокурыми волосами, были столь мелки, что, пожалуй, больше бы подошли женщине, нежели мужчине. В довершении всего от Анатоля пахло флёрдоранжем, а руки его были холёны и изобличали пристальное слежение за собою. В манерах и обхождении его было также очень много женского. Женственность – вот, пожалуй, было слово, определяющее всё существо Анатоля.
Нине Марковне это не понравилось сразу.
– Разве ж это мужчина? Красная девица и только! И весь-то такой сахарный да сладкий, что аж противно: приторный весь…
– Так сладок мёд, что, наконец, и горек… – согласился с нею Никитенко.
– Да что это вы, Серёжинька, говорите такое? – возмутилась Зина.
– Это не я… Это Шекспир… – отозвался Никитенко.
– Да вы просто завидуете ему! Потому что он красив, знатен и деньги имеет, а у вас нет ничего!
– Благодарю, что напомнили, – Сергей закашлялся и вышел.
Зина смутилась и, поймав уничижительный взгляд няни, побежала вслед за своим учителем, чтобы просить прощения. Мать же её пожала плечами:
– В конце концов, не ему, бездомовнику, под нашей крышей приют имеющему, такие рассуждения излагать!
Зина в Анатоля влюбилась. Он казался ей принцем, о котором она так мечтала. Когда он приходил, она расцветала, сама поила его чаем, играла ему на фортепиано, а иногда они вместе гуляли…
Однажды Анатоль застал Евдокию Васильевну сильно огорчённой.
– Что-то случилось? – спросил он. – Могу ли я помочь вам? Располагайте мною!
– Ах, Анатоль, я хочу заложить мою брошь, но решительно не предполагаю цены её… Думаю, рублей сто она стоит… Я так неопытна в таких делах!
– Что ж, это неудивительно. А могу ли я взглянуть на брошь?
– Да, пожалуйста, – кивнула Луцкая, доставая из комода шкатулку. – Мон дьё!5 Сущее разорение, сударь мой, сущее разорение…
Анатоль посмотрел брошь и сказал уверенно:
– Она стоит больше ста рублей. Конечно, в лавке всю цену не дадут. Но я мог бы снести её одному ростовщику, с коим прежде приходилось мне иметь дело, и, думаю, мне удалось бы отстоять ваши интересы в той мере, в какой это возможно.
– Я была бы вам очень благодарна, но… – Луцкая замялась.
– Вы боитесь отдать дорогую вещь в руки человека, ещё не очень близкого? – докончил Анатоль. – Совершенно понимаю. Вы абсолютно правы. В наше время никому доверять нельзя. Я оставлю вам сто двадцать рублей и завтра же снесу брошь, куда следует. Думаю, что принесу и ещё дополнительно некоторую сумму. Согласны?
– О, вы благороднейший человек, Анатоль! Моя признательность будет безграничной! Же ву ремерси тре бьен!6
– Дё рьян!7 – улыбнулся Анатоль, галантно целуя руку Луцкой.
В тот же день он отчислил Евдокии Васильевне сто двадцать рублей и забрал брошь. На другой день он принёс ещё сорок рублей к величайшей радости Луцкой. С тех пор она советовалась с Анатолем во всех делах и уже не раз поручала ему заложить или продать ту или иную свою вещь.
Пару месяцев назад Анатоль был вынужден уехать по семейным делам в Петербург, и Евдокия Васильевна с дочерью не находили себе места, пока он, наконец, не вернулся. Вернулся Анатоль очень усталым.
– Уж не захворали ли вы, шер ами8? – обеспокоено спросила Евдокия Васильевна.
– Чепуха… Немного простудился в столице. Знаете ли, там ведь сыро очень. Климат не то, что у нас. Вот и не уберёгся.
– Вы уж берегите себя, сударь мой! Я ведь без вас, как без рук теперь!
– Не беспокойтесь, Евдокия Васильевна! Я всегда готов вам услужить! – улыбнулся в ответ Анатоль немного устало.
И всё-таки Нине Марковне не нравился этот смазливый и услужливый молодой человек, но даже самой себе не могла она объяснить, чем.
Войдя на кухню, старуха застала там Никитенко. Он сидел, упёршись острыми локтями в стол, низко опустив голову, и о чём-то думал. Нина Марковна ласково погладила его по плечу:
– Ну, что ты, яхонтовый мой, загрустил? Давай-ка я тебе супа согрею. Тебе горячего нужно больше есть, а то, не приведи Господь, опять расхвораешься! И хлебца горбушку отрежу тебе. Тёплый ещё: только что из пекарни. Ну, что за кручина у тебя? Иль нездоровится?
– С Зиною я опять едва не поссорился, Нина Марковна, – вздохнул Серёжа. – У ней теперь весь разговор только об её Анатоле. Что сказал, да как посмотрел… Да всё в окно поглядывает: не идёт ли? А я сердцем чувствую, что дурной он человек… А, может, и впрямь от зависти я на него взъелся. И сказать ей не смею! А каково мне слушать её? Слушать о том, какой он прекрасный, о том, как она его любит? Ведь это же невыносимо… Я одной вам скажу, Нина Марковна, потому что мочи нет в себе держать: я ведь Зинаиду Прокофьевну больше жизни люблю!
– Батюшки святы! – старуха присела на край стула, подпёрла рукой голову. – Ну и дела…
– Вы только не сердитесь на меня! И худого не подумайте! Я Зине только счастья желаю! А со мною – какое ж счастье? Я ведь хуже пустого места… Бездомовник нищий. Даже пальто у меня нет. Студент-недоучка. А ещё и больной! Я ж только землю зазря копчу! – голос Серёжи задрожал. – Я б к её ногам мир бросить хотел, я бы… А что ж я могу ей, которой нет лучше в мире, дать? Только сердце своё, жизнь свою… А много ли это? Я и смотреть-то не смею на неё. От стыда за себя. За то, что, если я теперь ещё существую и солнце вижу, то лишь по неизъяснимой доброте её матери, меня пожалевшей… А каково это жить, зная, что живёшь лишь благодаря чьей-то к тебе жалости?! Я от всего этого иной раз убить хочу! Не знаю, кого! Может быть, себя… Она моего страдания не знает, любви моей не ведает, и, дай Бог, чтобы не узнала. Этого уж не простит она мне! И тогда я даже быть рядом с нею, как друг, права иметь не буду! Нельзя любить такому, как я, человеку. И меня любить нельзя. Это же преступление… Непростительно!
– Да что ж ты говоришь такое, родимый! – сплеснула руками Нина Марковна. – Окстись! Христос с тобою, милый мой! Да тебе ли на себя такое наговаривать? У тебя ж душа-то андельская. Да нешто ж так себя изводить-то можно?!
Никитенко опустил голову на стол. Плечи его дрожали от рыданий. Нина Марковна обняла его, прижала его голову к груди и, гладя по волосам, зашептала:
– Ну, что ты? Что ты? Успокойся, яхонтовый мой. Христос терпел и нам велел. Ты думаешь, у меня жизнь сладкая была? Эх, ты, чадунюшко неразумное… Меня девчонкою замуж выдали… Мы тогда в деревне ещё жили. Муж меня смертным боем бил, а в семье его надо мной потешались. Всю самую трудную работу на меня взваливали: в поле, дома… Придёшь иной раз ночью, дух вон от усталости, а этот ещё с ласками лезет… И одна думка в голове: хоть бы ты сгинул, проклятый… Я и брюхата была, а он меня кулаками потчевал. Как не забил до смерти, не знаю… Пятеро детишков у меня было, и все преставились. До трёх лет лишь сынок вторый дожил, а прочие и того прежде померли. Когда третьего схоронила, так меня барыня кормилицей к Зиночке взяла… С той поры я при них… Муж по пьяному делу убился… А я тому, прости Господи, так уж рада была, что и слёз для покойника не нашла. Ничего, кроме страха, за всю жизнь к нему не было у меня. Ничего, кроме боли, от него не знала… Так-то, милый… Такая-то жизнь у меня была…
– Так для чего же жить, Нина Марковна? Если вся жизнь лишь боль и страх и ничего больше? – тихо спросил Серёжа.
– А для того, что закон такой: дадена Богом жизнь – значит, живи. Крючься, зубы сцепляй, глотай слёзы, а живи… Я, вот, тебе такой сказ скажу. Жил был человек. И жизнь его казалась ему нестерпимо тяжёлой. Тогда обратился он к Богу: «Зачем дал мне такую великую ношу? Не по силам она мне! Облегчи!» И Бог облегчил ему ношу. Но и новый груз показался человеку чрезмерным и снова стал он вопить к Господу, чтобы облегчил он его ношу. И опять Бог внял его мольбе. Так продолжалось несколько раз, покуда ноша не исчезла вовсе. Да, вот, оказалось только, что именно эта ноша и удерживала его на земле, а без неё оказался он легче воздуха, и поднял его ветер и унёс, и стал носить по свету. И не может человек ни к земле пристать, ни на небо подняться, где претерпевшие покой обрели, так и мотается между ними вечность, ветром носимый, и плачет об отвергнутой ноше своей… И теперь, должно, где-то витает он…
– Мудрая ты, Нина Марковна! И откуда в тебе столько мудрости?
– Поживи с моё, яхонтовый мой, тоже мудрым будешь…
В этот момент из гостиной послышался крик Евдокии Васильевны:
– Марковна! Марковна! Куда ты пропала? Травник мой готов ли?
Нина Марковна охнула:
– Батюшки святы! Старая я полудурья! Меня же барыня за травничком послала… Нервы у ней шалят нынче… А я и забыла с тобою! – она проворно достала с полки склянку с настойкой и, наполнив ею рюмку, направилась к двери, крикнув: – Иду, матушка, иду!
Обернувшись к Никитенко, старуха сказала:
– Сиди здесь и никуда не уходи. Вернусь – обедом тебя кормить буду! Худенькой ты – в чём только душа-то держится? Сиди, милый! Я сейчас…
– Марковна! Да из ума ты, что ли, выжила?! – раздался грозный крик Луцкой.
– Бегу, матушка, бегу!
Нина Марковна ушла, а Никитенко с грустью посмотрел за окно, где уже падал первый снег. Прошлой ночью ему снилось, как они с Зиной зимою катаются с горы на санках. Она – румяная, красивая, глаза её горят. Она – смеётся. Он смеётся тоже, глядя на неё. И на нём – не плед, а пальто… Сани опрокидываются, и они падают в сугроб, и от этого лишь веселее им. И где-то внутри разрастается солнечный ком, счастье, которого бы хватило на весь мир.
Нина Марковна вскоре вернулась и, ставя на огонь кастрюлю с супом, сказала Серёже:
– Я намедни вещи старые перебирала и нашла костюм и несколько рубашек, что от покойного барина остались. Я-то об них забыла давно, а барыня – и подавно, а тут, вот, нашла. Я их простирну и ушью: авось, тебе сгодятся. Жаль, тёплые его вещи продали мы с самого ещё началу мытарств наших.
За стеной раздались волшебные звуки фортепьяно, клавиш коего коснулись нежные пальцы Зины, и её мелодичный голос зазвенел:
– Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна.
Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казалися часами…
Я вас ждала; но вы… вы не пришли…
И тотчас в гостиной послышались шаги Евдокии Васильевны, и уже в комнате дочери её голос произнёс сурово:
– Сладострастье… Млела! Откуда вы понабрались этого, машер?! Ведь это неприлично, ей-Богу!
– Маман, но ведь это очень известный сейчас романс!
– Мон дьё! Се террибль! Изволь уж петь что-нибудь более достойное!
– Хорошо, маман… А он, в самом деле, не пришёл…
– Придёт – никуда не денется!
Нина Марковна покосилась на Никитенко:
– А, по мне, милый мой, так тоже: лучше бы и вовсе он не приходил… Дурной он человек, сердцем знаю… Не верю я ему…
– Дай Бог, чтобы вы ошиблись, а я сошёл с ума от зависти… – прошептал Серёжа. – Ведь его Зина любит…
– Дай Бог… – вздохнула няня.
***
Некогда на углу Певческого переулка возвышался обнесённый забором, похожий на крепость, дом генерала-майора Николая Петровича Хитрова. Сам генерал, впрочем, в этом диком месте не жил. Жил он неподалёку, в доме №39, а тот же дом, №24, населяла его весьма многочисленная челядь. Территория, прилегающая к сему дому, громадный пустырь, также находилась во владении генерала. После кончины его в доме образовался притон, а пустырь, именуемый Вольным местом, обратился в рынок, названный в честь покойного хозяина Хитровым.
На Хитров рынок стекались обычно самые разнообразные обитатели московского дна. Человек, зашедший сюда впервые, с непривычки мог оробеть. Впрочем, торговля на вольном месте шла бойко. Здесь можно было купить всё, что угодно, за самую умеренную плату. Поэтому люди бедные отоваривались преимущественно на Хитровке. Здесь у старьёвщиков можно было разжиться поношенной и залатанной, но, однако же, вполне пристойной ещё одеждой и обувью. Продавалась и всякая полезная в хозяйстве утварь, и старые потрёпанные книги, и разные «чудеса для развлечения», и лечебные травы и снадобья. Можно было разжиться и весьма дорогими и хорошими вещами, продаваемыми из-под полы, если, конечно, покупателя не смущало, что они краденные. Приехавшие в столицу крестьяне, называемые пришлыми, продавали птицу, яйца, молоко, овощи и фрукты по сезону. И всё это – вперемешку. Всё – обильно разбавлено толпами нищих, просивших подаяния. Попадались, впрочем, бродячие артисты, кои закатывали для изумлённой публики диковинные представления с огнеглотанием, хождением на руках, жонглированием и т.п.
– Не проходите мимо! На ваших глазах всемирно известный шпагоглотатель проглотит только что купленные кухонные ножи!
Продавец ножей восторженно крикнул с места:
– Приятного аппетиту! А, ежели угодно, так я вам ещё и топор продам! Не угодно ли?
– Нет, топоры мы ещё не глотаем…
– Жаль!
Среди толпы ходила опитущая тётка с одутловатой физиономией, неся на одной руке орущего младенца, а другой – держа за ручку девочку лет четырёх.
– Люди добрые, помогите сиротам горемычным! Три дня голодаем, с голоду помираем. Подайте, добрые люди! Не дайте дитяткам невинным пропасть!
– А на водку у тебя, шалава, есть деньги?! У кого младенчика-то стырила, бельма твои бесстыжие?!
Тётка быстро ретировалась. Ребёнок перестал кричать. Видимо, оттого, что «мать» перестала щипать его, чтобы он слезами своими вызвал у публики жалость.
Меж рядами запестрели яркие юбки цыганок.
– Барыня-сударыня, позолоти ручку, я тебе на короля бубнового погадаю! Близок он – бубновый-то твой король! Да за ним пиковая дама, разлучница, по пятам ходит. Стерегись её, милая! Вижу впереди у тебя хлопоты пустые да дорогу дальнюю, вижу гость к тебе едет нежданный, едет для разговору сурьёзного! Жди его, барыня-сударыня!
И позолотила ручку оробевшая, окружённая смуглыми гадалками со всех сторон, жертва…
Посреди рынка сидел громадного роста босяк, окружённый слушателями.
– Эх, братцы, где я только ни был! – окал он, гладя бороду. – По Волге родимой ходил, в Киевскую Лавру пеший дошёл, чтобы святыням тамошним поклониться, во Сибири-матушке был, а ещё – на востоке, в самой земле Бухарской. Люди там всё не наши, веры чужой, нравов неизвестных. А зато тепло там да фрукты диковинные прямо на улицах растут: рви и уплетай за обе щёки! Да только, братцы, хоть и хорошо там, а среди чужих людей тяжко жить! У них ведь даже храма православного нет, чтобы голову бедовую приклонить. Не выдержал я такой жизни и ушёл оттуда.
– Басурмане! А верно ли, будто у них гаремы там? По несколько жён у всякого?
– Верно, мать! И ходят они с лицом закрытым, в одеждах просторных. Только глаза видны одни! Блеснёт такая краля глазами из-под покровов своих, и как в сердце – два кинжала турецких! Так и полоснёт! И пропал!
– Надолго ли в Москву возвратился?
– Как знать! Я ведь на месте усидеть не могу. Вот, жил однажды в пустыни одной. Монахи там учёные. Благодать Божья! Сердце слезами умильными обливается в сознание ничтожности своей! Ан не усидел… И оттуда ушёл.
– Тяжелёхонько, поди, по свету-то весь век мыкаться!
– Ничуточки. Босяки – народ славный! Из нашего брата много достойных людей вышло! Вот, хотя бы Гоголя взять! Сочинителя! Тоже из наших, из босяков! Долгие годы по свету хаживал, а потом, вот, сочинять стал, прославился.
– А ты, может, тоже писать станешь?
– А почему бы нет? Видал-то я много! Моей бы жизни на десяток романов хватило! Но покамест погулять ещё хочу, мир посмотреть. Вот, думаю до самой Святой земли податься, Гробу Господню поклониться! А, может, повезёт мне: отыщу я и царство Опоньское… Мечта у меня с ранних лет такая.
– Только уж если найдёшь, так дорогу не позабудь нам сказать! Нам тоже жить порядочно охота.
Среди разношёрстной публики Хитрова рынка встречались подчас и господа состоятельные, заходившие сюда подчас из любопытства. Впрочем, делать этого им никак не следовало. Опытный глаз тотчас выхватывал «солидную дичь» из толпы, и начиналась охота – спектакль, расписанный по актам и ролям.
В тот день в хаосе вольного места был замечен дородный господин приятной наружности в весьма дорогом пальто, неспешно прохаживающийся между рядов, осматривающийся, покупающий какую-то ерунду, слушающий праздные разговоры. Особенно заинтересовался он «копчушками», новыми иконами, которые умельцы закапчивали под старину. Опытному единственному глазу смотрящего достало четверти часа, чтобы приметить, в каком кармане носит господин довольно толстый бумажник с ассигнациями… Как только это было выяснено, в действие вступил новый персонаж: тырщик. Могучий верзила направился за жертвой, умело действуя локтями, отталкивая народ, наседая на богатого господина и заставляя его сворачивать в нужные ряды. Господин, явно встревоженный ускорил шаг, но очень скоро стал задыхаться, и тогда тырщик начал отставать. Когда он исчез, господин проверил, на месте ли бумажник, обрадованный, что отделался от преследователя, утёр лоб и остановился перевести дух, не замечая стоящего неподалёку человека с чёрными вьющимися волосами и чёрными блестящими глазами.
Между тем, это был сам ширмач, то есть карманник. Когда жертва, успокоенная, обрадованная и утерявшая бдительность, переводила дух, он с совершенно равнодушным видом прошёл мимо неё, и даже самый опытный глаз не заметил бы, когда его рука успела извлечь бумажник из пальто господина. Разумеется, и сам господин ничего не почувствовал.
Ширмач сделал несколько шагов, и к нему подбежал коротко стриженый мальчонка, убегало, который, получив из рук ширмача добычу, опрометью умчался с нею.
Когда ограбленный обнаружил пропажу, было уже поздно. Никого из четырёх грабителей уже не было поблизости, и напрасно он кричал на весь рынок с багровым лицом, размахивая кулаками:
– Караул!!! Ограбили!!! Держи вора!!!
Держать было уже некого. И подоспевший городовой лишь развёл руками:
– Ваше благородие, так зачем же вы в эдакое место-то? Здесь же, известное дело… Жульё!
– А, на ка-ко-го чёрты ты, дурак, поставлен здесь??? Не для того ли, чтобы честных людей от воров оберегать?!!! Да я тебя в бараний рог! Я к твоему начальству пойду!!!
Таким образом, весь гнев жертвы обрушился на несчастного городового, который стоял, вытянувшись по стойке смирно, красный и готовый провалиться сквозь землю. А вокруг щурилась, хохотала и тыкала пальцами оборванная, серая, в шрамах и язвах, масса…
Ширмач же спокойно вышел с вольного места и, чуть прихрамывая, прогулочным шагом направился к ближайшей подворотне. Там уже дожидалась коляска, запряжённая двумя быстрыми конями. На месте извозчика сидел верзила-затирщик, а в самой коляске – одноглазый смотрящий, мальчишка-убегало и очень красивая молодая женщина.
Ширмач блеснул оскалом белых зубов, чмокнул красавицу в щёку и сел рядом с нею:
– Ну, маруха, не соскучилась без нас?
– Не называй меня марухой, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что мне это неприятно.
– Дура! Маруха – это честь! Подруга вора – чего ж тебе не нравится? Или я для тебя нехорош стал? Может, стыдишься? Чего молчишь?
– Не говори глупостей!
– Гранила, а барин-то богатый оказался! Пятьсот рублей ассигнациями, каково? Вот, ведь чурбан, с таким богатством – да на Хитровку! Небось, чки божие9 прикупить хотел. К ним всё приглядывался, – просипел смотрящий, скручивая папиросу.
– Да, добре поторговали нынче, – сказал затирщик, пуская лошадей рысцой.
Но ширмач молчал, глядя исподлобья чёрными углями глаз.
– Ты что такой невесёлый нынче, гранила? – осведомился смотрящий. – Торговля, как по маслу прошла, денег много у нас… А ты мрачный, аки сыч в дупле, сидишь…
– Сам не знаю, – вздохнул ширмач. – Какая-то мерехлюндия напала на меня. Так и точит, так и точит… Точно Милосердную в душе поют. Ещё сон скверный привиделся, будто бы по Владимирской дороге опять иду… И поют кругом меня как раз эту Милосердную… Так тошно сделалось. Трёх лет не прошло, как я по этой дорожке в кандалах шёл… На вечную каторгу. Да, вот, чёрт ли поворожил, а вернулся в столицу обратником… А теперь думаю, что не придётся мне в другой раз по Владимирке идти. Ждёт меня петля…
– Да что ты говоришь?! – вскрикнула маруха, бросаясь ширмачу на шею. – Не смей, не смей… Какая петля? Зачем петля? А я как же? Никто нас не поймает… Ведь осторожные мы, ведь ты же, как дьявол сам, хитёр…
– Дура… – вздохнул ширмач, гладя красавицу по голове. – Сколь верёвочке не виться, а конец всегда один… Тут уж и на судьбу пенять не приходится.
– В полиции дураки! Они не поймают тебя! Никогда! Никогда!
– Поймают, Дивушка. На всякого волка матёрого свой пёс отыщется. Да и не все лягавые глупцы… Есть, например, такой Василий Романенко… Он в прошлый раз меня изловить сподобился. И нынче изловит. Умный, сволочь…
– Так, может, его, гранила, того… Укокать? Чирикнуть ножичком в тёмном закоулочке – и делов! – осторожно предложил смотрящий.
– На всё-то один ответ у тебя. Нет, его трогать не хочу. Конец всё одно будет. Всё одно изловят. Да, коли он, так хоть незазорно. Он – ровня. Уважаю я его. Ни хабарит, ни чинов не дерёт, а лишь землю носом роет. Дело своё знает. Нет, я таких не трогаю.
– Блажной ты какой-то, гранила… То у тайного советника извернёшься часы сдербанить, то директора департамента петербургского в карты обмишуришь, то человека, что цыплёнка, прибьёшь, а инорядь в какие-то благородные заморчки вдаёшься: ровня, уважаю… Где это видано, чтобы гранила лягаша уважал?!
– Заткнись! – свирепо оскалился ширмач. – А, скажи-ка, сколь у нас ныне денег всего?
– Так пятнадцать тыщ будет, ежели не больше! Благо ащё должок-то старый лакуза нам возвернул! – доложил смотрящий.
– Эко гроши-то в карманах грызутся! – воскликнул ширмач. – Гуляем! А то через день уже пост начнётся, а в пост гулять дурно! Айда к Шипову! Напоследок! Покутим от души, чтобы чертям тошно сделалось!
– А и то правильно, – одобрил затирщик, хлестнув коней. – Самое верное дело от всяческих мерехлюндий. Р-развернись душа – жизня хороша!
Коляска мчалась по городу, и, видя в ней хохочущего смуглого красавца с чёрными кудрями, жмущего к себе рыжую красавицу, и галдящую его свиту, прохожие отшатывались в сторону в испуге, а иные и крестились набожно:
– Никак сам Антихрист едет? Спаси Христос! Прости грехи наши тяжкие!
Шиповым или Шиповской крепостью именовался в Москве бывший дом генерала Шипова, жившего ещё во дни Императрицы Екатерины Великой. Располагался он на Лубянской площади. Дом этот давно уже населяли бедные ремесленники и всякого рода сомнительные личности, облюбовавшие себе бывшую генеральскую вотчину. В лавках у Шипова торговали одеждой и различной рухлядью. Тут же располагались пивные и закусочные, а также трактир, где любили прогуливать шальные деньги личности с сомнительной репутацией.
Ширмач с подручными с шумом ввалились в трактир, где по углам сидело несколько непрезентабельного вида субъектов, а, кроме них, несколько девиц известного поведения.
– И чай пила и булки ела, позабыла, с кем сидела! – визгливо голосила одна из них, пьяная в дым, неприлично закидывая вверх ноги и хохоча.
– Замолкни, шишимора! – рыкнул на неё бородатый мужик, по виду извозчик, с другого конца трактира.
Девица вскочила, повернулась к нему спиной и, хлопнув себя по откляченному заду, крикнула:
– А это видал? Сам заткнись!
Ширмач скинул с себя серую волчью шубу и, лязгнув зубами, рявкнул:
– Трактирщик, принимай гостей!
– Желаете отобедать? – осведомился тотчас прибежавший хозяин заведения.
– И отобедать, и отужинать, и отзавтракать! Мы нынче тоску разомкнуть хотим! Гулять хотим, так, чтобы трещало всё кругом, чтобы страшно было! – ширмач достал пачку денег и, не считая, швырнул их трактирщику. – Пиковые деньги сразу прожигать надо! Они – беду приносят!
– Что прикажете подать?
– Всё, всё подавай! Всё, что есть, подавай! А, чего нет, то найди и тоже подай! Водки, вина! Чтобы напиться мне до беспамятства, чтобы отступила хандра от сердца!
По знаку трактирщика половые тотчас же начали собирать на стол.
– И музыки подай! – велел ширмач. – Цыган позови! Я цыган люблю! Я сам из цыган! Моя мать цыганкой была… Зови цыган! Всем заплачу! За всё заплачу!
И пошёл пир горой. Тот чисто русский не знающий меры и удержу разгул, чисто русское горькое веселье, веселье без радости, веселье не для радости, а для забвения, веселье, чтобы спрятать горе от других, но прежде – от себя. Увидите такую весёлость – не верьте ей. Это весёлость – уже от отчаяния крайнего, от горя безысходного, худшая, чем самые горькие слёзы, потому что безнадёжней, потому что только от безнадёжности окончательной над горем смеются, когда плакать уже нет слёз…
Ширмач сам не знал, отчего так горько ему. Никогда ещё так не грызла его хандра: даже, когда шёл он три года назад по Владимирской дороге, а кругом него такие же, как он, каторжане, в кандалы закованные, выли, страшно и горько, Милосердную. Он сидел за ломившимся от снеди столом в своей алой рубахе, но почти не ел, а лишь пил, занюхивая рукавом, горькую водку и смотрел, как веселились его подельники. А те пустились во все тяжкие: пробовали вина, жадно набрасывались на еду, щупали окруживших их пьяных трактирных девок, сажали их себе на колени, тискали грязными лапищами, а те хохотали… Мальчишка-убегало смотрел на всё это, разинув рот, почти с восторгом, хлебал вино и уплетал пирожные, заказанные специально для него. А маруха сидела рядом с ширмачом, положив огненно рыжую голову ему на плечо, гладила его большой смуглой рукой, прикрыв зелёные кошачьи глаза, и курила, держа мундштук в изящных пальчиках.
– А не поохотиться ли мне на медведя? – вдруг рыкнул ширмач. – Хозяин, подавай «медведя»!
Трактирная публика встрепенулась, готовясь наблюдать редкое зрелище. Шустрый половой расставил на столе десять полных рюмок с разным содержимым и тоже стал смотреть. Ширмач поднялся, обвёл всех мрачным взором и неспешно принялся опорожнять рюмки одну за другой. Выпив подряд все десять, он утёр рот и тяжело опустился на своё место.
– Браво! – раздались крики. – Завалил «медведя»! Ату! Ату!
Цыган собралось много. Звенели гитары и скрипки, звенели браслеты на руках пляшущих цыганок, звенели голоса их, пестрели разноцветные одежды… Одна из них, царственно выступая вперёд, завела низким голосом пронзительную, за душу хватающую песню. Ширмач слушал её и вспоминал свою мать, обманутую молодым барином, который соблазнил её, поражённый красотой её и голосом, целый месяц жил с нею в своём поместье, задаривая подарками, лаская и холя, а затем выгнал на улицу… В табор цыганка не вернулась, зная, что встретят её там, как преступницу. Бродила одна по свету, добрела и до Москвы, здесь в какой-то грязной канаве родила сына, а затем, чтобы прокормить его, стала развлекать посетителей в одном из притонов. Многим нравилась цыганка Настя, большие деньги бросали к ногам её за одну лишь ночь… И, глядя на всё это, рос её сын, мечтая об одном – вырасти, найти отца и убить его, отомстив за позор матери. Уже подростком он всецело овладел ремеслом ширмача, шулера и иными. Он оказался универсалом. Везунчиком. Ему легко удавалось всё. Прыткий цыганёнок выходил сухим из воды там, где пропадали другие. Самые смелые дела проворачивал он виртуозно, чем заслужил к себе большое уважение. Мать его однажды пропала, и цыганёнок остался один. Но обнаружившийся у него поистине дьявольский талант (уж не матери ли, ведьмы, благословение?) не дал ему пропасть.
Отца бастард-ширмач, взявший себе фамилию Рахманов, всё-таки разыскал. Была глубокая ночь, когда тот возвращался в своё поместье в экипаже, сопровождаемый лишь кучером… Рахманов стоял посреди дороги. Когда лошади увидели его, то остановились как вкопанные и испуганно заржали. Кучера он не убил, а лишь оглушил… Бледный, как смерть, барин выбрался из экипажа:
– Что вам нужно? Кто вы? Если хотите, я отдам вам все деньги…
– Мне не нужны твои деньги. Я пришёл за твоей жизнью.
– Но что я вам сделал?! Что?!
– Помнишь цыганку Настю, которую ты обманул? Я её сын. И твой! Моя мать умерла. А теперь умрёшь и ты!
Нож вошёл в сердце неожиданно легко. Даже не вскрикнув, убитый рухнул к ногам Рахманова. Прямо в грязь. Крови почти не вытекло. Рахманов зло сплюнул и, пройдя мимо ставших на дыбы от ужаса лошадей, растворился во мраке ночи. Это было его первое убийство. Затем были другие. Лишь одним злодеянием никогда не согрешил Рахманов: насилием над женщиной. Своим сообщникам он также запрещал подобное. Единственный раз запрет был нарушен. Нарушитель заплатил за это жизнью.
Когда цыганка закончила петь, ширмач вскочил из-за стола и, лихо перемахнув через него, кинулся к музыкантам:
– Играйте, братцы! Плясовую играйте! Я сам цыган! Я плясать хочу!
Цыгане заиграли, и Рахманов, точно не пил ни капли, стал отплясывать так лихо, что трактирная публика начала хлопать в ладоши. Ловко ходили ноги ширмача, легко гнулись. Страстной была пляска Рахманова. Полымем сияли чёрные глаза его, рассыпались чёрные кудри. Стучали каблуки ладных сапогов. Горела алая рубаха… Но было в этой пляске что-то дикое, страшное, отчаянное… Кончилась музыка. Рахманов со стоном упал на колени, схватился за голову. Маруха бросилась к нему, подала ему рюмку водки. Ширмач выпил её, разбил об пол вдребезги, схватил красавицу на руки, закружил её с рыком раненого зверя:
– Дивушка моя, кралюшка любимая! Вечно нам в одной упряжке идти! Никогда не разойтись! Одна у нас дорожка, одним крапом мечены мы!
Красавица обнимала его за шею, гладила по голове, и огненные волосы её смешивались с чёрными кудрями Рахманова… А по смуглому лицу её текли слёзы…
***
Следователь Немировский открыл табакерку-тавлинку, вдохнул своего любимого мятного табаку и, не вынимая изо рта дужку очков, произнёс:
– Экая, однако, акробация у нас с вами выходит… Вроде и есть всё, а всё равно как бы ничего и не было…
– Николай Степанович, неужели вы тоже полагаете, что убийца не эта сумасшедшая, которую мы задержали? – спросил Романенко, нервно покручивая чёрный ус.
– Василь Васильич, мы с тобой не первый год знакомы. Я никогда не делаю выводов прежде, чем буду иметь на руках все улики. Опрометчивость в нашем деле – штука вредная. Мы же с живыми людьми работаем. С человецами. Ошибёмся – и искалеченная чья-то судьба на нашей совести.
– Ну, уж вы-то не ошибаетесь!
– Все ошибаются. Просто я никогда не спешу, и оттого ошибок делаю несколько меньше, чем мог бы.
– Счастливы вы! – усмехнулся Романенко, подперев рукою голову. – А меня начальство с кашею умнёт, когда я Рахманова не словлю… Вот, хоть из-под себя выпрыгивай! А вы говорите – не спешить…
– Успевает только тот, кто никуда не спешит. Не стучись ты об угол головой из-за своего Рахманова. Ты же, Вася, сыщик от Бога. Найдёшь, рано или поздно. Однако, к делу. Пётр Андреевич, скажите, пожалуйста, каковы на сегодняшний момент первоочередные задачи следствия? – Николай Степанович поднялся из-за стола и, сцепив руки за спиной, прошёлся по кабинету.
Вигель тотчас вскочил с кресла и стал перечислять:
– Во-первых, установить личность сожительницы убитого. Во-вторых, навести справки о знакомых его и постоянных клиентах. В-третьих, выяснить личности прежней и последней любовниц господина Лавровича. В-четвёртых, постараться определить, что всё-таки похищено.
– Разумно, – одобрил Немировский. – Василь Васильич сказал, что вы весьма недурно изобразили нашу таинственную незнакомку? Позволите взглянуть?
– Сделайте одолжение, – Пётр Андреевич протянул следователю сложенный вчетверо листок.
– Да, и впрямь хорошая работа, – кивнул Николай Степанович. – Она нам может пригодиться. Мало ли, где её могли видеть… Василь Васильич, возьми этот портрет и фотокарточку покойного и сходи в то заведение, где его видел дворник с новой пассией. Как, бишь, оно называется?
– Номера «Кавказ» в Газетном и ещё ресторация «Мечта» на Поварской. Оттуда они, по словам дворника, вышли.
– Вот, туда и сходи. Чего и как спрашивать и как действовать, указаний не даю. Не мне тебя учить!
– Всё сделаю в лучшем виде, – пообещал Романенко.
– Вот, и славно. Если барышня нам своего имени не скажет, то можно сделать её фотоснимок и разместить в газетах: может, кто узнает её. Хотя, если и узнает кто, то что-то мне подсказывает, не пойдёт такой человек к нам. Знакомство своё афишировать. Ну, да, может, хоть письмецо пришлёт? Тут за всякую ниточку тянуть надо: авось, что и вытянется… Далее: вор действовал весьма умно. Обратите внимание, закладов он не тронул, понимая, вероятно, что краденые вещички всегда спроворнее сыскать, а, значит, и самого преступника.
– Может быть, он просто не знал, где заклады хранятся? Или не успел? – предположил Вигель.
– Всё возможно, – Немировский покрутил в руках тавлинку. – Барышня, быть может, и убийца… Но грабительницей она быть не может. Значит, был кто-то ещё. Случайный ли свидетель, воспользовавшийся невменяемостью её, или сообщник – но его нужно искать. Вполне вероятно, что грабитель – один из постоянных клиентов Лавровича. Чужих в квартире не было: это очевидно. Нужно проверить все учётные записи убитого и составить список наиболее часто упоминаемых фамилий. Во-вторых, определить хозяев оставшихся закладов. После чего дадим объявление в газеты, что хозяева могут забрать свои заклады, придя к нам…
– Вы полагаете, что преступник придёт за своей вещью? – спросил Вигель.
– Нет, голубчик. Я как раз полагаю обратное: ни за что не придёт. Поосторожничает. А, коли так, то те, кто за своими вещами не придут…
– Станут нашими подозреваемыми?.. – выдохнул Пётр Андреевич.
– Точно так. Налету схватываете, мой молодой друг! – Немировский прищурил глаз и улыбнулся. – Так, вот, я вас порадую: всем этим займётесь вы. Изучите учётные записи, составите список, дадите объявление и будете выдавать заклады хозяевам, записывая их данные.
– Исполню незакосненно!
– А энтузиазма не вижу в ваших глазах. Хочется более творческой работы? Романтики? Увы, наша служба очень часто бывает достаточно будничной. И требует не столько отваги и фантазии, сколько кропотливости, наблюдательности и большой ответственности.
– Я понимаю.
– И отлично! Завтра же и приступите к работе. Ну, а я займусь коллегами покойного. Прогуляюсь по ним, потолкую. Авось, кто-то что-то и расскажет любопытного. Они, конечно, черти драповые, с полицией дела иметь не любят, будут глазами косить, да ахинеей с маслом меня накормить пытаться. Головорукие ребята, да-с… Что ж, на этом совещание полагаю закрытым. Есть ли у вас, господа, ещё какие-нибудь вопросы да предположения?
– Есть, – сказал Вигель. – Нужно узнать в ближайших часовых мастерских, не поступало ли им часов, сходных по описанию с часами Лавровича. Соседка его сказала, что на них были его инициалы.
– Хорошее предложение, – кивнул Николай Степанович. – Василь Васильич, займёшься этим.
– Эх, – вздохнул Романенко. – Вот всё-то, чуть что, Василь Васильич…
– Голубчик, так ведь как сказано: всякий, служи Богу и людям талантом своим! А у тебя талант – редкостный!
– Спасибо. Я, ежели у часовщиков часиков этих не выловлю, так дам своим агентам их описание, чтобы в лавках соответствующих глядели: может, всплывут где, – Василь Васильич поднялся: – А теперь разрешите откланяться, Николай Степанович. Мне на рассвете ещё на Бассейню сходить надо с дворниками потолковать, а уж скоро ночь.
– Добро, – кивнул Немировский. – Бог тебе в помощь, Василь Васильич! Ступай!
– Честь имею, – Романенко откланялся и вышел.
Николай Степанович убрал табакерку в карман и, внимательно взглянув на молодого коллегу, спросил:
– Вы в биксу играете, Пётр Андреевич?
– Играю немного…
– А не составите ли мне компанию сегодня? Я, знаете ли, весьма люблю после трудов праведных партию-другую на бильярде сыграть да рюмочку ликёрчику «Дюппель-Куммель» выпить… А вы как отдыхать предпочитаете? Потому что, если у вас другие планы…
– Признаться, у меня никаких планов нет и я с великой радостью… Правда, меня удивляет: ведь столько работы – до отдыха ли?
– Дорогой мой друг, послушайте отеческого совета: никогда не забывайте об отдыхе. Иначе надорвётесь. Знаете, что я более всего ценю в жизни? Гармонию. А нет гармонии, если вся жизнь состоит из одной работы. Знаете вы, отчего в последнее время преступников много стало? А я вам отвечу: гармонии всё меньше и меньше в мире становится. Всё – суета сует. Все всегда всюду спешат и ничегошеньки не успевают. Все друг друга во всём обскакать стараются. Где уж тут гармонии взяться? А, когда гармонии нет, так одно безобразие начинается. Вот, видели ли вы богомудрого жития старцев? Какой у них покой на лицах, какая гармония! То же и в душе! А оглядитесь кругом: какие лица! Дикие! Судорогою сведённые! Глаза горящие, безумные! Всё на них: злость, спешка, гордыня… Ад! В душах – ад. А, если в душах ад, так и на земле ад наступает. Вот, когда во всех душах такой ад будет, то и полетит наш мир в тартарары. Вы иногда посматривайте на себя в зеркало: не стало ли ваше лицо образцом разлада и распада? Надеюсь, не станет. И, чтобы не стало, запомните: всему своё время. И работе, и отдыху. И об отдыхе забывать нельзя. Иначе от работы глаз замылится, чувство притупится – и работа же и пострадает. Поэтому идёмте: выпьем по рюмочке, сыграем партейку и по домам, чтобы утром со свежими силами взяться за наше дело, – Николай Степанович с улыбкой похлопал Вигеля по плечу и вышел в коридор.
Следователь Немировский был, по собственному определению, человеком старого покроя. Службу он начал ещё в годы правления Императора Николая Павловича, о котором и поныне отзывался с большим уважением. Николай Степанович скоро обратил на себя внимание начальства, благодаря исключительным способностям, и молодому человеку была предложена должность в 5-м управлении. Однако, Немировский предпочёл политике криминалистику. Сам свой выбор он объяснял так:
– Политиков, равно как и политический сыск, может оценить только история. А я не хочу, чтобы меня оценивала история. Я хочу собственными глазами сегодня уже видеть пользу от своих трудов. Если я распутаю сложное дело и усажу на скамью подсудимых бандитов, которые при ином раскладе могли бы свершить новые преступления, то это несомненная, неоспаримая польза для общества, для конкретных людей, избавленных от посягательств преступников. Всё – очевидно. Всё – честно.
Николай Степанович среди коллег считался чудаком, эксцентриком. Он не имел ни малейшего честолюбия, получая удовольствие от делаемого дела, а не от званий и наград. Поэтому, несмотря на долгие годы безупречной службы, Немировский имел их весьма мало. Мешал продвижению по службе и характер следователя. Он никогда не отличался вольнодумством, будучи совершенным консерватором, но привык отстаивать свою точку зрения, не взирая на положение тех, перед кем приходилось отстаивать. Никогда и никто не мог заставить Николая Степановича «замять дело» по причине участия в нём родственника некой высокопоставленной особы. Немировский был из тех, кто нёс свою службу не ради продвижения, славы, материального благополучия, но во имя справедливости и из интереса, ревности к любимому делу, чисто юношескому и до сей поры азарту к нему.
И, дослужившись уже до чина статского советника, пожилой следователь оставался лёгким на подъём и открытым для всех. В нём не было ни капли снобизма, гордыни от сознания высокого положения и власти. Он совершенно с равным уважением разговаривал как с высокопоставленным сановником, так и с простым дворником. Причём с каждым – на его языке. Ничуть не лебезя перед начальством в абсолютном сознании собственного достоинства, ни капли не заносясь над самым мелким чиновником родного ведомства в совершенном уважении к его личности.
Николай Степанович никогда не был женат, но при этом умел расположить к себе любую женщину, благодаря природному обаянию, под которое, впрочем, подпадали и мужчины. Всегда безукоризненно одетый, учтивый, галантный с дамами, остроумный и очень участливый, этот человек просто не мог не нравиться. Ему не нужно было даже прилагать к тому усилий: это был своеобразный талант. Его молодые, хоть и в ниточках морщин, лучистые глаза и спокойная, ясная улыбка сами по себе излучали какое-то тепло, согревали, утешали, если надо. Если бы ни мундир, Немировского никогда не приняли бы за следователя: именно из-за лучистости и отзывчивости его.
Жил Николай Степанович в просторной квартире на Тверской, недалеко от знаменитой булочной Чуева, славной своими сухариками и булочками, вместе с давно овдовевшей сестрой, которую очень любил, и старухой-экономкой. Дома у Немировского жили также подобранная на улице собака, кот и соловей: видимо, только благодаря унаследованному от хозяина характеру, они жили в мире и согласии. Вообще, о Николае Степановиче можно было с полным основанием сказать: его в Москве знала каждая собака. И он знал – каждую. Потому что всегда имел с собой какую-нибудь снедь, чтобы угостить четвероногих бродяг.
Хотя пожилой следователь был далёк от политики, но всё же отличался некоторым русофильством. Из журналов читал он лишь катковский «Русский Вестник», уважал славянофилов и почвенников и недолюбливал либералов и социалистов, видя в их идеях и в них самих «верх дисгармонии, которая дурно влияет на нравы и, в итоге, умножает работу сыскному ведомству». Из всех же московских трактиров, Немировский много лет оставался верен одному – Гурьинскому, где бывал время от времени, большей частью предпочитая столоваться дома.
На бильярде Николай Степанович играл виртуозно, и Вигель быстро понял, что шансов у него нет, что, впрочем, ничуть его не огорчило.
– Бильярд, голубчик, штука полезная, – говорил Немировский, методично закатывая очередной шар в лузу и то и дело откидывая со лба прядь густых волос, венчающих его голову, подобно стальному шлему. – За такой игрой хорошо думается. Кто-то, впрочем, любит размышлять за пасьянсом. Сестра моя, к примеру. Целыми днями раскладывает… Правда, о чём при этом думает, не говорит. А вы так и не ответили мне, чем занимаетесь в свободное время?
– Большей частью, книги читаю, Николай Степанович. С юности к ним питаю большую любовь.
– Хорошее дело. Рисуете ещё, я полагаю?
– Да, иногда…
– Ну, а в театры ходите ли?
– Бывает… Хотя и не часто. И, если хожу, то в драматические…
– Отчего же? Не любите музыки?
– Просто у меня слуха нет, а оттого не могу оценить её. Картину – могу. А музыку – нет. Это, право, жаль, потому что очень огорчает одного дорогого мне человека…
– Девушку?
– Да… – Вигель покраснел.
– Ай-да-ну! И зарделся, как маков цвет. Дело-то молодое… – Немировский метким ударом отправил последний шар в лузу. – Однако, партия!
– Поздравляю, Николай Степанович, – улыбнулся Пётр Андреевич.
– У экономки моей горе нынче, – вдруг сказал следователь, мелкими глотками, врастяжку, осушив рюмку ликёра. – Муж её дочери с войны без руки вернулся… Я говорю ей: слава Богу, мол, что живой. А она плачет… Жалко женщину. И парня жаль… Тяжело оно – без руки-то… Вообще, нужна ли была эта война? Как это у господина Островского? «Столько благородства, а здравого смысла ни на грош…» Или как-то в этом роде… Запамятовал… Вот, и в этой войне: благородство изумительное, но смысла никакого… Наши журналисты и литераторы поточили перья, разводя бранделясы, споря… Наши модницы пошили себе новые пальто… Даже моя сестра носит теперь «Скобелева». Из патриотизма. А наши солдаты остались лежать в чужих краях, а их вдовы будут мыкать нужду… Добро ли? Впрочем, извините меня, Пётр Андреевич, я и так недопустимо задержал вас. Поезжайте домой. И, кстати, когда будете разбираться завтра со всей этой бухгалтерией, так возьмите себе в помощь нашего писаря Любовицкого. Пусть закладчиков перепишет… Да только скажите ему, что я запрещаю ему до окончания следствия писать фельетоны об этом деле в газету! Это нынче болезнь какая-то, ей-богу: все пишут! Фельетоны! Ежечасно боишься, что собственный писарь в какой-нибудь газете тайну следствия разгласит, желая выбиться в литераторы! Балаган да и только! Так и скажите ему от меня: что если что-нибудь такое себе позволит, то я уж терпеть не стану да настою на его увольнении.
Домой Вигель вернулся уже поздним вечером, но, не успел он поставить самовар, дабы перед сном согреться любимым чаем сорта «Куанг-су», как в дверь постучали. Это была Анна Саввична. Согбенная, в тёмном капоте, тёплом платке, чёрном чепчике-мельнице, с маленьким сморщенным лицом, она переступила порог и спросила тихо:
– Можно мне у вас, Пётр Андреевич посидеть немного?
– Ради Бога, Анна Саввична, проходите. Я как раз чай поставил.
Анна Саввична прошла в комнату и, сев на край стула, вздохнула:
– Служите теперь, я слышала?
– Точно так, – Вигель подал старухе чай и отпил сам.
Анна Саввична хрустнула сахаром, сделала несколько глотков и спросила:
– И как служиться вам? Тяжело приходится?
– Как сказать… Интересно. Вот, нынче убийство случилось, так мне завтра по нему работать.
– Убийство… Всё-то убивают… Всех-то убивают… Пройдёт время, и все всех убивать зачнут… Слава Богу, я к тому времени во сырой земле упокоюсь… Худо мне, Пётр Андреевич… Вот, пришла к вам всего лишь затем, чтоб поблагодарить за лекарство, что вы мне давеча прислали, а и забыла… Вам работать завтра, а я, как в гостях, сижу и ерунду разную болтаю… Уж вы извините меня…
– Бог с вами, Анна Саввична!
– Добрый вы человек, Пётр Андреевич… Я давно вижу, что вы Олиньку мою любите… – старуха поднесла руку к сердцу. – Только вы оставьте её! Прошу вас! Господин Тягаев имеет намерение жениться на ней… Когда повезёт, так и свадьба вскорости! Я о том только и молю Бога! Он ведь человек с обхождением галантерейным… Знатный, добрый, богатый… Да за ним все девочки мои, как за каменной стеной будут! А уж тогда я со спокойной душой умереть смогу! Пожалейте вы меня, Пётр Андреевич, оставьте Олю! – Анна Саввична заплакала.
Вигель смотрел на бледное лицо старицы, по которому лились, вытекая из бесцветных глаз, слёзы, и чувствовал, как ком подкатывает к горлу, и уже собственные глаза его жжёт. Нужно было сказать что-то, но он не мог найти слов и молчал.
Наконец, Анна Саввична встала.
– Простите меня, Пётр Андреевич, – прошептала она. – Знаю, каково вам меня слушать было… Да видит Бог, что люблю я вас и желаю счастья, и Олиньке бы лучшего мужа не желала, если бы… Ну, не виноваты мы, что зашила нас судьба в чёрную шкуру! И, если осмелилась я с такой просьбой прийти к вам, то от отчаяния же! Я ведь одной ногой в могиле стою… Не судите ж меня и лихом не поминайте… Прощайте, Пётр Андреевич! Храни вас Бог! – старуха перекрестила Вигеля и ушла.
Пётр Андреевич опустился на край кровати, задул свечу, и, не раздеваясь, повалился на постель, уткнувшись лицом в подушку… Он ждал, чтобы скорее настало утро, когда можно будет взяться за работу и хоть немного забыться в ней, забыть Ольгу… Но разве же это возможно, когда она и теперь, как живая, стоит перед глазами – кроткий ангел с грустной улыбкой и ясными глазами?
***
Было ещё совсем темно, когда Василь Васильич вышел из своего дома, расположенного в Мёртвом переулке, аккурат рядом с церковью Успения, за которой простиралось старообрядческое кладбище, и быстрым шагом направился в сторону Бассейни. Утро выдалось холодным, пронизывающий ветер мёл позёмкой, завывал, щипал редких прохожих. Романенко натянул до самых бровей свою балаклаву и ещё ускорил шаг, чтобы согреться. Отправляясь к месту сбора московских дворников он оделся так, чтобы не привлекать к себе внимания: валенки, тулуп, рукавицы – приклеил и бороду. Надо сказать, что Василь Васильич, помимо прочих достоинств, обладал немалым актёрским талантом. Он мог легко предстать в роли купца, босяка, дворника, приказчика, богатого барина из высшего общества. За это знакомые и коллеги прозывали его Артистом.
Василий Романенко был родом из крестьян. Не имея ни связей, ни средств, но, обладая большой сметливостью и волей, он смог освоить азы многих наук и пробить себе торную, но пришедшуюся как нельзя более по душе, дорогу в жизнь. Служба его в сыскном ведомстве начиналась в качестве внештатного агента. Работа молодому человеку нравилась. Риска он не боялся, но даже любил его. Вскоре талантливого и универсального агента заприметил следователь Немировский.
– Экой ты Кот Иваныч! – похвалил он Романенко. – Умён ты, братец! Большой толк из тебя будет!
Вскоре Василь Васильич стал штатным сотрудником сыскного ведомства, получив и соответствующий чин. Теперь, имея за плечами, более пятнадцати лет сыщицкой работы, он имел огромное количество уже своих агентов, и имя его было весьма известно в Москве. На Хитровке и Старой площади о Романенко ходили легенды. «Гроза воров и шулеров» называли его.
Семейством Василь Васильич до сей поры не обзавёлся, считая, что оно будет лишь помехой в его полной приключений жизни. Волк-одиночка по натуре, Романенко оттого-то так легко и выходил на след самых хитроумных преступников, что имел с ними некую сродственность. Василь Васильич признался однажды:
– Если бы ещё в юности не стал я полицейским агентом, так уж без сомнения стал бы выдающимся вором… Может, даже Рахманова превзошёл бы. Да и теперь превзойду! Тем, что поймаю…
Романенко был любимцем женщин. Но ни одна из них не задерживалась в его жизни надолго. И, что удивительно, ни одна не чувствовала себя при этом обиженной…
На Бассейне уже толпились дворники. Один из них тотчас приметил Василь Васильича и подошёл к нему, поглаживая длинную бороду:
– Здрав будь, ваше благородие. Пришёл наши толки послушать?
– Пришёл, – кивнул Романенко. – Заодно тебя повидать пришёл. Ты куда же это, сукин сын, пропал? Или, может, сообщить тебе мне не о чем?
– Да о чём же сообщать, Васильич? Ты сам про всё знаешь. Вечор на Хитровке барина обчистили. Самолично Рахманов работал.
– Да почто ж ты знаешь, Рахметка, что самолично Рахманов?
– Я? Не знаю. Люди говорят… Говорят ещё, что Рахманов дочку одного енерала стащил да снасильничал… Что вдову на Кузнецком общипал – шубу с неё дорогую снял, а она даже не почуяла. Теперь, ваше благородие, что ни стрясётся на Москве, так всё этому шайтану приписывают. Говорят, будто он Антихрист есть, а потому его и поймать не могут. Чёрный, говорят, что головёшка. Говорят, что и ростовщика вчера он порешил…
– И барина, и ростовщика за один день – не многовато ли?
– Для шайтана-то? В самый раз! – Рахмет сощурил глаза. – Говорят, будто есть этакие люди, у которых две души. Что-то вроде оборотней. Когда одна душа спит, так вторая хороводит. Таковой двоедушник в нескольких местах сразу быть может. Шайтан, одно слово!
– А ну тебя, Рахметка, к матери под вятери! Что ты мне здесь лабуду всякую пересказываешь?! – рассердился Романенко.
– Так ты ж, ваше благородие, сам недоволен был, что я к тебе глаз не кажу да ничего не рассказываю. Рассказал – а ты сердишься! А что до Рахманова, так ещё говорят, будто он вчера у Шипова великий пир закатил! Один из наших сказывал, будто сродственник его гулял там. Сказывал, девка с ним рыжая была. Сущая ведьма! Он даже этой всей сварьбы застращался, водку допил и давай Бог ноги!
– Мне эта Шиповская крепость давно уже мозоль на глаз натёрла… Собирается там всякая… Ладно, ступай работать: проку с тебя, как с козла молока, вошь ты этакая…
– Зачем же забижать, Васильич?
– А ты не забижайся. Вошь и гнида даже людям хорошим не обида! На, вот, угостись! – Романенко протянул Рахмету пачку тютюна. – Будешь сворачивать да курить – вспомнишь меня добрым словом. Бывай!
– Спасибо, ваше благородие, – сказал Рахмет вслед уходящему сыщику и, спрятав табак, усмехнулся: – Гнида…
Отодрав бороду и остановив первого попавшегося заспанного извозчика, Василь Васильич велел везти себя на Поварскую к ресторации «Мечта».
Заведение это оказалось весьма небольшим и скромным. В столь ранний час посетителей ещё не было, и дородная дебелая буфетчица дремала у стойки, подложив под голову локоть. Романенко, не торопясь, опустился за стол и постучал по нему. Буфетчица подняла голову.
– Не боитесь так спать-то, душенька? Ведь так у вас весь ваш кабак вынесут вместе с вами!
– А вам-то что за забота? – буфетчица потянулась. – И кто вы такие будете?
– Я-то… – Василь Васильич улыбнулся. – Я из сыскной полиции буду, голубушка. Моя фамилия Романенко.
– Ой… – буфетчица проснулась окончательно. – Мы об вас слыхали-с…
– Вас-то как величать, душа моя?
– Полиною… Ой, а зачем это вы к нам нагрянули-с? У нас ведь заведение-с – чин чином. Ничего такого-с… Мазурики у нас не гуляют-с… Никаких случаев не было-с…
– Да вы не бойтесь, Полина, – Романенко закурил. – Я не по вашу душу.
– Что же вы желаете-с?
– Для начала позавтракать и поговорить.
– Это сей момент-с! Что прикажете-с к столу?
– Фаршированных калачей у вас нет, разумеется?
– Сожалеем-с… Зато есть пироги с капустою. И с рыбою… И…
– Несите все, что есть. И чайку горячего. Если есть, ямайского, если нет, то и всё равно какого…
– Водочки-с?
– С холоду рюмочку можно. Ерофеича, если есть.
– Как не быть!
– Отлично. Подавайте всё и поговорим. Есть у меня к вам несколько вопросов относительно одного человека, который у вас был не так давно.
Полина засуетилась и в считанные минуты накрыла стол. Романенко даже не ожидал от этой полной, но, впрочем, весьма интересной женщины такой проворности. Буфетчица раскраснелась, но это даже к ней шло. Василь Васильич выпил водки и, закусив оказавшимся вполне вкусным пирожком, обратился к Полине:
– Садитесь же. Составьте мне компанию. Я, знаете ли, не люблю завтракать в одиночестве.
Буфетчица села. Романенко извлёк из кармана фотокарточку Лавровича и протянул её ей:
– Вам знаком этот человек?
– Ой… Знаком-с… Я имям очень часто подавала-с… Они наши завсегдатаи. Михаил Осипович. А что, с ним случилось что-то?
– Увы, Полина, вчера его убили.
– Да что вы! – буфетчица сокрушённо покачала головой. – Ой-ой-ой, беда-то какая… Я имям булки всегда с маком подавала-с… Они любили-с…
– Простите, Полина, вы, случаем, не из Вятки будете? Говор у вас…
– Из Вятки-с… Меня здесь имямкою и прозвали-с, – покраснела буфетчица.
Романенко улыбнулся. Эта дородная красавица ему всё больше нравилась. Но нужно было говорить о деле.
– Часто ли бывал у вас Михаил Осипович.
– Не то чтобы очень… Захаживали-с…
– Один?
– Нет! Они всё с барышнями-с приходили-с. С разными-с.
– И много ли их было?
– Три, господин Романенко.
– Точно помните?
– Точно-с! Они и сами видные были, и барышни-с у них соответствовали.
– Можете описать их?
– Да, пожалуй, что… Они сюда часто с первою приходили-с. Очень неприятная женщина была… Вся такая яркая, грубая… Её Иделькою звали. Что за имя такое? Очень, очень неприятная…
– А о чём они говорили?
– Ой, вы только не подумайте, что подслушиваю… Так, долетало кое-что… Они какую-то Семирамиду поминали-с… Я ещё подумала: что за Семирамида такая? Экое странное имя!
– Спасибо вам, Полина. Вы даже не представляете, какую ценную информацию теперь мне дали…
– Ой, очень рада-с…
– А давно ли он с этой Иделькой был здесь в последний раз?
– Да совсем недавно были-с! Недели три тому… Ой, она такая злая была! – Полина прижала пухлые руки в высокой груди. – Так прямо и зыркала на него и шипела, аки гадюка. Вот, змея настоящая! И под конец как крикнула: «Заплатишь ты мне, сукин сын!» И убежала…
– Она только с ним у вас бывала?
– Да, только-с.
– А другие женщины?
– Вторая тоже, по-моему, не наших кровей была… Смуглая такая… И всё помалкивала. Они лишь два-три раза бывали-с. И всё молчали. Мне даже думалось, что она по-нашему не знает. Но красивая! С такой красотой всё можно! Кофе по-турецки любила-с. Думаю, может, турчанка она какая?
– Имени её вы не знаете?
– Не знаю, господин Романенко. Говорю ж, молчали они… Он её по руке только погладит так ласково… Шепнёт что-то и всё-с.
– А третья?
– Третья совсем недавно-с появилась! Были они вместе у нас дважды. Совсем девочка. Худенькая, беленькая. Что ребёнок. Даже мне странно стало: неужто после таких-то женщин их на такую девочку-то потянуло-с? Даже неприлично-с как-то… Уж не знаю, сколько лет ей было. Но, убей меня гром, совсем молоденькая. И семнадцати-то не дала бы… Они с нею очень ласковы были-с. Пирожные ей покупали, фрукты. Она их, господин Романенко, «папочкой» величала… И то сказать: в отцы они ей годились. Срам какой-то!
– А её как звали?
– Не то Людочка, не то Любочка. Не расслышала я. Не взыщите-с! Но она тут и без него бывала-с.
– Одна?
– Нет-с! С мужчиной! С другим мужчиной! Раза два или три!
– Можете описать?
– Могу-с! Они собою очень видные были! Прямо принц заморский! И молодые ещё! С ихнего бы лица воду пить – до того хороши! И бурнус белый! Имени она их не называла. Они у нас без неё не бывали-с… Но, если б увидела, то узнала бы…
Романенко допил чай, поднялся и, поцеловав полную, пахнущую сдобой руку буфетчицы, сказал:
– Спасибо вам, Полина, огромное. И внесите меня в список завсегдатаев. У вас очень вкусные пирожки!
Буфетчица залилась краской:
– Что вы, господин Романенко…
– До свидания, Полина! – Василь Васильич откланялся.
– Заходите-с! – проводила его буфетчица.
«Действительно, «Мечта»! – весело подумал Романенко, покинув ресторацию. – Чудная женщина…»
Улицы Москвы уже наполнились людьми. Ходили торговцы, держа на лотках свой нехитрый товар. То там, то здесь слышались призывные крики:
– Сигареты-папиросы!
– С пылу, с жару – на грош пару!
– Молока!
– Газеты, свежие газеты!
– Ешь, Москва, не жалко!
Василь Васильич покрутил ус и остановил извозчика.
– В Газетный! – велел он.
– Валяй-качай – даст барин на чай! – гаркнул ямщик, хлестнув лошадь.
В номерах по Газетному и Долгоруковскому переулкам, называемыми обывателями «Кавказом», в большом количестве жили актёры. А часто господа снимали эти номера на ночь или же несколько дней для «приятного времяпрепровождения». Здесь у Романенко тоже были свои люди, знавшие точно, кто и когда какой номер снимал. Отыскав их, Василь Васильич показал им фотокарточку убитого ростовщика, но агенты лишь покачали головами:
– Никогда не бывало здесь такого господина.
– Недели две назад не приезжал ли он с молоденькой девушкой?
– Мы бы знали, ваше благородие. Уж кто в этих-то целях здесь останавливается, мы знаем. Этого господина не было.
– А молодого красавца в белом бурнусе не бывало ли?
– Красавцев-то много… А так чтобы в белом бурнусе… Нет, тоже не было…
– Чих-мох, не дал Бог… – пробормотал Романенко, пряча фотокарточку. – Если вдруг такой появится, доносить немедленно.
Из «Кавказа» Василь Васильич отправился в полицию, где его уже дожидались несколько агентов, которых он ещё накануне вечером снарядил обойти часовые мастерские в поисках золотого бригета с брильянтом и инициалами «МЛ». По их лицам Романенко понял, что и здесь «не дал Бог». Ни в одной мастерской искомых часов обнаружено не было. Отпустив агентов, Романенко задумался. Вся эта история с Газетным переулком казалась ему чрезвычайно странной. Юная камелия, встречающаяся одновременно с двумя мужчинами, ни одного из которых не видели в месте её возможного проживания, при том, что доподлинно известно, что, по крайней мере, один её туда отвозил. Отвёз и уехал, не зайдя? Почему? Или же девушка живёт там не одна, и встречались они в другом месте? Или и вовсе не живёт она там? Тогда, тем более, зачем он отвозил её туда и почему не зашёл? Загадка… И кто этот – второй? От маленькой камелии мысли Василь Васильича перенеслись к неуловимому Рахманову и его пиршеству у Шипова. Вор пирует в Москве, ничего не боясь – это уж вызов больший, чем обман директора петербургского департамента, которому, положа руку на сердце, так и надо: нечего столь высокому сановнику с шулерами садиться…
Проработав, как обычно, допоздна, Романенко не отправился домой, а поехал в «Мечту». Ресторация уже закрывалась, и полная буфетчица уже сняла передник и пила чай перед тем, как уйти. Увидев входящего Василь Васильича, она покраснела:
– Ой… Это вы… Ах, как поздно-с! А я ведь ждала вас… Не хотите ли поужинать? У нас ещё кое-что осталось… Я согрею-с.
Грудь Полины высоко вздымалась: видно было, что она очень волнуется.
– Нет, Поля, ничего не нужно. Я нынче заглянул только для того, чтобы вас повидать…
Буфетчица улыбнулась, опустив глаза, и подошла к Романенко. Василь Васильич взял её горячую руку и поднёс к губам:
– Вы теперь домой, Поля?
– Да… – отрывисто отозвалась Полина. – Я недалеко живу-с…
– Позволите мне вас проводить? Поздно уж. Всякое быть может.
– Ой, только благодарна вам буду-с! – сказала буфетчица, и глаза её заблестели.
Жила Полина, в самом деле, недалеко. Всего в четверти часа ходьбы от ресторации. Дойдя до дома, она робко подняла большие карие глаза на Василь Васильича и предложила:
– Может быть, поднимитесь… ко мне? Чаю-с откушаете? Поглядите-с на моё житьё-бытьё?
– Если только это удобно, – откликнулся Романенко.
– Удобно-с… Я ведь одна живу… Только осторожно на лестнице. У нас темно-с…
На лестнице было не просто темно, но и вовсе ничего не видно. Ощупью Василь Васильич поднялся за Полиной на второй этаж и вошёл в маленькую квартиру. Буфетчица зажгла свет и аккуратно повесила свою мантилью и тулуп гостя.
– Чаю-с? – тихо спросила она. – Согреться?
– А разве нам холодно? – Романенко посмотрел на Полину игривыми глазами и, привлёкши её к себе, стал целовать в подрагивающие полные губы.
– Какие-с вы горячие-с… – прошептала буфетчица, ничуть не сопротивляясь натиску Василь Васильича. – Но постойте-с… Пойдёмте-с… В комнату…
Романенко прошёл за хозяйкой в комнату. Полина затеплила ночник, задёрнула шторы и закрыла завесой стоявшую в углу икону. Повернувшись к гостю, она распустила стянутые прежде в узел волосы, рассыпавшиеся золотистой лавиной. Романенко подошёл к ней вплотную и, легко приспустив платье, стал целовать её белые, мягкие плечи.
– Имямочка моя, – прошептал он. – Сахарная моя имямочка…
Платье, шелестя, осело на пол. Слабый свет свечи отразил на стене бедной комнаты две тени: сильного и статного мужчины и рубенсовской красавицы… Ночь была тиха. И слышно были лишь глубокие, полные упоения вздохи женщины и шёпот мужчины:
– Имямочка моя…
***
Ссудная лавка «Шульман и Ко» находилась на Басманной улице и имела приметную вывеску, благодаря которой найти её было весьма легко.
Отряхнув свой честерфильд от снега, Николай Степанович постучал набалдашником трости в дверь. Тотчас показалось лицо конторского служащего с бегающими глазами.
– Что угодно господину? – спросил он.
– Мне угодно видеть хозяина сего заведения.
– Никак невозможно. Яков Самойлович нынче нездоров. Зайдите дня через два.
– Даже если он лежит в постели, ему придётся меня принять, – отозвался Немировский.
– С кем же имею честь?
– Статский советник Немировский. Следователь.
– Ох, ваше превосходительство, зачем же вы сразу не сказали? – засуетился конторщик. – А я-то вас за клиента принял… И на пороге держу! Проходите! Я теперь же скажу об вас Якову Самойловичу.
Николай Степанович переступил порог и оказался в просторном помещении очень хорошей и дорогой отделки. Конторщик принял у него пальто, шляпу, трость и перчатки и поспешил докладывать хозяину. Немировский извлёк из кармана тавлинку и с наслаждением понюхал табаку.
– Милости прошу, – сказал конторщик, угодливо и заискивающе глядя на следователя и указывая на одну из дверей.
Немировский вошёл в указанную комнату и оказался в кабинете с опущенными шторами и неярким освещением. В большом кресле с укрытыми пледом ногами, в халате и с полотенцем на голове сидел тучный господин лет шестидесяти. При появлении следователя, он отнял полотенце от головы и едва слышно сказал:
– Прошу великодушно извинить меня, господин Немировский, что принимаю вас в таком виде и не поднимаюсь вам навстречу. Ей-богу, не имею сил… Болен… Пожалуйста, садитесь, где вам удобно…
– Благодарю, господин Шульман, – Николай Степанович взял стул и, поставив его аккурат напротив ростовщика, сел на него, положив ногу на ногу. – Постараюсь не отнимать у вас много времени.
– Я догадываюсь, господин следователь, зачем вы пришли… Я знаю, что убили Мишу Лавровича… Вы ведь по этому делу? – спросил Яков Самойлович.
– Именно. Я знаю, что вы часто с ним имели дело, и хочу задать вам несколько вопросов.
– Я вас слушаю.
– Вы хорошо знали убитого?
– Не очень… Мы делали с ним дело, и о делах друг друга знали достаточно, но ни дружбы, ни приятельства меж нами не было. О его личной жизни я ничего не знаю. Я и не бывал у него… Он сам приходил…
– Что ж, поговорим о делах. Как они обстояли у Лавровича?
– Прелестно, господин следователь. Дело его набирало обороты… Он был очень хваток: такому палец в рот не клади. Всего-то без году неделя в Москве, а уж успел наладить дело… И капиталец у него был весьма солидный, я вам доложу.
– Сколько именно?
– Точно не скажу… Но что-то около пятидесяти тысяч… А, может, и больше.
– Скажите, а с какими делами он обращался к вам?
– Иногда просто за советом… Всё-таки был он в Москве человек новый, а я уж давно здесь всё знаю… Иногда приводил своих клиентов в некоторых спорных случаях, когда требовалась оценка какой-либо вещи. Я ведь специалист по ювелирным изделиям и многих ювелиров знаю лично… А Миша в них не очень разбирался. Вот, векселя – дело другое! А оценить на глаз камень не мог… Боялся переплатить…
– И часто ли он к вам приходил по этому поводу?
– Не очень… Был у него один клиент, который всё ему разные украшения носил да требовал за них шибко. С ним, в основном, приходил.
– Описать его можете?
– Высок, изящен, смазлив… Из студентов. Этакий «белый воротничок». И пыль в глаза любил пустить… Одно его пальто чего стоило… Белое такое, широкое… С капюшоном.
– Бурнус?
– Наверное…
– А как звали этого молодого человека?
– Господин следователь, да откуда же мне знать? – поморщился Шульман, вновь поднося полотенце к голове. – Мы не полиция, документов не спрашиваем… Назывался он Георгием. А уж, как его на самом деле, чёрт знает.
– А скажите, почему вы столь охотно консультировали Лавровича? И как, вообще, вы с ним познакомились? Ведь он в Москве недавно…
– А чего б мне его неохотно консультировать? За консультацию ведь отдельные комиссионные идут. В особенности, если как надо проконсультировать… – усмехнулся Яков Самойлович. – А свёл нас Захарка Бланк, зять мой. Он на Неглинной контору держит. Они с Мишей земляки… Только Захарка уж лет двадцать как в Москве, а дружок его лишь теперь приехал. Ну, зятёк мой и помог ему по старой памяти.
– Ну, спасибо, господин Шульман, – Немировский поднялся.
– Не за что… Желаю вам скорее раскрыть это дело. Прощевайте!
– До свидания, господин Шульман.
Покинув контору Шульмана, Николай Степанович отправился на Неглинную. К его величайшему удивлению, Бланк уже ждал его:
– Проходите, проходите, господин следователь! Наслышаны о вас, в газетах читали! Вы теперь от Якова Самойловича? Сильно хвор старик? Но о чём это я! Проходите! Располагайтесь! Я уж ждал вас!
Немировский прошёл в кабинет Бланка и, опустившись на диван, полюбопытствовал у суетливого хозяина:
– Я только теперь от господина Шульмана… Как же вы уж меня ждёте?
– Ах, да вы уж как зашли к нему, я знал… А ждал и того прежде… Пантофлёвая почта10, господин Немировский! Слухи быстро доходят… Чайку не желаете? Или кофе?
– Нет, благодарю вас.
– Тогда к делу? Вы ведь по поводу Миши Лавровича? Всё, всё как на духу вам расскажу!
– Да вы сядьте вначале…
– О, уважение не позволяет, господин следователь!
– Однако, я попросил бы вас сесть, потому как я не люблю разговаривать сидя, когда мой собеседник стоит.
– Как прикажете! – Бланк не сел даже, а впрыгнул всем телом в кресло, утонув в нём.
– Давно вы знакомы с Лавровичем?
– Как же? Росли вместе! Мамаши наши покойные друг другу двоюродными сёстрами доводились. Так что мы родственники! Жили мы во Владимирской области. Городок Александров, не слыхали ли? Там где государь Иван Грозный жил? Там и жили! Потом, когда родители мои померли, так я в Москву ходу дал, чуя в себе большие способности к финансовому делу. А Миша до поры там остался… У него и там дела неплохо шли… Дом был, лавка была… Признаюсь, чем он эти двадцать лет там занимался я плохо знаю. Я очень даже удивлён был, когда его нелёгкая в Москву принесла. Вдруг! Как снег на голову! Там всё продал и в столицу… Чудно! Но Миша скрытный был: не рассказывал…
– Что же, большой капитал был у вашего друга?
– Весьма большой. Говорят, его ограбили? Верно ли?
– Верно. Скажите, вам что-нибудь известно о женщинах Лавровича?
– О! Миша всегда пользовался у них успехом. Не знаю, почему. Они его очень любили… А он их… Это была его единственная слабость. Впрочем, любил здесь едва ли уместное слово. Это была любовь коллекционера. Любовь к красивым вещам. А иногда и не очень… Он мог любить и красавицу, и замарашку… Из любопытства… Я ему всегда говорил, что женщины его до добра не доведут. В нашем деле столь серьёзные увлечения вредны. Они мешают. Но таков уж был Миша… Чуть видел новую юбку, и уже мысленно раздевал её обладательницу…
– Вы знаете что-нибудь о тех женщинах, с которыми он имел дело в Москве?
– Кое-что… – уклончиво ответил Бланк. – Первую звали Иделькой. И, насколько я понял, он подцепил её в каком-то соответствующем заведении… Ну, вы понимаете… Не знаю, в каком… Я в таких не бываю. И ещё Миша жаловался мне, что она буквально выкачивает из него деньги. Он её даже боялся… Вообще, отвратительная, распутная баба… Уже немолодая… Что он в ней нашёл?
– А женщина, с которой он жил последнее время?
– А, вот, это тайна за семью печатями! Миша обычно любил хвастаться своими победами, но о ней говорил чрезвычайно мало… Говорил только, будто она из знатного рода. Правда, я не верил. Конечно, женщина роскошная, не чета Идельке, но всё-таки… Когда я у Миши бывал, так она уходила в другую комнату и всегда молчала. Как немая! Но осанка, жесты, взгляд – и впрямь важно! Может, Миша и не врал, что она аристократка… Бог весть! Одно могу сказать: к ней он относился серьёзнее, чем к любой другой из своих прошлых женщин. Я даже подумал, что он таки женится…
– Неужели он даже не называл её имени?
– Не называл. Он шутливо звал её своей Шамаханской царицей. А что, она так и не назвала вам своего имени?
– Представьте себе. Мы думаем, не помешалась ли она… И, действительно, тайна: никто не знает её имени.
– Загадочная женщина, – протянул Бланк.
– Вы хорошо знали клиентуру покойного?
– Кое-кого знал. Точнее, имел дело, видел. Например, однажды он заходил ко мне с молодым, весьма щёгольского вида молодым человеком. Из благородных, кажется… На нём ещё плащ был белый… Бурнус.
– Его не Георгием звали?
– Совсем нет… Да Бог памяти… Миша назвал его Володей. Потом я видел его ещё раз. Уже у Миши. У них какие-то общие дела были…
– А известно ли вам что-нибудь о юной девушке, с которой виделся ваш друг в последние недели?
– Что? – Бланк с непритворным удивлением вскинул густые брови. – Миша встречался ещё с кем-то? Вот, это новость! Не думал я, что он так быстро насытится своей Шамаханской царицей… Ай да Миша! Вот это так Миша! Увы, господин Немировский, об этом предмете ничего сказать не могу. Весьма сожалею. Однако, если что, всегда готов служить!
– Благодарю вас. Если этот белый бурнус к вам заявится, не сочтите за труд известить, – Николай Степанович откланялся. – Честь имею!
– Не извольте сомневаться! Всего доброго! Прощевайте! Будьте осторожны. Нынче такая ужасная метель! А вы сами по свидетелям ездите… Вы бы к себе пригласили… Может быть, всё-таки чаю? Или кофе?
– Благодарю, не нужно!
– Ну, как угодно, как угодно…
Метель, в самом деле, разыгралась нешуточная. Немировский близоруко сощурился, ища среди снежной бури силуэт извозчика. Внезапно знакомый голос окликнул его:
– Николай Степанович, вы?
Прямо перед следователем остановились пошевни, запряженные двумя конями. В них сидел собственной персоной Василь Васильич Романенко. Лицо его выражало предельное смятение.
– Друг сердечный, что с тобою приключилось? На тебе лица нет! – поразился Немировский.
– Недалеко от Чижиковского подворья ограбление. Судя по почерку, Рахманов со своей бандой. Но хуже всего: когда эти мерзавцы удирали, их пытался задержать полицейский наряд, случившийся неподалёку, так они пальбу открыли и двоих наших уложили… Афанасьева, пристава, в живот поранили. Несколько часов промучился… Я от него теперь. Скончался! Ох, Николай Степанович, сердце у меня оборвалось… Жена, мать, детишек четверо осталось! Все ревут… Ведь по миру ж пойдут! Ох, найду я этого гада, в битое мясо превращу… Вы теперь куда путь держите? На службу? Так садитесь, я вас подвезу.
Немировский сел в сани.
– Сам-то, Вася, куда теперь? – спросил он.
– Да к Чижиковскому… Я все эти подворья, все ночлежки, все кабаки прошерстю… Я зубами землю грызть буду, чтобы этих выродков откопать, я сам, если надо костьми в неё лягу, а их найду и в землю же зарою! Ох, тяжко-то…
Николай Степанович вытащил бумажник и, вынув из него почти все деньги, протянул Романенко:
– Возьми, передай потом вдове.
– Спасибо. Им они теперь куда как кстати будут… И ведь толковый был мужик. Умный, честный… Сын младший полгода как на свет появился… А подонок, который его убил, может быть, в каком-нибудь кабаке теперь водку жрёт да девок непотребных щупает! Ох, тошно! Попадись он мне, так своими же руками бы… Но да я до них доберусь, или пусть меня дьявол заберёт. Господом Богом, Троицею Святой клянусь: достану их! Иначе и жить мне невозможно. Тут уж такой расклад: или я этого мерзавца Рахманова изловлю, или он меня на тот свет отправит. А вместе нам под одним небом не ужиться.
– Ты только поосторожнее, Василь Васильич. На рожон-то без надобности не лезь.
– Да мне что! – махнул рукой Романенко. – Я ведь от семи собак отгрызусь. Что со мной сделается? Да и легче мне: я ведь один, как перст. Только собою рискую. После меня ни вдовы, ни сирот не останется… Потому я ничего не боюсь и Рахманова достану, чего бы мне это ни стоило.
Некоторое время ехали молча. Василь Васильич грыз губу, уставясь в одну точку. Наконец, он зло буркнул:
– И что за погода такая проклятая? Из-за этого снега даже закурить невозможно… Вы-то, Николай Степанович, каким ветром на Неглинной оказались?
– К ростовщику одному заходил. Оказался дальним родственником и приятелем Лавровича.
– Поведал что-нибудь интересное?
– Кое-что. Хотя, надо сказать, весьма негусто. Скрытный человек был покойник. И дама его – скрытная. Вообще, в этом деле одни загадки… Куда не ткнешь, всюду болото. Ты, вот что, Василь Васильич, вечером сегодня заезжай ко мне на квартиру отужинать. Заодно и обсудим все новые детали нашего дела.
– И то верно, – отозвался Романенко. – А то я сейчас ни о чём, кроме Рахманова и его шайки, думать не могу. Вы говорите, а я и в толк взять не могу. Правда, лучше уж вечером…
– Ну, вот, и славно. Анна Степановна будет рада тебя видеть. Ты уж только не стращай её этой проклятой бандой. Она и без того спит скверно и хворает частенько.
– Да уж не буду, – вздохнул Романенко. – А вам скажу, Николай Степанович: все нервы у меня этот Рахманов вымотал. И ловок, что чёрт. Ускользает, как в печную трубу вылетает… Вот, всё доброта наших присяжных! Этого убийцу и подлеца надо было ещё тогда повесить, ан помилосердствовали: на каторгу послали. А он сбежал! И этих же обывателей, что в присяжных набирают, режет и грабит… А мне лови его! Да брань слушай от граждан: полиция, мол, ничего не делает! Да ещё от начальства: постарел ты, мол, Романенко! Вся Москвы от негодяя стоном стенает, а ты его поймать не можешь! Вот, счастье-то привалило: под дурака балаганить!
Сани мчались по городу, занесённому снегом. Метель разыгралась столь сильная, что не видно было даже крестов многочисленных московских церквей и соборов. С трудом верилось, что за этой снежной пеленой банда Рахманова, может быть, даже теперь уже творит очередное кровавое злодеяние или вынашивает план оного…
***
– Саранцев Фёдор, Лодырев Степан, Загиба Михаил, Подкова Прохор, Бецкий Георгий…
– Всё-всё-всё, достаточно, – махнул рукой Вигель, поднимаясь из-за стола и расправляя затёкшую спину. – Антон Сергеевич, сколько всего у нас вышло постоянных клиентов?
– Человек семь, Пётр Андреевич, – отозвался Любовицкий, протирая платком пенсне. – Только загвоздка-с: имена-то у них вполне вероятно вымышленные-с. В таких конторах своими по неопытности лишь подписывают… А эти господа, по всему видать, опытные-с.
– Василь Васильич узнал вчера, что барышня, с которой виделся убитый в последнее время, встречалась с неким господином в белом бурнусе… Дворник Клим Карпыч вспомнил, что видел такого человека несколько раз выходящим от Лавровича… Вполне вероятно, что он один из этих семерых. Остаётся дождаться Николая Степановича… Быть может, кто-то из ростовщиков знает этого субъекта?
– Весьма может быть, – Любовицкий раскрыл свою огромную тетрадь-брульон и стал в неё что-то записывать своим бисерным почерком. – А господин этот, по всему видать, эфектёр большой! Ходить всюду в столь привлекающей внимание одежде… Белый бурнус!
– А что это вы там записываете, глубокоуважаемый Антон Сергеевич? – полюбопытствовал Вигель.
– Так, кое-какие детали дела… Для памяти-с… Я картотеку-с составляю. Вот, выйду на заслуженный отдых и мемуары-с напишу.
– Мемуары – это ничего. Только Николай Степанович строго-настрого запретил вам уже теперь писать в газеты что-либо о текущих делах.
– Обижает меня господин следователь… Что я, совсем уже без понятия-с? Вот, закончим дело, тогда и напишу-с. Презанятный фельетон. Я, господин Вигель, уж очень погазетничать люблю-с, пером пошалить, – Любовицкий ухмыльнулся и захлопнул брульон.
– А, верно ли, что вы в газетах публикуетесь? – спросил Вигель, наливая себе чаю. – Не желаете?
– Благодарю-с, не стоит. Верно-с, печатаюсь. В «Гудке» и в «Московском телеграфе». Не под своею фамилией разумеется. Инициалами лишь обозначаюсь.
– И хороший ли доход приносит это дело?
– Как прибавка к жалованию, очень недурно-с. Но, главное, сознание причастности к журнально-газетному миру! Миру литераторов! Я ведь, Пётр Андреевич, большое почтение-с к писателям питаю. Вы человек книжный и меня несомненно поймёте. Я подлинно горжусь, что живу в одно время с такими гениями, как Толстой, Достоевский, Тургенев, Некрасов… Это же честь великая! Перед каждым готов шляпу снять и на колени пасть! Вот, не так ещё давно в «Отечественных записках» читал прелюбопытнейший роман господина Достоевского «Подросток». Ведь какая глубина-с! Ведь теперь столько таких подростков! И многие из них, заметьте-с, становятся нашими клиентами… Жалко-с! А эта сцена с повесившейся девушкой! Да ведь душу-с переворачивает! Согласны-с?
– Да, да, переворачивает… – согласился Пётр Андреевич, вспомнив, как рыдала Ольга, прочитав эту самую сцену, как сама она, подобно несчастной девушке, едва не попала в руки развратника, пытаясь заработать денег уроками.
– Глубина поразительная-с, – продолжал Любовицкий. – Нет, господин Достоевский наиболее интересный сегодня писатель. Он именно те пласты жизни затрагивает, с которыми нам, по специфики профессии, дело иметь приходится… Ах, когда бы мог я так писать! Между прочим, я ведь даже письмо-с написал ему… Да-с… По поводу одной из его статей в «Дневнике». О присяжных наших… Ах, как глубоко подмечены все тонкости-с дела!
– Антон Сергеевич, а зачем же вы сами пишете фельетоны в стиле господ марал? Глубин-то и не затрагивая?
– Не в бровь, а в глаз попали-с. Но в изданиях, где печатаюсь я, именно такой материал требуется. Читателя, Пётр Андреевич, надобно взбулгачить… Публика-с падка на скандал. Ей такие фельетоны по вкусу. И романы жульнические тоже. Бумагопрядильного сорта-с. Ругают их, а читают! Вот, когда бы меня кто лансировал в мир литературный…
– Подобная литература развращает вкус и нравы.
– Согласен с вами. Вообще, я считаю, что у нас нынче суд чересчур гуманен-с. Иного висельника в вечную каторгу бы, а ему всего лишь несколько лет острога-с! А то ведь и вовсе простят господа присяжные! А народ-то нужно в повиновении и страхе-с держать, а не то он власть понимать престаёт и своевольничать начинает. Беситься, если угодно-с. У нас нынче все бесятся… Не перебесятся. И пуще в дальнейшем беситься будут.
– Мрачно вы рассуждаете, Антон Сергеевич… – заметил Вигель, разглядывая писаря. Это был невзрачный человек, ещё молодой, но с полным при этом отсутствием молодости в облике. Сутулый, с желтоватым лицом и редкими волосами, маленькими, глубоко посаженными, близоруко сощуренными глазами под толстыми стёклами пенсне – он говорил надтреснутым голосом с видом всезнания под стать древнему мудрецу… Его заветной мечтой было прославиться на литературном поприще, но беда была в том, что, и занимаясь литературой, Любовицкий оставался писарем. И многочисленные писания его изобличали в нём безжалостно обычного графомана. Впрочем, преклонение его перед писателями было вполне искренне, хотя было очень сильно приправлено завистью к их таланту и славе.
– Да как же рассуждать, когда до того осатанели-с, что в царя стрелять смеют-с? – произнёс Антон Сергеевич. – Экая темень… Надобно свет зажечь…
Вигель ничего не ответил. За окном огромными хлопьями валил снег, из-за которого, в самом деле, было очень темно. Пётр Андреевич с раздражением на самого себя думал о том, что даже за работой не может ни на минуту забыть об Ольге. Он добросовестно проштудировал все записи убитого ростовщика, что и позволило выявить семерых самых частых его завсегдатаев, переписал заклады и поместил объявление о возвращении их хозяевам, и уже с утра текущего дня стали приходить люди, чьи данные исправно записывались Любовицким.
«Ах, если бы этот снег мог замести мою душу, замести, заморозить, не дать болеть дольше… Несчастная любовь – чахотка души… Душа исходится кровью, и не один лекарь не может её исцелить… Господи, как же тяжело! А каково-то ей? Если бы у меня были деньги, было положение, то всё бы иначе повернулось… О, да ведь от такого именно отчаяния и идут подчас на самые страшные преступления. Убивают от такой язвы… Или сами умирают…» – думал Вигель. Ему вдруг вспомнилось, как год назад на катке возле Новодевичьего монастыря он катался с Ольгою на коньках. Она была ловка и быстра, и Пётр Андреевич, первый раз вставший ради неё на коньки, не мог поспеть за нею.
– Какой же вы медведь! – смеялась Ольга, и от смеха и морозного румянца лицо её преображалось. – Дайте мне руку!
– Не дам, Ольга Романовна: я, чего доброго, свалюсь и вас за собой потяну! Где вы научились так кататься?
– Когда мама с отцом были живы, они зимой каждую субботу на каток ездили и меня брали…
Она всё-таки схватила его за руку и потянула за собой. Пётр Андреевич оступился и навзничь рухнул на лёд, увлекая за собой девушку, которая, впрочем, упала на него, а потому не ушиблась. Вигель сильно ударился головой, но первые мгновения не почувствовал боли от упоительного ощущения: Ольга лежала на нём, упёршись руками в его грудь, и лицо её с расширенными испуганными глазами было в нескольких сантиметрах от его лица, так что он еле удержался, чтобы не поцеловать её. Ольга поднялась и спросила у со стоном приподнявшегося и оставшегося сидеть на льду Петра Андреевича:
– Вы сильно ушиблись? Что у вас болит?
– Не беспокойтесь, Ольга Романовна… Пустяки. Только голова побаливает немного…
– Позвольте я посмотрю, – Ольга опустилась рядом с ним на колени, сняла перчатки с маленьких рук и пощупала его голову. – Да у вас на затылке большая шишка! Надо сделать компресс, и всё пройдёт. Идёмте скорее к нам!
В тот день Вигель первый раз побывал у Ольги дома, и она собственноручно наложила ему на голову компресс. Боль и впрямь отпустила, но, вероятно, не столько от компресса, сколько от прикосновения заботливых любимых рук, которые так хотелось ему целовать целую вечность… А потом пили чай с малиновым вареньем и разговаривали о чём-то… О чём – важно ли? В таких разговорах важна не суть их, но звучание любимого голоса. Слушают, как в самых красивых оперных ариях, не слова, но голоса друг друга, и от звучания их души наполняются неизъяснимым счастьем…
Скрипнула дверь, и на пороге возникла женская фигура в заметённом снегом салопе.
– Здесь заклады возвращают? – спросила она.
– Здесь, сударыня, здесь! – подтвердил Любовицкий, поднимаясь навстречу даме. – Извольте представиться и сообщить, какая именно вещь будет ваша?
– Меня зовут Анна Алексеевна Муромцева, но у Михаила Осиповича я была записана под инициалами А.А.М. Мне принадлежит коралловое ожерелье. Большие тёмные камни, похожие на виноградины.
– Есть такое, – кивнул Любовицкий, выдвигая ящик стола, в котором хранились заклады. – Распишитесь в получении! – он подал Муромцевой бумагу и перо.
Закладчица расписалась. Любовицкий протянул ей ожерелье.
– Анна Алексеевна, – спросил Вигель, – а часто ли вы прибегали к услугам покойного?
– Раза два, сударь, приходилось.
– Скажите, не приходилось ли вам встречать у него молодого человека весьма эффектной наружности в белом бурнусе?
– Нет, не встречала. Мы с господином Лавровичем исключительно приватно имели дело.
– Что ж, благодарю вас и более не задерживаю. Прощайте.
– Всего доброго, господа, – дама ушла.
Вигель вновь сел за стол и спросил писаря:
– Много ли ещё вещей осталось?
– Порядочно, Пётр Андреевич… Погода нынче больно сердитая: не идёт народ. Но, думаю, в ближайшие дни всё почти разберут-с. Вы, я вижу, скучаете-с? Тоска вас гложет какая-с?
– Есть немного…
– А, вот, это дурно-с весьма. Вы нынче всё, я замечаю, в задумчивости пребываете. И вовсе не о деле, а о вещах посторонних. А, между тем, дело наше к себе такого отношения-с не терпит, это вам Николай Степанович доподлинно скажет.
– Я понимаю, Антон Сергеевич, и сам сердит на себя! Но, вот же ведь в какую балладу угодил! Не идёт этот гвоздь у меня из головы: засел и не выходит – хоть пулю в лоб, честное слово!
– Экая аримурия… Нет, никуда негодно-с, чтобы этак… Много вы наработаете! Вы бы, может, попили бы хорошенько денёк да и избавились от этого гвоздя?
– От вас я подобного совета не ожидал! Сами-то вы, как я слышал, спиртного в рот не берёте.
– Я дело иное. Мне, кроме бумаги и пера, ничего не нужно-с. А другим, чтобы тоску разомкнуть, непременно разгуляться надобно!
– Не пробовал… И, если честно, не имею желания.
– Тогда выбейте ваш гвоздь как-то иным образом, а то несправедливо-с выходит, согласите-с: вам поручено-с работать по этому делу, а вы второй день сидите, глядите, что филин поутру, варитесь в своих личных переживаниях, а всю работу я один делаю-с! Я, разумеется, всё понять готов, но всё-таки…
– Простите меня, Антон Сергеевич. Я обещаю, что возьму себя в руки.
– Уж сделайте-с одолжение! – Любовицкий заправил волосы за уши и спросил с усмешкой: – Небось, зело хорош собою гвоздь ваш… У меня, поверите ли, некогда тоже-с амур был… Я тогда лишь на службу поступил… Она портнихой была. Ничего себе барышня… И нравом покладистая. Я тогда тоже ещё болести своей не заимел, а потому, поверите ли, тоже был вполне презентабельный юноша. Конечно, красотой никогда не отличался, но… Беден я был, что церковная мышь. Батюшка-то мой настоятелем сельской церкви был. А, кроме меня, у него ещё семеро человек детей было-с… Тоска-с страшная! Школу приходскую закончил и рванул в город: просвещения алкала моя душа, культуры-с! Но, хоть был я и беден, а портнихе моей гостинцы всегда покупал-с: букетик там или платок какой… Она, как дитя малое, тому радовалась… Ласковая была… Верите ли, ко мне с таким участием даже родная мать не относилась… Так-то…
– И что-то же стало с вашей возлюбленной? – спросил Вигель.
Антон Сергеевич опустил голову:
– Мы с нею очень близки были… Даже жениться на ней думал… Но не случилось…
– Где же она теперь?
– Умерла-с… От чахотки-с… Скоропостижно-с… Я с нею до последнего вздоха был. И, верите ли, только тогда понял, как она меня любила, и как я её любил. У неё ведь никого не было… Я и на могилку её по сей день хожу-с… Верите ли, когда её не стало, я сам с тяжкой болезнью слёг. Врачи полагали, что не выживу… Да и сам я жить не желал… А, вот, выжил! Только, как видите, высох весь и пожелтел… Я тогда, верите ли, первый раз стихи писать взялся… К ней-с… Этим и спасался… То, что выплакать уже не мог, в стихах выговаривал… Я их никому не читал-с. Это – не для печати-с…
Пётр Андреевич с изумлением смотрел на писаря: кто бы мог подумать, что этот человек, начисто, казалось бы, лишённый всякого романтического чувства, пережил в жизни такую драму…
А Любовицкий, между тем, продолжал, рассказывая спокойно и отстранённо, как если бы речь шла не о нём, а о вовсе постороннем человеке.
– Я её до сей поры забыть не могу… Но живу, вот… В газеты-с пишу… Верите ли, иногда я задумываюсь, для чего дана жизнь человеку? Родился – спешил куда-то, хотел чего-то – умер… И для чего всё это? Ради царствия небесного, о котором проповедует отец мой по воскресениям, будучи в остальные дни полностью затянутым делами земными, мирскими, пустыми? А есть ли оно? Я, вот, сомневаюсь… Люди приходят в мир… Иные из них совершают благие дела, создают величайшие вещи… Царства создают целые-с! А зачем? Чтобы однажды пришёл бесталанный и грязный невежа и из глупости или же из жажды геростратовых лавр разрушил ими созданное?! Подумайте, великий человек выстроил грандиозное здание, а какое-то ничтожество для потехи возьмёт и разрушит его?! Да во имя чего же тогда строить? Во имя чего делать благо? Вот, мысль, которая ужасает меня, Пётр Андреевич! Нет, у нас слишком гуманно всё… К подлецам, к черни-с… Мы даём им свободу, мы их жалеем, мы снисходительны! Нельзя-с! Потому что эти люди снисхождения нашего не оценят, но, поняв его как слабость, направят против нас. Калёным железом нужно выжигать эти наросты на теле нашем! Уничтожать! Иначе однажды, нами освобождённые, упоённые дарованной нами им из идиотического милосердия вседозволенностью, бросятся на нас и растерзают-с, и построенное нами разрушат, в пыль обратят-с! И будет празднество торжествующего холопа! Книги сожгут, скульптуры разобьют, а нас перережут-с…
– Бог с вами! – Вигель встревожено поднялся. – Успокойтесь, Антон Сергеевич! Откуда столь страшные мысли?
– Сам не знаю, Пётр Андреевич. Только чувствую-с… И никто-с меня не разубедит: чтобы дуб огромный не обрушился на землю, нужно без жалости уничтожать червей, что копошатся у корней его. А мы их жалеем-с… Из гуманизма-с! А весь этот гуманизм есть клевета-с! Это слабость и страх… И ничего больше… Ничего нет дурного, если ради благополучия целого мира уничтожить несколько тысяч негодяев, которые ему мешают… Только польза-с! Вы не будете возражать, Пётр Андреевич, если я выйду на полчаса? Мне что-то дурно несколько. Голова… Нужно воздуху глотнуть-с…
– Конечно, конечно, идите. А всего лучше идите прямо домой. У вас, кажется, небольшая лихорадка… В конце концов, вы и впрямь второй день за меня отдуваетесь… Идите, а я уж справлюсь один.
– Благодарю вас… Это всё болесть моя… Бывает, что находит… Не обращайте внимания… Я думаю-с, посетителей сегодня уже немного-с будет…
– Я тоже так полагаю. Я всех запишу: дело нехитрое… Ступайте!
– Прощевайте-с, Пётр Андреевич! – Любовицкий накинул шинель и, пошатываясь, вышел из кабинета.
Вигель посмотрел ему вслед и подумал: «Дай ему волю, так всех бы, пожалуй, перевешал да на вечную каторгу отправил… Странный человек! Интересно, как же он может восхищаться нашей литературой, когда она в один голос проповедует гуманизм? Наверно, это от болезни он таков… Но дело на зубок знает… А я, лапоть, два дня только своё горе переживал… Хорош помощник следователя! Стыд да и только…»
В дверь постучали, и в кабинет вошёл мужчина средних лет, пугливо озираясь.
– Вы за закладом? – спросил Вигель.
– Так точно, ваше благородие! Цепочку золотую с крестом возвернуть желаю.
– Как же вы крест-то заложили?
– Долбанувши был, похмелиться… По пьяному делу… Вот…
– Фамилия, имя… – Петр Андреевич пересел за стол Любовицкого и принялся записывать…
День прошёл быстро. Проводив последнего посетителя, Пётр Андреевич убрал бумаги и взглянул на часы. Было уже поздно, но идти домой не хотелось. Прошлую ночь Вигель провёл в кабинете. Однако, проводить здесь каждую ночь было неудобно. Идти напрашиваться на ночлег было не к кому, да и не хотелось никому ничего объяснять.
Дверь тихо открылась, и в кабинет вошёл Николай Степанович.
– Вы всё ещё здесь? – улыбнулся он. – А где же Антон Сергеевич?
– Он дурно почувствовал себя и ушёл несколько раньше, – ответил Вигель.
– Да… у него бывают какие-то странные припадки. Вообще, он очень сложный человек. Ему, должно быть, весьма неприятно жить.
– Он говорил мне нынче, что гуманизм вреден, что следует выжигать калёным железом всех тех, кого теперь из гуманизма жалеют, чтобы они не уничтожили потом тех, кто из этого гуманизма сохранил им жизнь… Что-то в этом роде. Он с таким убеждением это говорил! Со страстью даже! Признаться, напугал он меня несколько этими рассуждениями…
– Мне приходилось слышать эту его теорию. Любовицкий – неглупый человек… Резон в его словах есть… Но я, в принципе, не люблю всяческих теорий, – Немировский поморщился. – Беда нам от теоретиков. Все-то всё знают, все-то трактаты да статьи пишут. О справедливости. А кто сказал, что в этом мире вообще может быть справедливость? Разве же люди праведны? Нет-с! А откуда ж тогда взяться справедливости? Я так полагаю, милый Пётр Андреевич, давать законы – дело власти. Судить – дело судей. А наше с вами дело, руководствуясь законами и совестью, ловить тех, кто пределы дозволенного преступает. И не допускать в этом важнейшем деле ошибок. Мы с вами практики, а не теоретики. А теории пусть себе пишут другие. Каждый должен заниматься своим делом. А у нас нынче каждый мнит себя специалистом в любой области. Беда! А что, Пётр Андреевич, много ли осталось у вас закладов?
– Пока порядочно. Сегодня мало приходили.
– Любовицкий, когда мы сегодня столкнулись с ним поутру, говорил мне, что вы работаете, не щадя себя. Очень ревностно.
– Он сказал вам так? – поразился Вигель, краснея. – Боюсь, это не так… И Антон Сергеевич работал пуще и лучше моего…
– Скажите, любезный друг, вы и сегодня собираетесь спать в кабинете? Ведь это же так неудобно. Признайтесь, что вы не спали сегодняшнюю ночь. Вон, какие глаза у вас усталые. А под ними тени. Куда ж такие дела годятся? Вот что, я пригласил сегодня Василь Васильича отужинать у себя. Приглашаю и вас также.
– Благодарю вас, Николай Степанович, но удобно ли? – немного смутился Вигель.
– Удобно! – улыбнулся Немировский, потрепав молодого коллегу по плечу. – Тем более, что нам есть, что обсудить. Так что собирайтесь, милый Пётр Андреевич, и поедем ко мне. Познакомитесь с моей сестрой, Анной Степановной. Собирайтесь же. Или вы хотите нанести мне оскорбление?
Лучистые глаза и ласковая улыбка Николая Степановича подействовали на Вигеля успокаивающе, и уже вскоре они вместе ехали по Тверской к дому, где жил Немировский.
***
– Сошёлся! Сошёлся! – радостно воскликнула Анна Степановна Кумарина, положив последнюю карту в любимом пасьянсе «Восемь королей», и захлопала в ладоши.
– Сколько радости-то! – улыбнулась сидевшая неподалёку экономка, не поднимая глаз от вязания. – Эх, барыня, нонеча пост на дворе, а вы всё-то карты раскладываете… А я с утреца к мощам сходила, что намедни в Москву-матушку доставили. Народу, народу! Всем-то к благодати приложиться охота. Вы бы тоже сходили. Авось, ваш ревматизм бы не стал вас мучить так.
– Соня! Слушаю я тебя и диву даюсь: ты же ещё вечор гадала мне! В пост-то!
– Так то вы меня просили потешить вас. Я и потешила! – насупилась Соня. – Я нонече, когда из церкви шла, так странника встретила. Сказывал, будто на Святой земле был. Так чудно говорил – заслушаешься!
– А ты уши-то и развесила, – вздохнула Кумарина. – Теперь у нас чуть не каждый из Святой земли паломник. И то сказать: за такие-то бранделясы люди и платят…
– Скверно вы о людях думаете, барыня, – покачала головой Соня. – Нехорошо это.
Анна Степановна ничего не ответила. Время от времени она поглядывала на часы, ожидая возвращения брата. В этом ожидании проходили почти все дни Кумариной. Будучи старше Николая Степановича на несколько лет, она и теперь не могла избавиться от привычки вечно волноваться за него, заботиться о нём. С детства, несмотря на разницу в летах, брат и сестра были друг к другу очень привязаны, и, даже выйдя замуж за генерала Кумарина, Анна Степановна продолжала оставаться самым близким человеком для Немировского. После смерти мужа генеральша Кумарина переехала жить к брату. Случилось это десять лет тому назад. В последние годы Анна Степановна сильно страдала от приступов ревматизма, долгими неделями она почти не могла передвигаться, а потому жила затворницей. Целыми днями просиживала она в кресле, раскладывая любимый пасьянс или читая исправно доставляемые ей книги и журналы, и скучала. При этом Кумарина до сей поры сохраняла стройность фигуры и всякий день совершала свой туалет с такой тщательностью, как будто ждала толпу визитёров. Дома носила она левантиновое платье, бывшее в моде лет пятнадцать-двадцать тому назад и шаль из терно, а к аккуратно уложенным волосам крепила, по старой же моде, бандо. Лицо Анны Степановны отличалось тонкостью и благородством черт. В гостиной даже висел её портрет, написанный одним художником ещё по заказу её мужа. Иногда Кумарина коротала время за игрой на рояле, а к рукоделию любви не питала. Вечером же, когда Николай Степанович возвращался со службы, наступало время долгих разговоров, которые, на удивление, ничуть не исчерпались за долгие годы. Часто брат и сестра читали друг другу вслух главы из новых и не очень романов. Засиживали обычно допоздна. И эти засиживания были единственной отдушиной Анны Степановны в её одиночестве. Несмотря на одолевавшие её недуги, Кумарина не отказывала себе в маленьких радостях, вошедших в привычку, вроде кофе, которого пила она много. Когда болезнь отступала, она тотчас выходила на улицу, гуляла по паркам, колесила по Москве на извозчике, посещала театры… Длилось это недолго, и Кумарина вновь оказывалась прикованной к своему креслу, что для неё, всегда любившей общество, движение, долгие прогулки, было большим испытанием. Но Анна Степановна не теряла весёлого нрава и бодрости, радуясь всему новому: особенно новым людям, с которыми случалось знакомиться, и которых она очаровывала. Дар располагать к себе и очаровывать был у Немировских семейным.
– Барыня, кажись, приехали! – известила Соня, завидев в окно остановившиеся у дома сани. – Николай Степанович… А с ним ещё кто-то!
– Так у нас гость? – обрадовалась Кумарина. – Так это дивно! Соня, ступай готовь ужин, а я встречу гостя.
С этими словами Анна Степановна с усилием поднялась с кресла и, лишь слегка опираясь на трость, направилась навстречу входящим, сохраняя свою безупречную осанку и не показывая сильнейшей боли, испытываемой при каждом шаге.
Через мгновение в гостиную вошёл Николай Степанович со своим молодым коллегой. Кумарина тотчас отметила, что юноша очень хорош собой: высок, статен, золотоволос, а глаза синие, огромные… «Эх, была бы я лет на сорок моложе…» – подумала Анна Степановна, заглядевшись на него.
– КОлинька, счастье моё миндальное, что же ты так поздно? И о госте не предупредил! Как же так можно! – обратилась она к Немировскому певучим голосом.
– Аня, голубушка, для чего ты встала? Ты ведь нездорова… – упрекнул её брат, обнимая и целуя.
– Мне уже лучше гораздо. Представь же мне гостя!
– Познакомься, мой помощник, Пётр Андреевич Вигель.
– Очень рада, Пётр Андреевич, – сияюще улыбнулась Кумарина застывшему в дверях Вигелю. – Ну, выплывите на чистую воду – покажитесь! Дайте рассмотреть вас!
Пётр Андреевич подошёл к Анне Степановне и поцеловал её руку:
– Моё почтение, сударыня.
– Мне Николай Степанович много рассказывал о вас. Так что вы не робейте! Будьте, как дома! Проходите, присаживайтесь!
– Аня, к нам ещё Василь Васильич присоединится, – оповестил Немировский.
– Василь Васильич? Замечательно! Я всегда ему рада! Однако же, ты всё-таки дурно сделал, что не предупредил меня. У нас что же, сегодня торжественный приём?
– Нет-нет, всего лишь совещание! – улыбнулся Николай Степанович.
– Так это даже и лучше! Я с удовольствием послушаю!
– Аннушка, займи, пожалуйста, Петра Андреевича, покуда я переменю сюртук, – Немировский вышел.
Анна Степановна опустилась в кресло и, указав Вигелю на стоявший неподалёку стул, сказала:
– Садитесь поближе, чтобы я вас видела. Я, знаете ли, люблю видеть лицо собеседника во время разговора… Ну-с, как вам нравится ваша служба?
– Очень доволен ею, – ответил Вигель, садясь. – Я ведь давно мечтал именно об этой работе. Тем более, мне так повезло попасть под начало вашего брата…
– Что ж, не обижает он вас? Хорошо вам работать под его руководством?
– Лучше и быть не может! – честно ответил Пётр Андреевич. – Я благодарю судьбу за такую удачу!
– Да… Мой брат человек редких качеств. Удивительной искренности и доброты человек. Меня даже удивляет, что он именно эту службу избрал… Всё-таки на ней требуется некоторая жёсткость. Я даже боялась, что она его испортит… А вы, Пётр Андреевич, добры ли? Вот, по лицу да по глазам вижу, что добры… А только несчастливы.
– Отчего вы заключили? – удивился Вигель.
– Глаза у вас чистые, светлые, но не счастливые. Ваши глаза лгать не могут.
– Уверяю вас…
– Не уверите, – Кумарина улыбнулась. – Я хоть и живу последние годы в этих четырёх стенах, и всё моё общество – Николай Степанович да Соня… Но в жизни и в людях я ещё разбираться не разучилась.
– Да вы прямо следователь, Анна Степановна! – пошутил Пётр Андреевич.
– А как же? Мы ведь с братом очень похожи. Так что ничего удивительного! Знаете, Пётр Андреевич, вы мне очень нравитесь. Я надеюсь, что мы с вами станем друзьями… И мне очень бы хотелось, чтобы вы были счастливы.
– Спасибо, Анна Степановна…
– А хотите, я вам погадаю? – внезапно предложила Кумарина.
– Как?
– Можно на картах, а можно по руке. Вот, дайте мне руку! Левую! Или боитесь?
– Вовсе нет… Пожалуйста, – Вигель протянул Кумариной руку.
Анна Степановна долго вглядывалась в неё, затем сказала:
– Линия жизни у вас длинная… Доживёте вы до преклонных лет, а тогда по трём дорогам может жизнь ваша пойти. Видите, расколота линия на конце… Может, прерваться, а может пойти в ту или иную сторону. Если не прервётся, то до очень глубокой старости доживёте. Будет много трудностей в вашей жизни, но вы с ними справитесь, потому что идти будете прямо, по совести жить… А ещё вижу любовь большую. Вся жизнь ваша с нею связана… Женщина. Ваши дорожки уже сошлись, а теперь должны разойтись… Вот, и несчастье ваше… Я так и думала… Надолго разойдутся они. Разные у вас с нею судьбы будут. Да только никуда вам друг от друга не деться. Как бы ни расходились стёжки-дорожки ваши, ан всё равно сойдутся. И тогда уж – насовсем. Вот, такова судьба ваша, государь мой.
Скрипнули половицы. В комнату вошёл Николай Степанович, сменивший форменный сюртук на обычный – долгополый тёмно-коричневого цвета.
– Аннушка, ты уж не в гадалки ли подалась? – улыбнулся он. – Моя сестра, Пётр Андреевич, с подачи нашей экономки увлеклась всяческими гаданиями. Прежде они всё на картах раскладывали. На всякого встречного человека. А теперь, вот, вызнала она откуда-то ещё и про рукогадание это…
– Хиромантию, – уточнила Анна Степановна.
– Неважно. Я надеюсь, Пётр Андреевич, никаких ужасов она не углядела на вашей руке?
– Наоборот. Анна Степановна посулила мне долгую жизнь и кое в чём обнадёжила.
– И то ладно.
– Ты напрасно, НикОлинька, не веришь в гадания, – покачала головой Кумарина.
– Я просто не понимаю, зачем нужно знать свою судьбу. Изменить её всё равно нельзя. Так для чего же узнавать? Надо просто жить! Так оно, по мне, лучше.
Звякнул дверной колокольчик.
– Это Василь Васильич, – сказал Немировский и поспешил открывать.
Это, действительно, был Романенко. Он вошёл в гостиную, на ходу приглаживая взлохмаченные тёмные волосы и потирая замёрзшие красные щёки.
– Василь Васильич, голубчик! – пропела Анна Степановна. – Счастлива видеть вас! Вы никак замёрзли?
– Как собака… Простите, Анна Степановна! – Романенко учтиво поклонился хозяйке. – Целый день на морозе… Да в метель! Промёрз до костей… Работа собачья!
– Так вы тогда садитесь у печи да грейтесь! – улыбнулась Кумарина.
– Премного благодарен! – ответил Василь Васильич, устраиваясь у печи.
– Вы, должно быть, голодны? – спросила Анна Степановна.
– Невероятно! – признался Романенко.
– Я уже велела Соне готовить ужин. Думаю, что уже скоро он будет готов.
– Ну, а пока он не готов, предлагаю обсудить наши дела, чтобы уж за ужином они нам не мешали, – предложил Николай Степанович.
Романенко и Вигель выразили согласие, и Немировский, расхаживая по комнате с заложенными за спину руками, произнёс:
– Для начала, господа, позвольте изложить сумму собранных нами фактов, чтобы представить ту мозаику, которую мы имеем на сей момент. Об убитом нам известно, что приехал он в Москву год назад из маленького городка Александров Владимирской области, где прожил всю жизнь. Приехал внезапно, продав всё имущество. Довольно странно подобное резкое возникновение «охоты к перемене мест». Из чего следует, что нужно съездить в этот самый городок и навести справки о его тамошней жизни. Не с брызгу он оттуда сорвался вдруг… Может, что и нарисуется. Пётр Андреевич, это дело я поручаю вам.
– Слушаюсь, Николай Степанович, – Вигель выпрямился.
– Сидите, сидите… Полагаю, хватит вам с закладами возиться. Любовицкий с ними прекрасно справится. А вам будет полезно проветриться… Далее: нам известно, что у покойного были весьма напряжённые отношения с его бывшей любовницей, некой Иделькой. Будто бы она требовала с него денег и угрожала.
– И кое-что даже получила, согласно показаниям дворника, – добавил Вигель.
Большой сибирский кот прыгнул на колени Кумариной, и та с удовольствием запустила тонкие пальцы в его шерсть, внимательно слушая разговор.
– И ещё известно, что Иделька эта имеет отношение к некой Семирамиде. И я не сомневаюсь, что это никто иная, как хозяйка известного рода заведения… – Романенко покосился на Анну Степановну. – Не при дамах будет сказано, какого. Если б не сегодняшняя катавасия, так я бы уж нанёс визит этой мадам и узнал бы у неё, что собой представляет Иделька.
– Вполне вероятно, что эта дама может быть причастна к убийству. Может быть, Лаврович обещал ей денег и обманул. И она решила взять своё, – предположил Немировский. – Поэтому её следует найти и допросить.
– Найдём, приведём, допросим. Уж этаких-то ягодок я повидал… – махнул рукой Романенко.
Николай Степанович откинул со лба серебристую прядь и продолжил:
– У нас есть ещё некая юная камелия. Непонятно, кто она и в каких отношениях была с убитым… А, между тем, её фигура представляет для нас большой интерес, поскольку эта барышня каким-то образом была связана ещё и с господином в белом бурнусе, который подозрительно часто упоминается всеми без исключения! Судя по рассказам ростовщиков, у Лавровича были с ним весьма тесные деловые отношения. При этом сей супчик-голубчик назывался разными именами. То Георгием, то Владимиром…
– В списке постоянных клиентов Лавровича есть некий Георгий… – вспомнил Вигель.
– Но вовсе необязательно, что это он… – вздохнул Немировский. – Надо, впрочем, передать этот список во все ростовщичьи конторы с тем, чтобы, если люди с такими именами к ним обратятся, они дали бы нам знать. Также и описание «белого бурнуса» приложить… Чем чёрт не шутит?
– Думаю, пустое это дело, Николай Степанович, – сказал Романенко. – На кой ляд, сдербанив такой куш, он к ростовщику потащится? Он теперь эти деньги проматывать станет…
– Точно-точно! – подал голос Вигель. – Такой эффектёр непременно их проматывать начнёт. Надо его описание дать в наиболее дорогих заведениях, куда он заявиться может!
– Эдак нам придётся всей Москве его описание раздавать, – покачал головой Немировский. – И будут к нам целыми днями шляться: белый бурнус видели. В конце концов, не один же он во всей Москве щеголяет?
– И не забудьте, господа, что нынче уже морозы ударили… И вряд ли он теперь в плаще-то ходит… Небось, шубу пошил себе, – вставила Анна Степановна.
– Я буфетчице из «Мечты» накажу, чтобы известила, если он в её заведение опять явится, – сказал Романенко. – Она его и без бурнуса признает.
– В общем, задачка с четырьмя неизвестными, – заключил Немировский. – И самое большое неизвестное: наша главная подозреваемая. Не поймёшь, что… Не то русская, не то из восточного какого племени… Не то аристократка, не то девка гулящая… И молчит, как рыба. Кстати, ей уже адвоката дали.
– И кто ж её будет защищать? – поинтересовался Вигель.
– Александр Карлович Гинц! – с ударением произнёс Немировский.
– Ещё не легче, – фыркнул Романенко. – Будет мешать нам, как вошь в пироге…
– Необязательно. Может, если не мне, то ему удастся её разговорить, – пожал плечами Николай Степанович.
– Не люблю я этих аблакатов… За куш любого негодяя защищать готовы. Мол, помилуйте, господа присяжные, этого добрейшего человека, зарезавшего десяток своих братьев, потому что среда его задавила и не зарезать он никак не мог! Ну, не подлость ли?
– Успокойся, Василь Васильич. У нас своя работа, у них – своя, – миролюбиво сказал Николай Степанович.
– Я много слышал о Гинце, – задумчиво произнёс Пётр Андреевич. – В некоторых газетах его даже сравнивали с Плевако…
– Гинц – очень умный человек, – подтвердил Немировский. – Экая тонкая бестия! Язык петлёй сделает! На любой аргумент контраргумент найдёт. И всё-таки, Василь Васильич, ты напрасно горячишься. Просто следует, чтобы аргументы были столь убедительны, а факты столь вески и безапелляционны, чтобы ни один адвокат, будь он хоть Гинцем, хоть Плевако, не мог их опровергнуть.
– Вам бы, Николай Степанович, самому в адвокаты идти, – усмехнулся Романенко. – Всех-то вы защищать готовы! Я так не могу…
– Да это потому, Вася, что ты всех под один гарнир норовишь умять. А люди все разные. Душа-то человеческая, что колодец бездонный. Кто знает, что в ней? И кидать камень, не уяснив всей глубины, проще всего. Виновный должен нести наказание, даже и самое суровое, а судить кого-то за иной образ мыслей и жизни, по-моему, не стоит…
Из соседней комнаты послышалась соловьиная трель. Немировский поднёс палец к губам и, улыбаясь, сказал тихо:
– Тревогою поёт!
В гостиную вошла Соня, вытирая руки о передник, и возвестила:
– Ужин подан. Идите к столу. А то простынет.
– Пётр Андреевич, подайте мне, пожалуйста, руку, – с улыбкой попросила Анна Степановна. Вигель подал ей руку, и, опираясь на неё, Кумарина направилась в столовую, оставив свою трость стоять возле кресла. Романенко и Николай Степанович прошли следом.
Глава
II
КНЯЖНА САМАРКАНДСКАЯ
– Я Омар-бек, княжна Самаркандская, – звякнул высокий голос, отражаясь от каменных стен помещения.
Николай Степанович поднял глаза и внимательно посмотрел на сидевшую перед ним подследственную: бредит или лжёт? Абсолютно прямая спина, руки упёртые в колено, стройная шея, бесстрастное, чрезвычайно гордое лицо, глаза, смотрящие с вызовом – такова была сидевшая перед ним женщина.
– Допустим, – промолвил Немировский. – Антон Сергеевич, запишите.
Любовицкий поморщился и вывел своим каллиграфическим почерком имя странной дамы.
– Каким же образом столь знатная особа очутилась так далеко от родных краёв? – продолжал Николай Степанович.
– Мой отец был убит в результате дворцового заговора и измены. Мне, благодаря немногим верным людям, удалось бежать, – княжна говорила с заметным восточным акцентом.
– Ваши верные люди бежали с вами?
– Несколько человек. Но большинство осталось в Самарканде.
– Где же теперь ваши верные люди?
– Они осели по разным городам России. Я давно их не видела.
– Что же они оставили вас? Забыли о своей княжне? – удивился Немировский.
– Они не забыли. Они присылали мне письма, полные величайшего преклонения и скорби. А я отвечала им.
– Где же эти письма?
– А разве ваши люди не нашли их, господин следователь? В спальне есть шкаф. А в шкафу, на третьей полке, под бельём стоит шкатулка, запертая на ключ. Письма в ней. А ключ – вот, – княжна сняла с шеи шнурок, на котором висел маленький ключик, и протянула его Немировскому.
– Мы это проверим, – кивнул следователь. – Как вы познакомились с господином Лавровичем?
– Ценности, которые я наспех успела захватить при побеге, были невелики. И, очутившись в Москве, вскоре я оказалась в положении крайнем… Я жила в бедных номерах, но даже за них платить у меня не было денег. Иногда их присылали мне верные люди, но их было так мало! Тогда мне и встретился Михаил Осипович… Он проникся моим положением, заплатил мои долги, поселил у себя…
– Какие отношения вас связывали?
– Мы любили друг друга…
– Однако, согласно свидетельским показаниям, вы ссорились? У вас в руках даже видели пистолет. Вы угрожали ему.
– Правда, – кивнула княжна. – Но это было не более чем вспышка. В краях, где я родилась, кровь горяча… Иногда она бросается в голову.
– И тогда ваши женщины ударом кинжала убивают не верных им мужчин?
– Бывает. Но я бы никогда не причинила зла Михаилу Осиповичу. Я любила его. И он знал это.
– Но ведь он изменял вам?
– Ложь! – глаза Омар-бек сверкнули. – Он любил и уважал меня! Меня одну! И никого кроме… Мы даже собирались пожениться.
– Вот как? Насколько мне известно, Самарканд – край мусульманской веры… Вы…
– Да, я исповедую веру моих предков и соплеменников, – подтвердила княжна.
– В таком случае, как же вы намеривались вступать в брак? Ведь Михаил Осипович был крещён в православии…
– Ради любви к нему я готова была креститься сама.
– Что произошло в день гибели вашего жениха?
– Я не знаю… Только я не убивала его.
– Кто же убил?
– Не знаю. Мне нечего вам сказать больше.
– В тот день кто-нибудь заходил к Лавровичу? Он ждал кого-нибудь?
– Я ничего не знаю, повторяю вам.
– Вы понимаете, что все улики против вас? Что вы главная подозреваемая? Это же Сибирь, княжна, – заметил Немировский.
– Кисмет, – бесстрастно отозвалась Омар-бек. – Пусть всё свершится по воле Аллаха!
– Вы сказали, княжна, что собирались принять православие? Ваше намерение теперь не изменилось?
– Я никогда не изменяю своих намерений. В нашем роду это не принято.
– В таком случае, вы могли бы креститься здесь. Я прикажу, чтобы к вам пригласили священника.
– Благодарю вас, господин следователь. Вижу, вы человек благородный. Мне жаль, что не имею более ничего сказать вам.
– Мне тоже очень жаль, княжна. Однако, вам предстоит ещё встреча с вашим адвокатом.
– Я не просила предоставлять мне адвоката.
– Предоставление адвоката предусмотрено законом. Он будет у вас сегодня же.
– И не услышит от меня ничего иного, кроме сказанного вам.
– Что ж, на сегодня достаточно. Если что-то вспомните, дайте знать, – резюмировал Немировский.
Когда княжну Омар-бек увели, Николай Степанович некоторое время ходил по кабинету, а затем обратился к Любовицкому:
– Всё записали, Антон Сергеевич?
– От первого до последнего слова-с.
– И каково ваше мнение?
– На роман смахивает-с вся эта история-с. В духе Монте-Кристо. Дочь Самаркандского князя, павшего от рук изменников – какова фантазия-с! Экий-то народец пошёл: ничего-то в простоте не скажет, не сделает. Всё-то с идеей-с, с вывихом, с актёрством. Театр-с! Каждая вошь в княжеские одежды-с рядится, а князья-с хуже последнего канальи на самое дно опускаются! Всё-то вверх ногами-с у нас! Я об этом непременно-с статью-с напишу! И пошлю её… А хотя бы в «Русский Вестник»! Или в «Отечественные Записки»? Чем чёрт не шутит-с… Тема-то благодатная-с…
– И о чем вы думаете, Антон Сергеевич? – покачал головой Немировский. – Всё-то у вас газеты на уме, идеи.
– А потому как я привык-с в корень смотреть. Не на конкретное дело единственно взятое, а через призму его на процессы более глубокие-с!
– В глубину смотреть, конечно, важно. Да только не след за глубиной поверхности не видеть. Конкретного дела и людей конкретных.
– Это вам видеть нужно-с. Вы следователь и статский советник. А я человек маленький-с. Вошь. Только бумажки пишу за нищенское жалование-с. От моих бумажек делу-с ничего не поделается. А потому я уж лучше не сутью, а моралью-с заниматься буду. Ну, как сам Катков напечатает-с? И уж я не писаришка тогда-с, а крупнейшего журнала-с сотрудник-с! К великим тем приблизившись!
Николай Степанович мрачно поглядел на Любовицкого, глаза которого лихорадочно заблестели от мысли о славе:
– Вы только не печатайте ваших моралей до окончания дела.
– Само собой разумеется-с. К слову, верно ли-с, что нашу княжну сам Александр Карлович Гинц защищать будет-с?
– Верно. Сам вызвался.
– Не понимаю, для чего ему это, – Любовицкий раскрыл свой брульон и что-то записал туда. – Денег ведь нет у неё-с.
– А для того, полагаю, для чего вам так газетные публикации нужны, – ответил Николай Степанович. – Для славы. Он речь в её защиту скажет, а газеты уж и на цитаты растащат. Ведь теперь все помешались от жажды этой самой славы… И для её достижения любые средства хороши! Вот, вы, Антон Сергеевич, объясните мне, что это у нас такое стряслось? Что вдруг так всем славы захотелось? Откуда такая жажда взялась?
Любовицкий потёр рукой лоб и, слабо улыбнувшись, отозвался:
– А оттого-с что очень многие в глубине души понимают-с ничтожество своё и ущербность. Вам-то и людям таким, как вы, того-с не понять. Вы знаете-с точно, как жить. Вы личность цельная-с. А потому и к славе вы не рвётесь, зная без неё, что живёте правильно-с, что уважаемы-с. И сами себя уважаете-с! А я вам скажу-с, ужасно неприятно своё ничтожество знать. И человеку, его знающему-с, чтобы хоть как-то от этой боли избавиться, нужно доказать себе свою значимость. А как? А так, чтобы эту значимость все другие-с признали! А для того слава нужна-с громкая. Вот, все и стремятся! И вы верно-с заметили: тут уж и любые-с средства-с хороши!
– Этак, по-вашему, выходит, синдром Герострата, – покачал головой Немировский, открывая тавлинку.
– Точно так-с. Однако, заметьте-с, Николай Степанович, что самую прочную славу обретают-с как раз злодеи! Злодеи – люди сплошь ущербность свою сознающие. Оттого так славы и алчут-с. А люди благородные-с и честные-с равнодушны к ней и потому обойдёнными ею оказываются. А злодеи – всегда-с со славою-с! Вот, простой пример приведу-с: нынче господин Романенко за неким Рахмановым охотится. Рахманова вся Москва знает-с! И не только-с! Он, этот злодей и душегубец, уже фигура легендарная! Фольклор-с! И через многие годы о нём рассказывать басни будут-с! А фамилии Василь Васильича и не вспомнят-с!
– До чего же вы всё в чёрном свете видите!
– Возьмём историю-с! – не унимался Любовицкий. – Кто в ней наиболее известен-с? Нерон! Навуходоносор! Ирод! Иоанн Грозный! Наполеон, наконец! Кто более крови прольёт, тот и славы больше имеет-с! Не чудовищно ли? А ведь так-с, так-с! Великие завоеватели, мечтавшие мир покорить, – кто ж они, как не великие душегубцы? Или пламенные революционеры? Марат, Робеспьер? Кровью Францию умыли, ан какая слава! На века! Кровь, оказывается, самый прочный для славы фундамент. Потому и какой-нибудь наш убийца, зарезавший сорок человек, будет иметь более славы, нежели сыщик, его поймавший, лишь потому, что злодеяние его неслыханно-с! Чем неслыханней-с, тем пуще слава-с!
– Поспорю с вами, – прервал Николая Степанович, уже жалея, что затеял этот разговор. – А что вы поделаете со Христом?
– Ну-с, это уж дело иное. Если в самом деле он сын Божий был, тогда-с и не можно-с обсуждать его в ряду человецев. А, если нет, тогда-с великий шарлатан и сумасшедший – наш клиент, подтверждающий правило-с!
– Антон Сергеевич, это уж богохульство!
– Отнюдь. Я лишь пытаюсь доказать мою теорию-с.
– Хорошо. Оставим Христа. А как быть с великими подвижниками? Сергий Радонежский, Василий Великий, Николай Чудотворец…
– Их слава известна лишь миру христианскому-с. А имя Наполеона звучит во всём мире-с! Потому как оно нарицательно-с! Человек, покоривший полмира ради удовлетворения-с своей амбиции, будет всегда известнее-с святых, нёсших свой подвиг так, чтобы о нём-с как можно меньше народу знали-с!
– Допустим! А как быть с учёными, композиторами, писателями, поэтами?
– Учёные и писатели тоже разные бывают. Иные в мир зла приносят-с куда пуще, нежели отъявленный душегубец. Французская революция ведь именно с книг-с началась! С писателей-с! С Руссо и с Вольтера! С ними-то ещё прежде убийц счёты сводить след… Наша-то революция тоже с книг начнётся! Вот, увидите-с! Потому как у нас тоже-с пишут все, что угодно-с, подрывая все устои, оправдывая любое преступление-с, зовя даже к нему!
– И при таком отношении к писателям, вы так жаждете попасть в их число?
– А я неплохо отношусь к ним. Я перед ними преклоняюсь вполне искренне-с! Они своим талантом славу-с стяжали себе! Уважаю-с! Хотя для блага государства их бы следовало в Сибирь-с… Но, уж коли они не в Сибири-с и творят, так и я хочу! И никто-с мне не запретит того-с!
– Но есть же и такие, чей гений принёс в мир свет, а не тьму.
– Есть. Но заметьте-с, сколько негодяев окружает каждого такого гения-с! Сколько их входит в историю и славу имеют только оттого, что с ним рядом стояли, а то и хуже того: мучили его и убивали-с! Был у нас Пушкин! И что же-с? С ним, неотторжимо от него-с, в историю вошёл ничтожный Дантес. Его убийца! Так и останется во времени: Пушкин-Дантес. Гений и его убийца. Помянули одного, помянут и другого. Тоже слава-с!
– Да нет, Антон Сергеевич, не то вы славой называете. Вот, я помню, первый раз картину Иванова «Явление Христа народу» выставляли. Стоял я перед ней, смотрел, пораженный, и глаз отвести не мог: экая силища! И тысячи смотрели так же. Века пройдут: и другие люди с таким же замиранием сердца будут смотреть на эту картину. Вот, это слава истинная! «Троица» Рублёва, «Мадонна Сикстинская», скульптуры Микеланджело, музыка Моцарта, Глинки, творения Шекспира и Гёте – это слава. Вы о завоевателях говорили. А о тех, кто оборонял и землю свою отстоял, позабыли? Александр Невский? Дмитрий Донской? Разве не слава? Полувека со дня севастопольской обороны не прошло! А имена её героев золотом на скрижалях памяти выведены! И, поручусь, не только у нас! Не слава ли? Эта слава с добрым именем сопряжённая. Только такой она быть может! А худая слава, какой бы страшной не была она, это не то всё… Слава без доброго имени – это не настоящая слава.
– Дай Бог, чтобы так-с. Да только вы так говорите-с именно потому, что человек вы цельный да с именем добрым-с, по совести живущий. А таких немного-с. И с каждым годом меньше-с становится. И, вот, поймут однажды головорукие деятели, что славу-то проще всего разрушением стяжать, и начнут разрушать… Всю Россию на голову поставят, всё разрушат-с… И в историю войдут! И будет слава их куда громче ваших праведников-с… Уже понимают-с! Дело Нечаева только недавно-с ведь гремело? А это только цветочки-с, помяните моё слово-с! – Любовицкий утёр выступивший пот.
– А вы, Антон Сергеевич, ради своей славы к ним в таком разе присоединитесь?
– Не знаю-с… Но вполне возможно-с! Их бы истреблять надо-с… Да не истребляют! И ничтожество победит титана… Что ж, к чему же мне не быть с ними? Я ведь не рыцарь, а самый мелкий человек-с…
Немировский наклонил голову набок и сказал:
– А вы меня, Антон Сергеевич, на одну мысль навели… Наша княжна, уж конечно, на деле никакой княжной не является. Может, она и восточных кровей, но княжеством там и не пахнет… Так, вероятно, она тоже от сознания ничтожества славы желает. Для того и путает нас, называясь Самаркандской княжной, чтобы в газетах прописали, чтобы славу таким способом получить…
– И сожителя своего для славы-с застрелила!
– Это, конечно, ещё доказать требуется. Но, если мораль такова, так и возможно! Нынче же нормальные убийцы – редкость. Все с вывихом… Сложно с такими дело иметь. Прежде, если убивали, так из ревности, ради денег, спьяну… Всё понятно! А нынче сплошь из идейных соображений. Или, вот, для славы… Кстати, надо послать на квартиру Лавровича, чтобы поискали эти письма «от верных людей»…
– А, заметьте-с, Николай Степанович, славу-то она и получит! Когда дело закончится, я об нём всенепременно-с очерк напишу-с! Больно интересная историйка-с! – сказал Любовицкий.
– Знаете, Антон Сергеевич, я однажды всё-таки потребую вывести вас за абшид! – рассердился Немировский.
– За что же? Ведь через мои очерки и вам слава-с будет, и Петру Андреевичу, и Василь Васильичу! И слава добрая-с! Для чего же вы серчаете-с?
Николай Степанович ничего не ответил, а только махнул рукой.
***
Ослепительное сияние зеркал поражало каждого входящего в эту гостиную. Отовсюду струился приглушённый свет, создававший ощущение интимности. На полу и на небольших столиках были расставлены вазы разных размеров и различными цветами. Всё в гостиной было подчинено бело-бежевой цветовой гамме. Лёгкие бежевые шторы, белый диван-оттоманка и белые же кресла. На стенах висели картины – копии известных мастеров, изображавшие обнажённых красавиц. В воздухе пахло духами, маслами и благовониями. Слышались за стеной звуки рояля, смех, голоса…
Василь Васильич мрачно посмотрел на себя в одно из огромных зеркал, подкрутил усы и пригладил волосы. Ему не нравилась ни эта комната, ни атмосфера, царящая кругом, и хотелось лишь быстрее закончить дело, за которым он пришёл, и покинуть стены «храма порока», одного из самых дорогих борделей Москвы.
Наконец, в коридоре послышался стук каблуков и шорох платья, дверь распахнулась и в комнату вошла крупных форм женщина в белом, весьма фривольного кроя шёлковом пеньюаре. Ей было явно за пятьдесят, лицо её, несмотря на все румяна и помады, выглядело нездоровым и изрядно помятым. Однако бывшая красотка сохраняла прежние игривые повадки, будто бы могла ещё пробуждать желание… Это была хозяйка заведения, известная под именем Семирамида.
Семирамида подошла к Романенко развязной походкой, играя концами пояска, улыбаясь уже начавшим терять форму ртом и постреливая глазами.
– Здравствуйте, господин хороший, – пробасила она хрипло. – Счастлива лицезреть вас в нашей обители!
– Ты свои повадки-то оставь на время. Ноги б моей в твоём бардаке не было, если б не служебная надобность, – раздражённо отозвался Василь Васильич.
– А у нас все здесь… по надобности, – хохотнула Семирамида, выпячивая из необычайно глубокого декольте грудь. – Красивый ты, ваше благородие! Жаль, что ты к нам по делам службы… Глаз-то у тебя горит! А у нас девочки ой как умеют вашего брата ублажить!
– Веди себя прилично, а не то я завтра сюда с нарядом приду и закрою твоё заведение к чёртовой матери! – пригрозил Романенко.
– Фи, какой сердитый… Ладно, воля твоя! – пожала плечами хозяйка, разваливаясь на диване. – Может, фруктов велеть подать? Или вина? Так ты только прикажи!
– Повторяю, я пришёл по делу и имею чрезвычайно мало времени. Поэтому будь любезна сесть, как подобает, и ответить на все мои вопросы. Чистосердечно. Если солжёшь, ты меня знаешь: замечу. А тогда смотри: устрою тебе и твоим девочкам прогулку в не самые приятные места.
– Ну, не пугай, не пугай! – прикрикнула Семирамида, садясь прямо и запахивая пеньюар. – Я уж пуганная! Сказывай, какого беса тебе надо!
– Знакома тебе Иделька? – спросил Василь Васильич в лоб.
– Стерва-то эта? А как же! Ты по её, стало быть, душу явился? Вот же курва… Мерзавка… Так и знала, что натворит чего-нибудь. Ну, уж можешь быть уверен, что про неё я тебе всё, как на духу. У нас с ней счёты давние.
– Вот, всё и рассказывай. И про счёты, и про мужиков её, и про то, где и чем теперь живёт, – Романенко расположился в кресле и приготовился слушать.
– С Иделькой, когда она ещё молодой была, мы подругами были. Она здесь же и работала. Красивая была! Одна из самых дорогих девочек! Но уже тогда я примечала в ней неимоверную страсть к деньгам.
– А у тебя, значит, такой страсти нет?
– Почему? У всех есть. Да только у неё она над всем стояла. Я, между прочим, понравившегося мне мужчинку и за так ублажить могу. По любви! И нищему подам, и обедом голодного накормлю… Я ведь жалостливая! А у ней ни к кому жалости не было. Одна только алчность. Получит от клиента деньги и любуется на них, а потом прячет. И медного гроша никому никогда не даст… Но вашему брату она нравилась. Даже уж, когда и свежесть самая ушла, всё равно. Как магнит она их притягивала и деньги выкачивала. У меня уж на закате был один пожилой господин… Добрый такой. Вдовец. Ходил ко мне втихаря от своих детей. Очень он боялся, что они прознают о том. А однажды Идельку увидел. И прямо голову от неё потерял! Я – побоку. Куда там! А я ведь к нему, как к родному относилась, по-человечески! Нет же, ему эта жлобка бездушная занадобилась! А уж она-то его, михрютку, подмяла! Он её даже домой к себе таскать стал. Тоже, правда, втихаря. А сколько денег на неё извёл! Состояние целое! Но так она ж дрянь – ненасытная! Решила она бедолагу этого женить на себе! Он-то, конечно, перепугался и её оставить решил… Да тут-то и выяснилось, что как приворожила она его. Ни с одной бабой дела иметь мочи не стало! Даже со мной… В общем, пошёл дурень опять к Идельке, и что б ты думал? С ней – точно молодой! В общем, обещал он на ней жениться, но всё тянул да тянул. Кому ж такая хапанная жена нужна? Потом оказалось, что он и вовсе обещание выполнять не собирался, уважая память жены и чувства любимых детей. А Иделька, ехидна, рассвирепела! Решила отомстить. Как-то была она у моего бедолаги. И возьми и пошли записку его дочери, что отцу, мол, плохо, приходи срочно. Та примчалась, а папаша её с полюбовницею в постели кувыркается. Он как дочь-то увидел, так за сердце схватился и Богу душу отдал… А я уж Идельке трёпку задала! Как я её за волосы, стерву, таскала – ох! С тех пор ноги её в моём заведении нет! – Семирамида закурила и выжидающе поглядела на Романенко.
– Что ж было с ней после того? – спросил Василь Васильич.
– Да ничего… Сняла себе квартирку где-то в районе Китай-города. Адреса точного не помню. Да, ежели тебе надо, у Лили спросишь. Лили у неё бывала пару раз… Нашла себе амуришку какого-то. Из ростовщиков или что-то в этом роде… Деньги с него, как водится, драла, кошка драная… Да вроде бы бросил он её… Об этом я уж мало знаю. А, если не секрет, что тебе так Иделька-то занадобилась?
– Да убили того ростовщика-то, – ответил Романенко. – И ограбили. А свидетели слышали, что подружка твоя бывшая ему угрожала.
– Так вы думаете, что это она его прикончила?
– Всё возможно. Ты ж сама говоришь, что алчность у неё безмерная.
Семирамида задумалась и, покачав головой, сказала:
– Нет… Не могла Иделька на такое пойти. Она, стерва, каких поискать, но не убийца…
– Неужели думаешь, что духу бы не хватило убить?
– Духу? Духу, может, и хватило… Но ты пойми: Иделька, хоть и алчная до безумия, но осторожная. А убийство – это ведь каторга! А она каторги пуще смерти боялась всегда. Не стала бы она так рисковать. Она и без того из любого мужика уйму денег выудить могла. Нет, не там вы ищите…
– Ладно, разберёмся, – Романенко поднялся. – Подавай мне сюда свою Лили с адресом, и я пойду.
– Может, всё-таки мандаринку съешь? – Семирамида протянула Василь Васильичу вазочку с фруктами.
– Некогда мне твои мандарины лопать!
– Хорошо, хорошо, не горячись! Будет тебе и Лили, и адресок, – вздохнула Семирамида, звоня в колокольчик. – Позови Лили, – велела она заглянувшей девице. – И побыстрее.
Узнав адрес Идельки, Василь Васильич, не тратя времени, отправился к ней. По дороге он тщательно продумал тактику разговора с этой особой и решил, что лучше всего брать её на испуг, в лоб.
Иделька оказалась ещё довольно красивой женщиной лет сорока с округлыми бёдрами и грудью и весьма тонкой ещё талией. Её лицо, почти не накрашенное, так как гостей она не ждала, не казалось столь вульгарным, как его описывали. Чёрные кудри рассыпались по плечам. Одета Иделька была в балахон цвета «Аделаида»11, перехваченный широким поясом и такого же цвета боа из перьев, обвивавшее её шею.
– Романенко, Василь Васильич. Сыскная полиция, – коротко представился Василь Васильич.
Иделька смерила его бесстрастным взглядом и сказала безразлично, точно вовсе не удивившись такому визиту:
– Проходите.
Василь Васильич прошёл в небольшую комнату, выдержанную, как и наряд хозяйки, в красных тонах. Хозяйка указала ему на кресло, а сама присела на широкий подоконник и закурила.
– Вы по поводу Миши? – спросила она.
– Да… – Романенко немного растерялся, чувствуя, что беседа начинается совсем не так, как он предполагал.
– Я знала, что вы придёте. Вам Семирамида сказала, где меня искать? Что же, я вас слушаю.
– Во-первых, назовите мне ваше настоящее имя.
– Гельбух, Идель Лазаревна… Родилась в местечке под Могилёвом. Уехала в Москву с одним служившим там офицером… Потом попала в заведение Семирамиды… Достаточно?
– Вполне. Так, вот, уважаемая госпожа Гельбух, вы подозреваетесь в убийстве вашего любовника Михаила Лавровича.
– Что? – Иделька вскинула брови. – Вы это серьёзно?
– Вполне. Свидетели слышали, что вы угрожали ему, требуя денег…
– Деньги я получила сполна. Не скрою, я бы хотела получить и больше, но убивать для этого – за дуру вы принимаете меня? Я в Сибирь ехать никакого желания не имею. Я, может, теперь только и жить могу начать. Так, как я хочу! Так, как с детства, в грязи нашей мечтала! Я теперь богата, господин Романенко! Несколько лет поживу, как люди живут, а там и исдохну…
– Ваших слов мало, чтобы снять с вас подозрения. Но, если вы честно расскажите, как было дело…
– Да расскажу, расскажу! Было бы чего скрывать… Про историю со старичком, который из-за меня помер вам уж Семирамида рассказала, небось? Помер-то он помер, а мне недурной капиталец оставил. С тем, что я прежде накопила, весьма изрядная сумма получилась. Я всю жизнь мечтала хоть несколько лет прожить красивой, беззаботной и свободной жизнью. Ради этого всю жизнь в грязи да подлости пребывала. В мерзости! Одной мечтой держась: накоплю денег и заживу! Уж тогда не меня покупать будут, а я! Узнают меня… Все! Но даже для этого капитальца всё-таки не хватало немного. А тут подвернулся случай добрать. Я тогда ж зарок себе дала: последним это дело будет, а после буду только прожигать… Был у меня полюбовник, Гришка. Байдор12. Рассказал он мне с пьяных глаз, что есть у него один клиент, который очень любит юных девочек. Невинных. В борделях-то таких нет, известное дело. А Гришка за хорошие деньги находил таких в нищих семействах, которые уж с голодухи пухли… Совсем юных пташек находил своему работодавцу. Да и имя его выболтал. Лаврович, Михаил Осипович…
– Да ведь это уголовное дело, госпожа Гельбух!
– Разумеется. Скажете, должно мне было к вам идти? Да кто б мне у вас поверил! Гришка бы отпираться стал. А потом бы и прирезал меня…
– Где теперь Гришка?
– Помер.
– Как так?
– Как люди помирают? Перепился в прошлом годе да угорел. Туда и дорога… Будь он жив, я б на такое дело не отважилась: он бы зарезал. А тут руки у меня развязаны были. Свела я с Мишей знакомство да и огорошила его однажды тем, что всю его подноготную знаю. Наврала ещё, что и девочек нескольких знаю… Для полиции всего того мало, конечно, было бы, но достаточно было мне растрепать всё его друзьям да коллегам, чтоб жизнь ему сильно испортить. Он это понял и перепугался не на шутку! И потребовала я с него отступного за моё молчание. Долго он артачился! Да потом всё-таки подписал вексель на десять тысяч рублей. Не знаю, смогу ли получить их теперь… Да, впрочем, бумажка-то верная, вырву я эти деньги. Благо родни у него нет…
– Десять тысяч?! – поразился Романенко.
– А вы что ж думали? Репутация и дороже стоит!
– Покажите бумагу!
Иделька отперла бюро, достала большую шкатулку для бумаг и извлекла из неё вексель:
– Вот, пожалуйста. И, скажите, на кой чёрт мне этого кобеля убивать было? Я ж не враг себе, в самом деле… Вы бы лучше среди других его баб поискали!
– Вы на его сожительницу намекаете?
– Не только. У него и другая была.
– Юная барышня, появившаяся незадолго до убийства?
– А такая была? – усмехнулась Иделька. – Странно… Её я не видела. Вот, ведь подонок: везде успел!
– Вы хотите сказать, что у него была ещё одна женщина?
– Была такая. Он её, правда, прятал ото всех. Она всё под вуалькой была… Замужняя, должно быть… Правда, однажды я таки лицо её увидела. Ветер был сильный. У ней шляпка улетела, а он побежал за ней. Ничего особенного. Волосы русые. Коса длинная… А на щеке родинка большая…
– Вы, что же, следили за ним?
– Было дело. Нет, в первый раз я их случайно увидела… Шла к нему, а он с ней из квартиры выходил. Расцеловались, и она убежала.
– Убежала, а не уехала?
– Убежала. Она к нему через чёрный ход ходила, как и все почти… Я слышала только, как он сказал ей: «В четверг, в Чернышах…» Ну, я из любопытства аккурат в четверг там их и поджидать стала. И приехали голубки! Она под вуалькой. Миша швейцару на чай дал и с нею в номер поднялся. А через два часа вернулись. Тогда-то у ней ветром шляпку и сорвало… Так-то.
Василь Васильич с интересом слушал.
– Из вас бы хорошая агентесса вышла! – пошутил он.
– Нет уж, увольте. Я нынче свободой надышаться хочу. Или вы меня, быть может, арестовать намереваетесь?
– Вообще, госпожа Гельбух, вас следовало бы арестовать за все ваши художества. Уж хотя бы за вымогательство! Да и ваша непричастность к убийству всё-таки не может считаться доказанной.
Иделька презрительно скривила губы:
– Господин Романенко, как вы полагаете, будет человек, которому жизни год остался, рисковать свободой, убивать ради пусть даже и весьма больших денег?
Василь Васильевич вопросительно взглянул на Идельку.
– Вы можете наведаться в клинику доктора Мейера. Он подтвердит вам мою болезнь, – ответила та и вдруг расхохоталась. – Ну, не смешно ли?! Всю жизнь жить в черноте да мерзости, копя деньги, чтобы однажды зажить по-человечески, а, накопив, узнать, что какой-то подонок наградил тебя дурной болезнью! Нет-нет, я, конечно, могу прожить ещё и не год! Да только не хочу! Не хочу дожить до момента, когда у меня провалится нос, и вся я стану разлагаться заживо! Вот, год прокучу, прожгу, прогуляю, а затем – или в петлю, или в воду! А, может, так и правильно! А год всё-таки будет мой! Никто у меня его не отымет! Что, вы и теперь думаете, что я убила?!
– Прощайте, госпожа Гельбух, – тихо сказал Романенко. – Если вдруг узнаете что-то, дайте знать.
– Прощайте, господин Романенко… Больше не свидимся…
От Идельки Василь Васильич уходил с тяжёлым сердцем: уверенности в том, что она сказала ему всю правду у него не было, но не было и весомого основания для ареста… И не было желания арестовывать эту, по сути, несчастную женщину, хотя она того и вполне заслуживала, если не за убийство Лавровича, то за прочие свои «подвиги».
Потерев лицо снегом и обдумав всё хорошенько, Романенко нанёс визит в клинику доктора Мейера, который подтвердил неутешительный диагноз своей пациентки.
Не любя откладывать дела в долгий ящик, Василь Васильич навестил и дом Олсуфьева, расположенный напротив Брюсова переулка, белее известный как «Черныши». По фотографии Лавровича швейцар гостиницы, молодой, крепкий парень, тотчас узнал «господина, который часто приезжал сюда с дамой и щедро давал на чай».
– А даму ты можешь описать? – безнадёжно спросил Романенко.
– Да ведь она в вуальке была, ваше благородие. Скромная такая. Коса у неё длиннющая была, с кулак толщиной. А однажды у ней ветром шляпку унесло. Так она перепугалась, руками сразу личико закрыла. Но я всё-таки успел немного разглядеть… Родинка у неё на правой щеке большая была…
– И уж, конечно, он никак не называл её?
– Да он и себя никак не называл! Мы у хороших господ имён не спрашиваем…
– Ну, что за кабак везде! – раздосадовано воскликнул Василь Васильич, давая швейцару на чай и вновь усаживаясь в сани. – Чох-мох – не дал Бог! Гони, голубчик, в Мёртвый переулок!
– Давай-качай! Даст барин на чай! – рыкнул извозчик, и сани неспешно покатили по снегу.
«Сущий кабак, – зло думал Романенко. – Бабы-то, бабы… Подлянка на подлянке… Собачья работа. Вот, дело: целый день по потаскухам шляться да их постельные тайны выслушивать… Сам тоже хорош! Уж эту алчную потаскуху жаль стало… А чего жалеть её, спрашивается? Поделом… И сколько ж грязи за один день навылезало… Убитый хороший был фрукт… Его, если верить Идельке, а, судя по векселю, говорила она правду, первого нужно бы было по Владимирской дороге отправлять… Ищи теперь убийцу этакой сволочи… Ох-ох-ох… Лучше б мне вместо Петра Андреевича на родину господина Лавровича было смотаться… Провинция, тишина, перемена мест… Так нет – изволь по бардакам ходить! Хотя… Не Вигелю же, в самом деле, со всеми этими подлянками дело иметь. Молод ещё, неопытен… Так и получается, что самая грязь всегда мне достаётся… Собачья работа… Уволиться, что ли?»
С такими мыслями Василь Васильич поднялся в свою квартиру, где сразу навстречу ему выплыла улыбающаяся Полина:
– Здравствуй, свет мой. Устал? – сочувственно спросила она.
Романенко опустился на стул и, посадив Полину к себе на колени, вздохнул:
– Собачья работа… Может, мне уволиться? А, имямочка?
– Нет, Вася, тебе увольняться нельзя. Затоскуешь ведь.
– Затоскую… – вздохнул Романенко.
– Ты раздевайся, а я тебе пока на стол соберу! Голодный, чай? – Полина чмокнула Василь Васильича в голову и, высвободившись из его объятий, исчезла на кухне.
Романенко стянул с себя сапоги, добрёл до своей комнаты и повалился на диван-самосон, на котором обычно спал. Вошедшая Полина застала его уже спящим.
– Устал-то как, – покачала она головой и укрыла его пледом, ласково погладив по плечу.
– Имямочка… – сквозь сон вымолвил Василь Васильич и улыбнулся.
***
– Сергей Никитич, почему же он не приходит?.. Неужели он забыл меня?.. Совсем-совсем забыл, словно и не бывало?
Никитенко поднял глаза на Зиночку и понял, что она вовсе не слушает его, погружённая в свои переживания. Девушка стояла к нему спиной, глядя в окно, в светлой люстриновой кофточке и тёмной юбке, комкая в руке платок. Сергей промолчал.
– Отчего же вы молчите, Сергей Никитич? Вы ведь единственный мой друг, с которым я могу поделиться своею печалью. Скажите же хоть что-нибудь! – голос Зины прозвучал почти требовательно.
– Что же сказать вам, Зинаида Прокофьевна? Я в делах этих не дока… Вы не мучайте себя только… Может, он ещё придёт, – промолвил Никитенко.
– Да, это заметно, что вы не дока… Не знаю, то ли завидовать вам, то ли огорчаться за вас… Вы совсем не знаете, что такое любовь!
– Вы несправедливы ко мне, Зинаида Прокофьевна. Поверьте, что любовь мне испытать привелось. Самую сильную, на какую только способен человек.
– Так вы были влюблены?! – оживилась Зиночка, оборачиваясь. – Расскажите, пожалуйста!
– Стоит ли? Рассказывать особенно нечего… Моя возлюбленная – девушка из хорошей семьи, красавица и умница. Ради неё я готов на всё, но что я могу ей дать? Бывший студент, больной и нищий бездомовник…
– Зачем вы так о себе? Вы не должны! – Зиночка подошла к Никитенко и взяла его за руку. – Вы добрый, умный и хороший человек. У вас сердце хорошее… У него сердце не такое, как у вас… Хотя недурное, хотя я его пуще жизни люблю… Люблю так же, как вы свою красавицу. Ах, Сергей Никитич, отчего же мы с вами такие несчастливые? Почему нас судьба в чёрную шкуру зашила?
– Кто ж её знает, Зинаида Прокофьевна! Впрочем, я верю в ваше счастье! Вы непременно счастливы будете!
– Вы тоже. У вас ум есть, знания… Вы столько полезного сделать можете!
– Как говорит один мой знакомый: делов-то пуды, а она – туды…
– Кто – она?
– Смерть…
– Господь с вами, миленький! Что это вы о смерти заговорили? Не смейте думать даже!
– Виноват, Зинаида Прокофьевна. Какая-то абулия напала на меня.
Зиночка вздохнула и сказала тихо:
– Если он не придёт, то я из дому уйду…
– Как так? Куда? – поразился Никитенко.
– А мало ли… Вот, нынче молодые образованные юноши и девушки народ просвещать взялись! По деревням ходят, грамоте крестьян учат! Разве не благородное это дело? Очень, по-моему, благородное. Это величайшая несправедливость нашего общества, что простой народ неграмотен… И что бедных столько!
– И что женщины поражены в правах? – улыбнулся Никитенко.
– Именно! – горячо воскликнула Зиночка, и верхняя пухлая губа задёргалась, как бывало всегда, когда она волновалась. – И не улыбайтесь так, пожалуйста! Ведь я же серьёзно говорю! Ведь это главные вопросы сегодня! А вы смеётесь! Как вам не совестно, Сергей Никитич? Неужели вам дела нет до судьбы крестьян? Неужели вам людей не жалко?
– Мне, Зинаида Прокофьевна, всех жалко, – ответил Сергей. – Только какой вы ещё, право, ребёнок!
– Почему же это?
– Ну, подумайте: нам ли с вами просвещать народ? Или тем юным сердцам, о которых вы говорили? Чтобы кого-то учить, нужно собственный фундамент иметь. Грамота – да, польза. Но с нею принесут самозваные учителя борения и муки гордого своего разума, больной души своей! Мало грамоту дать человеку. Его воспитать надо! А, прежде чем кого-то воспитывать, нужно себя, себя самих воспитать! А иначе плохо будет! Совсем нехорошо! Человек во внутреннем развитии своём, в повадках оставшийся невежей, но получивший в руки достижения современных наук, он ведь страшен будет! От разума возгордится, а воспитания не будет, чтобы от гордыни удержать… Добро ли выйдет из этого? Нет, Зинаида Прокофьевна, мы сами ещё слишком несовершенны, чтобы народ просвещать. Он, может, нас-то и мудрее… Об том и Гоголь писал…
– Гоголь – ретроград! – махнула рукой Зиночка. – А, вот, Некрасов, Белинский…
– Гордецы великие!
– Вы, должно быть, просто трусите!
– Чего трушу? – не понял Никитенко.
– В народ со мной идти и новое учение нести ему!
– Признаюсь, я не хотел бы идти в народ. И ещё более не хотел бы, чтобы этим делом занялись вы. Но, если будет такое ваше решение, то я пойду за вами, потому как больше мне деваться некуда.
– И на том спасибо! – улыбнулась Зиночка. – Поглядите-ка, уж и вечер совсем!
В самом деле, комната Зины уже давно погрузилась во мрак, рассеиваемый лишь мерцанием звёзд и светом луны.
– Я сейчас свет зажгу, – сказал Сергей, поднимаясь.
– Не нужно! Лучше пойдёмте к окну, и вы мне расскажите о звёздах. Вы о них очень хорошо рассказывать умеете, – Зиночка подошла к окну, не выпуская руки Никитенко.
Ночь была на редкость звёздной. Девушка прислонилась лбом к холодному стеклу и заметила:
– А всё-таки науки лишают наш мир поэзии… Вы со мной согласны? Например, учёные доказали, что звёзды – всего лишь далёкие планеты. А как бы хотелось верить, подобно древним, что это глаза ушедших людей, которые смотрят на нас… Что и мы уйдём туда и будем так же сиять нашим потомкам…
– А только что собирались науками народ просвещать, – покачал головой Никитенко.
– Это… другое дело, Сергей Никитич…
– Я не думаю, что наука отняла у звёзд поэтичность. Ведь подумайте: может быть, когда-то наши далёкие потомки смогут добраться да этих неведомых планет…
– Какой вы мечтатель, Сергей Никитич! Я и не подозревала. И вы бы хотели полететь на какую-нибудь из этих звёзд и жить на ней?
– Хотел бы… Здесь мне больно, Зинаида Прокофьевна… Всё – больно. Жить – больно. Вздохнуть, ступить, смотреть по сторонам… Вот, вы меня давеча упрекнули, что людей мне не жалко! А я по иным улицам ходить без боли не могу от жалости к людям! Потому что подойдёт ко мне девочка, попросит копеечку на хлебушек, а во мне нутро всё переворачивается! Ведь любой обидеть её может, и что-то будет с ней? Мне зажмуриться хочется, чтобы не видеть страданий людских! И самого себя не знать и не чувствовать! Мне и молитва с трудом даётся: потому что жалко всех, и от этого вера слабеет… Мне даже молиться больно! Даже Бог для меня – боль! И как же жить? Я слов молитвенных «не дай мне окамененного нечувствия» произнести не могу! Потому что рвётся из души: дай! Я потому так звёзды люблю, что они мне боли не доставляют. Они и деревья зелёные… Звёзды больше люблю… Потому что дерево человек срубить может, а звезду никакая сила не тронет…
На улице заскрипели полозья саней, и вот уже перед дверями остановилась изящная «эгоистка», из которой вышел франтоватый молодой господин в шубе и с тростью. Зиночка вздрогнула и вымолвила:
– Он!!! Сергей Никитич, миленький, он приехал! – и, поцеловав на радостях Никитенко в щёку, она опрометью побежала навстречу дорогому гостю.
Сергей в изнеможении опустился на край стола и утёр платком капли выступившего пота. Ему хотелось упасть на кровать и застыть навечно, забыться, но какая-то сила удерживала его, не позволяла поддаться слабости. Он поднёс руку к груди, и с его бледных уст сорвалось одно только слово:
– Больно…
Между тем, Зиночка уже встречала приехавшего Анатоля. Он был одет в этот вечер необыкновенно элегантно, даже вычурно. Едва войдя, Анатоль вручил вышедшим встречать его Зиночке и Нине Марковне букет цветов, огромную коробку конфет и бутылку Ланинского шампанского.
– Ах, цветы! Зимой цветы – как чудесно! – захлопала в ладоши Зиночка.
Нина Марковна с сомнением посмотрела на шампанское:
– Что это ты, батюшка, удумал? Нонеча на дворе пост, а ты вино тащишь…
– Сегодня такой повод, что без вина никак! – отозвался Анатоль. – Пожалуйста, Нина Марковна, поставьте цветы в вазу…
Старуха покривилась и ушла, а Анатоль крепко обнял Зиночку.
– А я думала, ты забыл меня, – сказала девушка. – Отчего ты так долго не был у нас? И матушка беспокоилась…
– Как её здоровье?
– Неважно. Мигрень… Так почему же тебя так долго не было? И что значит столь блестящее появление?
– Идём к твоей матушке. Я вам обоим всё расскажу. О, мне очень много, что есть вам рассказать!
Анатоль и Зиночка направились в гостиную, где навстречу им поднялась, звякнув браслетами, Евдокия Васильевна:
– Ну, здравствуй, мон ами! Что же ты позабыл нас совсем? Не заходишь? Хоть бы записку прислал! Ты уж не взыщи, сударь мой, но мне твои исчезновения уж очень не нравятся! Изволь объясниться!
– Так я с тем и приехал, дражайшая Евдокия Васильевна, чтобы объясниться! – улыбнулся Анатоль. – Но сперва позвольте вручить вам и вашей дочери небольшие презенты! – с этими словами он извлёк из внутреннего кармана сюртука два футляра и вручил их дамам. Евдокии Васильевне достались золотые серьги с гранатами, а Зиночке – нитка разового жемчуга. Девушка восторженно ахнула, а пожилая барыня развела руками:
– Что-то ты, сударь мой, чересчур нас баловать изволишь! До праздника ещё месяц почти, а ты с такими дарами явился… Спасибо, конечно… Но, однако же, мы ждём объяснений.
– А объяснение простое: я днями наследство получил весьма недурное и оттого не наведывался, что о нём хлопотал. Теперь же дельце обделано так, что держись, и я у ваших ног, как сказал поэт!
– Поздравляю тебя, мон ами! Это и впрямь весьма приятное известие… Что же ты теперь делать намереваешься? – спросила Луцкая.
– То, что давно уже хотел, – ответил Анатоль, опускаясь на колени. – Высокочтимая Евдокия Васильевна, я сегодня не случайно явился при таком параде. Я пришёл к вам с тем, чтобы просить у вас руки вашей дочери, которую полюбил с самой первой встречи нашей! Не откажите мне, покорнейше прошу и земно кланяюсь вам!
– Зизи, ты слышала?.. – промолвила Луцкая, едва сдерживая радость.
– Благословите нас, матушка! – Зиночка опустилась на колени рядом с женихом. – Вы ведь знаете, сколь сильно я люблю его!
– И Господь с вами, дети! – Евдокия Васильевна утёрла слезу. – Погодите же!
На мгновение Луцкая отлучилась в свою комнату и вернулась оттуда, неся в руках большую фамильную икону. Ею она благословила жениха и невесту. Вошедшая Нина Марковна поставила на стол поднос с тремя бокалами шампанского и неслышно вышла. Анатоль и Зиночка поднялись с колен и обнялись.
– Хоть и пост на дворе, но да такое дело нельзя никак не отметить… Да простит нам Господь это веселье в час неподобающий! – произнесла Евдокия Васильевна, поднимая бокал. – За вас, мес афан13! Будьте счастливы!
Все трое чокнулись бокалами, и их звон разлетелся по всей квартире, больно ранив одного из её обитателей.
Нина Марковна заглянула в чулан, занимаемый Сергеем, и увидела, что он укладывает свои нехитрые пожитки в узел.
– Ты что это удумал, родимый? – спросила старуха, тронув его за плечо.
– Ухожу я от вас, Нина Марковна. Спаси Христос и вас, и Евдокию Васильевну, и Зину за всё добро, которое сделали вы для меня, за хлеб-соль, за ласку… Но жить так дольше я не в силах!
– Да куда же ты пойдёшь, чадо неразумное?! Ведь ты ж хворый! Пропадёшь же!
– Может, и пропаду… Так оно и лучше так… Лишний я на этом свете. Вся моя жизнь мне, точно надо мною же в насмешку, дана! – ответил Никитенко.
Нина Марковна встала в дверях и сказала твёрдо:
– Никуда я тебя не пущу, яхонтовый мой… Ты хоть меня, старуху, пожалей… Я к тебе, как к сыну родному привязалась, а ты себя извести надумал? Не смей! Слышишь меня?
– Да не могу же я их обоих вместе видеть! Ведь мне же это нож острый в сердце!
– Я думаю, что после свадьбы хлыщ этот к себе нашу Зиночку перевезёт… А мы втроём останемся. Чем плохо? Не горячись, родимый… Сгоряча-то ничего путного не делается, а только глупость.
Никитенко отложил свой узел, сел на свою худую постель, опустил голову, так что волосы закрывали бледное лицо его, и сказал:
– Хорошо, Нина Марковна, я не уйду… Пока есть силы, буду терпеть… А сейчас оставьте меня, пожалуйста… Тяжко мне…
– Вот и правильно, яхонтовый мой, вот и правильно… Всякое решение холодной головы требует, а твоя-то головушка днесь зело горяча! – старуха поцеловала Сергея в голову и вышла.
Никитенко некоторое время сидел в темноте, стиснув голову руками. Дверь скрипнула, кто-то остановился на пороге его комнаты.
– Нина Марковна, вы? – спросил Сергей, не поднимая глаз.
– Это я… – послышался в ответ голос Зиночки.
Сергей вздрогнул и резко поднял голову:
– Зинаида Прокофьевна, вы? Здесь? Помилуйте, для чего вы теперь здесь? Ведь ваш… жених…
– Он уехал только что… А я к вам пришла, – Зиночка присела рядом с Никитенко. – Я не мешаю вам?
– Нет! Разве вы можете мешать?
– Я его проводила и вдруг почувствовала, что очень вас хочу видеть, слышать… Поделиться с вами… Ах, это, наверно, нехорошо с моей стороны… Несправедливо… Я, вот, счастлива сегодня. И, счастливая, к вам пришла… Но ведь вы не будете счастью моему завидовать? Правда?
– Да нет же! Как я могу! Я очень рад за вас, Зинаида Прокофьевна… И счастья этого вы заслужили… – ответил Никитенко.
– Спасибо вам, миленький… Вы всё-таки очень добры… И я сейчас пришла к вам, как к брату… Ведь вы мне, как брат. Самый дорогой, самый любимый и нежный… И всё-всё понимающий! Я и ему сказала, что вы мне – брат… Теперь я стану его женой, мы будем жить на другой квартире… Но ведь вы же будете навещать меня, правда?
– Непременно, если это доставит радость вам…
– И я буду приезжать! К маме, к няне и к вам! У меня на свете лишь четыре дорогих человека: вы трое и он. И я вас всех люблю…
– Я тоже люблю вас, Зинаида Прокофьевна, – проронил Сергей.
– Я знаю… Ах, как же я счастлива теперь! Мне даже не верится… Даже страшно! Разве так бывает? Разве можно такой счастливой быть? Как бы я желала, Сергей Никитич, чтобы и вы были столь же счастливы! Чтобы эта ваша возлюбленная полюбила вас так же сильно, как я люблю Анатоля… Вы ведь этого так заслуживаете! О, это будет, будет когда-нибудь! Я же не смогу быть счастливой совершенно, зная, что несчастлив кто-то из моих близких… Вы – несчастливы… Вот, и теперь… Я счастлива, но чувствую себя виноватой, точно дурное что-то сделала, точно быть счастливой – это грех… Разве же заслужила я такого счастья? Почему вы опять молчите?
– Вы заслужили счастья, Зинаида Прокофьевна! Вы удивительная девушка! Я не знаю никого, кто мог бы сравниться с вами!
– А как же ваша прекрасная дама?
– Это другое дело…
– Спасибо вам, Сергей Никитич, за всё! Вы всегда будете для меня родным и дорогим человеком! – Зиночка поднялась и направилась к двери.
Никитенко поклонился ей:
– Будьте счастливы, Зинаида Прокофьевна! А я же всегда готов служить вам!
***
Снег весело хрустел под сапогами, и Пётр Андреевич радостно вдыхал морозный воздух. Городок Александров был весьма мал. По обеим сторонам главной улицы тянулись небольшие деревянные дома, вроде деревенских, окружённые садами. Рдели кисти рябин, ещё не склёванные птицами, валил из труб дымок. В стороне стояла церковь, рядом с которой простирался старый погост. В конце улица раздваивалась. Правая дорожка уходила вдаль, где маячила фигура ещё одной церквушки. А где-то, совсем уже далеко, белой крепостью царила знаменитая Слобода, облюбованная Иоанном Грозным, а после (во времена Императрицы Анны Иоанновны) – Елизаветой Петровной.
Приметив вывеску трактира, Вигель снял шапку и вошёл в него. Заведение в этот час было почти пусто. Лишь в углу тянул с блюдца чай дородный поп, а у окна скучал рябоватый мужичок, по виду, пьяница. Буфетчик привычно протирал и без того чистые рюмки. Увидев вошедшего, он оживился:
– День добрый, ваше благородие! Осмелюсь спросить, откуда путь держите? Потому как вижу, что вы не из местных… Местных я всех знаю…
– Титулярный советник Вигель, – отозвался Пётр Андреевич, снимая шубу, и присаживаясь к столу. – Прибыл из Москвы.
– Из Москвы?.. – протянул пьянчуга. – Чудны дела твои, Господи!
– Прикажите подать обед? – осведомился трактирщик. – Могу предложить уху, расстегаи…
– Подавайте, – кивнул Вигель. – Я, признаться, изрядно замёрз и проголодался за время пути.
– Какая же нужда привела вас к нам, господин Вигель? – пробасил поп, не переставая тянуть чай.
– Дела службы, батюшка.
– Стало быть, служить изволите? По какой линии, если можно узнать?
– Отчего же нельзя? Я являюсь помощником следователя и теперь приехал в связи с одним делом, нити которого тянутся в ваш город.
– Вот тебе на! – охнул пьянчуга. – Не было печали…
– Молчи ты, Аникушка! – прикрикнул на него трактирщик, подавая Петру Андреевичу золотистую уху, от духа которой внутри у Вигеля приятно защекотало. – Неужели в нашем городе завёлся какой-нибудь злодей? Уверяю вас, ваше благородие, что быть того не может… Я здесь всех, всех знаю, как свои пять пальцев…
– Не беспокойтесь… – Вигель запнулся, не зная имени трактирщика.
– Иван Алексеевич, – подсказал тот.
– Не беспокойтесь, Иван Алексеевич. Просто мы расследуем дело об убийстве человека, который лишь недавно прибыл в Москву из вашего города. Видите ли, в Москве он не успел нажить большого количества связей, и мы рассчитывали узнать что-нибудь о нём на его родине…
– О ком же идёт речь, позвольте осведомиться? Я здесь всех знаю…
– Это кстати, что вы всех знаете. Знакомо вам имя Лавровича Михаила Осиповича? – спросил Вигель, хлебая горячую уху.
– Как же! Вестимо, что знакомо… Так это что же, его убили?
– Увы.
– Вот, тебе на! – ахнул пьянчуга.
– Упокой, Господи, душу раба твоего… – вздохнул поп, крестясь.
– А и поделом ему, собаке! – вдруг сказал пьянчуга, вскидывая голову. – Есть всё-таки справедливость на свете! – с этими словами он напялил лежавший рядом картуз и, шатаясь, вышел из трактира.
Пётр Андреевич вопросительно взглянул на трактирщика. Тот сел напротив него и, погладив затылок, сказал:
– Я вам честно скажу, господин Вигель, Лавровича у нас в городе уже давно не любили. Он держал лавку ссудную и проценты драл просто нечеловеческие… В большом городе это ещё терпимо, но здесь, где все друг у друга на виду… А ещё эта его охочесть до женского полу… Нет, ну, конечно, всякое бывает… Кто без греха! Но для Лавровича это было что-то вроде игры… А в маленьком городе разве скроешь?
– Скажите, а человек, что сейчас вышел, кто он?
– Аникушка Перфильев…
– А что у него за счёты с Лавровичем? Тут женщина замешана?
– Нет, тут как раз распря из-за денег вышла… Покойный отец Аникушки задолжал Лавровичу изрядную сумму. А с процентами она и ещё куда важнее сделалась… Аникушка-то про отцовы дела не очень ведал, а с Лавровичем дружбу водил… То есть, как сказать… В общем, хотелось ему дюже на Лавровича походить: чтобы и обед царский, и женщины, и положение… Везде-то он за ним ходил, опыту набирался. Мечтал своё дело открыть. «Вот, буду, – говорил, – богатым, как Мишка, так вы уже со мной запанибрата и свысока не посмеете: Аникеем Гавриловичем звать станете и услужать!» Дурак… Так, вот, когда родитель его помре, так Аникушка Лавровича стал упрашивать должок ему по старой дружбе скостить, а тот ни в какую: выплачивай всё немедля и хоть убейся! Аникушке всё имущество распродать пришлось. Ну, с той поры и началась эта распря. Аникушка местных, тех, что победнее да попьянее, подбивать стал дом Лавровичу спалить. Вот, вскорости после этого он отсюда и уехал.
– Что ж, выходит, испугался угроз? – удивился Вигель.
– Я точно не знаю, что там произошло… – признался трактирщик. – Вообще говоря, Михаил Осипович о Москве давно думал… Может, это просто подхлестнуло его… Да и жестоко он разобиделся, что купец Иртеньев за него свою дочь не отдал.
– Отчего же не отдал?
– Так охочесть Михаила Осиповича до баб всем известна была… Какой отец своей дочери такого мужа пожелает? Тем более, отец состоятельный!
Вигель задумался, а затем спросил:
– А не уезжал ли Перфильев в последнее время из города?
– Вы что, думаете, что он в Москву ездил Лавровича убивать? – усмехнулся трактирщик. – Что вы! Аникушка пьянчуга, а не убивец…
– И всё-таки?
– Не отлучался он, ваше благородие. Истинный крест вам даю. Я бы знал! Он ведь целыми днями у меня в заведении сидит или по улицам в пьяном безобразии шатается! Никуда он не уезжал.
Пётр Андреевич выпил два стакана горячего чаю и спросил трактирщика:
– Вы говорили о женщинах Лавровича… Были какие-то скандалы у вас, с этим связанные?
– Да ничего особенного… Ну, бывалочи застукает муж свою благоверную с Михал Осипычем… Ну, так тут всё по старинке: ему – в глаз, её – вожжами… Дело семейное…
Поп поставил блюдце на стол, крякнул:
– Ты, Ваня, гостю всё рассказал, а про самое-то главное умолчал… Была у нас, господин Вигель, одна прискорбная история. Да Ваня вам об ней не скажет: у него она до сей поры на сердце язвой…
Трактирщик отошёл за стойку и стал с видимым равнодушием протирать рюмки, бросив лишь:
– А об этом пущай отец Демьян повествует, коли сан позволяет…
Отец Демьян погладил бороду и сказал Петру Андреевичу:
– Идёмте. Мне уж пора в храм идти, скоро служба… Я вам дорогой расскажу…
Вигель расплатился с трактирщиком и вышел следом за священником. Поп перекрестился, глубоко вздохнув:
– Благодать-то какая! – и, взяв Петра Андреевича под руку, неспешно пошёл по дороге. – Слушайте же! Лет семнадцать тому назад жили в нашем городе две сестры: Татьяна и Глафира. Родители их померли, а потому старшая младшей за мать была. Жили бедно, добрые люди им помогали, Татьяна и работницей была редкой: кому нянька нужна была, кому по дому подсобить – все её звали. А сестра её зело собою хороша была. Так хороша, что и не сказать! В общем, большое влечение к ней Михаил Осипович обнаружил. Он тогда ещё молод был… В общем, случилась меж ними, прости Господи, любовь. А у нас разве же сокроешь такое? Ему-то – что? А ей по улицам пройти невозможно сделалось – все на неё пальцами указывали да судачили… И Ванька-трактирщик (тогда он ещё половым был) пуще других, потому что сам на Глафиру виды имел и взревновал сильно… А Михаил Осипович жениться на ней не пожелал, сказав, что ему капиталом обзавестись сперва надо, а семьёй – уж погодя. А девица-то позора и обмана не снесла – утопилась. Только платок её на берегу и нашли да записку… В пруду, что подле слободы нашей утопла, где грозный царь свою супругу утопил в своё время… Страшное и горькое дело… Михаил Осипович тогда чернее тучи ходил… И Иван Алексеевич тоже зело сокрушался…
– А что же Татьяна? – спросил Вигель.
– В инокини пошла, сестрин грех замаливать…
– Батюшка, а вы не знаете, отлучался ли кто-нибудь из города в последнее время?
Отец Демьян посмотрел на Петра Андреевича ясными глазами и покачал головой:
– Иван здесь был. Он не врёт, когда говорит, что всё и обо всех здесь знает. Так что насчёт этого спокойны можете быть.
– А могу ли я поговорить с Татьяной?
– С инокиней Евфросиньей? А зачем вам?
– Мало ли… Служба у меня такая, отец Демьян: никогда не знаешь, где какая зацепка обнаружиться может.
– Поговорите… Если она, конечно, пожелает.
– А где её искать? В монастыре?
– Зачем так далеко? На кладбище, – ответил поп.
– На кладбище?
– Да, она там большую часть времени проводит… Больна она стала, господин Вигель. Не жилица уже… Вот, и досрочно на кладбище перекочевала почти. Ходит там меж крестов, сидит часами… Как призрак, честно слово! У нас её иные боятся даже. Вы теперь и идите туда: наверняка она на погосте.
– Спасибо, батюшка, – поблагодарил Пётр Андреевич и, ускорив шаг, направился к кладбищу.
Погост был очень стар. На нём покоились многие поколения александровцев. Теперь каменные плиты и холмы покрывал снег, и чернели на его фоне покосившиеся зачастую кресты, на некоторых из которых висели венки… Кричали сверху вороны, неизменно любящие подобные места, и от их крика в душу закрадывалась тоска. Вигель машинально читал надписи на крестах и думал, что непростительно давно не был на могиле отца. «Нужно будет обязательно сходить по возвращении в Москву… – размышлял он. – Непременно и безотлагательно… Странное дело: мы ещё помним, где лежат наши отцы, деды, а могил прадедов почти никогда не знаем… Подумать только, через каких-то два поколения и от нашего пребывания на земле ничего не останется… Будут проходить люди мимо наших покосившихся крестов, безучастно читать наши имена, и они им ничего не будут говорить! Как же это грустно всё…»
Внезапно за чёрной изгородью крестов Вигель увидел чёрную согбенную фигуру инокини. Пётр Андреевич осторожно подошёл к ней. Евфросинья обернула к нему своё высохшее, желтовато-бледное лицо с усталыми глазами и едва кивнула головой:
– Господин Вигель, я понимаю?
– Да… Откуда?.. – растерялся Пётр Андреевич.
– Аникушка шепнул мне про вас… Я ждала, что вы придёте…
– Простите, что решился вас обеспокоить, но…
– Но вам нужно знать подробности истории моей несчастной сестры и Миши? – инокиня воткнула свою палку в снег и тяжело опёрлась на неё. – Знаете, молодой человек, в своё время я обещала сестре, что никому не выдам её тайны… Потом она сама сняла с меня этот обет… Если бы она была жива, я бы ничего вам не сказала… Но, раз уж нет ни её, ни Миши, то тайна эта никому не нужна больше… Да и я уже почти что не среди живых… Вот, сегодня говорю с вами, на небо и снег смотрю, а завтра, может быть, в иных чертогах вечерять придётся…
Налетевший ветер колыхал чёрные одежды инокини. Её почти прозрачные глаза смотрели невидяще, устремляясь мимо Вигеля куда-то вдаль. И голос Евфросиньи, тихий и глухой, в самом деле, уже слабо походил на голос живого человека. Инокиня перевела дух и сказала:
– Вам уже, наверно, рассказали о том, как Миша бросил мою сестру? Рассказали ведь?
– Так точно…
– Всё так. Только они все того не знают, что Глаша была тяжела в то время… Когда я узнала об этом, то поняла: ни ей, ни ребёнку жизни в городе не будет. Поэтому я отправила сестру в Москву, поручив её одной пожилой одинокой даме, у которой некоторое время работала.
– Постойте! – Пётр Андреевич нахмурился. – Мне говорили, что ваша сестра…
– Утопилась? Мы хотели, чтобы именно так все считали. Сестра написала записку и уехала в Москву, а уж я положила её и вещи Глашины на берег пруда. Все поверили и дознаваться особенно не стали ни о чём… Глаша в Москве после родов стала кормилицей в одном доме… В том семействе она приглянулась, и её взяли няней… Разумеется, правды о моей сестре они не знали… Глаша говорила, что отец ребёнка трагически погиб. Ей верили. Ей трудно было не верить… Я иногда бывала у неё, я была крёстной матерью девочки… Думаю, что сестра-инокиня лишь укрепляла положение Глаши. Конечно, лгать мне, Христовой невесте, было большим грехом, но я делала это ради единственной сестры и ни в чём не повинной крошки, её дочери…
– Постойте-постойте, а Михаил Осипович так ничего и не знал о рождении дочери?
– О беременности сестры – знал. А больше ничего не знал до прошлого года…
– А что случилось в прошлом году? – взволнованно спросил Вигель.
– Полтора года назад скончалась Глаша, – ответила инокиня. – Девочка осталась одна… Она, правда, жила в доме, где работала её мать, но без неё всякое могло быть… О ней же некому было позаботиться! Я сама ездила в Москву. Изыскала племяннице денег… Свела её с инокиней одного тамошнего монастыря, попросив ту помогать по возможности моей крестнице…
– И никто ни о чём не догадывался? Неужели ваши отлучки ни у кого не вызывали подозрений? Простите…
– Молодой человек, мне грех говорить так о себе, но, если вы спросите кого-либо в нашем городе обо мне, то вам расскажут… Подозревать меня в чём-либо не мог никто. Тем более, в Москву я ездила под разными благовидными предлогами: закупить что-либо для монастыря, поклониться привезённым туда святыням… Я, вправду, всё это делала, так что и не лгала вовсе…
– Простите, я не должен был спрашивать… – Пётр Андреевич опустил голову.
– Ничего… Слушайте же дальше. Когда я узнала, что больна, и поняла, что дни мои сочтены, то выхода у меня не осталось: нужно было позаботиться о племяннице… Я всё рассказала Мише. К моему удивлению, он был потрясён и даже плакал, узнав, что в Москве живёт его дочь. Он говорил, что все эти годы корил себя, обещал сделать всё, чтобы искупить свою вину перед дочерью… Вскоре он продал всё имущество и уехал в Москву. А потом я получила от крестницы письмо, где она сообщает о встрече с отцом, о том, что он снял ей жильё, что нанял для неё репетиторов и всячески о ней заботится… Я была счастлива, господин Вигель! И весть о Мишиной смерти меня приводит в ужас. Что если он не успел оставить завещания, или не указал в нём мою девочку? Ведь она же пропадёт!
– Как зовут вашу племянницу? – почти вскрикнул Пётр Андреевич, осенённый внезапной догадкой.
– Людочка… – ответила инокиня.
– Ну, конечно же… – прошептал Вигель. – Значит, всё-таки не зря я приехал сюда… Матушка, а знаете ли вы адрес вашей племянницы?
– Я точно не помню… Но она же мне писала, и я ей… Я могу посмотреть, если вам так уж нужно…
– Ради Бога! – Вигель умоляюще сложил руки. – Мне очень нужно!
– Ступайте за мной, – велела инокиня и побрела по кладбищенской дорожке.
До Слободы пришлось идти долго. Евфросинья шла медленно, часто останавливаясь, чтобы перевести дух. Но, вот, наконец, показались величавые белые стены и стрела колокольни, взмывающая ввысь.
– Погодите здесь, – сказала инокиня и скрылась за воротами монастыря.
Прошло где-то полчаса. Из ворот высунулась юная черница и поманила к себе Петра Андреевича:
– Господин Вигель?
– Да…
– Вот, матушка Евфросинья вам просила передать… – девушка протянула Петру Андреевичу конверт и скрылась.
В конверте оказался листок бумаги, исписанный крупным, почти детским, почерком. Вигель прочитал:
– Дорогая, милая, любимая тётушка! Я теперь счастлива! Вчера нашёлся мой отец! Ты представляешь, он ничего не знал обо мне все эти годы, а, узнав, принялся искать и нашёл! Представляю, как ты будешь рада! А как бы была рада матушка… Ведь она считала отца погибшим. Все мы считали. А он оказался жив! Просто не мог приехать прежде… Просто не знал, где нас искать… Тётушка, он невероятно добр! Он снял мне комнату и нанял педагогов… Теперь я буду ходить на курсы! А ещё отец купил мне несколько безумно красивых платьев, о которых я даже мечтать не могла… О, тётушка, это всё похоже на сказку! Какое-то чудо! А ещё я была у отца дома… Правда, он не велит мне к нему приходить, потому что очень много работает… Но я не удержалась и пришла! Я встретила у него очень интересного молодого человека… Он так смотрел на меня, что я даже покраснела… Тётушка, признаюсь тебе, что он мне очень понравился. Настоящий красавец… Кажется, из благородных. Завтра мы с отцом будем вместе. Он обещал… Мысли у меня путаются теперь: столько всего сразу! Ах, если бы ещё ты приехала! Ведь у меня никого нет роднее тебя! Обнимаю тебя, бесценная, самая любимая тётушка! Целую много-много раз твои руки! Твоя Людочка. Когда будешь мне отвечать, не пиши на прежний адрес! Пиши на новый: Газетный переулок… – Пётр Андреевич вздохнул и сложил письмо. Сомнений не было: Людочка и есть та самая таинственная юная девушка, с которой встречался убитый Лаврович в «Мечте», которую подвозил в Газетный переулок…
Вигель подпрыгнул от радости и улыбнулся: он возвращался в Москву не с пустыми руками.
Прежде чем покинуть город, Пётр Андреевич ради любопытства остановил первую попавшуюся бабу и спросил её, знает ли она инокиню Ефросинью.
– Конечно, батюшка! – кивнула баба. – Как же нам не знать её? На таких, как она, земля стоит! Молитвенница великая и постница! За больными ходит, никакого труда не боится, вериги носит. Она святая для нас! Мы на неё, как на святую, и взираем… Смотрим и понимаем, сколь мы грешны, лживы и черны… Её даже мать-настоятельница почитает! А вам грех не знать о ней! У нас по всей губернии слава её слышна. Видать, до Москвы не докатилась ещё… Дай Господи ей долгоденствия и сил!
***
Едва он переступил порог, как воздух тотчас наполнился изысканным ароматом мускус-амбре. Вошедший был высок и строен, лицом походил на римского патриция, синевато-серые глаза его смотрели холодно из-под пенсне. Красиво очерченные скулы обрамляла бородка алажён-франсе. Если бы не вычурный костюм, пошитый, как немедля определил бы знающий глаз, у знаменитого Айе, и окружающая обстановка, он вполне бы походил на профессора Московского Университета. Его имя лишь недавно стало попадать в газеты, однако, слава его в скором времени могла бы поспорить со славой великого Плевако. Александр Карлович Гинц слыл одним из лучших адвокатов своего времени. На его счету не было ни одного проигранного дела, притом, что брался он за дела самые скандальные, самые сложные. На процессы, на которых защитником выступал Гинц, публика собиралась, как на спектакль, зная точно, что речь Александра Карловича будет блестяще выстроена, образна и произнесена с завидным актёрским мастерством. Особенно много среди публики было дам, мечтающих обратить на себя благосклонное внимание известного адвоката и вдобавок холостого мужчины, отличавшегося весьма импозантной внешностью. Однако, счастливиц пока не было. Александр Карлович оставался холоден, как мраморное изваяние, но этим лишь усиливал интерес к своей персоне. Берясь за то или иное дело «по велению души», Гинц не искал большого материального вознаграждения, даже подчас отказывался от него. Происходя из состоятельной остзейской семьи, он никогда не испытывал нужды. Защита же состоятельных клиентов, чтение публичных лекций, различные консультации приносили немалый доход, позволявший Александру Карловичу выбирать себе работу для удовольствия. Удовольствие же состояло в том, чтобы доказать присяжным, что чёрное есть белое и наоборот. И это Гинцу удавалось вполне. Его стараниями многие преступники получили наказание куда меньшее заслуженного, а иные и вовсе были прощены. Впрочем, были среди подзащитных Александра Карловича и люди, в самом деле, ставшие жертвами недобросовестности следствия, к коим стараниями Гинца восстанавливалась справедливость.
В деле княжны Омар-бек его привлекло не столько оно само, сколько фигура главной подозреваемой. Гинц увидел её случайно в тот день, когда её привезли в тюрьму, куда он прибыл для свидания с одним из своих подзащитных. Всё в этой женщине поразило Александра Карловича. Мысль защищать её пришла к нему немедля, как нечто само собою разумеющееся. И, вот, теперь Омар-бек сидела перед ним: смуглая красавица с матовой кожей и смоляными косами. Безупречно прямая осанка, безупречная порода в чертах прекрасного лица. И глаза. Бархатные из-за длинных густых ресниц. Глаза невероятной глубины, бездонные. Взгляд, наполненный болью и гордостью. Королевской гордостью! Королевского презрения!
– Здравствуйте, княжна, – произнёс Гинц. – Я ваш адвокат. Меня зовут Александром Карловичем.
– Мне не нужен адвокат, – спокойно отозвалась княжна.
– Но вы обвиняетесь в тяжелейшем преступлении…
– Я знаю, в чём я обвиняюсь. Я не совершала его.
– Так как же вам в таком случае не нужен адвокат, если вы невиновны? – удивился Гинц.
– Адвокаты, милостивый государь, нужны виновным. Мне – не нужно.
– Княжна, я искренне верю в вашу невиновность и не хочу, чтобы вы стали жертвой судебной ошибки.
– Кисмет… Я не боюсь суда…
– И всё-таки я прошу вас не отказываться от моих услуг.
– Я благодарю вас, Александр Карлович, за желание помочь мне. Но мне вряд ли кто-то сможет помочь теперь… Тем более, мне нечем оплатить ваших трудов.
– Это не имеет значения, – ответил Гинц. – Я готов защищать вас даром. Ради удовлетворения собственного желания справедливости.
– Я вижу, вы благородный человек, – смягчилась Омар-бек. – Мне будет приятно хотя бы иногда беседовать с вами…
– Значит, вы всё-таки принимаете мои услуги? – уточнил Александр Карлович.
– Да, хотя, Аллах свидетель, труды ваши напрасны…
– Скажите, княжна, у вас есть какие-нибудь жалобы на то, как вас здесь содержат? Пожелания какие-нибудь?
– Нет… – ответила Омар-бек. – Когда-то я жила во дворце, мои ноги привыкли ступать по коврам, а руки не знали труда… Но с тех пор утекло очень много воды. Я узнала и холод, и голод… Я спала на улице, я не имела ни крошки во рту по нескольку дней… Здесь есть крыша над головой, есть вода, чтобы умыть лицо, есть пища, чтобы не умереть с голоду, есть белый свет в окне… На что же мне жаловаться? Нет, мне решительно не на что жаловаться…
– У вас есть родственники или друзья? Может быть, нужно поставить их в известность о вашем положении?
– Друзья – есть… Но их не нужно ставить в известность… И без того нам хватило позора. Это – я испью одна. Без них… Это – мой лишь позор. Мне и искупать его… А не им! Желаю лишь, чтобы они никогда о нём не узнали…
– Может быть, вам нужны какие-нибудь вещи? Не холодно ли вам здесь?
– Мне не холодно, – ответила Омар-бек. – Мне только не хватает воздуху… Иногда по ночам мне кажется, что кто-то душит меня, что я вот-вот задохнусь…
– В таком случае, вам нужно позвать врача…
– Врач мне не нужен. Врачи не помогут… Я справлюсь сама…
– Расскажите, княжна, что произошло в тот роковой день?
– Я ничего не знаю… Меня не было дома…
– Как так? А где же вы были?
– Я гуляла.
– Где?
– По улице.
– В одиночестве?
– Разумеется.
Гинц поправил пенсне и спросил:
– Когда вы ушли, чем был занят Михаил Осипович?
– Он ожидал чьего-то прихода… Я потому и ушла. Михаил Осипович не хотел, чтобы я присутствовала при их разговоре.
– И вы не знаете, кто должен был прийти к нему?
– Нет, не знаю… К Мише разные люди ходили… И он иногда просил меня уйти куда-нибудь на время…
– Не опасался ли Михаил Осипович чего-либо в последнее время?
– Он, вообще, ничего и никогда не опасался. Точнее, если и опасался, то не подавал виду. Он был очень скрытный человек…
– Господин Лаврович был застрелен из собственного пистолета. Вы знаете, где находился пистолет в то утро?
– Знаю. Пистолет лежал в прихожей на полке…
– В прихожей?! – поразился Александр Карлович. – Заряженный револьвер?! Да почему же он лежал в прихожей?
– Я его туда положила, уходя, – ответила Омар-бек с абсолютным равнодушием.
– Как?.. Зачем?
– В комнату возвращаться не хотела и с собой брать не хотела… Бросила в прихожей… Сгоряча. Мне очень не нравилось, когда Миша просил меня уйти…
– Значит, пистолет был у вас? И дворник говорил правду о том, что вы угрожали им покойному накануне убийства?
– Он был не заряжен, милостивый государь. Миша знал… Поэтому и не боялся и не воспринимал всерьёз моей угрозы…
– То есть, когда вы оставили пистолет, он был не заряжен?
– Именно.
– Хорошо… Что же было дальше? Я имею ввиду, после того, как вы вернулись с вашей прогулки?
– Я вошла в комнату и увидела Мишу… Он был весь в крови… Я так испугалась! Даже, когда предательски убили моего отца, я так не боялась…
– А пистолет?
– Пистолет был в прихожей… Я взяла его, чтобы отнести Мише… А его убили…
– Так-так-так… И у вас нет ни малейших подозрений, кто бы мог это сделать?
– Я Мишиных друзей не знала.
– К Михаилу Осиповичу часто приходил молодой человек в белом бурнусе. Вы видели его когда-нибудь?
– Нет, не видела…
– В тот день вы вышли и вернулись через чёрный ход?
– Да…
– Княжна, вспомните, пожалуйста, говорил ли Михаил Осипович когда-либо о своём завещании?
– Не припомню…
– Но как вы полагаете, оно у него было?
– Миша был состоятельным человеком. Наверное, было. Но я ничего об этом не знаю… Простите, Александр Карлович, я очень устала…
– Последний вопрос: неужели вы даже приблизительно не помните, куда ходили в тот день? Неужели не заходили в какие-нибудь лавки?
– Я не люблю ходить по лавкам. Я просто бродила по улицам. Вот и всё.
– Что же, спасибо, княжна. Я сделаю всё возможное, чтобы…
– Скажите, Александр Карлович, зачем вы взялись защищать меня? – перебила Омар-бек адвоката. – Только не говорите о справедливости. У вас много несправедливо осужденных в тюрьмах сидят…
– Я не знаю, что вам ответить на этот вопрос, княжна…
– Я знаю, – тихо вздохнула Омар-бек. – Прошу вас не приходите ко мне больше. Я всё равно ничего не скажу кроме уже сказанного. А лучше и вовсе позабудьте обо мне. Прощайте, милостивый государь!
Княжна резко отвернулась к окну, и сбитый с толку Гинц оставил её.
После беседы с Омар-бек Александр Карлович прямиком отправился к следователю Немировскому, которому с порога объявил:
– Заговорила! Невиновна!
Николай Степанович знаком пригласил адвоката садиться.
– Поздравляю вас, Александр Карлович. Признаться, я очень надеялся на ваше умение производить впечатление…
– Не любите вы меня, господин Немировский.
– Ну, вы не красна девица и не брат мне, чтобы вас любить. Хотя я вас в высшей степени уважаю, как профессионала в своём деле… Однако, оставим сложности наших отношений. Что вам сказала княжна?
– Надеюсь, мой устный пересказ не вызовет у вас недоверия?
– Упаси Бог!
Александр Карлович кратко пересказал следователю услышанное от княжны и, закурив, выжидательно посмотрел на него. Немировский задумчиво потёр подбородок:
– Что ж, история довольно стройная… Скажите мне, уважаемый Александр Карлович, а вы ей верите? Не по службе спрашиваю… Так, из любопытства… Верите вы в то, что эта дама – самаркандская княжна?
– Николай Степанович, мы с вами оба читали письма, написанные ей некими верными людьми…
– Которых и следа нигде нет. Вам не показалось, что эти письма как будто бы написаны под одну диктовку? С одного голоса? Уж очень всё это отдаёт театральщиной… Вы ведь театрал, я знаю…
– Мне всё равно, каково происхождение моей подзащитной.
– Однако, вы не ответили на мой вопрос. Я, скажем так, сомневаюсь в виновности княжны в убийстве. Но ещё больше я сомневаюсь в том, что она княжна.
– Да ведь она же на днях приняла в тюрьме крещение… – заметил Гинц.
– Вот, это-то меня и беспокоит. Обмануть закон – это теперь дело обычное. Но – Бога? Тут ведь иной совсем счёт получается… К слову, что вы теперь намерены предпринять?
– Слишком вы много спрашиваете, господин Немировский! – чуть улыбнулся Александр Карлович. – Был бы на вашем месте кто другой, я бы не ответил. Но вам, будучи уверенным в том, что вы мне палки в колёса втыкать не будете, скажу: для начала попытаюсь отыскать людей, которые могли бы видеть княжну во время её прогулки в тот день.
– Нелёгкая эта задача, – покачал головой следователь. – Впрочем, желаю вам успеха. Искренне.
– Же ву ремерси тре бьен14, Николай Степанович! – отозвался Гинц и, раскланявшись, покинул кабинет следователя.
В последние дни в Москву пришла редкая для декабря оттепель. Александр Карлович запахнул элегантный ольстер, поправил поярковую шляпу и, поигрывая изящной тростью, сел в коляску с опущенным фордеком.
– На Неглинную, к Дюссо! – велел он.
Заведение Дюссо было одним из самых известных и дорогих в Москве. Гинц, живший неподалёку от него, обедал там почти каждый день. Оставив пальто в гардеробе, Александр Карлович занял своё излюбленное место возле окна и подозвал официанта.
– Добрый день, господин Гинц! – тотчас подлетел тот. – Чем вас попотчевать? Как всегда-с?
– Да-да, бутылку марсалы, котлеты а-ля Жардиньяр… В общем, ты всё прекрасно знаешь.
– Сей момент-с всё будет!
Александр Карлович закурил. Из головы его не выходил образ княжны Омар-бек. Никогда ещё за все свои сорок с лишним лет жизни не чувствовал Гинц ничего подобного… Да и было ли время чувствовать? Никто и не подозревал, что скрывалось за обликом успешного, лощёного, уверенного в себе адвоката. А скрывалось самоубийство отца и тяжёлая болезнь любимой матери, приведшая её, некогда красивую и весёлую женщину, к совершенному безумию… Никто не догадывался, что привычка держать себя обособленно, не впуская ни в свой дом, ни в свою душу никого, была не следствием гордыни, а всего лишь обереганием доброго имени матери… Долгие годы Гинц жил на окраине Москвы, снимая целый дом и держа лишь двух старых слуг, мужа и жену, которые ухаживали за его матерью, на выздоровление которой он надеялся до последнего. Ни друзей, ни женщин Александр Карлович никогда не приводил к себе, да и не было их у него, поглощённого своими заботами.
Рассудок Эльзы Ивановны повредился после самоубийства её мужа, и Гинц никак не мог понять и простить отцу этого поступка. Он всеми силами выдумывал ему оправдания, и фактически именно отец стал его первым подзащитным. Только этот суд вершился в душе Александра Карловича. Позже уже для своих клиентов Гинц точно так же изыскивал оправдания. Самые невероятные подчас.
Когда скончался старый слуга Гинцев, Александру Карловичу стало ясно, что старуха-служанка уже не справится со своей полоумной госпожой, и Эльза Ивановна была водворена в Преображенскую больницу, где находилась по сей день. Гинц часто навещал её, следя, чтобы за его матерью был достойный уход, и эти посещения всякий раз были для него огромной мукой.
В последний год Александр Карлович поселился в просторной квартире на Неглинной, но уклад жизни оставался прежним, и всем хозяйством заправляла та же старая служанка по имени Акулина…
Пообедав у Дюссо, Гинц наведался в несколько мест по делам своих подзащитных и лишь к вечеру вернулся домой. Навстречу ему вышла, шаркая ногами, Акулина:
– Что же это мне за мука до ночи тебя, батюшка, ждать, – покачала она головой.
Александр Карлович чмокнул старуху в сморщенную щёку:
– Не сердись, Акулина. Дел много.
– Всё-то дела у тебя, дела… Ты бы о себе лучше подумал.
– Что ты имеешь ввиду?
– Жена тебе нужна, вот что. Чтобы детишки по дому… Ведь ты же совсем один… Сердце разрывается… Куда, в самом деле, годится? Вот, помру я, как жить станешь?
– Так не помирай, Акулина, – попытался отшутиться Гинц, уходя от неприятного разговора. – Ужинать я не буду. Так что можешь ложиться спать.
– Я у матушки твоей нонеча была, – сказала Акулина. – Совсем она нехороша… Видно, не долго ей осталось… Да и то сказать, хоть и грех, да скорее бы уж Господь прибрал её… Там хоть отдохнёт её душенька… Ты бы навестил её…
– Навещу, – пообещал Гинц. – Я очень устал сегодня. Спокойной ночи!
Александр Карлович скрылся в своей комнате. Несколько минут слышались ещё шаркающие шаги Акулины, её вздохи и бормотания, потом всё стихло. Гинц сменил сюртук на халат, прилёг на диван-оттоманку, закурил… Спать ему не хотелось, а хотелось думать о таинственной княжне Омар-бек. Александру Карловичу вдруг пришло в голову, что, если бы его жена была похожа на неё, он был бы самым счастливым человеком. И тотчас припомнились последние слова княжны:
– Я знаю. Прошу вас не приходите ко мне больше. А лучше и вовсе позабудьте обо мне. Прощайте, милостивый государь!
Неужели и впрямь узнала, поняла, разгадала?..
***
Извозчик остановился в Газетном переулке. Николай Степанович легко спрыгнул на землю и направился к крайнему дому. Ему не составило труда узнать, в каком номере проживает Людмила Михайловна Арепьева, и через несколько минут он уже представлялся юной белокурой девушке с немного испуганными глазами:
– Статский советник Немировский, Николай Степанович. Следователь.
– Проходите… – растерянно произнесла Людочка.
Николай Степанович вошёл в светлую, чистую комнату, свидетельствующей своим видом об аккуратности хозяйки.
– Людмила Михайловна, я должен вам сообщить весьма прискорбную весть, за что заранее приношу свои извинения…
– Я вас слушаю, – Людочка опустилась на край стула и взглянула на следователя.
– Месяц тому назад в своём доме был застрелен Михаил Осипович Лаврович.
Людочка тихо вскрикнула и закрыла лицо руками.
– Это ведь ваш отец, я не ошибаюсь? – уточнил Немировский.
Девушка кивнула.
– Примите мои соболезнования… Я расследую дело об убийстве вашего отца, и мне необходимо задать вам несколько вопросов.
Людочка утёрла платком глаза и сказала приглушённым голосом:
– Задавайте…
– Давно ли вы познакомились с вашим отцом?
– Полгода назад… Он приехал в Москву год назад, чтобы найти меня. Вначале он не решился прийти сам и посылал мне деньги и подарки… А потом уже пришёл сам…
– Вы часто виделись с ним?
– Нет… У отца было много работы… Но мы бывали с ним в балаганах, в ресторациях, даже в театре однажды…
– Он бывал у вас здесь?
– Нет… Он подвозил меня, но никогда не заходил. Говорил, что это могут неверно истолковать… Ведь никто же не знает, что он мой отец…
– А кто же снял для вас этот номер? Кто помог устроиться? Ведь вы очень молоды…
– Друг отца. Очень добрый и хороший человек. Из порядочных…
– Как его имя?
– Георгий. А фамилии не знаю…
– Георгий? А можете ли вы описать его внешность?
– Очень хорош собой, темноволос, элегантен… Очень благородные манеры. И плащ белый… Он так сочетался с его чёрными кудрями и глазами!
– Белый бурнус… – пробормотал Немировский.
– Что вы сказали?
– Нет-нет, ничего. Что же, он был очень в большой дружбе с вашим отцом?
– А разве могло быть иначе? – Людочка мечтательно закатила глаза. – Георгий был таким благородным, таким необыкновенным! Отец меня познакомил с ним… Мы даже иногда встречались втроём…
– А каковы были ваши отношения с Георгием?
Девушка покраснела и опустила глаза:
– Мне казалось, что мы любили друг друга… Мы часто виделись. Я ему всё-всё рассказывала. Он был такой заботливый!
– А теперь вам так не кажется?
– Я не знаю… – Людочка вздохнула. – Вот, уже месяц, как он пропал… Может быть, с ним что-то случилось? Вы ничего о нём не знаете?
– Признаться, больше всего я хотел бы именно о нём знать всё…
– Почему? – насторожилась девушка.
– Есть причины… Например, он не забрал свои вещи из закладных в полиции… – солгал Николай Степанович. – Значит, ни фамилии, ни адреса его вы не знаете?
– Нет…
– Скажите, а почему за целый месяц вы не поинтересовались судьбой отца? Вам не показалось странным, что он так вдруг исчез?
– Отец и прежде иногда подолгу не давал о себе знать. Он запретил мне искать себя, приходить к себе. Говорил, что так нужно для нашего общего спокойствия. Однажды, когда его долго не было, я пришла к нему, и он очень рассердился. Единственный раз на меня рассердился! Правда, потом просил прощения, напоил меня чаем, мы долго разговаривали… Но приходить вновь отец запретил… Вот, я и не приходила… – Людочка всхлипнула. – Господи, что же теперь будет? Отца убили, Георгий пропал, тётушка больна… Нет, я в монастырь уйду! Ей– Богу…
Немировский погладил девушку по руке:
– У вас есть теперь деньги?
– Пока есть… Отец много давал, а я не тратила… Постойте, – Людочка подняла голову, – ведь у отца же было завещание…
– Вы в этом уверены? Людмила Михайловна, вспомните, пожалуйста, это очень важно!
– Ну, конечно же, я уверена! В тот раз, когда я пришла к отцу, он, как я вам и говорила, вначале очень рассердился… А потом сказал: «Раз ты уже пришла, то я покажу тебе моё завещание, которое я составил лишь днями… Большую часть своего имущества я переписал на тебя. Ты должна знать о том, что именно получишь, если со мною что-то случится…»
– И вы видели это завещание?
– Да, господин Немировский! Отец отпер бюро… Там был специальный ящичек, вроде тайника, где он хранил ценные бумаги. Извлёк оттуда своё завещание и показал его мне… По нему мне причиталась довольно изрядная сумма… Я, правда, точно не помню, какая… Я всегда цифры забывала…
– К сожалению мы не нашли этого завещания. Ценные бумаги вашего отца были похищены, и среди них, должно быть, оказалось и оно.
– Так отца ограбили?
– Увы. Вы сказали, что ваш отец отпер тайник… Когда мы осматривали его, он был открыт. Мы заметили, что на нём был не простой замок, а какой-то код. Вы знаете этот код?
– Знала, – ответила Людочка. – Отец при мне набрал его. Он обозначал какую-то дату… Он ещё сказал… Как же он сказал? Ах, да! День восстания декабристов… Только я не помню, когда они восстали. Я тогда очень смеялась ещё, рассказывая Георгию… И он смеялся: «Никогда не думал, что Михаил Осипович – декабрист!»
– Вы рассказали всё это Георгию? – поразился Николай Степанович.
– Да… Я ему всё всегда рассказывала… – девушка вдруг осеклась, и глаза её наполнились ужасом. – Вы думаете, что это Георгий? Что он убил и ограбил отца?!
– Это одна из версий, – не стал отрицать Немировский.
– Но этого не может быть! Этого быть не может! Вы понимаете?! Он не мог! Он не такой! Вы ведь его совсем не знаете! Он благородный и честный человек!
– Вполне возможно. Но я по должности обязан изучить все версии. И, если бы ваш Георгий не исчез так таинственно, а пришёл бы к нам и ответил на все вопросы, то мы бы гораздо скорее убедились в его невиновности. У меня будет к вам большая просьба: если вдруг он появится, постарайтесь убедить его в необходимости прийти к нам. Иначе мы, рано или поздно, найдём его сами, но для него это будет хуже. Я на вас очень рассчитываю, Людмила Михайловна.
– Я поняла вас, господин следователь!
– В таком случае, позвольте откланяться. Ещё раз примите мои соболезнования!
Прежде чем уехать, Николай Степанович поманил к себе подметавшего улицу дворника.
– Слушаю, ваше благородие! – с готовностью подошёл тот.
– Барышню Арепьеву, что в этом доме проживает, знаешь ли?
– Как не знать!
– А Василь Васильича? Романенко?
– Как же нам Василь Васильича не знать! Человек известный…
– Так вот, слушай внимательно, друг сердечный – таракан запечный, гляди за барышнею в оба! Куда и к кому ходит, кто к ней приходит. Особенно следи, не появится ли молодой человек, очень привлекательной наружности и очень изысканно одетый. Если таковой объявится, срочно посылай к Василь Васильичу. Всё прочее запоминай, потом ему же доложишь. Всё понял?
– Всё, ваше благородие. Дело-то неновое! Только я ж один не смогу всё время за ней доглядывать…
– Не беспокойся: пришлём тебе сменщика.
– Понял, ваше благородие. Я, ежели что, сынишку своего к Василь Васльичу пошлю.
– Добро! Вот, получи от меня красненькую.
Дворник радостно схватил протянутые деньги:
– Премного благодарны, ваше благородие! Всё понял! Всё в лучшем виде сделаю!
Николай Степанович уехал. Полчаса спустя он уже входил в свой кабинет, где его с нетерпением ожидал Вигель.
– Ну, что, Николай Степанович? – поднялся Пётр Андреевич навстречу Немировскому.
– Что, «ну, что»? Извольте задавать ваш вопрос точнее, – следователь неспешно раскрыл тавлинку и понюхал табаку.
– Что сказала дочь Лавровича?
– Очень много интересного… Тут есть, над чем подумать…
– Ах, не томите же! – почти умоляюще воскликнул Вигель.
Немировский улыбнулся и похлопал коллегу по плечу:
– Ладно-ладно, сейчас всё по порядку расскажу. Во-первых, завещание у Лавровича, в самом деле, было. Более того, Людочка его видела собственными глазами, и по нему ей должен был отойти изрядный куш…
– Вот, и мотив!
– Не перебивайте, пожалуйста. Это, конечно, мотив для убийства, но не для ограбления с похищением самого завещания. Слушайте дальше. Наша барышня была столь наивна, что рассказала об этом завещании своему возлюбленному. А также о том, где оно лежало, и какой код у замка на тайнике… А теперь угадайте, милейший Пётр Андреевич, кто был этим возлюбленным?
– Белый бурнус! – выпалил Вигель.
– Браво! Звали его Георгием. С ним Людочку познакомил отец, который, кажется, был с ним в дружбе. Этот пресловутый Георгий и снял по поручению Лавровича жилище для его дочери и весьма искусно пудрил ей мозги, изображая любовь. После убийства Лавровича Георгий, согласно показаниям барышни, исчез бесследно.
– Каков подлец!
– Итак, Пётр Андреевич, картинка начинает вытанцовываться. Мы уже можем приблизительно представить, как произошло преступление. Лаврович поссорился со своей сожительницей, дамой весьма темпераментной, и она в сердцах оставила в прихожей его револьвер, коим прежде завладела. Михаил Осипович ждал кого-то. Вполне вероятно, своего друга, называющего себя Георгием. Тот уже давно вынашивал идею заполучить деньги Лавровича, но не знал, как получше обтяпать это дело. И тут наивное юное создание для смеха рассказывает ему, что её папочка сделал кодом замка дату восстания декабристов… Георгий явился к Лавровичу, уже зная, где лежат его ценные бумаги. В прихожей он видит пистолет. Неожиданная удача! А дальше происходит, собственно, преступление…
– Узнать бы ещё кто этот Георгий – «Белый бурнус»! – вздохнул Вигель.
– Полагаю, что и это мы узнаем. Всему своё время… Кстати, личность самаркандской княжны тоже вызывает у меня сомнения. Если даже она не убивала и не грабила, то за присвоение себе чужого имени, обман следствия и даже Церкви эта дама должна отвечать…
– А, может, она не врёт?..
– Знаете ли, Пётр Андреевич, я уже давно не верю в сказки Шахерезады. Но, впрочем, это вторично теперь.
– Я одного понять не могу: зачем он украл завещание?
– Может быть, случайно. В спешке взял все бумаги, что были, не разбирая… – пожал плечами Немировский.
– Да, это возможно… Но мне ещё одна деталь не даёт покоя, Николай Степанович.
– Что именно?
– Другая женщина, о которой говорила Иделька Василь Васильичу.
– Дама под вуалью? Она может и вовсе не быть причастной к этому делу… В общем, сейчас нам нужно, во что бы то ни стало, найти «Белый бурнус». Остальное – вторично. Чертовщина какая-то: все этот «бурнус» видели, но никто о нём ничего не знает!
– Княжна не видела.
– Да, любопытная деталь…
– Мне безумно жалко дочь Лавровича. Ведь она осталась совершенно одна, без защиты… И завещание пропало. Она не может получить своего наследства. Мы должны найти этого негодяя!
– Найдём. Вот, только не уверен, что наследство послужит благу этой девочки. Вы правы, ей нужна защита… А деньги… Деньги тут не помогут…
– Иногда деньги решают всю жизнь, – вздохнул Вигель.
Николай Степанович внимательно посмотрел на него:
– Это вы о себе теперь?
– И о себе тоже… Ах, Николай Степанович, служба – это, конечно, хорошо. Но так хочется простого человеческого счастья! Хотя, может, и нет его… У вас уже есть план, как искать этого Георгия?
– Пока нет… Но будет, – отозвался Немировский. – Всему своё время. А сейчас время выпить горячего чаю. Я, признаться, продрог до костей дорогой.
– Да, холодает…
– Рождество на носу! Как же иначе? Скоро такие морозы ударят, что держись! – Николай Степанович зябко передёрнул плечами. – Кстати, Анна Степановна передавала вам поклон и просит бывать у неё. Она приглашает вас к нам на Рождество. И я к её приглашению присоединяюсь. Если, конечно, других планов у вас нет.
– Боюсь, что других планов нет и не будет. А потому я вам очень благодарен и с радостью ваше приглашение принимаю. Передавайте мой нижайший поклон Анне Степановне, – ответил Вигель.
– И замечательно! Она будет вам очень рада. Вы, Пётр Андреевич, ей весьма пришлись по душе. А моя сестра удивительно хорошо разбирается в людях.
– Как её здоровье?
– Вы знаете, лучше. Даже ходила с нашей экономкой на службу. Собирались днями ехать в какой-то монастырь. Вы себе не представляете: Соня обнаружила там какого-то не то юродивого, не то прорицателя… К нему теперь многие ходят. Этакая новая московская достопримечательность. Так вот моя Анна Степановна загорелась желанием тоже увидеть его и с ним говорить! Что за причуда! Вот, собираются…
Николай Степанович налил себе полный стакан крепкого чаю и стал пить мелкими глотками.
– Кстати, Анна Степановна говорила, будто вы ей стихи какие-то обещали… Вы стихи пишите?
– Иногда…
– Сколько в вас, однако, талантов. Вот, будете у нас, непременно захватите. Моя сестра очень любит… Пушкина и Жуковского наизусть читает. Целые поэмы!
– Так я ведь не Пушкин…
– А это, мой друг, неважно. Главное, чтобы от души писано было. Это ведь сразу чувствуется: где от души писано, а где для дураковаляния. Можно написать мастерски да без души, а можно с огрехами, а так, что душа все их покроет.
– Как вы думаете, Николай Степанович, есть ли счастье на земле? – вдруг спросил Вигель.
– У Бога, Пётр Андреевич, всего много. Вероятно, и счастье где-нибудь да есть!
***
Красные стены Донского монастыря величественно выступали из белых объятий снега, вздымаясь к ясным, залитым солнцем небесам. В храме, украшенном уже еловыми ветками, шла служба.
– Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! – тянули хрустальными голосами певчие.
– Аки херувимчики поют, – прослезилась Соня, крестясь.
Анна Степановна слабо улыбнулась. От большого скопления народа в храме было душно, и от этого у Кумариной начинала болеть голова. Она старалась не поднимать глаз ввысь, зная, что, стоит засмотреться на чудные росписи храма, голова закружится, и она, пожалуй, не устоит на ногах. Неподалёку стоял молодой семинарист с острым носом, длинными волосами и щёткою усов. «На Гоголя похож…» – подумала Анна Степановна.
– Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и вовеки веков! Аминь!
– Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!
Когда служба окончилась, Кумарина, поддерживаемая под руку Соней, вышла из храма и, остановившись на ступенях его, глубоко вздохнула.
– Что с вами, барыня? Никак дурно сделалось? – забеспокоилась Соня. – Надо извозчика скорее и домой!
– Нет, Соня, – покачала головой Анна Степановна, – я такой путь проделала не для того, чтобы теперь домой ехать…
– Так, может, лучше в другой раз?
– Никаких других разов! У меня принцип: никогда не откладывать на завтра то, что могу сделать сегодня. Головную боль я уже заработала, так что теперь уж не всё ли равно?
В этот момент на лестнице показался семинарист, которого Кумарина заметила ещё во время службы.
– Ну-ка, позови его мне, Соня, – велела она.
Соня поправила платок и направилась к семинаристу. Тот со вниманием выслушал её и, подойдя к Кумариной, почтительно поклонился.
– Чем могу служить, сударыня? – спросил он.
– Верно ли говорят, будто здесь при монастыре некий прорицатель обитает? – спросила Анна Степановна.
– Мандрыга, что ли? Есть такой. Только он не при монастыре, а за монастырём в собственном домишке живёт.
– А не окажите ли вы нам любезность проводить нас до него?
– Отчего бы и нет? – пожал плечами семинарист.
Кумарина опёрлась на его руку, и они направились вдоль монастырской стены. Соня шла за ними, неся трость, которую отдала ей барыня.
– А что, собственно, известно об этом Мандрыге? – спросила Анна Степановна своего спутника.
– Странный человек. В Москву он приехал несколько лет назад. Говорят, будто бы он испанец. Да и по виду похож. Какой религии он, доподлинно неизвестно. В храме не бывает, хотя иконы в доме содержит. Прозывается Мандри. Но у нас его все Мандрыгой кличут.
– Но он не вовсе сумасшедший?
– Да я бы сказал, что вовсе… не сумасшедший. Он похож на юродивого, но, знаете ли, по-моему тут актёрства больше… Мандрыга – человек, мыслящий вполне трезво. Я бы даже сказал, себе на уме.
– Что ж он, шарлатан, выходит дело?
– А, вот, тут не сказал бы… Он очень большие способности имеет. Человека насквозь видит. Вот, придёт к нему дурной человек, так он его на порог не впустит. А хорошего рядышком с собою посадит да по руке гладит. И, что особенно удивительно, всё-то о человеке знает. О чём он думает, что в прошлом было… У нас однажды в монастыре покража произошла. И по всему выходило, что вор – кто-то из братии. Настоятелю очень не хотелось сору из избы выносить и пошёл он к Мандрыге. Мандрыга его послушал и говорит: собери вечером всю братию, я приду и вора укажу. Вечером все за трапезою собрались. Приходит Мандрыга. Поглядел на братию и говорит: «Кто виноват, у того руки дрожат. Чарка на пол, кто чужое лапал…» И ушёл. А под конец трапезы один молодой монашек чарку разбил… Ну, настоятель к нему в келью отправился и там нашёл покражу! Представляете? И много случаев разных было. К Мандрыге со всей Москвы люди ходят. И большинство именно по случаю покражи или чего-либо в этом роде. К нему даже раз сам господин квартальный надзиратель приходил.
– Вот, барыня, я же говорила, что это то, что вам с Николаем Степановичем нужно! – воскликнула Соня.
– Всё может быть, – задумчиво ответила Кумарина.
– А что, у вас пропало что-то? – поинтересовался семинарист.
– Да не у нас… У других…
– И что же? Что-нибудь ценное?
– Совесть, – отозвалась Анна Степановна.
Наконец, впереди показался небольшой, но весьма приличный домик.
– Вот, мы и пришли, – сказал семинарист. – В первую дверь заходите смело, а во вторую постучите и не входите сразу, покуда он не пригласит.
– Спаси Христос, что проводили, – поблагодарила Кумарина и, взяв у Сони свою трость, поднялась на крыльцо дома.
Первая дверь открылась легко, и обе женщины оказались в сумрачной прихожей, заваленной каким-то хламом.
– Боязно как-то, – прошептала Соня.
Анна Степановна пожала плечами и, подойдя ко второй двери, постучала. Из-за неё раздался скрипучий голос:
– С палками в гости – к псам играть в кости. Палку брось – будешь мандрыгин гость.
Кумарина отставила палку и постучала снова.
– Гостья знатная, сударыня богатая, милости просим к Мандрыге в гости!
Анна Степановна перекрестилась и открыла дверь. Её взору предстала просто убранная горница, сплошь уставленная и увешанная иконами и зажжёнными лампадами. На полу лежал ковёр. На нём сидел странного вида человек. Был он худ и смугл. Правое плечо его поднималось много выше другого, а левая рука была сухой. Лицо прорицателя, сморщенное, было улыбчиво, а неестественно большие глаза с разными зрачками глядели пристально, даже немного пугающе. Дополняла облик Мандрыги шевелюра чёрных с проседью волос и аккуратная эспаньолка.
– Ну, проходи, моя душенька. Я тебя послушаю. Хочешь рядом садись, хочешь стой – не гневись.
Кумарина переглянулась с Соней и решительно приблизилась к Мандрыге. Тот протянул руку и ласково погладил её:
– Хороша, хороша, чиста душа. Почто пришла?
– Дело у меня к тебе, сударь мой.
– Судари во дворцах, а я черен с лица. Мадрыгой кликай.
– Можешь ты, глядя на фотокарточку, сказать от чего человек помер?
– Врёшь – от чего. Говори – от кого.
– Так можешь?
– Имени не угадаю, а поличье набросаю, а коль приведёшь, узнаю.
Анна Степановна порылась в сумочке и достала оттуда фотокарточку убитого ростовщика.
– Вот, этот человек, – сказала она. – Что о нём сказать можешь?
– Застрелили молодца, обобрали мертвеца… Через баб погиб. Бабы – враги…
– Ты хочешь сказать, что его женщина убила?
– Женщина не убьёт. Женщина смерть приведёт. Муж стрелял… Потом сбежал…
– То есть убил мужчина?
– Стрелял – убил. Жену любил… Жена – виновата. Идёт сохатый… Охотник – дичь. Подмоги не клич. Всё смешалось… А всё-то шалость… А ты разумей головою своей. Пусты твои щи. Жену ищи! Жену найдёшь, найдёшь и ложь. Где ложь и жена, там погибель одна. Убийца там. Самолично сам.
Кумарина вынула из сумочки портрет княжны Омар-бек, рисованный Вигелем, и показала его Мандрыге:
– А об этой женщине что скажешь?
– Хороша жена, да душой дурна. Тело – продажное. Мука – страшная. Верёвочка вьётся – её дождётся.
– Эта жена и виновата в убийстве?
– Её есть вина. Голова дурна… Но прежде другая… Подлянка такая… Ищи жену. Найдёшь вину. Кошелёк – солжёт. К убийце не приведёт.
– Ну, спаси Христос! – сказала Анна Степановна. – Соня, отблагодари.
Соня поставила перед Мандрыгой большой узел, в котором лежали разные вкусности:
– Это тебе, батюшка, к Рождеству гостинец. Разговеться.
– Спасибо за щедроты твои да заботы. Брату поклон – найдёт мужа он. А ты не хворай. Выправляться пора. Голове не гудеть и спине не болеть. Ногами ходи, а не в кресле сиди! Господь с тобою. Он всё устроит! – Мандрыга вновь погладил Кумарину.
Анна Степановна поклонилась ему и вышла из дому. Соня нагнала её и подала трость:
– Забыли, барыня!
– Да, и впрямь… – задумчиво сказала Кумарина. – Странно, голова, в самом деле, прошла.
– Ой, барыня, как мне страшно стало, когда он вас гладить начал лапищей своей! Вы видели, какая лапа? Прямо волчья… Как у оборотня! И сам он на оборотня похож… Ой, не зря ли мы пошли-то к нему, барыня?
– К нему настоятель монастыря за помощью обращался. Что же мы? А ведь всё же узнал: и про трость, и про голову и радикулит мой, и про брата…
– Только говорит он как-то больно чудно! – заметила Соня. – Не понять ничего… Вы что-нибудь поняли, барыня?
– Поняла, что убил мужчина. А причиной тому – женщина.
– Убил муж, а причиной – жена… Может, это в прямом смысле?
– Бог его знает, в каком. Глупые мы с тобой бабы, Соня! Так ничего и не разузнали… И расспросить-то толком не смогли! – огорчённо сказала Анна Степановна.
– Зато у вас голова прошла. Да и главное-то ведь он сказал: Николай Степанович мужа найдёт! Чего ж ещё надо? А как вы думаете, барыня, он, в самом деле, испанец?
– Да, такой же, как мы с тобой англичанки, – улыбнулась Кумарина.
– А зачем же он врёт?
– Милая моя, сколько теперь на Москве юродивых? Десятки! И чем они друг от друга отличаются? Мало чем. У кого-то придури больше, у кого-то поменее. Кто-то чуть ли не голым по снегу бегает, кто-то вериги носит… Но да всё это неново. А тут – испанец! И тотчас славы ему вдесятеро больше, чем кому другому. И вериг носить не надо, и голым бегать. Уже на славу, что испанец, смотреть прибегут. И каждый – с дарами. Как мы с тобой. А назвался бы Ванькой из Юрьева-града – что было бы? Был бы одним из… Никакого почёта. А так уж и домик сколотил себе. И вся Москва говорит о нём.
– Надо было к Пашеньке-юродивой идти… – решила Соня.
– Полно, много ли бы твоя Пашенька сказала? Мандрыга хоть актёр хороший. Да и дар у него несомненный…
– Воля ваша, барыня.
– Эх, и засмеёт же меня Николай! – вздохнула Анна Степановна. – Скажет, совсем из ума выжила старая дура. Уже по прорицателям да мошенникам ходить стала!
– А вы не говорите ему!
– Да как же? Всё-таки кое-что этот Мандрыга сказал… Да и потом вместе посмеёмся.
– А не рассердится Николай Степанович, что вы фотокарточку с портретом взяли?
– А это уж полное моё право. Я с тех пор, как к нему переехала, так от нечего делать картотеку веду по делам, которые он расследует. И все фотокарточки он мне сам даёт. И я их справно храню. Иногда ему даже пригождается… И портрет, что Пётр Андреевич рисовал, он сам мне отдал. Они теперь фотокарточки этой самозваной княжны сделали.
– А красивая она, правда, барыня?
– Красивая… А Пётр Андреевич очень недурно рисует. И, вообще, очень способный и приятный молодой человек… – Кумарина улыбнулась со слегка уловимой грустью. – Если бы у меня был сын, я мечтала бы, чтобы он был похож на Петра Андреевича… Знаешь, Соня, в молодости часто кажется: как много в жизни всего интересного! Важного! Главного! А, когда большая часть жизни пройдена, начинаешь понимать, что всё это были такие, в сущности, мелочи… И главный смысл существования не книги, не «женский вопрос», не балы и театры, а семья, дети… У меня детей никогда не было… И, вот, теперь меня безумно тянет к людям молодым. Когда вокруг меня молодые лица, я сама делаюсь немного моложе… Да только кому я теперь нужна? Вот, и стараюсь залучить на обед кого-нибудь из коллег Николая… И, хотя прекрасно понимаю, что приходят они лишь из уважения к начальству, то бишь, к моему брату, но мне всё-таки радостно, потому что и мне перепадает внимание… Соня, я иногда напоминаю себе голодную собаку, которая ловит крохи с барского стола…
– Барыня, что вы такое говорите-то… Голубушка, ведь вас все так любят… И Пётр Андреевич к вам очень тепло относится… Это, конечно, жаль, что у вас нет ни сына, ни дочери… Вот, у меня дочь есть… Единственная. Я всегда знала, что она всё, что у меня есть. У меня просто ничего в жизни не было, что могло бы показаться важным, главным… Теперь, вот, внук есть… А зять с войны калекой пришёл… Тяжко им! – Соня всхлипнула.
– Я к Рождеству твоим гостинцев собрала. Свезёшь им.
– Спасибо, барыня!
– Разве за это стоит благодарить? – махнула рукой Кумарина. – Пойди лучше найди извозчика. Я что-то устала от пешей прогулки… Отвыкла…
– А Мандрыга сказал ногами ходить!
– Да уж я сегодня полдня на ногах. Куда больше!
Соня побежала за извозчиком, а Анна Степановна прислонилась к монастырской стене и стала привычно чертить тростью по снегу, выводя разные геометрические фигуры…
***
Запах хвои смешался с духом апельсинов и хрустом мороза, создавая неповторимый, волшебный, пьянящий аромат Рождества. По всей Москве шумели ёлочные базары. Из деревень везли в Первопрестольную мясо, рубившееся и продававшееся здесь же, на улицах, с саней, его привёзших. А ещё везли экзотические яства из далёких азиатских земель, восточные сладости, фрукты… Китай-город, шумливый и многолюдный и в обычное время, в дни предпраздничные походил на вавилонское столпотворение. Туда-сюда ехали повозки, от которых тянуло будоражащими воображение запахами. Слышались призывные крики.
– Ешь, Москва, не жалко!
Пётр Андреевич медленно шёл вдоль ряда пушистых, инеем обнесённых елей, внимательно глядя сквозь их сомкнутые ветви. Там, по другую сторону елового частокола, шла она, его Ольга… Шла также неспешно, придирчиво рассматривая ели, выбирая подходящую, а рядом с нею суетились её сёстры, уже нагруженные апельсинами, сластями и разными милыми безделушками.
– Олинька, Олинька, ну, давай же купим ту большую ёлку! Она такая красивая! Представляешь, как она чудесно будет смотреться в нашей гостиной? Рядом с фортепиано? Олинька, мы с Надюшей её целый день наряжать будем! – упрашивала старшую сестру Лиза.
– Лиза, она слишком большая. Как мы её до саней донесём? Вон, уже сколько всего накупили! Надюша уже нести умаялась…
– И вовсе я не умаялась! – ответила Надя, раскрасневшаяся и запыхавшаяся.
Вигель слушал голос Ольги, и ему казалось, что ни одна музыка на свете не может сравниться с ним… Если бы всю жизнь слушать его!
Неподалёку от Петра Андреевича остановилась примечательного вида пара. Высокий смуглый мужчина, похожий на цыгана, с чёрными глазами и напоминающей волчий оскал улыбкой, сияющей белизной зубов, одетый в волчью шубу, обнимавший могучей рукой изящную молодую женщину, зеленоглазую, с лавой огненно рыжих волос, крупными кольцами спадающими на плечи, укутанные дорогой шалью, наброшенной поверх лисьего салопа.
Вигель ненадолго отвлёкся на перешёптывающуюся о чём-то и смеющуюся пару и позавидовал их счастью. Ведь мог бы и он теперь идти вдоль зелёных этих зарослей, обнимая Ольгу, разговаривая с нею… На глаза Петра Андреевича попалась крупная пушистая ёлка, необычайно ровная и стройная. Подозвав продавца, Вигель отсчитал ему деньги и, взяв рождественскую красавицу, вновь пошёл вдоль ряда, но уже прибавив шаг. Он остановился в конце его и, когда Ольга с сёстрами приблизилась, вышел ей навстречу и, указывая на купленную ель, улыбнулся:
– Не эту ли красавицу ищете вы, Ольга Романовна? Здравствуйте!
– Здравствуйте, Пётр Андреевич… – растерянно отозвалась Ольга.
– Здравствуйте! Здравствуйте! – подхватили девочки, радостно рассматривая ёлку. – Олинька, какая чудная ёлочка у Петра Андреевича! Мы тоже такую хотим!
– А это ваша ёлочка, – ответил Вигель. – Я её для вас купил, потому что она самая красивая на этом базаре. Такая же красавица, как и вы, Ольга Романовна…
– Ой, спасибочко! У нас теперь будет самая красивая ёлка! – весело воскликнула Надя, хлопая в ладоши.
– Спасибо вам, Пётр Андреевич, – кивнула Ольга. – Мы, вероятно, долго бы ещё здесь плутали… Сколько я должна вам?
– Ольга Романовна, как вам не совестно? Неужели вы думаете, что я с вас деньги возьму? Это уж оскорбление, ей-Богу.
– Извините меня, Пётр Андреевич… – Ольга опустила голову и поправила выбившуюся из-под платка прядь волос. – Вы проводите нас до извозчика?
– С величайшим удовольствием, Ольга Романовна, – Вигель предложил Ольге руку, и та робко опёрлась на неё.
Девочки побежали вперёд, а Пётр Андреевич старался идти медленнее, чтобы хотя бы несколькими минутами дольше быть рядом с Ольгой.
– Я так давно вас не видел, – сказал он ей. – Почти целый месяц… Я прежде и подумать не мог, что смогу вас не видеть так долго!
– Вот, видите, смогли…
– Не говорите, Ольга Романовна! Вы не знаете, чего мне стоила разлука с вами! Жить в одном доме, слышать шаги ваши по лестнице, видеть вас из окна – и не видеться при этом – ведь это же мука подлинная!
– Ах, зачем вы меня мучаете, Пётр Андреевич?
– Точнее было бы: зачем мы мучаем друг друга. Скажите, по крайней мере, здоровы ли вы, милая Ольга Романовна?
– Здорова… И сёстры тоже…
– Рад это слышать.
– А бабушка совсем сдала… Почти не встаёт…
Они подошли к стоящим в ожидании розвальням, куда Вигель положил свою ношу. Девочки заняли свои места. Пётр Андреевич подал Ольге руку и долго не отпускал её даже, когда она уже села в сани.
Внезапно с базара послышались крики:
– Караул!!! Грабят!!!
Ольга вздрогнула:
– Господи, что ещё такое?
В тот же миг откуда-то, словно из-под земли вылетели сани, запряжённые двумя быстрыми конями. Они, как вихрь пронеслись мимо, вздымая клубы снега и едва не сметая на своём пути прохожих, с криком отскакивающих в разные стороны. Следом пронеслись полицейские.
– Не догонят, – покачал головой извозчик, поглаживая бороду. – У тех вона какие коняги! А у господ полицейских кабысдохи сплошь…
С базара продолжали доноситься крики. Вигель поцеловал руку Ольги:
– Ольга Романовна, вам лучше отсюда уехать!
– А как же вы?
– А я должен остаться! Я могу оказаться здесь полезен.
– Пожалуйста, Пётр Андреевич, вы только берегите себя!
– И вы себя берегите, Ольга Романовна!
Сани тронулись. Вигель проводил их взглядом и почти бегом вернулся на базар, где лицом к лицу столкнулся с Романенко.
– Ба! Вигель! – воскликнул он удивлённо. – Вы-то здесь какими судьбами?
– Совершенно случайно, Василь Васильич.
– А-а-а… – протянул Романенко. – К празднику светлому готовитесь? А кое-кому что праздник, что не праздник – всё едино!
– Что здесь произошло?
– Купчика одного пощипали… – Василь Васильич закурил.
Подбежавший городовой доложил с виноватым видом:
– Упустили проклятых! У них кони заправские, а у нас…
– Уйди с глаз, – махнул на него рукой Романенко и, мрачно поглядев на Вигеля, вздохнул: – Опять упустили… Нет, это проклятие какое-то, честное слово!
– Неужели Рахманов?
– Он, сердечный! Собственною персоной! Волчара…
Вигель вздрогнул. Ему вдруг вспомнился человек в волчьей шубе с похожей на волчий же оскал улыбкой.
– Василь Васильич, а как выглядит Рахманов?
– «Ликом черен и прекрасен»! – пошутил Романенко. – На цыгана похож. Черняв, кучеряв… Чёрт настоящий.
– Так это был он! – вскрикнул Пётр Андреевич.
– Где был он?
– Да здесь же! Стоял прямо подле меня полчаса назад! Шуба на нём волчья была! И женщина была с ним…
– Что за женщина?
– Очень красивая. Рыжая…
– Рыжая?.. Значит, в самом деле, он… Рахманов. И он стоял рядом с вами?
– Да. Они говорили о чём-то, смеялись…
– Эх, Вигель, Вигель! Горой вас раздуй! – Романенко хватил себя рукой по лбу. – Ну, это же надо! С вами рядом стоял преступник, за которым охотится вся московская полиция, а вы ни сном, ни духом!
– Да ведь я же не знал, что это он! – воскликнул Вигель.
– Да я ж не в осуждение, – вздохнул Василь Васильич. – Понятно, что не знали и знать не могли… Да просто обидно, чёрт возьми!
– Не то слово!
Романенко достал из кармана мандарин:
– Хотите, Вигель?
Пётр Андреевич отрицательно мотнул головой.
– Ну, как хотите, – Василь Васильич проворно ошкурил фрукт и засунул целиком в рот.
– Как же это всё-таки всё глупо вышло! – сокрушённо сказал Пётр Андреевич.
– Да полно вам, – Романенко похлопал его по плечу. – Не огорчайтесь. Вашей вины тут нет. Да и к лучшему, что вы в лицо его не знали…
– Это почему же?
– Молоды вы ещё да горячи. Чего доброго, сами бы его задерживать бросились. Ведь бросились бы?
– Вероятно…
– Вот-вот! А у него в одном кармане нож, в другом – пистолет. С меня уж пристава Афанасьева хватит, чтобы ещё на вашем отпевании стоять… Так что всё к лучшему.
– Но всё-таки обидно…
– А уж мне как обидно! Я его, сволочь такую, ловлю, ловлю, а он, как угорь, из рук уходит, – Романенко принялся ошкуривать второй мандарин. – Сладкие какие мандарины в этом году… Эх, Пётр Андреич, вот, махнуть бы в те дальние страны, где целый год теплынь и фрукты диковинные. Вы как насчёт этого?
– Мне и здесь неплохо, Василь Васильич. Ведь, право, это скучно: целый год теплынь. Как же снег наш, сани, горки?
– Вы куда теперь путь держите, милейший Пётр Андреевич? Домой?
– Пожалуй.
– Что ж, не смею задерживать. Мне ещё тут повозиться придётся.
– Может, я могу помочь?
– Не стоит. Не барское это дело, а всякий, как любит говаривать ваш патрон, должен своим делом заниматься. Посему до встречи и желаю здравствовать! – Романенко крепко пожал Вигелю руку.
– Всего доброго, Василь Васильич!
Простившись с Романенко, Пётр Андреевич, вернулся домой. Ему безумно хотелось теперь же подняться к Ольге, рассказать ей о произошедшем, но он не хотел встречаться с Анной Саввичной…
Около одиннадцати вечера в дверь робко постучали. Вигель отпер и в удивлении отпрянул: на пороге, потупив глаза, стояла Ольга.
– К вам можно? – тихо спросила она.
– Окажите мне честь…
Ольга вошла в комнату Вигеля.
– Отчего же вы не зашли ко мне нынче? Я ждала… Я за вас волновалась…
– Я не посмел, Ольга Романовна. Я думал, ваша бабушка была бы не очень рада меня видеть…
– Да, вы правы… Она теперь уснула. И сёстры тоже. Вот, я и пришла…
– Я счастлив, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста! Не желаете ли чаю?
– Нет, благодарю вас, – Ольга облокотилась на подоконник и замолчала.
Пётр Андреевич смотрел на её тонкую фигуру, изящный изгиб лебединой шеи, точёный профиль и любовался ею.
– Я знаю, что бабушка к вам приходила… – сказала Ольга. – Говорила с вами… Вы простите её…
– Да разве я смею в чём-либо упрекать Анну Саввичну? – Пётр Андреевич приблизился к Ольге.
– Я вам принесла вашу книгу, – сказала она, кладя пухлый том на подоконник.
– Ради Бога, оставьте её себе. Ольга Романовна, милая, расскажите же мне, как вы прожили этот месяц? Я всё-всё должен знать о вас!
– Вы хотите знать, как я прожила этот месяц? Да мне и рассказать нечего. Жизнь моя была скучна и однообразна. Вы и сами знаете, что весь последний год вы были единственным, кто вносил живую струю в эту жизнь… Без вас она пропала…
– Ольга Романовна! – Вигель порывисто поднёс её руку к губам и стал целовать её тонкие пальцы. – Вы теперь сказали, что обо мне волновались. Вы представить себе не можете, как мне от того радостно стало!
– Я теперь всегда о вас волнуюсь… Что там произошло сегодня?
– Кража… Вор уже долгое время умудряется уходить от полиции…
– Неужели наша полиция уступает вору?
– Это всего лишь маленькая заминка в нашей работе…
Ольга грустно улыбнулась:
– Пётр Андреевич, а как жили вы это время? Расскажите…
– Плохо я жил! – выдохнул Вигель. – Мне без вас жить невозможно! Я работал плохо. Я недосыпал, потому что не мог спать… Я закрывал глаза, а перед ними стояли вы. Я воскрешал в памяти всякий миг, проведённый нами вместе, каждое слово ваше, интонацию, взгляд, улыбку, жест… Я задыхался без вас, милая Ольга Романовна!
– Неужели вы совсем ничего не делали всё это время?
– Не совсем… Я старался работать. А ещё я рисовал ваш портрет…
– Покажите! – попросила Ольга.
Пётр Андреевич принёс из соседней комнаты небольшой, вставленный в раму портрет, написанный маслом. Ольга некоторое время смотрела на него и сказала:
– Вы меня слишком красивой изобразили. Разве же я такая?
– Много лучше! И, если я не смог передать всей неземной красоты вашей, то виной тому лишь недостаточное моё мастерство и то, что писать мне приходилось по памяти. Позвольте, однако же, Ольга Романовна, подарить вам этот портрет!
– Нет! – покачала головой Ольга. – Пусть лучше он останется у вас. Как память обо мне!
– Память? Но мне нужны вы сами, а не память…
– Не мучайте меня, прошу вас! Лучше скажите, чем ещё вы занимались этот месяц?
– Я сочинял стихи, Ольга Романовна.
– Стихи?
– Да, стихи.
– Прочтите, пожалуйста! Я хочу послушать.
– С радостью прочту, потому что писаны они только для вас одной, – ответил Вигель и начал читать:
Я притворяться вынужден живым
Пред всеми. Прежде прочих – пред собою.
Наполнил душу ядовитый дым,
И я погиб без славы и без боя.
Когда б вы мне позволили вздохнуть…
Но вы ушли. И воздуха не стало.
Чтоб робкую свечу мою задуть
Как мало надо было сил, как мало…
Не упрекну ни в чём и никогда!
Вы идол мой, заря моя и муза.
Я имя ваше звёздам и цветам
Дарю, уже не зная жизни вкуса.
Я вас люблю! Любви не нужен грим!
Зачем любовь бессмысленно так губят?
Я притворяться вынужден живым…
Вдохните жизнь в мои немые губы!
Когда Пётр Андреевич кончил читать, он увидел, что по лицу Ольги градом катятся слёзы.
– Боже мой, Ольга Романовна, простите меня! Я огорчил вас! – воскликнул он, бросаясь к ней и становясь на колени.
– Это вы меня простите, Пётр Андреевич… Вы… Вы… Вы самый лучший человек на свете… И я… я тоже вас люблю.
– Олинька! – не поднимаясь с колен, Вигель крепко обнял Ольгу.
Ольга опустила свою маленькую руку в его тёмно-золотые волосы:
– Милый мой, хороший мой… Что же мы с вами делаем? Ведь мы же никогда себе не простим потом…
– Что такое «потом» для нас? В это «потом» мы пойдём вместе. Я никогда не оставлю вас, Олинька, и ничто нас не разлучит! Я хочу, чтобы вы были моей женой! Я люблю вас и всё для вас сделаю!
– Молчите! Молчите! – Ольга также опустилась на колени и загородила Петру Андреевичу рот ладонью. – Не говорите ничего! Не нужно! Это безумие какое-то…
Вигель поднял Ольгу на руки и приник губами к её губам, полуоткрытым и взволнованно вздрагивающим. Она не сопротивлялась, а лишь прижалась к нему теснее и обвила хрупкими руками его шею:
– Чтобы не было впредь, мой милый, я твоя! Душой и телом твоя! Всегда твоя!
…Когда первые лучи рассвета забрезжили за окном, Ольга прильнула лицом к плечу Вигеля и прошептала:
– Что же это мы наделали, Петя? Ведь это же грех… Но ничего, ничего… Я всю жизнь молиться буду… Я отмолю… Обоих нас отмолю…
Пётр Андреевич погладил её по распущенным волосам:
– Если кто и виноват в чём-либо, то я один. Но теперь уж мы не расстанемся. Ты выйдешь за меня замуж. Мы обвенчаемся весной. И это будет самый прекрасный день. На тебе будет белое прекрасное платье, и ты ещё больше будешь похожа на небесного ангела… Небо будет синим…
– Как твои глаза…
– И солнце будет светить, и птицы – петь… И мы будем самыми счастливыми во всём свете! И потом мы тоже будем счастливы!
– Мне пора уходить… – прошептала Ольга. – Если бабушка узнает, что я не ночевала дома…
– Погоди, прошу тебя!
– Мне пора…
– Побудь ещё немного, – Вигель крепко обнял Ольгу, касаясь губами ей нежной шеи и глубокой ямочки внизу её…
– Я люблю тебя, Петя, – сказала Ольга, чувствуя, как от ласк его, где-то внутри огненным жаром разрастается счастье, от которого хотелось кричать и плакать…
Глава
III
БЕЛЫЙ БУРНУС
Последние две недели Анна Саввична почти не поднималась с постели. Она чувствовала, как жизнь медленно, по капле, уходит из её измученного недугами тела, и боялась. Разумеется, боялась не смерти, к которой приготовилась ещё лет десять назад, но из-за несчастных обстоятельств семьи всё крепилась, не уходила, цеплялась за жизнь, от которой неимоверно устала. Анна Саввична боялась за внучек, которые без её присмотра могут потеряться… Что-то будет с ними? Эта мысль не давала покоя, сидела неотступно в затуманенной голове, долбила висок, вопила… Иногда Анна Саввична впадала в какое-то забытьё, но, стоило лишь очнуться от него, тяжёлые думы возвращались…
Рождественским утром бабушка позвала Ольгу к себе. Она полулежала, положив высоко подушки, на убранной кровати, одетая, но смертельно бледная.
– Вам что-то нужно, бабушка? – спросила Ольга.
– Да… – дрожащим от слабости голосом ответила Анна Саввична. – Подойди, сядь подле меня…
Ольга послушно села на край кровати и взяла ледяную руку бабушки в свои. Анна Саввична с заметным усилием заговорила вновь:
– Олинька, ты видишь, что я уже совсем плоха. Не отрицай… Мне тяжело говорить. Поэтому просто выслушай меня… Я очень скоро умру. Мне осталось жить от силы несколько недель. Не знаю, буду ли я в сознании позже, поэтому говорю теперь… Олинька, мне очень тяжело уходить, потому что душа моя неспокойна. Я ухожу в ужасе от неведения, что будет с вами, моими девочками, для которых я, кажется, сделала всё, что было в моих силах…
По щекам Ольги потекли слёзы, но Анна Саввична не обратила на это внимания и продолжала прерывисто:
– Ты одна можешь сделать так, чтобы я ушла с лёгким сердцем… Неужели я не заслужила этого?.. Прошу тебе, успокой меня, чтоб последние мои земные дни прошли в мире и ясности, а не в муках и огорчении…
– Что вы хотите, чтобы я сделала? – спросила Ольга плохо слушающимися губами.
– Сегодня к нам приедет Сергей Сергеевич… Приедет, чтобы поздравить… Но не только! Он приедет просить твоей руки… Но он никогда не попросит её у меня, не получив прежде твоего согласия… Умоляю тебя, Олинька, согласись! Он любит тебя! Он будет тебе каменной стеной на всю жизнь, опорой! Заклинаю тебя ради сестёр, сделай это!
Ольга опустила голову. Анна Саввична приподнялась на локтях и прошептала:
– Ты никогда не была жестокой… И я, видит Бог, не была жестока ни к вам, ни к кому-либо… Жестока была лишь наша жизнь… Оля, если бы я была в силах, я встала бы перед тобой на колени, поэтому считай, что я уже стою! Согласись на предложение Сергея Сергеевича! Это моя последняя воля, мой предсмертный наказ! Ты должна исполнить… Девочка моя, ради всего святого, умоляю тебя! – она вновь упала на подушки и заплакала.
Ольга поднял покрасневшие глаза и, поцеловав бабушку в лоб, сказала:
– Я не могу нарушить вашей предсмертной воли… Я сделаю так, как вы сказали…
– Спасибо тебе! Спасибо! Я теперь туда легко отойду… Спасибо! – по белым губам Анна Саввичны скользнула улыбка.
Пошатываясь, Ольга вышла из комнаты бабушки и прошла в гостиную. Лиза сидела за фортепиано и что есть силы колотила пальцами по клавишам, а Надя кружилась вокруг нарядной ёлки. Ольга бессильно опустилась в кресло и, закрыв лицо руками, заплакала. Лиза и Надя тотчас перестали веселиться. Лиза осторожно подошла к сестре и, коснувшись её плеча, спросила:
– Олинька, что с тобою? Почему ты плачешь? Что-то случилось, да? Олинька, не плачь, пожалуйста, а то я тоже плакать буду.
– Оля, что с тобой? – подошла и Надя.
– Ничего… – покачала головой Ольга. – Просто «Я вас люблю! Любви не нужен грим! / Зачем любовь бессмысленно так губят? / Я притворяться вынужден живым… / Вдохните жизнь в мои немые губы!» Зачем, зачем же её губят?! Топчут, убивают, душат… Господи, если бы в мои губы вдохнули теперь воздуху! Я задыхаюсь, задыхаюсь! – она резко поднялась и, стремительно подойдя к окну, распахнула его, глубоко и прерывисто дыша.
В прихожей послышался звонок. Ольга обернулась.
– Это, наверное, Сергей Сергеевич приехал… – осторожно сказала Лиза. – Олинька, хочешь, я ему скажу, что ты нездорова и не можешь его принять?
– Нет, не нужно, – ответила Ольга. – Я вполне здорова… Открой и пригласи его войти.
Лиза ушла. Ольга закрыла окно и, утерев слёзы, облокотилась о крышку фортепиано. Через мгновение в комнату вошёл седовласый, сухопарый господин лет пятидесяти в долгополом, несколько старомодном сюртуке.
– Бонжур, милые барышни, – произнёс он, немного грассируя. – С Рождеством вас.
Ольга присела в реверансе, и Сергей Сергеевич поцеловал её руку. Обратившись к младшим сёстрам, он сказал, улыбаясь:
– В прихожей остался мой лакей с подарками. Я думаю, вам стоит забрать их у него и развернуть поскорее!
– Подарки! Как замечательно! Спасибо! – воскликнула Надя, убегая.
– Мерси, Сергей Сергеевич, – поблагодарила Лиза, так же, как старшая сестра, присев в реверансе, и ушла.
– У вас очаровательные сёстры, – сказал Сергей Сергеевич.
– Вы правы…
– Ольга Романовна, у вас что-то случилось? Вы дурно чувствуете себя? Я, может быть, не вовремя? Скажите лишь, и я удалюсь и дам вам покой…
– Нет, что вы! Я абсолютно здорова! – ответила Ольга, силясь улыбнуться.
– Но вы так бледны… У вас красные глаза. Вы плакали, душа моя?
– Это ничего… Не обращайте внимания, Сергей Сергеевич… Просто бабушка совсем плоха…
– Печально… Поверьте, Ольга Романовна, я всецело разделяю ваше горе… Я всегда глубоко уважал Анну Саввичну. Очень мужественная и сильная натура… Я понимаю, как вам тяжело сейчас… Но я хочу, чтобы вы знали: что бы ни случилось, я всегда буду преданным другом вашего семейства и всегда буду помогать вам всем, что в моих силах…
– Благодарю вас, Сергей Сергеевич! Я, право, не знаю, как и благодарить вас за вашу доброту и участие к нам. Вы столько для нас сделали… Мы в неоплатном долгу перед вами…
– И не вздумайте даже так думать! Какой такой долг? Это был мой долг по отношению к семье моего друга. А вы и в мыслях иметь не должны, будто должны мне что-то…
– Экскюзе муа15, Сергей Сергеевич, – Ольга покраснела. – Я сама не знаю, что такое говорю… Просто мы все очень благодарны вам… Вот, вы нынче сёстрам подарки привезли… Для них это такая радость!
– Всё это пустяки, – мотнул головой Сергей Сергеевич. – Я бы очень желал подарить что-нибудь и вам, но вы запретили делать себе подарки…
– Не сердитесь, пожалуйста. Но мне это было бы неудобно…
– Понимаю, – кивнул Сергей Сергеевич, хрустнув пальцами. – Ольга Романовна, сейчас, должно быть, не время говорить об этом… Вы расстроены… Но, однако же, я должен говорить с вами с тем, чтобы раз и навсегда решить важнейший для себя вопрос и определить… положение… Разрешите ли вы мне говорить?
– Разве я могу запретить говорить – вам?
– Не язвите, пожалуйста!
– Простите… – Ольга заметила, как нервно задёргалась щека Сергея Сергеевича. Он, кажется, и сам понял, что не сумел скрыть волнения, а потому резко отвернулся к окну.
– Пожалуйста, Ольга Романовна, сядьте и выслушайте меня. И ради Бога, не перебивайте!
Ольга опустилась в кресло.
– Вы очень умны, Ольга Романовна, – начал Сергей Сергеевич, не оборачиваясь, – и от вас наверняка не укрылся мой… интерес к вам… Я прав?
– Да…
– Тем лучше. Мне будет легче говорить… Я понимаю, что всё это глупо и… Вы молоды, хороши собой, умны… Вы так похожи на свою мать! В ваши лета она была такой же… Нежный, прекрасный цветок… Ваш отец был счастливец! А я… Я гожусь вам в отцы. Я много старше вас, я скучен и старомоден… И не славлюсь никакими талантами… Разве же вы можете полюбить меня? Я не столь наивен, чтобы тем обольщаться. Но я люблю вас! И это беда моя… Я хотел прогнать от себя это чувство, заглушить его, но мне не удалось! И, поняв, что ничего не могу с этим поделать, я решился с вами говорить… Я не имею никаких особых достоинств, как уже сказал… Но я одинок. У меня нет ни родственников, ни близких друзей, ни семьи… Никого. А жить одному, что ни говори, несладко… Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Только, ради Бога, не подумайте, что я желаю воспользоваться вашим и своим положением… Я надеюсь, что всё-таки не заслужил таких подозрений в свой адрес… Будьте уверены, что ваш отказ ничего не изменит в моём отношении к вашему семейству. Заботу о нём я считаю своей обязанностью ради светлой памяти моего друга… Так что вы можете быть совершенно спокойны…
Ольга смотрела на Сергея Сергеевича, поражённая внезапной догадкой. С трудом подбирая слова, она сказала:
– Могу ли я задать вам один вопрос?
– Спрашивайте.
– Вы только что сказали, что я похожа на мою мать… И что мой отец был счастливец… Сергей Сергеевич, скажите правду, вы её любили? Вы любили мою мать?
– Да… – отрывисто ответил Сергей Сергеевич.
– Все эти годы вы помогали нашей семье не ради отца, а ради неё? В память о ней?
– Да…
Ольга опустила голову. Ей вдруг стало безумно жаль Сергея Сергеевича. Как он должен был страдать всю жизнь, видя любимую женщину с лучшим другом… И ничем не выдал себя! И как же он должен страдать теперь… Это и видно по поникшим вдруг плечам его и нервно вздрагивающей щеке, по глазам видно…
– Я согласна, – сказала Ольга, не слыша звучания собственного голоса.
Сергей Сергеевич посмотрел на неё изумлённо, а затем произнёс медленно:
– Вы говорите это так, точно подписываете себе смертный приговор. Я палачом быть не хочу и неволить вас не желаю. Скажите, отчего вы согласились?
– Во-первых, потому что такова воля моей бабушки, которую нарушать я не смею. Во-вторых, – Ольга подняла глаза, – из-за моего глубокого к вам уважения.
– Я был с вами откровенен, Ольга Романовна. Будьте же и вы откровенны. Вы любите другого?
– Да…
– А он любит вас?
– Да…
Сергей Сергеевич покачнулся, но взял себя в руки:
– Я буду продолжать заботиться о вашей семье…
Ольга поднялась и подошла к нему:
– Неужели вы полагаете, что я смогу принимать от вас помощь после того, что произошло? Я согласилась стать вашей женой в полном рассудке…
– Да ведь вы же возненавидите меня, Ольга Романовна! За одно то только, что я не он! Как же я могу допустить это?
– Никогда этого не будет. Я слишком уважаю и люблю вас, как человека величайших душевных качеств. Вы о себе сейчас много несправедливого сказали… Мне было больно слышать это… Можете быть уверены, что, став вашей женой, я буду вам верна и почтительна.
– Вы можете быть столь же уверены, что я никогда и ни в чём не упрекну вас, не обижу… – сказал Сергей Сергеевич, целуя руки Ольги. – Сможет ли Анна Саввична теперь же принять меня?
– Думаю, она будет счастлива, – через силу улыбнулась Ольга.
Анна Саввична, действительно, была счастлива. В первый раз за две недели она с помощью Лизы и Нади перебралась с постели в кресло и, едва держа ослабевшими руками икону, благословила Сергея Сергеевича и Ольгу. Щёки её порозовели, а в глазах стояли слёзы.
Сергей Сергеевич почтительно поцеловал руку Анны Саввичны.
– Теперь, простите, я должен откланяться.
– Как, разве же вы не останетесь на обед? – удивилась Анна Саввична.
– Мне кажется, Ольга Романовна несколько устала, я не хочу утомлять её, – ответил Сергей Сергеевич.
Ольга благодарно взглянула на него:
– Я провожу вас, Сергей Сергеевич…
В прихожей они простились. Сергей Сергеевич низко поклонился Ольге и ушёл, а она, едва переставляя ноги, возвратилась к бабушке.
– Господи, Олинька! Спасибо тебе, родная моя! Как камень с души! – сказала Анна Саввична, снова улёгшаяся в постель, но заметно повеселевшая.
– Я рада, бабушка, что вы довольны, – ответила Ольга. – Я всё сделала так, как вы велели… Я совершила преступление… Я предала одного благородного человека и обманула другого… Разве я гожусь в жёны ему? Разве я его стою?.. Господи, что же я наделала?!
– Да о чём ты? Какое преступление? Почему обманула? Почему не стоишь? У тебя не жар ли, часом?
– Если бы жар! Лучше бы мне вовсе не жить… Ах, бабушка, ведь вы ничего не знаете! – Ольга стиснула руками голову и выбежала из квартиры. Она бежала вниз по лестнице, пока не столкнулась лицом к лицу с поднимавшимся наверх Вигелем. От неожиданности Ольга отступила назад.
– Олинька, что-то случилось? – спросил Пётр Андреевич, чувствуя неладное.
– У нас только что был Сергей Сергеевич…
– И… что же?
– Он сделал мне предложение, Пётр Андреевич…
– Что?!
– И я согласилась…
Вигель прислонился и к стене и молчал несколько мгновений.
– Да как же вы могли, Ольга Романовна?! После всего, что было между нами?! Как вы могли?!! Как?!
– Ах, не виноватьте меня! Я уже сама себя хуже последней преступницы заклеймила… Мне нет прощения…
– Но – как?.. Почему?..
– Бабушка умирает, Пётр Андреевич… Её последняя воля, чтобы я вышла замуж за Сергея Сергеевича… Я не могла нарушить её… Простите меня, ради Бога!
– А он не постеснялся воспользоваться вашим положением? Скотина!
– Нет, умоляю вас, не говорите о нём дурно! Поверьте, его вины нет здесь… Сергей Сергеевич – благородный человек… И он очень несчастен…
– Несчастен? Он? А я?! Ольга Романовна, вы были так благородны! Вы в своём жертвенном порыве подумали обо всех: о бабушке, о сёстрах, о Сергее Сергеевиче… Пожалели всех! А обо мне вы подумали? Меня пожалели? Мне-то как жить теперь?! И как вы… жить будете?
– Не знаю, ничего не знаю… – Ольга закрыла лицо руками. – Простите меня, Пётр Андреевич! И прощайте! Навсегда прощайте!
Шорох платья по лестнице, стук каблуков, хлопок закрывшейся двери где-то наверху – всё стихло. А Вигель всё продолжал стоять на лестнице, обескураженный, раздавленный, уничтоженный… Глаза его застилали слёзы, а в ушах звенело одно лишь: «Прощайте! Навсегда прощайте!»
– Прощайте и вы, Ольга Романовна… – прошептал Пётр Андреевич, повернулся и медленно побрёл вниз по лестнице. Ему казалось, что жизнь его как-то разом закончилась, точно жестокий преступник нанёс подлый удар ножом из-за угла. Он шёл, не разбирая пути, по заснеженной Москве, среди веселящихся, празднично одетых людей, чужой на этом празднике жизни. Мимо проносились сани, и извозчики покрикивали на него:
– Посторонись – раздавлю!
Но он даже не сторонился… Ему было всё равно…
***
– Вигель! Вигель! Пётр Андреевич, горой вас раздуй, оглохли вы, что ли?
Вигель обернулся, с трудом приходя в себя. Перед ним стоял запыхавшийся Василь Васильич:
– Ну, вы, друг мой, и измотали меня! Не хуже Рахманова, чёрт подери! Я вас ещё с другого конца улицы заметил. Кричу вам, кричу, а вы не слышите! Насилу догнал вас!
– Простите, я и впрямь не слышал…
– Да вы, сдаётся мне, вообще ничего не слышали. Вигель, если бы вы взглянули теперь на себя в зеркало, то ужаснулись! На вас лица нет! Вы хорошо себя чувствуете?
– Вполне.
– Заметно, – усмехнулся Романенко. – Я, конечно, в ваши дела не лезу, но, мне кажется, вам не следует теперь одному бродить по улице. Я только что видел, как на вас чуть лихач не наскочил. Чего доброго, задавят вас: беда!
– Вы правы, Василь Васильич, я теперь несколько не в себе.
– В таком случае, кстати очень, что я вас встретил. Помните ли, мы с вами собирались отметить наше знакомство в «Палермо»? Уверяю, лучшего заведения в Москве нет! А там – по рукам да в баню! Вы – как?
– Я? С удовольствием! – кивнул Вигель. – Мне как раз больше всего хочется напиться…
– Напиваться не нужно! Это я по себе знаю. Нужно выпить столько, чтобы стало тёпло и весело! А больше – ни в коем случае. Идёмте же! Я угощаю! – и, хлопнув Вигеля по плечу, Романенко потащил его к расположенному неподалёку заведению, носящему элегантное название «Палермо».
Расположившись за столом, Василь Васильич хлопнул в ладоши:
– Эй, самбыел, иди сюда!
– Что угодно господам? – услужливо осведомился официант.
– Калачей фаршированных, корнбиф с рисом и водки. Кизлярской и «ерофеича». Вы ведь кизлярскую предпочитаете, если мне память не изменяет, Пётр Андреевич?
– Да, но, в принципе, мне нынче всё равно.
– Значит, всё, – повернулся Романенко к официанту. – Исполняй, Ганимед!
– Калачи через четверть час готовы будут. А водочки сей момент принесу. Вам с огурчиком-с или с грибочками-с?
– С грибами давай. А можешь и огурчиков захватить, – милостиво кивнул Романенко.
Когда нехитрая закуска была расставлена на столе, и первые рюмки опрокинуты, Василь Васильич сказал:
– А теперь рассказывайте.
– Что рассказывать?
– Что вас так смяло и обескуражило? Поделитесь, вам легче станет. Мне, например, коли что, так всенепременно к людям надо, чтобы душу развернуть. И вы её в мундир не запахивайте. Позволите ли, я угадаю?
– Сделайте одолжение.
– Женщина?
– Да.
– Предпочла другого?
– Почти…
– То есть как почти?
– Она из очень бедной, хотя и благородной семьи. Сирота. У неё две младших сестры и умирающая бабушка на руках… Меня она любит. И я её. Но я тоже весьма небогат… А в чины когда ещё выйду… А, между тем, есть другой…
– Соперник?
– Хуже. Друг семьи и благодетель. Человек порядочный, состоятельный, уже немолодой. Он её тоже любит. И она, исполняя волю бабушки, дала ему согласие, ещё два дня назад клянясь в вечной любви ко мне… Нет, я не осуждаю её… Она не могла поступить иначе… Не могла не исполнить последней воли… Но от этого мне не легче.
– Да, история… – промычал Романенко.
– С вами такого не бывало?
– Бог миловал! Я предпочитаю свободу.
– Неужели вы ни одной женщины не любили?
– Я, Пётр Андреевич, всех женщин люблю! – рассмеялся Василь Васильич. – У меня сердце – широкое! Не могу любить – одну. Ведь тогда придётся обидеть остальных! А я не хочу их обижать!
– И они вам это прощают?
– Что, собственно? Я не обманул ни одной женщины за всю жизнь, потому что ни одной ничего не обещал. Вдобавок, я предпочитаю иметь дело с замужними. С ними меньше хлопот.
– Меньше? – удивился Вигель. – А мужья? Вот, наш убитый ростовщик тоже дело с замужними имел…
– Так убили-то его из-за денег. Нет, разумеется, у всего есть свои плюсы и минусы. Но соблазнять наивных девиц и бросать их потом – это уж свинство. А так связывать себя веригами брака я желания не имею, то остаются опытные дамы, большинство из которых уже чьи-то жёны.
– А вы циник, Василь Васильич, – заметил Пётр Андреевич.
– Поработаете с моё, тоже циником станете, – вздохнул Романенко.
– Однако, это ведь прелюбодейство, грех…
– Не спорю… Грешен и окаянен аз! Но что ж поделать?
Подали горячие калачи и корнбиф.
– Вот, попробуйте, – сказал Василь Васильич. – Ничего вкуснее на свете нет. Ничего-ничего, любезный Пётр Андреич… Нельзя позволять женщинам иметь над собой слишком большую власть, занимать слишком большое место в нашей жизни. Это вредно сказывается на рассудке, а в нашем деле незамутнённый ничем рассудок превыше всего. Сыщик, погружённый в чувственные переживания, не может полностью отдаться делу, и дело страдает. Это очень скверно.
– Мне уже проповедовал об этом господин Любовицкий.
– Любовицкий – самовлюблённый болван, одержимый графоманией. Ничего путного он вам ни сказать, ни посоветовать не мог, – заявил Романенко. – А я скажу! В жизни огромная масса приятных вещей, и им нужно отдавать должное для поддержания духа и сил!
– А я вас, Василь Васильич, трудоголиком считал.
– Это не мешает мне иногда вкушать радости жизни. Вот, сейчас я сижу в замечательном заведении, пью водку, ем калач. Потом мы с вами пойдём в Ламакинские бани, где нас отпарят, после чего вы будете, как новенький. А после… Впрочем, после это уж неважно. И разве плохо? Великолепно же!
Вигель опрокинул очередную рюмку водки:
– Хороший вы человек, Василь Васильич…
– По-моему, вам водки достаточно, – решил Романенко, внимательно поглядев на друга. – Вас уж развезло. Давайте по последней и отправимся в баню.
Василь Васильич поднялся:
– Выпьем на брудершафт и будем на «ты»!
Випив, Вигель и Романенко обнялись и расцеловались.
– Ну, брат, айда теперь в баню! – сказал Василь Васильич. – Цоп-топ по болоту шёл поп на охоту!
– Никак не могу понять, что это за пословица у вас странная?
– Сам не знаю. Ещё батька мой говорил, – пожал плечами Романенко.
Ламакинские бани располагались в Крапивном переулке между двух прудов и были известны всей Москве. Чистотой они не отличались, даже местоположение их было изрядно трущобным, однако, были дёшевы, а потому народ в них не переводился. Вдобавок, лучших бань в Первопрестольной и не было, не считая Сандунов, рассчитанных на высшее сословие и простому человеку не доступных.
– Меня здесь некогда для поправки от тяжкого поранения ледяной водой отливали, – рассказывал Василь Васильич, методично обрабатывая друга берёзовым веником.
– У тебя ранение было?
– И не одно! Да и как не быть? Мне дело-то с кем иметь приходится? С самой отпетой подчас сволочью, которая зарежет и не заметит. Вот, один такой и пырнул меня ножом. Мог бы я, как Афанасьев, к праотцам отправится. Но я ж, что трава сорная – ничего меня не берёт. Зашили меня эскулапы, хотя сказали, что без толку – не жилец! А я полежал-полежал, поумирал, значит, да и надоело мне умирать. Не представляешь, брат, какое скучное занятие! Лежишь чин чином на чистой постели, устремив очи горе, приходят друзья да коллеги, а то и того хуже – женщины, с которыми ты простился давно, которые, не дай Бог, у твоего одра столкнутся и передерутся – все с минами скорбными, тоже чин чином, сочувствуют, слёзы утирают, мол: «Прощай, Вася, мы тебя помнить будем!» И так мне от этой комедии тошно стало, что помирать я раздумал окончательно и бесповоротно. Позвал парнишку смышлёного да и велел себя в баню везти. А тут уж меня, болезного, и веничком, и паром, и водицею ледяной, живою. Так и ожил я! Всех эскулапов к матери под вятери послал да и явился на службу, а там уж на меня, как на покойника воскресшего глядели. Смеху было! Ну, потом, конечно, погудели на радостях… Да так изрядно погудели, что ещё раз меня отливать пришлось. Но живой, как видишь! И ещё сто лет проживу! И всех этих красавцев с ножичками передавлю… Ну, добре. Я тебя попарил. Давай-ка теперь ты меня уважь! – Романенко лёг на лавку, и Вигель принялся за дело.
– Сильнее, Пётр Андреич, сильнее! Эх, сразу видать, что в бане ты не часто бываешь. А зря. Нужно так лупить, чтоб дух вон! Чтобы до нутра прожигало! Чтобы каждая косточка хрустела!
В этот момент из раздевальни послышались крики:
– Держи вора! Вон он, вон! Бей его, братцы!
– Эх, ядрёный корень… И здесь то же самое! – рассердился Романенко. – Идём поглядим, что там стряслось.
Пётр Андреевич и Василь Васильич вышли из парилки и увидели следующую сцену: несколько красных, как раки, мужиков тащили полуголого, избитого, тщедушного человека. Дотащив его до выхода, они принялись привязывать его к одному из столбов, поддерживавших потолок.
– Что здесь происходит? – спросил Вигель Романенко.
– Ничего особенного. Банного воришку поймали.
– И что они собираются с ним делать?
– Теперь привяжут к столбу на весь день, и входящие, которые бывали в банях обчищены, а таких большинство, смогут выместить на нём свою злость. А перед закрытием его или просто выгонят, или отвезут к нам, в полицию.
– Василь Васильич, да ведь он и так едва живой… Взгляни: в чём душа держится. Если они весь день будут его колотить, то он, пожалуй, Богу душу отдаст.
– Всё возможно.
– И ты так спокойно говоришь об этом?
– А что прикажешь, чтобы я о всяком воре пёкся?
– Да ведь это же расправа бессудная! Это не по закону! Мы должны вмешаться!
– Признаться, я предпочёл бы париться дальше.
– Как угодно! А я вмешаюсь! – Вигель сделал шаг вперёд, но Романенко удержал его за плечо:
– Куда ещё! Не твоё это дело. К тому же ты теперь весьма глазом стреляешь. Навязался на мою голову! Чёрт с тобой, сам разберусь.
Романенко плотнее укутался в простыню и, выйдя на середину раздевальни, сказал:
– Я Василий Романенко. Сыскная полиция.
– Господин Романенко, господин Романенко! – визгливо закричал вор сквозь слёзы. – Христом Богом прошу, отпустите меня! Пощадите!
– А какого дьявола я тебя, вора, отпускать должен? – рявкнул Василь Васильич. – Ты моему законному отдыху помешал, между прочим.
– Простите, простите, ваше превосходительство… Но, если вы меня отпустите, я вам про Рахманова расскажу!
Романенко мгновенно протрезвел и подошёл вплотную к связанному вору:
– Про Рахманова, говоришь? А что ты знаешь о нём?
– Многое! Я всю его шайку знаю!
– А сам ты кто есть?
– Бубен я… Меня так прозвали, потому что бьют все… Живого места на мне нет! Помилуйте, ваше высокородие! Сжальтесь!
– Не скули, – рыкнул Романенко. – Слушать тебя противно. Знаешь ты, где теперь Рахманов?
– Знаю, господин Романенко! Только вы пообещайте отпустить меня, ежели я скажу.
– А ну, как ты меня обманешь? Нет, друг ситный, ты мне скажешь адрес и со мною туда поедешь. Если всё подтвердится, ступай на все четыре стороны до другого раза, если нет, ответишь мне по всей строгости закона и всей моей строгости. Понял?
– Понял, ваше высокородие! Они на Трубном бульваре «мельницу» имеют. В Волчьей долине!
– Пётр Андреевич, слышал ли? – повернулся Романенко к Вигелю. – Вот, не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Собирайся, брат! Сейчас возьмём этого клоуна и покатим.
– На Трубный?
– Нет, вначале возьмём с собою наряд, а уж с ним и к волкам этим в логово! – Романенко кивнул на вора и велел: – Развяжите это ничтожество.
К дому, указанному Бубеном, решено было вплотную не подъезжать. Полицейские оцепили его, и несколько человек поднялись вверх по лестнице к нужной квартире. Романенко и Вигель остались внизу. От волнения Василь Васильич грыз ногти и неотрывно смотрел на окна квартиры, в которой должны были находиться преступники. Послышались крики и выстрелы. Окно распахнулось, и длинный, как кошка, ловкий человек вскарабкался на крышу. За ним последовали ещё двое, один из которых казался ещё совсем мальчишкой. Вся троица кинулась бежать по крыше. Выбравшийся за ними полицейский выстрелил, в ответ прозвучало несколько выстрелов со стороны убегавших.
Полицейские неловко скользили по крыше, а, между тем, преступники с какой-то дьявольской ловкостью уже перебрались на соседнюю.
– Уйдут, – взвыл Василь Васильич, судорожно хватаясь за револьвер. – Оцепите все подворотни! Не дайте им уйти!
Миновав несколько крыш, преступники, наконец, спустились на землю в одном из дворов и бросились наутёк. Несколько полицейских во главе с Романенко, заранее выставившим там наряд, устремились за ними. Откуда ни возьмись показались запряжённые вороной двойкой сани, в которых сидела укутанная в меха женщина.
– Кочегар, сюда! – хрипло крикнул возница.
Преступники бросились к саням. Василь Васильич выхватил револьвер и выстрелил. Бежавший последним юнец ничком упал в снег. Чернокудрый главарь обернулся и кинулся к нему:
– Юла! Ты что?! Юла! – отчаянно взвыл он.
– Куда, Кочегар?! Пропадёшь! – бросился за ним громадного роста детина.
– Митя! – дико закричала из саней женщина.
Возница выстрелил несколько раз в полицейских, один из которых упал в снег. Детина сгрёб Кочегара в охапку и вскочил в сани. Возница, что есть силы, хлестнул коней, и те помчались галопом.
– У-пу-сти-ли… – простонал Василь Васильич, роняя пистолет в снег. Он тяжело подошёл к застреленному беглецу и перевернул его на спину… На него смотрело чистое мальчишеское лицо: коротко стриженые волосы, широко распахнутые, удивлённые глаза, приоткрытые, уже побелевшие губы, из которых текла чёрная струйка крови, обагряя белый рождественский снег…
Романенко снял шапку, опустился на колени, перекрестился и закрыл убитому глаза.
– Господи, прости меня, окаянного… Что же я сделал! Господи! Убийц упустил, а мальчишку подстрелил… Да что же это! – он стиснул голову руками и зарыдал.
Подоспевший Вигель остановился, как вкопанный. Он понял, что случилось что-то страшное, и не знал, что сказать другу, чтобы успокоить его. Подошедший пристав доложил:
– У нас двое раненых. Убитых, слава тебе Господи, на сей раз нет.
Но Романенко как будто не слышал его. Наконец, он поднялся с колен и медленно побрёл куда-то, загребая ногами снег.
– Васильич, ты куда? – нагнал его Пётр Андреевич, хватая за руку.
– Оставьте меня, все… – глухо ответил Василь Васильич. – Не ходите за мной… О раненых позаботьтесь, а начальству скажите, что я болван и что делать мне в полиции нечего… Я не сыщик, а идиот… Завтра же рапорт подам… Хватит!
– Да брось! – Вигель преградил Романенко дорогу. – Ты не мог знать, что у них мальчишка в банде!
– Не мог. Но только это моя пуля убила его, а не твоя… Тебе не понять… И Рахманова я снова упустил. Грош мне цена… Оставь меня, брат, прошу тебя… – Василь Васильич безнадёжно махнул рукой и пошёл куда-то, мотая головой, точно не желая верить во что-то, с чем-то соглашаться.
Пётр Андреевич провёл рукой по волосам и вздохнул. Утром он казался себе самым несчастливым человеком. Ему не хотелось ни жить, ни работать – не хотелось ничего. Теперь, видя несчастье друга, он как-то разом оправился от своего горя, показавшимся ему ничтожным. Вигель посмотрел на лежащего в снегу мальчишку, затем – вслед Романенко, фигура которого словно надломилась, и понял, что начинается какая-то новая веха его жизни. Новая жизнь, и в ней он больше всего хочет отыскать бандита Рахманова, из-за которого произошла эта трагедия и засадить его за решётку. А лучше отыскать его, но так, чтобы арестовал мерзавца Василь Васильич, чтобы ему стало легче…
Не долго думая, Пётр Андреевич направился к всё ещё сидящему под охраной в санях Бубну:
– Где ещё бывает твой Рахманов-Кочегар?
– Я не знаю… – проскулил Бубен. – Ваше высокородие, смилуйтесь, отпустите меня…
– Отпущу. Но прежде ты расскажешь мне всё, что тебе известно о Рахманове и его компании, и не надейся, что меня разжалобят твои слёзы. Я теперь не в том настроении. Меня сейчас не разжалобят даже слёзы любимой женщины. Я сейчас убить способен. Поэтому говори, или я за себя не отвечаю.
– Они занимаются шулерством и ширмохой… Шулерничали они здесь и на Чижиковском подворье… А ширмачили много где… Но чаще – на Хитровке. У смотрящего там баба живёт вроде. Волчихой кличут. Они там подчас хаваются. А больше я ничего не знаю… Они ж меня за человека не держали… Так, за скомороха… Поверьте, я правду говорю!
– Верю. Кто таков мальчонка, что с Рахмановым был?
– Как зовут его, я не знаю… Юлой прозывали за шустрость. Он тоже по ширмохе… Инорядь Рахманов кошелёк стырит и Юле передаёт, а уж тот с ним бежать во все лопатки… Убегало. Рахманов его очень любил. Как сына родного. Баловал очень и привечал…
– А что за женщина у него? Рыжая?
– А… Маруха-то? Жидовка. Но кто такая и откуда, не знаю. Рахманов бережёт её. Очень ею дорожит. Любит. Юдифью зовут.
– Родные-близкие есть у неё?
– Не знаю, ваше высокородие! Вот, вам крест святой! Да нужна-то мне чужая маруха была – антиресоваться…
– Кто ещё работает с Рахмановым?
– Фомка и Калач. Фомку вы видели. Рослый такой. Щёлкнет пальцем – и нет человека. Затирщик. Он на ширмохе богатеев затирал и к Рахманову направлял. А Калач – смотрящий и есть. Он хоть одноглазый, да этим одним глазом видит пуще тех, что с двумя.
– Одноглазый?
– Да. Он при пожаре вроде каком-то пострадал шибко… Или обварился… Бог весть! У него полрожи обожжено. Сущий урод! Больше ничего не знаю! Отпустите же меня, ваше превосходительство! – взмолился Бубен, размазывая слёзы по избитому лицу.
– Пошёл вон, – махнул рукой Вигель.
Бубен выскочил из саней и бросился бежать.
– Вот, болван, – пробормотал подошедший пристав. – Думает, что убежит…
– А вы как думаете?
– От нас? От нас, может, и убежит. А от них – никогда. Думаю, что в ближайшие дни в этой же Волчьей долине мы обнаружим его с ножом в груди… А, может, и не обнаружим, ежели его в прорубь сбросят. Таких, как он, не прощают. И, в общем-то, они правы…
– Так, может, не стоило отпускать его?
– Это уж не наша забота. Его воля. Пущай себе его же друзья с ним разбираются. А нам своей головной боли хватает… Вас подвезти куда-нибудь, господин Вигель?
– На Тверскую, если не сложно, – кивнул Пётр Андреевич, садясь в сани.
– Извольте, – кивнул пристав. – Эх, Василь Васильича жаль! Убивается теперь из-за щенка этого, из которого наверняка вырос бы второй Рахманов… И надо же такому приключиться было! Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие…
***
– Ну, что, друзья сердечные – тараканы запечные, наломали валежнику? – мрачно спросил Николай Степанович, глядя исподлобья на Романенко и Вигеля. – Нет, это уж ни в какие ворота не вмещается! Василь Васильич, я тебе не узнаю!
Романенко поднял голову и ответил глухо:
– Разве я знал…
– Я про другое говорю! Знать о том, что один из воров ещё почти ребёнок, ты не мог и упрекать теперь себя в том не должен. Но как ты мог перед подчинёнными так рассиропиться? Какой ты им пример подаёшь? – Немировский опустил руку па плечо Василь Васильичу. – Я очень хорошо понимаю твои чувства, но нельзя же их показывать людям! Ну, пришёл бы ко мне, к Петру Андреевичу после… А то бросил всё и ушёл! Куда ж годится?
– Виноват, Николай Степаныч…
– Ты мне вот что скажи: ты с начальством своим ещё поговорить не удосужился, я надеюсь?
– Никак нет. Не успел… Как раз собирался, так за мной Пётр Андреич приехал, сказал, что вы срочно велели быть у себя…
– Слава тебе Господи! Успел перехватить вас… А то бы вы и ещё одну глупость сделали!
– Николай Степанович, я принял решение уйти из полиции! И не разубеждайте меня!
Немировский отошёл немного и вдруг хватил кулаком по столу:
– Тряпка! Как же ты смеешь уходить сейчас?! Сейчас?! Ты допустил ошибку, а кто-то другой теперь исправлять её должен?! Кто-то другой теперь должен искать этого негодяя Рахманова, которого ты клялся изловить?! Весьма благородно-с! Всякой похвалы достойное решение! И чёрт с ним, сколько он твоих же друзей убил и ранил! Ничего! Другие изловят! Да как же ты с этим жить сможешь?! Ты ведь не простишь себе этого никогда! Слабости минутной не простишь! Измучаешь себя!
Романенко только досадливо рванул себя за чуб и ничего не ответил.
Николай Степанович опустился за стол и сказал уже тише:
– Вот что, Василь Васильич. Если не хочешь себе жизнь исковеркать и потом себя презирать, то никогда не действуй сгоряча. Продолжай работать по Рахманову. Изловишь его, а потом уж решай: уходить тебе или нет. Послушайся, пожалуйста, доброго совета. И не казни себя…
– Где я его изловлю-то теперь?.. Чёрт знает, куда эта мразь подевалась…
– А ты Петра Андреича спроси. Он, пока ты своим душевным терзаниям предавался, допросил вашего Бубна и узнал от него кое-что. Пётр Андреевич, расскажите Василь Васильичу, что узнали.
Вигель откашлялся и изложил коротко:
– Рахманов имеет ещё два лежбища. На Чижиковском подворье и возле Хитровки, где живёт любовница его подельника Калача, весьма приметного персонажа, кстати. У него пол-лица обварено и глаза нет.
– Ну, на Чижиковское они вряд ли сунутся… Я уж там бывал и людей своих оставил… А в районе Хитровки пошерстить можно… Там и ночлежка есть неподалёку… – задумчиво сказал Романенко.
– Вот, и займись этим, – улыбнулся Немировский.
Дверь приоткрылась, и в комнату вошла Анна Степановна. Остановившись на пороге, она спросила:
– Что-то случилась?.. Николай, я давно не слышала, чтобы ты говорил так громко…
– Не беспокойся, Аня, – ответил Николай Степанович. – Всё уже хорошо. Просто у Василь Васильича неприятности.
– Так что же хорошего, коли неприятности? – Кумарина повернулась к Романенко. – Василь Васильич, дорогой, вы уж не огорчайтесь, пожалуйста! В жизни всякое бывает. А унывать не следует никогда.
– Благодарю вас, Анна Степановна, – поклонился Романенко.
– Вы, может быть, останетесь отобедать у нас?
– Нет, спасибо. Мне нужно ехать по срочному делу.
– Ну, храни вас Господь, в таком случае, – Кумарина перекрестила Василь Васильича.
– Прощайте, Николай Степанович! – Романенко вышел.
Вигель раскланялся с Немировским и Кумариной и направился следом за ним.
Недолго думая, Василь Васильич отправился к себе на квартиру, где обрядился в простую одежду и наклеил себе окладистую бороду. В таком виде прибыл он на Вольное место, где, как водится, шла бойкая торговля. В одном месте были устроены петушиные бои, вокруг которых тотчас собралась толпа зевак. Подошёл и Романенко, любивший посмотреть на подобное зрелище.
– Давай его, давай! – кричали собравшиеся. – Ай, молодца!
Наконец, победитель определился. Им стал крупный петух, явно заграничной породы. Хозяин, дородный мужик с румяным лицом, гордо демонстрировал его собравшимся.
– Слушай, друг, продай его мне, а? – попросил хозяин побеждённого. – Я тебе много заплачу!
– Нет, друг, не продаётся, – улыбнулся тот, пряча победителя в мешок. – Этот петушок мне золотые яйца несёт.
– Представляешь, каждую неделю этот ухарь сюда приходит, и его петух всех других бьёт, – шепнул Романенко плюгавый, сильно пьющий старик в лаптях и обмотках вместо валенок.
– Да, отец, это не петух, а верзила настоящий, – согласился Василь Васильич.
– И не говори. Арабский! Ему чёрт этот гребень с серёжками срезал и сожрать дал, чтоб злобнее был. И такая ить злобная тварь вышла, что ужас! Пожалуй что, и нас с вами поклюёт! Мил человек, а ты кто таков будешь? Я на Вольном месте каждую собаку знаю, а тебя допреж не видывал… Из приезжих, что ли?
– Вроде того… Я, отец, днями от дяди выписался… Бутырскую академию закончил. Теперь, вот, гуляю!
– Вон оно что! – присвистнул старик. – Так за такое дело тяпнуть полагается.
– Тяпнем, отец! Обязательно! – пообещал Романенко, извлекая из кармана «красненькую». – На все и тяпнем!
Глаза старика загорелись, и он судорожно глотнул.
– Слушай, отец, – продолжал Василь Васильич, – ты, вот, сказал, будто каждую собаку здесь знаешь… Мне бы маруху мою бывшую сыскать. Давно не виделись! Говорят, что здесь она тоже околачивается.
– Кто такая?
– Волчихой кличут. Знаешь?
– Знаю, – кивнул старик. – Она на северной стороне торгует. Рукавицами, валенками, барахлом разным… Только зря ты к ней навострился.
– Это почему? – нахмурился Романенко.
– Да потому что не ждёт она тебя. С другим милуется. А этот другой – чёрт сущий… Рожа ошпаренная, глаза нет… А она прямо млеет… Видать сила у него большая! Так что имей ввиду… И, смотри, не учини поножовщины какой. Знаю я вашего брата!
– Что ж, он с нею живёт или как?
– Да нет… Так, наведывается иногда. Посшупать…
– Вот, сукино племя, а! – усмехнулся Василь Васильич. – Спасибо, что сказал, отец. На, вот, выпей за моё здоровье! За здоровья раба Божиего Василия! А за её, подлянки, не пей.
– Чего не хватало! – старик жадно схватил пятирублёвку. – Погужу за твоё здоровье на славу! Спасибо, мил человек! Счастья тебе!
Романенко быстро добрался до северной части Хитрова рынка и довольно скоро приметил торговавшую нужным товаром женщину с недобрым выражением лица и большим синяком под глазом.
– Ты Волчиха? – спросил Василь Васильич, подойдя к ней.
– Для кого и Волчиха, а для тебя, пёс, Марфа Никитична!
– Что ж так неласково-то?
– А что я с тобой ласковой быть должна? Ты, поди, покупать ничего не собираешься. А потому проходи лучше мимо.
– Я Калача ищу.
– Ну, и ищи себе на здоровье! Я при чём?
– А при том, что он к тебя в гости захаживает. А мне он до зарезу нужен.
– Ох, дьяволы, как же вы мне все осточертели! Все из одного теста, из одного места… Не знаю я, где его носит! Проваливай, сказано!
– А часто ли он бывает у тебя?
Волчиха прищурилась:
– Да ты лягаш ряженый… А ну, проходи! Я делов Калача не знаю и знать не хочу. И не донимай меня с тем!
– А ты поласковее, поласковее, – Василь Васильич надвинулся на Волчиху. – А то я ведь могу и вызнать, с кого твои валенки да прочие вещички сняты!
– Ты чего ж такое плетёшь, глаза твои бесстыжие? – испугалась Волчиха. – Я торговка честная…
– Это ты в следственной части рассказывать будешь! Вон, у тебя с краю валенки стоят. Дорогие! А сняты они с ограбленного на днях коллежского асессора Белкина…
– Не знаю я никакого Белкина!
– Зато Калач твой знает! А потому: или ты мне сейчас выкладываешь, где мне Калача искать, или я тебя со всей твоей рухлядью отправляю в участок, как пособницу и сбытчицу краденого!
– Да ты что? – Волчиха заплакала. – Я знать не знала, что они краденые… Ну, хочешь бери эти валенки даром и отдай своему Белкину, коли у него нет! Только оставь ты меня в покое!
– Значит, по-хорошему, договориться не хочешь? Что ж, ладно. Я сейчас же позову городовых и…
– Нет-нет! Что ты! – замахала руками Волчиха. – Калача тебе надо? Так я всё скажу… У меня он редко бывает… Он теперь в ночлежке хоронится. Что позади Вольного места. Там и ищи… Только не трожь меня, ладно? У меня дети малолетние: их кормить надо!
– Чёрт с тобою, не ори, – махнул рукой Романенко. – Если возьмём нынче Калача, то тебя на этот раз не трону. Но только на этот раз. Ещё раз краденые вещи у тебя увижу: пеняй на себя!
Скрипнув сапогами, Василь Васильич ушёл, оставив напуганную до смерти торговку, бормотавшую что-то бессвязное.
Разумеется, никакого коллежского асессора Белкина в реальности не существовало. Его и его украденные валенки Василь Васильич вдохновенно придумал только что, чтобы пугнуть несговорчивую Волчиху.
Едва выйдя с Хитровки, Романенко подозвал к себе одного из своих агентов и велел ему следить за Волчихой на случай, если Калач объявится у неё.
Вечером того же дня полиция оцепила район Хитрова рынка с тем, чтобы «ни одна мышь не проскочила», и Василь Васильич в сопровождении небольшой «свиты» явился в ночлежку «переписывать её постояльцев».
Сюда же прибыл и Вигель, стремившийся воочию увидеть всё, что будет происходить.
Перепуганный хозяин ночлежки отгородил для работы полиции угол. Василь Васильич опустился за стол. Рядом с ним сел, положив ногу на ногу, Вигель. В дверях замерли несколько полицейских.
– Начнём с Божьей помощью! – махнул рукой Романенко.
Одного за другим к столу стали подводить обитателей ночлежки. Надо сказать, что само помещение, в котором производилась перепись, было одной из комнат её, а потому отовсюду за работой полицейских следили недобрые глаза.
Пётр Андреевич никогда не бывал в подобных заведениях в отличие от Романенко, чувствовавшего себя здесь привычно, и с удивлением и ужасом наблюдал происходящее. Среди обитателей ночлежки оказывались люди самые разные: босяки, рабочие, разорившиеся крестьяне, клеймёные воры, бывшие интеллигенты, отставные военные, проститутки, дворяне… Каким-то невероятным роком свело этих опустившихся, спившихся, часто потерявших человеческий облик и разум людей в этом месте.
– Марков, Семён Григорьевич, отставной штабс-ротмистр… Награждения имею от самого Государя Императора… Кровь пролил за Отечество… – небритый, опухший человек, в армейской шинели шаркнул обутой в развалившийся сапог ногой и поднёс дрожащую руку к козырьку измятой и грязной фуражки. – Честь имею!
– Где же твои награждения? – грустно спросил Романенко.
Штабс-ротмистр опустил глаза:
– Похмелиться не на что было…
– Свободен!
На смену Маркову явилась женщина в мужских кальсонах, растрёпанная и пьяная. Она посмотрела на Вигеля и улыбнулась нагло:
– Ой, какой красавчик… Может, приласкаешь меня?..
Вигель отвернулся. Романенко покачал головой:
– Лялька, Лялька, в прошлый раз ты ещё в юбке была… В другой раз приду – голая скакать будешь?
– Для тебя, красавчик, хоть сейчас разоблачусь!
– Убрать её, – скомандовал Романенко.
С одной из коек послышался хриплый голос:
– Василь Васильич, может, вы меня по старой памяти так перепишите, не заставляя к вам подходить? Я Тихон. Самсонов Тихон.
– Самсонов Тихон? А, припоминаю! Артист!
– Артист, так точно-с…
– Отчего ж ты подойти не желаешь?
– Василь Васильич, дело в том, что на мне штанов нету… Неудобно-с без штанов-то…
– Куда ж ты их подевал, Тихон?
– В карты проиграл-с… Третий день с койки не схожу.
– Мурашов, – обратился Романенко к одному из полицейских, – найдите этому несчастному штаны…
– Слушаю, ваше благородие!
– Эх, Тихон, Тихон, артист ведь был! И не совестно?
– Жутко совестно, Василь Васильич… Сколько раз клялся завязать, а всё впустую… – всхлипнул Тихон.
– Экскюзе муа, – послышался голос прямо над головой у Вигеля, и оттуда свесилась к нему из-за ширмы чья-то рука. – Жё рёгрет боку, мэ пувэ ву мё донир де табак?16
Романенко, не оборачиваясь, протянул кисет, и Вигель передал его просящему.
– О, гран мерси, гран мерси!17 – кисет тотчас исчез за ширмой.
– Простите, с кем имею честь? – полюбопытствовал Пётр Андреевич.
– Моя фамилия Неверов. Мон гранпэр18 был помещиком в Тульской губернии…
Вигель удивлённо приподнял брови.
– Он говорит чистейшую правду, – подтвердил Романенко. – Дед его был помещиком, да отец его прокутил и помер рано, а Сергей Прокофьич тоже смолоду кутил… И докутился…
– Истинная правда… Се терибль!
– Сергей Прокофьич, вы бы спустились, однако, чтобы я мог вас переписать.
Из-за ширмы показались худые, обмотанные тряпьём ноги. Неверов спрыгнул на пол. Это был ещё нестарый человек, несмотря на нищенскую, драную одежду, сохраняющий остатки былого достоинства. Он был, в отличие от большинства своих соседей трезв и даже выбрит.
– Боже мой, как же вы здесь-то оказались? – спросил Вигель сочувственно.
– Эх, сударь, жизнь странная штука… Видать, должно кому-то в ней и в этих клоповниках подыхать… Почему ж не мне?
– По-моему, для вас это место не подходит.
– Вы так полагаете, сударь? Может быть, предложите мне лучшее?
– Человек не должен так жить…
– Ву завэ рэзон19! – воскликнул Неверов. – Только где вы здесь видите людей? Мы уже давно не люди… За редким исключением… За табак спасибо! – с этими словами он вновь забрался на свою койку и задёрнул ширму.
В этот момент полицейский втолкнул в комнату человека средних лет, одетого в архалук и валенки. Половина лица его была обожжена, а глаз скрывала тёмная повязка.
– Ба! – поднялся навстречу Романенко. – Никак Калач собственной персоной? Вот, это так радость!
– Что, нашли меня, господин Романенко? – усмехнулся Калач. – Волчиха, стерва, сдала? Всегда знал, что эта тварь продажная меня ради своих волчат сдаст… Подлянка!
– Зачем же знался с нею, когда знал?
– А вы поглядите на мою рожу: какая баба её облизывать захочет? Любая поворотится… А Марфутка не воротилась. Ей серёжки какие да денег притащишь, так она из Волчихи в кошку ласковую обращалась. Приголубит, ублажит, как никакая другая. Аки принца заморского… Да и хороша она, что уж говорить! Предупреждал меня Кочегар…
– А где же он сам? Кочегар-Рахманов?
– Э, господин Романенко, его вам так легко не словить! – усмехнулся Калач. – А от меня вы ничего не узнаете. Я вор глазастый. Каторгой меня не запугаешь. Так что отправляйте меня в тюрьму. Отвечать на ваши вопросы я не стану. Не дождётесь.
– Жаль, Калач, жаль. А я думал, мы с тобою побеседуем!
– Не о чем мне с вами беседовать. Не на того напали. Я вам не Бубен, который со страху мать родную сдаст… Кстати, вам, может, интересно будет, где его труп искать? Не найдёте! Он уж из-подо льда не всплывёт!
– Укокали, значит?
– А как же иначе, господин Романенко? У нас с этим строго: предателей мы не прощаем. Из-за него Юла погиб. Так что туда ему и дорога.
– Ну, что ж, не хочешь про Рахманова рассказывать – не неволю. Сами найдём. Только уж изволь представиться. А то не Калачом же мне тебя записывать…
– Это извольте: Затырин, Фёдор Платонович. Отца, матери не помню. Родичей не имею. На свете живу сорок один год. Достанет с вас?
– Вполне! – кивнул Романенко и скомандовал: – Увести его.
– Василь Васильич, какие будет приказания? – осведомился уже знакомый Вигелю пристав.
– Тех, что перед законом чисты и в порядке, оставьте. Выявленных нарушителей и тех, что уж совсем почти в чём мать родила, развести по участкам. Одних для доустановления и последующей отправки «на заслуженный отдых», а других… Других накормите и оденьте…
– Василь Васильич, да где ж на такую ораву напастись еды и одежды!
– Ну, уж постараться надо. Не дело, чтобы по Москве люди без штанов ходили… Тем более, теперь зима. И хотя бы чаем напоите их…
– Будет сделано! – кивнул пристав.
– Пойдём, друг мой Вигель, – вздохнул Романенко. – Может, прокатишься со мною до моих «Могильцов»? Заночуешь у меня? А то ведь время уж… Утро скоро. Заодно потолкуем.
– Я не против, – согласился Пётр Андреевич.
– Каковы впечатления от увиденного?
– Весьма скорбные… Очень тяжело на всё это смотреть… Я представить не могу себе, как может человеческое существо, душу и разум имеющее, до такого срама дойти! И жаль их, и не понимаю… Точно в чистилище каком-то побывал…
– Да, мне тоже по первому разу тяжко было… Теперь уж привык, – Романенко натянул перчатки.
– И не тяжко? Не жалко?
– Жалко у пчёлки сам знаешь, где… Жалко, конечно, и тяжко… Но привычно. Что ж, хоть Калача взяли. Уже хорошо. Ночь не напрасно прошла!
– Думаешь, он заговорит?
– Ни за что и никогда! Не тот фрукт. Это – кремень. Своих не выдаст даже под пыткой.
– Василь Васильич, Бубен говорил, что любовница Рахманова – еврейка. Зовут Юдифью. Я думаю, может, нам поискать в этом направлении?
– Прошерстить Зарядье? Что ж, чем чёрт не шутит! Можно и попытаться. Внешность у ней броская… И потом в Зарядье часто сбывают краденое… Если у неё там есть родня, то, вероятно, через неё Рахманов и сбывал награбленное.
– Я как раз об этом и подумал! – горячо сказал Вигель.
– Идея, пришедшая разом в две головы, не может быть дурной, – решил Романенко. – Возьмём этот еврейский квартал в разделку. Может, что и выловим в их мутной воде… Цоп-топ по болоту, шёл поп на охоту…
***
Зарядье, или иначе Московское гетто, населялось, большею частью, евреями и мало чем отличалось от местечек черты оседлости. Первоначально жить в этом районе Первопрестольной, именуемом Глебовским подворьем, разрешалось лишь временно евреям – купцам разных гильдий. Однако, вскоре «временно» превратилось в «постоянно». В Зарядье было выстроено две синагоги, а вся торговля там целиком перешла в руки евреев. Переулки Московского гетто превратились в грязные базары. Вообще, район этот изобиловал нечистотами и зловонием, и люди, не привычные к тому, просто не могли находиться здесь долго.
Именно сюда, в дом своего отца, купца Абрама Герштейна, Юдифь привела Кочегара. Старик был уже давно хвор, и делами его заправляли сыновья – Лейба и Янкель, с охотой принимавшие у себя награбленные Рахмановской бандой вещи и сбывавшие их.
Целыми днями Кочегар лежал на чердаке, уставившись в потолок, и курил. Его раздражали вечные крики уличных торговцев, грязь, царившая кругом, вонь, просачивающаяся даже сюда.
– Чёрт возьми, я не понимаю, как здесь вообще можно жить! – сказал он поднявшейся снизу Юдифи.
– Мы бедно живём, оттого и худо…
– Только не надо прибедняться! Как будто я не знаю, сколько твои братцы выручили денег с продажи вещей, которые я приносил им! Мало ли кто у нас бедно живёт… Я днями шёл по улице: всё ведь помоями залито! Чуть отвлёкся, уж вляпался! В доме у вас тоже не метено… Всё-то по-жидовски у вас…
– Мне не нравится, когда ты так говоришь, – нахмурилась Юдифь.
– Не серчай! Но мне за тебя обидно! Ты так хороша собой. Настоящая царица! Тебе бы по коврам ходить, в шелках да в золоте, а не в этом свинарнике… Эх, шурыга-мурыга! Ну, для тебя ли такая жизнь, Дивушка?
Юдифь легла рядом с Кочегаром, касаясь рыжими кудрями его лица, и ответила:
– Разве же я против, Митенька? Неужели ты думаешь мне эта жизнь по нутру? Да глаза б мои не глядели на Зарядье это проклятое! Я бы сбежала отсюда, если бы было куда! – она прильнула к Рахманову всем телом и, гладя его рукой по щеке, продолжала: – Митя, давай уедем куда-нибудь, а? Ведь я за тобой на край света пойду. Только прикажи! Пропади всё пропадом! Оставим Москву, всех оставим и уедем!
– Куда ж мы уедем? – спросил Кочегар.
– Да мало ли мест на белом свете! Да хотя бы и Петербург! Я всегда там побывать мечтала…
– Дура ты, Дивушка… Какая разница: Москва, Петербург или иной какой город? Конец-то один… И всё одно. Карты, ширмоха, полиция… Юлу, вот, застрелили… Ведь он мальчишка совсем был. Это моя пуля была… В меня он стрелял… Выходит, Юла меня спас. А для чего?
– Прошу тебя, перестань! Я боюсь, когда на тебя тоска нападает… Митенька, ведь живут же люди иначе! Может, и мы сможем? Уедем и начнём жизнь заново… С чистого листа! Как будто прежнего и не было! Я тебя любить буду. Сына рожу тебе…
– Какие ж вы, бабы, одинаковые, – рассмеялся Рахманов. – Не сможем мы с тобою иначе жить. Я всю жизнь вором был. Ничего иного не умею. Да и не хочу уметь! И ты привыкла быть подругой вора. Дорогие шмотки и цацки, с дам богатых сдёрнутые, как свои, носить. Какой из меня честный труженик? И какая из тебя жена и мать семейства? Это же смешно!
– Что же мы, проклятые, что ли?
– Нет, Дивушка, мы свободные… Живём, как хотим.
– А точно ли мы так хотим?
– А разве нет? Я своё ремесло ни на одно другое не променяю. Я не просто воришка, каких много. Такие, как я, может, раз в десятилетие являются. А то и реже! Я князей обманывал, архиереев грабил… И кто в этом сравнится со мною?
– А я бы променяла… – вымолвила Юдифь. – Я устала бояться за тебя. Я бы всё отдала, лишь бы быть за тебя спокойной… Околдовал ты меня, чёрт окаянный. Не вырваться мне…
Кочегар обнял Юдифь:
– Это ты меня околдовала… Ещё, чего доброго, голову мне отрежешь, как твоя библейская тёзка…
– Тебе не отрежу. А тому, кто за твоей головой явится, с лёгкостью…
Снизу раздался условленный стук.
– Это Янкель, – шепнула Юдифь. – Что-то случилось. Идём быстрее вниз!
Внизу сестру и её любовника дожидались оба брата Герштейна. Старший, Лейба, одетый в длинный лапсердак, хмуро поглядел на Кочегара и сказал:
– Дождались мы гостей дорогих! Фараоны рыщут по Зарядью. Ищут тебя и Юдю.
– Не волнуйся, я сейчас уйду, – отозвался Рахманов.
– Куда?! Квартал оцеплен полицией. Через несколько минут они будут здесь!
– Ты-то как узнал об этом?
– Пантофлёвая почта сработала!
– Да нет, Лейба, на этот раз не сработала твоя почта. Иначе бы я успел уйти!
– Тебе нечего было приходить сюда, – зло бросил Лейба. – Если надеешься, что я буду покрывать тебя…
– Что? – Рахманов надвинулся на Лейбу. – Да я ж тебя, свиное ухо, теперь же на перо посажу. Покрывать он не будет! Если меня возьмут, так я подробно расскажу, кому краденое сбывал! Кто на нём гешефт делал!
– Сволочь ты, Кочегар…
– Взаимно, Лейба!
– Решайте уже что-нибудь, – подступил щуплый Янкель с большими грустными глазами. – Пока вы будете спорить, нас накроют всех!
Лейба закусил губу:
– Сделаем так. Юдя, ты спрячешься на дворе. Они тебя могут узнать. Нельзя, чтобы ты попалась им на глаза. Мы скажем, что тебя теперь нет… Ушла, а куда – не сказалась…
– А Митя? – Юдифь прижалась к Кочегару. – Я его не оставлю.
– Идиотка! – заорал Лейба. – Из-за него нас выселят из Москвы! А то и того хуже! С ним мы сделаем лучше… Отец совсем плох. Думаю, скоро отойдёт. Так пусть наш дорогой гость нарядится раввином и будет при нём. Не станут же они тревожить умирающего…
– Я спрятал всё самое ценное у отца под кроватью, – сказал Янкель. – Как обычно…
Лейба на мгновение скрылся за ширмой и вернулся, неся с собой узел с вещами. Всучив его Рахманову, он велел:
– Одевайся! Будешь у нас рабби Мордохеем.
– Иди ты к дьяволу, – прошипел Кочегар. – Не стану я рядиться в это барахло!
– Митя, умоляю! – Юдифь упала на колени и стала целовать руки Рахманова. – Ради меня! Одевайся! Ведь они же убьют тебя! А как я без тебя жить буду? Пожалуйста!
Кочегар сплюнул и начал натягивать на себя ненавистную одежду. Когда его голову увенчала шляпа, Лейба оценивающе поглядел на него и сунул ему в руки какую-то книгу:
– Вот, теперь сойдёт… Будешь читать…
– Ты что издеваешься? Тут же всё по-вашему написано! – вспыхнул Кочегар.
– Странно, что ты был талантливым шулером! Можно подумать, что полицейские знают еврейский! Бормочи любую несуразицу, делая вид что читаешь по книге!
Юдифь со слезами обняла Рахманова:
– Страшно мне, Митенька! Что-то дурное сердце чувствует…
– Не бойся, – ответил Кочегар и, метнув хищный взор на Лейбу, добавил: – Лейба не выдаст, свинья не слопает…
– Юдя, ступай на двор, – сказал тот сестре. – И спрячься там хорошенько.
Заплаканная Юдифь ушла. Янкель распахнул дверь в комнату отца и сказал Кочегару:
– Иди туда. Стань у его постели и делай, как уговорились. Остальное – наша забота.
Рахманов вошёл в тёмную, благодаря зашторенному окну, комнату, душную и, как и другие помещения дома, не отличавшуюся чистотой, и встал возле постели, на которой неподвижно лежал старик с длинным орлиным носом и седой бородой. «Ну, прямо фарисей библейский… Христопродавец… Стой тут балагань теперь… Вот, дьявол…» – раздражённо думал Кочегар.
Снаружи послышались голоса, один из которых Рахманов узнал сразу.
– Оцепить дом, – скомандовал Романенко и постучал в дверь.
Дверь тотчас была отворена, и шаги Василь Васильича и сопровождавших его раздались уже прямо за стеной.
– Чем можем мы служить вашему благородию? – елейным голосом осведомился Лейба.
– Ты Лейба Герштейн?
– Он самый. А это – брат мой Янкель…
– А что, дома больше никого нет?
– Отец наш дома… Отходит… – в голосе Лейбы послышались рыдающие нотки. – Горе у нас большое… И рабби Мордохей с ним.
– А сестра твоя где? Юдифь?
– Ох, ваше благородие, кто же её, подлую, знает? Сестра – наше наказание… Мы с нею разорвали всяческие отношения, и я даже запретил ей являться в наш дом…
– А, между тем, её видели здесь лишь вчера.
– Правда ваша. Она была здесь… Как было не пустить? Отец помирает… Она проститься с ним приходила. Простилась и ушла.
– И ушла?
– Ушла.
– А с нею кто был?
– Мужчина был… Но я о нём не знаю… Моя сестра… Ах, это горе, ваше благородие! Позор всей нашей семье! Она спуталась со скверными людьми! Не нашей веры! И, вообще… Через это и прогнали мы её из дому.
– И так-таки не знаешь ты, с кем твоя сестра жила?
– Не знаю, ваше благородие. И знать не хочу. Авраам и Моисей мне свидетели, что к делам Юдифи ни я, ни Янкель отношения не имеем.
– А с чего ты взял, что у неё есть какие-то «дела»?
– А, когда б не было, разве вы бы пришли? Значит, натворила что-то, мерзавка… Ох, знай я где она, так сам бы убил негодную… Ведь нам же из-за неё беда выходит! Всегда знал, что так будет!
– Обыщите дом, – скомандовал Романенко своим людям. – А вы оба проводите меня в комнату вашего отца.
– Ваше благородие, помилосердствуйте! Ведь отец наш умирает… Грех беспокоить умирающего!
– Я не виноват, что твой отец собрался покинуть наш мир столь не вовремя, – отчеканил Василь Васильич. – Открывай дверь!
– Жестоки вы, ваше благородие… Бога бы побоялись…
– Ты мне поговори ещё!
– Ваша власть! – сокрушённо сказал Лейба и отворил дверь в комнату отца.
Кочегар начал шёпотом бубнить непонятные слова, слегка покачиваясь взад-вперёд.
– Убедились? – спросил Лейба.
– В чём? – усмехнулся Романенко. – Сейчас мы здесь будем проводить обыск. Не взыщи!
– Что ж, ваша власть… Только прошу: потише и поосторожнее. Дайте моему несчастному отцу спокойно умереть.
– Постараюсь, – отозвался Романенко. – Мурашов!
– Я, ваше благородие! – явился на зов молодой полицейский.
– Пошукайте здесь сами… Всё-таки умирающий: негоже всю нашу ораву сюда тащить.
– Слушаю, – кивнул Мурашов и принялся со знанием дела осматривать каждый угол.
Романенко опустился на стул и закурил. Кочегар старался не смотреть на него, боясь себя выдать.
В этот момент в комнату вошёл молодой человек с золотистой шевелюрой и большими синими глазами. Рахманов узнал его и ещё ниже наклонился к книге.
– А, Пётр Андреич, – Василь Васильич повернулся к вошедшему. – Вот, видишь, в каких скорбных условиях приходится работать… Представляю, какую истерику закатят нам господа Герштейны, когда мы начнём двигать кровать с их папашей…
– Василь Васильич, не стоило бы делать этого… – заметил Вигель.
– Ты этих головоруких ребят не знаешь, брат. Я тебе руку на отсечение даю, что своё барахло они заныкали где-то здесь. Именно в расчёте на то, что мы, как люди приличные, не посмеем тревожить покой умирающего. Что ж, наша совесть будет чиста: первыми этот покой потревожили они.
– Ты так уверен в этом?
– Горой тебя раздуй! Я на этом деле собаку съел! Я не исключаю, что они могли самого Рахманова под перины старика заныкать…
Кочегар бросил быстрый взгляд на Романенко и Вигеля и сунул руку в карман, куда успел положить заряженный револьвер. Пётр Андреевич поймал этот взгляд и вздрогнул. Прищурив глаза, он стал внимательно вглядываться в лицо «раввина». В памяти тотчас встала картина: ёлочный базар, похожий на цыгана человек в волчьей шубе с чёрными, волчьими же глазами…
Вигель сделал несколько шагов к Кочегару. Рахманов почувствовал, что разгадан и поднял голову от книги. Теперь они смотрели друг на друга, глаза в глаза. Пётр Андреевич отступил на шаг и вскрикнул:
– Да ведь это…
Окончить он не успел. Рахманов молниеносно отбросил книгу, выхватил пистолет и, выстрелив в Вигеля два раза, выпрыгнул в окно, высадив раму…
Пётр Андреевич смертельно побледнел и, зажимая рукой простреленное плечо, из которого хлестала кровь, осел на пол. Романенко одним прыжком достиг окна и выскочил из него, крикнув:
– Держите Рахманова!
Оказавшись на улице, Кочегар скинул с себя шляпу и лапсердак и, перемахнув через ограду, бросился бежать. Однако, улица со всех сторон оказалась оцеплена полицией.
– Стой, Рахманов! – послышался сзади голос.
Кочегар обернулся. В нескольких метрах от него стоял Романенко, позади которого выстроилась цепь полицейских.
– Сдавайся, Рахманов. На этот раз не уйдёшь, – сказал Василь Васильич.
Рахманов щёлкнул зубами и поднял револьвер, чтобы выстрелить в него. Но его опереди стоявший позади Романенко Мурашов. Грянул выстрел. В этот момент раздался пронзительный крик:
– Митенька, нет!!!
Вынырнувшая из переулка Юдифь заслонила Рахманова собой, и пуля Мурашова угодила ей в грудь. Несчастная охнула, приложила руки к ране, упала на колени, а затем навзничь, на грязную мостовую, разметав по ней свои чудные рыжие кудри. Кочегар бросил пистолет, нагнулся к умирающей, приподнял:
– Дивушка, Дивушка моя… Да что же ты наделала?
– Живой… – прошептала Юдифь, и последнее бледное подобие улыбки скользнуло по её онемевающим губам.
Рахманов прижал её к себе, и из груди его вырвался нечеловеческий крик, разом похожий на стон, на рык и на вой. Он закричал так, как ревут дикие звери от сильнейшей боли.
Романенко медленно подошёл к нему и остановился, храня молчание. Рахманов поднял на него разом померкшие глаза и сказал хрипло:
– Ну, что, господин Романенко, докопались до меня? Радуйтесь… Вот, и встретились мы с вами… Что ж, теперь можете вязать меня. А можете и не вязать… Я сам пойду. Бежать мне некуда больше и незачем… Всё, что было у меня в жизни дорогого, вы у меня отняли… Видать, проклятый я! Не берёт меня пуля… Все-то пули мои другим достаются… Ни за что… Вы уж меня повесьте лучше, а то, чего доброго, пуля-то мимо пролетит…
– А ты не такая великая птица, чтобы на тебя патроны тратить. Твою судьбу суд решит. Но, полагаю, что и впрямь повесят тебя.
– И очень мудро сделают, господин Романенко, – сказал Кочегар, поднимаясь, неотрывно глядя в бирюзовые глаза сыщика. – Таких, как я, вешать надо… Я не в претензии. Вы своё дело делаете…
– У нас присяжные гуманные. Может, опять повезёт тебе. Снисхождение получишь.
– Дураки ваши присяжные. Разве же можно к нам снисхождение проявлять? Мы – трава сорная. Волки. И, как нас ни ублажай, мы всё равно грабить будем. Убивать. Бесчинствовать. Такое уж нутро у нас. А потому нельзя нас миловать. Нас уничтожать надо… Коли на каторгу пошлют, так ведь я оттель опять ноги сделаю. Уж изыщу способ, не сомневайтесь. Впрочем, может и не стану… А только сам удавлюсь. Мне, ваше благородие, воля нужна… Была нужна, а теперь уж… Отгулял я своё! Отгремел! Всему своё время… Моё – прошло…
– Странный ты человек, Рахманов. Умён ты, смел… Мог бы настоящим человеком быть… – вздохнул Василь Васильич.
– А я волчью долю выбрал, господин Романенко. И не жалею о том… А вы ни о чём не жалеете? Вам Юла по ночам не является? Вот, он мог человеком стать… Он воришка был. Да только душа у него чистая была! Чище уж, чем у барских чад иных! Кошку больную увидит бывало и плачет, и за пазухой у себя греет… Живого существа не обидит… А вы его застрелили…
– Мой грех, не отпираюсь, – отозвался Романенко. – Однако, довольно. Шагай давай вперёд.
– Вы, господин Романенко, не забудьте о том, что собирались под койкой у этого старого чёрта пошарить. У них там тайник. Много там интересного сыщите. И крест архиерейский!
– Что ж ты своих сдаёшь, Рахманов?
– Кто свои? Эти, что ли? – презрительно фыркнул Кочегар. – Это, ваше благородие, не свои. Это так, сволочь… Вещи мои брали, гешефт свой делали и от меня же потом рожи свои козлиные воротили, точно они начальство. Сам бы показал им уже давно, кабы не Дивушка… Пущай и они по Владимирке прогуляются!
– Ну, спасибо за помощь следствию, – усмехнулся Романенко. – Мурашов, отвези его, куда следует. Я с ним потом ещё побеседую.
– Есть, ваше благородие!
Василь Васильич ещё некоторое время смотрел на распростёртое на земле тело Юдифи, библейской красавицы с навсегда погасшими изумрудами глаз, после чего быстрым шагом вернулся в дом её братьев, где самолично отодвинул кровать умирающего Герштейна, под которой обнаружился наполненный всяческой утварью тайник…
– Нашли-таки, проклятые… – прошипел Лейба. – И всё из-за этой дуры, чтоб ей сдохнуть…
– Ты о сестре? – резко обернулся к нему Романенко. – Она погибла в перестрелке полчаса назад.
– И поделом ей… Нечего со всякой швалью знаться… Своих ей мало было… Туда и дорога!
***
Василь Васильич положил перед Немировским золотые часы-бригет с инициалами «МЛ»:
– Вот, Николай Степаныч, посмотрите.
– «МЛ»? Михаил Лаврович?
– Я показывал эти часы соседке Лавровича и его родственнику Бланку, и они подтвердили, что часы его.
– Любопытно… – протянул следователь и поднял глаза на сидевшего с видом абсолютного безразличия Рахманова. – Это ваши часы?
– А сами-то вы как думаете, господин Немировский?
– Эти часы были найдены нами у вашего подельника Герштейна. И он засвидетельствовал, что именно вы принесли их ему для сбыта.
– Да неужели? – притворно изумился Кочегар. – Ну, если Лейба сказал, значит, так и есть! Разве ж он соврёт? Ему виднее, у кого он рухлядь принимал краденую…
– Кончай балаган, Рахманов, – сказал Романенко. – Откуда взял часы?
– Шурыга-мурыга! Ваше благородие, нешто ж я помню? Я много у кого чего заимствовал… У кого часы, у кого кошелёк… Вы сами знаете!
– Эти часы были сняты с застреленного у себя на квартире ростовщика, – пояснил Николай Степанович. – Вы, кажется, подобными делами не промышляли, а, между тем, часы оказались у вас. Каким образом?
Кочегар нахмурился:
– Да, уж это вы мне не шейте… Здесь не моя специальность. Покажите-ка часы поближе. Может, я припомню.
Василь Васильич подал Рахманову часы. Тот посмотрел на них, подумал несколько секунд и кивнул:
– Вспомнил, шурыга-мурыга… «Пиковая дама», ехидна простуженная, притащил мне их! Вот, значит, откуда у этого ничтожества деньги появились… Не ожидал, что он на такое дело осмелится! Украсть-то ещё куда ни шло… Но убить… Мне всегда казалось, что я хорошо разбираюсь в людях… А тут, видать, сплоховал… И на старуху бывает проруха!
– А теперь рассказывай всё подробно! Что за «Пиковая дама»?
– Так, хлыщ один… Приходил играть к нам на «мельницу». Естественно, проиграл. Слинять хотел, но мои ребята его быстро срисовали. Я ему срок дал, чтобы долг вернул, под угрозой расправы… Думал, если честно, что не найдёт он таких денег. А тут с месяц тому назад является, красавец, разодетый в пух и прах, приносит мне ценные бумаги на нужную сумму и часы эти, в зачёт набежавших за это время процентов. Сказал, что наследство получил…
– И ты поверил?
– А мне не всё ли равно было? Главное, деньги принёс… Я на них потом у Шипова такой пир закатил!
– Что вам известно об этом человеке? – спросил Немировский. – Имя? Адрес? И почему вы его «Пиковой дамой» зовёте?
– Душа у него чёрная, хотя лицом бел, что девица… Шибко он на бабу смахивал! Смазливый, хлявенький… Соплёй такого перешибить можно. Из студентов.
– Имя?
– Господин следователь, да нешто ж мы, шурыга-мурыга, на «мельнице» имена да фамилии спрашивали? Первый раз явился он к нам со своим другом. Тот истинный барин был! Князь! Царь! Я его даже обмануть не посмел. А, главное, гордый человек. Смелый и сильный. Уважаю таких… А этот рядом с ним, что шакал был… И сразу я приметил, какая зависть у него к другу-то… Тщеславен, труслив и подл… Такие любят возле могучих натур отираться. Клопы… Давить бы их! А другу своему он, что обезьяна, подражал… Даже и пальто, как у него, пошил! На «наследство»-то!
– Какое пальто? – уточнил Немировский, уже не сомневаясь в ответе.
– Белое такое, широкое.
– Всё ясно, «белый бурнус», – резюмировал Василь Васильич. – Ты сказал, что он от вас слинять хотел, а твои ребята его нашли? Значит, адрес его ты знаешь?
– Варварка, 16… – ответил Рахманов. – Он там квартировал прежде. Может, уж и съехал.
– Мы это проверим, – кивнул Немировский.
– А всё-таки не мог я так ошибиться, шурыга-мурыга… – задумчиво сказал Кочегар. – У этого лакузы кишка тонка человека укокать… Не посмел бы он… А там чёрт знает: может, страх за свою шкуру смелости добавил…
– Скажите, Рахманов, для чего вам понадобилась крест у архиерея красть? Величайший ведь риск…
– Зато какая слава! – осклабился Кочегар, лязгнув зубами. – Все газеты прописали, шурыга-мурыга! Ну, у кого бы ещё таланта хватило снять крест с архиерея, чтобы тот ничего не заметил?!
– Да талант у вас большой, Рахманов. Жаль, что столь своеобразный…
– Вот, интересно, господин следователь, а такой талант, как мой, тоже от Господа Бога даётся?
– Я к вам больше вопросов пока не имею, – сказал Немировский.
Романенко открыл дверь, грянул зычно:
– Увести подследственного!
Когда Рахманова увели, Николай Степанович лукаво посмотрел на Василь Васильича:
– А что, не наведаться ли нам прямо сейчас на Варварку? Если уж не застанем там «белый бурнус», так, может, хоть что-то узнаем о нём.
– Согласен, – кивнул Романенко.
– Ты, Василь Васильич, из полиции уходить не раздумал ли?
– По правде говоря, раздумал, Николай Степанович. Я ведь ничего, кроме этой службы, не знаю. Подохну я без неё, аки пёс!
– Вот, и правильно, что раздумал, – одобрил Немировский, улыбнувшись.
Николай Степанович и Романенко спустились вниз и вышли на улицу. Внезапно к ним подошла молодая девушка с бледным, печальным лицом.
– Господин Немировский? – неуверенно спросила она, дрожа не то от волнения, не то от холода.
– Так точно… Чем могу быть вам полезен, сударыня?
– Я только хотела узнать… Я слышала, что Пётр Андреевич… Что он был ранен… Я пришла справиться о его здоровье…
– Ах, вот, оно что! Рад вас успокоить, жизни его ничего не угрожает. Он был ранен в плечо, и теперь уже поправляется. Он теперь временно живёт у нас с сестрой, так что, если хотите, я могу вас подвезти…
– Нет, благодарю вас, не нужно. Я только хотела узнать… Спасибо вам!
– А вы, простите, кто ему?
– Никто… Просто мы живём в одном доме… И я беспокоилась… Я рада, что ему ничего не угрожает… Прощайте!
– Может быть, передать что-нибудь Петру Андреевичу?
– Нет, ничего не нужно… И не говорите ему, пожалуйста, что я приходила…
– Вы, кажется, замёрзли, – заметил Немировский. – Вы давно ждёте здесь?
– Почти час… Но это неважно.
– Быть может, вас всё-таки подвезти куда-нибудь?
– Нет, господин Немировский! Не надо! Спасибо вам за всё! Прощайте! – девушка повернулась и быстро пошла по улице, сгибаясь от порывов ветра, ударяющих ей в лицо снежной пылью.
Николай Степанович пожал плечами и обернулся к Романенко.
– Эта девушка несколько дней назад предпочла нашему Петру Андреевичу какого-то богатого старца… – сказал Василь Васильич мрачно.
– Неужели?
– Вигель сам рассказывал мне об этом… Я тогда встретил его, и он был в огромном огорчении…
– Вот, значит, как, – вздохнул Немировский. – Кажется, она тоже очень страдает… Жаль их обоих…
– Да, жаль… Однако же, мы едем?
– Да-да, разумеется…
В доме 16 на Варварке удалось застать хозяйку, которая весьма насторожённо отнеслась к гостям из полиции.
– Сударыня, – учтиво обратился к ней Николай Степанович. – Мы разыскиваем молодого человека, весьма приятной наружности. Студента. Тонок, изящен, темноволос, бледен… Модно и со вкусом одевается…
– Так ведь это Анатоль! – воскликнула хозяйка.
– Анатоль?
– Да, сударь! Он снимал у меня квартиру… Точнее говоря, чердак… Вы знаете, я очень удивлялась… Ведь студенты – люди бедные. Большинство в Латинском квартале живут, комнаты дешёвые снимает. А этот – квартиру! И всё-то так дорого одевался, дорогим парфюмом пользовался… А за квартиру никогда вовремя не платил. Всё в долг жил!
– Как же вы ему разрешали не платить?
– Ах, господин следователь… – хозяйка потупилась. – Я много раз хотела его с квартиры попросить, а он придёт, умоляет, на колени становится, плачет даже, клянётся заплатить… «Куда же, – говорит, – я пойду от вас, Василиса Егоровна? Смилостивитесь, не гоните!» А собой-то он так хорош, так хорош… Прямо херувим, хоть теперь писать! И жалко мне его до слёз становилось… Неженка он был, ранимый такой, чувствительный… Рука не поднималась прогнать. Уж как я себя ругала за это, но…
– А теперь он ещё у вас квартирует? – спросил Романенко.
– Нет, сударь. Съехал! Постом и съехал. Уплатил долг, подарок мне дорогой на прощанье сделал за то, что я так к нему добра была и не прогоняла, и съехал… Шепнул, что жениться намеревается.
– А куда он переехал, не знаете?
– Нет, он не говорил… А что, он натворил что-то, да?
– Боюсь, что так, – вздохнул Немировский. – Мы подозреваем, что он ограбил человека…
– Батюшки святы! – хозяйка перекрестилась. – Вот, до чего человек дойти может…
– А как фамилия вашего бывшего квартиранта?
– Григорьев, Анатолий Антонович… Надо же, кто бы мог подумать… Такой молодой, интеллигентный!
– Василиса Егоровна, вы, если вдруг увидите его, сможете узнать?
– О, разумеется! У меня очень хорошая память на лица!
– Что ж, спасибо вам за помощь, – Немировский откланялся.
– Что будем делать, Николай Степаныч? – спросил Романенко, прежде чем сесть в сани. – Анатолиев Григорьевых, сдаётся мне, в Москве окажется немало… Фамилия-то распространённая!
– Не волнуйся, Василь Васильич, никуда он от нас не денется.
– Почему вы в этом так уверены?
– Потому что он уверен, что обвёл всех вокруг пальца, а, значит, убегать никуда не будет. Лишняя суета может только повредить теперь. Подождём. Взять его теперь лишь дело времени. А, впрочем… – Немировский вдруг улыбнулся. – Есть идея! Садись, Василь Васильич, дорогой расскажу.
Когда сани тронулись, Николай Степанович изложил Романено свой план:
– Теперь последние дни Святок. В Москве будут большие гуляния. На Девичьем поле, например. На санях кататься будут да просто гулять, скоморохов да балаганы смотреть. Не может быть, чтобы наш «друг», человек молодой и любящий быть на людях, показывать себя, остался бы сидеть дома. К тому же, если он не соврал и в самом деле имеет невесту. У нас есть несколько человек, способных опознать его: Рахманов, Калач, Фомка, Василиса Егоровна, Бланк… Нужно расставить людей в самых оживлённых местах, где может появиться убийца. Их не так много… Девичье поле, Воробьёвы горы и т.п. И чтобы с нашими людьми был кто-то, кто сможет опознать его. Конечно, в массе народа мы можем и упустить преступника, но попытаться всё-таки надо!
– Вы что же, Николай Степанович, хотите, чтобы мы взяли с собой Рахманова? Нет, увольте! Этот сукин сын ещё сбежит опять… Мне тогда только пулю в лоб пустить останется!
– Хорошо, ограничимся Калачом, Фомкой, Бланком и квартирной хозяйкой… Четырёх человек нам вполне хватит. Займись этим, Василь Васильич! Времени осталось в обрез. Послезавтра всё должно быть готово!
– Эких вы от меня акробаций-то требуете! – покачал головой Романенко. – Однако, чем чёрт не шутит… Цоп-топ по болоту, шёл поп на охоту… Добро, Николай Степанович, устроим охоту! Расставим людей на Воробьёвых, в Зоологическом, на Девичьем поле, на всех самых людных площадях… Я думаю, что приказчики из контор Бланка и его тестя тоже видели Григорьева. Можно привлечь и их?
– Непременно привлеки! – согласился Немировский.
– Николай Степанович, а что если он ряженым заделается?
– Не заделается. Этот фрукт любит своим поличьем блистать и прятать его под маской не станет. Красоту свою показывать будет.
– В таком случае я немедля возьмусь за дело, – решил Василь Васильич. – У меня после поимки Рахманова точно второе дыхание открылось… Чувствую, повезёт нам!
– Дай Бог, – улыбнулся Немировский.
Оставив Романенко готовить облаву, Николай Степанович поехал домой.
– Как Пётр Андреевич? – спросил он у вышедшей встречать его Кумариной.
– Лучше, – ответила Анна Степановна. – И что же у вас за работа такая! На дворе Святки. Все люди радуются, празднуют, а вы всё воров да убийц ловите: дома вас никого не застать…
– Аня, если бы мы их не ловили, то люди бы не могли так беззаботно радоваться и праздновать! – резонно заметил Немировский.
– Какое счастье, что ты хотя бы не занимаешься задержанием опасных преступников, – вздохнула Кумарина. – Ведь, вот, допустим, Василь Васильич ежечасно рискует собой… У меня сердце не на месте! И Петра Андреевича чуть не убили… Ты, должно быть, замёрз? На улице такой холод… Я пойду согрею тебе ужин…
– А где Соня?
– У её внука сегодня именины. Я её отпустила на вечер. Завтра вернётся. Переодевайся, КОлинька. Через десять минут всё будет готово, – Анна Степановна поцеловала брата в щёку и скрылась на кухне.
После посещения Мандрыги Кумарина чувствовала себя на удивление хорошо. С той поры её ещё ни разу не мучили приступы радикулита, и она вновь казалась себе молодой и лёгкой. Когда Анна Степановна узнала о ранении Вигеля, то настояла, чтобы Петра Андреевича перевезли на время в их с братом квартиру, чтобы она могла самолично следить за его здоровьем, и теперь почти не отходила от больного.
Сменив сюртук на халат, Немировский прошёл в комнату, отведённую Вигелю. Увидев его, Пётр Андреевич, лежавший в постели, приподнялся, но Николай Степанович знаком остановил его:
– Лежите, лежите. Вы не на службе. Как ваше самочувствие?
– Хорошо, – ответил Вигель. – В ближайшие же дни я перееду к себе. Я чувствую себя ужасно неловко оттого, что вы и особенно Анна Степановна так обо мне заботитесь. Ведь моя рана – сущий пустяк. Я бы прекрасно отлежался у себя… А Анна Степановна ходит за мной, как за умирающим…
Немировский улыбнулся:
– Ваши слова походят на неблагодарность…
– Что вы! Я благодарен вам и Анне Степановне по гроб жизни. Родной отец не стал бы обо мне так заботиться… Но мне, в самом деле, ужасно неловко…
– Ваша рана – не такой уж пустяк. Попади пуля чуть ниже, и мы бы с вами не разговаривали теперь. Да и теперь без должного ухода может начаться воспаление… Так что лежите, голубчик Пётр Андреевич.
– Но Анна Степановна…
– Пётр Андреевич, моя сестра – человек очень одинокий. Вас она полюбила, как сына. Не отказывайтесь от её заботы. Она ведь делает это от души. Вы её обидите, если так настоятельно будете стремиться уехать к себе.
– Но я не хотел бы стеснять вас…
– Не говорите глупостей. Вы никого здесь не стесняете. Кстати, мы с Василь Васильичем придумали способ изловить «белый бурнус», – сказал Немировский и поведал Вигелю всё узнанное и решённое за минувший день.
Пётр Андреевич вздохнул:
– Ну, вот, вы будете ловить убийцу, а я должен лежать здесь, хотя почти здоров…
– Полно вам огорчаться! – Николай Степанович похлопал Вигеля по руке. – На ваш век хватит и убийц, и воров… Успеет ещё надоесть! Благодаря вам, вот, Рахманова поймали…
– Да причём здесь я!
– Не преуменьшайте своей заслуги, Пётр Андреевич. Ваша лепта в это део весьма значительна. Вы же узнали его. Кстати, Василь Васильич шлёт вам поклон. На днях и сам заедет.
– Спасибо. Дай Бог, чтобы ему удалось теперь задержать убийцу Лавровича… Это самое главное!
– Самое главное, вы поправляйтесь! – ответил Немировский, щуря лучистые глаза.
***
– Эх, расступись, честной народ – задавлю! – и скорые железные сани слетали с деревянных к празднику установленных гор под крики и смех катающихся и гики катальщиков. Иногда сани переворачивались, и разряженные в пух и прах люди сваливались в сугробы, что только добавляло им веселья. Они швыряли друг в друга снегом, лепили снежки, играли в салки и горелки. Старики смотрели на молодёжь и вспоминали себя в юные годы, а молодёжь не задумывалась в эти часы о старости, о будущем, а, если и задумывалась, то рисовалось оно в исключительно радужных тонах… Да и что могло быть дурного в этом загадочном будущем? Русское государство богатело год от года, развивалась промышленность и искусство, укреплялось Право, расширялись свободы, продвигались вперёд науки… Жизнь била ключом, и, казалось, ничто не могло ключ этот заглушить…
Во всей недолгой ещё жизни Анатоля Григорьева не было более счастливого дня. Он шёл по запруженным веселящимся народом улицам, изящный, холёный красавец, одетый в дорогую шубу, обнимая молодую красивую девушку из знатного рода… Он чувствовал себя сильным, богатым, красивым. Он смотрел на окружающий мир гордо, свысока, придавая своему лицу вид важности и превосходства.
Как всё-таки переменчива жизнь! Ещё несколько месяцев назад Анатоль был беден, жил в долг. Его друзья, такие же бедные студенты, как он сам, которых он в душе презирал, экономили всякую копейку, вырученную за даваемые уроки, одевались бедно, жили по несколько человек в одной комнате, перебивались с хлеба на квас, ходили пешком и подчас не имели даже шуб, столь необходимых в лютые московские зимы… Но так могли жить они. Не Анатоль. Ничто так не оскорбляло его, как собственная нищета и худородность. Однако, именитых предков раздобыть уж никакими правдами-неправдами было невозможно, а потому единственной целью Анатоля стали деньги.
Он органически не мог выносить чужого превосходства, не мог допустить, чтобы кто-то думал, будто у него нет денег, будто он нищ. И поэтому влезал в долги. В долг Анатолю, как ни странно, давали легко. Давали богатые товарищи и стареющие дамы. Давали за лесть, за готовность услужить, за красоту… Анатоль не хуже «мудреца» Глумова понял, что красоте пропасть не дадут, и использовал её в полную силу. Особенно, когда дело касалось квартирной хозяйки. На квартире он жил в долг. Одевался у престижных портных и обедал в дорогих заведениях также в долг, а после особенно дорогих обедов не ел по нескольку дней.
Долги росли день ото дня, и Анатоль понимал, что однажды кредиторы всё-таки устанут откладывать срок расплаты за красивые глаза и льстивые речи, а расплатиться будет нечем. Анатолю явственно померещилась долговая яма. Позор, которого тщеславное нутро не вынесло бы. Он жил под Дамокловым мечом, всё больше погружаясь в трясину долгов…
Как раз тогда Анатоль встретил милейшую барышню, Зиночку Луцкую. Очаровательное создание, образованная и красивая, она сразу привлекла его внимание. Анатоль представил, как блистательно смотрелись бы они вместе на каком-нибудь балу… Все стали бы оборачиваться на них, все только на них и смотрели бы! Но ещё важнее красоты и ума была фамилия. Зиночка была из рода знатного, хотя почти пресекшегося и окончательно разорившегося. Их красота, её фамилия и его деньги открыли бы им все двери, все дороги! Но денег не было… А без денег старуха Луцкая никогда не отдала бы за Анатоля свою дочь. Нужно было убедить её, что деньги у него есть, пустить в глаза пыль…
И Анатоль убедил. Он пускал старой барыне пыль в глаза за её же счёт. Однажды Евдокия Васильевна пожаловалась ему, что, не имея опыта общения с ростовщиками, боится, что они обманут её, а потому не может решиться заложить свою брошь… Старуха думала, что брошь её стоит сто рублей, но Анатоль, постоянно имевший дело с ростовщиками, определил без труда, что такая вещица стоит не меньше двухсот пятидесяти рублей… Но подлинной цены Луцкой он, разумеется, не назвал и на другой день принёс сто сорок рублей, чему Евдокия Васильевна весьма обрадовалась, не зная, что ещё сто Анатоль положил себе в карман.
Драгоценностей у Луцких оказалось немало, и дело стало разворачиваться. В последний год Анатоль имел дело с недавно прибывшим в Москву ростовщиком Михаилом Лавровичем, которому он выдавал себя за своего убывшего за границу друга, барского сынка. Ему-то и стал Анатоль приносить драгоценности Луцкой, говоря, что это вещи его покойной матушки. Михаил Осипович был человеком умным и расчётливым, полной цены не давал, но и не совался в детали. Его устраивала стабильная поставка ценностей, которую обеспечил ему Анатоль, а Анатоля в свою очередь устраивала пусть неполная, но всё равно приличная цена, даваемая ростовщиком и позволявшая отдавать хозяйке лишь половину вырученной суммы, слывя при этом благодетелем. Прикарманенные деньги шли на подарки Зиночке и её матушке, экипаж, одежду и парфюм.
В то же время Анатоль свёл знакомство с дочкой Михаила Осиповича, Людмилой, усердно разыгрывая любовь и серьёзные намерения, благодаря чему окончательно вошёл в доверие к подозрительному ростовщику, задавшемуся идеей выдать дочку замуж за «барина».
Вся партия разыгрывалась, как по нотам. Но однажды Анатоль оступился. Ночи напролёт его больное воображение терзали картины красивой жизни. Ему снился личный экипаж, лакеи, открывающие ему дверцы, собственный дом… Он видел себя значимым и известным. Но идти к этой вожделенной цели шаг за шагом становилось уже невозможно. Анатоль задыхался в своей маленькой квартире, в вечных унижениях перед кредиторами. Ему хотелось разом разрубить этот Гордиев узел. И он начал играть. За один вечер спустил он всё, что удалось накопить за время торговли драгоценностями Луцкой. Наглый шулер, чёрный как чёрт, обманул его, а его подручные объяснили, что этот кредитор долгов не прощает и отсрочек не даёт, а неуплаченный долг стоит здесь не чести, не свободы, но самой жизни.
Анатоль не находил себе места. Он несколько раз помышлял о том, чтобы свести счёты с жизнью, но духу на такой отчаянный поступок ему не хватало. Как назло, Луцкая в то время не нуждалась в средствах, а потому надобности в продаже очередного ожерелья или серег не возникало.
К Луцким Анатоль не наведывался довольно долго, боясь себя выдать и не имея денег, чтобы, как обычно, пускать пыль в глаза. И единственным близким человеком ему всё это время была скромная, бессловесная Люда. Он приходил к ней, как к себе домой, и она отдавала ему всю себя, не спрашивая клятв, не упрекая, искренно и просто любя его.
Однажды ночью Анатоль сидел на краю постели и смотрел на спящую рядом с ним Люду, по-детски доверчиво льнувшую к нему. Первый раз за всю жизнь он ощутил укол совести. «Ведь она, в самом деле, любит меня… – думал Анатоль. – Не красоту любит, не пыль, в глаза пускаемую, а меня самого… За что? Дурочка… Узнай Зина, что я нищ и гол, что я сам себя выдумал, так, пожалуй, отвернулась бы от меня, прогнала. А эта – никогда бы не прогнала. Любого приняла бы, согрела… У неё, кажется, и гордости нет никакой. А назвать её бесстыжей у кого язык повернётся? И как уживается в ней это: скромность и та совершенная, возмутительная почти лёгкость, с которой она мне отдалась? Но, нет, разве годится она мне в жёны? Дочка ростовщика… Незаконнорождённая. Бывшая служанка. Ни манер, ни образования… Она и одеться-то порядочно не сумеет, слова путного сказать… Такой женой, как Зина, гордиться можно. Самое высшее общество украсит собой. А Люда? Да только с ней теплее, проще… Вот, было бы чудесно: завести большой дом и жить в нём с Зиной, а для Люды квартирку снимать и к ней наведываться время от времени… Милое дело! Так многие господа живут…»
Однажды во время очередного свидания Люда рассказала ему, что была у отца, и тот показал ей своё завещание. Со смехом упомянула, что отец её, оказывается, «декабрист». Замок тайника, где хранил Лаврович своё богатство, имел код – дату восстания декабристов. Этот разговор гвоздём засел в голове Анатоля. Женись он на Люде, и всё богатство её отца перешло бы к нему. Вот, она, мечта! Вдобавок, если поспешить со свадьбой, то приданным можно было бы покрыть и самый главный долг – карточный – и не бояться больше за свою жизнь. Но… Не мог Анатоль представить Людмилу своей женой, не мог отказаться от соблазна жениться на знатной красавице и умнице Зиночке.
Между тем, срок, данный хозяином «мельницы» на расплату, стремительно подходил к концу. Нужно было что-то предпринимать. Скрепя сердце, а, точнее, приглушив гордость, Анатоль решил отправиться к Лавровичу просить руки его дочери и теперь же под эту музыку «выцыганить» из будущего тестя деньги на оплату долга.
Анатоль шёл к Михаилу Осиповичу в мрачных раздумьях. У дома ростовщика он столкнулся с долговязым бледным человеком, с глубоко посаженными глазами и руками, отчего-то дрожащими. Человек явно куда-то спешил и нервничал, но Анатоль не обратил на него особенного внимания. К Лавровичу он поднялся, как обычно, с чёрного хода. Дверь в квартиру была не заперта. Анатоль вошёл и увидел лежавший на полке в прихожей пистолет.
Уже почувствовав неладное, он на цыпочках вошёл в комнату и увидел лежавшего на полу в луже крови ростовщика. Анатоль подошёл к нему и понял, что Лаврович мёртв. Внимание его привлекли часы-бригет, выпавшие из кармана убитого. Золотые. С брильянтом. Анатоль машинально сунул их в карман. И тут в ушах прозвенел смеющийся голос Люды: «Папенька «декабрист», оказывается…» Тайник в кабинете. Дата восстания декабристов. Задохнувшись от внезапной мысли, Анатоль бросился в кабинет Лавровича. Там он бывал довольно часто и приблизительно знал, где находится тайник. Дрожащими руками Анатоль открыл створки бюро и вскоре нашёл, что искал. Код оказался точным… Никогда ещё он не видел столько денег и ценных бумаг разом. Едва помня себя, Анатоль начал сгребать их и прятать за пазуху, в карманы, куда только мог. После этого он опрометью выбежал из квартиры…
Анатоль бежал по улице, боясь оглянуться. Ему казалось, что кто-то непременно увидел его и гонится за ним. Сердце колотилось где-то в горле.
Лишь оказавшись у себя на квартире (по счастью, удалось избежать встречи с хозяйкой) и заперев дверь, Анатоль перевёл дух и несколько успокоился. Вначале он пересчитал деньги и спрятал их в щель между чуланом и стеной. Потом перебрал ценные бумаги, среди которых оказалось и завещание Лавровича. Оно должно было достаться Люде, но теперь уже ничего нельзя было поделать. Решись Анатоль отправить документ ей, и она бы сразу поняла, кто ограбил её отца… Завещание было сожжено тут же в камине. Золотые часы оказались с монограммой. Оставлять их у себя было опасно, и Анатоль решил отдать их вместе с нужной суммой денег в счёт процента за отсрочку хозяину «мельницы».
Ночью Анатоль подивился собственной отваге и тому хладнокровию, с которым рассуждал в течение этого безумного дня. Тут только настиг его парализующий страх перед полицией. Несколько дней он не выходил из квартиры и вздрагивал, едва заслышав шаги на лестнице. По прошествии же оных, Анатоль понял, что его не видели на месте преступления, его не ищут. Жизнь разом предстала ему во всей своей красоте. Теперь у него было всё, чтобы начать жить так, как он всегда мечтал!
Прежде всего, Анатоль рассчитался с похожим на чёрта шулером, затем раздал долги, чем весьма удивил своих кредиторов, и, наконец, отправился делать предложение Зине, которая приняла его с восторгом.
С того времени Анатоль успел уже снять небольшую, но приличную квартиру на Волхонке, куда вознамерился перевезти после свадьбы молодую жену. День свадьбы также уже был назначен. Теперь они шли вместе, и Зина опиралась на его руку, и солнце сияло им, молодым и счастливым.
– Давайте и мы прокатимся, – предложила Зина. – Я помню, в детстве очень любила кататься с гор. Нянька боялась, а потому катал меня один из наших людей, Никита. Ох, и весело же было! А няня сердилась…
Няню Анатоль невзлюбил с первого дня, инстинктивно чувствуя в ней недруга себе, недруга, в чём-то подозревающего и не доверяющего ему. «Старая полудурья…» – нередко шептал он ей вслед так, чтобы никто не слышал. Но теперь, кажется, и она смирилась с неизбежным – его браком с Зиной.
– Конечно, покатаемся, Зизи! – откликнулся Анатоль. – Для чего же мы здесь?
Они поднялись на гору и уселись в сани. Рослый, румяный катальщик улыбнулся:
– Ну, держитесь крепче!
Сани со свистом помчались вниз. Зина закричала от испуга и радости и прижалась к жениху. Когда сани остановились, Анатоль заплатил катальщику и помог Зине спуститься на землю.
– У меня даже голова закружилась… – призналась она.
– А ты держись за меня крепче, – ответил Анатоль.
В этот момент к ним подошли несколько человек, в одном из которых Анатоль узнал ростовщика Бланка, у которого бывал с Михаилом Осиповичем. Бланк кивнул на него и что-то шепнул высокому темноволосому господину. Тот быстрым шагом направился к Анатолю. Господин не успел ещё раскрыть рта, но Анатоль уже понял: это конец.
– Романенко, Василь Васильич. Сыскная полиция. Вы Анатолий Григорьев?
– Я… – беззвучно выдохнул Анатоль.
– Вам придётся пройти с нами. Вы арестованы.
– Что?! – вскрикнула Зина, вцепившись в руку Анатоля. – За что?! Он ни в чём не виноват!
– Сожалею, сударыня, но ничем не могу помочь. Господин Григорьев подозревается в тяжком преступлении. Простите!
– Это недоразумение… – вымолвил Анатоль, целуя Зину. – Не волнуйся… Ступай домой…
– Нет, я поеду с тобой!
– Пожалуйста, не надо! И помни: я люблю тебя… И всё, что я делал, было только ради тебя.
Зина осталась стоять, точно остолбенев, глядя вслед Анатолю, уводимому от неё несколькими полицейскими, переодетыми в штатское платье…
– Этого не может быть, этого не может быть… – повторяла она, и льющиеся из глаз слёзы застывали у неё на щеках, превращаясь на морозе в лёд. А кругом веселились беззаботные и счастливые люди, не могущие в этот момент представить ничего дурного, такие ж счастливые и беззаботные, какой была сама Зина ещё несколько минут назад…
– Барышня, купите тёщин язык! Тёща околела, язык продать велела!
Зина зажала уши и побежала прочь, не замечая ничего вокруг.
***
Николай Степанович Немировский, несмотря на долгие годы работы, до сих пор не утратил юношеского жара к ней. Точно также учащённо билось сердце пожилого следователя, когда удавалось ему напасть на след, когда чувствовал он, что один лишь шаг остался ему до цели, к которой шёл, петляя в лабиринте следствия.
Именно поэтому теперь, на ночь глядя, не в силах дождаться утра, Николай Степанович на лихаче помчался туда, где должен был находиться убийца…
Когда днём в его кабинете приглашаемые свидетели опознавали в Анатоле Григорьеве «Георгия», господина в белом бурнусе, квартиросъёмщика, «Пиковую даму», Немировский уже чувствовал, что перед ним сидит не убийца. Не мог этот жалкий, пустой франт хладнокровно застрелить человека. Приведённый для опознания Рахманов по-волчьи оскалился:
– Будь здоров, лакуза! Господин следователь, неужели вы думаете, что этот червяк убивец? Кишка у него тонка! Чтобы человека укокать, тоже духу хватить должно!
– Тебя не спрашивают! – прервал его Василь Васильич, раздражённо покручивая ус.
– Господин следователь, я требую адвоката! – выдохнул Григорьев.
– Вам предоставят его в ближайшее время. Однако, должен заметить, что отпираться вам будет бесполезно. У вас на квартире найдены несколько облигаций, принадлежавших покойному Лавровичу…
– Я его не убивал.
– Кто же убил?
– Не знаю… Но не я! – вскричал Григорьев, ломая руки. – Когда я пришёл к нему, он уже был мёртв! Понимаете?!
– Допустим. Но чем же вы можете доказать это? Ещё накануне вы утверждали, что вас вовсе не было в тот день на квартире Лавровича. Что вы были в гостях у товарищей… Теперь, когда ваши товарищи отказались подтвердить вашу ложь, вы сочли за благо признаться в ограблении. Как же мне вам верить?
– Но я говорю правду!
– Не единожды солгавшему кто поверит?
– Да, я солгал… Но это же можно понять… Я солгал со страху… – начал оправдываться Григорьев.
– Допустим, – миролюбиво кивнул Немировский. – А Евдокии Васильевне Луцкой и вашей невесте вы лгали тоже от страха?
– Что вы имеете ввиду?
– Ну, как же… Евдокия Васильевна доверяла вам, давала ценные вещи для заклада…
– И я закладывал их! У Лавровича. И приносил ей крупные суммы, на которые она и рассчитывать не могла! Она вам это подтвердит!
– Она уже подтвердила. Но господин Бланк, известный вам ювелир, подтвердил и другое: а именно, что вы за каждую их этих вещей выручали вдвое больше денег, чем отдавали их хозяйке. Куда же девались остальные?
Григорьев ничего не ответил.
– Молчите? Правильно делаете. Вы просто прикарманивали эти деньги самым беспардонным образом. И вы хотите, чтобы я верил человеку, лгавшему собственной невесте, ограбившему её и её мать, пользуясь их доверчивостью и непрактичностью? Согласитесь, было бы странно мне доверять вам в подобной ситуации.
– Я не убивал. И это моё последнее слово. Больше от меня вы ничего не услышите.
– Допустим, что не вы убили. Скажите, вы видели кого-либо в тот день рядом с домом Лавровича?
– Да… Я столкнулся там с чрезвычайно нервным человеком… Он чуть не сбил меня с ног…
– Как он выглядел?
– Высокий, худой… Глаза глубоко очень посаженные. Лицо от этого неприятное…
– Каков мерзавец! – произнёс Василь Васильич, когда подследственного увели. – Сколько денег он выудил у этой несчастной барыни, матери своей невесты… Уже за одно это следовало бы отправить его для поправки здоровья по Владимирке.
– Луцкая отказалась писать на него заявление. И свидетельствовать против него на суде тоже отказалась.
– Почему? Неужели жаль несостоявшегося зятя?
– Полагаю, дело не в нём. Она не хочет трепать своё имя, остатки фамильной чести. Гордая и благородная женщина.
– Я думаю, Николай Степанович, что подлец, способный так беззастенчиво обманывать и грабить, при случае может и убить. Тем более, положение его в тот момент было аховым. Его собственной жизни угрожал Рахманов.
– Всё возможно. Но меня смущает та хладнокровность и точность, с которой были произведены выстрелы. Последний, особенно. Убийца точно знал, куда стрелять. Он пришёл туда не грабить, но именно убивать. Вот, что меня смущает, – признался Немировский.
– Вы, по-моему, усложняете дело… – покачал головой Романенко.
– Всякое может быть… – задумчиво произнёс Николай Степанович. – Но не вяжется у меня образ этого типа с хладнокровным убийцей.
– Вы роман господина Достоевского читали? Где студент старушку топором «приласкал»? Тоже ничуть не походил на убийцу. Интеллигентный такой студентик…
– Вот, если бы Григорьев был «интеллигентным студентиком», у меня было бы меньше сомнений. Но мы имеем дело не с идейным убийством. А с вполне бытовым. И наш подозреваемый чужд всякой идейности. Он слишком примитивен и ничтожен…
– Так что же, вы думаете, убийца не он? – нахмурился Василь Васильич.
Немировский пожал плечами.
Вечером за чаем он рассказывал об итогах допроса Анне Степановне и Вигелю, впервые поднявшемуся с постели после ранения.
– Какие люди странные пошли… Заблуждённые они, замороченные… – качала головой Кумарина.
Пётр Андреевич слушал, как завороженный. Когда же Немировский упомянул человека, с которым Григорьев якобы столкнулся у дома ростовщика, он вздрогнул и потёр рукой лоб.
– Что с вами, счастье моё миндальное? Дурно вам? – забеспокоилась Анна Степановна.
– Нет-нет-нет, всё хорошо… Просто описание этого человека… Мне кажется, я его видел…
– Видели? – насторожился Николай Степанович. – Подумайте, Пётр Андреич. Это может быть очень важно!
– Я думаю, думаю… Высокий, худой, глаза… – Вигель закусил губу и покачнулся. На щеках его выступил лихорадочный румянец.
– Господи, да вас же лихорадит! – сплеснула руками Кумарина. – Я немедля же пошлю Соню за доктором…
–Что вы сказали? – резко обернулся к ней Пётр Андреевич.
– Я сказала, что пошлю Соню за доктором…
– Вспомнил! – воскликнул Вигель. – Доктор! Ну, конечно же, доктор! Он же ещё тогда мне слишком взволнованным показался…
– Пётр Андреич, голубчик, о каком докторе вы говорите? – спросил Немировский.
– Доктор, который осматривал тело Лавровича после убийства! Он живёт где-то неподалёку… Его фамилия Жуховцев!
– Вы уверены?
– Совершенно! У меня ведь на внешность память двойная: сыщицкая и художническая.
– Вам бы лечь, Пётр Андреич… – сказала Анна Степановна.
– Вам теперь, правда, лучше прилечь, – кивнул Немировский, поднимаясь из-за стола. – А я поеду к вашему доктору…
– Как же вы найдёте его? – спросил Вигель.
– Разбужу квартального надзирателя. Как его бишь? Кулебяка? Вот, его, родимого, разбужу, если он уж спит. А он мне и покажет дорогу.
– НикОлинька, друг сердечный, да ты в уме ли? Ночь на дворе. Утром поедешь! – попыталась Кумарина удержать брата.
Но Николай Степанович ласково пожал руку сестры и остался непреклонным:
– Нет, Аня, я должен ехать. Иначе всю ночь покоя мне не будет! Я себя знаю.
– Сумасшедший!
– А ты не жди меня! Ложись спать! Я, может быть, и вовсе сегодня не возвращусь: уж как дела пойдут. Спокойной ночи! – Немировский поцеловал Кумарину и скрылся в своём кабинете.
– Можно подумать, что я смогу спать, зная, что ты неизвестно где ловишь какого-то убийцу… Можно подумать, что для этого нет полицейских! – Анна Степановна развела руками и повернулась к Вигелю. – Вы это видели? С ума я сойду с вами, честное слово…
Квартальный надзиратель Кулебяка вопреки опасениям не спал, а ужинал в кругу своей большой семьи, насчитывающей двенадцать человек, и был «весьма фраппирован», когда в столь поздний час к нему явился собственной персоной следователь Немировский. Узнав суть дела, Иван Мефодьевич незамедлительно облачился в мундир и поехал вместе с Николаем Степановичем на квартиру доктора Жуховцева.
– Буде признаться, ваше превосходительство, мне весьма трудно поверить, чтобы такой человек, как доктор Жуховцев, совершил такое дело, – говорил дорогой Кулебяка.
– Вы хорошо знаете его?
– Я в своём квартале-с всех, буде, добре знаю, – ответил Иван Мефодьевич. – Я ведь тут уж десять лет надзираю-с…
– Что вы знаете о Жуховцеве?
– Иван Аркадьевич – очень хороший врач. Он и меня не раз лечил, и жену, и ребятишек наших. И берёт он по-божески, не перегибая-с. Правда, буде сказать, он хотя и русский, а на русского вовсе не похож.
– Отчего же?
– На немца скорее-с. Педантичен. Аккуратен. Расчётлив. В Бога не верует-с… Мы с ним раз даже на этом предмете едва не рассорились. «В храмах у вас, – говорит, – гигиены никакой нет. Всякий бродяга с гниющим ртом к святыне приложится, а после него другие. Вот, и распространяются всяческие болезни нам, врачам, на беду». Уж я на него, буде, осерчал! Ведь святое ж хулит, ваше превосходительство! «Религия, – говорит, – невежество есть и атавизм». И повторять-то противно, ей-Богу! Но, если того не считать, так человек положительный. Лишнего никогда не возьмёт-с. Бедных порой и вовсе даром лечил… Вот, буде странная вещь, в Бога не верил, а поступал по-божески… Но строг был, строг… Особенно всякого порока не любил. Не извинял. Он, буде, сам убеждённый трезвенник и аскет, так на других, кто возлияниям подвержен был, весьма дурно-с смотрел. У нас ещё другой доктор был. Гринёв. Симпатичный человек, но пьяница. Жуховцев с ним при встрече даже не здоровался. Тот в Бога веровал-с… Да, вот, беда приключилась: оперировал с похмелья, руки дрожали… И сами понимаете…
– Неужто насмерть зарезал?
– Точно так-с. С тех пор Жуховцев у нас один на весь квартал. Есть ещё фельдшер и акушерка. Но это не то. Иван Аркадьевич моралист ужасный, очень образован, философов разных читал-с… Как начнёт говорить, так Златоуст! Языком на гуслях играет! И не согласен с ним, а не поспоришь. Правда, говорил он редко. Буде молчалив и необщителен. Он, кажется, ни с кем и в друзьях-то не состоял. Жёсткий человек. Никогда ни шутки никакой не пустит, ни за столом не посидит. Мрачен, нелюдим…
– Что же, один он живёт? – спросил Немировский.
– Никак нет-с, ваше превосходительство. Жена имеется. Очень скромная женщина. И тоже крайне необщительная. Мужнина жена. Её я редко видел… Кстати, мы уж приехали. Вот, дом его. Он квартирует во втором этаже-с.
Николай Степанович поднял глаза. В одном из окон нужной квартиры слабо горел свет.
– Что ж, кажется, мы никого не разбудим, – заметил следователь, направляясь к дому.
Легко поднявшись по тёмной лестнице, Немировский знаком велел Кулебяке позвонить в квартиру. Дверь открыла женщина, лицо которой в темноте нельзя было разглядеть.
– Здравствуйте, Ирина Фёдоровна, – начал Кулебяка. – Прошу простить за столь поздний визит… Нам нужен Иван Аркадьевич.
– Что, кто-то захворал?
– Слава Богу, нет… Просто господину следователю нужно кое-что спросить у него по случаю недавнего убийства.
Женщина чуть вздрогнула и опёрлась рукой о дверной косяк.
– Увы, мужа нет дома… Его позвали к больной… – сказала она.
– В таком случае позвольте нам подождать его, – сказал Немировский.
– Подождать? Ах, да… Да… Проходите…
Ирина Фёдоровна провела гостей в тускло освящённую комнату, света в которой, однако, хватило Николаю Степановичу, чтобы, наконец, разглядеть хозяйку. Это была ещё довольно молодая женщина, с длинными русыми волосами, заплетёнными в косу, уложенную вокруг головы, как носят в Малороссии. На правой щеке её темнела крупная родинка. От внимательного взгляда следователя не укрылось и лиловое пятно, по-видимому, синяк, на шее Ирины Фёдоровны.
– Что у вас на шее? – тихо спросил Немировский.
Ирина Фёдоровна нервно обернула шею шалью:
– Ничего… Пустяки…
– Муж наказывает за измену?
– Как вы смеете, господин следователь!
– Вас видели в доме Олсуфьева, госпожа Жуховцева. У вас тогда улетела шляпка, помните? Швейцар и ещё одна дама хорошо вас запомнили… Вас и того, с кем вы были там.
Ирина Фёдоровна бессильно опустилась на кушетку и затравленно посмотрела на Николая Степановича:
– Значит, вы всё знаете?..
– Почти всё. Вы состояли в любовной связи с Лавровичем?
– Да…
– А ваш муж об этом узнал?
– Он выследил меня однажды… Он даже не говорил ничего… Просто бил… Спокойно и методично. У него есть такая тросточка с тяжёлым набалдашником. Ею и бил. Чтобы рук не марать. Он ведь врач… Все болевые точки знает. Знает, как ударить больнее, чтобы при этом не покалечить… Бить он умеет не хуже чем лечить! Это страшный человек… Страшный… – Ирина Фёдоровна заплакала. – Я думала, что он меня убьёт…
– Жаль, что не убил, – раздался резкий голос в дверях.
Немировский и Кулебяка обернулись. В комнату медленно вошёл долговязый человек с тяжёлым взглядом глубоко посаженных глаз, игравший тростью с круглым набалдашником. Ничто не выдавало в нём волнения. Доктор Жуховцев остановился посреди комнаты и усмехнулся:
– Что, арестовывать меня пришли?
– Боюсь, что так, – ответил Николай Степанович.
– Неосмотрительно, господин следователь. Я ведь ещё в прихожей ваши голоса заслышал. Мог и сбежать.
– Почему же не сбежали? Ниже своего достоинства почли? Такие, как вы, Иван Аркадьевич, не бегают.
– Психологией увлекаетесь, господин Немировский?
– Нет, просто очень давно работаю и знаю людей.
– Мне тоже казалось, что я многое знал… Казалось, что жену свою знал. А, вот, поди ж ты! То, что она вам тут сейчас рассказывала, сущая правда. Бил я её почти каждый день с той поры, как узнал. По четверти часа. Для понимания. Этой самой тростью. Избивать жён вусмерть, как многие ревнивцы делают, глупо. Какое же удовольствие от изуродованной и искалеченной побоями жены? А у Ирины Фёдоровны и лицо, и кости – всё целёхонько. Её счастье, что я врач, а не коновал…
– В Лавровича вы стреляли тоже со знанием дела, – заметил Немировский.
– А что ж, мне его тоже тростью учить надо было? Жена-то пригодится, а её любовник мне на что? Я ведь этой твари верил, господин следователь. А она спуталась с этим ростовщичешкой!
– Как вы его убили?
– Если честно, я собирался его убить иначе… Я ведь врач. А он был одним из моих пациентов. Сердчишко у него пошаливало… Нужно было только подмешать кое-что в порошок, и конец! Я для того и пришёл к нему в то утро. Но попался мне на глаза этот проклятый пистолет… Не удержался! Очень захотелось посмотреть, как этот подлец умирать будет. Ничего дурного с моей стороны он, разумеется, не ожидал! Подумать только, смел честно смотреть мне в глаза! Я бы мог убить его первым выстрелом. Сразу. Но мне хотелось продлить это. Мне хотелось увидеть ужас в его глазах! Я насладился этим зрелищем сполна!
– Но руки-то у вас дрожали, когда вы выходили от Лавровича.
– Простительная слабость! В первый раз пришлось делать обратное тому, чему посвятил всю жизнь!
– Ирина Фёдоровна, вы знали, что Лавровича убил ваш муж?
– Знала. Он сам и рассказал мне всё. И не так, как вам рассказывает. В подробностях. Ни одной детали не забыл. Чтобы помучить меня. Со страстью рассказывал… Смеялся и рассказывал. Разве вы не видите, господин следователь, что он не в своём уме?!
– Почему вы не пришли в полицию?
– Я его боялась… Он сказал, что если кому-то что-то скажу, то он меня убьёт. Причём убьёт медленно. Так, чтобы почувствовала…
Кулебяка утёр платком блестящую лысину, ошарашено переводя взгляд с плачущей Ирины Фёдоровны на невозмутимого её супруга.
Николай Степанович поднялся:
– Вам обоим придётся проехать с нами.
– Обоим? – усмехнулся Жуховцев. – Ну, нет, эту честь я целиком предоставляю Ирине Фёдоровне! – он резко поднёс руку ко рту и, прежде чем к нему подскочил квартальный надзиратель, проглотил что-то и, медленно осев на пол, прошептал: – Конец…
Ирина Фёдоровна дико закричала. Кулебяка повернулся к Немировскому.
– Оставьте его, – тихо сказал Николай Степанович. – Это яд. Мы с вами здесь уже бессильны. А вам, сударыня, – обратился он к Ирине Фёдоровне, – если не хотите нести ответственность за косвенное соучастие в преступлении путём покрывания преступника, придётся написать подробные и правдивые показания обо всём произошедшем.
– Я всё напишу… – ответила вдова. – Всю правду… Только как же мне теперь с этой правдой на свете жить?..
Немировский переглянулся с Кулебякой и промолчал. Квартальный надзиратель перекрестился:
– Святые угодники, вот так история… Спаси и сохрани нас, Царица Небесная!
***
В эту тёмную каморку никогда не проникал солнечный свет, но менее всего Зине хотелось теперь видеть свет. Она лежала ничком на постели, укрыв голову руками и зажмурив глаза. Плакать уже не было сил, все слёзы были выплаканы за последние дни, и Зина лежала теперь почти без чувств.
В тот навсегда проклятый день она бродила по улице, почти обезумевшая от горя. Дважды чуть не сбил её лихач-извозчик, но Зина будто бы и не заметила этого. Внезапно к ней подошли двое подвыпивших гуляк:
– Гуляете, барышня?
– А хотите, мы вас проводим?
Зина ничего не ответила и хотела пройти мимо, но двое преградили ей путь.
– Да она ж пьяная!
– Ты где так наклюкалась, милаха?
– Поехали с нами! Повеселимся!
Зина в ужасе отпрянула, но один из нападавших грубо схватил её за руку:
– Пойдём с нами, не артачься!
– Пустите меня! Я никуда с вами не поеду! – вскричала девушка, отбиваясь.
Чем бы закончилось это происшествие неизвестно, если бы в этот самый момент не появился, откуда ни возьмись, Никитенко. Слабый, почти прозрачный от худобы, с испуганно расширенными глазами на бледном лице, нелепый в своём пледе, наброшенном поверх пальто, он мог бы показаться в этот момент безумцем, сбежавшим из бедлама. Сергей Никитич закашлялся и сказал:
– Оставьте в покое эту девушку! Вы, господа, ошиблись. Да будет вам известно, что она – благородная девица из древнего рода Луцких. А посему ищите себе других подруг.
– А ты кто таков будешь?
– Я её брат, – холодно ответил Никитенко. – И, если вы не уберётесь, я позову городового, и уж он научит вас вести себя достойным образом!
– Если ты брат, так следил бы, чтобы твоя сестра не шлялась по улице а-ля растрёпэ!
– Я приму ваш совет к сведению.
Когда гуляки ушли, у Зины закружилась голова, и потемнело в глазах. Никитенко подхватил её под руки, чтобы она не упала, и прошептал:
– Держитесь, Зинаида Прокофьевна, умоляю вас, свет мой, держитесь. До дома далеко… Я ведь не рыцарь, и не смогу вас нести на руках… Я сам уж едва на ногах держусь… Я уже два часа ищу вас…
Зина склонила голову ему на плечо и заплакала:
– Нет, вы рыцарь… Вы… Ах, Боже мой, как я несчастна!
– Не плачьте, Зинаида Прокофьевна, ради Бога, не плачьте. Мне ваши слёзы видеть невыносимо…
– Сергей Никитич, неужели я теперь похожа на… на такую, за кого меня они приняли?
– Они пьяны были! А у вас горячка… Вы горите вся, Зинаида Прокофьевна! Прислонитесь к стене, а я остановлю извозчика…
О том, как ехали они домой, Зина почти ничего не помнила. Лишь смутно вставали в памяти причитания няни и матери, а больше ничего… Она не смогла даже связно рассказать, что произошло, оставив всех в страхе и недоумении.
Впрочем, недоумение рассеялось уже на другое утро, когда в дом явился пожилой следователь с вкрадчивыми интонациями и сочувственным взглядом. Он и рассказал всё об Анатоле. Говорить с ним Зина не смогла. Евдокия же Васильевна, преодолев себя, ответила на все вопросы, сохраняя достоинство и не показывая глубины своего отчаяния. Когда же следователь ушёл, старая барыня вымолвила только:
– Как же он мог? Какое ужасное, невероятное предательство… – и лишилась чувств.
Опасались удара, но его, по счастью, не случилось, хотя горькое известие и уложило Евдокию Васильевну в постель. Нина Марковна не отходила от своей госпожи, рассказывая ей разные занимательные истории, отпаивая травничком, какой она одна умела готовить по старинным рецептам.
Зина же не находила себе места. Что-то оборвалось в её душе, надломилось. Она осунулась и побледнела, почти не говорила и бродила по дому, как тень, доводя до слёз Нину Марковну, заботы которой отвергала чуть ли не с истерикой. После очередной попытки няни утешить её, Зина заткнула уши и убежала в чулан, занимаемый Никитенко, где заперлась на задвижку.
– Царевнушка моя распрекрасная, дитятко ненаглядное, – рыдала за дверью Нина Марковна, – открой, пожалуйста! Господи, да за что ж наказание такое?
Но Зина не откликалась. Ей хотелось ничего не знать, не видеть, не слышать, не чувствовать. Не дышать. Не быть. Не жить. Чтобы остановилось раз и навсегда сердце, и исчезла эта невыносимая боль в нём.
Сквозь туман в голове Зина расслышала осторожный стук в дверь и негромкий голос Никитенко:
– Зинаида Прокофьевна, откройте, пожалуйста. Мне необходимо кое-что взять в комнате… Я возьму и уйду, коли вы прикажите…
Зина поднялась, подошла, шатаясь, к двери и отодвинула задвижку. Никитенко осторожно вошёл в комнату и начал что-то искать у себя на столе. Взяв какую-то книгу, он спросил:
– Мне уйти, Зинаида Прокофьевна?
– Нет… Останьтесь, – ответила Зина. – Я ведь ещё вас не поблагодарила за то, что вы меня спасли…
– Право, за это и не нужно благодарить…
– Как вы нашли меня, Сергей Никитич?
– С величайшим трудом, признаюсь. Когда вы не возвратились к обеду, мы начали беспокоиться… И я решил пойти вас искать…
– Безумец… В такой мороз! Без шубы! Вы ведь простудиться могли…
– Я об этом не думал тогда… Не думал и не простудился. Я только запыхался очень, пока по улицам бегал. Аж в глазах потемнело… И жарко было даже…
– Не думал… А о чём же вы думали, миленький?
– Я о вас думал, Зинаида Прокофьевна. Я уже давно не могу ни о чём и ни о ком другом думать, кроме как о вас… Я живу и дышу лишь вами, свет мой, а потому не могу видеть вас такой, какая вы теперь. Мне умереть легче было бы, чем вас такой видеть…
– Постойте, Сергей Никитич, а как же ваша таинственная дама?
– Так ведь это вы и есть, Зинаида Прокофьевна. Никого, кроме вас, я не любил и, видно, не полюблю уже.
– И всё это время молчали? Зачем?
– Да как бы я посмел говорить вам о своей любви?! Ведь я ничто… Я болен. Я не имею права даже любить… И уж, тем более, нельзя, невозможно любить меня… И потом я боялся потерять вашу дружбу, единственную ценность, которая была у меня…
– А теперь не боитесь?
– Боюсь! Но нет у меня сил молчать дольше… Зинаида Прокофьевна, я бы хотел весь мир к вашим ногам бросить, все звёзды подарить вам, потому что ни одна из них с вами не сравнится! Но злая шутка судьбы: даже элементарного не могу я дать вам… Лишь жизнь мою, что едва теплится. И сердце моё, израненное. Сердце мое вам отдано. Оно – ваше. Владейте и распоряжайтесь! Я любой приказ ваш выполню. Скажите идти с вами в народ – пойду. Скажите остаться подле вас – останусь. Скажите уйти от вас прочь навсегда – покорюсь и тому.
– Простите меня, Сергей Никитич…
– За что?
– За то, что я, сама того не ведая, вас мучила столько времени… Вы и няня сразу не приняли его… «Лицом бел, а душой черен…» Милая, старая няня… Вы можете быть рады: вы оказались умнее нас с матушкой…
– Как вам не совестно говорить такое, Зинаида Прокофьевна? – покачал головой Никитенко. – Неужели я могу радоваться, когда вы несчастливы?
– Простите. Я не в себе нынче… Ах, Сергей Никитич, Сергей Никитич… Мне ведь один конец теперь: в монастырь. Или в воду! – Зина нервно рассмеялась. – Я старая дева… Ни приданного нет, ничего… Кому я нужна такая? Никто меня теперь в жёны не возьмёт. Разве что в содержанки. Для увеселения! Кончено, всё кончено… Лучше б меня давеча лихач какой задавил… Муки и сраму меньше бы было!
Никитенко измученно взглянул на Зину:
– Зачем вы всё это говорите? Я взял бы вас в жёны даже, если б вы нищая и босая по улице ходили… Да только вы не пойдёте за меня, чахоточного бездомовника, у которого даже шубы нет, кормящегося от милости вашей же матушки… И правильно сделаете! Я вам не пара…
Зина подошла к Никитенко и погладила его по плечу:
– Зачем вы себя так унижаете? Ведь у вас сердце золотое… Мне кажется, я бы даже могла вас полюбить…
– Молчите, Зинаида Прокофьевна! Не сводите меня с ума! Пощадите!
– Вы сказали сейчас, что, коли я прикажу вам, так и в народ со мной пойдёте?
– Хоть в самый ад, свет мой.
– Значит, так тому и быть, – решительно произнесла Зина. – Как придёт весна, так соберём мы с вами книги да пожитки наши и отправимся по деревням народ просвещать… Может, в школе какой сельской детишек обучать станем… Ведь разве же плохо? Вы бы чудо как хорошо детишек учить смогли… У вас дар есть… И будем всегда вместе!.. Только бы скорее весна уже… Потому что теперь ехать нельзя… Потому что у вас шубы нет… А надо уезжать! Отсюда! Навсегда! Из Москвы, из этой жизни, где всё насквозь ложь! Ведь, Господи, какая из меня барышня?! Ведь мы нищие… А, значит, и жить нужно соответственно, иначе жить… Матушка этого никогда не примет. Она всю жизнь так прожила… Она никогда не смирится… И будет требовать соблюдения в нашем доме старых порядков… А для чего, скажите?! Нет больше этих порядков… Нет Луцких… Бежать надо, бежать… Разорвать всё и начать сначала, новую жизнь начать… А вы мне в этом поможете! Ведь поможете? Правда?
Никитенко обнял плачущую Зину, стараясь унять бивший его озноб, и ответил:
– Конечно, Зинаида Прокофьевна. Я всё, что смогу, для вас сделаю. На что только сил хватит. Не плачьте, пожалуйста. Время ведь очень быстро летит… Не успеете оглянуться, и весна уж… И мы сбежим с вами, уедем в какую-нибудь глухомань… Проживём! Ведь сказано же в Писании: Господь цветы одевает и птиц небесных кормит, нешто же человека нагим и голодным оставит? По всей России странные люди ходят, людским сердоболием живы… А мы с вами грамоте да наукам разным учить будем. Глядишь, голодными не останемся. Мы, конечно, бедны будем, но ведь это ничего… Главное, что вместе… А я вас никогда не оставлю, если только вы меня не прогоните от себя…
– Не прогоню, – отозвалась Зина. – Вы для меня самый близкий, самый родной человек теперь. А его я забуду. Совсем забуду, поверьте… Я научусь жить просто… Я смогу… Ведь правда, смогу?
– Конечно, правда.
– Сергей Никитич, только нужно совсем-совсем с прежней жизнью порвать… Чтобы ни следа не осталось… Это дурно будет, если я Луцкой зваться буду… Луцкая – фамилия обязывает. С такой фамилией просто и бедно нельзя жить… Сергей Никитич, можно я вашу фамилию возьму? Никитенко? Буду Зинаидой Никитенко… Вы не против?
– Я только счастлив буду. Моя фамилия – фамилия честная. Вы можете взять её, не стыдясь.
– Вот, видите, а вы говорили, что дать вам мне нечего… А сами всего себя мне отдали… И взамен ничего не попросили… А он бы так не смог… Потому что всё в нём ложь… Всё ложь… Вся моя жизнь прежняя – ложь… Но теперь всё иначе будет, миленький… И вам я никогда лгать не стану. Как перед Богом…
Никитенко ничего не ответил Зине, а лишь крепче прижал её к себе и по-братски поцеловал в голову. По лицу его градом текли слёзы, но Зина не видела их, и он был рад тому. Никитенко не знал, сколько осталось ему жить на свете, не знал, насколько хватит его тлеющих с каждым днём сил, а знал лишь одно: он любит эту самую прекрасную во всём мире девушку, он нужен ей, и для неё он должен жить, быть сильным, и для неё он сделает всё, даже невозможное, и уже сам этот обретённый смысл его ранее бессмысленной жизни придаст ему сил жить, заставит быть выносливым и сильным…
Эпилог
…Вначале из дома выносили вещи, грузили их в просторные телеги и увозили. Фортепиано, книги, чемоданы… Мебель вывозить не стали. Распродали за символические деньги. Затем в карету сели смеющиеся девочки. И, наконец, появились они: теперь уже муж и жена, Ольга Романовна и Сергей Сергеевич Тягаевы. Их провожал хозяин дома, живой и говорливый старик. Остановившись вместе с Сергеем Сергеевичем у кареты, он принялся что-то рассказывать ему. Ольга остановилась напротив дома, бросила на него последний прощальный взгляд. В этот момент глаза её встретились с другими, неотрывно смотревшими на неё из окна второго этажа. Ольга утёрла платком выступившие слёзы. Подошедший Сергей Сергеевич подал ей руку и помог сесть в экипаж, затем сел и сам, захлопнул дверцу. Карета тронулась. Хозяин долго кланялся вслед…
Вигель медленно отошёл от окна и остановился перед стоявшим у стены портретом Ольги.
– Вот так, Ольга Романовна, – вздохнул он. – У вас своя дорога, а у меня – своя… А вы навсегда останетесь со мною. Хотя бы на портрете…
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим…
Дай вам Бог, Ольга Романовна, быть столь же любимой вашим супругом, сколь любимы вы мною даже сейчас…
Пётр Андреевич уже совсем оправился от своего ранения, хотя в сырую погоду плечо начинало ломить, и уже через несколько дней готовился вернуться на службу, по которой сильно скучал всё время вынужденного бездействия.
День выдался на редкость погожим, и Вигель решил прогуляться по любимым местам, где не был уже дольше месяца. В книжных рядах проплутал он около двух часов, придирчиво рассматривая появившиеся новые книги, выискивая и выбирая наиболее ценные и интересные.
– Барин, видать, знает толк в книгах, – кивали головой торговцы, показывая свой товар.
«Барин» улыбался и откладывал наиболее интересные экземпляры. Прогулка по книжным рядам была для Петра Андреевича лучшей терапией, к которой прибегал он всегда в тяжёлые моменты своей жизни.
– Барин, погодите! Есть для вас книжица! Старинная ещё…
И Вигель листал пожелтевшие страницы старинной книги, любуясь красотой букв, разбирая древний текст. Отдав торговцу деньги и сунув бережно завёрнутую покупку под мышку, Пётр Андреевич направился в Черкасский переулок в знаменитый трактир Арсентьича, где заказал щи с головизной, ветчину и вино от Депре.
– Только уж изволь с орлом, а не с вороной! – насмешливо заметил он половому, намекая на поддельное вино, которое в отличие от настоящего имело на этикетке ворону вместо орла.
– Обижаете, барин! У нас такого не держат-с!
– Шучу я, братец… – махнул рукой Вигель.
Ожидая обеда, Пётр Андреевич начал набрасывать в блокноте портреты сидящих поблизости людей, отмечая с неудовольствием, что рука от подобной работы совсем отвыкла. Закончив, он пролистал предыдущие страницы, на одной из которых обнаружил набросок портрета княжны Омар-бек. Вигель невольно залюбовался им. Внезапно кто-то тактично кашлянул рядом. Пётр Андреевич обернулся. Над ним склонился пожилой купец.
– Эк вы её похоже изобразили! – восхищённо сказал он. – Ай да ну! Как живая, ей-Богу! Красавица была!
– Вы знаете её? – удивился Вигель.
– Как же не знать? Певица кабаре-каскад! Жемчужина Персии! В «Саратове» шансоньеточкой работала… Ох, и хороша была! Жаль, потом пропала куда-то… А вы где это поличье-то рисовали?
– Да так… Случайно набросал… Я ведь даже не знал, кто она. Просто лицо показалось интересным, – соврал Пётр Андреевич.
– Очень интересное, правда, – кивнул купец. – Ну, простите, что отвлёк вас. Прощевайте! Доброго вам здоровья!
– И вам не хворать.
Купец отошёл, а подоспевшие половые принялись проворно накрывать на стол:
– Угощайтесь, ваше благородие! Всё в лучшем виде-с! Ветчинка свежайшая! Не желаете ли белужки ещё? Недавно доставлена-с!
– Всё может быть… Но пока не нужно. Вот, с этим расправлюсь, а там и поглядим.
– Приятного аппетита, ваше благородие!
– Благодарю! – Вигель ещё раз взглянул на портрет Омар-бек. – Рад познакомиться с вами, Жемчужина Персии, самаркандская княжна!
***
Всё время, пока шло следствие, совесть Анатоля упорно хранила молчание. Лишь одно приводило в ужас его: острожный мрак в ближайшем будущем. Страх был столь силён, что не раз приходила в голову мысль о том, что лучше бы и вовсе не жить. Но сводить счёты с жизнью Анатоль не желал. Больше денег, больше славы, больше всего на свете он любил себя, свою жизнь, которая была главной ценностью его. Он пошёл бы на любой обман, любую низость и преступление, лишь бы сохранить себе жизнь.
На допросах Анатоль всячески старался угодить следователю, разжалобить его, но это отчего-то не выходило. Следователь Немировский оказался настоящим сухарём, и любые попытки Анатоля польстить, угодить, надавить на жалость приводили к обратному эффекту. На одном из допросов Немировский не выдержал и выговорил подследственному:
– Запомните, молодой человек, я не ваша квартирная хозяйка, не пожилая барыня и не кисейная девица! Поэтому оставьте вашу театральщину для них! А здесь балаган прошу не устраивать! Ясно вам?
– Ах, господин следователь, за что вы так меня презираете и третируете? Хуже всякого убийцы… Ведь я с вами по душам поговорить хотел… Чтобы вы поняли меня…
– По душам? – приподнял бровь Николай Степанович. – Что ж, извольте по душам. Вы, вот, сказали, что я вас пуще убийцы третирую. На днях передо мною здесь сидел разбойник и убийца, которого, вероятно, к смерти приговорят. И он не лебезил, не вымаливал пощады, не размазывал по лицу слёзы, а обратно: полностью признавал свою вину и принимал возможную высшую меру, как должное и необходимое по отношению к таким, как он. Он, конечно, душегуб и редкий негодяй, но презрения он не заслуживает. Потому что волк, вожак волчьей стаи никогда не призираем, хотя и ненавистен. А вы? Вы ведь и вины за собою никакой не чувствуете. А только боитесь очень. Легко жить вам хотелось, на чужом горбу ездить привыкли, а отвечать – страшно! Хотите от меня сочувствия вашей тяжёлой доле? А в чём она, собственно? В том, что жить, как все, вам не хотелось? Просто и без излишеств? В том, что велики амбиции, да мала амуниция? В том, что ножки по одёжке протягивать не желали? Извините! Этого несчастья я понять не могу! И на меня своих талантов не тратьте. Вашу судьбу не я решать буду, а присяжные. Может, они окажутся людьми более чувствительными и отнесутся к вам с участием!
После этого разговора попытки расположить к себе следователя Анатоль оставил.
За всё время следствия никто не приходил навестить его, кроме адвоката. Ни прежние знакомые, ни Зина – никто не пришёл проведать узника. Но однажды дверь открылась:
– К вам посетитель, Григорьев.
Анатоль приподнялся со скрипящей кровати, наскоро приводя себя в порядок, ожидая увидеть кого-либо из университетских товарищей или Зину. Однако, в камеру вошла черница, в которой Анатоль с изумлением узнал Людмилу.
Некоторое время тянулось молчание. Наконец, черница произнесла:
– Что же мы молчим?.. Свидание ведь всего-навсего пятнадцать минут… Здравствуй, Жорж…
– Меня не Жоржем зовут, Люда, – отозвался Анатоль.
– Я уже знаю… Но я привыкла к Жоржу, поэтому позволь называть тебя так.
– Зачем ты пришла?
– А разве к тебе кто-то ещё приходит?
– Нет. Поэтому и спрашиваю: зачем ты пришла? Я тебя обманул и ограбил. Вдобавок я никогда не любил тебя. Довольна? – лицо Анатоля нервно задёргалось.
– Неужели ты думаешь, что я до сих думаю, что любил? Знаю, что не любил… Да только я-то тебя любила.
– Ты… Это платье… Ты в монастырь подалась? Зачем?
– Один раз обожглась… Больше не хочу. Теперь один у меня жених. Ему и служить буду, как тётка моя покойная служила…
– От меня-то что тебе нужно? – снова спросил Анатоль, стараясь не смотреть в кроткие глаза черницы.
– Жалко мне тебя, вот что… – тихо ответила Люда. – Несчастный ты.
– Это уж точно! Я как представлю себе, как заставят меня обрядиться Бог знает во что, погонят по Владимирской дороге… А там – острог! Ведь это же ужас… Клопы, крысы, грязь, вонь… И всё это… мужворьё! С которым слова сказать нельзя! И которое ещё будет позволять себе на меня же свысока смотреть! Какая мерзость! Я, действительно, очень несчастен теперь, Люда!
Черница вздохнула:
– Ты не потому несчастен, что в острог пойдёшь… Сильному человеку горя в том мало. А ты слабый… А несчастен ты потому, что не любишь никого. Только себя одного. А ведь это так мало… Люби ты других больше, а себя меньше, так и не страдал бы так сейчас. И Бога нет в тебе. Не можешь ты его вместить в себя… А без Бога тяжело. Тем более, в остроге…
– Только не надо мне проповеди читать! Если за этим пришла, то уходи! И нечего смотреть на меня! Надо же хоть какую-то гордость иметь! А ты, ты…
– У тебя ли гордости много? Гордыня да тщеславие, да себялюбие, с ума сводящее… У тебя глаза теперь, как у собаки побитой.
– Убирайся к чёрту! – вскрикнул Анатоль. – Я не желаю тебя слушать! Юродивая! Дура!
– Жалко мне тебя… – покачала головой Людмила, кладя на тумбочку небольшой свёрток: – Здесь икона и несколько просвирок. Вразуми и спаси тебя Господь!
Когда черница ушла, Анатоль кинулся на кровать и завыл. Ни отповеди следователя, ни чьи-либо оскорбления, ни молчание знакомых и невесты не могли уязвить его душу так сильно, как кроткий взгляд и жалость обманутой им дочки ростовщика, племянницы праведницы, единственной на всём белом свете любящей его души.
***
Невысокий молодой человек с русой, слегка курчавой бородой, судя по одеянию, купец, комкая в руках шапку, осторожно переступил порог кабинета следователя.
– Прошу меня великодушно извинить, – промолвил он. – Вы следователь Немировский?
– Точно так, – кивнул Николай Степанович. – С кем имею честь?
– Голенищев, Прохор Алексеевич. Купеческий сын. Отец мой сапожным делом в городе Кимры занимается…
– Хорошее дело, – улыбнулся Немировский. – Ваши сапоги на всю Россию славны. Чем могу быть вам полезен?
– Полагаю, что полезен могу быть скорее я вам… У меня есть сведения, которые вас наверняка заинтересуют…
– Слушаю вас внимательно.
– В газете я прочёл о деле некой княжны Омар-бек. И там было указано, что именно вы расследуете его.
– Всё правильно. Вы хотите дать какие-то показания по этому делу?
– Да, – кивнул Прохор.
– В таком случае, присаживайтесь и рассказывайте обстоятельно, – сказал Николай Степанович.
– Да рассказывать особенно нечего, господин Немировский. Просто она никакая не княжна Омар-бек. Её зовут Марина Летунова. Она моя землячка. Мы знакомы с нею с детства… Потом она уехала в Москву и тут стала певицей в одной ресторации… Вот, собственно, и всё.
– Где же вы раньше-то были, Прохор Алексеевич?
– Я в Москву лишь днями по делам прибыл. Прочёл в газете заметку, и что-то подсказало мне, что это она. Понимаете, она всегда персидской княжной называлась. По схожести с той, что Разин утопил… Она страдала очень много от дурных людей, а душа у неё гордая, по истине, княжеская. Год назад сбежала она из комнаты, которую я снял ей, надеясь помочь её бедственному положению. С тех пор я о ней ничего не слышал. А, прочитав о княжне Омар-бек, подумал, что это Марина…
– Почему же вы подумали так?
– Мне кажется, рассудок её давно мутился. Поэтому она и назвала себя так… Она ведь мечтала стать актрисой… Вот, и решила сыграть роль. Её всегда оскорбляла низость своего положения. Марина – женщина необыкновенная…
– И вы что же, прочитав статью, пришли сразу ко мне?
– Что вы, господин Немировский! Я прежде проверил догадку свою… Явился на заседание суда. На днях ведь было предварительное слушание. Открытое. Я и пришёл. И её там видел… – Прохор вздохнул.
– Выходит, эта женщина была крещена в Православии?
– Разумеется. А почему вы спрашиваете?
– Потому что она утверждала себя мусульманкой и в тюрьме крестилась вновь.
– Боже мой, до какого же отчаяния должна была дойти эта несчастная!
– Прохор Алексеевич, я благодарю вас за неоценимую помощь следствию и прошу пока из Москвы не уезжать. Возможно, вам придётся подтвердить ваши показания в суде.
Прохор нахмурился:
– Признаюсь, этого бы мне хотелось меньше всего. Я не хоте бы встречаться с Мариной, свидетельствовать против неё…
– Простите, Прохор Алексеевич, но здесь я ничем не могу вам помочь. Я в суде выступаю лишь в качестве свидетеля и ничего не решаю.
– Я понимаю. Хорошо, я задержусь в Москве до окончания дела… – ответил Прохор. – Прощайте, господин следователь.
– Прощайте, – кивнул Немировский. – Ну-с, вот, и последняя загадка раскрылась, – добавил он, доставая тавлинку. – Дело можно считать закрытым!
Убрав со стола все бумаги, Николай Степанович покинул свой кабинет.
На улице потрескивал лёгкий морозец, но ветер, бушевавший ещё накануне, улёгся, падал редкий снег. Немировский взглянул на небо: безоблачное, оно было усеяно бисером сияющих звёзд. Натянув перчатки, Николай Степанович решил немного прогуляться пешком. Подбежавшая собака закружилась вокруг него, скуля и тычась мордой в его руку.
– А, здравствуй, бродяга! – улыбнулся Немировский. – Что, брат, оголодал? Погоди, сейчас я тебя угощу.
Достав из-за пазухи свёрток, следователь высыпал из него перед оголодавшим псом несколько костей с остатками мяса на них и оставшимися от обеда объедками. Пёс с жадностью набросился на еду, и Николай Степанович продолжил свой путь. Он любил такие вечера, тихие и звёздные, любил чувство удовлетворения, возникавшее всякий раз по окончании сложного и запутанного дела, сознание выполненной безукоризненно работы – и всё это вместе наполняло душу Немировского тихой радостью, простым и безмятежным счастьем.
***
Марина переступила порог комнаты и резко обернулась к привезшему её в её новое жилище адвокату:
– И для чего вы только расстарались и освобождения моего добились? Штраф заплатили? Али денег у вас куры не клюют, Александр Карлович? Ведь я же просила вас забыть меня и оставить!
– Смею заметить, что решение по вашему делу приняли присяжные. И здесь не совсем освобождение. Всё-таки высылка из Москвы под надзор полиции. Продлится она недолго, уверяю вас! Через год я подам ходатайство, чтобы надзор с вас был снят, а там и до возвращения в Москву недалеко… – ответил Гинц.
– Господи, да неужели же вы вовсе ничего так и не поняли?! – воскликнула Марина. – Да лучше бы меня на каторгу отправили! В острог! Я ведь преступница! Да как же вы могли мою невиновность доказывать, когда я имя себе чужое присвоила, когда я крестилась, крещёной будучи, когда я девкой гулящей была?! Видать, правду говорят, что у вашего брата, адвоката, совести меньше, чем в нашей блудной сестре…
– Вы напрасно так строго судите себя, – осторожно заметил Александр Карлович. – Вы просто не в себе были… Разум ваш помутился от горя… У вас жизнь тяжёлая была.
– А у кого она лёгкая-то? – усмехнулась Марина. – И не обманывайте себя. Я в полном рассудке княжною называлась и крещение принимала. О каком помутнении разума вы говорите, если я уже давно любовников своих в шутку якобы просила мне письма писать, как княжне Омар-бек! Проведут они в моих объятиях ночь, встанут подобревшие, а я им тут перо с бумагою: напиши на память, шутки ради! Для них-то смех и шутка, а я эти письма хранила, как сокровище, знала, что однажды воспользуюсь, сыграю главную роль свою, чтобы все меня узнали! И узнали же! Узнали Омар-бек, княжну Самаркандскую! И никто бы не узнал моего нестоящего имени… Один ещё знал… Господин литератор! Но да он не стал бы об меня репутацию марать, а жаль… Уж я б его так замарала, что век бы не отскоблил… Никто не узнал бы, если б не Проша… Ох, не думала я, что именно он-то и выдаст меня. Единственный порядочный из всех! Как же всё это… смешно! Ведь я царицей быть могла! Я на сцене блистать могла! Для меня и суд ваш театром был… Вот, и побыла я примой, побыла царицей… Довольно!
«Да ведь она, чего доброго, сойдёт с ума так же, как моя несчастная мать… – подумал Гинц, вглядываясь в иступлённое, побледневшее лицо Марины. – Но как невероятно хороша…»
– Если б на каторгу, то ещё ничего, – продолжала Марина. – Там – искупление. Там бы я жить смогла… Может, и потом бы жить смогла… А вы меня этого искупления лишили. Зачем? Привезли меня в этот городок, на родную мою Волгу… Да ведь для меня эта жизнь смерти страшнее. Вот, говорите вы, что через год-два разрешат мне вернуться… А для чего?! Опять в кабаках вашего брата тешить?
– Для чего же в кабаках? – отрывисто произнёс Гинц. – Я помог бы вам устроить вашу жизнь…
– Что?! – Марина расхохоталась. – Вы посмотрите на него! Он бы помог мне мою жизнь устроить! Содержанка, что ли, нужна, господин хороший?! Думаете, я за то, что вы меня освободили, буду вам вечно благодарна и покорна? Поразвлечься решили?! А, вот, не бывать тому!
– Я вас не в содержанки взять готов, но и в жёны… – почти неожиданно для самого себя выдохнул Гинц и запнулся.
– Сказал и сам испугался! Меня? В жёны? Да я ведь в рассудке повреждена! Мало ли что ещё выкину! А ну как мужа-то прирежу? Не боишься? А что люди говорить станут? Гулящую девку, преступницу – в жёны! Всю свою клиентуру и важность растеряете, господин адвокат! Уходите-ка лучше подобру-поздорову! А то я, чего доброго, ваше предложение приму и ещё одну жизнь искалечу! А мне не хочется того! У меня к вам ненависти нет! Уходите, не вводите в новый грех! И забудьте меня. Это у вас блажь теперь, наваждение. Забудьте и не поминайте лихом!
Александр Карлович опустил голову:
– Может, и правы вы… Я уйду. Но вы всегда можете рассчитывать на моё участие. Адрес мой в Москве вам известен. Если что-то понадобится вам, напишите… Прощайте!
Гинц уехал, чувствуя себя потрясённым, разобранным, точно какой-то важный фундамент, на котором стоял он всю жизнь, выбило у него из-под ног, точно сама земля покачнулась. Он никак не мог понять, что приключилось с ним, почему эта странная женщина получила такую невероятную власть над ним, никогда и никому не позволявшему даже приблизиться к своей душе. Подавленным и разбитым возвращался непобедимый адвокат в Москву, впервые ощутив непреодолимую тоску и почти страх перед будущим, представлявшимся ему столь же пустым и безотрадным, как все его прежние годы…
Едва экипаж Александра Карловича скрылся, Марина вышла из дома и быстро направилась к видневшемуся вдали берегу Волги. Городок, в котором предстояло ей провести годы ссылки, был мал и непоправимо похож на её родные Кимры. Такие же точно дома, немногочисленные пыльные улицы, неспешные люди, столь не похожие на столичных… Весеннее цветение украшало город, но эта жизнеутверждающая нарядность приводила Марину в холодное бешенство.
То, что всё кончено, она поняла, увидев в зале суда Прохора. И даже отчего-то обрадовалась этому. Присваивания чужого имени и ложного крещения ей не должны были простить… Острога Марина не боялась. Она ждала его, надеясь, что физическая боль, усталость, страдание заглушат жесточайшее пламя, пожиравшее её душу. Но адвокат Гинц употребил весь свой недюжинный талант, чтобы представить свою подзащитную жертвой злой судьбы, несчастливых обстоятельств, среды. Его вдохновенные речи печатали в газетах, и публика с неослабеваемым интересом следила за процессом княжны Омар-бек. А сама самозваная княжна упорно хранила молчание, не пытаясь отрицать своей вины и как-то оправдаться.
К большому неудовольствию прокурора присяжные всё-таки частично вняли пламенным речам Александра Карловича, оказывающим на них почти гипнотическое воздействие, и вместо острога подсудимая получила несколько лет ссылки в глухую провинцию и изрядный штраф, который не замедлил выплатить сам Гинц.
Выйдя на крутой берег Волги, Марина остановилась и перевела дух. Ей вдруг вспомнилась жаркая летняя ночь, крепкие объятия Прохора и его нежный голос, говоривший ей о любви… Вспомнилось ещё и как пела она о Стеньке Разине, и голос её разлетался по всему простору, достигая и другого берега реки… Как же давно уже не пела она! Точно голос задохнулся вместе с душой…
Марина распрямилась и, глубоко вздохнув, затянула:
– Из-за острова на стрежень
На простор речной волны
Выплывают расписные
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись, сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет
Он, веселый и хмельной.
Позади их слышен ропот:
«Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провожжался,
Сам на утро бабой стал!»
Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман,
И он мощную рукою
Обнял персиянки стан.
«Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака!
Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу прими!»
Мощным взмахом поднимает
Он красавицу княжну
И за борт ее бросает
В набежавшую волну.
«Что ж вы, братцы, приуныли?
Эй, ты, Филька, черт, пляши:
Грянем песню удалую
На помин ее души!»
Марина упала на колени и зарыдала:
– Господи, а на помин моей души никто и песни не грянет! Не могу я больше жить так, не могу! Прости мою душу грешную! «Волга, Волга, мать родная, на, красавицу прими!» – она вскочила на ноги и, перекрестившись трижды, бросилась в воду.
И Волга сомкнула хладные воды свои над прекрасной головой самозваной самаркандской княжны, поглотила её без следа, приняла очередной щедрый дар и продолжила свой многовековой неспешный и величавый путь по бескрайнему русскому простору…
Осень 2006

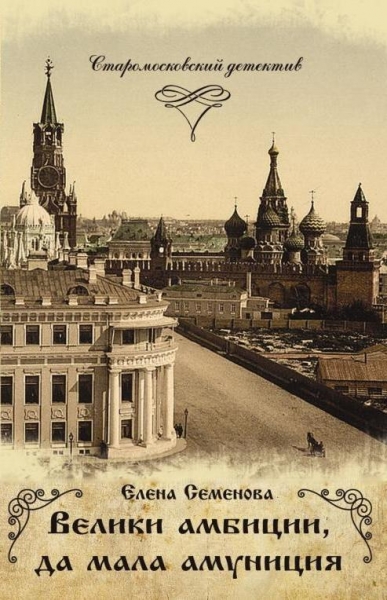


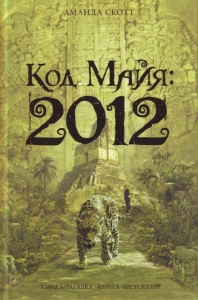
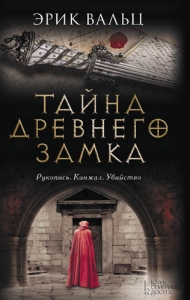
Комментарии к книге «Велики амбиции, да мала амуниция», Елена Владимировна Семёнова
Всего 0 комментариев