МИСТЕРИЯ В ОМНИБУСЕ
Часть I
Вам случалось, вечером, ближе к полуночи, пропускать последний омнибус на линии, которая ведёт прямиком к вашему дому? Если вы не обязаны строго регулировать ваши расходы исходя из вашего скромного бюджета и небольших доходов, то ничто не помешает вам взять фиакр, дабы вскоре оказаться в тёплой постели. Но если, напротив, ваше скромное состояние вам запрещает этот лёгкий экстрим в виде дополнительных расходов на наёмную карету, и вам придётся пешком пересечь весь Париж, барахтаясь в дорожной грязи, иногда под проливным дождём и мокрым снегом, то вы имеете право сто раз по дороге в вашу комнатку недобрым словом помянуть Компанию, эксплуатирующую омнибусы, решившую вдруг предоставить немного отдыха своим лошадям и служащим.
Есть несколько способов пропустить её, эту благословенную карету, главную надежду запоздавших пассажиров.
Когда мы нетерпеливо и смиренно ожидаем этот омнибус, и едва завидев его, направляем кучеру умоляющие, но в большинстве своём безуспешные знаки, призывающие остановиться, лишь только потом замечаем написанные прописью белым на голубой основе с красной каймой слова: «Мест нет» или «В Депо», и начинаем закипать гневом… бешенство заливает наши глаза, но, в конце концов, состояние это длится недолго, бешенство уступает место состоянию безнадёжности и обречённости, и уже с добрым сердцем человека, которому походя наплевали на его достоинство, мы продолжаем брести по унылым улицам пожирающего душу ничтожного пешехода огромного города. И в глубине души мы продолжаем смутно надеяться, что по дороге домой̆ нас настигнет ещё один омнибус компании, который мы только что проклинали последними словами, и поддержанные этой иллюзией мы пешком доходим до нашего дома, не слишком замечая усталость, начинающую крепко прихватывать все наши чресла.
Но хуже всего прийти к станции, от которой отправляется последний омнибус, а кассир вам говорит, ехидно улыбаясь уголками глаз, что все билеты проданы и свободных мест нет. Вы начинаете заискивать перед этим служкой, который в этот момент кажется вам посланником божьим, молить его о милости… а может быть найдётся хоть одно местечко… может быть это не последний омнибус и вскоре отправится ещё один?
—
Ни в коем случае, — отвечает насмешливо кассир, — билетов нет, омнибус последний, а пассажиры омнибуса, уже сидящие на своих местах, откровенно посмеиваются вам в лицо, когда вы вежливо спрашиваете их, не видят ли они хоть одного маленького свободного местечка в салоне тёплого омнибуса.
Решение является окончательным. Приговор вынесен, и все ждут его исполнения. Ведь у вас нет никаких других способов передвижения и доставки вашей персоны к вашему дому, кроме ваших собственных ног, и они должны будут донести вас к месту назначения, потому что у вас не осталось ни малейшей надежды поймать по дороге этот треклятый̆ омнибус, к которому вы только что летели со всех ног.
Таким вот образом, однажды поздним вечером этой зимой, без четверти до полуночи, на углу бульвара Сен-Жермен и Рю дю Кардинал-Лемоан, в тот самый момент, когда кондуктор омнибуса, следующего до овощного рынка на площадь Пигаль поднялся на своё место, в салон, запыхавшись, вошла прилично одетая женщина, ещё довольно молодая, насколько можно было судить, несмотря на сумерки и плотную вуаль, скрывавшую её лицо. Она пришла со стороны Ботанического сада, по набережной Санкт-Бернар, и должно быть, бежала к омнибусу достаточно долго, потому что никак не могла восстановить дыхание, и испытывала вследствие этого проблемы с артикуляцией, так как стала запыхавшись в голосе отвечать на вопросы подошедшего к ней работника, ответственного за отправление омнибуса.
—
Все, мадам, омнибус полон, мест нет, и ничего нельзя придумать, — предупредил её вопрос кондуктор, который был в это время занят заполнением путевого листа.
—
Ах! Боже мой,— прошептала она, — мне что, пешком идти на Монмартр! Я никогда не смогу этого сделать.
И в самом деле, в этот час и в это время года, путешествие пешком длиной в четыре-пять километров вполне могло испугать персону, принадлежащую к слабому полу.
Это был сухой холодный вечер, и северный ветер, из Сибири, как говорят парижане, делал его ещё более пронизывающим, пробирающим до костей. Редкие снежинки начинали падать из темноты. Улицы этого квартала были пустынны. Ни одного прохожего на широких тротуарах, ни одного фиакра на горизонте.
Внутри омнибус был, на первый взгляд, заполнен битком, но никто не посмел продемонстрировать свою храбрость и подняться при такой температуре на открытые места на крыше, на империал, где за три су можно было, без всякого сомнения, не только доехать до места назначения, но и непременно поймать простуду и к концу поездки уверенно шмыгать носом.
Женщина подняла глаза на эти места на открытом воздухе, и стало понятно, какое острое желание попасть на этот последний рейс омнибуса владело ею, так как жест отчаяния и возглас, вырвавшийся из её горла, ясно свидетельствовали о том, на сколь она сожалеет, что не в состоянии физически, будучи женщиной, подняться на крышу, несмотря на ветер и мороз.
Затем, прекрасно, по-видимому зная, что это восхождение на империал не позволено дамам и запрещено инструкцией по пользованию омнибусом, она заглянула в длинный салон омнибуса, где не было ни одного свободного места для неё. Без сомнения, в глубине души она до сих пор не отчаялась найти выход из сложившейся ситуации и рассчитывала на то, что ей удастся разжалобить своим положением и видом какого-нибудь галантного кавалера-пассажира, который уступил бы ей своё место.
Это был очень слабый шанс, так как в салоне омнибуса в основном сидели пассажирки, а женщины не охотно расстаются со своими привилегиями, да ещё ради другой женщины, и в особенности, привлекательной.
Тем не менее неожиданное счастье вдруг заинтересовалось судьбой этой женщины.
Господин, сидевший в задней части салона, вскочил со своего места и стал пробираться к выходу.
—
Поднимайтесь в салон, мадам, — сказал он, проворно прыгая на тротуар.
—
О! Месье, вы слишком добры, и я не хочу злоупотреблять вашей любезностью, — воскликнула дама.
—
Ничуть! Абсолютно нет! Не опасайтесь ничего. Я собираюсь пристроиться наверху. Конечно, там не жарко, но у меня дубовая кожа.
—
Месье, я даже не знаю, как я могу вас отблагодарить.
—
Не за что. Не стоит труда.
—
Проходите, мадам, не задерживайте, пожалуйста рейс, — строго сказал служащий компании омнибусов, — мы отправляемся.
Дама была уже одной ногой на ступеньке лестницы, и отнюдь не имела желания задерживать рейс, в чем её только что упрекнули, и не заставляя больше себя упрашивать, она, вместо того, чтобы опереться на руку кондуктора, чтобы подняться в салон, согласилась взять себе в помощники руку, которую ей любезно предложил господин, оказавший ей только что бесценную в этих обстоятельствах услугу, предложив своё место в салоне омнибуса.
Она вложила свою ладонь в его руку, и задержала её там, возможно, на несколько секунд сверх того, что было необходимо comme il faut.
Это было самое большее, что она могла сделать для столь галантного господина в таких обстоятельствах, и в этом контакте не было ничего компрометирующего, так как у них обоих на руках были перчатки, кожаные, подбитые мехом перчатки, толщина которых была подобна защите кирасиров на зимнем переходе.
Господин, который уступил только что даме своё место, был, между тем, ни очень красив, ни очень молод.
На вид ему можно было дать лет сорок и даже больше. Его усы и седоватые бакенбарды были по-военному, очень коротко пострижены. На нем было пальто, которое должно было быть куплено в какой-то дешёвой лавке, берущей заказы на шитье у низшего класса, и широкополая шляпа из твёрдого войлока, неспособная принимать модные формы.
Он, впрочем, имел довольно правильные, как будто вырубленные топором, черты лица.
Этот, возможно, военный в отставке, со значительной ловкостью поднялся на пассажирские места на крыше, на империал, и сел на скамейку у входа, на первом сиденье, рядом с подножкой, которая служит для того, чтобы спускаться вниз.
В то время, когда он располагался там, поднимая воротник своего пальто, дама, которой он так запросто уступил своё место, уже занимала его сиденье в задней части тёплого салона омнибуса, между старухой, покрытой шерстяной накидкой с капюшоном и молодой женщиной, очень просто одетой.
Чуть дальше, у окна, сидела огромных размеров кумушка, с которой, по совести говоря, требовалось бы брать двойную плату за билет, так как она буквально выталкивала с места своего соседа слева.
Напротив сидел мужчина, вернее юноша, стройный смуглый юноша, с яркими блестящими глазами и улыбающимся ртом, головой настоящего художника, но художника приезжего, потому что одежда его не была неряшливой, а вид турбулентным, кой присущ парижской богеме после набега на окрестные забегаловки за пределами кольцевой дороги.
Другие пассажиры полностью соответствовали облику завсегдатаев местного омнибуса: буржуазия, возвращающаяся домой после вечера, проведённого с родственниками, проживающими по другую сторону Парижа, мамаши с детьми в пелёнках, работники мануфактур после вечерней смены, думающие лишь об одном-как бы побыстрее забыться глубоким сном, едва ступив на порог своих лачуг.
Тяжёлый омнибус начал движение, прозвонив серебряным колокольчиком, и кондуктор потребовал денег, после чего пассажиры стали передавать ему монеты из рук в руки.
Смуглый юноша не упустил свой шанс и воспользовавшись этой возможностью, начал рассматривать своих попутчиков.
Он решил, что всего лишь два персонажа достойны его внимания, чтобы задуматься над их поступками и личностями, и одна из них, это та, что располагалась vis-à-vis по отношению к нему.
Он не упустил ничего из небольшой сцены, которая предшествовала отправлению омнибуса, и надо отдать ему должное, он и сам был готов предложить своё место незнакомке, но мужчина в круглой шляпе оказался проворнее. Юноша также не упустил из вида рукопожатия, которым обменялись между собой дама и любезный господин, почивший на лаврах успеха своей акции в ветреном империале. Он сказал себе, что это было, пожалуй, лишь начало приключения, и если он не надеялся увидеть развязку этой истории, то обещал себе, по крайней мере не пропустить инциденты и казусы, которые могли возникнуть во время поездки.
Ему уже казалось, что эти две персоны сей передвижной комедии вполне соответствуют друг другу и на самом деле являются парой, знакомой ранее. Хотя женщина, которая казалось, несколько слишком быстро, чем того требуют приличия, согласилась на предложение незнакомца и стала формально обязанной ему, явно занимала не то же самое положение в обществе, что её рыцарь, хотя бы потому, что её платье было почти элегантно в отличие от костюма её кавалера.
Она, казалось, была хорошо сложена, и её глаза сверкали сквозь вуаль, которую она не удосужилась поднять на свои каштановые волосы.
Этого было более чем достаточно для того, чтобы любой пытливый исследователь более внимательно занялся этой парой, а художник, сидя непосредственно перед этой таинственной личностью, был по природе свой любопытен.
Он разделил своё внимание между завуалированной дамой и молодой девушкой, сидящей рядом с ней, и сумел увидеть под нижней кромкой вуали, прикреплённой к коричневой бархатной шапочке девушки, нижнюю часть её лица, подбородок с ямочкой, и немного крупный рот, но с очень чистой графикой, и бледные щеки… матовой бледности.
—
Черты лица испанки, — говорил себе художник. — Я уверен, что она прелестна. Жаль, что холод помешал ей показать кончик её носа! Сейчас у женщин просто какая-то мания-как только столбик термометра опустится чуть ниже, они начинают скрывать своё лицо, и чтобы встретить красивую мордашку, нужно ждать лета. К тому же, если бы хотя бы было хоть чуть-чуть светлее в этом чёртовом омнибусе… но нет, один из фонарей погашен, и другой тлеет, как бумажный фонарик, в котором закончилось масло. Не видно ни зги. Мы в какой-то пещере на колёсах. Если здесь сейчас совершат преступление, этого никто даже не заметит …»
Продолжая наблюдать, смуглый юноша пришел к выводу, что девушка не должна была быть богатой.
Она была одета, и это в середине января, в короткое манто без рукавов… то, что обычно одевают, отправляясь в гости осенними вечерами, но из столь тонкой чёрной и уже заношенной ткани, что можно было замёрзнуть лишь от одного взгляда на него, платье из альпаги, цвета коринки, которое длительное употребление сделало блестящим и лоснящимся, и она скрывала свои руки в куцей и ощипанной муфте… муфте, которая должно быть была некогда куплена для маленькой девочки в возрасте двенадцати лет.
«Кто она такая? Откуда она пришла? Куда едет? — спрашивал себя молодой человек. — И почему её соседка посматривает на нее украдкой? Она что, знает её? Нет, иначе она бы с ней заговорила.»
Между тем, омнибус наконец-то двинулся вперёд. Он теперь катился по Новому мосту, и кучер, который спешил побыстрее закончить свой трудовой день, бросил своих лошадей крупной рысью на склон, который спускается к набережной Лувра.
Средства передвижения общественного транспорта не подвешены на рессорах также любовно и тщательно, как частные коляски о восьми пружинах, и это поспешное движение имело следствием сильную тряску пассажиров.
Молодую девушку на ухабе бросило со всей силы на соседку, и уцепившись за её руку, она испустила слабый крик, за которым последовал глубокий вздох.
—
Обопритесь на меня, если вы больны, мадемуазель, — громко произнесла дама из под вуали.
Она не ответила, но позволила себе оставить свою голову на плече сочувствующей ей дамы, предложившей ей столь своевременную поддержку.
—
Этой молодой даме кажется стало плохо, — воскликнул смуглолицый юноша. — Надо бы попросить кондуктора остановить омнибус… пойду ка я …
—
О, нет, месье, она спит, — спокойно сказала окутанная вуалью дама.
—
Прошу прощения! Я подумал …
—
Она уже спала, когда толчки её внезапно разбудили. Но она тут же снова заснула. Давайте позволим ей отдыхать.
—
На вас, мадам?! Вы не опасаетесь …
—
Что она меня утомит? О! Ничуть. И она не упадёт, я за это отвечаю, так как я её поддержу, — ответила дама, обвив свою правую руку вокруг спящей девушки.
Смуглый юноша слегка наклонил голову, не настаивая. Он был хорошо воспитан, и решил, что уже и так сделал слишком много, вмешиваясь в то, что его не касается.
—
Что за молодёжь пошла, право неловко и жаль, — пробормотала толстая женщина в шапке. — Что касается меня, то я толкала свою тележку всю ночь, чтобы продать апельсины, и, если бы требовалось, я бы сейчас спокойно поднялась на вершину Монмартра. Ах! Я бы отправилась танцевать в Буль Нуар, а не спала бы, как старушка. Но вернуться в такое время домой к маме, дудки, как бы не так, ни за что! Сейчас уже таких девушек, как в мои годы, больше нет. Не та нынче молодёжь пошла!
И она погрузилась в свои мысли и, по видимому, в воспоминания. Девушка, которую они обсуждали, не двигалась. Плечо соседки было вполне очевидно использовано ею в качестве подушки, и она делала вид, что ничего не слышит, а художник, сидя перед ними, ничего не сказал, хотя у него чесался язык отпустить толстой торговке какой-нибудь язвительный комментарий по поводу словоблудия в отношении его поколения.
Он вновь принялся наблюдать за ними, и почти умилился, видя, как дама в вуали нежно взяла обнажённые бледные руки спящей девушки и поместила их в её узкую муфту, которую бедная девушка подвесила к своей шее, как монахиня ордена францисканцев, на витом шнурочке.
"Мать не будет заботиться о своём ребёнке лучше, чем моя попутчица, — подумал юноша, — а я поначалу принял эту превосходную женщину за искательницу приключений! Почему? Мне это интересно проанализировать… Неужели только потому, что она приняла предложение джентльмена занять его место, и потому что она поблагодарила его, позволив пожать кончики своих пальцев. Но… это был просто жест вежливости, результатом которого для галантного кавалера будет… вполне возможно, в лучшем случае пневмония, потому что наверху в империале в такую погоду есть все возможности для того, чтобы все себе отморозить и заморозить себя до смерти.»
"Мне все равно, по большому счёту, умрёт этот пассажир в империале, или нет, но я бы хотел увидеть всю фигуру девушки, которая спит таким глубоким сном. Внизу её ноги выглядят совершенными. Она, должно быть, не купается в золоте, эта малышка, судя по её одежде, и я уверен, что она охотно согласилась бы позировать мне.
"Если она выйдет на какой-нибудь остановке по пути, я не стану её преследовать, но если она выйдет на конечной и пойдёт к площади Пигаль, я пойду за ней и попробую её уговорить дать мне несколько сеансов.
"Буду надеяться, что она откроет глаза до конца поездки.»
Во время этих лихорадочных размышлений омнибус двигался быстрее поезда, стараясь, кажется, посрамить самые резвые фиакры. Два крупных мощных вороных першерона которые его тащили, обгоняли все кареты и повозки, что попались им на пути. Они разгонялись бы ещё быстрее, если бы время от времени какой-нибудь пассажир не дёргал за шнур с просьбой остановиться, чтобы выйти.
На площади возле биржи произошло большое изменение. Три женщины, сидевшие впереди возле выхода, вышли из омнибуса и их сменила буржуазная семья, отец, мать и маленький мальчик. Но пассажиры в глубине салона не двигались.
Девушка все ещё спала, опираясь на свою милосердную соседку, да и торговка апельсинами, наконец-то, задремала. Других женщин тоже сморил сон, так что после остановки на станции Шатодюн, последней перед конечной, когда упряжка омнибуса, усиленная третьей лошадью, стала взбираться вверх по набережной улицы Мучеников, салон омнибуса походил на дортуар в монастыре.
Массивная карета катила, как корабль, потряхиваемый волнами, нежно убаюкивая своих пассажиров, и постепенно почти все они позволили себе закрыть глаза и задремать.
Лишь один только художник продолжал сидеть, выпрямившись, как истукан, и бодрствовал.
Кондуктор следовал пешком рядом с омнибусом, чтобы размять ноги, а кучер размахивал кнутом, чтобы согреться.
В последней трети подъёма, толстая торговка-сплетница проснулась и сразу же принялась кричать, что хочет сойти.
В этом месте не так легко остановиться, потому что подъем является настолько крутым, что лошади начинали скользить, едва только они прекращали движение. Дамы, которые хотят сойти до достижения верхней части подъёма, должны обращаться за помощью к кондуктору.
Тучная женщина так и сделала, продолжая роптать и бормотать неблагодарные слова в адрес этого прекрасного сотрудника транспортной компании, который не достаточно быстро, по её мнению, попал в её объятия, чтобы вытащить из салона. Она бросилась к выходу, безжалостно давя пальцы своих соседей и, как только она попала на тротуар, немедленно закричала, что сошла слишком рано, и ей нужно ещё подъехать до проспекта Трюден, так как она ночует на шоссе Клинянкур, и ещё сотню других упрёков, которые, однако, никого не разбудили и не взволновали.
Тем не менее, торговка решила, наконец-то, перенести своё тело к пункту назначения пешком, и омнибус продолжил своё восхождение наверх, которое, впрочем, уже подходило к концу.
В это время художника, который постоянно размышлял о двух женщинах, сидящих перед ним, вдруг вывел из задумчивости голос с верхней палубы, с империала… звук трёх ударов каблуком, три последовательных удара, отделённых друг от друга небольшим интервалом, и затем последовал ещё один энергичный удар.
—
Ба! — сказал он про себя, — пассажир на крыше, который умеет так стучать каблуками, должен быть опытным армейским офицером. Такие па делает, обычно, учитель фехтования. Кажется, что он все ещё там. Даже несколько градусов ниже нуля не сумели заставить его покинуть свой пост. Ах! Нет, по видимому он решил, что с него достаточно, так как решил спуститься.
Действительно, сапоги, которые только что произвели такой выразительный стук, появились на подножке наружной лестницы с крыши, за ними последовали ноги, затем туловище и, наконец, мужчина, бросив быстрый взгляд в глубь омнибуса, прыгнул на тротуар. Художник, который наблюдал за его движениями, увидел, как он быстрым шагом скрылся вдали на углу улицы де ла Тур де Оверни.
—
Итак! — думал он, — у этого доброго мужчины, обутого в такие тяжёлые сапоги, совсем нет тех намерений, которые я ему приписывал. Мне казалось, что он будет ждать на выходе даму, которая заняла его место, и попытается заставить её принять вновь его помощь и пожать руку. Вовсе нет. Он спокойно уходит совсем один. Он прав, потому что эта дама кажется совсем не расположенной знакомиться с господами такого типа.
Когда он произносил про себя такую мудрую речь, омнибус достиг точки, где улица Мучеников пересекает две другие улицы, достаточно оживлённые: улицу Лаваль, слева, и Рю Кондорсе, справа.
На этом месте омнибус всегда останавливается для того, чтобы кучер подтянул лошадиную упряжь, а также потому, что в этой точке маршрута частенько бывает, что омнибус опустошается. Пассажиры, и особенно пассажирки, спускаются в массовом порядке.
И в тот вечер все было как обычно. Почти все одновременно встали и сразу же наперегонки направились к выходу.
Исход был настолько массовым, что после него в салоне остался только смуглолицый художник и две женщины, сидящие перед ним.
Тем не менее, та, которая поддерживала спящую, тоже собиралась покинуть омнибус.
—
Месье, — сказала она быстро, — это бедное дитя, которое полагается на меня, чтобы спать столь хорошим сном… я бы корила себя, если бы разбудила её … а мне уже нужно выходить … Я живу здесь недалеко и уже поздно … Могу ли я попросить вас заменить меня, и принять из моих рук обязанности в качестве временного алтаря для этой уставшей девушки?
—
С большим удовольствием, — ответил молодой человек, садясь на место рядом со спящей девушкой, которое только что покинула тучная торговка апельсинами.
—
Подождите немного, прошу вас, — воскликнула милосердная дама, обращаясь к кондуктору омнибуса, который уже собирался подать сигнал отправления.
В то же самое время она приподняла, с бесконечными предосторожностями, голову девушки, которая лежала у нее на плече, и осторожно положила её на плечо темноволосого художника, уже приготовившегося принять её.
Спящая позволяла проделывать с собой эти манипуляции, не подавая никаких признаков жизни, и позволила попасть своему телу и голове буквально в объятия своего нового соседа, который нежно обхватил её за талию.
—
Благодарю вас, месье, — сказала завуалированная дама. — Мне стоило бы труда оставить её одну, но раз вы следуете до конечной остановки, я спокойно могу уйти. Если бы вы могли проводить мадемуазель до двери дома, где она живёт, вы бы, конечно, сделали доброе дело, так как в это время суток этот квартал опасен для молодой одинокой девушки.
И, не дожидаясь ответа своего сменщика на благородном посту доброго самаритянина, она быстро выскользнула из омнибуса, который только что остановился на улице Лаваль. Кондуктор склонился в углу, у входа в карету, возле счётчика, проверяя в мерцающем свете уличных газовых фонарей последние цифры его баланса.
Художник, таким образом, остался один-на-один с красивой спящей девушкой, и никто не мешал ему с присущей ему вкрадчивостью и мягкостью в голосе попросить незнакомку о сессии для создания её портрета, но чтобы сделать это, следовало для начала разбудить её, и он хотел сделать это как можно более нежно.
Юноша тихо прижал девушку к своей груди, надеясь, что, немного приласкав её, ему удастся вывести спящую красавицу из состояния оцепенения.
Он ошибался. Напрасно он задерживал немного больше положенного свою руку на теле этой молодой девушки, как будто невольно касаясь её упругой груди, но будущая модель, которая, по идее, не должна была позволять в отношении себя такие откровенно нескромные объятия, и должна была возмутиться и уйти. Никак не реагировала на такую вольность. Тогда в голову художника пришла идея, что эта умная девушка отнюдь не спала, а лишь прикидывалась спящей, и хотела довести ситуацию до того момента, когда он уже будет обязан ей… и может быть деньгами.
Он был уже опытным парижанином, имел опыт и чутье. Поэтому вряд ли верил в добродетель барышень, которые в одиночестве поднимаются в полночь в омнибус, чтобы отправиться в столь поздний час на Монмартр.
Ему захотелось узнать наконец, без обиняков, чего ему ожидать от этой девушки, и он наклонился немного, чтобы рассмотреть с близкого расстояния лицо этой столь упорно спящей девушки, но единственный фонарь в салоне, который агонизировал с самого начала поездки и в этот момент, наконец, окончательно потух, и интерьер омнибуса погрузился в полную темноту.
Юноша нагнулся, чтобы прикоснуться к лицу девушки, и наконец увидел, что она была бледная, как алебастр, и не было заметно никакого дыхания из её приоткрытого рта.
Художник вытащил одну из её рук, которые до этого оставались в муфте, и обнаружил, что эта рука была ледяной.
—
Она упала в обморок, — прошептал он. — и нуждается в помощи.
И он тут же позвал кондуктора, который ответил равнодушным голосом:
—
Мы уже почти вокзале. Не стоит останавливаться из-за такой малости.
И в самом деле, ведомые кучером, грезящим о тёплой постели и мягкой жёнушке, лошади, мечтающие о стойле и мешке овса, резко прибавили и омнибус в одно мгновение достиг площади Пигаль.
Молодой человек, испугавшись, пытался поднять несчастного ребёнка, который рухнул в его объятия, но она сползала с его рук назад, абсолютно инертная, и только тогда он понял, что жизнь навсегда покинула это бедное тело.
—
Вот мы и прибыли, месье, — сказал кондуктор, который принял их за двух влюблённых. — Очень жаль будить вашу даму. Но мы не следуем дальше. Это конечная. Вы должны спуститься… если только ваша дама не захочет спать в омнибусе.
—
В могиле она будет спать, — закричал ему в ответ смуглый красавец. — Разве вы не видите, что она мертва?
—
Хорошо! Я понимаю, что вы шутите, чтобы развлечься… для собственного удовольствия. Но тогда, правда, вам следует знать, что это не очень удачная шутка. Она не принесёт вам счастья. Никогда нельзя шутить со смертью!
—
Я и не собирался шутить. Я вам ещё раз повторяю, что эта женщина холодна, как мрамор, и что она не дышит. Подойдите ко мне и помогите мне её вытащить из омнибуса. Я не в состоянии это сделать один.
—
Она не должна быть однако, судя по её виду, тяжёлой… Хорошо, если она заболела, я вам помогу, ведь мы не можем оставить её здесь, конечно.
На этом глубокомысленном умозаключении, кондуктор неохотно решил подняться в салон, где смуглый художник делал все возможное, чтобы удержать на руках тело несчастной девушки. Сотрудник транспортной компании также вошёл в омнибус, и втроём им не составило никакого труда вынести это хрупкое тело. Зал ожидания вокзала ещё не был закрыт. Они внесли девушку внутрь и положили её на скамью, после чего молодой человек поднял дрожащей руку вуаль, которая скрывала половину лица мёртвой девушки.
Она была удивительно красива-настоящее лицо Богородицы Рафаэля. В её больших черных глазах больше не было пламени, но они были открыты, и в них застыло выражение невыразимой боли. Она должна была ужасно страдать перед смертью.
—
Это правда, что она выглядит неважно, — пробормотал кондуктор, — Что, она действительно умерла?
—
Да, и прямо во время поездки! И вы этого не заметили? — воскликнул сотрудник транспортной компании, который присоединился к ним в это время.
—
Нет, да и господин, который сидел рядом с ней, ничего не увидел. Она не падала … держалась на сиденье… только не дышала. Это странно… но это так.
—
Внезапный прилив крови, может быть … или что-то сломалось в её груди.
—
Я думаю, что её убили, — сказал смуглый художник.
—
Убили! — машинально повторил кондуктор, — О! Нет, это невозможно, на ней нет ни одной капли крови.
—
И потом, — добавил сотрудник компании, — если бы её кто-то убил в омнибусе, другие пассажиры бы это легко заметили… увидели.
—
Ей от силы восемнадцать лет… Это максимум. В этом возрасте не умирают так внезапно, — сказал молодой человек.
—
Вы доктор?
—
Нет, но …
—
Ну, тогда, вы знаете не больше нашего. И вместо того, чтобы бросаться такими фразами, вы должны пойти позвать полицейских. Мы не можем держать мёртвое тело на вокзале. А вот и полицейские… легки на помине.
Действительно, два стража порядка в это время заворачивали в их сторону с бульвара, двигаясь по тротуару размеренным шагом. Кондуктор позвал их, и они пошли к ним без особой спешки, потому что вряд ли подозревали, что дело того стоило. И когда они увидели, о чем шла речь, это их тоже не сильно взволновало. Они переговорили с кондуктором, и старший из них по званию вполне серьёзно сказал, что такие несчастные случаи здесь не редкость.
—
Но этот месье утверждает, что её убили в омнибусе, — сказал мужчина в фуражке с гербом, на котором была пропечатана большая буква О, заглавная буква названия компании омнибусов.
—
Я ничего не утверждаю, — ответил смуглолицый художник. — Я только сказал, что смерть её выглядит более чем необычно. Я весь рейс сидел перед этой бедной девушкой, и я …
—
Тогда вас завтра вызовут в комиссариат полиции и вы расскажете там все, что вам известно по этому поводу. Назовите мне ваше имя.
—
Поль Амьен. Я художник, и я живу в этом большом доме, который вы можете видеть отсюда.
—
А… это тот, в котором живут только одни художники. Хорошо! Я его знаю.
—
Кроме того, вот моя визитная карточка.
—
Достаточно, месье. Комиссар выслушает вас завтра утром, но вы не вправе оставаться здесь. Мы обязаны закрыть станцию, и мой товарищ должен отправиться в участок, чтобы попросить прислать сюда людей с носилками. К счастью, это будет сделано быстро, поскольку зимой нет времени и возможности сидеть на террасе кафе на площади Пигаль, так что легко найти свободных служащих. Если бы мы оказались в такой ситуации летом, здесь бы уже в дверь ломилась целая толпа народу.
Этот старый солдат говорил так уверенно, что можно было не сомневаться, что у него уже имеется большой опыт подобных трагических событий, и Поль Амьен начал сомневаться в правильности своих собственных оценок.
Идея о том, что было совершено преступление, пришла к нему не понятно почему, и он вынужден был признать, что факты совершенно противоречат его утверждениям.
Тело девушки не имело никакого очевидного повреждения, а во время поездки он не видел ничего, что позволило бы ему предположить, что бедный ребёнок был ранен.
"Решительно, у меня слишком богатое воображение, — сказал он про себя, оставляя пассажирскую станцию, чтобы подчиниться мудрому запрету стража порядка. — Я вижу мистерию, тайну в этой истории, а ведь все могло быть гораздо прозаичней, чем я придумал себе. Какой — нибудь банальный случай, что сотнями происходят ежедневно. У этой девушки вполне могло быть заболевание сердца… разрыв аневризмы, сразивший её, как удар молнией. Это ужасно и несправедливо, что такая нелепая смерть настигла такую прекрасную и молодую девушку, но я ничего не мог поделать, и мне не стоит тратить своё время на безосновательные домыслы. Я должен закончить картину для Художественного Салона, а не тратить свои усилия на бессмысленные размышления. Хватит того, что я сам напросился на допрос к офицеру полиции, которому я не могу сообщить ничего серьёзного, и который, скорее всего, будет смеяться над моими причудливыми идеями, если я вдруг начну ему рассказывать о возможном убийстве, совершенном… Кем, черт возьми?… Этой благородной дамой, которую я заменил на её месте на углу улицы де Лаваль… и как?… без сомнения, своим ядовитым дыханием… абсурд… но жизнь не может погаснуть, как свеча.»
Служащий уже закрывал ставни окон станции, а младший из полицейских побежал искать мужчин, чтобы перенести тело. Другой полицейский встал перед дверьми станции, чтобы не пускать внутрь любопытных, если таковые объявятся. Кондуктор словоохотливо, взахлёб, рассказывал ему, как он первый заметил, что девушка была больна. Кучер остался в своём кресле, с большим трудом сдерживая лошадей, мечтающих о стойле в конюшне с мешком овса.
—
Вы не нуждаетесь больше во мне? — спросил Амьен.
И так как страж порядка жестом показал ему, что нет, он отправился к своему дому, который был неподалёку. Но не успел он сделать и трёх шагов, как вспомнил, что забыл свою трость в омнибусе. Это была трость из ротанга, которую ему привёз его друг, морской офицер, из Китая, и он дорожил ею. Омнибус все ещё не уехал. Юноша поднялся в карету, и поскольку в салоне было темно и не видно ни зги, зажёг спичку, чтобы не заниматься поисками наощупь.
Трость закатилась под сиденья, и, наклонившись, чтобы поднять её, он увидел бумагу, тоже, по-видимому, выпавшую из кармана одного из пассажиров, и лежавшую рядом золотую булавку, которую используют женщины, чтобы зафиксировать свои шляпки на волосах.
—
Посмотрим! — пробормотал он, — Очевидно, что все это потеряла бедняжка, которая сейчас мёртвая лежит на лавке. И она кое-что оставила мне напоследок.
Поль Амьен взял трость, бумагу и булавку, положил палку под мышку, а бумагу и булавку в карман пальто, после чего проворно спустился из омнибуса и ушёл, не оглядываясь назад, из-за страха что полицейский захочет его расспросить по поводу его импровизированного обыска омнибуса.
Теперь он уже не испытывал больше никакого желания рассуждать об обстоятельствах этого печального дела, и пообещал себе, что будет оставаться спокойным и рассудительным, и не говорить ничего лишнего кроме того, что у него будет спрашивать комиссар.
Поль Амьен был талантлив, и у него было множество других милых качеств, но ему немного не хватало устойчивости в идеях. Его воображение очень быстро распалялось, но ещё быстрее охлаждалось. Он бросался очертя голову в самые рискованные проекты, гонялся за химерами почти так же, как дети гоняются за бабочками, пролетающими перед их глазами, но вскоре ему все надоедало, и он снова становился самим собой, начинал думать только о своём искусстве, работе, портретах и немного об удовольствиях, хотя и вёл в целом довольно обычную и даже, как бы это грубо не звучало, прозаичную жизнь.
Таким образом, несмотря на то, что в эту ночь Полю пришлось пережить довольно сильные эмоции, в этот момент, по дороге домой он был уже гораздо спокойнее. Он про себя уже сочинил целый роман о смерти молодой девушки, и сейчас этот роман был в процессе медленного выцветания из его головы, постепенно стирался и улетучивался из его разума.
Больше всего сейчас ему хотелось побыстрее попасть домой, чтобы увидеть свою мастерскую, и он пошёл прямо к дому, когда неожиданно в кафе, которое выдаётся, как мыс, из улиц между Рю Пигаль и Рю Фрошо, он увидел одного из своих друзей, художника, который сидел перед пустым стаканом и кучей подставок, отмечающих количество кружек, уже поглощённых страдающим от жажды посетителем.
Этот друг был единственным живым существом на застеклённой террасе кафе, чего-то вроде стеклянной клетки, где все не только видят, что вы едите и пьёте, но и вы прекрасно видите всех людей, проходящих мимо. Он признал Амьена, и начал сигнализировать ему телеграфными знаками, призывая его зайти к нему внутрь, и Амьен, немного поколебавшись, решил войти, прекрасно понимая, что если он не сделает этого, его товарищ бросится бежать вслед за ним и все закончится объяснениями и коньяком в его мастерской.
Его имя было Верро, этого любителя пива, посредственного художника, но несравненного говоруна, философа-практика, ленивца и сони, занимающегося всем, кроме красок и холста, хотя у него в процессе творчества всегда было не менее трёх или четырёх холстов, причём при всем этом он был самый лучший помощник во всех остальных делах в мире, самый преданный, самый бескорыстный, и кроме того, самый забавный.
Амьен, который никогда не соглашался с его мнением ни по одному вопросу, тем не менее не мог обойтись без его нелепых на первый взгляд размышлений, которые вносили определённое разнообразие в его размеренный образ жизни, и охотно выслушивал его противоречащие здравому смыслу мнения и парадоксальные суждения.
—
Это ты! — воскликнул Верро. — Я бегал в поисках тебя весь вечер… где ты был?
—
В одном приличном районе. Я обедал с одним из моих двоюродных братьев, что живёт на улице Рю Ласепед, — ответил Амьен.
—
А из омнибуса ты выходишь, как мелкий буржуа, вместо того, чтобы, как истинный художник, возвратиться назад пешком, покрывшись прекрасной корочкой из тонкого прозрачного январского льда. Нет, ты никогда не станешь великим художником.
—
Хорошо, пусть я будут мелким мещанином, но я не желаю спорить сейчас с тобой по этому поводу… Пусть так. Но если бы ты знал, какая странная история приключилась только что со мной в этом мещанском омнибусе.
—
В омнибусе? Могу себе представить. Ты потерял свою корреспонденцию.
—
Не шути. Это очень серьёзно. Посмотри, что там происходит.
—
Хорошо… и что такого особенного? Я вижу кондуктора, который рассуждает, как гуру, среди пяти или шести зрителей, собравшихся у дверей станции. Дешёвый спектакль местной знаменитости…
—
Есть ещё один персонаж… покойник, который находится внутри станции… Вернее, покойница, красивая девушка, которая путешествовала вместе со мной в омнибусе … сидела прямо передо мной, а затем и рядом со мной …
—
Может быть она ещё и скончалась на твоих руках? — с вечной издёвкой в голосе спросил Верро.
—
Почти. Считай, что ты провидец… И никто вокруг не понял, что она умерла.
—
Зачем ты мне рассказываешь об этом?
—
Я просто излагаю тебе факты. Вот и все, что случилось, и это самое удивительное… и самое странное, что совсем недавно, буквально только что… я почти пришел к убеждению, что её смерть не была естественной.
—
Ах вот оно что. Это, оказывается, тайна, которую необходимо разгадать. Тогда это моё дело. Я родился, чтобы быть полицейским, и мог бы служить примером для самых ловких и хитрых полицейских. Расскажи мне свою историю, а я выдам результат, как только мне будут известны все факты.
—
Факты! Но нет ни одного. Все произошло так просто и обыденно, как и все в этом мире. Когда я пришел на станцию вокзала на бульваре Сен-Жермен, девушка была уже в омнибусе. Я заметил мельком, что она очень красива, и сел лицом к лицу перед нею. Толстая торговка сидела справа от нее, а слева один месье… один месье, выглядевший… он был похож на старого барабанщика национальной гвардии.
—
Отлично! Вот у нас уже появился один подозреваемый.
—
Подозреваемый он или нет, но ещё до отправления автобуса этот тип уступил своё место даме, которая прибыла слишком поздно, когда в салоне уже не было свободных мест… настоящая дама… элегантно одетая и не уродливая, насколько я мог судить сквозь вуаль, скрывающую её лицо.
—
Если она её не подняла, то это значит лишь одно… у нее была причина скрывать своё лицо. И она без колебаний приняла любезность личности, которую ты мне только что описал? Знаешь ли ты, что это доказывает? Что они знали друг друга, и что это дело было заранее согласовано между ними. Мужчина специально сохранял место для дамы. Женщина заняла его, и именно она та самая личность, которая совершила это гнусное дело, нанесла жертве смертельный удар.
—
Но не было никакого удара, — воскликнул Амьен.
—
Ты так думаешь, потому что ничего не видел, — сказал Верро, который гнул свою линию с невозмутимой настойчивостью. — Я же по прежнему считаю, что этот обмен местами не является естественным. Теперь у меня есть определённая база для размышления и основание, чтобы начать расследование. Продолжим. Это был последний омнибус, не так ли?
—
Да. Мне пришлось даже бежать с Рю Ласепед, чтобы не пропустить его.
—
Это более чем веский повод для того, чтобы не уступать своё место, но мужчина его уступил и остался, не отправившись к цели своей поездки. Он просто не собирался никуда ехать.
—
Он не остался. Он поднялся на крышу, на империал, и поехал на свежем воздухе.
—
На котором на несколько градусов ниже нуля… и ледяной ветер, обжигающий ваше лицо… Я фиксирую твоё внимание на этом факте-он сидел там, потому что хотел убедиться, что его сообщница выполнит задуманную им операцию.
—
А вот и нет. Мужчина вышел на остановке вначале Рю де-ла-Тур д'Оверни, а женщина чуть дальше… на углу Рю де Лаваль.
—
То есть три минуты спустя. Им не составило никакого труда вскоре воссоединиться. Я уверен, что спускаясь вниз с империала мужчина на мгновение приостановился на шаг, специально для того, чтобы женщина в салоне заметила, что он уходит.
—
Нет, но я заметил …
—
Что?
—
Это, прежде чем покинуть омнибус, мужчина так сильно стукнул пяткой три или четыре раза по крыше, что все, кто был внутри, это услышали.
—
Ей-богу! Это был сигнал.
—
Я признаюсь, что эта мысль и мне пришла в голову.
—
Ах! Вот видишь, и ты это заподозрил! Только тебе не хватило смелости развить свои сомнения и оформить их в здравую мысль.
—
За то ты, как только оседлаешь какую-нибудь идею, тут же частенько заходишь слишком далеко. Я допускаю… если тебе так нравится эта идея… что эти люди были знакомы… но отнюдь не для того, чтобы убивать несчастную девушку, которую они не знали.
—
А ты откуда это знаешь?
—
Я уверен в том, что по крайней мере дама не знала персон, рядом с которыми она в результате оказалась в салоне омнибуса, потому что она не оказала им чести бросить даже взгляд в их сторону. И я должен тебе заметить, что готов был поверить во время поездки, что мужчина с крыши надеется, что по прибытии он получит награду от дамы за его доброту, позволив ему сопровождать её. Ведь поднимаясь в салон, она позволила ему пожать свою руку.
—
Все лучше и лучше. Все теплее и теплее. У меня больше нет и тени сомнения в произошедшем. Это рукопожатие означало и заменяло два коротких слова "убей её."
—
Вы с ума сошли! Я говорю вам, что не было какого-либо, даже малейшего инцидента во время поездки.
—
И, наконец… скажи мне… девушка, которая умерла, ведь она была, несомненно, была жива в тот момент, когда вошла в омнибус, не так ли?
—
О! Очень даже жива. У нее тоже была вуаль на лице, но её глаза сверкали сквозь эту вуаль, как два черных бриллианта.
—
Отлично! И по прибытии они уже потухли… Когда ты обратил внимание на то, что она уже прошла путь от жизни к смерти?
—
Это я заметил именно тогда, когда мы прибыли на станцию на площади Пигаль. Она склонила голову на мгновение на моем плече, и я представил себе, что она спала. Я хотел, чтобы она проснулась, но …
—
Как… на плече! Каким образом… Ведь для этого ты должен был сидеть рядом с ней? А я думал, что ты был с ней виз-а-ви.
—
Завуалированная дама, которая была её соседкой слева, поддерживала голову девушки, начиная с моста Пон-Неф, считая, что она спала. Когда дама сошла на Рю де Лаваль, она попросила меня заменить её. Мне было отнюдь не тяжело послужить подушкой для молодой и красивой девушки. Справа от нее место было свободно. Я сел на него, и дама передала мне ношу, которая показалась мне сладостной.
—
А ты не считаешь удивительным, что все эти манипуляции не прервали её сон? Поль, мой мальчик, ты снова видишь картинку только в прекрасном свете, но твоя наивность заходит слишком далеко… переходит все границы допустимого для умного человека.
—
Я согласен… и все же …
—
Даме под вуалью было прекрасно известно, что она поручает твоим заботам труп, и это было ей необходимо лишь для того, чтобы он не упал раньше времени с кресла. Она поняла по твоему похотливому выражению лица, что ты ничего не заметишь, полностью поглощённый в свои мечты о прекрасном теле девушки. Наверняка, ты уже представлял, как она будет позировать тебе. Это был сильный ход со стороны дамы-убийцы, и он мог иметь плохие последствия для тебя, сыграть тебе плохую службу. Ведь тебя могли арестовать. Как тебе удалось выпутаться из этой истории по прибытии омнибуса на конечную станцию?
—
Как… у тебя хватает смелости утверждать, что меня могли обвинить в убийстве моей соседки?
—
Эй! Эй! Мы видели и более чрезвычайные последствия таких необдуманных поступков, как твой.
—
А… ничего страшного! Я просто пообщался со стражами порядка, которые констатировали смерть бедняжки. Но на теле не было никаких повреждений, даже следов инъекций.
—
Посмотрим, что было дальше! Итак… прибыли люди с полицейского участка, с носилками, чтобы унести тело.
—
Да… и они спросили меня лишь о том, как меня зовут… вот и все.
—
Они, наверное, попросили тебя сообщить адрес места жительства, и ты его им сказал…!
—
Без сомнения. Почему я должен был его скрывать? Кроме того, я не мог поступить иначе ради истины.
—
Ну что ж, в твоих словах есть резон. Конечно, если бы ты отказался представиться, это показалось бы подозрительным. И ты из свидетеля прямиком превратился бы в подозреваемого.
—
Подозреваемого… в чем? Я говорю тебе, что девочка умерла от разрыва аневризмы. У всех, кто её видел, нет никаких сомнений в этом отношении. Полицейские, сотрудник станции, кондуктор… все в один голос это утверждали.
—
Все эти люди чрезвычайно компетентны в вопросах установления причины смерти! Так что не будь таким глупым. Ты не хуже меня знаешь, что врач осмотрит тело… и только он может решать, отчего и как она умерла. И все, что он решит, очевидно, тебе скажет комиссар полиции.
—
Ладно, я пойду к себе … и главное, о чем я сейчас позабочусь, так это, чтобы ты не увязался за мной, потому что от твоих фантазией и рассуждений могут закипеть мозги даже у самого рассудительного и хладнокровного человека. Ах! Из тебя получился бы самый страшный следователь или жестокий судья в мире! Ты видишь преступления повсюду.
—
Я их вижу только там, где они есть, мой дорогой. Ты присутствовал только что на мастерски с режиссированном и прекрасно осуществлённом убийстве. Но мне придётся просить тебя понести некоторые расходы, если ты хочешь узнать правду. Ты должен будешь мне в течении трёх месяцев покупать все парижские газеты.
—
Ты с ума сошёл. Газеты завтра напишут о девушке, которая внезапно умерла в омнибусе, и на следующий день все уже забудут об этом несчастном случае.
—
Если публику это не будет заботить, тогда я озабочусь этим делом.
—
Ты хочешь заняться полицейскими делами для собственного удовольствия! Наверное, тебе именно этого не хватало в твоей жизни. А с меня достаточно переживаний.
—
Мне действительно нужно чем-то занять мой досуг. У меня полно свободного времени.
—
А твоя картина, несчастный… твоя картина, которая должна быть готова к выставке… ведь ты её едва начал!
—
Совершенно не о чем беспокоиться. Я её напишу к весеннему вернисажу. Зимой же я никогда не работаю. Это противоречит моему биологическому циклу. Так что в моем распоряжении целых два месяца, и за этот внушительный период времени я найду женщину, которая нанесла роковой удар твоей несостоявшейся модели.
—
То есть ту, которая сидел рядом с этой бедняжкой?
—
Конечно.
—
Извини! Но было две женщины по бокам от жертвы, одна справа и одна слева.
—
Ту, которая сошла на улице Лаваль, и которая так ловко переложила труп в твои объятия. Уверен, что это её рук дело.
—
Осчастливь меня, объяснив, каким образом она могла убить свою соседку, да так, чтобы этого никто не заметил.
—
Буду очень рад… как только ты ответишь на все мои вопросы. Ты сказал, что девушка опиралась на плечо завуалированной дамы …
—
Да… Я даже думаю, что дама сама держала её за талию.
—
А в какой момент она стала столь милосердно обнимать её своей рукой?
—
Но… мне кажется, что это было после спуска с моста Мон Неф. Омнибус двигался очень быстро, и колесо, должно быть, наскочило на большой камень, потому что нас всех сильно, жёстко тряхануло. Малышка даже испустила слабый вскрик… О! Слабый крик… Она поднесла руку к сердцу, и откинулась назад… наверное, именно в этот момент разорвался какой-то сосуд в её груди… Она умерла без страданий … и почти без движения.
—
Это, действительно, можно сказать, очень правдоподобно и вероятно, — с сарказмом произнёс Верро. — А потом, после этого небольшого спазма, она откинула голову назад… и добрая соседка подставила ей своё плечо… и обняла бедную девушку, которая после этого уже не двигалась, за талию.
—
Ты описываешь эту сцену так, как будто лично присутствовал при этом.
—
А ты, кто действительно все видел своими глазами, не нашел ничего странного в том, что после такого жестокого толчка эта молодая особа вдруг заснула и больше не проснулась.
—
Я поначалу не обратил на это особого внимания… В салоне было очень трудно что-то разглядеть. Фонари почти умерли.
—
Ей-богу! Я был в этом уверен. Злодейка рассчитывала на темноту.
—
Но, опять же, каким способом она отправила в мир иной менее чем за десять секунд девушку, которой не было ещё и двадцати лет, и которая хотела лишь одного-жить? Первое, что мне приходит в голову-она её чем-то проткнула. Ты согласен со мной?
—
Ножом… ах! Нет. Есть менее шумные и более верные средства.
—
Какие?
—
Ну … яд, например … одной каплей синильной кислоты можно отправить на тот свет самого крепкого мужчину.
—
Когда она попадает в глаз или на язык, да…?
—
Или просто на повреждённую кожу… Ты пожимаешь плечами… очень хорошо! Я не претендую на то, чтобы убедить тебя в своей правоте сегодня. Завтра ты поймёшь, что может быть я был прав. Я зайду к тебе в студию во второй половине дня. Но, тем временем, я тебя должен оставить. Вот и санитары, которые уносят тело. Я пойду, поброжу немного возле полицейского участка, чтобы узнать немного больше о том, что там говорят об этой истории. Я знаю бригадира. Он мне предоставит информацию, не сомневайся.
И полицейский по призванию устремился прочь из кафе, крича своему другу напоследок:
—
Ты, надеюсь, урегулируешь мой счёт. Смотри, чтобы тебя не обманули. Я выпил не больше четырнадцати кружек пива.
Часть II
«Дни следуют друг за другом… но не походят друг на друга», — гласит французская пословица.
На следующий день после этой печальной поездки в омнибусе, которая закончилась катастрофой, прекрасное зимнее солнце освещало пляс Пигаль. Холода внезапно смягчили свой нрав, и оттаявший фонтан бросал весёлые звуки журчащей воды прямо к голубому небу, которое отражалось на его поверхности, и итальянские натурщицы, сидевшие на ступенях вокруг этого художественного водоёма довольно улыбались под лучами зимнего солнца, согревавшими их во время ожидания начала длинных сеансов в мастерских художников.
У Поля Амьена, как и у них, было приподнятое настроение. Ночь отдыха успокоила волнения, терзавшие его накануне, и уничтожила мрачные видения. Он не думал больше о приключении, случившемся с ним накануне, не считая тлевшей в нем небольшой жалости к судьбе мёртвой девушки, и он поздравлял себя c тем, что не принял всерьёз потешных фантазий своего друга Верро.
Утром ему нанёс визит инспектор полиции, посланный комиссаром, скорее для того, чтобы побеседовать с ним, чем его допрашивать, так как смерть девушки была признана наступившей в результате несчастного случая, что было только что действительно и должным образом констатировано врачом, совершившим осмотр тела, которое не несло никаких следов и признаков насилия.
Девушка должна была умереть, по всем признакам, от внутреннего кровотечения, и пока аутопсия не подтвердила заключения доктора, труп был отправлен в Морг. В Морге, как это принято для неопознанных персон, труп будет выставлен на всеобщее обозрение, ведь в одежде умершей девушки не нашли никакого указания, которое помогло бы установить её личность.
Факты, впрочем, не позволяли предполагать, что в отношении нее было совершено преступление. Показания кондуктора были предельно ясны и подтверждали естественную смерть девушки.
Давая показания перед комиссаром, кондуктор не отказал себе в удовольствии насмешливо изобразить крики пассажира, который, прибыв на конечную станцию, кричал, что только что убили девушку, и доказал без труда, что у идеи этого господина не было ни грамма здравомыслия.
Пассажир, а это был именно Поль Амьен, имя которого комиссару было довольно хорошо известно, так как оно было на слуху в окрестных кварталах, поскольку Поль был уже знаменитым художником, так что отыскать его было просто, тем более что он оставил свой адрес стражам порядка.
Но Поль Амьен к этому времени полностью изменил своё мнение о произошедшем накануне, так что он счёл абсолютно бесполезным доводить до сведения инспектора абсурдные доказательства, которыми этот сумасшедший Верро угостил его вчера, попивая своё пиво. Он довольствовался тем, что рассказал о том, что он видел, без собственных размышлений и без комментариев.
И, выполнив свой долг перед государством, и будто скинув со своих плеч все печали прошлого, Амьен позавтракал с аппетитом и с жаром принялся за работу.
Он тогда заканчивал картину, на которую возлагал большие надежды на успех на ближайшем Салоне, картину, которая должна будет окончательно закрепить за ним славу выдающегося художника современности. На картине была изображена молодая Римлянка, пасущая козу у подножия гробницы Цецилии Метеллы.
И ему посчастливилось найти натурщицу, которую Бог, казалось, создал специально для того, чтобы ему было с кого создать образ, о котором он мечтал.
Именно такую девушку, почти ребёнка, он однажды встретил, спускаясь с высот Монмартра, и которая у него спросила дорогу в Ботанический сад.
Амьен провел четыре года в Риме, и знал в достаточном объёме итальянский язык, чтобы информировать малышку на единственном языке, который она понимала.
Затем он справился о том, что она делала в Париже, и девушка ему ответила без затруднения, что только что приехала сюда с одним из своих соотечественников, который занимался вербовкой в Италии моделей обоих полов, и селил их в Париже на улице Дефоссе-Сен-Бернар, около Винного рынка, в большом доме, в котором живут в основном музыканты.
Она родилась в Субиако, в горах Сабины, и провела своё детство, гоняя коз через скалы этого дикого края. Её мать, умершая в прошлом году, позировала художникам в мастерских в Риме. Она никогда не знала своего отца, но ей говорили, что она была дочерью французского художника, который, проведя несколько лет в Италии, уехал, не беспокоясь о судьбе своей дочери. У нее была старшая сестра, но эта сестра ещё в детском возрасте была увезена человеком, который вербовал учеников, чтобы им преподавать пение и помещать их затем с собственной выгодой в театры Италии.
У Поля Амьена, восхищённого её красотой, тотчас же возникла идея немедленно конфисковать к своей выгоде эту ещё никому неизвестную натурщицу, ведь эта девушка, как он быстро сообразил, к тому времени ещё не побывала на просмотре ни у одного художника, и он незамедлительно договорился о её судьбе с её покровителем, который, посредством довольно круглой суммы, взял на себя письменное обязательство поселить девушку отдельно от других своих натурщиц и надлежащим образом обставить быт Пии, — таковым было имя этой маленькой девочки, — и посылать её каждый день к нему в студию на пляс Пигаль, отклоняя предложения от других художников, которые они могли ему сделать в отношении Пии.
И вот уже пять месяцев маленькая Пия непременно в полдень стучалась в двери студии Поля Амьена, который к тому времени стал рассматривать её в большей степени в качестве подруги, а не наёмной рабочей силы.
Красота Пии не была тривиальной. Девушка не походила на этих итальянских малышек, которые все как одна обладают набором одинаковых черт-непременно большими черными глазами, слегка выпуклыми и красными губами, светло-коричневыми волосами… одним словом одинаковыми до такой степени, что они сливались перед глазами и не могли вдохновить на создание оригинального характерного образа.
В ней угадывались черты народа, вдохновлявшего на создание шедевров художников всех времён, но одновременно в выражении её лица были видны акценты, которые обычно проявляют невнимательность почти ко всем девушкам её страны, а именно живой ум, задорность, индивидуальную характерность.
И эта физиономия не была обманчивой. У Пии действительно был открытый разум и удивительная лёгкость в общении, позволяющая ей легко адаптироваться к обстоятельствам. За несколько месяцев она сумела заговорить на очень хорошем французском языке, о котором она не знала абсолютно ничего, прибывая в Париж. Она развлекала Амьена своими наивными репликами и неожиданными ответами на его вопросы. Она его удивляла справедливостью своих мыслей относительно всех жизненных вопросов и даже относительно искусств, на уровне чувств, конечно.
Ещё больше она его удивляла своей мудростью. Это маленькое чудо, которое, где бы оно не показывалось, везде вызывало абсолютно у всех восхищение, не имело и тени кокетства, и совершенно непонятным образом, какой-то невероятной естественной непосредственностью сдерживала чересчур назойливых поклонников её красоты. Она носила народный костюм своего родного края, совершенно не стремясь одеть модные парижские наряды, которые охотно позволяют себе её коллеги натурщицы, едва оказавшись в Париже. Никогда ещё шаль не покрывала её ещё немного худые, но прелестного контура плечи, никогда ещё ботинки не заключали в тюрьму её ноги античной статуи, ноги, приученные топтать босиком горный тимьян.
И она жила как святая, выходя из дома только для того, чтобы отправиться в мастерскую Амьена, не водила дружбу со своими компатриотами и с другими женщинами, которые с удовольствием овладевают в Париже сомнительной и скабрёзной профессией модели-натурщицы.
С тех пор, как благодаря щедрым кредитам Амьена Пия больше не была обязана существовать подобно другим девушкам натурщицам, вести образ жизни, который нищета навязывает бедным красавицам, привезённым из Италии их новым хозяином и использующим их для своего обогащения, она продолжала жить в доме на улице Фоссе Сен-Бернар, но при этом полностью отделилась от этой праздношатающейся колонии, располагающейся лагерем в этом фаланстере.
Пия занимала небольшую комнатушку под крышами: узкая мансарда, стены которой были побелены и в которой не было никакой другой мебели, кроме маленькой железной кровати, трёх стульев из плетёной соломы и разбитого зеркала. Она там проводила все своё свободное время, остававшееся у нее после работы в мастерской, посвящая его чтению книг… да, она научилась читать… и пению народных песен своих гор… и мечтам… о чем? Амьен развлекался иногда тем, что спрашивал её, о чем она мечтает, но внятного ответа, в отличие от занимательных ответов на другие вопросы получить не мог. О чем может мечтать девушка, которой только что исполнилось пятнадцать лет.
Того, что Пия зарабатывала, позируя своему благотворителю, ей было вполне достаточно. Ела она не больше, чем птичка-невеличка, и расходовала очень мало денег на свой туалет, хотя при этом она была чрезвычайно заботлива к своему лицу и одежде.
И ещё она была очень весёлой, а это достаточно редкое качество для уроженок Рима… весёлая той откровенной радостью, которую даёт удовлетворение самостоятельной жизнью и отсутствие забот. Когда она приходила в мастерскую Поля, в нее впорхала радость вместе с нею.
Уже месяц, между тем, Амьену казалось, что Пия стала не такой весёлой, как раньше, более сдержанной, более задумчивой, не такой ребячливой, говоря одним словом. Она не играла больше с любимым котом в мастерской Поля, великолепным ангорским котом, который к ней чрезвычайно привязался, и всегда прыгал на её колени, как только Пия присаживалась на стул, чтобы выслушать установку на сеанс, понять, какую позу ей необходимо принять.
Эти симптомы показались художнику очень серьёзными. Он знал природу чувств этих маленьких девочек, переселённых безжалостной рукой из Италии во Францию, которые изнемогают от тоски и физического упадка сил в первое время пребывания в нашем холодном климате, и затем внезапно созревают при же первом солнечном луче. И он заподозрил, что это начало мимолётной любви.
Чтобы разъяснить случай, выяснить, что происходит, Поль осторожно стал расспрашивать малышку, которая принялась плакать вместо того, чтобы отвечать Амьену, и он не стал настаивать, не желая огорчать её, хотя идея, которая пришла в его голову, опечалила художника. Амьен, что называется, прикипел к этому ребёнку, и ему огорчительно было думать, что она глупо влюбилась, возможно в какого-нибудь грубого пастуха, приехавшего в Париж из Абруццо, чтобы собирать бронзовые монеты в 10 сантимов, играя на шарманке. Ему случалось даже иногда спрашивать себя, не ревнует ли он её, и он упрекал себя за это, вспоминая возраст Пии и свои двадцать девять лет. Ведь он был почти в два раза старше девушки. В такие моменты он становился серьёзным, почти холодным, и позирование происходило без того единого слова в адрес бедного ребёнка, который уходил от него с тяжёлым сердцем.
Но на следующий день после его приключения в омнибусе, Поль Амьен пребывал в хорошем расположении духа. Уверенность в том, что он не замешан, даже косвенно, в преступлении, и ему не придётся участвовать в судебном следствии, и приподнятое вследствие этого настроение позволяло ему весело беседовать с пастушкой, возлежавшей в глубине мастерской на высоком постаменте, имитировавшем мрамор гробницы Цецилии Метеллы.
—
Пия, моя красавица, — сказал Поль Амьен, смеясь, — ты не подозреваешь, что вчера вечером я чуть не поднялся к тебе по твоим почти отвесным шести этажам, чтобы удивить тебя. Но все-таки, в конце концов, решил не беспокоить твой сон и пошёл ужинать в кафе в твоём квартале.
—
И вы не зашли ко мне, не захотели увидеться со мной! — воскликнула девушка. — Я была бы так счастлива показать вам мою комнату… она теперь столь красива… у меня есть три цветочных горшка и птица, которая поёт, и именно вам я всем этим обязана, все счастье в моей жизни благодаря вам…
—
Я испугался, что затрудню тебя, ведь твоя комнатка не больше тельца твоей птички… эта твоя мансарда. И затем, вломиться к тебе без предупреждения! Я не осмелился. Потом, я не хотел помешать тебе, застав тебя с твоим возлюбленным …
Пия побледнела, и слезы навернулись на её глаза.
—
Почему вы говорите мне об этом? — прошептала она. — Вы ведь прекрасно знаете, что у меня нет возлюбленного.
—
Ладно, малышка, — весело продолжил Амьен, — не плачь. Это тебя совсем не красит и нарушает мою композицию. Разве ты плакала там, в горах, когда пасла свою козу?
—
Нет, никогда… и здесь тоже… когда вы сами не ищете случая расстроить меня… и заставить заплакать…
—
И смеяться тоже. Давайте ка лучше смеяться, или мне придётся задуматься над тем, не хочешь ли ты чего-нибудь от меня. Может быть ты влюбилась в меня? Ладно, я говорил не серьёзно.
—
Как вы могли сказать такое!.. Хорошо, я уже об этом больше не думаю… но, пожалуйста, не говорите мне больше о том, что у меня есть возлюбленный… откуда он у меня может появиться, мой Бог? Там, в моем доме, все мальчики, которые работают для отца Лоренцо, некрасивые и злые, как обезьяны… на пляс Пигаль может быть тогда?… На ступенях фонтана?… Но если бы вы посмотрели в окно, когда я иду к вам, вы увидели бы, что я никогда там не задерживаюсь. Я слишком тороплюсь попасть в вашу мастерскую, чтобы меня согрел… и обнять моего друга Улисса… вот кто мой возлюбленный.
Ангорский кот, который мурлыкал около печи, услышал своё имя и прыгнул одним махом на колени Пии, которая продолжила, хохоча:
—
Он меня очень любит… и приходит ко мне без особого приглашения… и никогда не причиняет мне страданий.
—
Ты права, малышка. Улисс — хорошее животное. Гораздо лучше меня… или животного по имени Верро, которое приходит ко мне только для того, чтобы мучить меня и тебя.
—
О!.. Мне все равно, есть месье Верро здесь или нет, но вы, месье Поль, как только вы начинаете смеяться надо мной, я теряю голову и позу. Вот видите! Я не двинулась с места с начала сеанса, а теперь, когда вы меня побеспокоили, я не знаю, как мне правильно зафиксироваться…
—
Застынь в этой позе… Так… теперь совсем немного сдвинь голову назад… посмотри на меня… на Улисса… вот, теперь замри.
Пия сделала то, о чем ей говорил Амьен, а кот лёг на кровати в том месте, которое он так любил.
—
Сейчас все сложилось идеальным образом, — сказал художник, — и так как ты добра ко мне, тебе будет приятно узнать, что если я и не зашёл к тебе вчера, чтобы пожелать спокойной ночи, то только лишь потому, что было уже чересчур поздно, когда я оказался около твоей улицы… полночь… и все уже спали в твоей казарме, где Лоренцо поселил своих пифферари.
—
Но я… я не спала, — прошептала Пия.
—
В этот неурочный час!.. это очень плохо, малышка. Маленькие девочки твоего возраста должны ложиться рано, как славки, певчие птички… Произнося молитву Аве Мария, как принято в твоей стране.
—
Это — то, что я делаю каждый вечер, но вчера …
—
Никаких объяснений, мадемуазель. Иначе Вы ещё раз поменяете положение, если приметесь болтать, а у меня нет времени, чтобы его терять. День уходит, солнце клонится к закату. И чтобы вас не соблазнять на разговоры, я вам не расскажу историю, которая со мной случилась вчера, когда я возвращался домой… из вашего треклятого квартала.…
—
О! Месье Поль! Я вам клянусь, что больше не произнесу ни слова.
—
Совсем ни одного! Совсем! Не верю… ты, возможно, и промолчала бы, но моя история могла спровоцировать твои рыдания, а мне не нужны твои заплаканные глаза.
—
Вам никто не причинил никакого зла, не сделал ничего плохого… я надеюсь!
—
Нет, нет. Ты прекрасно это видишь, ведь у меня отличное настроение. Я давно не работал с таким воодушевлением. Если бы я мог продолжать с таким настроением и темпом работу над картиной, я сумел бы её закончить через две недели.
—
И что потом… я вам стану больше не нужна? — с видимым волнением в голосе спросила Пия.
—
Не разговаривай! Выражение твоего лица сразу же меняется. Прими нужную позу, шалунья, не двигайся! После этой картины я с тобой сделаю другую, где тебе придётся уже не лежать так комфортно, как сейчас, а стоять, три часа на твоих ногах. И ты будешь так уставать, что тебе уже не захочется щебетать, как сейчас.
В этот момент, дверь мастерской внезапно открылась, и Верро, как прусский артиллерийский снаряд, влетел в мастерскую, воскликнув:
—
Я её видел, мой дорогой. Она восхитительна!
—
Кого? — спросил Амьен.
—
Черт возьми! Покойницу. Я к тебе прямо из Морга. Её там выставили в час дня… и собралась целая толпа, чтобы поглазеть на эту красавицу!..
Когда Верро ещё не успел произнести этих слов: «Я пришел из Морга», Амьен принялся ему делать знаки, смысл которых был очень ясен, но Верро никогда не останавливался посреди речи, которую успел начать, и невозмутимо закончил начатое.
—
Ты был прав, она восхитительна, — рассыпался он в комплиментах. — Если бы она стояла на улице живой, я бы без раздумий дал ей двадцать франков в час. Пия — это натурщица, которую я прежде ни у кого не видел, не правда ли? — мимоходом заметил Верро. — Пия красива, но она и близко не стоит рядом с покойницей. Я попытался быстренько набросать её портрет на бумаге перед остеклением, но полицейские меня вынудили циркулировать перед витриной, запретив стоять на месте, и ещё там был один буржуа, который стал мне говорить всякие глупости. Он сказал, что у меня нет сердца, этот дурак. Да оно у меня в сто раз больше, чем у него, это сердце. То, что я делал эскиз, так это в интересах искусства и будущих поколений. К счастью её собирались фотографировать. Впрочем, когда я увидел, что мне выставляют за дверь, я сказал себе: есть только одно средство, и я отправился прямо к …
—
Замолчишь ты когда-нибудь, проклятый болтун? — закричал ему Амьен, — если ты произнесёшь ещё хоть одно слово, я тебе выставлю за дверь.
—
Почему? Что это с тобой? — спросил бездарный мазила с выражением неподдельного изумления на лице.
—
Со мной ничего… кроме того, что мне нужно работать, а ты мешаешь мне это делать… и кроме того, ты пугаешь малышку своими гадкими историями.
—
Как! Потому что я рассказываю о Морге! Ах! Как она хороша, та, что там лежит! Но ведь это её, напротив, развлечёт, эту твою малышку. Бьюсь об заклад, что она каждый день проводит у тебя, и жизнь её довольна однообразна— мансарда-дорога к тебе-студия— мансарда…
—
Верро, мой мальчик, во второй раз я тебе предписываю молчание, и я тебя предупреждаю, что с третьим предупреждением… если ты не повинуешься… тебе ведь известно, как во времена Второй империи разогнали Национальное собрание.
—
Угрозы? Насильственные действия? Какой травы ты накупил себе этим утром на рынке? Вчера вечером ты только и делал, что взахлёб рассказывал мне о своём приключении.
—
Ещё одно… и…!
—
Хорошо! Хорошо! Я не знал, что Пия столь впечатлительна, но так как мадемуазель оказалась очень нервной, я буду нем, как рыба… до тех пор, пока она не уйдёт, так как потом… у меня куча новостей, которые тебя заинтересуют.
—
Оставь меня в покое, пока я не закончу сеанс. У меня нет времени на болтовню во время работы. Поправь позу, дорогая Пия, и если этот сумасшедший позволит себе ещё раз открыть рот, доставь мне удовольствие, не слушай его.
—
Морг, это такой дом, где показываются мёртвых? — спросил глубоко тронутый этими разговорами ребёнок.
—
Итак, прекрасно! Ты тоже состоишь в этом заговоре против меня, вы оба не хотите, чтобы я вовремя закончил это полотно! — воскликнул Амьен. — Вы, кажется, поклялись друг другу сделать сегодня все, чтобы я не сделал ничего путного…
—
Я знаю, где он находится, — продолжила Пия, — но я не осмелилась туда войти… и никогда не осмелюсь. О!.. Нет, никогда!.. Никогда! …
—
Черт возьми! Я очень на это надеюсь. А ты, Верро, если ты не заметил, то могу заявить тебя прямо, что я тебя совершенно не ждал здесь. Но если у тебя есть новости, то ты можешь подождать немного, я собираюсь вскоре закончить сеанс. Ещё три минуты неподвижности, и я закончу, моя маленькая девочка. Несколько небольших прикосновений к холсту… Я только начал улавливать эти полутона, когда это животное Верро потревожило нас. Ах! Я уловил суть, теперь Пия, замри и больше не шевелись.
Пия, казалось, его не слышала. Её лицо прибрело сумрачное выражение, большие черные глаза больше ничего не выражали, лишь бессмысленно смотрели на Улисса, который только что проснулся и привстал на своих сильных лапах, выгнув дугой пушистую спину.
Верро, успокоившись в предвкушении предстоящей беседы, замолчал, и утешался тем, что рыскал по всем углам мастерской, переворачивая и рассматривая прислонённые к стене картины, открывая и обнюхивая коробки с красками и переставляя мольберты.
И он так действовал на нервы Амьену, что тот, выведенный из терпения, закричал ему:
—
Закончишь ли ты шарить по моей мастерской? Что ты ищешь?
—
Табак. Я забыл его купить, — ответил мазила Верро, потряхивая длинной трубкой, с которой он никогда не расставался.
—
Кисет у подножья манекена… у окна.
—
Отлично. Премного благодарен. Тогда ты не будешь простирать свою строгость до такого абсурда, что запретишь мне курить? Спасибо за вашу снисходительность, мой принц. Ах! Но, заметь, что шутка твоя неудачна, фарс не удался, а твой кисет пуст, внутри него не больше табака, чем мозгового вещества в черепе моего нового знакомого, буржуа из Морга.
—
А ты, месье Верро, несносен! Поищи табак в кармане моего пальто, которое висит там, у входа.
—
Я повинуюсь, мой сеньор, — серьёзно ответил Верро, поднеся обе свои руки перед лицом, пытаясь изобразить какое-то сугубо восточное приветствие.
И он принялся рыться в пальто, в то время как Амьен, вытирая свои кисти, говорил Пие:
—
Достаточно на сегодня, малышка. Я больше не в состоянии что-то увидеть, стало слишком темно.
—
Ты шутишь! Ты издеваешься надо мной! — ворчал Верро, — я напрасно стараюсь зондировать глубины этой великолепной одежды, недоступной моему кошельку… мне ничего не удаётся обнаружить… ничего, что способно тлеть в моей трубке… зачем так издеваться над другом… здесь нет ровным счётом ничего… хотя, мои пальцы что-то нащупали… этот предмет послужит мне ещё для… я им буду рыхлить табак в трубке… Неужели это твоя! Это ведь женская булавка!
Верро, восхищённый своей находкой, триумфально размахивал перед собой позолоченной булавкой, которую он извлёк только что из кармана пальто своего друга.
—
Ах! Мой бойкий славный малый. Как я вижу, ты парень не промах, — кричал он, — ты наполняешь свою одежду интимными предметами для прекрасного пола! Какая принцесса оставила тебе этот залог своей любви?
Амьен совершенно забыл об этой булавке, которую он подобрал накануне в омнибусе, и он находил неуместной шутку, которую Верро позволил себе по поводу предмета, который, вполне вероятностно, принадлежал умершей девушке.
—
Доставь мне удовольствие и положи этот предмет туда, где ты его взял, — гневно сказал он Верро.
—
Ты опасаешься, что я его оскверню, вульгарно и заурядно используя, — иронично произнёс неисправимый шутник. — Успокойся! Я не буду им пользоваться. Ты сможешь его хранить у своего сердца. Ах, значит наш знаменитый маэстро кисти влюблён? И с каких это пор?
—
Верро, решительно, ты меня раздражаешь.
Пия внезапно встала, и подбежала к Верро, чтобы рассмотреть булавку поближе.
—
Ну и что ты об этом скажешь, дитя гор? — спросил у нее горе-художник. Ты такого никогда не носила в своём Субиако… и у тебя теперь в Париже развился такой хороший вкус, что ты не будешь использовать такую булавку здесь… Мещанка, которая всадила эту безделушку в свой шиньон, недостойна любви художника, и Поль должен был бы покраснеть от того, что так тщательно сохранил эту жалкую и смешную реликвию производства новейшей парижской индустрии и купленную на базаре за пятнадцать су. Помоги мне, малышка, устыдить нашего друга за его смешное поклонение этой прискорбной безделушке. Смотри! Она плачет! Почему, черт возьми, ты плачешь? Это, случайно, была не твоя штучка? Неужели тебе хватило неуместной фантазии опозорить твои красивые волосы, украшая их этой нелепой иглой из томпака?
—
Я не плачу, — шептала девушка, которая старалась изгонять прочь свои слезы.
—
Верро, ты невыносим, — воскликнул Амьен. — Я тебе запрещаю терзать эту малышку. Ты её замучил и расстроил своими глупыми разглагольствованиями. Позволь ей спокойно уйти. Возьми своё манто, Пия— продолжил Поль, — и отправляйся к себе домой на Рю Дефоссе Сен-Бернар… Наступает ночь, и на улицах становится небезопасно после захода солнца. Попытайся завтра прийти ко мне точно в полдень. Я обещаю тебе забаррикадировать дверь в мастерскую, и никто не сможет нас побеспокоить… у нас будет длинный сеанс.
Пия уже была готова уйти, и когда Амьен ей протянул на прощание руку, она склонилась, чтобы её поцеловать, по итальянской моде, но он отдёрнул руку и поцеловал её в лобик. Девушка побледнела, но он не сказала ни слова, и вышла, не смотря на Верро, который посмеивался исподтишка.
—
Мой дорогой, — начал он, как только Пия исчезла, — я сделал за один день больше открытий, чем сделали за век самые известные навигаторы… и последнее… самое курьёзное из всех. Я обнаружил только что, что эта переселённая с итальянских гор пастушка безумно влюблена в тебя. Она плакала, потому что полагала, что булавка была забыта в твоём кармане твоей любовницей. Пия ревнует. Следовательно, она тебя любит и боготворит. Опровергни это моё умозаключение, если ты на это осмелишься… или сумеешь это сделать.
—
Я не собираюсь ничего опровергать, но я тебе заявляю, что если ты будешь продолжать в том же духе, мы поссоримся.
—
Ладно, не волнуйся, но скажи мне, наконец, откуда она у тебя появилась, эта брошка, которую могла носить только персона, посещающая забегаловки, в которых подают почки в соусе за сорок су? Это что— воспоминание о любимой женщине? Я думаю, что
у тебя была веская причина для этого. Утверждают, что тебя недавно
видели в серьёзных салонах, где показываются молоденькие, хорошо воспитанные и образованные девушки, которые охотно бы вышли замуж за художника, лишь бы он только зарабатывал сорок тысяч франков в год, а твой доход уже должен приближаться к этой внушительной цифре. Но эти девушки не могут носить такие позолоченные побрякушки. Если ты хочешь, чтобы я завидовал тебе, расскажи мне об этом.
—
Верро, мой друг, ты говоришь глупости, и мне не следовало бы тебе отвечать, но нужно питать жалость и милосердие к умалишённым. Я готов тебе сообщить, что нашел эту булавку вчера вечером, в омнибусе, и что я её сохранил, как воспоминание о бедной девушке, умершей вчера, ведь она должна была служить ей, чтобы удерживать шляпку на её несчастной головке по время поездки.
—
Ах! Тогда поразмышляем! Это-украшение для празднично разодетых кухарок, а я тебя со всей ответственностью могу заверить, что чудесное создание, которое в этот момент располагается на одной из мраморных плит Морга, никогда в своей жизни не таскало корзин с провизией. Я скорее думаю, что её потеряла в омнибусе одна из её соседок.
—
Тогда я тебе её дарю, — ответил Амьен.
—
Я принимаю твой подарок, — воскликнул Верро. — Это — вещественное доказательство. Иногда достаточно самой маленькой вещицы… чего-нибудь, на что никто не обратил внимания, чтобы поймать убийцу… бумаги… запонка, забытая в театре на месте преступления… как это описано в известном романе «Преступление в Гранд Опера», это называется перст Божий.
—
Хорошо! Твоя страстишка будет удовлетворена… булавка твоя!
—
Называй это как хочешь-капризом… страстью. Но эта страсть к установлению истины принесла в мою голову одну идею, и я собираюсь проделать перед твоими глазами один опыт. Где Улисс? Иди сюда, ко мне, Улисс! Мяу! Мяу! Мяу! — мурлыкал Верро ласковым голосом.
—
Что ещё ты хочешь от моего кота? Не беспокой хоть его, я тебя прошу.
Улисс, привлечённый жестами горе-художника и следователя-любителя одновременно, уже подходил к нему медленно, степенно, как и подобает коту, который уважает себя, и является хранителем очага.
—
Не иди к нему, Улисс, — сказал Амьен. — Ты прекрасно видишь, что этот господин лишь посмеётся над тобой. У него нет ничего, чем он бы мог угостить тебя.
—
Я ему не принёс ничего вкусненького, это ясно, — пробормотал Верро. — Я не могу себе позволить подкармливать кошек моих друзей, но я могу их приласкать. Улисс — сытое и довольное животное, Улисс меня любит за мою доброту, а не за подачки. Позволь ему засвидетельствовать свою привязанность ко мне и потереться о мою штанину.
Говоря без умолку всякую ерунду, чтобы отвлечь внимание своего друга, горе-художник и кошачий дьявол по совместительству сел на скамеечку и протянул свою вероломную руку к ангорскому коту, который самонадеянно приближался к нему.
Амьен, хотя и наблюдал за действиями Верро, не увидел, что тот зажал между своими пальцами позолоченную булавку, скрыв позолоченную головку, и лишь острие булавки, как швейная игла, торчало перед пальцами, но со стороны это не было заметно.
Улисс это видел, но он это был любопытен и жаден— это самые безобидные пороки кошек из хорошего дома— и он приближался, чтобы обнюхать незнакомый предмет, который ему предлагал близкий друг его хозяина.
Его морда оказалась в контакте с заострённым инструментом, и Верро злоупотребил положением, чтобы слегка пронзить розовый нос бедного зверя, который инстинктивное совершил движение назад… только одно.
Его голова вдруг опрокинулась на шею, его длинные шелковистые волосы стали дыбом, спина выгнулась, как горбатый мост в Дольче Акве, широко раздвинутые лапы напряглись и застыли, челюсти раскрылись, а глаза поблекли… но Улисс на стал мяукать, издавать это всем известное заунывное мяуканье, которым кошки жалуются на свою судьбу, не стал прыгать и шарахаться из стороны в сторону… он осталась неподвижен и нем. Затем конвульсивное колебание потрясло все его тело, и, по прошествии двадцати или тридцати секунд он упал, как подкошенный.
—
Что ты сделал с Улиссом? — закричал Амьен, устремляясь к животному, которое он так любил.
И как только он до него дотронулся, произнёс, взволнованный:
—
Он умер.
—
Да… так же, как девушка из омнибуса, — спокойно подтвердил Верро.
—
Ты его убил, — продолжил художник с гневом. — Это уже не шутка. Убирайся вон, и чтобы ноги твоей больше не было на пороге моего дома.
—
Ты меня выгоняешь?
—
Да, потому что ты разрушаешь и губишь все, до чего дотрагиваешься, все, что я люблю. За те полчаса, что прошли с того мгновения, когда ты переступил порог моей мастерской, ты причинил всем только горе. Пия ушла вся в слезах, и причиной тому ты. Но и этого тебе было мало, и ты убил моего несчастного кота, который был радостью моей мастерской. В действительности, если бы я не знал, что ты — на три четверти умалишённый, я бы не довольствовался тем, что закрыл мою дверь для тебя, я бы призвал тебя к ответу за твоё гнусное поведение.
—
Это было бы странно, — насмешливо сказал Верро, — чрезмерно странно! Тащить меня на лужайку и сразу же одаривать ударом шпагой за то, что я тебе спас жизнь, это — вершина неблагодарности.
—
Ты мне спас жизнь, ты!
—
Ни больше, ни меньше, мой дорогой.
—
Мне было бы любопытно узнать как. Ты будешь меня уверять, что моя кошка страдала бешенством?
—
Нет. Улисс был честным ангорским котом, и если он и был в чем-то виноват, так это только в том, что время от времени он рвал мои брюки, точа об них свои когти. Но эту вину он искупил, погибнув ради своего хозяина, ради того, чтобы одно ужасное преступление не осталось безнаказанным.
—
Ещё одна нелепость из твоих уст!
—
Можешь ты меня хотя бы выслушать, прежде чем выставишь на улицу? Я у тебя прошу только десять минут, чтобы доказать тебе, что если бы меня не посетила одна гениальная идея, тебя бы вскоре посетило несчастье.
—
Ладно, у тебя десять минут! Но потом …
—
Потом ты можешь делать все, что захочешь… и я тоже. Видишь ли ты эту булавку?
—
Да, и если бы я знал, что ты её воспользуешься для того, чтобы пронзить сердце бедного Улисса…
—
Я ему не пронзил сердце, посмотри же сам! Нет ни капли крови на его белом меху, я его лишь слегка уколол в морду и он свалился замертво. Теперь понимаешь ли ты то, что произошло вчера вечером в омнибусе?
—
Как? Что ты имеешь в виду? …
—
Бедная девушка, которая сейчас лежит в Морге, была убита также, как я убил только что Улисса. Только она была пронзена иглой в руку.
—
Что… Этой булавкой?
—
Мой Бог, да. Не потребовалось ничего большего. И агония малышки не была ни длиннее, ни шумнее, чем кончина твоей кошки.
—
Что! Булавка была …
—
Отравленная, мой дорогой, и ты её носил в карман твоего пальто. Роясь в вышеупомянутом кармане, чтобы взять платок или кисет с табаком, твои пальцы безошибочно встретили бы кончик этой любезной штучки для волос, и на ближайшей выставке… было бы, по крайней мере, на одну картину и одного призёра меньше. Чудо, что я ещё жив, — продолжил Верро. — Если бы я взял булавку за кончик-острие, а не за позолоченную головку на другом конце, я в этот час валялся бы, распластанный, как твой кот, на полу мастерской, и ты должен был взять на себя расходы по моим похоронам. Конечно, это не было бы катастрофой для тебя, моя смерть, да и искусство не потеряло бы много, но я, все-таки предпочитаю, чтобы это несчастье случилось с твоей кошкой, а не со мной.
—
Я тоже, — прошептал Амьен, расстроенный так, что он даже не понимал, где находится.
—
Спасибо за эту прекрасную благодарственную речь, твои дифирамбы меня вдохновляют— сказал горе-художник с иронической гримасой. — Я констатирую с удовольствием, что ты не хочешь больше мешать мне тебя спасать, и я тебя искренне поздравляю c тем, что ты подобрал в омнибусе этот маленький инструмент. Он послужит мне и поможет найти тех, кто его придумал.
—
Булавка, которая убивает!.. В это невозможно поверить …
—
Факты налицо.
—
Но эти яды, которые поражают жертвы, они существуют только в романах или драмах …
—
И у дикарей, мой дорогой друг. Они погружают концы своих стрел в яд, когда ходят на охоту или на войну, и все раны, нанесённые этими стрелами смертельны, это общеизвестный факт.
—
Да, я действительно где-то читал об этом, но …
—
И яд, который они используют, известен также. Это — кураре. Утверждают, что они его изготовляют из яда гремучей змеи, и все, кто интересуется этим вопросом знают, что он бесконечно долго сохраняет свои свойства в сухом виде. Вот, смотри! Видишь это красноватое покрытие, похожее на лак, на кончике этой булавки … это и есть химический продукт, с помощью которого можно погубить целый прусский полк менее чем за пять минут. Я всегда жалел, что мы не натирали этим средством наши штыки во время осады Парижа пруссаками …
—
Говори серьёзно, смерть— не повод для шутки. И если твои домыслы подтвердятся, если это реально…
—
Ты ещё сомневаешься? Ты можешь убедиться в моей правоте, рассмотрев внимательно Улисса. Он чувствовал себя превосходно, но одного лёгкого укола было достаточно, чтобы погасить его жизнь. И ты видел, как он умер… без потрясения и беззвучно. Едва ощутимое вздрагивание, момент неподвижности, затем падение и все кончено. Точно сцена в омнибусе, не находишь?
—
Это правда… девушка издала лишь тихий, очень слабый крик… напряглась …
—
И её голова упала на плечо соседки, после чего она не шевелилась больше. Удар был нанесён.
—
Что! Эта дама, которая сидела слева от нее, имела при себе …
—
Я тебе расскажу все об этом деле! И ты, если захочешь, сможешь затем меня выгнать, но не раньше, чем я закончу свой рассказ. Хорошо?
Амьен жестом показал, что он больше не думает о том, чтобы отсылать прочь своего друга, и что он простил ему убийство Улисса.
—
Инструмент, который использовали для убийства, — начал Верро, — должен был быть изготовлен, подготовлен и принесён к месту преступления мужчиной, который поднялся на крышу омнибуса. Женщина не могла бы манипулировать ядом… да, вероятно, и не осмелилась бы. Рассмотри, я тебя прошу, внимательно этот миниатюрный дротик. Он совершенно новый, явно не использовался по своему прямому предназначению, и со стороны трудно представить себе что-либо более хитроумное и не способное вызвать подозрения. Он имеет форму булавки для шляпки, у него вполне невинный вид, и если его случайно увидят в руках плутовки, которая им пользовалась, никто не догадался бы об истинном назначении этой штуковины. Игла заканчивается шаром с одной стороны, чтобы её было удобно держать, не поранившись.
Игла довольно коротка, чтобы её можно было легко спрятать в муфте, но достаточно длинна и довольно остра, чтобы пробить самую плотную одежду, но этого не потребовалось, ведь несчастная малышка носила прохудившееся от времени платье, от которого старая ткань её защищала не лучше, чем паутина.
Одним словом, все было спланировано и подготовлено этим мужчиной, который должен быть изрядным злодеем. Ну а женщина взяла на себя исполнение его плана.
—
Почему она? Неужели этот злодей настолько труслив, чтобы действовать самому, в одиночку!
—
Нет, это не так. Просто он резонно посчитал, что женщина привлекла бы намного меньше внимание других путешественниц из омнибуса. Они вряд ли нашли бы естественным, если бы девушка позволила отдыхать своей голове на плече соседа, в то время как на плече соседки это было совсем просто и естественно.
—
Этот незнакомец, следовательно, знал, как девушка осядет на плечо соседки после укола …
—
Вполне, мой дорогой. Результаты действия кураре известны так же хорошо, как и мышьяка. Сто раз был испытан этот смертельный яд в лаборатории Коллеж де Франс. Пронзённое животное останавливается, наклоняется направо или налево, и падает, если никто его не поддержит. План месье с империала состоял в том, чтобы его сообщница в салоне омнибуса поддерживала мёртвую девушку до момента, когда подвернётся случай от нее безопасно освободиться. Невозможно было её просто оставить в салоне. Она упала бы со своего кресла, и последовала бы сцена, в которой убийца не хотела оказаться замешанной.
—
Ты, значит, полагаешь, что мужчина вначале устроился в салоне только для того, чтобы занять место для своей сообщницы?
—
Я не только так полагаю, но я в этом уверен. Был ли ты в омнибусе до него? Ты видел, как он вошёл?
—
Я прибыл одним из первых. Девушка пришла почти сразу же за мной, и она села лицом к лицу передо мной, когда мужчина поднялся.
—
И, разумеется, он пошёл и расположился прямо около её.
—
Да, хотя были и другие свободные места. У меня даже возникла в этот момент мысль, что он её знал. Но вскоре я заметил, что они не разговаривали друг с другом.
—
Так что теперь понятно, как этот негодяй действовал. Он подстерегал малышку на подступах к станции омнибусов. Его сообщница, которая получила его инструкции, держалась немного поодаль.
—
Тогда они должны были знать, что эта девушка собиралась поехать на омнибусе?
—
Вероятно. Откуда они это знали? Это — то, что я выясню позже, когда обнаружу этих негодяев.
—
Значит ты надеешься их найти?
—
Черт возьми! Я же тебе сказал, что обязательно их найду. Слушай дальше. Мужчина все это проделал лишь для того, чтобы его сообщница точно оказалась в этой поездке рядом с будущей жертвой. Мужчина предполагал, что этот последний рейс будет забит, свободных мест не будет. И его расчёт оказался верен. И тогда они сыграли комедию, сценку, в которой женщина чрезвычайно огорчена тем, что не может уехать, а галантный мужчина любезно предлагает уступить своё место. Могу предположить, что дама не сопротивлялась этому предложению.
—
Она это сделала чисто формально и даже обменялась несколькими комплиментами с ним, после чего села в омнибус. Дама даже приняла его помощь, чтобы подняться по ступенькам, она схватилась за его руку своей маленькой ручкой… о мой бог! Она была в тонкой кожаной перчатке, и даже задержала его руку в своей немного больше, чем это comme il faut.
—
Отлично! Я это зафиксировал.
—
Ты хочешь сказать, что эта фамильярность доказывает, что они были знакомы? Мой Бог! Вполне вероятно.
—
Это точно… практически несомненно, потому что они оставили омнибус почти одновременно, мужчина сошёл на Рю де ла Тур де Оверни, а женщина на улице Лаваль. Но продолжительное пожатие рук ещё доказывает и кое-что ещё, мой дорогой.
—
Что?
—
У мужчины на руках также были перчатки, не правда ли?
—
Да. Толстые, подбитых мехом перчатки, кожей внутрь… которые должно быть были куплены в английском магазине. Я обратил внимание на эту деталь.
—
Было от чего. Эти перчатки стоят дорого, а мужчина, как ты мне говорил, не выглядел богатым человеком.
—
Но и не нищим. Этакий мелкий буржуа, унтер-офицер в отставке.
—
Итак! Если у не самого богатого человека были такие толстые перчатки, то остаётся предположить, что это из-за боязни уколоться отравленной иглой.
—
Как это?
—
Он, несомненно, держал в руках булавку, и передал её даме, делая вид, что он влюблённо сжимает кончики её пальцев. Они оба знали, что малейшая царапина может быть смертельна, и они приняли меры предосторожности против несчастного случая.
—
Тогда, если верить тебе, женщина в этот момент получила в свои руки от своего сообщника булавку… и она ею воспользовалась …
—
Очень искусно, так как никто ничего не увидел. Дама ожидала случая, который ей представился на выезде с Нового моста. Омнибус подбросило на камне, и жертву бросило на её соседку напротив. Она этим воспользовалась, чтобы уколоть её кончиком своего инструмента. Дальше, и у меня нет больше ни тени сомнения в этом, она манипулировала уже мёртвым телом девушки.
—
Да, — прошептал Амьен, — все эти факты, кажется, естественно связываются между собой. Думаю, вполне логично, что ты связал их в одну цепочку…
—
Это не цепочка, это — доказательство.
—
Тогда объясни мне, пожалуйста, почему эта ужасная женщина забыла в омнибусе эту отравленную булавку, которая может её выдать.
—
Вполне можно предположить, что она не сделала этого нарочно. Булавка могла выскользнуть из её пальцев, несчастная девушка резко подскочила после того, как получила царапину или укол, убивший её
только что, и убийца непроизвольно выронила иглу. Поначалу она опасалась сама уколоться, подбирая булавку в темноте, а потом уже опасалась обратить внимание на
своё поведение, разыскивая на полу орудие убийства, кроме того не забывай, что в этом случае ей пришлось бы непременно выпустить из своих объятий жертву своего преступления, которая бы непременно упала. И когда настал момент уходить, ей уже не терпелось убежать, ведь, задумайся, какое страшное испытание даже для самого жестокого убийства несколько минут обнимать холодный труп… тест не для слабонервных… и она сбежала с места преступления, как говорится, без задних ног.
—
Дама могла предусмотрительно подумать, между тем, что впоследствии это осязаемое доказательство её преступления будет обнаружено.
—
Конечно! Но она надеялась, что служащий, ответственный за уборку омнибуса, сметёт этот предмет наружу вместе с остальным мусором. Что будет дальше её уже почти не беспокоило. Даму не волновало, что булавка может убить случайных людей, которые могли её подобрать, и у них могла возникнуть фатальная идея ею воспользоваться по назначению! Могла произойти целая цепочка смертей. Но злодеи такого масштаба смотрят на смерть человека другими глазами. Жизнь человека для них не имеет никакого значения.
—
Факт, что эта женщина должна быть чудовищем, монстром: убить так бедного ребёнка, которого она даже не знала, это… злодейство… хладнокровная и бессмысленная жестокость.
—
Как! — воскликнул Верро, — ты думаешь, что она её убила ради собственного удовольствия, убийство ради убийства… ради апробации своего красивого инструмента, так же, как некогда маркиза де Бренвилье, которая травила клошаров, просивших у нее милостыню, и которых она щедро одаряла отравленными пирожными, чтобы увидеть результат действия ядов, которые она собиралась использовать для своих врагов! Амьен, мой друг, ты зашёл чересчур далеко. Эти опыты вышли из моды, потому что они слишком опасны для производителей. Вспомни, чем закончила маркиза. Это создание прекрасно знало, что делало, играя булавкой со своей соседкой. Именно эту девушку она хотела убить, а не какую-нибудь другую.
—
Но почему? Что ей сделала эта несчастная?
—
Я не в состоянии пока ответить тебе на этот вопрос. Мне нужно время, чтобы все выяснить. Но, уверяю тебя, что я все выясню и дам тебе ответ на все вопросы. Сейчас же я могу лишь утверждать, что у любого преступления есть мотив. Это может быть желание избавиться в силу разных причин от жены, например, месть… ревность… жадность …
—
Но это преступление, зачем его было совершать в омнибусе на глазах пятнадцати человек, вместо того…
—
Вместо того, чтобы ожидать жертву на углу темной улицы, или убить её дома. Это кажется странным, на первый взгляд, и однако вполне объяснимо. Убийство на дому очень рискованно и его опасно совершить. Предположи, что эта женщина или её сообщник придут домой в квартиру малышки… консьерж или соседи могли бы это заметить. А ведь именно этого эта парочка хотела избежать. Или предположи, что напротив, бедняжка сама пришла бы к ним или к одному из них… и больше не вышла бы из их апартаментов. Это было бы ещё хуже для преступников. Как освободиться от трупа? Это — камень преткновения для всех убийц. Делать своё дело на улице было бы легче, при условии, что они не действовали бы средь бела дня. Но, вероятно, малышка выходила на улицу очень редко по вечерам. И при том нужно было, чтобы улица была пустынной, а жертва в одиночестве. Кто может нам доказать, что вчера вечером до станции омнибусов эту девушку не сопровождал кто-либо… подруга или друг, который её покинул только рядом со станцией? Тогда, без сомнения, преступная пара, которая за ними, возможно следовала, и которая безусловно её подстерегала, решила действовать прямо в омнибусе. Учитывая гениальное орудие убийства, которым они пользовались, ничего не могло быть проще. Трудность состояла лишь в том, чтобы быстро убраться из омнибуса, прежде чем заметят, что пассажирка умерла, и ты сам видел, как умело и успешно они это проделали. И только ты можешь найти их теперь в Париже! Ты узнал бы их при встрече?
—
Я, возможно, опознал бы мужчину… хотя я видел его лишь мельком, а у женщины я заметил только её глаза через вуалетку…
—
Этого недостаточно. Возможно, что ты слышал её голос?
—
Да… звучный голос… немного низкий… с парижским акцентом, как мне показалось… впрочем, ничего особенного. Но, если я, как человек, который их хотя бы видел мельком, говорю тебе о том, что был бы не в состоянии их узнать при встрече… я хотел бы знать, как ты, кто их никогда не видел, можешь льстить себе, собираясь их опознать и схватить.
—
О! У меня в наличии разработанная мной система. Я буду двигаться от известного к неизвестному, как математик. Когда я узнаю, как звали эту убитую девушку и кем она работала, я начну разыскивать людей, которых она посещала, и нужно быть полным идиотом, чтобы не обнаружить среди них тех, кто был заинтересован в её смерти.
—
Ты забываешь, что мужчина и женщина из омнибуса ей были неизвестны, так как она к ним не обратилась с приветствием и не завела разговор во время поездки, следовательно, она с ними раньше не встречалась.
—
Просто они действовали в интересах других людей.
—
Это довольно рискованное предположение. И кроме того, твой план принципиально несостоятелен. Мы не знаем ни имени, ни адреса покойницы.
—
Прошу прощения! Её выставили на всеобщее обозрение в Морге, и …
—
Это доказывает лишь то, что при ней не нашли никакого указания на её личность.
—
Никакого, это правда. Я справился у секретаря этого мрачного учреждения, и как раз собирался рассказать о моем разговоре с этим служащим, когда ты прервал меня, попрекнув, что я пугаю Пию. Он мне сказал, что у покойницы в карманах было только потёртое портмоне, которое содержало сумму в четырнадцать су и маленькая связка ключей, привязанных к стальному кольцу. На её белье не было никаких меток. Впрочем, как и визитной карточки, что не удивительно, но странно, что и даже ни малейшего клочка бумаги.
—
Клочок бумаги! Ты заставляешь меня вспомнить, что я подобрал один вчера вечером в омнибусе.
—
Ты нашел бумагу, и не сказал мне об этом?
—
Клянусь, я забыл о ней.
—
О чем ты думал тогда?
—
Представь себе, о моей картине, которую мне необходимо закончить к Выставке, а тебе следовало бы подумать о твоей, то есть о той, что ты хочешь всем продемонстрировать всем уже не один год, и которую ты ещё даже не нанёс ни одного мазка.
—
Оставь меня в покое… ты способен рассуждать только о своей профессии. А у меня есть страсть к познанию неизвестного. И я вижу, что мне решительно нечего делать с тобой.
—
О! С
овсем ничего!?
—
Поэтому я буду действовать самостоятельно. Если ты мне поможешь, то сам того не зная и не желая этого. Итак, посмотрим, что получится из этого! Что ты сделал с этой бумагой? Ты её не сжёг, я надеюсь!
—
Нет, но я мог её потерять.
—
Да, ты на это способен. Скажи мне, наконец, куда ты её положил?
—
Она должна была быть в кармане моего пальто, вместе с булавкой, которой ты отправил на тот свет моего кота. Бедный Улисс! — вздохнул художник, смотря на уже остывшее тело несчастного ангора.
Верро все ещё держал в руке эту грозную булавку, и Амьен с некоторым беспокойством наблюдал, как он ею жестикулировал во время их разговора.
—
Я буду тебе страшно благодарен, если ты окажешь мне милость и положишь в какое-нибудь безопасное место это опасное средство уничтожения всего живого, — произнёс Амьен. — Ты уже имел бешеный успех у публики в моем лице, убив невиновного зверя. Мне кажется, что на сегодня смертей достаточно.
—
Не пугайся, мне известна опасная сила этого тонкого инструмента, — ответил бездарь-живописец, и сыщик в одном лице, который, между тем, и сам думал, что ему уже пора освободиться от смертельного оружия.
И Верро его деликатно поместил на печь, и побежал к пальто, откуда он до этого извлёк смертельную булавку. Он погрузил свою руку в оттопыренный зияющий карман и вытащил изрядно помятую бумагу.
—
Слава богу! Она была ещё там, — воскликнул он. — Это — действительно она, бумага из омнибуса, не правда ли?
—
Полагаю, что да. Но я тебе признаюсь, что подобрал её вчера вечером, не рассматривая, и не сделал этого до сих пор.
—
Ах! Ты и вправду можешь похвастаться тем, что не любознателен. Это неслыханно! Почему ты тогда подобрал эту бумагу, если не собирался на нее посмотреть?
—
Вчера у меня было такое намерение, но в этот момент ты меня окликнул… я вошёл в кафе, и твои экстравагантные речи расстроили мой разум. Ладно, какое это имеет сейчас значение. Сейчас этот клочок в твоих руках, эта несчастная бумага. Скажи мне, что это такое.
—
Это — письмо, мой дорогой, — произнёс с видом триумфатора неудачливый художник.
—
Без конверта и, следовательно, без адреса, — обратил внимание на бумагу Амьен.
—
Ничего страшного. Письмо должно мне рассказать о многом. Итак, взглянем на него… Ах! Чёрт! Оно разорвано почти посередине, вдоль листа. Это сильно затруднит чтение… но я обязательно разгадаю этот текст… и что хотят сказать нам майские жуки и птицы, которые оттиск которых украшает бумагу… это будет труднее, чем дополнить недостающий текст до конца строчек… но нас же двое, а один ум хорошо, а два, как говорится, лучше. Послушай: «Дорогая… следующее слово оторвано, значит было дорогая подруга, или: дорогая и какое-то уменьшительное имя. Жаль, что мы его не можем прочитать, но все равно неплохо, потому что мы узнали, что письмо адресовано женщине.
—
Мужчиной, как мне кажется. Почерк характерно мужской.
—
Да, он твёрдый, крупный и довольно нерегулярный. И это не коммерческая запись, а личное письмо. Хорошо, почитаем продолжение.
«Наконец, мы здесь. Я уверен, что [оторвано] прибыла в прошлом месяце. Она поселилась на улице [оторвано] выходит редко, но ходит иногда вечером [оторвано] ещё не знаю, к кому, но [оторвано] возвратись к моему первому проекту, так как он больше [оторвано] не нужно, чтобы это тянулось. И ещё, доставь мне удовольствие [оторвано] наше соглашение. Хотим все закончить в течение [оторвано] ни одного слова никому, даже не [оторвано] обнаружили, что та опасается в доме …
Итак, до завтра, моя хорошенькая З …»
—
О! Имя дамы начинается с буквы З. Это — уже что-то. Есть от чего отталкиваться в нашем расследовании.
—
А подпись? — спросил Амьен.
—
Оторвана… отсутствует… не осталось и одной буковки, — ответил Верро, громко прочитавший письмо, нарочито долго останавливаясь после каждой купюры фразы.
—
Черт возьми! Ты его так оптимистично анонсировал, этот обрывок бумаги, но это письмо абсолютно непонятно. Все, что стало нам известно в результате его изучения, так это лишь то, что покойницу звали Зели, или Зефирин, или Зеноби, или …
—
Значит ты думаешь, что именно она потеряла эту бумагу?
—
Боже мой, мне об этом ничего не известно! Но если не она, то кто?
—
Несомненно, другая, та дама, которая уколола её булавкой. И хочешь я тебе скажу, какую службу сослужил этот фрагмент письма? Он потребовался для того, чтобы завернуть в него отравленную булавку. Это хорошо видно. Посмотри, как его смяли. Злодейка боялась уколоться, и она взяла этот кусок бумаги из предосторожности.
—
Да, — прошептал Амьен, — у нее был весомый повод разорвать письмо. Но, как бы то ни было, невозможно понять, что было написано на этом клочке бумаги.
—
Ты действительно так думаешь?
—
Какие выводы ты можешь сделать из этих обрывочных фраз?
—
Для меня смысл также ясен, как будто перед моими глазами абсолютно целое письмо.
—
Тогда, я тебе буду чрезвычайно обязан, если ты меня посвятишь в суть своих умозаключений, так как мне оно совершенно не понятно.
—
Потому что ты не потрудился над ним поразмышлять. Между тем, тебе должно было броситься в глаза то, что письмо было написано мужчиной и адресовано женщине.
—
Чьё уменьшительное имя начинается с буквы З. Это не вызывает сомнения. Но затем? Что письмо имеет в виду, в чем его смысл?
—
Отправить в мир иной бедную девушку, которая лежит в этот час на плите в Морге.
—
Где, черт возьми, ты видишь указание на это?
—
Да в каждой строчке. Я их для тебя продолжу, и ты тоже все поймёшь. Итак, начнём с первой строчки. Письмо начинается с этих слов: «Наконец, мы здесь!» Этим автор письма хочет сказать: наконец, момент, чтобы действовать, настал. Посмотрим дальше, — продолжил Верро, — »Я уверен, что она прибыла в прошлом месяце!»— Кто?… Несчастная девушка, очевидно! Прибыла, заметь, написано в женском роде. И это очень хорошо согласуется с нашими оценками фактов. Девушка не француженка. Я её хорошо рассмотрел в Морге. Отнюдь не наше бледное солнце позолотило эту кожу.
—
Это правда. У нее испанский тип лица.
—
Давай допустим, если ты согласен, что она прибыла из Андалусии. Что она собиралась делать здесь, в холодном Париже? Автор письма это знал, без сомнения, и его первая забота состояла в том, чтобы выследить девушку. Он сначала констатировал, что его жертва выходила иногда по вечерам из дома… но к кому? Он этого ещё не знает, но ему достаточно того, что она куда-то ходит. У него есть план, и он хочет его быстрее реализовать. Этот проект, как мы о нем теперь знаем, назывался — укол булавки.
«Не нужно, чтобы это тянулось”, написал этот изобретатель оперативных способов решения проблем. Этот разговорный язык вполне соответствует облику мужчины, которого ты мне описал, пассажиру с крыши омнибуса …»
«И он добавляет: “ хотим все закончить в течении ” Вот конец фразы, который ясно определяет его ситуацию. Он действует в интересах другого лица. Этот злодей всего лишь наёмный убийца. Хотим… кто это? Вероятно, человек, заинтересованный в смерти девушки и слишком осторожный, чтобы компрометировать себя, действуя лично.
—
Да, — прошептал Амьен, — твои рассуждения неплохи, но ты не намного продвинулся в своём расследовании, так как все произошедшее для меня по прежнему в тумане.
—
Прости, но на второй строчке письма есть указание на место… которое довольно точно. «Она живёт»… она… это — разумеется, вновь прибывшая, наша покойница из Морга… «она живёт на улице …»
—
Итак! Название улицы в нашей части письма не упомянуто? И как ты надеешься его разгадать? Это было бы большой удачей, более сильной, чем все твои предыдущие успехи.
—
Обратите внимание, мой дорогой друг, что там написано не rue de…, а rue des, то есть во множественном числе, то есть это говорит о том, что она живёт, например, не на улице каменщика, а на улице каменщиков, что существенно облегчит мои поиски. Сколько в Париже есть улиц rue des? Очень мало, не правда ли?
—
Ты ошибаешься. Много. Если ты пожелаешь, я тебе процитирую по памяти целую дюжину rue des: улица Миндальных деревьев… улица Белых Кающихся грешников… улица Пивных бутылок… улица Четырёх Ветров… улица Двух экю… улица Плохих ребят …
—
Достаточно! Достаточно! Так ты дойдёшь до того, что перескажешь мне от начала до конца Альманах Боттана со всеми парижскими улицами, а ведь я предпочитаю обращаться к нему исключительно на досуге. Что бы ты не говорил, даже если таких улиц в Париже пятьдесят, я обойду и осмотрю их все. Я пойду от одной двери к следующей, и буду спрашивать, не исчезла ли из дома на их улице молодая девушка.
—
И, возможно, удача тебе улыбнётся месяца через три или четыре, — тихо произнёс Амьен, пожимая плечами. — Было бы проще отправиться к комиссару полиции и вручить ему булавку и обрывок письма, чтобы он начал расследование и, используя средства, которыми он располагает, быстро обнаружил адрес жертвы.
—
Отлично. Значит ты собираешься сопроводить меня к этому комиссару полиции.
—
Я! Ах! Ну нет! Я тебе уже сказал, что у меня совершенно нет свободного времени.
—
Как пожелаешь. Но я ничего не могу сделать без тебя… Я имею в виду-ничего официального. Если я представляюсь перед комиссаром, мне придётся ему сказать, откуда у меня появился обрывок письма, который я ему покажу… мне придётся также ему рассказать о смерти твоей кошки. Я уверен также, что он попросит показать ему труп Улисса. Будет сделана аутопсия бедного зверя.
—
Никогда в жизни! Я этого не допущу— воскликнул Амьен. — Я не хочу, чтобы препарировали моего кота. Вполне достаточно того, что ты его убил.
—
Следовательно, как я понимаю, у меня нет никакой необходимости навещать комиссара, чтобы ему рассказать эту историю, — нагловато прокомментировал его слова Верро. — Цель оправдывает средства, мой дорогой. Если мы посвятим в это дело полицию, ты должен рассчитывать, что окажешься в её руках всерьёз и надолго.
—
Это — как раз то, чего я не хочу.
—
И это — то, что несомненно и непременно настигнет тебя. Сейчас никто не верит в преступление. Только поэтому тебя оставили в покое. Но если будет констатировано отравление Улисса со схожими обстоятельствами, все моментально изменится. Будут проведены опыты с булавкой на других животных, принесут в жертву несколько собак и кроликов, врачи напишут длинные отчёты о последствиях воздействия яда кураре, и ни у кого больше не будет сомнений, что девушка из омнибуса была убита. Поднимут на ноги всех агентов полиции, тайных и явных… и, так как ты единственный человек, который видел убийцу и наблюдал за её действиями, а также и за её сообщником на крыше омнибуса, тебя попросят, без сомнения, сопровождать этих господ агентов в их экспедиции по обнаружению преступников… если их конечно удастся найти.
—
О чем ты говоришь! Ты насмехаешься надо мной?
—
Я, конечно, немного утрировал и перегрузил свою картину красками… темными мазками… но, не намного. Можешь быть уверен, что тебя будут вызывать каждый раз, когда полиция найдёт подозрительного человека или подозрительную женщину. И ты будешь опознавать всех подозрительных женщин и мужчин Парижа.
—
Прелестная перспектива! Так придётся все дни проводить в префектуре полиции. Нет, нет! Делай все, что тебе заблагорассудится, лишь бы только мне не пришлось заниматься чем-либо другим, кроме моей картины.
—
Тогда тебе не остаётся ничего другого, кроме как отдать мне булавку и разорванное письмо… и ты мне даёшь карт-бланш, не контролируя больше мои операции. Согласен?
—
Скорее всего да, чем нет…! При условии, что ты меня будешь держать в курсе этого дела.
—
Считай, что я уже все это делаю. Я буду занят только охотой на этих негодяев, и поскольку я так или иначе вижу тебя каждый день, мне ничего не останется делать, кроме как рассказывать тебе о том, что я сделал накануне. Это соответствовало бы твоим желаниям, не правда ли? И мы обойдёмся без комиссара.
—
Да и между тем …
—
Что ещё?
—
Я спрашиваю себя, имеем ли мы право хранить у нас эти предметы и все то, что мы знаем. Долг хорошего гражданина своей страны состоит в том, чтобы просветить юстицию, а ты хочешь запереть, как говорится, свет под ведром.
—
Прошу прощения! Я как раз таки намерен посвятить юстицию во все нюансы этого дела… но… не сейчас… а когда настанет нужный момент… Ох уж эта юстиция!.. Как говорится, когда я буду держать за горло эту преступную парочку… то тогда… о… да юстиция должна будет меня благодарить за то, что я за неё выполню почти всю работу, и судебный процесс против этих негодяев будет мною уже наполовину подготовлен, когда я их предоставлю в руки этой самой юстиции на блюдечке с голубой каёмочкой.
—
В действительности… ты даже не поверишь… но я тобой восхищаюсь. На сколь… как ты уверен в своём таланте и способностях!.. И, без сомнения, ты будешь действовать в одиночку…?
—
Не совсем так. Я много, долго и самостоятельно занимался вопросами, находящимися в сфере профессиональных интересов юстиции, знакомился с трудами знаменитых сыщиков, и у меня есть все основания полагать, что я стану первоклассной полицейской ищейкой, но практика… мне её катастрофически не хватает. В начале расследования мне понадобится некий советник… инструктор, но не для проведения основного расследования, его я в состоянии завершить и сам, ведь моего инстинкта следователя вполне достаточно для этого, а лишь только для того, чтобы показать мне маленькие хитрости и уловки этой профессии. И такой человек у меня под рукой.
—
Неужели… не может быть. Где же ты с ним познакомился? Я то думал, что ты сосредоточен исключительно на холсте к выставке!
—
Мой Бог, да. Но совершенно случайно именно этого господина я стал очень часто встречать в одном кафе, где я размышлял о сюжете о будущего шедевра… но не этом квартале… и он мне предложил свою дружбу, потому что однажды вечером я сделал его портрет карандашом… и абсолютно точный. Он мне сказал, что полиция часто приглашает художников, чтобы сделать портрет предполагаемого преступника, и сделанный мной набросок очень хорош. Я почти уверен, что прежде он работал в полиции.
—
Черт возьми! Тебе повезло завести прекрасное знакомство.
—
Что ты хочешь от меня? Я не могу проводить все мои вечера в шикарных салонах предместья Сен-Жермен, как ты. Меня, почему-то, всегда забывают на них пригласить. Но если бы ты знал этого бравого Фурнье, ты понял бы, что мне нравится в его обществе. Он полон остроумия, злословия… и забавных анекдотов.
—
Я в этом не сомневаюсь, но я тебя легко и непринуждённо хочу избавить от необходимости представить меня ему, и даже больше… прошу тебя даже не упоминать этой личности обо мне. И теперь, когда мы достигли соглашения по всем вопросам, доставь мне удовольствие и освободи меня от всего, что может мне напомнить об этой мрачной истории. Унеси с собой письмо, булавку… и даже тело бедного Улисса.
—
А я не прошу тебя о большем, — ответил Верро, — и со своей стороны я тебя собираюсь освободить от обаяния своей персоны. У меня хватает и своих дел.
—
Но… последняя рекомендация, — добавил Амьен. — Не говори никогда ни слова об этом деле в присутствии Пии. Она очень раздражительна и нервна, и я боюсь, что…
—
Что потом она проболтается кому-нибудь. Не бойся. Я ей ничего не буду рассказывать. И если она у меня спросит, что стало с твоим котом, я ей отвечу, что он умер от паров мышьяка, полизав палитру с твоими волшебными красками.
Часть III
У Поля Амьена были свои причины не продолжать чересчур долго разговор с Верро, который и не закончился бы никогда, если бы только Поль предпринял хоть малейшую попытку вникнуть в смелые и фантастические идеи этого горе-художника-сыщика.
Верро не просил для себя большего, кроме как желания привлечь его к охоте на преступников, о которой он уже давно мечтал, но у Поля Амьена было меньше воображения и больше здравого смысла, чем у его товарища. Сейчас он соглашался с тем, что девушка из омнибуса могла быть убита, а не умерла естественной смертью. Эксперимент, который стоил жизни Улиссу, стал для него решающим… и определяющим. Но он был далёк от мысли, что с помощью имевшихся у них на руках улик возможно обнаружить преступников, и Амьена не прельщала возможность сесть на судно, отправляющееся в плавание с неясным результатом, и которое нарушило бы его душевный покой и равновесие, в котором он так нуждался для своей основной работы.
Не будучи честолюбив, Амьен, тем не менее, имел твёрдое желание завоёвывать независимое положение в обществе, и он был на верном пути к этой цели. Он уже обладал той известностью, которая ведёт к доброму имени, реноме, а иногда даже к славе. В парижском обществе считалось, что он уже перерос определение «талантливый художник», и вскоре станет большим художником и, соответственно, станет зарабатывать большие деньги.
Поль должен был, впрочем, благодарить за свои успехи только самого себя. Единственный сын негоцианта, который мог бы оставить ему большое наследство, Поль Амьен оказался в девятнадцать лет без поддержки родителей и без средств к существованию. Полностью разорённый одним из тех экономических кризисов, которые разрушают даже самые крепкие торговые дома, его отец умер от горя, оставив ему в наследство лишь доброе имя, так как он всем пожертвовал всеми своими средствами, пытаясь исполнить свои обязательства перед клиентами. Поль, потерявший свою мать при собственных родах, остался в этом мире совершенно одиноким, без единого близкого родственника, кроме троюродного кузена, который жил в провинции и внезапно помог ему, предоставив в его распоряжение сумму в тысячу франков, позволившую ему отправиться в поисках счастья за границу.
Поль Амьен, у которого не было никакого вкуса к профессии золотоискателя в Австралии, чувствовал в себе большую тягу к прекрасному, и решив стать художником, он использовал эту милостыню кузена для переезда в Рим, где задержался на пять лет, подрабатывая на жизнь в овощных лавках, чтобы было на что жить и, главным образом, учиться. Уехав из Парижа эвентуальным студентом, он вернулся художником… молодым, конечно, художником, но уже ценимым среди коллег и, главное, публики, которая покупает картины.
Благосклонно к нему отнеслись и парижские критики и, возможно, удачным для Поля обстоятельством стало то, что признание и деньги пришли к нему одновременно.
Амьен, конечно же, намного больше дорожил славой, но никогда при этом не забывал, что в этом мире именно деньги дают свободу, и творчества в том числе, и потому пытался примирить в себе принципы художественной свободы и потребности публики, которая якобы разбиралась в искусстве. «Когда я буду богат и независим, — говорил Поль сам себе, — я смогу целиком отдаться творчеству, которое я ставлю превыше всего. Состояние не является целью, но это — средство достижения этой цели.
И чтобы быстрее добиться независимости, к которой он так стремился, Поль Амьен думал иногда о том, что было бы неплохо жениться… и сделать это максимально эффективно.
У него было, разумеется, все то, что было нужно, дабы нравиться девушкам. Он был высок, тонок и хорошо сложен, черты его лица были немного неправильными, но у него была в целом выразительная и приветливая физиономия. Любезный и умный собеседник, без тени претензии на высокомерие, Поль обладал ещё многими другими превосходными качествами: доброе сердце, весёлый и открытый характер.
Можно было без труда предположить, что стремление примерить Поля в качестве жениха для завидных невест Парижа не проявляло невнимательность к нему. Уже два или три года, главным образом зимой, не проходило и дня без того, чтобы он не получил несколько интересных приглашений: балы и ужины, где Амьен был представлен девушкам, которых хотели выдать замуж. Поль охотно ходил на эти мероприятия, и играл там свою роль вполне достойно. Он проявил себя на этих смотринах самым положительным образом, и у него сложилась репутация завидного жениха, но до сих пор он ещё не нашел того, чего искал.
Амьен вбил себе в голову, что он женится только на девушке, которую полюбит, и он не хотел влюбиться сознательно, умом, а полюбить бессознательно, чувственно. И, тем не менее, претендентка все равно должна была обладать целым набором духовных и моральных качеств и, более того, она должна была обладать художественным вкусом, который бы вдохновлял его, как художника, и заставлял бы непременно и постоянно совершенствоваться.
На открытии нынешнего зимнего сезона Поль, однако, обратил серьёзное внимание на дочь господина, который был прежде в деловых связях с месье Амьеном-отцом, и стал радушно принимать сына своего бывшего партнёра, ровно с тех самых пор, как этот сын в перспективе собрался стать богатым и знаменитым.
И, конечно, мадемуазель Аврора Дюбуа заслуживала того, чтобы на нее обратили внимание. Для начала заметим, она была чудесно красива, также очаровательна, как и Пия, хотя походила на неё не более, чем день походит на ночь.
Пия была бледной и темноволосой, а мадемуазель Дюбуа была светловолосой и с нежной розовой кожей. Пия была невысокой, и её деликатные формы были ещё скорее обещающими, чем свершившимися, а мадемуазель Дюбуа была высокой, и, хотя ей было едва двадцать лет, её обильная красота уже завершила своё развитие.
Пия походила на деву Рафаэля… мадемуазель Дюбуа походила на фламандку кисти Рубенса.
И Поль Амьен, который любил мэтров всех стилей и направлений, всех школ и мастерских, в глубине души все-таки предпочитал итальянцев. Но, несмотря на это, Поль в последнее время был восхищён привлекательностью блестящей наследницы большого состоянии, которая ему оказала честь, предоставив свою руку на множество туров танца с начала зимнего сезона.
Как мы говорили, мадемуазель Аврора была наследницей изрядного состояния. Ворочая делами — это общеупотребительное выражение для обозначения вида деятельности капиталиста, обогатившегося спекуляцией— месье Дюбуа нажил значительное состояние, почётно приобретённое, благодаря удаче, как говорили его друзья, и у него не было других детей, кроме мадемуазель Авроры. Её мать умерла, оставив ей двести тысяч франков, во владение которыми она должна была вступить, достигнув оговорённого в завещании срока-двадцати пяти лет.
Господин Дюбуа, владеющий тремя домами в Париже, имел не меньше семидесяти тысяч фунтов ренты, и должен был оставить после себя дочери ещё больше, так как он делал каждый год неплохие сбережения, хотя и жил на очень респектабельную ногу.
Его дочь любила светскую жизнь, и не только часто принимала гостей в своём доме, но и любила получать приглашения на светские салоны и балы в лучших домах Парижа. И когда Аврора у себя устраивала свои чудесные званые ужины, то всегда отправляла приглашения Полю Амьену, который их с удовольствием принимал, менее из любви к превосходной кухне, а более из предпочтения к красоте мадемуазель Авроры.
И Поль так часто бывал у нее этой зимой, что, не имея возможности в качестве ответного жеста пригласить их к себе, поскольку жил в холостяцкой квартире, уже давно искал случай сделать месье и мадемуазель Дюбуа то, что в обществе называется знаком вежливости.
Итак, во время последнего ужина мадемуазель Дюбуа, которая сидела за столом рядом с месье Амьеном, выразила желание увидеть Рыцарей тумана, драму, постановка которая была только что возобновлена в театре Порт-Сен-Мартен и пользовалась большим успехом.
И Поль Амьен, который знал, что даже самые богатые парижские буржуа не пренебрегут возможностью бесплатно сходить в театр, подумал сразу же о том, что следует снять ложу на это представление. Он проявил хладнокровие и воздержался от того, чтобы сразу же предложить мадемуазель Авроре сходить на спектакль, но искусно справился у нее о занятости в ближайшие вечера, и выяснив, что на послезавтра у нее не было ни одного приглашения на светские рауты, он тут же зарезервировал прекрасную ложу в хорошем месте театра, не оплачивая её сам, чтобы не задеть деликатные чувства месье Дюбуа, попросив это сделать одного своего друга журналиста, после чего отправил бесплатные билеты господину Дюбуа.
И сегодня вечером, в день смерти несчастного Улисса, в то время, когда Верро, его убийца, выходил с его телом из дома художника, Амьен получил милостивое уведомление от месье Дюбуа, который его благодарил за билеты, и просил настоятельно присоединиться к нему в ложе на представлении, куда он намеревался привести свою дочь.
Правда, в этот момент художник уже не был очень уж расположен получать удовольствие от пребывания в течении нескольких часов в прелестной компании мадемуазель Авроры, учитывая множество неприятных происшествий, приключившихся с ним в последние дни.
Трагедия в омнибусе его расстроила, а проекты Верро обеспокоили. Поль уже упрекал себя за то, что пообещал ему молчать об обнаруженной им в салоне омнибуса отравленной булавке, которую он должен был бы, как порядочный гражданин, вручить комиссару полиции вместе со своими объяснениями. Он начинал даже опасаться, что может быть рано или поздно скомпрометирован некоторой нескромностью или неосторожностью поступков своего безрассудного товарища.
Между тем, боясь прослыть невоспитанным грубияном, Амьен не мог уклониться от похода в театр, чтобы поприветствовать отца и дочь, которые выражали желание увидеть его на модной постановке.
И впрочем, это был превосходный случай заглушить захлестнувшую его сознание тоску.
Поль решился, следовательно, одеться в вечерний костюм, и к шести часам, как он обычно это делал в хорошую погоду, Амьен вышел на улицу, чтобы пешком отправиться на ужин на Большие бульвары, в один клуб, членом которого он был, но где его видели довольно редко.
Присутствующие в клубе клубмены, к счастью, не скучали, и их весёлое настроение вскоре разгладило сумрачные морщинки в уголках рта Поля, у которого, в сущности, не было причин для серьёзных печалей. Он оживлённо беседовал с сотрапезниками на темы, которые ему были интересны, и когда настал момент отправиться в театр, он уже полностью забыл все свои заботы. Поль больше не думал ни о чем, кроме как о мадемуазель Дюбуа, и готовился к тому, чтобы весь вечер любезно уделять ей все своё внимание.
Но так видно было предначертано ему его судьбой, чтобы случайная встреча напомнила ему о неприятном приключении накануне.
Подходя к ступенькам театра, Поль остановился на мгновение, чтобы докурить свою превосходную кубинскую сигару, коибу, которую ему доставляли прямо из Гаваны, и был немало удивлён тем, что внезапно услышал обращение к своей персоне в таких выражениях:
—
Конечно, я не ошибаюсь. Это — действительно вы.
Персона, которая обращалась к Амьену, была крупной женщиной в платке, опоясанная лотком с апельсинами.
Амьен не узнал её поначалу, но она не предоставила ему времени на воспоминания.
—
Вы меня не помните, — продолжила она охрипшим голосом. — А я то вас сразу признала. Это вы сидели лицом к лицу передо мной вчера вечером в омнибусе, следующем на винный Рынок.
—
Ах! Да, теперь я вас припоминаю, — пробормотал изумлённый художник.
По обыкновению люди, которых случай вам даёт в качестве попутчиков в общественном транспорте, не останавливаются, чтобы обратиться к вам с речью, когда они вас случайно встречают следующим днём на улице.
Очевидно, что это слухи, распространившиеся по городу, как морская волна, заставили торговку окликнуть Амьена у тротуара бульвара Сен-Мартен, и она, вероятно, хотела поговорить о печальном событии, которое произошло в омнибусе во время пути на Монмартр.
И между тем, её не было в омнибусе, когда заметили, что девушка умерла. Каким образом тогда произошло, что толстуха была столь оперативно проинформирована о случившемся? Торговка, между тем, не замедлила объясниться.
—
Скажите, — начала она, — что там за история приключилась в дороге? Это кто бы мог подумать? Я готова положить руку в огонь, что девица спала. Это должно было на вас произвести странное впечатление… положить себе на плечо голову покойницы… её голова на вашем плече.
—
Как! Откуда вам это известно…
—
Об этом мне рассказали в бюро на станции омнибусов на Пляс Пигаль этим утром. Я встречаю там каждый день карету оптовика, чтобы купить мои апельсины, и все контролёры станции меня знают и любят, потому что я им всегда подкидываю апельсинчик на завтрак… и когда они мне рассказали, что высокий смуглый мужчина помог вынести тело мёртвой девушки из омнибуса, я сразу же догадалась, что это могли быть только вы… Признаюсь, что это было не слишком умно с моей стороны, так как во время поездки не было другого такого мужчины, схожего с вами по этим приметам, так что догадаться было нетрудно.
—
Это довольно необычно, что вы вспомнили моё лицо, — прошептал Амьен.
—
О! Если я хоть раз увижу человека, я его не забуду никогда. Так что, например, господин, который сидел рядом с малышкой и уступил своё место… вы, возможно полагаете, что я не обратила на него внимания, ведь он сидел рядом со мной не больше пяти минут. Но нет, если я вновь повстречаю этого месье на своём пути, я не нуждаюсь в том, чтобы долго рассматривать его и сказать затем: «Да, это — он.»
—
Если бы Верро был на моем месте, — сказал сам себе Амьен, — он бы непременно подружился с этой торговкой апельсинами, и ходил бы каждый день с ней по улицам в надежде использовать её феноменальную память на лица. Я не хочу делать то же самое, но мне любопытно было бы узнать, что толстуха думает о вчерашнем приключении.
И он произнёс вслух:
—
Тогда вы узнаете также и даму, которая воспользовалась любезностью этого господина?
—
Ах! А вот и нет. Она умудрилась не показать мне даже кончика своего носа. С вуалью, которые дамы нынче взяли моду носить, лицо ещё труднее рассмотреть, чем если бы оно было совсем закрыто тряпкой. Нужно запретить скрываться таким образом, потому что если предположить… что женщина совершила какой-нибудь ужасный поступок, например воровство или даже смертоубийство… и скрылась… её просто нельзя будет найти! Это мне напоминает о том, что если бы малышку убили в дороге до того времени как вы, а мне об этом сказал служащий компании, поместили её голову себе на плечо, то эту женщину невозможно найти. Хотя… ведь её не убили… на ней не было даже царапины, как мне сказали.
—
Да… но эта смерть мне показалась столь необычной, что я …
—
Это правда, что она не произвела много шума. Что вы хотите! В этом возрасте умирают легко.
—
Тогда, вы не думаете, что её соседка …
—
Дама, на чью мордашку никто не пялил глаза? Хорошо, пораскинем мозгами! Если бы она ей причинила зло, мы бы это увидели. И затем, это ещё не все. Врачи рассмотрели тело малышки, и ничего странного не нашли. И меня не удивляет… что эта девица так закончила свою жизнь. Её бледное лицо, как будто сделанное из папье-маше буквально рассказывало всем окружающим, что она была больна.
—
Её лицо… вы его, значит, рассмотрели? А ведь на нем также была вуаль.
—
Это правда, но ведь я вам ещё не рассказала, что ходила сегодня в Морг… я знала, что она должна была быть там… в поскольку продавала неподалёку апельсины, то и зашла ненароком посмотреть… а ведь мне пришлось даже постоять в очереди! Когда там выставляют утопленников, то это ужасно… это не красиво… эти утопленники, брр… в то время, как эта малышка была прекрасна, как день, и смерть её совсем не изменила… она, казалось, всего лишь спит. И я её признала, и очень быстро.
—
Так вы её знали? — воскликнул Амьен.
—
Я считаю, что знала! — сказала толстая торговка. — Ведь мне приходилось её встречать раз десять на рынке на площади Сен-Пьер, на Монмартре. Надо вам сказать, что я там тоже частенько торгую.
—
Тогда вы знаете, кто она?
—
А вот и нет, потому что я никогда не разговаривала с ней. Вы понимаете, что в моем возрасте не станешь сплетничать с молодёжью, особенно когда не знаешь, с кем имеешь дело. Но, что касается того, что я её видела раньше, то это да! И если бы я прожила на свете аж сто лет, я всё равно никогда бы не забыла её физиономию. У нее были черные глаза, которые сверкали, как два бриллианта… да так, что вам, наверное, захотелось бы об них зажечь свою сигару… и бархатистая кожа, как белый атлас… совершенно бесцветная… как будто у нее не было ни капли крови в жилах…
Амьена охватило волнение. Он не был, как его друг Верро, поклонником профессии следователя, но тайна омнибуса его волновала, как оказалось, намного больше, чем он сам себе в этом признавался, и Поль уже стал надеяться, что продавщица апельсинов его просветит относительно происшествия в омнибусе. Но справка, на которую он надеялся, не пришла.
И все таки Поль себе сказал, что из этой толстухи, пожалуй, ещё можно извлечь кое-какую полезную информацию, и продолжил:
—
Но если девушка приходила часто на этот рынок на Монмартре, то это значит, что она жила в этом квартале.
—
О! Это, конечно, — ответила сплетница.
—
И тогда вполне возможно, что среди продавцов, которые отпускали ей съестное, найдутся такие, которые могли бы сказать, на какой улице и, даже, в каком доме она жила.
—
Это вполне возможно, но лично меня, однако, это бы удивило. Они не должны были обратить внимание на нее, так как она ничего особенного и много у них не покупала. Яйца, овощи, салат. Она не расходовала больше тридцати су в день. И несмотря на это, вела себя, как маленькая принцесса, ходила по рынку с гордым видом. Она не разговаривала с продавцами, а лишь спрашивала их: «Сколько?» И когда она находила, что это было слишком дорого, она не торговалась, а просто поворачивалась и уходила прочь, не сказав ни слова.
—
Между тем, она не была, по всей видимости, богатой?
—
Богатой? О! Нет. Я всегда видела её в одной и той же протёртой до дыр карако и таком же истлевшем от старости платье из чёрной шерсти.
—
И она всегда была одна? — спросил Амьен, который, несмотря на то, что ему пора было идти в театр, продолжал расспросы, как его товарищ простак Верро.
—
Всегда. Горничные, которые приходили на рынок со своими кавалерами, насмехались над нею, потому что у нее не было возлюбленного.
—
Красивая и целомудренная… это редкость… и случается, главным образом тогда, когда у девушки нет ни состояния, ни родителей, и которая должна работать, чтобы заработать себе на жизнь. Смешно, право говоря.
—
Родителей, я думаю, у нее действительно не было, но мне кажется, что работницей она тоже не была.
—
Чем же она, как вы полагаете, могла заниматься?
—
Она должна была давать уроки по двадцать пять су за занятие… больше почти никто не даёт за это.
—
Тогда ей, должно быть, приходилось посещать многих людей, и возможно кто-то опознает её тело.
—
Как знать! — ответила толстуха, пожимая плечами. — Не все ходят в Морг, а экспозиция с её телом продлится только три дня.
—
Но вы то туда сходили, и вы, без сомнения, сказали секретарю обо всем том, о чем вы мне рассказали только что.
—
Я! Ах! Нет… но ничего страшного. У меня совершенно нет времени. Мне нужно торговать, а не ходить по судам. Подумайте, у меня на шее мой муж, который не встаёт с постели уже четыре месяца, с ревматизмом, который он поймал, работая грузчиком на вокзале. Если я его не накормлю, то кто это сделает? И если бы мне пришлось рассказывать всё, что знаю, в морге, у меня на это ушло бы два дня, и на завтра я все равно была бы обязана снова идти к этому собаке… полицейскому комиссару, и по второму разу беседовать с ним о том же самом. Спасибо! И для чего? Я не знаю ни имени малышки, ни её адреса.
Амьен был вынужден признать, что торговка не ошибалась. Она действовала так же, как и он, предпочитая оставаться в стороне, хотя и много знала об этом зловещем приключении.
—
Но это не значит, что если вы будете нуждаться во мне, я вам не помогу, — продолжила толстуха, — я всегда к вашим услугам… Извольте, всем в округе известна Вирджиния Пилу, живущая на углу улицы Мюллер, и вам стоит спросить только внизу у зеленщика, чтобы он вас проводит ко мне. Я вижу, что история этой бедной девушки вас заинтересовала, и я попытаюсь достать вам сведения о ней не позже, чем завтра утром… я расспрошу о ней во всем квартале. Но теперь, извините, мой принц, ведь в то время, что я болтаю с вами, я не продаю свои апельсины. Ведь вы их у меня не купите, не правда ли? Мой товар не для таких господ, как вы.
И оставив Амьена, торговка вновь начала кричать:
—
По три су, прекрасные валенсианские апельсины! Только три су!
Поль счёл, что было бесполезно настаивать на продолжении разговора. Мамаша Пилу ему больше ничего не скажет по той простой причине, что больше ничего не знала. И впрочем, было самое время зайти в театр. Первый акт был уже сыгран, и Амьен старался успеть попасть в ложу до начала второго. В подобном случае поспешность — почти невежливость. Итак, антракт близился к концу, и Амьен находил приемлемым представиться в ложе господина Дюбуа прежде, чем занавес будет поднят.
Поэтому Поль последовал за зрителями, которые возвращались на свои места после выкуренной в антракте сигареты. Он назвал контролёру номер ложи, и медленно поднялся по лестнице, которая ведёт к коридору лож первого яруса.
Поль вышел из своего клуба в превосходном настроении, готов был всё увиденное воспринимать позитивно и провести прекрасный вечер в обществе красивой девушки и её отца. Но встреча с этой продавщицей апельсинов изменила расположение его духа. Она поставила Амьена лицом к лицу перед проблемами, которые прежде очаровывали только сыщика-любителя Верро, а его совершенно не привлекали. Казалось, что эта плачевная история с омнибусом будет настигать его везде, где бы он не появился. Поль хотел бы никогда больше об этом ничего не слышать, а ему все время эту историю напоминали, даже люди, которых он не знал.
И то, что его раздражало больше всего, состояло в том, что он и сам, несмотря ни на что, не мог отделаться от воспоминаний о произошедшем. Поль напрасно старался говорить себе, что смерть этой девушки его никак не касается, и что у рассуждений его дорогого товарища по поводу насильственной смерти девушки не было здравомыслия… все равно он невольно прислушивался к словам торговки, получал удовольствие от расспросов, которые он ей учинил, и сведения, которые она ему предоставляла без разбора, пронзали его любопытство.
—
Решительно, это слишком глупо, — шептал он, заставляя себя смешаться с толпой, которая повторно вливалась в театр. — Я сам себе создаю все новые неприятности, когда мне вполне достаточно позволить себе просто жить, чтобы быть вполне счастливым. Я сумел сделать себе имя и заработать гораздо больше денег, чем мне необходимо для жизни. Меня везде с радостью принимают, во всех домах, и мне нужно дорожить возможностью удачно жениться, сочетаясь браком с девушкой, которая мне нравится. Что я выиграю от того, что буду разбираться в мрачных последствиях события, на котором я случайно присутствовал? Что хорошо для Верро, бездельника и экстравагантного типа, разыскивающего, убивая своё никчёмное время скрывающихся от правосудия преступников, вряд ли будет полезно мне. Я же в состоянии гораздо продуктивней использовать моё время. К черту продавщиц апельсинов и отравленные булавки! Этим вечером идёт речь лишь о том, чтобы нравиться этому восхитительному созданию, имя которому Аврора Дюбуа. Если только я получу от нее и её отца разрешение сделать её портрет для художественного салона будущего года, этот успех меня успокоил бы и я бы забыл навсегда о поисках мужчины и женщины, которые замыслили это сумрачное преступление.
Держа сам для себе эту очень разумную речь, Амьен старался рассечь окружавший его человеческий поток, но не преуспел в этом начинании. Прямо перед ним маячила фигура какого-то большого и мускулистого господина, чья широкая спина преграждала ему проход, и который, казалось, нарочно не спешил, чтобы позабавить себя, выводя из терпения остальных зрителей, которые шли за ним, спеша занять свои места в зале.
После нескольких безуспешных попыток прокрасться вперёд между стеной и этим персонажем, Амьен дошёл до того, что в несвойственной ему манере попробовал немного подтолкнуть этого нахала, чтобы убедить его передвигаться немного быстрее.
Мужчина обернулся, бормоча достаточно отчётливо невежливые слова, и показал, таким образом, своё лицо художнику, который испытал странное ощущение, увидев его. Полю показалось, что этот любитель театральных драм премного походил на пассажира омнибуса. Это были те же черты, будто обрезанные ударами топора, те же седеющие усы, те же бакенбарды, по-военному подбритые, то же тяжёлое выражение физиономии. Только его костюм кардинально отличался о персоны, которую он видел поднимающейся в империал омнибуса: вместо мешковатого пальто и фетровой шляпы этот господин был одет в чёрный редингот из тонкого сукна и совсем новую шёлковую шляпу.
Его глаза быстро осмотрели… буквально ощупали Амьена… очень живые, черные глаза в тени густых бровей, и без сомнения он решил, что Амьен не достоин его гнева, так как, вместо того, чтобы грубо его окликнуть, он тотчас же принял прежнее положении, и ускорил свой темп, да настолько, что Поль почти сразу потерял его из виду в коридоре, который вёл в направлении оркестра.
«Поклялся бы, что он меня узнал и сбежал, — подумал Амьен. — Если бы Верро был здесь, и если бы я с ним поделился своими впечатлениями, он бы преследовал этого индивида по пятам. Но я не Верро, и я не собираюсь развлекаться беготней и погоней за мифическим незнакомцем.»
После этой мудрой мысли Поль продолжил свой путь на первый ярус театра. Он искал ложу, которая располагалась прямо напротив сцены, и когда нашел её, позвал билетёршу, не думая больше о встрече, которая только что с ним приключилась.
Гардеробщица прибежала на звук его хорошо поставленного голоса и ввела в ложу, занятую отцом и дочерью Дюбуа.
Амьен с удовольствием наблюдал, как щеки мадемуазель Авроры окрашиваются густой пунцовой краснотой, которая, как ему показалась, была ей к лицу, а господин Дюбуа его принял наиболее учтивым образом. Он потрудился встать, чтобы протянуть Полю обе руки, и сам подвинул стул вновь прибывшему, и Амьен сел на него только после того, как оплатил за столь лестный приём развёрнутым комплиментом в адрес семейства Дюбуа, на который девушка ответила любезной улыбкой.
— Я был уверен, что вы не откажетесь составить нам компанию, — воскликнул господин Дюбуа, — и я вас благодарю за то, что вы посвятили нам ваш вечер.
Этот домовладелец-капиталист был маленьким аккуратным старичком, приятного аспекта и модно одетый. У него были быстрые жесты, правильная и лёгкая речь, привлекательные манеры, и его физиономию можно было бы назвать симпатичной, если бы она была откровеннее. Глаза немного портили её-они почти никогда не смотрели в глаза собеседника, и в них была тревожная подвижность. И затем, губы чересчур сильно расплывались в улыбке, но она была банальна и не искренна. Хотя, в совокупности его физиономия была скорее приятной, и у господина Поля вполне вырисовывался на горизонте очень презентабельный тесть.
Мадемуазель Аврора, к счастью для нее, ничуть не походила на своего отца. Она, без сомнения, именно от своей матери унаследовала свою фигуру, цвет волос и некоторую милую беспечность, которая придавала всему её облику особенную привлекательность. У нее была, как говорится, стать и порода, а господин Дюбуа, в отличие от неё был простоват, и отличался не самым лучшим воспитанием. Но он был без ума от своей дочери, и поэтому ему многое прощалось от бомонда, воспринимавшим его таким, как он есть, в угоду его наследницы.
Амьен смог ему понравиться своей обходительностью и уважительностью, качествами, которые не свойственны большинству художников по отношению к мещанам. Поль простёр своё снисхождение к этому буржуа до такой степени, что позволял ему давать свои оценки той или иной картине. Он выслушивал его комментарии о картинах мастеров старых школ и современных признанных мэтров, и не пренебрегал комплиментами в отношении этих реплик.
Мадемуазель Аврора разбиралась в искусстве, возможно, не намного лучше, чем её отец, но у неё был такт, и она испытывала благодарность к Амьену за то, что он не насмехался над её отцом.
—
Дорогой, — сразу же сказал ему месье Дюбуа, — вы прибыли очень вовремя, чтобы нас примирить в споре по вопросу, связанному с искусством.
—
Я заранее уклоняюсь от этой роли, — скромно сказал Амьен, — и я убеждён, что вы правы… но и мадемуазель не ошибается.
—
О! Не пытайтесь отделаться вежливым поражением. Вы очень компетентны для того, чтобы разрешить наш спор, и абсолютно необходимо, чтобы вы нам высказали ваше мнение.
—
Я очень горд узнав, что вы и мадемуазель были так любезны и вспомнили обо мне.
—
Я вас прошу полагать, дорогой месье Амьен, что с нами это будет случаться часто. Вы не из тех, о ком забывают, и особенно теми, кто знает вас так, как знаем мы, а вас мы узнали ещё до очной встречи по вашим произведениям, которые стоят того, чтобы на них посмотреть и приобрести. Ваше имя у всех на устах, да и не сходит со страниц всех парижских и не только газет. Везде только и говорят о картине, которую вы собираетесь показать в этом году, это будет большой успех Салона, как мне сказали, и я этому верю. Итак, — именно эта картина была точкой отсчёта нашего разногласия с дочерью …
—
Но, — робко возразил художник, — я сожалею, что вы мне до сих пор не оказали чести прийти ко мне и посмотреть на нее… вы могли бы судить непосредственно …
—
Мне известно, о чем она… речь идёт о классическом искусстве… молодая пастушка из римской провинции, сидящая у подножия могилы… Метеллы… нет, Цецилии… нет, не могилы даже, а гробницы… но, между нами, вы могли бы выбрать более весёлую тему, потому что могилы, видите ли, на мой взгляд, хороши для больших любителей живописи, но мне бы лично не очень бы хотелось видеть это в моей гостиной или кабинете… могилу… и возможно, это может повредить продаже вашего будущего шедевра…
—
О! Это было так давно… те самые времена, когда Цецилия Метелла умерла! — серьёзно сказал Амьен, которому на самом деле страшно хотелось рассмеяться прямо в лицо месье Дюбуа.
—
Это, конечно, некоторое оправдание для вас, но не об этом идёт речь. Я утверждал только что Авроре, что вы, как и другие художники, ошибались, упорствуя в том, что воспроизводите на ваших полотнах итальянцев и итальянок. И я утверждаю, что для женских моделей именно наши француженки вам предоставили бы чудесные типы девушек и женщин, и вы смогли представить на наш суд совершенные шедевры.
—
Вы совершенно правы, месье, и мне не пришлось бы далеко ходить, чтобы найти такую модель, — с неким вызовом сказал Амьен, смотря на мадемуазель Дюбуа.
—
Вот видишь! О чем я тебе и говорил? — воскликнул месье Дюбуа. — Месье Амьен и сам считает, что ты можешь быть великолепной моделью.
—
Я плохо себя представляю в качестве пастушки из римской провинции, — засмеялась мадемуазель Аврора.
—
Вы были бы прекрасны в любом костюме, мадемуазель, — тепло возразил Амьен.
—
Ещё нужно, чтобы я смогла представлять персонаж, который вы выбрали. Ведь итальянки не блондинки, коей я имею несчастье быть. Солнце ни не позолотило мою кожу, ни окрасило в тёмный цвет мои волосы, и черты моего лица абсолютно не характерные для уроженок Апеннин, и я испытываю нехватку характера, свойственного итальянкам.
—
Ба! — сказал месье Дюбуа, перебивая дочь и Амьена, у которого был готов слететь с губ ещё один комплимент, — это очень хорошо, что ты так считаешь, и я знаю многих людей, которые согласятся со мной.
—
Я вас прошу причислить и меня к когорте этих людей, — добавил художник, очарованный тем, что получил возможность воспользоваться случаем, чтобы подтвердить своё восхищение красотой мадемуазель Авроры.
—
Впрочем, — продолжил её отец, — я признаю, что не могу не восхититься этими головами, за которыми художники отправляются так далеко. Они красивы, клянусь, эти ваши жительницы Рима, со своей лимонного цвета кожей и запавшими глазами! И какие наряды! Лоскуты ткани, которые кухарка не осмелилась бы накинуть на себя даже в последние дни карнавала, на Марди Гра. Следовало бы запретить появляться в этих нелепых нарядах на людях.
—
Вы чересчур строги в отношении этих бедных девушек, — прошептал Амьен. — Мы должны делать своё дело и, чтобы позировать, им не нужно одеваться, как парижским модницам на гравюрах.
—
Хорошо! Я понимаю это. Нужен местный колорит. Я знаю, что это такое, хотя я всего лишь буржуа. Но если бы я был художником, я брался бы за дело иначе. У меня был бы специальный гардероб для сеансов, и когда я нуждался бы в какой-то Форнарине, я выбрал бы француженку, и мне потребовалось бы только замаскировать её под римлянку.
—
Но, мой отец, это было бы не совсем то же самое, — сказала мадемуазель Дюбуа. — Тип лица сильно отличается!
—
Оставь меня в покое с этим твоим типом. Красота есть красота, черт возьми!
Амьен опустил голову и ничего не сказал. Он соблюдал осторожность, беседуя с человеком, который произносил такие чудовищные пошлые нелепости, и начинал спрашивать себя, способен ли он вынести в будущем такого тестя, начисто лишённого художественного вкуса.
Но Аврора догадалась, о чем он думал, и одарила Поля таким взглядом, который заставил его забыть в одно мгновенье о мрачных мыслях в отношении месье Дюбуа. Он говорил о стольком, этот взгляд… он был нежен, он умолял, просил прощения за недостаток вкуса у её отца, который не походил на свою дочь.
—
Впрочем, — продолжил капиталист, у меня есть особые причины ненавидеть итальянок. — Вообразите, мой дорогой, что эти плутовки могли бы мне стоить хорошего наследства, которое я должен буду вскоре получить… наследства моего брата.
—
Действительно? — спросил достаточно удивлённый Амьен. — Я не знал, что у вас есть брат.
—
Никто этого не знает, так как он живёт в провинции, и у нас разные фамилии. Моя мать два раза выходила замуж, и этот брат от её второго брака. Но я сейчас являюсь его единственным родственником и, следовательно, его единственным наследником, хотя я его и не видел никогда. Мы не контактировали с матерью уже давно, и мой брат поселился в маленьком городке на юге Франции из-за того, что парижский климат ему не подходил… Аврора не знает своего дядю.
—
Это недостаточный мотив для того, чтобы он вас лишил наследства, — рассеянно прошептал художник, которого эти сведения почти не интересовали.
—
Нет… но вот несчастье! Это животное, мой братец, который всегда был первостатейным оригиналом, решив, что у него в молодости были задатки художника, отправился в своё время в Италию, где провел несколько лет, пачкая холсты, лучший из которых он сумел продать за пятнадцать франков. Если бы его имущество состояло только из этих картин, я бы по нему не скорбел… но он богат… также богат, как и я, если не больше. И он бы не смог, даже при всем своём желании и не любви ко мне оставить меня без наследства, если бы не сделал своё завещание в пользу ребёнка, который у него якобы появился некогда в Риме.
—
Следовательно, он там женился?
—
Брат об этом говорил, но подтверждений тому нет. Утверждали, что он сделал глупость и действительно женился, я даже не знаю, на ком… на какой то твари, которая позировала для художников. Но я не думаю, что он зашёл так далеко в своём идиотизме. При всём этом только он волен свободно распоряжаться своим состоянием, и это похотливое животное вполне способно оставить его своей внебрачной дочери. Вы теперь понимаете, мой дорогой Амьен, почему я испытываю отвращение к римским позёршам. И что самое любопытное в этой истории, — продолжил месье Дюбуа, — так это то, что мой дурачок брат не занимался никогда своей прекрасной семьёй, которую он создал там, в Италии. Приведя в порядок свои дела, он внезапно закончил своё существование в Риме, и… новая причуда. Вернувшись во Францию, он поселился в какой-то дыре в ста пятидесяти льё от Парижа, где и живёт поныне, совершенно один, как сова. Как только я был проинформирован об этом чудном решении, то тут же ему написал, предлагая помириться… предложил жить у меня… и я охотно принёс бы в жертву многое, отправился бы на его розыски в пустыню, лишь бы вернуть его сюда. Ах! Да! Он мне ответил очень коротким сухим письмом, в котором отклонял любую возможность примирения и даже встречи. Мы остаёмся в этом состоянии уже десять лет. Но вы, конечно, не думаете, что я оставил это дело на самотёк, и не следил все это время за его жизнью… хотя он об этом даже не подозревает. Его нотариус принял во внимание мою заинтересованность в этом деле, и держит меня в курсе происходящего. Итак, я узнал в последнее время, что месье мой сводный брат говорил о том, что сделает завещание в пользу иностранки, и я очень обеспокоен этим. Я принял несколько превентивных мер, таких, как например… попросив меня информировать…»
—
Но, мой отец, — тихо прервала его мадемуазель Аврора, — я не думаю, что эти подробности развлекут месье Амьена. — И к тому же, собираются поднять занавес. Вы мне позволите посмотреть… и даже послушать.
—
Ты права, малышка… я, должно быть, утомил нашего друга рассказами о моих семейных делах, но он, надеюсь, извинит меня за это. Но я забочусь и о твоём состоянии, имей это в виду, так имущество моего ветреного брата должно перейти к тебе после меня. — И затем, — продолжил месье Дюбуа, смеясь, — я старался лишь объяснить моему дорогому Полю, почему я не терплю итальянок. Но это мне не помешает отправиться в один прекрасный день к нему в мастерскую и посмотреть его картину.
Амьен склонился в знак согласия, и так как в этот момент занавес стал подниматься, он был избавлен от необходимости отвечать.
По правде говоря, он едва слушал достаточно запутанную историю, которую отец Авроры ему только что излагал, и ему следовало признаться себе, что разговор этого миллионера был недостаточно… просто, откровенно говоря, мало привлекателен, а что касалось его суждений об искусстве, то он высказывал откровенно нелепые мнения. Амьен не чувствовал, что он в состоянии даже из желания понравиться дочери, против своей воли, обсуждать с отцом достоинства моделей, переехавших из Рима в Париж дабы стоять и позировать перед французскими художниками. Поль предпочитал молча восхищаться прекрасным лицом и головой его дочери, которую он мысленно разделял на три четверти и помещал на полотно некоего фламандского мэтра.
Художник погрузился в это созерцание, с которым мадемуазель Аврора, казалось, соглашалась очень охотно, в то время как месье Дюбуа, вооружённый огромным верроклем, косился на зал, переполненный зрителями и, главным образом, зрительницами.
Она великолепна, — думал Амьен, рассматривая глазом знатока линии этого столь чистого профиля, — и я полагаю, что у нее есть и разум и сердце.
Тот, кого она полюбит, не будет несчастен, и в конце концов, тот, кто на ней женится, не будет обязан жить с её отцом. Хотя я бы предпочёл, чтобы она была менее богата, а её отец был менее буржуа. Некоторые его идеи меня угнетают, и я удивляюсь, что он не заметил, что мы с ним не смогли найти консенсуса ни по одному обсуждаемому нами вопросу. Все его речи и поступки достаточно ясно свидетельствуют о том, что я ему нравлюсь, и это меня удивляет, потому что я ничего не сделал для этого. Возможно, Дюбуа просто демонстрирует меня своим друзьям, как диковинную птицу, этакий некий вид тщеславия, достаточно распространённый среди ему подобных. Они любят помещать в качестве якобы своих друзей актёров, певцов, художников. И все же нет, мне кажется, что у него есть ещё какая-то иная цель, когда он расточает свои авансы в отношении меня. Он действовал бы иначе, если бы не рассматривал мою кандидатуру в качестве своего будущего зятя. Для меня вопрос состоит в том, чтобы вначале понять, нравлюсь ли я его дочери, так как я не рискну, пожалуй, отправиться наслаждаться этой местностью, чтобы затем разочароваться. Я ещё не влюблён в мадемуазель Аврору, но я не замедлю впасть в это состояние, если стану проводить с ней рядом много вечеров. Нужно принять решение, прежде чем подвергнуться такому риску.
Держа сам перед собою эту очень разумную речь, Амьен пожирал глазами мадемуазель Дюбуа, которая, казалось, уделяла все своё внимание сцене, но при этом очень хорошо замечала результат, который производила на своего молодого соседа. Но настал момент, когда Аврора почувствовала стеснение от настойчивости, с коей Поль её рассматривал, и чтобы это прекратить, она заимствовала веррокль своего отца, и направила его на актёра, игравшего Джека Шеппарда, как раз выходившего в этот момент на сцену.
Амьен понял её намерение, и принялся, в свою очередь, смотреть на лица людей, сидящих в партере… исключительно для того, чтобы чем то занять себя, так как пьеса его мало интересовала.
Но вскоре глаза Поля остановились на мужчине, который стоял навытяжку, прислонившись к стене авансцены, у первого ряда кресел.
Этот человек, возможно, не привлёк бы внимания Амьена, хотя он стоял в то время, как все его соседи сидели, но именно этот персонаж пристально смотрел в сторону ложи, где господствовали на передних креслах месье Дюбуа и его дочь. Глаза художника, которые были превосходны, встретились с глазами этого зрителя из оркестра, и он его тотчас же узнал.
Это был именно тот господин, которого он толкнул на лестнице, и который, как ему показалось, неясно походил на пассажира из омнибуса.
На этот раз Амьен смог его рассмотреть без спешки, в полной красе, так как его лицо было хорошо освещено светом рампы, и он не скрывался, а Полю больше и делать было нечего, поскольку в это время мадемуазель Дюбуа развлекалась тем, что косилась на актёров и на пейзажи декораций.
Поль получал гораздо меньше удовольствия, рассматривая этого незнакомца, чем созерцая прекрасную Аврору, но его любопытство было пробуждено этой живой трудно объяснимой композицией, и он приложил большие усилия, чтобы напрячь свою память и вытащить из её закромов черты увиденного мельком накануне мужчины в омнибусе.
Эти усилия увенчались успехом, и Поль снова констатировал определённое сходство, но по прежнему не мог утверждать, что это один и тот же человек… абсолютной уверенности не было. Париж полон мужчин, несущих на своём лице пышные усы и бакенбарды, прерванные лезвием бритвы на уровне уха. Рост был тем же, телосложение такое же, как и некоторая резкость в движениях. Индивид, время от времени, не ритмично жестикулировал, казалось, обращаясь с призывами к кому-то. Но, по-видимому, не к персонам, которые занимали ложу Амьена, так как ни отец, ни дочь не обращали никакого внимания на этого персонажа, наблюдающего за ними издалека.
Но все это ничего не доказывало, и Амьен, менее усердный, чем Верро, уже собирался отказаться от продолжения наблюдения, когда увидел, как господин возле оркестра склонился, чтобы обратиться с речью к женщине, сидящей рядом с ним.
Это было само по себе вполне естественно, и между тем у художника тотчас же возникло интуитивное предположение, что эта женщина должна была быть тем самым созданием, которое нанесло укол отравленной булавкой бедной девушке, которая сейчас лежала на холодных мраморных плитах Морга. Рискованное предположение, учитывая, что справедливость его было невозможно проверить, так как соседка бедняжки-покойницы ни разу не показала своего лица во время пути с бульвара Сен-Жермен на улицу Лаваль.
Между тем, при первых же словах, которые ей произнёс мужчина, стоявший навытяжку, она быстро повернулась и подняла голову, чтобы посмотреть на ложу, на которую, без сомнения, этот месье обратил только что её внимание.
Свет от люстры падал под прямым углом на её лицо, и Амьен увидел, что черты его были довольно правильными, но слишком резкими, а цвет немного красноватым, куперозным. Совокупность всего этого не производила отталкивающего впечатления, и физиономию её можно было даже с некоторой натяжкой признать изысканной. Возраст этой дамы должен был плавать где-то между тридцатью пятью и сорока годами.
«Неужели это на меня она смотрит с такой настойчивостью? — спрашивал себя Поль. — Я в этом сомневаюсь, так как едва ли она может меня увидеть, учитывая место, которое я занимаю в глубине ложи. И если это не я, то это, следовательно, месье или мадемуазель Дюбуа… мадемуазель скорее, так как она довольно красива, чтобы это заметили… и между тем, это странно, что женщина, которая пришла в театр посмотреть драму вместе с красивым мужчиной, именно на которого она должна бы смотреть, вместо этого созерцает…»
Месье Дюбуа также, вместо того, чтобы увлечённо наблюдать за подвигами Джека Шеппарда в таверне одноглазого Пи, принял позу триумфатора и беззаботно прислонился к перегородке ложи, выставив на всеобщее обозрение толстую золотую цепочку для часов, которая извивалась на его жилете и алмазные запонки, сверкавшие на его рубашке. Он искал в зале знакомые лица, и в конце концов взгляд его наткнулся на пару, разместившуюся в углу у оркестра.
Тотчас же женщина снова повернулась в сторону сцены, а мужчина рядом с ней поприветствовал капиталиста. Он засвидетельствовал своё почтение не движением руки, как салютуют другу, а склонился с уважением и, на этом расстоянии, столь скромная, неприметная вежливость выглядела немного смешно. Месье Дюбуа на это ответил довольно сухим поклоном головы. Мужчина, без сомнения, удовлетворился увиденным, и поспешив сесть на своё место, принялся шептаться со своей подругой.
—
Черт возьми! — сказал про себя Амьен, — он знаком с персонажем, которым я занимаюсь уже полчаса.
Мадемуазель Аврора предупредила вопрос, который Поль собирался адресовать её отцу. Она задала ему точно такой же вопрос-близнец, также заметив этот обмен приветствиями.
—
Кто этот господин? — спросила она. — Он бывал у нас? Я что-то не припоминаю, что когда-либо видела его.
—
Я его принимаю иногда по утрам в моём кабинете, — ответил важно месье Дюбуа, — но никогда в нашем салоне, и я воздержался от того, чтобы тебе его представить. Это — торговый агент.
—
А кто это такой-торговый агент… что это за профессия? — рассеянно спросила прекрасная Аврора.
—
Моё дорогое дитя, понадобилось бы достаточно много времени, чтобы тебе это объяснить… да и вряд ли, могу предположить, это тебя заинтересует, но вкратце могу тебе сказать, что эти господа… я имею ввиду этих людей, позаботятся… посредством жалования… за проценты… о которых я с ними договариваюсь… они берут на себя сложные взыскания с должников… запутанные банкротства, ликвидации предприятий… расследования всякого рода… их специальность… их специальность… это разрешение спорных вопросов …
—
Вот слова, которые мне ни о чем не говорят.
—
Это потому, что ты игнорируешь деловой язык. Справедливости ради скажу, что ты в этом и не нуждаешься… не нуждаешься в том, чтобы знать его, так как я до сих пор занимался и буду всегда заниматься твоими делами… пока я жив, по крайней мере, а после меня эта забота перейдёт к твоему мужу, который, я на это очень надеюсь, будет трудолюбивым и надёжным человеком. Что касается этого торгового агента, который позволил себе только что меня поприветствовать через весь зал, то как только я его увижу у себя в кабинете, то попрошу его впредь быть скромнее на публике. Это человек— знающий толк в своём деле, и я его считаю честным и знающим толк в своём деле, но это не повод, чтобы являть факт знакомства со мной перед пятнадцатью сотнями зрителей… тем более, что я догадываюсь, с каким намерением он это сделал… Приветствовать такого капиталиста, как я, это прекрасная реклама для бедняги вроде него. Я готов его использовать, когда мне понадобятся его услуги, когда он сможет быть полезен для меня, но я не собираюсь терпеть его фамильярность.
—
Он, сказали Вы, знаток в своей профессии? — спросил художник.
—
О! Он очень сведущ в своих делах, могу это подтвердить. Один мой друг, негоциант, рекомендовал мне его. Я ему недавно поручил одно довольно деликатное дело, и у меня ещё не было времени, чтобы судить об этой персоне по результатам его работы на меня, но мне сказали, что ему нет равных…
—
Тогда, месье, я вам буду очень обязан, если вы меня познакомите с ним. У меня есть один должник, который исчез… и если бы ваш агент мог …
—
Очень хорошо. Как только я его увижу, а это будет скоро, я его направлю к вам.
—
О! Это не стоит это вашего труда. Я сам к нему схожу, если вы назовёте мне его имя и адрес.
—
Имя? Ах! Черт возьми! Дело, в том, что я его забыл. Вы понимаете, у него такая фамилия, которая не задерживается в памяти. Но у меня дома есть его визитная карта, и уже завтра вы будете знать, где он живёт.
—
Я вас заранее благодарю, — произнёс слегка разочарованный Амьен.
Ведь он уже мысленно представлял вытянувшееся от удивления лицо Верро в тот момент, когда он бы ему сообщал точные данные индивида, который походил на пассажира из омнибуса, а теперь ему нужно было ожидать, когда месье Дюбуа соизволит ему послать карту этого подозреваемого в убийстве лица, если не передумает.
—
Ну вот! — сказал капиталист, — уже опускается занавес. Сейчас они стали делать поразительно, просто скандально короткие акты. Совершенно не за что платить.
—
Но мне кажется, мой отец, что это всего лишь конец картины, — ответила мадемуазель Аврора. — Да…Подождите! Пробили три раза, и никто не оставляет свои места.
—
Это ничего не меняет, мы можем продолжить наш разговор. Ничто мне не причиняет больших неудобств, чем обязанность шептаться, чтобы не мешать спектаклю, — сказал месье Дюбуа, который любил раздувать меха своего органа.
У него был глубокий бас, голос легендарного месье Прюдомма.
—
Итак, мой дорогой Амьен, — продолжил он, — значит, вы вкладываете деньги, потому что они должны работать. Это хорошо… и это хорошо для вас состоит в том, что в вашем возрасте плюсом является и то, что вы имеете должников вместо кредиторов. Я не ошибся на ваш счёт. Вы живете довольно хорошо, с достатком, и это вам не мешает делать сбережения. Справедливо, что вы должны получать за ваши картины приличные суммы. Картины ваши идут в рост, как и ваша известность. Нескромно с моей стороны будет у вас спросить, но все таки-сколько вы зарабатываете в год?
—
Но… для меня будет довольно затруднительно уточнить эту цифру, — пробормотал Амьен, немного краснея. — Это зависит от многих вещей…
—
Попробуйте прикинуть! Скажите примерно.
—
В прошлом году я получил около пятидесяти тысяч франков… и если бы я захотел писать портреты …
—
Вы получили бы намного больше. — продолжил месье Дюбуа, — И это нужно делать, мой друг, нужно это делать. Я знаю, о чем говорю. Вы сейчас находитесь для этого в прекрасной ситуации. И один знаток, которого я знаю, меня накануне убеждал, что этот рынок станет ещё более востребованным. Америка начинает покупать, и…
Билетёрша пресекла в корне восторженные оценки рынка и энтузиазм месье Дюбуа. Она скромно вошла, и сказала, обращаясь к нему:
—
Там кто-то… один господин… просит вас, месье, выйти на минутку… он принёс вам очень срочную депешу.
—
Депешу! — повторил месье Дюбуа. — Это странно. Я никому не сказал, что отправился в Порт-Сен-Мартен, и телеграмма вдруг находит меня здесь.
—
Но, мой отец, ваш камердинер знает, что вы здесь, — сказала мадемуазель Дюбуа.
—
Это правда… я об этом не подумал… и он знает также, что я ожидаю важные новости, и так как он очень умён… вы позволите, мой дорогой Амьен, вас оставить на мгновение… Аврора с вами поговорит о живописи, она в этом разбирается лучше меня.
И месье Дюбуа поспешно последовал за билетёршей, которая закрыла на ним дверь ложи.
Так вот нечаянно случилось так, что только сейчас впервые в жизни Амьен оказался наедине с мадемуазель Дюбуа. В светском обществе, на раутах и салонах свидания наедине редки. Несколько слов, которыми обменивают у пианино, перелистывая партитуру, или у стола, в то время, как девушка подавала своей белоснежной рукой чашку чая наиболее элегантному из гостей своего отца.
Случай, который непредвиденный инцидент предоставлял художнику, был превосходен, чтобы выйти из обычной банальности разговора, и ему только оставалось им воспользоваться. Мадемуазель Аврора, со своей стороны, также этого, без сомнения, желала того же, так как именно она придвинула свою ногу к нему на более интимное расстояние, прежде чем обратиться со словами:
—
Я опасаюсь, что мой отец вас шокировал, вынуждая уточнить цифру ваших доходов, — сказала Аврора своим приятным голосом. — Не вините его. Он очень уважает деньги… именно то качество, которым не обладаю я. Но всё, что папа делает, он делает. Он меня обожает, и утверждает, что я не смогу быть счастливой без крупного состояния. Я, признаюсь, понимаю под счастьем нечто иное… Я совершенно не расстроюсь, если мой муж будет богат, но я хочу, прежде всего, чтобы он мне понравился, как человек и личность.
—
И я, мадемуазель, спокойно бы женился на девушке без приданого, если бы полюбил её.
—
Таким образом, мы друг друга поняли и всегда сможем договориться, — весело сказала мадемуазель Дюбуа. — Посмотрим, будет ли у нас одно мнение по поводу искусства. Вы должны хорошо разбираться в живописи в отличие от меня, не так ли? Вы — настоящий, признанный обществом художник. И Вы должны иметь эталон, к которому вы стремитесь, тип внешности девушки, о котором вы мечтаете, той, которую вы будете боготворить, и чьи черты будут угадываться во всех ваших работах.
—
Я его на самом деле уже нашел.
—
Можно узнать, где?
—
Посещаете ли вы иногда музей Лувра?
—
Не часто. Мой отец любит только современные картины… и бывают дни, когда я хожу на выставки современного искусства вместе с ним.
—
Попросите тогда отвести вас в большую галерею Лувра, и ищите в пятом пролёте слева портрет, написанный Рубенсом. Мэтр умер уже несколько веков тому назад, но женщина, которая для него послужила моделью… она до сих жива… вы её знаете… и я, думаю, не нуждаюсь в том, чтобы вам назвать её имя, когда вы увидите это чудесное полотно… сходство поразительно, и вы сразу узнаете, кто он, мой идеал.
—
Но если я не ошибаюсь, Рубенс писал только фламандок… а фламандки белокурые.
—
И мой идеал блондинка.
—
Это странно. Вы ведь всегда изображаете на ваших полотнах только брюнеток.
—
Потому что смуглые модели считаются…
это общеизвестный факт…
лучшими натурщицами… и одновременно у нас, художников, нет никакого затруднения в выборе моделей… мы избалованы их изобилием… в то время как блондинки редки
, как натуральный жемчуг
.
—
Но раз Италия не может вам предоставить их… Тогда… а если я соглашусь для вас послужить моделью …?
—
Я был бы слишком счастлив, мадемуазель, если бы даже был в состоянии лишь представить такое.
—
Но тогда мне было бы нужно каждый день приходить в вашу мастерскую.
—
Месье ваш отец мог бы вас сопровождать.
—
О! Он бы не мечтал о большем. Только …
—
Что…?
—
Мне бы хотелось быть уверенной в том, что я не встречу у вас никаких смуглых итальянок, главным образом… не потому, что я, как и мой отец, их ненавижу, но у меня есть большой недостаток… я ужасно ревнива.
На этот раз, это было заявление… некая довольно прозрачно высказанная декларация, которую уже нельзя было игнорировать, и художник, почувствовавший всю неважно скрытую иносказательность этого эзопова языка, собирался употребить во всю мощь своего интеллекта, когда месье Дюбуа внезапно возвратился.
—
Дорогой друг, — сказал он взволнованно, — вы должны меня извинить. Моя дочь и я… мы обязаны вас оставить. В телеграмме, которая мне была вручена только что, сообщается, что мой брат умер сегодня в три часа дня.
—
Верьте, месье, что я прекрасно понимаю вашу боль, — пробормотал Амьен.
—
В телеграмме мне также сообщили, что мой брат лишил меня наследства. То, чего я так опасался, случилось. Он оставил все своё состояние какой— то иностранной шлюхе. Но хотя у меня нет оснований благословлять его память, я не могу остаться в театре. Это было бы неприлично в глазах общества… Пошли, Аврора. Мой камердинер прислал карету, и мы закончим этот вечер у нас дома… как говорится… в трауре и печали.
Амьен, удивлённый и немного обеспокоенный этой новостью, встал и почтительно склонился в передней части ложи. Мадемуазель Дюбуа тоже встала, и её лицо выражало если не глубокую боль, то очень живое раздражение происходящим.
Очевидно, что она была намного менее затронута смертью дяди, которого она никогда не видела, а расстроена необходимостью оставить столь стремительно компанию и беседу, которая ей так нравилась.
Месье Дюбуа казался подавленным, и безусловно, это было связано не с тем, что не стало его брата, о смерти которого он якобы сожалел. Он его едва знал, и к тому же, и при жизни его не то что не любил, но даже не жаловал своей благосклонностью. Он мог ежеминутно пыжиться, подчёркивая на любом углу, что он капиталист-миллионер, но не мог так легко смириться с тем, что потерял значительное наследство.
Амьен рассматривал это событие, главным образом, с точки зрения продолжения своих отношений с отцом и дочерью, и ему казалось, что у него нет повода чересчур уж огорчаться. Наследство, которое ускользало от этой семьи, возможно бы и удвоило бы их состояние, но чем больше Аврора бы обогатилась, тем стремительней возрастал бы шанс, что месье Дюбуа проявил себя бы более требовательным к качествам, и главное, возможностям претендента на роль его зятя.
Но это был не самый лучший момент для таких глубокомысленных размышлений. Отец спешил уехать, а билетёрша, предупреждённая им, уже принесла его пальто и шляпу девушки в аванложу. Амьен, особо не понимающий и знающий, что следует говорить в подобных оказиях, смотрел на них, прислонившись к перегородке ложи, которая, вместе с другими двумя смежными, образовывала группу центральных лож театрального зала… у всех на виду.
Это был антракт, и в зале множество верроклей было направлено на мадемуазель Аврору.
—
Останьтесь, мой друг, — сказал месье Дюбуа художнику, который уже был готов к тому, чтобы их сопровождать к карете. — Вы не обязаны соблюдать траур, и осталось совсем немного времени до конца спектакля… и вам нет необходимости демонстрировать правила общественных приличий. Я вас уверяю, что если бы не этот случай, абсолютно не касающийся вас, мы предпочли бы закончить наш вечер с вами.
И так как Амьен сделал вид, что собирается протестовать, продолжил:
—
Не настаивайте, мой дорогой, иначе вы меня обидите. Впрочем, мы вскоре снова увидимся. Как только я освобожусь от хлопот, связанных с кончиной моего несчастного брата, мы однажды удивим вас своим появлением в вашей мастерской, я вас об этом со всей серьёзностью предупреждаю.
Амьену оставалось только склониться в почтительном поклоне. Он пожал руку месье Дюбуа, мадемуазель Аврора ему протянула свою, по-английски, и подчеркнула эту любезность, направив в его сторону обнадёживающую улыбку.
Амьен остался один, но он имел основания не волноваться в отношении своих будущих отношений с красавицей, так как точно был на верном пути, что достаточно прозрачно ему продемонстрировали как отец, так и дочь Дюбуа, и он надеялся на то, что они не остановятся на полпути. Папаша Дюбуа только что абсолютно явно выказал ему своё наилучшее расположение, а девушка за три минуты свидания наедине продвинула их отношения настоль далеко, насколько ей позволял резерв политеса, навязанный девушкам их современным воспитанием и обществом.
«Эта ситуация становится достаточно серьёзной, — говорил сам себе художник, — и я начинаю думать, что теперь уже от меня зависит, буду ли я вскоре обладать восхитительной женой и тестем, украшенным короной из семидесяти тысяч ливров ренты. Вопрос теперь состоит в том, чтобы понять и самому решить, стоит ли это счастье того, чтобы ради него пожертвовать своей свободой. Мне не нужно фантазировать и размышлять над этим с утра до вечера, чтобы понять, что если я женюсь на мадемуазель Дюбуа, я буду осуждён на работу над картинами, на которых будут блистать одни блондинки. Она мне на это ясно указала. Не окажусь ли я, в результате, на добровольной каторге. Бедная Пия! Мне придётся захлопнуть перед ней дверь моей мастерской, а ведь она вполне способна от этого умереть в печали… Ба! — закончил свою мысль Амьен, — я должен буду освободиться от бедной малышки, отослав её в Субиако с красивой суммой денег, которая послужит ей добрым подспорьем в поисках порядочного мужа… там… в её стране.»
Размышляя таким образом, Поль одел свою шляпу, чтобы уйти, так как его совершенно не увлекало лицезрение продолжения Рыцарей тумана, и он неясным взором окинул зал. Несколько зрителей также уже покинули свои места в паузе между картинами. В креслах в партере все сидели, за исключением одной женщины. Она направлялась к выходу, непосредственно перед открытием занавеса, и маневрировала, стремясь присоединиться к господину, который стоял на выходе в коридор, и делал ей знаки, призывающие её поторопиться.
—
Держись, Поль! Внимательнее! — прошептал Амьен, — ведь это торговый агент и его подруга, уходящие в самой середине представления. Почему они столь торопятся убраться из театра? Может быть потому, что они меня заметили в ложе месье Дюбуа? Это вполне возможно, так как я, в сущности, до момента, когда отец и дочь встали, находился все время в глубине ложи, и они не имели даже малейшей возможности увидеть моё лицо. Возможно, что они боятся оказаться на выходе из театра одновременно со мной. Итак! Я нарушу их планы. Я подойду к контролю раньше, и рассмотрю их внимательней. О, Верро, если бы ты только знал, на какие глупости толкает меня мой мозг, который ты столь успешно, оказывается, напичкал своими глупостями!
И при этом упоминании холстомарателя и исследователя криминальных тропок, Амьен устремился в коридор и побежал на лестницу, даже не замедлившись ни на секунду, чтобы одеть своё пальто, которое билетёрша ему вручила только что.
Амьен бегом преодолел ступени лестницы, отделявшей ложи первого яруса от фойе, и он двигался так быстро, что сумел обогнать оба подозрительных существа, которых он надеялся увидеть вблизи.
Поль старался также сделать это незаметно. Поэтому, для того, чтобы быть эта подозрительная парочка его не увидела, он устремился наружу, вышел из театра и встал немного справа от входной двери.
Минутой спустя, мужчина и женщина появились под колоннадой. Они взялись за руки, и остановились на мгновение на пороге.
Мужчина посмотрел в одну стороны, а женщина в другую.
—
Хорошо! — подумал Амьен, — они чего то опасаются… скорее всего, меня, и не осмеливаются появиться на тротуаре, прежде чем не убедятся, что я их не подстерегаю. Решительно, они боятся встретиться со мной. Ах! Дама отогнула свою вуалетку и… ошиблась, так как теперь она мне абсолютно точно напомнила путешественницу из омнибуса, и я уверен, впрочем, что она меня до сих пор ещё не заметила. Ого! Торговка апельсинами тоже их рассматривает!
Действительно, торговка подошла к этой парочке, остановилась прямо перед ними и стала мучить шумными предложениями.
—
Всего по три су, прекрасные валенсианские апельсины! — кричала она им, преграждая проход своим лотком. — Купите мои апельсины, мой принц. Охладите вашу даму. Это вам обойдётся дешевле, чем другими средствами.
Это предложение не имело никакого успеха. Мужчина, не стесняясь, оттолкнул её в сторону и прошёл вперёд. Он держал за руку свою подругу, и они спустились рука об руку вниз от монументальной двери, которая дала имя театру.
Амьен оставил тотчас же свою засаду, и в три шага присоединился к продавщице, которая его встретила таким возгласом:
—
Как! Вы? Пословица права, когда мы говорим, что помянёшь дьявола… ну вы понимаете… тут же его повстречаешь …
—
Мужчина с омнибуса? — прервал её Амьен. — Это — действительно он, не правда ли?
—
Ах! Я вам клянусь, что это — он. И та особа, которую он тащил с собой… мне кажется той самой дамой, которая села в омнибус на винном рынке. Нужно думать, что он с ней познакомился после того, как она покинула омнибус. Вы понимаете, что это именно ей он уступил своё место. Он был очень учтив тогда к даме. Мне все равно… но он мог бы быть щедрее, этот господин, и мог бы заставить попробовать свою принцессу мой апельсинчик. Она бы от этого точно не умерла.
Толстуха продолжала говорить, хотя Амьен был уже далеко.
После того, как торговка подтвердила его подозрения, он бросился в погоню за парой, которая быстро шла перед ним по улице. Поль хотел узнать, где жили эти люди, и поэтому решил проследовать до их дома, чтобы на следующий день указать этот адрес Верро, ведущему собственное расследование.
Вскоре он обнаружил, что парочка подозревала о его намерениях. Женщина часто оборачивалась назад, а мужчина маневрировал таким образом, чтобы скрываться, смешиваясь со зрителям, которые выходили в это время из театра де ля Ренессанс на воздух во время антракта. Но Амьен, у которого были зоркие глаза, не потерял их из виду.
У Поля также были хорошие ноги, и он сумел их догнать, но так как он боялся быть обнаруженным, Амьен заставил себя замедлить шаг, и стал следовать за парой из омнибуса на приемлемом расстоянии.
Без сомнения, они чувствовали, что их преследуют, так как они не оборачивались больше назад, но заметно ускорили свой шаг.
Амьен увидел, что они быстро приближаются к стоящим в ряд омнибусам на станции Порт-Сен-Мартен, и испугался, что они собираются сесть в омнибус, где он был бы сразу разоблачён, но они прошли мимо и свернув на бульвар Сен-Дени, пошли по широкому тротуару к длинной веренице стоявших вдоль него фиакров.
«Они собираются взять фиакр, это очевидно, — сказал про себя художник, — Черт. Я об этом не подумал!.. Хотя, ничто мне не мешает сделать тоже самое. Я на фиакре прослежу за ними до порога их дома.»
Амьен не ошибся. Мужчина и его спутница приблизились к одному из фиакров, и вступили в переговоры с кучером, который спустился к ним с облучка. Головной фиакр стоял прямо у ворот Сен-Дени, а фиакр, который они выбрали, было пятый, начинаясь с начала очереди. Амьен подошёл к последнему фиакру, чтобы не привлекать их внимание. Он вначале положил руку на ручку двери, а потом сделал вид, что ищет сигару в своём футляре, дабы оставить подозрительной паре время, необходимое, чтобы подняться в фиакр.
—
Поедем, что ли? — Спросил его кучер с высоты своего места.
—
Вы видите этого господина и его даму, которые впереди беседуют с вашим товарищем? Как только они окажутся в фиакре и он тронется с места, вы за ним последуете.
—
Понял. Тогда, самое время.
—
Да, и будут хорошие чаевые, если вы сможете не отстать от них.
—
Позволить опередить меня, Камиля, колымаге генерала! Этого нечего бояться. Поднимайтесь, месье, и садитесь с моей стороны… чтобы вы не сбежали, когда настанет время расплачиваться… знаю я такие истории, — сказал кучер в белой шляпе.
Амьен, очарованный тем, что ему попался такой умный кучер, наблюдал в пол глаза за парой, которая продолжала вести свои уже немного затянувшиеся переговоры с кучером чуть далее по улице, и удивлялся, что их коллоквиум длился так долго.
«Торговка апельсинами была права, — думал он. — Этот месье с омнибуса — скряга. Он торгуется из-за цены поездки. Ах!.. Он решил оплатить поездку заранее… Он вкладывает деньги в руку кучера, открывает дверь… пропускает вперёд женщину и поднимается вслед за нею… Вот момент, чтобы сделать тоже самое… они думают, что обнаружили меня и сумеют скрыться на фиакре, но они не подозревают, что я буду их преследовать и дальше.»
—
А мы, месье? — спросил его кучер. — Они уже упаковались, а мой товарищ поднялся только что на свой насест, и уже стегнул свою клячу, пытаясь сдвинуть её с места.
—
Давай, — сказал Амьен, — и не приближайтесь к ним чересчур близко. Не нужно, чтобы они заметили, что мы следуем за ними.
—
Будьте спокойны. Они не увидят огня нашей кареты, и будут в полном недоумении в конце поездки.
Амьен прыгнул в фиакр, и, высунув голову в окно, с удовольствием констатировал, что передний фиакр лишь только что сумел выбраться из ряда других и медленно катил по мостовой бульвара.
Камиль не хвастался, его лошадь была хороша, и она не нуждалась в том, чтобы её понукать и подстёгивать, дабы сохранить расстояние до следующего впереди фиакра. Они держали расстояние между каретами в восемьдесят шагов, и поддерживали его без труда.
—
Куда они едут? — спрашивал себя Амьен. — Вполне вероятно, что в мой квартал. Вчера вечером мужчина спустился из омнибуса на улице Тур Д ‘Овернь, а женщина сошла на улице Лаваль.
И он был довольно сильно удивлён, когда увидел, что их фиакр уклонился влево на бульвар Севастополь.
—
Я ошибался, — прошептал он. — Всё совсем наоборот. Они повернули в противоположную к Монмартру сторону. Хотя этот факт не доказывает, что они живут там. Они сели в фиакр на пляс Пигаль, сделав своё грязное, мерзкое дело… и потом через мост вернулись к себе домой. Мне кажется, что они вполне могут жить на левом берегу Сены. Вечер у меня свободен, так что я могу посвятить его этим негодяям. А вот если бы я был женат…
Это последнее размышление не только ему напомнило о мадемуазель Дюбуа, о которой он немного подзабыл со времени своего выхода из театральной ложи, но и заставило его также вспомнить, что отец этой восхитительной девушки знал мужчину с усами и подбритыми бакенбардами. И даже знал совсем неплохо, используя в качестве так называемого торгового агента.
«Черт возьми! — говорит он себе, — за что же мне такое наказание. Я сам себе придумал приключение. Я ведь могу узнать имя и адрес этого персонажа в любое время, когда захочу. У месье Дюбуа его данные не сохранились в памяти, но записаны в его блокноте, и он мне обещал их дать. Пора мне заканчивать это преследование, результаты которого мне не дадут ничего нового, ведь все, что я пытаюсь с таким трудом узнать сегодня, мне завтра совершенно без всякого труда может сообщить месье Дюбуа.»
Поль поднял руку, чтобы повернуть ручку вызова кучера и остановить фиакр, но тут другая мысль пришла ему на ум.
«Да, — подумал он, — месье Дюбуа мне скажет все, что ему известно, но, вполне возможно, что этот негодяй ему представился под чужим именем и оставил ложный адрес. Человек такого калибра очень даже способен на это… как и иметь два места жительства. И интересно проверить, живёт ли вместе с ним девица, которая его сопровождает. И кроме того, когда я теперь увижу месье Дюбуа? Смерть его брата принесёт этому капиталисту много дополнительных хлопот, которые вполне могут не позволить ему встретиться со мной. Я не осмелюсь показаться у него в течение нескольких дней, и при таких обстоятельствах, в которых он оказался, я не в состоянии ему написать достойное письмо, чтобы попросить даже незначительную справку. Следовательно, я выиграю время, если доведу до конца свою охоту, которую начал, — заключил свои размышления по этому поводу Амьен. — Вопрос состоит в том, чтобы только узнать, куда эта красивая пара меня собирается привести. На другой берег реки… это становится очень даже вероятно. Ну вот, мы прибыли на площадь Шатле, и фиакр катится прямиком к мосту Шанже… все время прямо, и если он так продолжит, мы так вскоре доберёмся к шлагбауму Сен-Жака… через час, если он и дальше будет двигаться, как черепаха.»
Это была правда. Фиакр, куда поднялась эта подозрительная пара, шёл довольно медленно, обе лошади, которые его тащили, наслаждались поездкой, как будто они следовали за похоронной процессией и, кажется, стоило бы Полю удивиться, почему торговый агент выбрал для того, чтобы вернуться к себе домой один из тех огромных фиакров, в два ряда сидений и с грузовым отсеком на крыше, которые обычно служат только для того, чтобы транспортировать на вокзалы железных дорог путешественников, загруженных багажом.
Респектабельная карета шла столь медленно, что кучер Амьена произнёс все проклятия мира в адрес своего товарища по профессии, мешающего показать его лошади достойный бег, позволяющий легко превзойти мирную упряжку, которая семенила перед нею, и заслужить дополнительные чаевые.
«Вот люди, которые не торопятся, — говорил про себя художник. — Но это лишний раз доказывает, что они не знают, что я следую за ними. Интересно посмотреть, какое выражение примут их лица, когда они увидят, как я спускаюсь с фиакра одновременно с ними! Но, на самом деле, разве я буду спускаться с фиакра вместе с ними? Мне кажется, что это было бы абсолютно бесполезно, так как у меня нет никакого плана, как объясниться с этими убийцами. Мне будет достаточно узнать, где они живут, и, как только они войдут в дом, я возвращусь к себе.»
Как Поль и ожидал, фиакр за мостом Шанже принял влево, на набережную Ситэ, и вскоре прибыл к Нотр-Дам.
«Ах, значит так, они едут в Морг? — спросил себя Амьен, узнавая муниципальное здание, где выставляют неопознанных мертвецов… — Это было бы немного слишком! В этот час учреждение закрыто… да и карета не останавливается, она пересекла мост Архиепископа… решительно, парочка живёт на левом берегу Сены… и вероятно, в том же квартале, что и Пия, так как фиакр теперь катится по набережной Турней.»
Но, как выяснилось, он туда поехал лишь для того, чтобы с грехом пополам добраться до перекрёстка, которым заканчивается бульвар Сен-Жермен, возле моста Анри IV.
Там кучер немного принял лошадей вправо и остановил фиакр перед дверью дома, который образовывал угол бульвара и улицы Дефоссе Сен-Бернар.
Амьен тихо опустил окно в передней части кареты, высунулся в него и потянул за рукав Камиля, который повернувшись к нему, сказал, понизив голос:
—
Если месье хочет мне позволить выбрать место, где его не будет видно, я это сделаю.
Одновременно он маневрировал таким образом, чтобы расположить свой фиакр вдоль тротуара, за первой каретой. Это было сделано очень быстро, и Амьен тотчас же прижался к двери, чтобы не пропустить ни одного движения путешественника и его попутчицы. К его большому удивлению, никто не вышел из наёмной кареты. Кучер огромного фиакра слез со своего места и разнуздав лошадей, привязал к их мордам мешки с овсом, после чего принялся не спеша разжигать свою пеньковую трубку, как человек, который знает, что у него будет много свободного времени, чтобы её и покурить и докурить.
—
Что это значит? — пробормотал Амьен. — Они прибыли к месту назначения. Тогда, почему не выходят? Подозревают, что я их подстерегаю? Нет, это не так, ведь если бы они это подозревали, они бы поехали дальше и попытались избавиться от моего преследования.
Проведя пять минут в мучительных сомнениях и беспокойном ожидании, художник услышал, как кучер ему очень тихо сказал:
—
У меня такая вот мысль в голове… что над нами подшутили… и в фиакре никого нет.
Эти слова стали лучом света для Амьена. Он тут же открыл дверь, прыгнул на тротуар и приблизился к грузовому фиакру, все окна которого были закрыты и наглухо зашторены, но вглядевшись в узкую щёлку, он легко убедился, что салон фиакра был пуст.
—
И ваши пассажиры, — спросил он кучера грузового фиакра, пытаясь изобразить безразличие на лице, — их вы потеряли по дороге?
—
Мои пассажиры? — Усмехнулся кучер, — я их как раз жду… но не думаю, что они придут. Мне все равно, так как мне оплатили пребывание здесь до половины десятого. Четверть прозвонила только что, и когда мои животные закончат поедать свой овёс, я помчусь в депо компании. Мой рабочий день закончен. И я собрал аж сотню су чаевых.
—
Но господин и дама, которые поднялись к вам у ворот Сен-Мартен? …
—
Ну и ну! Вы видели это, и вы… следовали за ними все это время? Ах, господи, они над вами славно посмеялись. Господа вошли в мой фиакр с одной стороны и тут же вышли с другой. Этот буржуа со мной так договорился. Он мне дал десять франков за то, чтобы я разрешил им сделать это, а потом порожняком катался по Парижу. Чтобы я вас заставил прокатиться к Рынку вина, в то время как они прогуливались на больших бульварах. Потом я должен был забрать их здесь, но теперь я вижу, что они и не собирались с вами встречаться, а
потому не появятся здесь
.
Амьен чувствовал всю справедливость этого суждения. Он не сказал больше ни слова, и повернулся, опустив голову, опозоренный… позволив себя высмеять, и клянясь, что больше в жизни не будет заниматься никакими погонями и расследованиями.
—
Каждый должен заниматься своей профессией! — воскликнул Поль, возвращаясь в свою карету. — Я не более рождён полицейским, чем Верро создан, чтобы заниматься живописью. Но я уверен теперь, что именно эти мужчина и женщина были в омнибусе вчера вечером. Если бы они меня не узнали, они не потрудились бы предпринять столь усердную попытку ускользнуть от меня. И если они меня так опасаются, значит совесть их не чиста. К счастью, месье Дюбуа мне даст их адрес, и тогда посмотрим, кто будет смеяться последним. Пляс Пигаль, кучер, и побыстрей!
Часть IV
Бульвар Рошуа — преимущественно квартал кривых кабачков, которые, на парижском языке, называются кабулё.
Среди них попадаются и вполне респектабельные кафе и лавочки, куда честные рабочие приходят выпить свой литр вина у стойки, но скорее это исключение, чем правило.
Кабулё, впрочем, посещают не только дошедшие до полунище ты люди. Туда приходит и богема, люди, которые почти не работают, это правда, но которые и никогда не имеют проблем с полицией. Мастерские художников изобилуют в окрестностях этих мест, и праздношатающиеся горе-художники не испытывают затруднения в выборе компании и места для выпивки. Им достаточно, чтобы хозяин кабуле открыл им кредит и не был слишком требовательным в требовании долга и норм поведения в его трактире… чтобы туда можно было прийти туда в рабочей блузе, напиться и драть глотку без удержу, играть в домино в течение целого дня или вечера без обязанности делать новые заказы.
Друг Амьена Верро был из числа тех бездельников, кто уже давно стал завсегдатаем этих мест. Он жил в мансарде на улице Мирра, и кабулё под названием Гранд-Бок был расположен между улицей Клинанкур и бульваром Орнан, в двух шагах от него.
Этот кабачок имел довольно непрезентабельный снаружи вид. Его витрина была грязна, а замызганные шторы скрывали от глаз прохожих тайны зала, где в глубине его был установлен бильярдный стол с продранным до дыр сукном, и широкие деревянные скамьи, на которых пьяницы могли отсыпаться в своё удовольствие. Внутренняя часть кабулё была украшена фресками благодаря вольному, пропахшему алкогольными парами духу и кисти Верро, покрывшему стены странными и нелепыми рисунками. Эта работа, бесплатно выполненная, стоила ему неплохими милостями и благосклонностью хозяина дома, известного в квартале под именем отца Пуавро, во многом, благодаря его любви к абсенту. Он регулярно поглощал половину литра этого чудесного напитка в день, и довольно неплохо при этом держался, как молодой перец, и выглядел так вплоть до полуночи, хотя к утру лицо его было уже землистого цвета. Ведь он ложился спать пьяным почти каждый вечер.
Верро былв этом кабулё почти как дома. У него был в нём открытый счёт, и он мог там делать все, что ему заблагорассудится. В этом заведении горе-художник проводил приблизительно двенадцать из двадцати четырёх часов в сутки, и был там, как говорится, и в дождь и в солнце. Когда ему вдруг взбредало в голову порассуждать о большом искусстве, завсегдатаи харчевни, которые в этом ничего не понимали, слушали его, как оракула.
И Верро завёл там множество друзей, уверенный в том, что всегда найдёт там народ, которые его приветит, который дорожит честью его угостить, если ему захочется выпить, и с удовольствием послушают его рассуждения об искусстве. При этом Верро не искал компании красиво одетых кавалеров, штатных танцоров в Буль Нуар или Рен Бланш, которые охотно собирались у отца Пуавро, чтобы поиграть в карты. Он пренебрегал даже мелкими торговцами, хозяевами маленьких лавочек по соседству, которые приходили туда иногда лишь только для того, чтобы поставить пару су в пикет. Верро водил дружбу только с достаточно зажиточными людьми: мраморщиком с кладбища Сент-Уэн, для которого он рисовал проекты экстравагантных гробниц, рантье, которого звали месье Фурнье, и у которого был очень хороший капитал… был там ещё один отошедший от дел торговец аптекарскими товарами, который не блистал в разговоре, потому что был глух, но всегда восхищался художниками вообще и Верро в особенности.
Хотя, по правде говоря, бедный горе художник был объектом шуток месье Фурнье и всей компании, они прекрасно понимали, что с ними он экономил на расходах по содержанию собственной мастерской, но добрый рантье никогда не сердился на художника и всегда составлял ему компанию.
Верро, напротив питал к месье Фурнье искреннюю симпатию, удвоенную некоторым уважением. Его привлекали мягкие манеры месье Фурнье, а его взвешенные суждения и гладкая речь очаровывали художника. Месье Фурнье был собеседником чрезвычайно приятным. Он много повидал и пережил. Ему были знакомы дальние страны и разные люди. Он говорил обо всем на свете с видом осведомлённого человека, и был способен дать хороший совет. Но при этом он был чрезвычайно сдержан относительно своих дел и того, чем занимался в молодости.
Верро придумал поначалу себе, что Фурнье раньше служил в армии, но не был в этом окончательно уверен, а впоследствии решил, что тот занимал большой пост в политической полиции или работал в дипломатическом ведомстве. Но в конце концов Верро больше понравилось считать, что Фурнье раньше работал в полиции. И он постоянно заводил разговор с Фурнье на криминально-полицейские темы, но его собеседник находил их не интересными и обращался к ним только в крайнем случае.
Но вот уже три дня Верро бесполезно ожидал за кружкой пива в Гранд-Бок своего любимого партнёра по столу. Месье Фурнье не приходил туда больше, и это неожиданное исчезновение чрезвычайно печалило Верро, который горел желанием обратиться к нему с рассказом о таинственном деле омнибуса.
Фурнье стал недоступен, магически пропал точнёхонько на следующий день после этого трагического приключения.
Верро безутешно сожалел об этом неприятном совпадении и спрашивал о Фурнье всех забулдыг Гранд-Бока, но никто его не видел, и отец Пуавро тоже был не в состоянии сообщить никаких новостей от этого верного завсегдатая своего учреждения.
Было известно, что Фурнье жил в этом же квартале. Одни говорили, что на площади Антверпена, другие, что на улице Дюнкерка, но он никогда никого из своих знакомых по таверне не приглашал к себе домой, и Верро, наряду с остальными, тоже не знал его адреса, хотя и неоднократно пытался его выяснить у своего собеседника. Фурнье всегда ловко уклонялся от этого вопроса, и тайна, которой он окружал свою жизнь, также способствовала тому, что он сумел убедить горе художника в том, что Фурнье работал раньше в полиции.
Необъяснимое его отсутствие в последние дни лишь только утвердило Верро в этом мнении. Он был убеждён, что Фурнье наделили только что некоторой тайной миссией, и вследствие этого его нельзя будет увидеть в течении определённого времени. И он был огорчён этим, так как рассчитывал на его ум, знания, опыт и даже помощь, чтобы внести ясность в очень запутанную историю, которую Верро так поспешно и хвастливо объявил практически распутанной Полю Амьену.
Верро торжественно поклялся своему товарищу Амьену в том, что вскоре найдёт женщину, нанёсшую роковой укол булавкой бедной девушке, и её сообщника из омнибуса. Он понимал теперь, что был чересчур оптимистичен, и сам, без посторонней помощи не в состоянии ничего сделать. Несостоявшийся художник и следователь-любитель признавал сам себе своё бессилие в своём предприятии, и это признание унижало его до такой степени, что он не осмеливался больше показываться у своего друга с пляс Пигаль. А Амьен, в свою очередь, не был человеком, способным лично отправиться на поиски Верро для встречи с ним. Когда Верро приходил в его мастерскую, Амьен всегда оказывал ему хороший приём в память о бывшем между ними товариществе, которое родилось в Школе изящных искусств в уже далёкие теперь юношеские годы, но с тех пор, как они вошли в самостоятельную взрослую жизнь через одну и ту же дверь, они последовали по ней различными дорогами и маршрутами, так что узы этого товарищества потеряли былую прочность. Амьен вышел в свет и играл в нем вполне заметную роль, а Верро, своим неряшливым костюмом испачкал бы кресло на каком-нибудь светском рауте, а разболтанной походкой перепугал бы всех его участников, если бы, конечно, сумел туда пробраться. Амьен испытывал отвращение к кабачкам, а Верро из них не вылезал. Из чего вполне логично вытекало, что они никак не могли встретиться вот уже три дня.
Верро все это время постоянно располагался в кабулё Гранд-Бок. Он лишь изредка прогуливался в Морг, и то только лишь для того, чтобы поинтересоваться, выставлено ли там ещё тело девушки из омнибуса и не опознал ли кто-нибудь его. И всякий раз он возвращался с этой экскурсии мрачнее тучи, не узнав ничего нового. Никто не опознал покойницу до конца установленного законом трёхдневного срока, и уже собирались приступить к её захоронению, сказал ему секретарь этого учреждения. Бедное тело будет брошено в братскую могилу, и тайна преступления будет похоронена вместе с жертвой на больничном кладбище.
Уверенность в неумолимом приближении такой нелепой развязки его расследования поразила Верро, и он был чрезвычайно расстроен этим своим фиаско. Следовало уже спросить себя, не стоит ли заставить свою персону попросту отнести в комиссариат полиции отравленную булавку и рассказать комиссару все, что ему известно о происшествии в омнибусе, независимо от высказанного его другом Амьеном отвращения к нему, нежелания быть замешанным в этом деле. Но все таки Верро, в глубине души, до последнего рассчитывал на сотрудничество с этим Фурнье, который, по его оценке, был более умным и умелым детективом, чем все полицейские в мире вместе взятые.
В то время, как опрометчивый сыщик и прирождённый маляр томился в кабулё в ожидании этого персонажа, Поль Амьен, который мог бы предоставить Верро важные сведения по этому делу, тихо проводил время у себя дома и не испытывал ни малейшего желания увидеть его. Поль Амьен, поразмыслив, решил не предпринимать больше никаких действий до нового уведомления, то есть, до тех пор, пока месье Дюбуа ему не даст адрес этого торгового агента, который столь изящно скрылся от него в вечер представления постановки Рыцарей тумана. Поль Амьен упорно работал над картиной и думал намного больше о мадемуазель Авроре, чем о подозрительной паре, которую он недавно преследовал.
Итак, на третий день после спектакля, около полудня, позавтракав блюдом из кислой капусты, обильно сдобренной несколькими кружками пива, Верро меланхолически прогуливался по периметру первого зала своего любимого кабулё. С озабоченным выражением лица и трубкой во рту, он периодически приклеивал своё лицо к окошку в двери, продолжая надеяться, что заметит Фурнье, приближающегося по бульвару к их любимому заведению. Это был час, когда он обычно приходил, чтобы поиграть в бильярд или в домино. Но Фурнье не появлялся.
Отец Пуавро дремал за стойкой, положив свою голову точнёхонько между бутылкой абсента и пустым стаканом, а отставной торговец аптекарскими товарами, отзывавшийся на имя Морель, читал газету в углу, и принимал, без сомнения, большое участие в этом изучении типографского шрифта, так как молчал и был недвижим, как монумент на кладбище, хотя Верро ему уже подбросил в тарелку несколько ломтиков бекона, до которых он даже не дотронулся… потому что был глух, как пробка. Верро, сильно раздражённый бесполезным ожиданием, уже был готов совершить свою очередную неудачную шутку, подпалив газету Мореля спичкой, когда дверь кабачка внезапно открылась.
—
Добрый день, товарищи! Привет, отец Пуавро! — произнёс зычный голос, который немедля разбудил хозяина учреждения и даже заставил поднять голову аптекаря, погруженного в чтение газеты.
—
Фурнье! — воскликнул Верро. — Наконец-то, вот и вы! Разве это не счастье. Вот уже три дня я о вас расспрашиваю всех и вся… и не могу разыскать.
—
Держу пари, что это для того, чтобы предложить мне рюмку отменного коньяка, — смеясь, воскликнул Фурнье, изливаясь прекрасным настроением.
—
Конечно… и потом ещё одну. Ах, что с вами случилось? Вы были больны?
—
Я… болен! Никогда! Посмотрите на меня, на этот торс! Разве я похож на призывника, освобождённого от армии по причине слабой конституции?
—
Нет, черт возьми! Но иногда мы совершенно напрасно стараемся казаться крепкими и сильными, хотя не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, что невозможно скрыться от недомогания. Я сам часто страдаю от похмелья. И когда я увидел, что игнорируете мою кампанию три дня подряд, я стал беспокоиться. Если бы я знал ваш адрес, я конечно навестил бы вас, чтобы узнать, не случилось ли чего-нибудь с вами.
—
О! В этом не было никакой необходимости. Меня не было дома в эти дни! Я отправился в путешествие во вторник вечером, и я возвратился только этим утром.
—
Это объясняет все. Вы уезжали далеко?
—
Нет, я был всего лишь в пятнадцати льё от Парижа ради маленького наследства, которое неожиданно только что свалилось мне на голову.
—
Это лучше, чем черепица с крыши или булыжник с мостовой… мои комплименты… это то… тот самый случай, который меня никогда не настигнет.
—
Ба! Кто его знает? Но, раз уж так случилось, именно я угощаю этим утром. Отец Пуавро, графинчик и стаканы!.. Вы согласны на коньяк постарее?… Смотри-ка!.. Он догадался, чего я хочу, старый шельмец… и уже приготовил пару бутылочек коньяку… и даже поставил поднос на стол рядом с уважаемым месье Морелем. Это для того, как я могу без труда догадаться, чтобы я пригласил этого доброго старика за наш столик! Я не против ещё одного страждущего выпить. Сегодня для меня хороший коньяк всего лишь пустяк.
—
Черт возьми! Если бы я получил наследство, я бы приглашал к столу всех прохожих на бульваре. Но, признаюсь, я не стремлюсь пить коньяк по соседству с отцом Морелем.
—
Почему это? Чем вам не угодил бедный старичок?
—
О! Абсолютно ничем. Только у меня для вас есть одна история, которую мне хотелось уже не один день вам рассказать… и попросить консультацию для меня… и только для меня одного.
—
Хорошо, я не против… и не волнуйтесь насчёт месье Мореля, он нас не услышит… потому что глух, как горшок.
—
Это правда. Я об этом даже не подумал. Говоря тихо, я могу не опасаться, что он услышит хоть одно слово. Так что мы вполне можем присесть возле этого аптекаря.
—
Ах… эти интимные признания! Тайны! Секреты… о чем, например! Вы что-то замышляете против правительства? Черт возьми! Со мной это не пройдёт.
—
Ну, нет! Я это прекрасно понимаю, — сказал Верро, — который принял эту шутливую речь Фурнье за признание в работе на государство. — Я понимаю, что вы не можете вмешиваться в такие дела. Но об этом нет и речи, разговор пойдёт о частном деле.
—
Частном! Тогда меня это устраивает. Объясните мне всё… со всеми подробностями, но вначале давайте чокнемся, — сказал Фурнье, который наполнил только что три стакана напитком, заставившем непроизвольно вздрогнуть ноздри Верро, и занял место бок о бок с месье Морелем. За ваше здоровье, папаша, — продолжил он, ударив по плечу своего соседа.
—
Неплохо, а вы? — ответил старик с ошеломлённым выражением лица.
—
Он полагает, что я у него спросил, как он себя чувствует, — усмехнулся Фурнье. — совсем оглох старик! Давайте оставим его в покое и расскажите мне вашу историю. А если аптекарь не будет пить с нами, мы высушим этот графинчик на двоих.
И Верро, облокотившись на стол, немедленно приступил к изложению темы. Он начал рассказ о поездке в омнибусе с самого начала, со станции омнибусов, и не опуская ни одной детали. Все было в этом повествовании… и эпизод с переуступкой места в салоне, и остальные подробности вплоть до трагедии по прибытии. Он описал в ярких красках три персонажа этой драмы, обоих сообщников и их жертву, и немую сцену, которая произошла при спуске с Нового моста, и оцепенение служащих транспортной компании, когда констатировали, что пассажирка умерла во время пути.
Верро ничего не упустил в своём эмоциональном выступлении, в нем даже была трогательная картина, когда он встал и как актёр на сцене сыграл картинку, как он буквально рыдал при виде мёртвой девушки. Все было изображено доподлинно, кроме того, что вместо своего друга Поля в этом действе он подставил на его место себя и представил все так, как будто это произошло с ним. Он решительно приписал себе роль, которую сыграл на самом деле Поль Амьен. Это льстило его самолюбию, и к тому же он считал бесполезным компрометировать товарища, который не хотел фигурировать в деле такого рода.
Месье Фурнье выслушал его с напряжённым вниманием и явным интересом. Он позволил себе, между тем, два или три раза улыбнуться, и в конце концов воскликнул:
—
Вот так приключение! Но какого черта вы оказались в полночь в квартале винного Рынка?
—
Я… провел вечер в поисках женщины, живущей в окрестностях… модели, — пробормотал Верро, не ожидавший этого вопроса.
—
Ах! Хорошо! Это очень интересно… история этой внезапной смерти… но о чем вы хотели со мной проконсультироваться?
—
Я хотел бы узнать, что вы думаете об этом странном несчастном случае.
—
Но, — ответил Фурнье, пожимая плечами, — я об этом случае вообще ничего не думаю. Я не врач.
—
Я также. И, однако, я уверен, что эта бедная девушка была убита в омнибусе.
—
Хорошо, пусть так! Тогда, кем и как, скажите мне пожалуйста?
После этого вопроса Верро приступил ко второй части своего рассказа, который он готовил вот уже три дня. Он рассказал, как ему удалось раскрыть тайну отравленного наконечника булавки и фрагмента письма, об опыте, который стоил жизни кошке, затем о своих неоднократных визитах в Морг, его сомнениях и выводах, на которых он остановился, размышляя зрело об этом происшествии. Он закончил свою речь, умоляя Фурнье ему помочь своим советом и приступить к делу вместе с ним, чтобы обнаружить отвратительную пару злодеев, которая сотворила это преступное произведение искусства.
Фурнье стал серьёзен. Он качал головой с умным видом при каждой ремарке, которую формулировал Верро, и поглотил подряд три рюмки коньяку, прежде чем ответить.
—
Мой Бог! — наконец сказал он, — я тоже начинаю думать, что эта смерть не была естественной. Изложили ли вы эти факты комиссару полиции?
—
Я остерёгся делать это, так как намереваюсь обойтись без него. Я обязательно проинформирую полицию, но лишь тогда, когда буду знать, где можно будет арестовать женщину, которая сделала своё грязное дело, и её сообщника.
—
Вы совершенно правы. Полицейские комиссары охотно усложняют вопрос, и первое, что они сделали бы… это стали бы вас подозревать. Но, скажите мне… вы, я предполагаю, сохранили булавку и порванное письмо?
—
Ах! Конечно! Я их храню возле моего сердца. Взгляните на них поскорее.
Говоря это, Верро вытянул из кармана своей блузы футляр, где он обычно держал свою любимую трубку. Открыв его, он извлёк на свет божий оба вещественных доказательства, которые ему вручил Амьен. Булавка играла в этом футляре роль мундштука отсутствующей трубки, а письмо роль чаши.
—
Гениальный тайник, — сказал, смеясь, Фурнье.
—
Вы ведь понимаете, что я боюсь потерять эти объекты и, главным образом, сам уколоться о них, — воскликнул мазила, которого многие называли художником. — Но я вам не мешаю их рассмотреть, и даже прошу вас об этом. Только, держите булавку в руках очень осторожно.
—
Я не собираюсь брать эту булавку в руки, абсолютно не сомневаясь, что вы правы в отношении её предназначения. Я довольствуюсь тем, что попробую расшифровать, если вы позволите, то, что написано на этом клочке бумаги.
—
Как! Как это… если я это позволю! Да мне просто не терпится узнать то, что вы об этом думаете. Я лично нахожу доказательство совершенного ими преступления в конце каждой строчки этого письма.
В то время как Фурнье разворачивал измятую бумагу, Верро, поднимая голову, заметил, что отец Морель хитро улыбается.
Аптекаря не отвлёк от чтения газеты их разговор, который его глухота мешала ему услышать, но он неплохо видел, а потому явление на свет божий булавки, казалось, его бесконечно обрадовало.
—
Ах! Мой славный малый, — сказал он, указывая на неё пальцем, — вы коллекционируете реликвии, позаимствованные у ваших прекрасных подруг! Вот что значит… быть молодым. Она красива! Прекрасная девушка прикалывала свою шляпу этой булавкой?
—
Не прикасайтесь к ней! Вы можете уколоться, — закричал ему Верро.
—
И, для большей безопасности, он вновь закрыл футляр.
—
Хорошо! хорошо! Не будь так ревнив, мой мальчик, — продолжил глухой старик. — В моем возрасте уже нет места таким глупостям.
—
Тогда читай свою колонку происшествий в газете и оставь нас в отдыхе, глупый старик, — пробормотал Верро.
—
Вы сказали, что я хорошо сохранился… вы мне льстите, молодой человек, но я не виню вас в этом, — серьёзно ответил Морель, вновь склоняясь над своей газетой, которую он всегда изучал до последней строчки.
—
Решительно, мы не нуждаемся в том, чтобы нам мешали, мой друг. Но аптекарь ещё более глух, чем я думал, а отец Пуавро вновь начал храпеть на своей стойке, так что вы смело можете высказать мне ваше мнение о письме, мой дорогой.
—
Письмо ничего не доказывает, — прошептал Фурнье. — Нет ни одной фразы, которая была бы закончена и имела смысл.
—
Да, в этом вы правы, но мы можем прочитать кое-что, что называется, между строк. Послушайте: «Она прибыла уже месяц тому назад…» она-это, очевидно, имеется в виду умершая в омнибусе малышка. Читаем дальше… «Я возвращаюсь к моему первому плану…» вполне очевидно, что это план убить её булавкой. Дальше… «она выходит очень редко, но каждый день по вечерам…» Негодяй, который это написал, не знал, куда она ходит, но он знал, что куда-то в квартал Винного рынка, черт возьми! И он её поджидал на обратном пути.
—
Дорогой друг, вы очень искусны в чтении зашифрованных посланий… искуснее меня, так как я никогда не нашел бы в этом тексте всего того, о чем вы мне сказали только что. Но, что касается булавки, то я могу, если вы этого пожелаете, узнать, в какой яд было погружено её острие. Я знаю одного первостатейного в этих делах химика. Он проведёт опыты, сделает анализы… и установит правду.
—
Меня это устраивает! — воскликнул Верро.
—
Только, надо было бы вам вручить мне этот предмет, — добавил Фурнье.
—
Вам поручить булавку! — воскликнул Верро. — Конечно. Я уверен, что вы не используете её ненадлежащим образом, и в ваших руках она будет также надёжна сохранена, как и в моих.
—
Я бы вам предложил, конечно, поприсутствовать на опытах с этой булавкой, — продолжил Фурнье, — но это могло бы помешать моему химику… потому что… Вы понимаете, это— профессиональный судебный эксперт, а здесь речь не идёт об официальной экспертизе. Если я ему расскажу об истории в омнибусе, он стал бы опасаться, возможно, скомпрометировать себя, поставив на службу свою науку частному лицу, которого он не знает, в то время как у меня, его друга, он не попросит никакого объяснения или удовлетворится той историей, что я придумаю.
—
Это справедливо… отнесите ему булавку, мой дорогой, но при одном условии, однако …
—
Каком?
—
При условии, что вы мне в дальнейшем пообещаете работать по этому делу вместе со мной. Я поклялся, что разоблачу злодеев… но без вас я ничего хорошего не добьюсь.
—
Откуда вам в голову пришла идея, что я обладаю талантом следователя? — смеясь спросил его Фурнье.
—
Мой Бог! В той ситуации, что мы сейчас оказались, я могу вам признаться в этом, — воскликнул Верро. — Мне кажется… нет, я уверен… что вы прежде работали в этой сфере.
—
Это очень лестное для меня предположение… особенно учитывая то, как много сейчас в обществе людей с предубеждениями против полиции и всего, что связано с её работой.
—
О! Что касается меня, то если бы я не был художником, то хотел бы быть секретным агентом, то есть… давайте уточним… не стукачом-доносчиком… я хотел бы охотиться на убийц, как частный сыщик… для пользы моих друзей, как месье Лекок в романах великого Габорио.
—
Месье Лекок, если я не ошибаюсь, сделал это своей профессией.
—
Я… пока ещё нет. К сожалению, я упустил карьеру в этой области. Но вы в ней работали и поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли.
—
Как бы там ни было, — произнёс Фурнье со скромной улыбкой, — я вас прошу поверить, что теперь я не работаю в этой сфере… куда вы так стремитесь.
—
Вот ещё одна причина, чтобы вам заняться моим делом. Если бы вы были привязаны к префектуре, это вас затруднило бы… тратить своё время на меня, в то время как вы, свободный от своих прежних обязанностей, можете без всяких ограничений принять участие в моем расследовании.
—
Действительно, мне ничего не мешает, но если мы достигнем благоприятного результата, в чем наш интерес?
—
Сладостное удовлетворение от мести за смерть бедной девушки, убитой злодеями.
—
Это — кое что… меня это устраивает. Вопрос лишь в том, есть ли у нас шанс на успех. Вы мне сказали, как мне показалось, что жертва не была опознана в Морге?
—
К несчастью, нет… и её похоронят этим вечером.
—
Черт побери! Нельзя терять ни минуты! Если мы не узнаем, кто она, то и не сможем установить, кто её убил. И я, признаюсь, пока даже не представляю, как мы можем узнать её имя.
—
Есть только один способ установить её адрес.
—
Значит вы полагаете, что это легко сделать …
—
Нет… это не так… но и не невозможно. У нас есть указание на место её жительства. Перечитайте ещё раз разорванное письмо. На третьей строчке… там упомянута улица и её название во множественном, а не в единственном числе …
—
Действительно, это так… и множественное число-точка отсчёта наших поисков.
—
Прекрасно… и я бы уже и сам обошёл все эти парижские улицы с названием во множественном числе, если не провел здесь три дня в надежде встретить вас. Я здесь, в Гранд Бок, буквально жил. Пуавро, если бы не был пьян, вам бы это подтвердил… и я мог бы обратиться к свидетельству отца Мореля, если бы это животное не было глухим.
—
Что вы хотите! Я был занят своими делами… связанными с наследством. Эта задержка досадна, но не фатальна, тем не менее, ничего не потеряно, и можно попытаться наверстать время. Обратившись к альманаху Боттана мы получим полный список улиц Парижа, которые нас интересуют, и когда он будет у нас на руках, мы сможем поделить между собой поровну нашу работу по их обследованию. Вы посетили бы половину этих улиц, в то время как я обойду другую. Впрочем, есть один способ значительно сузить район поиска. Эта несчастная девушка села, как вы мне сказали, на последний омнибус у винного Рынка?
—
Да… на тот, который прибывает на конечную станцию уже после полуночи.
—
Следовательно, она возвращалась к себе домой, чтобы лечь спать. Таким образом, девушка должна жить где-то в окрестностях пляс Пигаль, и таким образом было бы разумно начать поиски с этого квартала. Вы там знаете какие-нибудь улицы с названием на…?
—
Я знаю много таких: улица Мучеников, улица Аббатисс …
—
Отлично, тогда давайте осмотрим для начала именно эти две.
—
Хм! Улица Мучеников ужасно длинна. Она начинается у церкви Нотр-Дам де Лоретт и поднимается до холма Монмартр.
—
Как! — воскликнул Фурнье, смеясь, — вы уже устали от работы!
—
Нет, но я боюсь попусту потерять время.
—
Тогда давайте вначале атакуем улицу Аббатисс.
—
Это совсем близко отсюда, эта улица Аббатисс, — сказал Верро, — и она не так длинна, как улица Аббатисс. Ничто не противится тому, чтобы мы начали именно с неё. Я говорю… мы, потому что мне показалось, что вы расположены меня сопровождать в этих поисках. Это бы меня чрезвычайно устроило. Без вас я ничего хорошего не добьюсь. Я ещё не умею разговаривать с этими портье… выведывать нужные сведения. Я не знаю, какие им задавать вопросы. Вы мне преподадите, я надеюсь, азы профессии, и когда я буду обладать первоначальным набором знаний, вы сами увидите, что из меня может получиться неплохой сыщик.
—
Я в этом убеждён, — серьёзно произнёс Фурнье. — И вы, впрочем, увидите, что это не очень трудно. Речь идёт лишь о том, что нужно иметь дерзость и некоторую проницательность. Но если вы хотите, чтобы ваше обучение было успешным, вам нужно, чтобы вы добывали сведения сами. А я буду рядом и помогу вам.
—
Идеально! Мне нравится ваш план, так что, давайте приступим сразу же к делу.
—
Ах, на сколь я люблю этот благородный жар, объявший вашу душу, так что я вашем распоряжении. И ещё раз уточним… Вы действительно не против, чтобы я забрал отравленную булавку?
—
Булавку и письмо, если вы хотите. Мне будет намного спокойнее, когда они будут находиться в ваших руках, потому что в моем жилище нет шкафа, который закрывается на ключ, а все мои карманы дырявы как один… без исключения.
—
Черт побери! Было бы неприятно потерять столь ценные вещественные доказательства, так что будьте уверены, я сохраню все в наилучшем виде и, разумеется, верну вам эти объекты при первом же вашем запросе, — сказал Фурнье, вновь укладывая порванное письмо в футляр, в котором его уже поджидала булавка.
Отец Морель, который наконец закончил чтение своей газеты, бессмысленно и глупо улыбаясь, смотрел на его манипуляции.
—
Это вас удивляет, папаша, что я прячу в своих карманах эти безделушки, — закричал ему Фурнье. — У вас для этого нет причины. Это попросту доказывает, что мой друг Верро доверяет мне.
—
Чего-чего? — спросил мужчина, вытягивая в его сторону ухо.
—
Что-то он совсем оглох, этот старый олух, — усмехнулся Верро, который уже поднялся и стоял возле стола.
Фурнье пошёл трясти хозяина заведения, пытаясь его разбудить, чтобы оплатить выпивку, и рассчитавшись, вышел. Верро последовал за ним на бульвар, и они направились бок о бок на площадь Святого Петра, которая лежит у подножия холма Монмартр. Оттуда легко попасть на улицу Аббатисс, и без сомнения, у Фурнье были причины, чтобы выбрать этот путь.
Фурнье всегда был одет очень опрятно, аккуратно, и поэтому он, возможно, постарался выбрать менее оживлённые улицы, пребывая в компании горе-художника, одетого в очень грязную блузу и увенчанного шляпой с экстравагантными полями.
—
Мой дорогой— произнёс Фурнье, когда они вошли на улицу Дорсель, — я представляю себе, что эта бедная девушка могла жить в меблированных домах… моё мнение об этом сложилось из описания, которое вы мне дали, обрисовав её костюм.
—
Это правда… туалет её не был блестящим, — прошептал Верро. — Одета как домработница. Она должна была жить в мансарде какого-нибудь доходного дома.
—
Да, и в меблированной. Я вам говорю об этом, потому что считаю, что нам пора начинать нашу инспекцию с доходных меблированных домов.
—
Хорошая мысль! Просто превосходная идея! Ах! У вас нюх, как у хорошей ищейки! Мне в голову даже не пришла такая идея. И раз вы так резонно рассуждаете, не могли бы вы, между делом, меня немного просвятить… почему убили малышку… ведь не для того же, чтобы её обворовать… при ней нашли только четырнадцать су.
—
Как! Вы до сих пор не догадались? Это — женская месть, черт возьми! Она похитила любовника или мужа у дамы, которая ей отомстила.
—
Это вполне возможно… но между тем, у нее не был облик женщины, способной отбивать чужих мужчин.
—
Прошу прощения! Но ведь вы сами мне сказали, что она была замечательно красива.
—
Да, но её лицо… скромное и честное…лицо девушки, которая никогда не покидала свою мать.
—
Ба! Первое правило сыщика-никогда не доверяться внешности. Честные и разумные девушки не циркулируют в одиночку в полночь по Парижу на омнибусах. Впрочем, мы не можем узнать это за четверть часа. Когда мы выясним, кто она, настанет время выяснить, почему её убили.
—
Бригадир, вы правы, — сказал Верро, который всегда соглашался с мнением Фурнье.
Они шли быстрым шагом, и вскоре достигли театра Монмартра. Чуть выше начиналась улица Аббатисс, которая тянулась вверх до улицы Лепик. Это была одна из лучших улиц этого квартала, и меблированные комнаты, которые изобилуют на внешнем бульваре, здесь довольно редки. Дома имеют буржуазную и респектабельную внешность, здесь находятся мэрия и почтовое отделение восемнадцатого округа. Она, впрочем, довольно мало посещаемая, и гулять по ней одно удовольствие, так как никто не затрудняет ваше движение. Вскоре, Фурнье остановился посреди мостовой, и показал на маленькую дверь, увенчанную в верхней части небольшим витражом:
—
Мой дорогой, — сказал он, — вот буи-буи, забегаловка, ниже которой пасть уже некуда, но которая, тем не менее стоит нашего пристального внимания и того, чтобы вы потрудились войти туда.
—
С вами? — добавил Верро.
—
Ну нет, без меня.
—
Как! Вы хотите, чтобы я один вошёл в этот вертеп!.. И как я без вас смогу там расспрашивать людей, которые я там застану! Черт меня побери, если я знаю, о чем с ними говорить! Добывать сведения об арендаторе, имя которого мне ничуть не известно … это не совсем удобно.
—
Вы смущаетесь из-за такой малости. Есть три или четыре общеизвестных способа приступить к делу.
—
А какой применили бы вы?
—
Самый простой. Я вытащил бы из моего кармана красивую банкноту стоимостью сто су и позволил бы её увидеть хозяину заведения… а если вы имеете дело с простым портье, то двух франковой банкноты будет вполне достаточно… и затем я бы его вежливо попросил мне сказать, не поселил ли он в своём доме девушку, выглядевшую так и этак. Могу уверенно сказать… держу пари, что он не откажется от того, чтобы ответить на ваши вопросы… эти люди всегда дадут вам нужную информацию в обмен на некоторое количество денег.
—
Мне кажется, что вы гораздо лучше меня сыграете эту комедию.
—
Нет, так как я никогда не видел девушку, имя которой вы хотите узнать, и я бы неважно её описал. В то время как вы… тот, кто её так хорошо рассмотрел на досуге… к тому же профессиональный художник… вы обрисуете её портрет столь похоже, что её сразу же узнают.
—
Дело в том, что я действительно мог бы нарисовать её портрет по памяти… и даже подумывал об этом… представляете… картина… красавица, лежащая на холодной плите Морга… вполне достойная и реалистичная тема для Художественного Салона будущего года.
—
Итак, тогда идите. Что вас сдерживает?
—
Мой Бог! Мне стыдно признаться. То, что меня задерживает… у меня нет ни пяти франковой банкноты, ни даже одного франка. Я забыл моё портмоне дома.
—
И это все? Возьмите моё, — сказал Фурнье, вытаскивая из своего кармана красивый кожаный кошелёк. — Внутри него достаточно аргументов, чтобы развязать язык хозяев всех квартир на Монмартре, и я вас прошу не стесняться в средствах.
Верро для вида поколебался на мгновение, но принял дар, говоря:
—
Это не просто аванс с вашей стороны, мой дорогой друг… и этот кредит я вам возмещу в один из ближайших дней, и кроме того… я собираюсь с толком использовать ваши финансы… может быть я сумею достать нужную информацию только за тридцать су… Но, я думаю… что скорее всего мне просто так скажут… без всяких денег, что разыскиваемая мной персона… скажем, жила там, но что она исчезла вот уже три дня как… и что я должен буду сделать, услышав такое?
—
Тогда вы искусно осведомитесь о её привычках, как она жила, чем занималась, каких людей она принимала… вы спросите, не оставила ли она в своей комнате багаж или какие-нибудь документы… Под каким именем она проживала… и когда вы узнаете все это, вы бегом отправитесь в Морг и выступите с вашим заявлением перед секретарём, который предупредит полицию. Хозяин квартиры будет вызван в это учреждение, и он опознает своего арендатора, которого повременят хоронить, а у вас появится операционная база, и вы сможете начать серьёзное расследование.
—
С вами, я надеюсь?
—
Со мной, если вы на этом настаиваете. Я бы не хотел чересчур явно вмешиваться в это дело, но я вам всегда выскажу своё мнение, не торгуясь, если вы решите, что нуждаетесь в нем… или в моем совете.
—
Фурнье, мой старый добрый малый, мы будем вместе и в жизни и в смерти, — воскликнул панибратски Верро в приступе энтузиазма. — Я собираюсь преодолеть порог этого помещения, которое совсем не походит на дворец и дебютировать под вашим руководством в практике частного сыска и дипломатии. Затем я сделаю доклад о проделанной работе для вас, так как я полагаю, что вы меня собираетесь подождать.
—
Весьма охотно. Я буду наверху, на площади перед мэрией. И не спешите. У меня есть время. Если мы уж добрались сюда, проведите толковый допрос, основательно справьтесь обо всем, не забывайте, главным образом, расспросить, не остались ли у пропавшего арендатора в комнате какие-нибудь документы… это очень важно для вашего дальнейшего расследования… ведь успех дела складывается по кусочкам.
—
Это понятно, мой дорогой друг. А теперь пора в Нельскую башню! — разглагольствовал бездарный мазила и начинающий сыщик, устремляясь к двери, на которую ему указал проницательный Фурнье, который в это время принялся вновь медленно подниматься по улице Аббатисс.
Дверь не была заперта, и Верро её без труда решительно открыл.
—
Что за человек! — прошептал он. — Если окажется, что малышка действительно здесь жила, Фурнье окажется величайшим полицейским сыщиком нашего времени, потому что это он привёл меня прямо в нужное место. Слово чести, у меня даже появился соблазн подумать, что он знал, где жила несчастная девушка.
Путь был не широк, вернее сказать… узок. Двое мужчин разошлись бы с трудом в этом коридоре. Он был скудно освещён, и Верро пришлось продвигаться вперёд с большой осторожностью, и ощупывать с двух сторон стены, чтобы не упасть. В конце концов, когда у него уже появилось ощущение бесконечности этих стен и коридора, послышался тихий окрик:
—
Что вам нужно?
—
Я хочу поговорить с консьержем, — ответил Верро.
—
Здесь нет консьержа, — произнёс голос, который показался ему женским.
—
Тогда с хозяином.
—
Я хозяин. Что вам нужно? Вы пришли снять помещение в аренду?
—
Нет. Я пришел к одной из ваших арендаторш.
—
Не знаю такой. Я сдаю комнаты только мужчинам.
—
Но мне сказали…
—
Что… Объяснитесь … и пройдите вперёд, чтобы я могла видеть вас.
Верро ничего не оставалось, как попытаться сделать несколько шагов вперёд, и он чуть не упал, пока наощупь не добрался до ещё одной, чуть приоткрытой двери. Он толкнул её и вошёл в комнатушку, освещённую не намного лучше, чем коридор. Свет в неё проникал только со двора через сомнительной чистоты матовое окно. И Верро с немалым трудом рассмотрел старуху, которая грелась у почти потухшей печурки.
—
Хорошо! Теперь говорите, — закричала она ему, — я знаю, с кем имею дело.
Верро и хотелось бы начать разговор… но он не знал, с чего. Приём, оказанный ему, не укладывался ни в одно русло предполагаемого допроса, о которых ему рассказывал Фурнье. Он ничего не понимал, был выбит из седла, и спрашивал себя, с чего ему начинать. Невозможно использовать способ, рекомендованный ему Фурнье. Демонстрация пяти франковой банкноты не произвела бы никакого впечатления по той простой причине, что старуха, которую он должен был задобрить, попросту не могла увидеть в этом сумраке сверкающий металл между пальцами странного посетителя, собирающегося её расспросить о постояльцах. Но Верро никогда в своей жизни не пребывал в состоянии длительного затруднения. И если дипломатия не была его сильной стороной, то застенчивость тоже обошла его стороной, и он, опомнившись после некоторого ступора, как всегда, сразу же, как говорится, брал быка за рога, а ноги клал на стол.
—
Вы утверждаете, что знаете, с кем вы имеете дело, — начал он отважно. — А я держу пари, что нет.
—
Если бы я держала пари с тобой, — ты потерял бы свою ставку, мой малыш, — возразила ему хозяйка дома, фиксируя на нем два серых глаза, которые сверкали в темноте, как зрачки кошки. — Я тебя знаю, как свои пять пальцев.
—
Ах! Ба! Скажите тогда, как меня зовут.
—
Я не знаю твоего имени, но я знаю, что ты перебиваешься по жизни, размазывая по хорошим холстам плохие краски. Ты художник, мой мальчик, но вывесками не занимаешься. Я тебя встречала раз пятьдесят на бульваре Клиши с коробкой для красок.
—
Тогда я признаю свою поражение, мамаша, и готов сделать ваш портрет в любое время, когда вы захотите.
—
Мне не нужен мой портрет. Уже пятьдесят лет я вижу своё изображение в зеркале, и мне этого достаточно. И затем, я тебе запрещаю называть меня "матерью", так как у меня нет детей, ни мужа… и Слава богу!
—
Хорошо! Тогда я скажу: мадемуазель.
—
И никаких расходов на мастерскую, проказник. Я их не люблю. Что ты хочешь?
—
Знать, не жила ли у вас одна молодая особа, которая меня интересует.
—
Итак, вот ты и здесь, приятель! Я догадалась, что ты пришел от нее.
—
От кого? — спросил Верро растерянно.
—
От итальянки, черт возьми! От Бьянки.
—
Ах! Если вы догадались… мне не стоит вам противоречить, — прошептал Верро, резонно решивший, что самое умное в этой ситуации будет позволить старухе беспрепятственно говорить.
—
Так это значит ты её совратил, гадкая жаба? Я подозревала, что эта дурочка дала холстомарателю. У неё был скверный вкус, и ты этим пользовался, но все равно поступил подло. У малышки даже на лиард не было порока в душе, и я могу руку засунуть в огонь, поклявшись, что у неё хватало разума в голове, но на своё несчастье она встретила тебя на своём пути. Где ты её подкараулил, чудовище? На рынке Сент-Пьер, где она покупала каждое утро травы для своего обеда… или вечером, на пляс Пигаль, когда она возвращалась с урока пения?
—
Я клянусь вашей головой, что никого не соблазнял.
—
Замолчи, змей. Три дня тому назад она не вернулась домой… Она… девушка, которая никогда не ночевала вне дома… Рискни своей головой и скажи мне, что ты не утащил её в свою лачугу.
—
Рискну и скажу, что никогда не осмелился бы это сделать! — воскликнул Верро, который ликовал в душе, услышав эти незаслуженные упрёки, и осознав, что попал точно в цель.
Эта итальянка, которая исчезла три дня тому назад, могла быть только девушкой, умершей в омнибусе. И Верро за пару минут сумел узнать, что её звали Бьянкой, и ему хотелось только одного— узнать о ней побольше.
—
Это хорошо! Ты напрасно будешь пытаться хитрить со мной, все равно это не пройдёт. Пусть малышка живёт, где она захочет, мне все равно. Но ты пришел ведь ко мне, чтобы потребовать её пожитки и узелки, не правда ли? Хорошо, ты можешь ей передать от меня, что если она хочет это иметь… чтобы она сама потрудилась прийти сюда… Она, возможно, стесняется, — продолжила старуха, — ведь она не стала принцессой, как хотела, раз связалась с тобой.
—
Прошу прощения! — пробормотал Верро, запинаясь, — я вам уже сказал, что …
—
О! Я подозреваю, что она боится меня снова увидеть, зная, что я не жалею слов, когда говорю правду. Я могла бы, конечно, решить, что она просто сбежала, не желая заплатить мне за аренду, а это было бы позорно для нее, и если бы я знала, что все закончится таким образом, я бы никогда не поселила её у себя.
—
Но, моя прекрасная дама …
—
Нет здесь прекрасных дам для тебя. Когда я об этом подумаю, у меня кровь в жилах закипает. Ах! Недотрога! Она тебе не рассказала, как попала ко мне? Послушай! Это случилось однажды вечером, и шёл такой ливень, что хороший хозяин в такую погоду не оставит собаку спать под открытым небом. Она заявилась в мою комнатку вместе с мальчишкой, который тащил её дорожный сундучок… белый, деревянный… в который могло уместиться не больше, чем пара платьев и пол-дюжины рубашек. «Мадам, — спросила она меня со странным, даже забавным акцентом, — вы не могли бы мне сдать недорогую комнату? У меня не очень много денег, но я буду платить каждый день.» Я, в то время, как она мне говорила об этом, провела инспекцию её мордашки, и увидела с первого раза, что это не потаскушка, которых с избытком хватает в нашем квартале. Тогда я её спросила, есть ли у нее документы, и она мне вытащила итальянский паспорт на фамилию Романо… Бьянка, оперная певица, в возрасте восемнадцати лет… певица… немного смешно, не правда ли! Оперная певица, бедная дьяволица, которая прибыла пешком с Лионского вокзала, чтобы сэкономить на фиакре! Это как если бы ты сказал, что ты — художник… ты, существо, способное только чистить палитры и вытирать кисти настоящим художникам.
—
Спасибо!
—
Может ты хочешь меня уверить, что сейчас пишешь картину, которую собираешься представить на весенней Выставке! Такие сказки ты мог рассказывать Бьянке, раз она польстилась на тебя, но со мной… нет, такие шутки не пройдут. Я знаю, чего ты стоишь, холстомаратель, и я уверена, что это именно ты развратил малышку. Когда я подумаю, что за тот месяц, что она жила здесь, к ней, в её комнату не вошёл ни один мужчина, ни одна женщина, и она выходила из дома только для того, чтобы отправиться к учителю пения, уроженцу её страны, как она говорила… После этого невозможно представить, что на самом деле она ходила все это время наслаждаться любовью в твоём чердаке.
—
Никогда в жизни! Я её не знал …
—
Возможно, но ты с ней познакомился…И я, например, понимаю, почему она влюбилась в твою физиономию! Должно быть ты её обольстил, напевая: Я — художник, Вы тоже… артистическая натура… Мы рождены друг для друга, две творческие натуры… И она верила этой дурости! Господи! Почему девушки так глупы!
Верро вяло протестовал жестами, но не прерывал старуху, а наоборот подстрекал её к продолжению болтовни, и этот метод имел успех, так как за пять минут её монолога он узнал почти все то, что хотел знать, и это даже практически без единого вопроса с его стороны.
—
Но я теряю моё время, — продолжала раздражённая хозяйка меблированных квартир, — и у меня достаточно других дел, кроме как болтать с такой птицей, как ты. Я нахожу, что уже заболталась с тобой. Убирайся!
—
Не раньше, чем вы мне скажете …
—
Что? Что тебе ещё нужно? Ты поселил девушку в свою халабуду, и теперь собираешься притащить туда барахло малышки? Не будь столь глуп. Я не кредитую больше, чем на шесть франков, которые она мне должна за три дня аренды, но это не имеет значения. У меня её дорожный сундук, и я на него отвечаю. Скажи ей, что если она хочет прийти ко мне и потребовать его, я ей его отдам, не требуя мои шесть франков. У неё не слишком много денег… а теперь, когда несчастная должна ещё и тебя прокормить…
—
Ах! Что вы говорите! Я — добрый парень, но я не позволю каждой персоне …
—
Бросать тебе в лицо правду. Мне все равно, позволишь ты мне это делать или нет. Ты ей передашь также, что её комната уже сдана, и я никогда больше не поселю её у себя, даже если она предложит мне двадцать франков в день. Я не хочу несерьёзных личностей в моих меблированных комнатах… и бездельников, тем более… и это означает, что, если когда-нибудь тебя выставят за дверь твоей лачуги, для тебя тоже здесь не найдётся места.
—
О! Черт возьми! Да я и не захочу никогда, даже под страхом смертной казни, стать вашим арендатором. Я предпочёл бы спать под открытым небом. И если бы вы мне позволили говорить, вы знали бы, что у меня нет вопросов на эту тему. Но я не смог ещё вставить ни одного слова в ваш монолог. Хотите ли Вы меня выслушать в конце концов… да или нет? Я здесь не для того, чтобы наслаждаться вашими ругательствами.
—
Нет, потому что ты пришел от Бьянки.
—
По поводу неё, да… но отнюдь не она меня послала. Она умерла.
—
Умерла! — воскликнула старуха. — Ах! Это слишком жестокая шутка!
—
Это не шутка. Девушка, которую вы называете Бьянкой, умерла, и если вы полагаете, что я лгу, вам достаточно только дойти до Морга. Она сейчас там.
—
В Морге! — повторила хозяйка квартиры, внезапно вставая. — Ты смеёшься надо мной. Это не возможно.
—
Давайте посмотрим, — возразил Верро. — Только поторопитесь. Она там уже три дня, и её собираются похоронить.
—
Уже три дня!.. С тех пор, как она не вернулась домой!.. Но тогда значит, что это не ты …
—
Я же вам говорил, что я её не знал… я её впервые в моей жизни увидел лежащей на мраморном столе в Морге за стеклом.
—
Тогда, как ты догадался, что она жила у меня? — спросила старуха, буравя Верро сверкающими глазами.
—
Я ровным счётом ни о чем не догадался. Я подумал, что она должна была жить в этом квартале, потому что у нее не должно было быть своей мебели. И я решил, что мне необходимо посетить все дома с меблированными комнатами на сдачу. Я начал с вашего, и угадал. С первого раза… и вы мне назвали имя, которого я не знал …
—
Ах это… так ты, значит, из полиции? А я то приняла тебя за …
—
За того, кто я есть, мамаша. Жак Верро, художник. Я был в Морге, и там увидел несчастную, которую демонстрировали на мраморной плите, и что-то во мне всколыхнулось от её красоты… и когда я узнал, что её никто не опознал, я начал собственное расследование в качестве сыщика-любителя. И хорошо поступил. По крайней мере, теперь можно будет вписать её имя в свидетельство о кончине и написать его на деревянном кресте… который я поставлю на её могиле.
—
Имя! Её имя! Все равно ещё нужно доказать, что это именно моя квартирантка, Бьянка Романо,
лежит там.
—
Но именно вы это докажете. Необходимо, чтобы вы её опознали.
—
Я! Никогда! Я из-за этого могу заболеть на нервной почве. Как только я подумаю об этом доме для утопленников, у меня мурашки пробегают по коже.
—
Я понимаю это, моя дорогая дама, но нет средства для вас избегнуть этой тяжкой доли. Я тотчас же отправлюсь к комиссару полиции и выступлю с моим заявлением перед ним о полученных мной сведениях, и он незамедлительно пошлёт за вами.
—
Ах! Негодяй… но если ты подшучиваешь надо мной, ты за это заплатишь.
—
Я не могу скрывать то, что только что узнал. Да вы и сами не захотели бы, чтобы вашего арендатора бросили в яму для бездомных, предварительно препарировав в амфитеатре.
—
Замолчи, ты меня вгоняешь в холод. Ах! Мой Бог! Бедная девушка! Как это она туда попала? Она не бросилась в воду, я надеюсь… Нет…. Тогда… она была раздавлена каретой.
—
Её нашли умершей в омнибусе на станции пляс Пигаль.
—
Как это могло случиться! Я видела заметку об этом случае в Пети Журналь, и там писали, что нет ничего подозрительного… но это, однако, действительно случилось вечером того дня, когда она не возвратилась домой… а я, дура, думала, что она шлялась все это время в поисках любовных приключений!
—
Это всего лишь доказывает, что все мы можем ошибаться. Теперь, надеюсь, вы меня не будете больше обвинять ни весть в чём.
—
Пока не увижу её, нет. Но все равно, это очень подозрительно… эта смерть. Бьянка была, конечно, худенькой девушкой, но отличалась неплохим здоровьем, ни разу не болела за все это время, что жила у меня. Возможно… её отравили.
—
Вполне возможно. Но кто? Вы мне сказали, что она ни с кем не виделась, не встречалась.
—
Здесь, нет. Но она уходила из дома каждый вечер, а иногда также и днём.
—
А куда? Вот как раз то, что надо было бы знать.
—
Но черт возьми, именно этого я тебе не могу сказать. Бьянка была не болтлива, а я не любознательна. Именно поэтому я ничего не знаю. Она мне рассказывала о каком то учителе пения, который ей давал уроки и жил в квартале Ботанического сада… что мне казалось странным… потому что там живут только шарманщики… если только она не училась пению во дворах и на улице. Однажды, когда Бьянка только начинала жить у меня, она мне сказала, что у неё были родители в Париже, но раз она не знала, где они жили… я подумала, что она хвасталась…
—
Но она не лгала сказав, что училась в районе Ботанического сада, так как она умерла в омнибусе, который следовал с винного Рынка. То, что более всего удивительно, так это то, что её преподаватель… или её родители, если они у неё действительно были, не посетили Морг и не опознали девушку. Они должны были прочитать о случившемся в газетах. Ведь их должно было обеспокоить её исчезновение.
—
О! Они почти не занимались ею. Они ни разу не появились здесь с тех пор, как она поселилась у меня… а тому уже месяц.
—
Она прибыла с Лионского вокзала, — прошептал Верро про себя. — Это странно, что она поселилась на Монмартре.
—
Это как раз совсем не
странно. Она не знала Париж
, но итальянец, которого я поселила у себя в прошлом году, дал ей адрес моего дома.
—
Так значит, она приехала прямиком из Италии.
—
Из Милана. Это написано в её паспорте.
—
И у вас он есть, её паспорт?
—
Это часть того немногого, что у меня осталось от неё, мой малыш! Он наверху, в её сундучке, вместе с другими документами и её пожитками. Она закрыла на ключ свой сундук и унесла ключ с собой.
—
Ключ! Но в карманах её пальто нашли только кошелёк с несколькими су… и больше ничего.
—
Черт возьми! Бьянка не была богата, бедная девушка. И вместе с тем, она была очень подозрительной. Когда она уходила, то всегда была озабочена тем, чтобы закрыть свой сундук. Я конечно, могла бы попросить слесаря открыть его, когда увидела, что она не возвращалась домой уже несколько дней, но я её любила, эту малышку, и затем, я думала, что она вернётся. И я не выставила бы Бьянку за дверь, если бы она возвратилась. Я довольствовалась бы тем, что прочитала ей мораль, потому что, как ты видишь мой мальчик, я отнюдь не зла. Ты можешь осведомиться в квартале, и тебе все скажут, что Софи Корню никогда не наказывала своих квартирантов.
—
Я в этом убеждён… хотя вы и были сейчас суровы по отношению ко мне.
—
Не вини меня в этом, мой мальчик, я тебя приняла за одного из этих бездельников, которые бродят на бульваре Клиши, чтобы обвести вокруг пальца бедных девушек, встречающихся на их пути. Это ни твоя ошибка, ни моя, но факт в том, что ты внешне мало от них отличаешься. И мне по прежнему кажется, что ты не страдаешь от частого труда.
—
Каждый день… но немного, моя дорогая дама.
—
Я тебе поверю, если это доставит тебе удовольствие. И так как отнюдь не ты похитил Бьянку, я больше ничего не имею против тебя. Я даже довольна тем, что встретила тебя, хотя ты и принёс мне дрянную новость. По крайней мере, я узнала, что стало с малышкой, и не допущу теперь, чтобы её положили в братскую могилу, хоть это мне и обойдётся в пятьдесят франков… купить ей место на кладбище.
—
В добрый час! А я сразу догадался, что у вас доброе сердце. Итак, когда вы собираетесь пойти в Морг?
—
Черт подери! Это как раз то, что меня совершенно не привлекает и не развлекает!
—
Но, однако, это нужно сделать. Я хотел бы, чтобы вы избежали этой неприятности… я даже сам пошёл бы туда вместо вас, но это не одно и тоже, а потому не возможно. Я же не знал эту девушку, в то время как вы её поселили у себя и у вас все её документы …
—
Да, я могла бы назвать её имя и доказать, что не ошиблась. Уверен ли ты, по крайней мере, что она ещё там?
—
Я уверен, что она ещё не похоронена. Если она не выставлена больше в зале Морга, вам нужно только попросить секретаря, и он вам её покажет в другом помещении.
—
Брр! От этого стынет кровь в моих жилах. И после того, как я её признаю, как все произойдёт дальше?
—
Вам не придётся ничего делать. Префектура полиции пошлёт к вам полицейского забрать сундук Бьянки. Будут изучены документы покойницы, и кто знает, возможно обнаружат тех самых родителей, о которых она вам говорила.
—
Меня это не волнует. Для чего? Какие-то странные родители. Они беспокоились о ней не больше, чем о бездомной собаке. Но, мой мальчик, это ещё не все. Если я выхожу в город, нужно, чтобы кто-то охранял мой дом, и комнату для стирки белья. Мне нужно умолять соседку посмотреть за моим хозяйством, так что я пойду сейчас искать её, а тебя я здесь оставить одного не могу. Так что иди к себе домой… или куда хочешь, и можешь зайти ко мне завтра, если захочешь. Я тебя встречу лучше, чем сегодня, не бойся. И, если сердце тебе подскажет, ты меня сопроводишь на похороны девушки.
—
Я верю, что моё сердце мне это подскажет, но если я туда пойду с вами, то у меня будет одно условие: мы разделим расходы пополам.
—
Хорошо, давай разделим! Смотри, правда, не поломайся. Что касается меня, то я, слава Богу, в состоянии сама оплатить красивые похороны для бедняжки! Ладно, мы побеседуем об этом завтра, малыш, а сейчас тебе пора срочно убираться. У меня нет времени с тобой лясы точить.
Верро не требовалось повторного приглашения исчезнуть с глаз старухи, и если он продолжал рассыпаться в любезностях и щедрых предложениях, то лишь потому, что чувствовал необходимость примириться с хозяйкой, чтобы дать ход будущим своим проектам, в которые он благоразумно не стал её посвящать. Верро в своей первой дипломатической миссии одержал полный успех и торжествовал. Он поверил в свой талант сыщика-дипломата, так же как и все идиоты, которые выиграли в карты, потому что случайно получили при сдаче прекрасный набор карт в руки, думают, что их успех вызван их талантом и благосклонностью к ним фортуны.
Он простился с Софи Корню, и устремился на улицу. Выдающийся сыщик Фурнье назначил ему встречу перед мэрией Монмартра. Он побежал, не чувствуя ног от радости, чтобы быстрее присоединиться там к нему, и когда заметил своего напарника, то ликующе вознёс руки над головой, чтобы ему издалека сообщить, что несёт хорошую новость.
Ещё немного, и он бы подбросил бы свою шляпу в воздух в знак удачи.
—
Итак? — спросил у него Фурнье, который был намного спокойнее.
—
Итак, — ответил Верро, — я нашел то, что мы искали. Ваши указания были справедливы и точны, мой дорогой, и я громогласно провозглашаю, что вы — великий сыщик. Малышка жила в том самом доме с тех самых пор, как оказалась в Париже, то есть уже месяц. И сумасшедшая старуха, которая держит там меблированные комнаты, собирается нацепить на себя свой тартан, чтобы отправиться в Морг опознавать девушку. Она мне назвала имя покойницы и рассказала обо всем, что с ней связано…
—
Тогда значит, у неё есть и её документы?
—
Документы… пожитки… все в одном сундуке. И всё будет вручено комиссару полиции, как только тождество между трупом и её жиличкой будет констатировано.
—
Прекрасно! Но сказали вы ей о том, что вы подумали об этой смерти в омнибусе? Знает ли она, что малышка была убита?
—
Она этого не подозревает. Я хитрее, чем кажусь с виду, и сразу же понял, что если я ей скажу о преступлении, она начнёт фыркать от испуга скомпрометировать себя, в то время как если я ей позволю верить, что её жиличка умерла естественной смертью, я буду уверен, что она не заставит себя умолять отправиться на её опознание в Морг.
—
Все мои комплименты вам, мой дорогой. Вы маневрировали, как старый парижский кучер. И я думаю, что теперь вы можете обойтись в вашем расследовании без сотрудничества со мной. Вы знаете также много, как и я.
—
Ах! Ну нет, — воскликнул Верро, — без вас я наделал бы только одни глупости. Кроме того, я по прежнему не вижу, с чего я должен начать расследование… если только не решиться отправиться в полицию и рассказать о нашем деле комиссару полиции?
—
Любой дурак вас в этом случае посчитает братом, — быстро ответил Фурнье. — Комиссар сочтёт вас сумасшедшим. Эти люди не обладают воображением, и у вас нет положительно ничего, чем вы можете подкрепить свой рассказ. Хозяйка квартиры вам сказала, что малышка никого у себя не принимала. Вы не можете, следовательно, никого подозревать.
—
Старуха мне сказала, что у малышки были родители в Париже, и она каждый день уходила из дома, чтобы брать уроки пения.
—
Родители в Париже… это очень неясное предположение. И урок пения был, возможно, только поводом уйти из дома. Где он находился, этот учитель пения?
—
Старуха этого не знает.
—
Итак, прежде всего нужно узнать адрес обсуждаемого нами учителя пения.
—
Кажется, что он живёт в районе Ботанического сада. И на всем белом свете не найдётся ни одного человека, кроме вас, кто был бы в состоянии его найти.
—
Я попытаюсь, и, возможно, буду иметь успех, но поиск не будет быстрым. Чудо, что мы напали с первого раза на меблированную комнату, в которой жила девушка… чудо, которое обычно не повторяется.
—
Черт! Проблема в том, что бедную малышку собираются захоронить, и как только она окажется в могиле, как смогут установить, что она была отравлена уколом отравленной иглы?
—
Это — то, о чем мне скажет мой учёный друг, когда он проведёт исследование булавки. Если он мне заявит, что яд, которым пользовался убийца, не оставляет следов, нет ничего, что нужно и можно сделать ни сейчас, ни позже. Если, напротив, он остаётся в теле, то его всегда можно будет обнаружить и зафиксировать впоследствии. И тогда, те поучительные выводы, которые я смог уже сделать и ещё сделаю, обретут истинную ценность. Но первый вопрос, на который предстоит найти ответ, заключается в том, чтобы узнать, кто был заинтересован в том, чтобы убить эту девушку.
Верро опустил лицо, и, казалось, не был убеждён сказанным.
—
Дорогой, — продолжил Фурнье, — если вы не доверяете мне, не стесняйтесь, скажите об этом. Я вообще, в таком случае, не желаю вмешиваться в это дело.
—
Но если вы ставите вопрос так… то да. У меня к вам неограниченное доверие.
—
Тогда, позвольте мне действовать на мой манер. Я у вас прошу карт-бланш.
—
О! Охотно. А я готов выполнять все ваши распоряжения, и буду вам рапортовать абсолютно о всех моих результатах.
—
В добрый час! Таким образом, я смогу работать с некоторым шансом на успех. При одном условии, однако…
—
Я ему подчиняюсь заранее.
—
При условии, что вы никому не будете говорить обо мне… слышите, никому. Если узнают, что я ввязался в эту кампанию …
—
Никто не узнает. Но кому вы не хотите, чтобы я об этом говорил?
—
Вашим товарищам, черт возьми! У вас они гнездятся во всех мастерских квартала. И я их подозреваю в том, что они очень не сдержанны. По сути своей. И я подозреваю также, что вы уже проболтались им. В течении тех трёх дней, которые вы меня искали… вы ведь не хранили эту историю для себя одного… совсем одного… держу пари.
—
Клянусь, Фурнье, что …
—
Не клянитесь, дорогой друг. Я читаю в ваших глазах, что вы об этом говорили кому-то ещё. Скажите мне лучше, кому, я предпочитаю правду.
—
Моя Бог! От вас ничего нельзя скрыть. Да, я взял доверенное лицо, но это доверенное лицо — серьёзный человек, который будет молчать, я в этом уверен, так как это приключение его ничуть не интересует, и он о нем уже не думает больше. У него есть другие дела, которыми ему необходимо заниматься и, впрочем, он не верит в это преступление. Это — Поль Амьен, художник. Его ждёт, возможно, большая медаль на ближайшем Художественном Салоне, и рента в шестьдесят тысяч франков в год.
—
О! Я его знаю понаслышке и даже видел мельком. Сказали ли вы ему, что вы положитесь на меня в этом деле?
—
Нет. Он не знает даже, что вы существуете, я вам даю моё слово чести, и клянусь вам, что никогда не произнесу ваше имя в его присутствии, и он будет думать, что я действую совсем один, без помощника.
Осторожный Фурнье размышлял несколько мгновений. Последние утверждения Верро разгладили тревогу в чертах его лица, поселившие на нем после нескромных признаний горе-художника, и вслед за коротким молчанием он произнёс решённым тоном:
—
У меня есть ваше слово, и я считаю, что вы его сдержите. Поэтому я возьмусь за ваше дело. Ни о чем не беспокойтесь и приходите завтра в Гранд-Бок. У меня будут, возможно, новости для вас. А теперь нам пора расстаться.
—
Я повинуюсь, мой выдающийся мэтр, — весело сказал Верро, пожимая руку Фурнье, тотчас же направившемуся к внешнему бульвару.
Часть V
В то время как предприимчивый Верро и проницательный Фурнье искали и находили, каждый по своему, но очень умело и удачно, адрес и имя мёртвой бедняжки, у капиталиста Дюбуа были иные заботы, чем думать о том, как разыскать авторов преступления в омнибусе, и это по нескольким причинам, первая из которых заключалась в том, что он был в полном неведении относительно этой истории.
Месье Дюбуа читал только финансовые газеты, и когда он заканчивал с политическими новостями, то, натыкаясь на колонку с происшествиями, пренебрежительно отбрасывал газету в сторону. Месье Дюбуа гордился тем, что считался серьёзным человеком и интересовался только серьёзными вещами. Он бахвалился тем, что ни разу в своей жизни не перелистывал страницы ни одного романа, и если он уже некоторое время занимался художниками, то только лишь потому, что убедился, что в нашу эпоху профессия художника — одна из наиболее доходных и успешных, если она осуществляется должным образом… или под правильным руководством.
Не без труда он сформировал в себе такое убеждение. Дюбуа провел всю свою жизнь, презирая этих пачкунов, как он называл художников. Или, в минуты вдохновения, не иначе, чем голодные мертвецы— это было определение, которое Дюбуа сам для них придумал — он считал, что они голодают всю свою жизнь, заканчивая её на соломе в приюте для бездомных. Но один из друзей Дюбуа не так давно донёс до его ушей новую информацию. Этот друг, который сделал состояние, продавая разные диковинки, древние раритеты и даже картины, доказал ему цифрами и примерами, что некоторые модные художники заработали в наше время много денег и многие из них даже стали миллионерами. Эти богатые художники всегда в курсе спроса на рынке и пишут только те картины, на которыми интересуются потенциальные покупатели, — рассказывал этот торговец художественными изделиями, — и они уверены, что никогда не обанкротятся. Этот последний аргумент поразил месье Дюбуа, который ни за что на свете не хотел бы увидеть, как состояние его дочери исчезает в коммерческой катастрофе. Итак, теперь, когда у него под рукой был художник с большим будущим, и который уже продавал свои холсты очень дорого и собирался их в самом ближайшем будущем продавать ещё дороже, трудолюбивый, экономный и хорошо воспитанный мальчик, с положением в обществе, чьё прошлое и его семью он хорошо знал, и что немаловажно, нравился Авроре, Дюбуа смотрел на него, как на потенциального зятя.
Месье Дюбуа, таким образом, остановил свой выбор среди претендентов на руку своей дочери на Поле Амьене и ожидал от него решительных действий, рассчитывая, что в ближайшее время ему представится для этого удобный случай. Такая оказия вроде бы случилась в театре, в то время, как играли Рыцарей в тумане, но беседа не приняла решающий оборот. Она была прервана инцидентом, после которого отец блондинки Авроры плохо спал.
Телеграмма, которая ему сообщала, что его брат только что умер, перед этим лишив его наследства, была составлена в обычном стиле телеграмм, то есть отправитель столь усердно экономил слова, что она была едва вразумительна. Месье Дюбуа телеграфировал тотчас же ответ, прося дополнительные разъяснения, но его корреспондент, который был нотариусом покойника, ему ответил такой вот лаконичной фразой: «Я завтра уезжаю в Париж.»
И месье Дюбуа ожидал с нетерпением этого честного нотариуса, который всегда защищал его интересы, и который, вероятно, не предпринял бы без серьёзных мотивов столь длинную поездку. Завещатель умер в Амели-ле-Бен, курортном городке, расположенном у подножия восточных Пиренеев, в двухстах пятидесяти льё от столицы. Должностное лицо, которое оформило его завещание, конечно не отправилось бы в Париж, если бы шла речь только о том, чтобы вручить лишённому наследства брату копию с акта, которую он изготовил.
Так что месье Дюбуа жил уже три дня в безуспешной борьбе между робкой надеждой на прибавление своего капитала и тягостным унынием от его потери. Он дорожил своим отдыхом почти так же, как и состоянием, и эти сомнения нарушали его отдых настолько, что у него расстроился аппетит и сон. Его дочь, намного менее расстроенная произошедшим, чем её отец, не узнавала его. Месье Дюбуа стал почти неприступным. Она пыталась ему напомнить, что Поль Амьен ждал их визит в своей мастерской, и была очень плохо принята. Отец ей ясно дал понять, что не выйдет из дома прежде, чем поговорит с нотариусом, который мог прибыть с минуты на минуту. И Аврора должна была отказаться от мысли его убедить. Она успокаивалась, примеривая траурные туалеты, которые были ей очень даже к лицу.
Месье Дюбуа не покидал свой кабинет. Он там проводил все своё время, вновь детально штудируя всю переписку со своим братом, с самых давних времён, до их окончательной ссоры. Он пытался обнаружить в этих письмах, написанных во время пребывания этого брата в Италии, какие-нибудь указания, относящиеся к браку, который, как он подозревал, брат заключил в Риме, и не мог отыскать ничего положительного, никакого намёка на это. Очень важный вопрос состоял в том, чтобы знать, были ли у покойника там законнорождённые или незаконнорождённые дети, и главным образом то, кем эти дети стали. Месье Дюбуа, в связи с этим, вновь и вновь изучал документы, и не находил ответа на интересующие его вопросы. Он и раньше проявлял вполне естественное любопытство к этой стороне жизни своего брата, а после его смерти этот интерес стал поистине маниакальным.
На четвёртый день после смерти брата, завершив меланхолический обед, на котором Аврора не появилась под предлогом мигрени, в тот самый момент, когда её лишённый наследства отец садился на стул перед своим бюро, явился один из его слуг и доложил, что какой-то господин желает с ним поговорить.
—
Как его зовут, этого господина? — спросил месье Дюбуа.
И когда он узнал, что этот посетитель не пожелал представиться, произнёс:
—
Я не встречаю людей, которых не знаю.
—
Месье сообщил, что пришел, чтобы сообщить вам очень важные сведения по одному очень значительному делу, — тихо сказал камердинер.
«О! О! — подумал месье Дюбуа, — А что, если это нотариус там внизу? Эти провинциалы игнорируют обычаи и правила. Он вполне мог вообразить, что ко мне в кабинет можно вот так, запросто, попасть… и считает бесполезным вручить слуге свою карту …»
—
Хорошо. Пусть войдёт, — сказал он громко, и встал, чтобы встретить этот столь нетерпеливо ожидаемый им персонаж. Одной минутой спустя дверь открылась, и вошёл индивид, который не был ни нотариусом, ни провинциалом, и это было сразу же видно.
—
Как! Это — вы! — Сказал ему капиталист, морща бровь. — Я же вам предписал не приходить ко мне, кроме случаев, когда вы будете в состоянии мне принести достоверные сведения вместо неясных предположений.
—
Я придерживался ваших указаний, месье, — ответил посетитель. — Вы меня не видели уже некоторое время, потому что мне нечего было вам сообщить, но сегодня у меня целый ворох новостей, заслуживающих того, чтобы вы о них узнали, я в этом уверен.
—
Ну что же, посмотрим. Но, вначале, напомните мне ваше имя, которое я совершенно запамятовал, — пренебрежительно сказал месье Дюбуа.
—
Бланшелен, месье… Огюст Бланшелен.
—
Очень хорошо. Я припоминаю теперь. Вы претендовали на то, чтобы называться торговым агентом, и вы живете в районе рынка Сент-Онора?
—
Улица Сурдиер, 74.
—
Мне следует пометить ваш адрес где-нибудь, а то он у меня совершенно выскочил из головы, так как совсем недавно кто-то у меня его попросил, а я не смог его дать… вам бы следовало оставить мне вашу карту.
—
У меня её нет с собой… но если вы пожелаете мне указать адрес человека, который хочет меня увидеть …
—
Чуть позже… но вначале вы мне сообщите новости, которые
принесли…
и для начала я должен вам сказать, что тогда, вечером, вы позволили себе меня приветствовать в театре… через весь зал, а я вам не разрешал такое вольное обращение со мной.
—
Но вы мне и не запрещали.
—
Это возможно, но прошу вас впредь больше такого не допускать. А теперь давайте послушаем, что вы мне хотели сообщить. Как продвигается ваше расследование?
—
Оно успешно завершено.
—
Каким это образом так вот вдруг?
—
У меня есть доказательство, что у Стеллы Романо, умершей в прошлом году в Риме, родилась в 1862 году дочь, названная Бьянкой.
—
В 1862! — эхом повторил за ним месье Дюбуа, чьё лицо заметно омрачилось.
—
Да, месье, 24 декабря. Я смог достать копию с акта крещения.
—
Покажите мне её.
—
У меня её нет с собой, но я вам вручу эту копию, когда придёт время …
—
Но что, по крайней мере, содержит этот акт. Эта Стелла Романо, была ли она замужем?
—
Нет, месье. Её дочь Бьянка обозначена в
нё
м, как рождённая от неизвестного отца.
—
Ах! — вздохнул с облегчением месье Дюбуа, лишившийся одного повода для беспокойства. — И что стало с этой девушкой? Она пропала… исчезла без сомнения?
—
Говорят, что она оставила свою мать в десять или двенадцать лет после своего рождения. Но её мать всегда знала, где она. В начале этой зимы эта Бьянка пела хоре в театре Ла Скала, в Милане.
—
И… она ещё там?
—
Нет, месье. Она уехала в Париж месяц тому назад.
—
В Париж! Что она собирается делать здесь?
—
Искать своего отца, который был французом.
—
Давайте, говорите же по делу! — воскликнул капиталист, явно расстроенный. — а то вы мне тут пересказываете какой-то слезливый роман.
—
Это — правда, месье. Я вполне осведомлён, верьте мне, во всех деталях этого дела, и оно действительно похоже на роман, и я могу вам сообщить имя этого француза. Его зовут Франсуа Буае. У него жил этот ребёнок в Риме, когда он находился там. Теперь месье Бойе живёт в департаменте Восточных Пиренеев.
—
Это вас не касается, — внезапно резко сказал месье Дюбуа. — Я вам не поручал сбор информации об её отце.
—
Нет, но я никогда не делаю работу наполовину. Наводя справки о дочери, я желал знать, почему она оставила свою страну… и я это узнал.
—
Как вы это узнали?
—
Это, месье, мой секрет. Если бы я раскрывал перед теми, кто меня использует, механизм моей профессии, они не нуждались бы больше во мне. Итак, я все знаю, и я вам это докажу… и я знаю ещё многие другие вещи.
—
Так что вы ещё знаете? — спросил месье Дюбуа, пытаясь изобразить на своём лице безразличие.
—
Месье, — сказал Огюст Бланшелен, — я мог бы, поколебавшись для вида, ограничиться тем, о чем вам отчитался только что, так как я выполнил миссию, которую вы мне поручили. Я был ответственен за то, чтобы собрать сведения о ребёнке, который мог родиться приблизительно в семидесятые годы в Риме у некоей Стеллы Романо. Эти сведения я вам принёс, и я в состоянии доказать их подлинность. Так что мне не остаётся ничего другого, как потребовать от вас оплатить мне мои услуги и хлопоты.
—
Я не отказываюсь от своего обязательства расплатиться с вами.
—
Я в этом убеждён, но вы не оценили бы мою службу, её истинную ценность, если бы я не стоял сейчас здесь перед вами, и я полагаю, что настал момент раскинуть перед вами все карты на столе.
—
Что вы подразумеваете под этими словами… раскинуть карты… что имеете ввиду?
—
Я имел ввиду, что я не игнорирую тот факт, что вы чрезвычайно заинтересованы сейчас в том, чтобы узнать, что стало с девушкой, которую при рождении нарекли Бьянкой Романо, и которая позировала для художников.
—
У меня есть интерес? Почему вы так решили? Меня это совершенно не интересует.
—
Давайте будем серьёзны, я вас прошу. Если бы вам было это безразлично, вы бы мне не пообещали банкноту в тысячу франков против точной информации. Итак, месье, учитывая этот интерес, я позволил себе заняться её розысками, и мне не составило большого труда её обнаружить. Бьянка Романо, дочь Стеллы Романо, — ваша племянница.
—
Это не правда!.. У меня нет племянницы.
—
О! Это не так. Она — ваша племянница, двоюродная и… более того, месье Франсуа Буае, её отец, — ваш брат по матери, или сводный брат, если говорить вульгарно. Вы, тем не менее, наследник по закону той части его состояния, которое к нему перешло от вашей матери и эта доля дорогого стоит, ведь она представляет собой очень значительный капитал.
—
И даже если бы это было так, — воскликнул месье Дюбуа, — существование этой девушки меня совершенно не затрагивает. Вы мне сами только что сказали, что она незаконнорождённая. Следовательно, она не имеет никакого права на наследование имущества брата.
—
Никакого законного права требовать нет, конечно. Но, месье, вы не можете игнорировать тот факт, что братья не являются по закону теми наследниками, для которых резервируется обязательная доля наследства. Ничто не мешает месье Буае оставить все своё имущество на основании завещания первому встречному… или первой встречной… например, синьоре Бьянке Романо. Он даже был бы очень счастлив сделать такой подарок этой девушке, чтобы загладить свою вину за то, что он не записал её своей дочерью при рождении.
—
Если бы у моего брата было намерение сделать иностранку своей единственной наследницей, он бы побеспокоился об этом человеке… он же никогда не пытался её увидеть, уже много лет.
—
Возможно. Он мог потерять её на время из виду… но это не значит, что он забыл о ней.
—
Он выразил бы, по крайней мере, желание её найти… Проявил бы каким-нибудь способом свои намерения …
—
Но… он их проявил… и не его вина, что он снова не увидел свою дочь.
—
Вы знаете, похоже, об этом больше меня, — сердито сказал месье Дюбуа.
—
Ещё нет, — спокойно ответил господин Огюст Бланшелен. — Но я имел честь вам сказать, что имею обыкновение основательно выяснять обстоятельства дела, которое мне поручают. Мне, таким образом, пришлось основательно потрудиться в департаменте, где поселился месье ваш брат после своего возвращения во Францию. У меня есть помощник в Амели-ле-Бен.
—
Ах! Это слишком уж большое усердие с вашей стороны… и я удивляюсь вашей отваге. Вы позволили себе меня выследить, и вы осмеливаетесь мне об этом говорить напрямик. Вы считаете, что я вам заплачу за то, что вы влезли туда, куда вас не просили?
—
Я ни на что не претендую. Я ограничиваюсь лишь тем, что излагаю вам факты. А вам уже принадлежит право сделать из них выводы.
—
Пойдите к черту с вашими выводами! — закричал месье Дюбуа, охваченный гневом. — Я не хочу с вами иметь никаких дел сейчас… в то время… когда мой брат умер только что.
—
Я это знаю.
—
Вы это знаете?
—
Да, со вчерашнего дня. И я знаю ещё, что он вас лишил наследства в пользу Бьянки Романо.
—
Может быть вы мне ещё скажете, что вы видели завещание?
—
Нет. Но и вы его также не видели. Правда, нотариус, который его составил, должен был вам об этом написать. Вы ведь его ждёте.
—
Жду я его или нет, это не важно. Важно то, что я больше не нуждаюсь в ваших услугах.
—
Мои услуги для вас, напротив, более необходимы чем когда-либо. Сколько бы вы заплатили тому человеку, который предоставит вам доказательство того, что Бьянка Романо умерла?
—
Как вы осмеливаетесь говорить, что эта девушка умерла? Мне кажется, что Вы насмехаетесь надо мной. Вы только что утверждали, что она была в Париже…
—
Да, была! Но, — усмехнулся Бланшелен, — люди в Париже непрерывно умирают, как, впрочем, и в других странах.
—
И имеете ли Вы доказательство её кончины?
—
У меня оно есть, и я готов вам его предоставить… не даром, разумеется.
—
С моей стороны было бы глупо вам заплатить за это доказательство, так как я не нуждаюсь в вас, чтобы его получить.
—
Попробуйте.
—
Мне будет достаточно справиться по регистрам актов гражданского состояния во всех мэриях Парижа.
—
Вы вольны сделать это. Но имейте ввиду, что многие люди, которые умирают, частенько не записаны в этих регистрах под их настоящими именами.
—
Если кончина этой Романо была зарегистрирована под другим именем, как вы сможете мне предоставить свидетельство о её смерти, которое бы установило, что это действительно умерла она, а не другая персона?
—
Это — уже моё дело.
—
И даже если бы вы мне предоставили этот акт, какую службу он может мне сослужить? Если эта итальянка наследует за моим братом, то её наследники унаследуют за ней.
—
Безусловно. Но в какой день умер месье Франсуа Буае?
—
В среду, в три часа дня.
—
Итак, если бы Романо умерла во вторник, что случилось бы в этом случае?
—
Это не изменило бы ситуацию.
—
Я полагал, месье, что вы лучше знаете законы вашей страны.
—
Вы, я полагаю, не собираетесь прочитать мне лекцию по праву. У меня не так много времени, чтобы его терять. Ясно объяснитесь и давайте закончим на этом.
—
Я не прошу большего. Чтобы унаследовать за кем-нибудь, нужно его, по крайней мере, пережить, не правда ли?
—
Без сомнения.
—
Следовательно, завещание, сделанное в пользу умершей персоны, ничтожно по определению, является недействительным.
—
Это очевидно, но …
—
И это завещание теряет силу, Это — общепринятый термин и принцип.
—
И тогда? …
—
Тогда это значит, что ситуация возвращается к той позиции, когда признается отсутствие завещания и наследование производится по закону, а не по завещанию, и, как говорят нотариусы, наследственная масса делится между наследниками по закону, естественными наследниками.
—
Вы уверены в том, о чем говорите?
—
Абсолютно уверен! Если вы в этом сомневаетесь, проконсультируйтесь с вашим нотариусом или с вашим адвокатом, или с любым юристом.
—
Так что, если эта девушка умерла за день до моего брата …
—
День или один час, неважно. Она не могла наследовать, если умерла прежде, чем было открыто наследство. Это — только вопрос даты. И чтобы его решить, достаточно взглянуть на оба свидетельства о смерти, отца и дочери.
—
То есть моего брата и его дочери?
—
Именно так. Вы можете получить в любое время, если его ещё нет у вас до сих пор, свидетельство о смерти месье Франсуа Буае. Но учитывая обстоятельства, я предполагаю, что вы захотите заполучить также акт о смерти Бьянки Романо.
—
Значит вы пришли, чтобы предложить мне его купить у вас?
—
Мой Бог, да!
—
Знаете ли Вы, месье Бланшелен, что вы хотите совершить довольно… своеобразную сделку?
—
В этом мире продаётся все, что можно продать. Если бы я был владельцем большого капитала, я бы не развлекался продажей наследства. Но у меня другая профессия, и мои клиенты никогда не жаловались на меня. Вы сами, месье, не должны быть недовольны проделанной мной работой, и если, как я на это надеюсь, мы сумеем договориться, то, поскольку вы мне будете обязаны значительным состоянием, оно вам обойдётся лишь в относительно посредственную сумму. Я вам напоминаю, впрочем, что именно вы пришли ко мне и сами просили меня помочь вам в поисках.
—
Прошу прощения! Я услышал о вас от одного из моих друзей, который заверил меня, что вы занимаетесь поиском людей и очень искусны и удачливы в этом занятии. Я послал за вами, и поручил вам собрать сведения о женщине по имени Стелла Романо… но я вам не сказал ни одного слова, которое бы имело отношение к наследству.
—
О! Согласен. Но было бы нужно, чтобы я был очень глуп, чтобы не догадаться, что речь шла именно об этом. Поэтому, кроме основной задачи, я параллельно решил осведомиться о последовательности наследования в случае необходимости. И мне не составило большого труда и хлопот установить ваше положение и ситуацию с вашим братом.
—
Если бы я знал, что вы поступите таким образом, я никогда не обратился бы к вам.
—
Вам, как я вижу, нравится произносить эти слова сейчас. Но позвольте мне думать противоположное и напомнить вам о имевшем честь состояться между нами разговоре… не первом… а втором… так как вы были так любезны принять меня два раза. В течение нашей последней встречи, когда я у вас спросил, что я должен делать в том случае, если выясню, что у Стеллы Романо был ребёнок, вы воскликнули, что если бы такой ребёнок существовал, то было бы желательно, чтобы он умер.
—
Вы не собираетесь утверждать, надеюсь, что я вам приказал её убить.
—
Фи! — сказал, пожимая плечами месье Огюст Бланшелен. — Как человек подобного вашему положению даёт подобные указания агенту, которого он использует? Он ограничивается тем, что выражает пожелание, и это — то, что вы сделали. Вы мне сказали — я вспоминаю близко к тексту ваши слова — вы мне сказали: «Тот, кто узнал бы и принёс мне известие, что ребёнок этой итальянки умер, принёс бы мне хорошую новость». Я это прекрасно помню, как и то, что я вам на это ответил: «Хорошие новости оплачиваются очень дорого», на что вы мне сказали: «Я не посмотрел бы на цену».
—
У вас, месье, чрезвычайная, необыкновенная память, — пробормотал месье Дюбуа, явно расстроенный последними словами своего собеседника. — И мне кажется, что при разговоре с вами следует остерегаться экспрессии в выражениях.
—
Нужно также заботиться о том, что мы пишем. Я от вас не скрою, что тщательно сохранил письмо, подписанное вами, которое содержит ваши подробные инструкции. В соответствии с этим письмом, я должен был, в случае, если Стелла Романо оставила бы после себя ребёнка, информировать вас о том, что стало с этим ребёнком и, когда я это выясню и найду его, сделать все возможное для того, чтобы помешать ему попасть во Францию. Вы добавили также, как бы случайно, что если этот ребёнок все-таки доберётся до Франции, следует любыми средствами помешать ему остаться там. Слышите ли Вы, любыми средствами?
—
Я имел ввиду: благовидными, — громко сказал месье Дюбуа. — Если я не добавил это слово… то лишь потому, что это само собой подразумевалось. Честные люди никогда не прибегают к другим средствам, а я — честный человек. Рассчитывал, что и вы тоже.
—
Я в этом не сомневаюсь. Но тем не менее верно и то, что вы мне предоставили свободу действий, чтобы избавить вас от человека, который вас затруднял.
—
Избавить меня… это не то слово… вам следует выбирать выражения и особенно термины, которые вы используете.
—
Я выбираю те, которые лучше всего подкрепляют мою мысль.
—
Но тогда я от вас требую объяснить её, эту вашу мысль. А то можно сказать, вас услышав, что вы убили эту девушку, и теперь пытаетесь сделать из меня вашего сообщника.
—
Вы идёте чересчур далеко в своих предположениях, — усмехнулся Бланшелен. — Я никого не убил, и прошу вас в это верить. Я желал только вам показать, что ничего не делал и не сделал, что бы выходило за рамки ваших указаний. Впрочем, это само собой разумеется. И лично я совершенно не был заинтересован в том, чтобы дочь Стеллы Романо исчезла.
—
Исчезла! Исчезла! Вам нравится пользоваться двусмысленными выражениями.
—
А в чем, собственно, двусмысленность? Эта девушка умерла. Когда люди умирают, они исчезают.
—
Но тогда скажите мне, как она умерла, что случилось?
—
Если бы я вам об этом рассказал, вы могли бы обойтись без меня, а это — то, чего я не хочу. Я проделал большую работу и хотел бы, чтобы вы меня вознаградили надлежащим образом. Итак… поразмышляйте обо всем том, что я уже сделал за месяц. Я провел два или три расследования одновременно, и я их успешно завершил. Расследование в отношении Стеллы, почтенной матери Бьянки; расследование в отношении вышеупомянутой Бьянки; расследование в отношении месье Франсуа Буае, вашего сводного брата …
—
О! За это я отнюдь не испытываю к вам признательности, — произнёс сквозь зубы месье Дюбуа.
—
Я не требую от вас благодарности, — возразил Бланшелен с иронической мягкостью. — Я ограничиваюсь тем, что предлагаю вам купить у меня свидетельство о кончине Бьянки Романо.
—
Я вас услышал… и, поразмыслив, я отказываюсь.
—
Это ваше право, месье. С моей стороны это, конечно, нескромно, но все таки, могу я вас попросить познакомить меня с мотивом этого отказа?
—
Конечно… Я отклоняю ваше предложение, потому что этот акт о смерти незаконнорождённой дочери моего брата для меня абсолютно бессмысленен и мне не нужен.
—
Вы хотите сказать, что обойдётесь без меня, чтобы получить его.
—
Ничуть… напротив, я допускаю, что без вас я не сумею этого сделать. Но я не намерен даже пытаться заполучить этот акт.
—
Тогда получается, что вы отказываетесь от наследства вашего брата. Прошу прощения… это какой-то новый вид бескорыстности или … я чего-то не понимаю… или не знаю.
—
Я извиняю вам ваше любопытство! Законная наследница умерла, не правда ли?
—
Умерла и похоронена.
—
Итак, она не будет претендовать на наследство.
—
Нет. Но если вы со своей стороны заявите о своих претензиях на него, вы его не получите. Завещание было вручено президенту окружного суда, и я вас уверяю, что естественные наследники, наследники по закону не смогут вступить во владение наследством, пока смерть Бьянки Романо не будет доказана предоставлением подлинного акта об этом событии. Назначат опекуна, который будет управлять состоянием вашего брата до представления законной наследницы или её свидетельства о кончине. И это состояние неопределённости будет длиться бесконечно… И никто не сможет воспользоваться капиталом вашего брата. Это — утешение для вас, я это знаю, но плохое. Возможно, вы мне скажете, что через тридцать лет, когда истечёт срок исковой давности по требованиям наследников Бьянки Романо, наследство все равно достанется пусть не вам, но хотя бы вашим внукам… Подумайте, ведь на этом свете к тому времени уже не будет ни вас, ни, возможно, и мадемуазель вашей дочери…
—
Достаточно! — воскликнул месье Дюбуа, доведённый до крайней степени гнева этими неопровержимыми доказательствами. — Сколько вы просите у меня за этот акт?
—
В добрый час, — воскликнул Бланшелен, — вы встали на путь рассудительности и благоразумия, услышав меня и мои доводы, и верю, мы сможем, наконец, договориться, и я, в свою очередь, изложу вам мои исключительно справедливые условия, и уверяю вас, мои претензии очень умеренны.
—
Сформулируйте их, наконец, — сказал раздражённо месье Дюбуа.
—
Очень охотно. Ваш брат оставил после себя почти миллион двести тысяч франков.
—
Гораздо меньше.
—
Я уверен в этой сумме, и если я и ошибаюсь, то не больше, чем на пятьдесят тысяч. Мои сведения почерпнуты в надёжном источнике.
—
В любом случае я могу рассчитывать только на половину этого состояния.
—
Я это знаю. Другая половина возвращается к наследникам по отцовской линии, так как месье Буаэ был только вашим братом по матери. Они, говоря мимоходом, тоже имеют интерес в этом деле, и не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы установить, что единственная наследница по завещанию умерла. И с ними также необходимо переговорить. Я этим ещё не занимался… но обязательно займусь. Кстати, вы могли бы, обратившись к ним, возвратить себе часть ваших расходов, так как было бы справедливо, чтобы они вам возместили половину комиссии, которую вы собираетесь заплатить мне.
—
Возможно, — прошептал месье Дюбуа, — но назовите, наконец, цифру.
—
Я мог бы потребовать равного раздела, но я удовлетворюсь пятой частью, то есть сто тысяч франков считаю минимально возможной комиссией в этом деле, так как ваш брат вам оставил что-то около шестисот тысяч… в самом худшем случае около пятисот тысяч.
—
Сто тысяч франков! У вас хватает наглости просить у меня сто тысяч франков! Да я предпочту лучше отказаться от всего, чем отдать вам такие деньги.
—
Как вам угодно, месье, — холодно ответил больше никогда. — Я потеряю вознаграждение за мои хлопоты, но вы потеряете состояние.
Месье Дюбуа гневно взмахнул рукой и принялся мерить большими шагами свой кабинет.
—
У меня нет желания пытаться вас убедить, что вы ошибаетесь, — продолжил агент. — Я вас прошу лишь тщательно поразмыслить, между тем, прежде чем принять окончательное решение, так как если я выйду из вашего кабинета после того, как мы с вами не придём к обоюдовыгодному соглашению, моей ноги больше не будет в вашем доме, я вас об этом предупреждаю. Я люблю дела, которые быстро решаются, и у меня тоже нет времени чтобы терять его на пустые разговоры. Сегодня вечером я могу вас вычеркнуть из моего репертуара, и если завтра вы мне напомните о своём существовании, я не побеспокоюсь о встрече с вами.
—
Но… месье, — сказал, внезапно останавливаясь, отец Авроры, — у вас нет, я предполагаю, претензии получить сто тысяч франков прямо сейчас, сегодня?
—
Нет, так как у меня нет с собой копии свидетельства о смерти интересующей нас персоны. Ничего даром не даётся. Вы мне их вручите, когда я вас принесу этот акт… или, скорее… посмотрите, до какой степени я благороден… когда вы вступите во владение вашим наследством.
—
Исходя из сказанного вами… вашей последней фразы… мы могли бы договориться, если …
—
Да, я согласен… но хочу получить ваше письменное обязательство.
—
Как! Вы опасаетесь меня… боитесь, что…?
—
Никоим образом, но… дело есть дело. Никто не знает, что может произойти в жизни, и вы также смертны, как и я. Если случайно вас не окажется на этой земле до окончательного урегулирования этого дела, с моей стороны было бы невежливо требовать у мадемуазель Дюбуа выполнения условий договора, который её отец не подписал, а заключил лишь в устной форме.
—
Ещё было бы нужно узнать о форме, в которую вы намереваетесь облечь наше соглашение, так как вы претендуете на очень многое… и судя по вашим словам… вы рассчитываете на долговременное соглашение.
—
Мне достаточно, чтобы договор не был запятнан нелегальным содержанием. Вы просто признаете, актом на гербовой бумаге, что в качестве вознаграждения за действия, предпринятыми мной во исполнение ваших указаний, вы мне должны определённую сумму компенсации, а именно к оплате подлежит сто тысяч франков, когда вы получите наследство вашего брата. В этом нет ничего безнравственного. Суды ведь рассматривают обязательства, заключённые с брачными агентствами.
—
Впрочем, если я подпишу этот договор, я не собираюсь встречаться с вами в судебном процессе, — прошептал месье Дюбуа. — Это все?
—
Боже мой, да! За исключением… одного условия, которое вы примете, я в этом не сомневаюсь, и ради которого я удовлетворюсь устным обещанием.
—
О чем ещё идёт речь?
—
Я вас попрошу мне предоставить ваше слово чести, что вы никому не расскажете о наших сегодняшних договорённостях.
—
О! Если речь идёт об этом… Не в моих правилах бахвалиться таким… да и желания такого у меня нет.
—
Не превознося ваши строгие правила, все таки не могу не осведомиться у вас по этому поводу, ведь вы могли бы побеседовать на эту тему с кем-то из ваших друзей… например с тем, кто у вас попросил мой адрес…
—
Персона, которая у меня попросила ваш адрес, не имеет ничего общего с моими делами, — сказал месье Дюбуа. — Мои дела его не интересуют, и у меня нет оснований посвящать его в это дело.
—
Я вам верю…, — возразил господин Бланшелен, — но мне хотелось бы иметь подтверждение ваших слов.
—
Вы, надеюсь, не дойдёте до того, что станете требовать от меня изложить на гербовой бумаге обязательство хранить молчание.
—
Я уже имел честь вам сказать, что вашего слова чести для меня было бы достаточно.
—
Итак, я вам его даю.
—
Я его получил, и считаю, что этого достаточно. Осмелюсь ли я вас спросить теперь имя вашего друга… того, который желал узнать, где я живу?
—
Зачем? Вы его не знаете.
—
Но я был бы рад познакомиться с ним. Без сомнения, он нуждается в моих услугах, и это поможет мне увеличить моё благосостояние. Я всегда стараюсь расширить мою клиентуру.
—
Это ваше желание мне понятно, и я пошлю к вам этого господина. Речь идёт о том, чтобы разыскать одного должника.
—
Это — моя специальность, и я сделаю все возможное, если ваш друг решит использовать мои способности и возможности. Это— негоциант, без сомнения? Светский человек не обратился бы к агенту, чтобы вернуть долг.
—
Это — не негоциант… это — художник.
—
Художник! О! Тогда я знаю, кто это. Вы были с ним, тем вечером, в ложе в театре Порт-Сен-Мартен. Это — месье Поль Амьен.
—
О! — Тихо произнёс достаточно удивлённый месье Дюбуа. — Вы знакомы с ним?
—
Нет. Но мне его показали знакомые, и я его частенько встречал на улице или в театре. Такое лицо невозможно забыть… исключительно парижский тип. У него много таланта, да и репутации столько же, сколько и таланта.
—
Тогда бесполезно, чтобы я вам его рекомендовал.
—
Абсолютно бесполезно. Я охотно оказал бы ему помощь, если бы мои услуги могли хоть чем-нибудь ему помочь. Но я вам все таки буду обязан, если вы не будете меня ему рекомендовать.
—
Почему?
—
Потому что я не считаю, что у него серьёзное намерение прибегнуть к моим услугам. Художник-кредитор, это хоть и редкость, но случается. Но художник, который преследует должника… такого я не видел и не слышал никогда. Эта идея, конечно, могла прийти на ум месье Амьена, но я держал бы пари, что он не стал бы настаивать на взыскании долга уже через пару дней… и даже если случайно он будет помнить об этом чуть дольше, то все равно вскоре забудет, а у меня нет времени на пустяки, которые заканчиваются ничем, и я предпочитаю не вмешиваться в дело, которое мне, возможно, придётся оставить в одно прекрасное утро. Поэтому я вас попросил бы, если месье Амьен будет настаивать на своей просьбе узнать мой адрес, скажите ему, что вы его забыли.
—
Хорошо, я вам обещаю не сообщать ему его. Но хорошо, что вы меня предупредили, так как я от него не скрыл бы ваше место жительства, и вероятно, что я увижу месье Амьена в самое ближайшее время. Итак, давайте возвратимся к более значительным вещам. Когда вы мне принесёте свидетельство о кончине дочери Романо?
—
Завтра… или самое позднее послезавтра, если вы мне сегодня подпишите обязательство, которое гарантирует моё право на посредничество.
И так как он увидел, что месье Дюбуа не спешил брать перо, чтобы закрепить их отношения, Бланшелен добавил:
—
Чего вы опасаетесь? Вариант, который я вам предложил, не оставляет места для любой двусмысленности. Вы меня вознаградите только после того, как сами обогатитесь.
Между нами нет никаких возможных недоразумений… и также никаких затруднений. У нас есть общие интересы, и мы их урегулируем очень легко, когда наша цель будет достигнута… и этот счастливый момент не замедлит наступить, я в это верю. В течение двух дней вы получите доказательство, что наследница по завещанию месье Франсуа Буае больше не живёт вместе с нами в этом мире, и когда вы об этом официально заявите, то не пройдёт и месяца, как вы вступите во владение вашей долей наследства.
Эта приятная перспектива, обрисованная столь кстати, убедила месье Дюбуа. Он сел на стул перед своим бюро, открыл один ящик, достал лист бумаги, отмеченный гербом государственного казначейства, и оформил своим красивым почерком обязательство, составленное в терминах, указанных месье Бланшелен, который его внимательно прочитал и спрятал в своём портфеле с очевидным удовлетворением.
—
Теперь, месье, — сказал этот продавец наследства, — у меня есть эта бумага, равносильная полумиллиону франков в вашем кармане, и кроме того прибавляющая сто тысяч франков к моему скромному состоянию. Мне остаётся только попрощаться с вами, и просить вас напоследок дать распоряжение, чтобы ваши слуги всегда меня провожали к вам, когда я им представлюсь. Я надеюсь, что смогу вам вручить свидетельство о смерти послезавтра утром до полудня. И тогда настанет ваша очередь сделать все остальное, чтобы мы оба были довольны нашим сотрудничеством.
—
Очень хорошо. Я буду вас ожидать, — тихо произнёс месье Дюбуа.
Он провел негоцианта из своего кабинета в коридор, который вышел вслед за ним, не произнеся больше ни слова, и задумчиво возвратился к своему бюро, когда лёгкий шум заставил Дюбуа поднять голову.
Его дочь Аврора приоткрыла только что дверь, которая сообщалась с салоном, и стояла на пороге кабинета.
—
Можно войти? — спросила она улыбаясь.
—
Да, я один, — ответил месье Дюбуа.
—
Но только на протяжении последних десяти секунд. Я уже думала, что этот господин никогда не уйдёт.
—
Значит ты знала, что у меня посетитель?
—
Я шла к вам, и когда уже собиралась войти, услышала два голоса в вашем кабинете… и тогда решила подождать, когда вы останетесь
одни.
—
Я надеюсь, по крайней мере, что ты не слушала наш разговор у двери?
—
Нет, конечно, но у меня острый слух, а вы говорили громко очень.
—
И ты поняла, о чем мы беседовали?
—
Не совсем. Но я уловила на лету одно имя.
—
Какое имя?
—
Имя месье Поля Амьена, и была очень удивлена. Так что вам этот господин говорил о нем?
—
Ты очень любопытна!
—
Но нет… не чересчур. Я уверена, что это не секрет.
—
Ты ошибаешься. Я беседовал о делах коммерческих, которые тебя не касаются.
—
Значит у тебя коммерция с месье Амьеном?
—
Аврора, ты меня докучаешь своими расспросами. Скажи мне, что тебе было нужно, и оставь меня.
—
Я хотела у вас спросить… заточение, которое вы мне навязали уже на протяжении четырёх дней… оно скоро закончится?
—
Как! Какое заточение! Я что, повесил амбарный замок на твои двери? Разве ты не свободна в своих действиях также, как и раньше?
—
Мой Бог! Да, я знаю, что не нахожусь под арестом, как младший лейтенант в армии, нарушивший дисциплинарный устав. Я могу беспрепятственно перемещаться из конца в конец квартиры… ничто мне не мешает встать у окна и смотреть, как прохожие ходят по на улице Ферм-де-Матюрин… которая на самом деле практически безлюдна. И если этого увлекательного спектакля не достаточно, чтобы развлечь меня, мне остаётся только выйти из дома с моей гувернанткой мисс Бетси, которая может меня лишь отвести погулять на Елисейские поля и полакомиться пирожными в английской кондитерской на улице Риволи.
—
Так что тебе ещё нужно? — произнёс месье Дюбуа, пожимая плечами. — Или ты думаешь, что я собираюсь устраивать званые вечера или водить тебя в театр в то время, как мы в глубоком трауре… и совсем, если так можно выразиться, свежем трауре? Мой брат умер только что, если ты это помнишь.
—
Он умер в двухстах льё отсюда, и я его никогда не видела. Вы же не будете от меня требовать, чтобы я страдала по этому поводу… и вы будете правы, так как мне было бы невозможно симулировать чувство, которого я не испытываю.
—
Я понимаю это, и сам не считаю себя обязанным оплакивать этого несчастного Франсуа, который не подавал никаких признаков своей жизни уже долгие годы и приложил максимум старания и сил, чтобы лишить меня наследства, но… существуют социальные приличия, которых никто не в силах избежать. Если бы я их не принимал в расчёт, любой светский человек бросил бы камень в наш огород, иначе говоря, злословию бы не было конца.
—
О! Я не требую от вас отправляться со мной на светские вечеринки. Я даже придерживалась все эти дни соответствующих правил хорошего тона. Вы видите, что я одета в чёрное с головы до пят…. Как вы того и хотели, к вашему удовольствию. Но я полагаю, что правила хорошего тона в этой ситуации не запрещают навестить наших друзей.
—
Нет, без сомнения. Только я не знал… что мои друзья способны тебя развлечь.
—
Совершенно верно, большинство из них не смогут этого сделать. Но мне показалось, что несколькими днями раньше, тем вечером, в театре Порт-Сент-Мартен, вы обещали месье Полю Амьену посетить его мастерскую.
—
Ах! Ах! Так вот куда ты метила, маленькая хитрюшка? Тебе не стоило ломать эту комедию, а нужно было просто и искренне поведать мне об этом твоём жгучем желании посетить нашего друга.
—
Значит вы не возражаете?
—
Возражаю… нет… точно нет. Этот молодой человек очень хорош… у него нет дефектов, присущих другим художникам… но, поскольку у нас официальный траур, мы не можем принять его у себя. Хотя, если я ему обещал нанести визит, мы вполне можем отправиться в его мастерскую в один из ближайших дней.
—
Почему не сейчас?
—
Потому что я ожидаю с минуты на минуту нотариуса, который видел завещание моего брата.
—
Что! Этот нотариус приезжает в Париж! Я полагала, что месье Буае лишил вас наследства.
—
У него было такое намерение, но неожиданно случилось событие, которое может все изменить… и, впрочем, это слишком долго тебе объяснять, да ты и ничего не понимаешь в этих делах, так что довольствуйся тем, что теперь ты знаешь, что все будет в порядке. Я тебе оставлю красивое состояние, и ты не потеряешь той части его, о которой я беспокоился, а именно состояния твоего дяди. Ты будешь более богата, чем я осмеливался надеяться, моя малышка Аврора, — заключил месье Дюбуа, потирая руки.
—
Тем лучше! Я смогу выйти замуж за мою мечту, — воскликнула девушка. — Ведь у меня будут деньги за двоих.
—
Означает ли это… не правда ли, что ты вбила себе в голову обвенчаться с Полем Амьеном?
Аврора слегка покраснела, но совсем не смутилась.
—
Да… только когда? — сказала она. — И потом, вы ведь не запретили мне думать о месье Амьене.
—
Безусловно нет, — ответил месье Дюбуа. — Ты могла бы также добавить, что приняв в нашем доме этого молодого человека так, как принял его я… я дал тебе понять, что он мне понравился, и я не против отдать ему тебя в жены… если бы он у меня попросил твоей руки.
—
Он у вас её попросит, мой отец.
—
Каким образом ты столь хорошо информирована о его намерениях? Ах! Я догадываюсь… тогда, вечером, в театре… я вас оставил с ним с глазу на глаз на несколько мгновений, и месье Амьен воспользовался моим отсутствием, чтобы объясниться с тобой, моё дитя. Он поступил бы намного лучше, если бы обратился вначале ко мне… таковы правила в подобном случае. Хотя я знаю, что художники считают для себя возможным игнорировать общепринятые нормы.
—
Но, мой отец, я вас уверяю, что месье Амьен не делал мне никаких предожений.
—
Тогда откуда ты знаешь о его планах?
—
Я не была бы женщиной, если бы не разгадала их.
—
И… ты готова поощрить эти его планы?
—
Поощрить? Нет… это было бы чересчур. Но я бы его не разочаровывала.
—
Тогда… значит ты его любишь?
—
Он мне очень нравится, — прошептала Аврора, опуская глаза.
—
Это не ответ, — сказал месье Дюбуа, который не любил двусмысленности. — Вы удивительны, молоденькие девушки… как только с вами начинают говорить о браке, вы считаете себя обязанными принять глупое выражение лица, после чего из вас невозможно извлечь больше ни одного разумного слова. Так что посмотрим, удастся ли мне вытянуть из вас что-нибудь членораздельное! Объясни мне ясно, без экивоков, любишь ты или не любишь месье Амьена?
—
Хотите ли вы услышать от меня настоящую правду? — спросила Аврора, немного поколебавшись.
—
Черт возьми! Кому ещё ты можешь её сказать, как не твоему отцу?
—
Итак… я не знаю, люблю я его или нет.
—
Вот так новости! Мне кажется, что ты насмехаешься надо мной. Невозможно, чтобы ты не осознавала… не разбиралась в своих собственных чувствах.
—
Это, возможно, странно, но это так. Вы у меня спросили, люблю ли я его… но вам вначале следовало бы мне объяснить, что вы понимаете под словом любовь.
—
Ах! Если ты полагаешь, что я тебе собираюсь прочитать лекцию на эту тему!.. Ладно, поставлю вопрос по другому— ты охотно вышла бы замуж за Поля Амьена?
—
Да, весьма охотно. И, из всех мужчин, которых вы мне представили до сих пор, только за него я согласилась бы выйти замуж.
—
Тогда, в добрый час: он тебе вполне подходит, — воскликнул, смеясь, месье Дюбуа. — Мне не потребовалось больших усилий, чтобы открыть твоё сердце. Ты сама выбрала этого молодого человека, не посоветовавшись со мной, но я тебя не порицаю за это… и за этот выбор. Я навёл справки о нем, и наблюдал за ним с тех самых пор, как мы познакомились, и теперь, когда мне о нем действительно многое известно, я считаю, что он мог бы тебя устроить. И меня тоже. У месье Амьена нет состояния, его отец ему ничего не оставил, но он зарабатывает много денег, и я знаю, что он умён и у него достаточно разума не растранжирить эти деньги. Для юноши это очень хорошая черта характера-экономить заработанное, это-гарантия мудрости, и когда он ведёт себя таким образом, это свидетельствует о том, что он готов управлять домашним хозяйством. Я убеждён, что месье Амьен может тебя сделать счастливой.
—
Но отнюдь не деньги делают человека счастливым, — прошептала очень тихо Аврора.
—
Не всегда, согласен, но сильно этому способствуют, — возразил её отец, который во всех вопросах был человеком практичным. — Впрочем, на данный момент, денежный вопрос разрешён. С твоим приданым и доходом, который получает своим трудом Поль Амьен, продавая свои картины, вы будете очень богаты. Ну, а что касается его внешнего вида, то я уверен, что он тебе нравится, так как Поль— большой красавец. Он умён и у него хорошие манеры. Остаётся узнать твоё мнение относительно его характера… удовлетворяет ли он тебя.
—
Что вы хотите услышать от меня? Я знаю о его характере не больше, чем он знает о моем.
—
Между тем, вы встречались с ним довольно-таки часто.
—
В свете, на приёмах, да… но там не демонстрируют свои недостатки.
—
Нет, без сомнения. И между тем браки не делаются иначе. Нужно полагаться и на свою интуицию и доверять немного внешности. Я тебе об этом говорю, потому что женился на твоей матери, поверив своим чувствам, и не ошибся. Я до свадьбы видел её не больше десяти раз, в то время как ты …
—
Я требовательнее. Я хотела бы узнать о моем предполагаемом муже более основательно … и о жизни, которую он ведёт.
—
Черт возьми! Если ты полагаешь, что это легко сделать!
—
Существует очень простое средство.
—
Расскажи мне о нем… ты мне доставишь удовольствие.
—
Неужели вы забыли, что месье Амьен предложил мне сделать мой портрет?
—
Нет, но я не вижу связи …
—
Портрет не делается в один день. Потребуется много сеансов.
—
И…?
—
И если я буду ему позировать в его мастерской, я смогу узнать, что там происходит на самом деле.
—
Но я предполагаю, что в мастерской Поль Амьен также будет придерживаться всех норм приличия и обойдётся без экстраординарных поступков. Если бы я думал противоположное, я давно бы закрыл дверь моего дома этому молодому человеку. Или ты узнала, что он ведёт там беспорядочную холостяцкую жизнь?
—
Нет, но я знаю, что он принимает там натурщиц.
—
Естественно. Кажется, что для того, чтобы писать картины, без этого не обойтись, ты не находишь.
—
Сейчас, например, он заканчивает картину, которая изображает девушку.
—
Пасущую коз. Он, конечно, выбрал странный сюжет. Почему бы не пастушка, который пасёт гусей?… Ладно… это шутка. И все таки у этих художников все время в голове достаточно странные идеи… Но почему ты мне об этом говоришь?
—
Итальянка, которая позирует ему для этой картины, как говорят, чудесной красоты. Месье Амьен мне также отзывался о ней с восхищением и энтузиазмом.
—
Хорошо! Хочешь ли ты мне этим сказать… ты думаешь, что он влюблён в это создание?
—
Я не сказала этого, но мне было бы любопытно её увидеть.
—
Прости! Но ты не думаешь, я надеюсь, о том, чтобы познакомиться с ней. Эти девицы, которые прибывают в Париж, чтобы наниматься на работу и выставляться в мастерских — не очень достойные персоны, и мне хотелось бы думать, что месье Амьен, принимаясь за работу над твоим портретом, устроит все таким образом, чтобы ты не повстречалась у него с этой пастушкой.
—
Я считаю, так же, как и вы, мой отец, но это не доказало бы ничего… а напротив.
—
Ах так… ты, по-видимому, ревнуешь? Я не знал о наличии у тебя такой слабости.
—
Дело в том, что до настоящего времени я сама ничего не знала об этом. Мне все мужчины были безразличны.
—
А теперь, как я понимаю, все изменилось. Лишь один Поль тебя теперь занимает. Я не вижу смысла тебя за это порицать, так как сам думаю о том, чтобы сделать его моим зятем. Но в тоже время мне кажется, что ревность тебя посетила немного рановато. Подожди, по крайней мере, то время, когда ты выйдешь замуж.
—
Одно не мешает другому, — возразила, улыбаясь, мадемуазель Дюбуа. — Чего вы хотите? Я так устроена, и не в состоянии измениться по мановению волшебной палочки. Я знаю, что так не принято, чтобы девушка беспокоилась о жизни, которую ведёт до брака тот, с кем она должна сочетаться браком. Меня же этот вопрос волнует, мне он кажется важным, я хочу в нем разобраться и узнать побольше об этой итальянке и о том, что она на самом деле делает в мастерской месье Амьена, и считаю, что не ошибаюсь, заняв такую позицию.
—
В принципе, нет, но мне было бы любопытно узнать, как ты возьмёшься за дело, чтобы добиться своей цели. Нужно превратиться в маленькую птичку, чтобы следить за человеком незаметно… но маленькие птички не залетают в мастерские художников. Неужели ты думаешь, что сможешь выяснить ежедневные привычки Амьена, если я тебя приведу к нему?
—
Возможно. У меня зоркий и пытливый взгляд, и я в состоянии рассмотреть много мелочей, которые ускользнули бы от вашего взгляда. Иначе говоря, например, если мы там застанем эту итальянку, я сразу же пойму… она ему только позирует для картины или же …
—
На этот вопрос я тебе в состоянии ответить сам и прямо сейчас. Эти итальянские ветреницы в красных нижних юбках не могут соблазнить мальчика, у которого есть вкус. И художники позволяют себя обмануть таким девочкам гораздо реже, чем простые буржуа. Ведь они обычно уже столько повидали в своей жизни!
—
Но, однако, такое случается. Разве не вы мне рассказывали, что мой дядя …
—
Твой дядя никогда ничего не делал так… как делают другие нормальные люди.
—
Я хотела бы быть уверенной, что месье Амьен не поступит также, как и он. И, чтобы в этом убедиться, я хочу для начала узнать, так ли хороша и красива на самом деле пастушка из Абруццо, как об этом говорят.
—
Хорошо, пусть так, но ведь он наверняка воздержится от того, чтобы её вам показать, когда мы отправимся его навестить, и будет прав.
—
Абсолютно точно… и именно поэтому мне хотелось бы удивить его неожиданным визитом. Месье Амьен знает, что вы потеряли только что вашего брата, и думает, что вы должны быть поглощены делами наследства, и не готовится к нашему визиту. Сегодня прекрасная погода… превосходный день, чтобы стоять у мольберта и писать картину, а месье Амьен не имеет права терять время, ведь он уже опаздывает… Художественный Салон открывается 1-ого мая. Я уверена, что его натурщица сейчас там. Сейчас время сеанса. Так что, если вы не против, мы могли бы пойти на прогулку, маршрут которой нас привёл бы, как будто случайно, к пляс Пигаль.
—
И мы поднялись бы наверх и постучались, без церемоний, в дверь студии месье Амьена. Хм! Мне кажется, что это был бы немного рискованный ход. Во-первых, он может нам просто не открыть дверь, и будет прав, так как мы его заранее не предупредили о визите. Я слышал, впрочем, что художники никогда и никому не открывают двери студии во время сеанса, во время работы с натурщицей, из страха нарушить позу, в которой он ей определил находиться.
—
Когда мы будем рядом с дверью, я начну говорить с вами очень громко. Месье Амьен узнает мой голос, и соизволит оставить свои кисти, чтобы встретить нас. Если он посмеет оставить нас снаружи, я ему этого никогда не прощу. Так что, решено, вы ведь согласны с моим планом, дорогой отец? Видите, я уже готова к прогулке. Мне осталось только одеть шляпку и пальто. Вам также при параде. И кроме того, вы не появлялись на улице вот уже три дня. Свежий воздух вам пойдёт на пользу.
—
Послушай! — воскликнул месье Дюбуа, — а как же мой провинциальный нотариус, которого я ожидаю с минуты на минуту?
—
Нотариус? — пренебрежительно повторила Аврора.
—
Да, он, — сказал месье Дюбуа. — Он должен мне привезти копию завещания моего брата, и ты понимаешь, с каким нетерпением я его жду. Телеграммы, которые он мне направил, слишком лаконичны. Он развлёкся, составляя предложения, как загадку, экономя слова, чтобы сэкономить франк на миллионном деле. Эти провинциалы так глупы.
—
Мне кажется, что, если бы он прибыл в Париж сегодня, то уже был бы у вас. Поезда прибывают только утром и вечером, и нотариус, если он не сошёл с утреннего поезда, уже не придёт к вам днём.
—
Это справедливо по отношению к экспрессам, но я подозреваю, что он сел в пассажирский поезд… он всегда экономит. Так как провинциалам не известна английская максима: время, это деньги… Как ты это произносишь на английском языке?
—
Time is money, мой отец. И чтобы осуществить на практике эту максиму, я собираюсь отправиться к себе, чтобы побыстрее закончить мой гардероб перед прогулкой. А если этот господин здесь появится в то время, как вы выйдете со мной в город, ваш камердинер может вас разыскать. Вы только должны оставить ему ваши инструкции и адрес месье Амьена.
—
Это хорошая идея. Благодаря такому плану, думаю, что могу без нежелательных последствий отлучиться на часик.
—
И даже на два, — произнесла совсем тихим голосом мадемуазель Дюбуа, которая намеревалась продлить визит в мастерскую художника.
—
Но, — продолжил её отец, — какой повод мы собираемся предъявить месье Амьену, заявившись к нему без предупреждения?
—
Для начала, отец, хочу вам сказать, что мы не нуждаемся в поводе. Он нас лично приглашал много раз зайти к нему и посмотреть его новую картину.
—
Ладно, пусть так, но когда мы приглашаем людей к себе, предпочитаем заранее знать, когда они придут, для того, чтобы подготовиться к визиту и принять гостей надлежащим образом. Амьен не очень будет доволен тем, что вынужден показывать нам свою не приведённую в надлежащий порядок студию.
—
Но… я как раз именно для этого и стараюсь его удивить.
—
В этом случае нам все таки придётся с ним объясниться и сказать ему, почему мы так неожиданно прибыли… ты не можешь с этим не согласиться …
—
Вы ему скажете, что мы пришли для того, чтобы договориться насчёт моего портрета. Он мне предложил начать работу над ним в любое время, когда я пожелаю.
—
Хм, это серьёзный повод, это очень серьёзный повод… даже чересчур! — сказал месье Дюбуа, качая головой.
—
А в чем его серьёзность?
—
Не кажется ли тебе, что если я приму это предложение… то это почти то же самое, как если бы я взял на себя обязательство отдать тебя ему в жены.
—
Почему? Это — его работа… заработок — делать портреты, так как он, между прочим — художник, и не более того. И Поль уже этим занимался. Я видела одну его работу на прошлогоднем художественном Салоне. Это был женский портрет… и это был шедевр.
—
Вероятно и то, что за него ему заплатили, и очень даже может быть, что заплатили дорого. Полагаешь ли ты, что он согласится с тем, чтобы я ему заплатил за твой?
—
Нет… я не думаю, что….
—
Тогда… это было бы равносильно подарку ценой десятки тысяч франков… Он продаёт портреты своей работы по цене, которая мне известна… Они буквально на вес золота. И такие дорогие подарки девушка может достойно принять только от своего жениха.
—
Хорошо, мы можем поступить так. Если я не выйду замуж за месье Амьена, тогда вы ему заплатите за мой портрет. И таким образом, у вас не будет обязательств перед ним.
—
Он наверняка откажется мне его продать; ты мне только что об этом сама сказала. И твой портрет, твоё лицо останется висеть на стене его мастерской. Это тебя устроит?
—
Он не захочет меня оскорбить, я в этом уверена. Я очень надеюсь, впрочем, что не увижу у него ничего, что помешает мне …
—
То, что ты имеешь ввиду, эти твои планы в отношении месье Амьена я одобряю. Я надеюсь, как и ты, что он преуспеет в своих делах… но все-таки, между тем, нам неизвестно, что может случиться, когда мы вот так запросто заявимся к нему, и нужно все предусмотреть.
—
Я допускаю, что может случиться все, что угодно. Но я осознанно хочу пережить это испытание. Я хочу попытать счастья.
—
Но признай, что момент для визита к Амьену выбран очень неудачный. Если он возьмётся за твой портрет, то может не успеть закончить свою картину для Выставки.
—
Это — как раз то, чего я желаю.
—
Это потому, — усмехнулся месье Дюбуа, — что тогда ему придётся дать отставку и отослать прочь итальянку, которая позирует ему для этой картины. Дорогая Аврора, я тебя не узнаю, ты ли это.
—
Дело, в том, что действительно… я очень изменилась за последнее время, — решительно произнесла мадемуазель Дюбуа.
—
Вот как! Я замечаю, что ты, кажется, обезумела от этого мальчика. Боюсь, что если я буду тебе перечить, ты способна слечь на нервной почве. Ладно, иди, собирайся, одевай свою шляпку, а я пока одену свою и дам распоряжения Франсуа.
Аврора не заставила себя просить дважды. Она знала, что все равно добилась бы своей цели, поэтому её горничная все это время ожидала свою хозяйку, чтобы немедленно помочь ей одеться.
Отец баловал её и привык ей уступать, и к тому же он пребывал в хорошем настроении с тех пор, как господин Бланшелен ему сообщил о смерти Бьянки Романо, поэтому он и принял благоприятное для дочери решение навестить месье Амьена.
Дюбуа только дал указание своему дворецкому, чтобы в случае появления в его доме нотариуса тот разместил бы его в салоне и заставил ждать возвращения месье Дюбуа, одновременно отправив слугу к художнику, чтобы предупредить о прибытии этого значительного и долгожданного персонажа.
Десять минут спустя месье Дюбуа и его дочь уже направлялись пешком, рука об руку, к пляс Пигаль.
Часть VI
После посещения спектакля «Рыцари в тумане» Поль Амьен жил как отшельник, вернувшись к своей основной профессии и призванию художника, опаздывающего к выполнению своей главной на сегодняшний день цели, завершению картины, которую ему необходимо было в ближайшие дни отправить на суд строгих экзаменаторов, дабы не пропустить открытие Салона.
В первый день Полю приходилось довольно тяжело. Он был твёрд в осуществлении своего намерения упорно трудиться, но воспоминания об охоте на криминальную парочку не выходили у него из головы. Он упрекал себя в нерасторопности, неумении… глупости… вспоминая, как ловко они обвели его вокруг пальца, и твердил себе, что если только ему вновь представится такой случай разыскать их, он уже не совершит такой глупой ошибки.
Также он намного больше, чем это требовалось для завершения его картины, думал о мадемуазель Дюбуа и, когда Поль садился перед своим мольбертом, изображение прекрасной Авроры, усиленное воображением влюблённого художника, частенько помещалось между его глазами и холстом.
Но вся эта, по большому счёту, земная накипь человеческой страсти была бесследно смыта в голове большого художника уже к концу первого сеанса, и начиная со второго страсть к искусству снова одержала верх. Воспоминания о погоне в фиакре стёрлись, призраки пропали, и он не думал больше ни о чем другом, кроме как о шедевре, который вырисовывался из под его кисти.
Момент был выбран удачно, чтобы завершить его.
Месье Дюбуа, отдавая дань трауру, не мог в течение некоторого времени осуществить свои планы и нанести визит в его мастерскую, и когда он это сделает, было довольно неясно, ведь Поль даже не получил от него никакого, хоть короткого известия.
Амьен довольствовался тем, что отправил отцу прекрасной Авроры свою карту, и был теперь спокоен, что Дюбуа его не побеспокоит и не помешает работе над картиной.
И, к тому же, на его счастье, Верро также больше не заглядывал к своему другу… Верро, который раньше, казалось, проводил всю свою жизнь в его мастерской, куря нескончаемые трубки… Верро просто бесследно испарился.
Амьен совершенно не тревожился о его судьбе. Он решил, что этот фантазёр разбил свой походный бивуак в Гранд Боке или в другом хлебосольном кабулё, если только не развлекался тем, что играл в полицейского, гоняясь за авторами преступления в омнибусе.
Амьен знал, что Верро неизбежно возвратится, как осень и зима, когда решит, что у него появились новости… или просто, когда его кредит пивной будет исчерпан, и на его честное слово ему уже нигде не будут наливать.
Но Поль не только не сожалел о его отсутствии, а был даже несказанно этому рад, так как Верро был невыносимым компаньоном для трудолюбивого художника.
Верро, пребывая в его мастерской, непрерывно двигался, все хватал руками и безостановочно болтал. Он бросался по любому поводу своими невероятными теориями, приправленные экстравагантными парадоксами, которые могли вывести из себя самого терпеливого человека, и не было никакого средства заставить его замолчать.
С тех пор, как этот буйный бездельник избавил Амьена от своего присутствия и своей критики, работа над картиной продвигалась в два раза быстрее.
Пия позировала ему теперь каждый день по пять часов. Она приходила до полудня и уходила только с наступлением темноты.
И она позировала с образцовой усидчивостью и настойчивостью. Никакого движение, ни одного слова. Пия не просила перерыва, не требовала отдыха. Амьену даже требовалось её просить, чтобы она согласилась встать со своей скамеечки, чтобы Поль мог её немного развлечь после утомительной неподвижности.
Прежде она была менее спокойна, и всегда пользовалась перерывами в сеансе, чтобы отогреть свои ноги и немного поболтать языком.
Пия получала огромное удовольствие от посещения мастерской Амьена, и обязательно совершала прогулки вдоль стен его ателье, поднимая ткань, прикрывающую прислонённые к стенам картины, и издавая радостные возгласы, когда она узнавала модель, которая была изображена на холсте, находя неожиданные аналогии, задавая умные вопросы, и щебеча, как птичка.
Но её радость понемногу погасла, и уже несколько дней бедный ребёнок, казалось, полностью изменил характер. Амьен не узнавал прежнюю Пию.
Она больше не щебетала и не порхала по комнатам. Сойдя с неудобного помоста в перерыве сеанса, Пия сидела грустно в углу на низенькой скамеечке, молчаливо и неподвижно, положив подбородок на колени.
Амьена поначалу не слишком беспокоило это изменение в поведении Пии, но на третий день он заметил, что у нее красные от слез глаза, и справился о причине её печали.
Девушка ответила, что ей очень жалко Улисса, о трагическом конце которого он только что ей рассказал, но Амьен категорически отказался поверить, что она оплакивала несчастного ангорца, убитого Верро.
Но так как у Поля совершенно не было времени отвлекаться на девичьи слезы, он не стал заниматься выяснением истинных причин её плохого настроения, обещая себе основательно расспросить девушку после того, как закончит картину.
К несчастью, на пятом сеансе после смерти кошки Поль был вынужден признать, что Пия перестала держать требуемую позу, и требовалось ей об этом сказать.
—
Малышка, — вздохнул он, пристально смотря на нее, — это уже совсем не то, чего я хочу от тебя. Ты сейчас изображаешь из себя кого угодно-Деву Марию в гробнице или Мадлен в пустыне, но никак не пастушку из Субиако. Послушай, моё дитя! Когда ты пасёшь там коз, у тебя не должно быть на лице этого похоронного выражения лица, которое ты сейчас нацепила на себя.
—
В Субиако, — сказала девушка так тихо, что её слова можно было едва расслышать, — меня никто не наказывал, и мне никогда не было больно.
—
И кто же это тебя наказывает здесь? — воскликнул Амьен. — Или у тебя сердечная боль?
—
Вы же знаете, что нет.
—
Хорошо, я тебе верю, ведь ты мне говорила, что у тебя нет возлюбленного. Ты слишком разумна, чтобы влюбляться в мальчиков, которых ты встречаешь в доме Лоренцо или на пляс Пигаль. Но что тогда?
—
У меня все в порядке, месье Поль.
—
Не говори мне так. Я тебя прекрасно знаю… и читаю по твоему лицу, как по открытой книге… и заявляю тебе, что ты сильно изменилась. Ты больше не смеёшься, не можешь держать голову, когда позируешь таким образом, как я тебя прошу, а руки твои свисают вниз так, как будто ты изображаешь не весёлую пастушку, а статую вечной скорби и боли. Все стало плохо до такой степени, что я больше не могу ждать ничего хорошего, и если ты продолжишь плакать, я пропущу срок сдачи моей картины. Моя пастушка оказалась сроду не пастушкой, а дочерью разбойника, которого только что застрелили. И чтобы снова поднять твоё настроение, малышка, есть только одно средство. Расскажи мне о своих печалях. Это тебя утешит, а я найду средство тебя излечить. Давай, расскажи мне все без утайки. Может быть, это Отец Лоренцо, который сдаёт тебе в аренду твою комнатку, причиняет тебе эти страдания?
—
Нет. Он, можно сказать, почти что уважает меня с тех самых пор, как вы меня рекомендовали ему. Он больше никогда не поднимается в мою комнату без моего разрешения.
—
Очень хорошо. Я ему дам премию, как только его увижу, и для этого даже специально срочно повидаюсь с ним.
—
Но ты сама… может быть ты нуждаешься в деньгах?
—
Ой…! Нет. Я зарабатываю у вас в два раза больше, чем могу израсходовать.
—
Может быть ты тоскуешь по родине? Это твоя родная гора… она тебе снится по ночам?
—
Что бы я там делала теперь? У меня там больше никого не осталось, — прошептала бедная девушка.
—
Это правда, — сказал взволнованный её словами Амьен. — Ты ведь сирота.
—
Моя мать умерла в прошлом году.
—
И ты никогда не видела своего отца?
—
Практически нет… я лишь едва, очень смутно,
помню его…. я его видела, когда была совсем маленькой.
—
Это был француз, не правда ли?
—
Мне так говорили соседи. Моя мать никогда не рассказывала о нем.
—
И у тебя больше не было другого отца?
—
Нет, мы жили втроём… только я, мама и сестра. Я думала, что вам это известно.
—
Да, я припоминаю теперь, что ты мне рассказывала, что твоя сестра оставила Субиако в двенадцать лет. Она была старше тебя.
—
Мне тогда было девять лет.
—
И твоя мать позволила ей уехать из дома?
—
Моя мать была настоль бедна, что больше не могла её прокормить.
—
Хм! Мой соотечественник повёл себя безобразно. Если ты благороден, нельзя бросать без средств к существованию свою жену и дочь.
—
Я зарабатывала на жизнь, пася коз, — продолжила Пия, как будто не заметив эту строгую, но справедливую оценку поведения её отца. — Моей сестре было сложнее, чем мне. Она была старше и не могла выносить страдания нищеты. У нее был прекрасный голос, и она получила предложение от преподавателя вокала, который искал учеников. Он предложил ей брать у него уроки музыки, с тем, чтобы потом помочь ей заключить договор с оперной труппой. Она согласилась и уехала с ним.
—
И ты больше не слышала о ней?
—
Она писала раз в год для нас одному мужчине в Субиако, который нам пересказывал новости о ней. Моя мать не умела читать… а я научилась читать только во Франции… благодаря вам.
—
Итак, что с ней стало, с твоей сестрой? Мне ни разу не пришло в голову спросить тебя об этом. Как сложилась её судьба в театре?
—
Она спела в нескольких больших городах Италии. Прошлой осенью она была в Милане и пела в Ла Скала.
—
Как примадонна?
—
Нет, в хоре.
—
Дьявол! Тогда, должно быть, она не стала миллионершей. Но как ты обо всем этом узнала, ведь ты уехала из Субиако?
—
Мне написали оттуда, что наша мать умерла… там знали, что старый Лоренцо меня увёз в Париж. У нас ведь там каждая собака знает Лоренцо, и знают, где он живёт. А шесть недель тому назад я получила письмо от моей сестры, адресованное на мой адрес на улицу де Фос-Сент-Бернар. Впервые в моей жизни мне кто-то написал письмо.
—
Но, надеюсь, оно не будет последним. И ты ответила твоей сестре, я думаю?
—
Да, один раз, а затем пришло второе письмо от неё, в котором она сообщала, что собирается приехать в Париж.
—
Ах! Ба! И она приехала?
—
Да, месяц тому назад.
—
Как, малышка… и ты это скрыла от меня?
—
Моя сестра мне строжайше запретила говорить о ней. Она хотела, чтобы никто не знал, что она появилась в Париже.
—
Но ты то с ней свиделась, я надеюсь?
—
Именно потому, что я больше её не вижу, я и плачу, — воскликнула Пия, вновь разражаясь слезами.
—
Как! Что значит… ты её больше не видишь? — воскликнул Амьен. — Уж не поссорились ли Вы?
—
Поссорились! О! Нет, — вздохнула итальянка. — Мы нежно любим друг друга, как только могут любить две сестры, которые остались совсем одни в этом мире.
—
Итак… тогда почему вы перестали встречаться?
—
Потому что она больше не пришла ко мне.
—
Кто тогда тебе мешал пойти к ней?
—
Я никогда не знала, где она живёт.
—
Ни чего себе! Ах! Это сильно! Что! Твоя сестра приехала в Париж для того, чтобы разыскать тебя… и не сообщила свой адрес! И потом, было бы естественно, как мне кажется, чтобы она жила вместе с тобой.
—
Нет… дом отца Лоренсо ей не подходил… Меня там уважают … хотя бы потому, что я ещё ребёнок… но моей сестре восемнадцать лет, и она очень красива.
—
Ты думаешь, что ты некрасивая?… Ладно, речь не об этом. Я понимаю, по крайней мере, что она имела право не захотеть найти пристанище в этом караван-сарае на улице де Фос-Сент-Бернар. Но это не причина не сообщить тебе, где она поселилась.
—
У нее была причина не делать этого… причина, о которой она мне не сказала, а я не настаивала. Я только знаю, что она не хотела никого видеть и ни с кем не встречаться.
—
Но с тобой-то она виделась?…
—
Да, каждый вечер.
—
Почему вечером?
—
Потому что она знала, что днём я ходила позировать к вам.
—
О! Ты рассказала сестре обо мне?
—
Да! Я ей очень часто рассказывала о вас.
—
А она, о чем она рассказывала тебе?
—
О нашей матери, нашем детстве, нашей родине…
—
И она тосковала по вашей родине, по Субиако?
—
Да… она мне говорила, что её самое горячее желание состоит в том, чтобы жить там вместе со мной.
—
Значит, твоя сестра была готова отказаться от театра?
—
Без сожаления. Профессия певицы ей не нравилась.
—
А ты… ты тоже хочешь отказаться от профессии натурщицы?
—
Я не знаю, — прошептала девушка, опуская глаза.
—
Тебе все равно рано или поздно придётся отказаться от этого занятия. Ты не можешь провести всю свою жизнь в мастерских художников… Ты выйдешь замуж и бросишь эту работу.
—
Я не хочу замуж, — громко выдохнула Пия.
—
Хорошо… не хочешь… так не хочешь! Но уверен… ты изменишь своё мнение. Давайте возвратимся к твоей сестре. Она должна была по крайней мере тебя сказать, почему и зачем она приехала в Париж. Ведь не для того же, чтобы завоевать Парижскую сцену… я предполагаю, что она не собиралась получить ангажемент в театре.
—
О! Нет.
—
Зачем, тогда?
—
Она меня заставила поклясться, что я никому не скажу об этом.
—
Черт! Неужели ли это такая большая тайна? И она тебя запретила открыть её и конкретно мне?
—
Сестра не говорила конкретно о вас. Ведь она не предполагала, что вы мне позволите говорить во время сеанса.
—
Она не знала также, что я — твой друг. Если бы ей это было известно, то твоя сестра непременно бы сделала исключение для меня. Она не хотела, чтобы отец Лоренцо узнал что-либо о её делах. Я понимаю это. Но я не Лоренцо, я даже не итальянец… и я уверен, что она бы сочла меня достойным выслушать её признания. Ты должна была привести свою сестру ко мне.
—
Я не осмелилась.
—
Хорошо! Но теперь, когда ты беспокоишься о сестре и не знаешь, что с ней произошло, ты вполне могла бы мне рассказать о том, зачем она приехала во Францию и что собиралась здесь делать. Это бы мне помогло, возможно, её разыскать.
—
Если бы я могла надеяться на это …
—
Ты можешь мне верить… и ты не опасаешься меня, я надеюсь!
—
О! Нет, как вы могли так подумать.
—
Тогда, говори. Я и так почти разгадал эту её тайну. Твоя сестра искала кого-то, не правда ли?
—
Это правда.
—
Когда я буду знать, кого, я смогу искать целенаправленно, а не наугад… наудачу. Я знаю кучу народу, и если твоя сестра обратится ко мне, я ей, вероятно, мог бы дать полезные указания.
—
Вы мне обещаете сохранить в тайне все, о чем я вам собираюсь рассказать?
—
Кому, черт возьми, ты хочешь, чтобы я это повторил? Из всех моих друзей только Верро знаком с тобой, но я поостерегусь брать его в доверенные лица в этом деле. Он слишком болтлив, чтобы делать из него компаньона. Этот юноша проводит свою жизнь в кафе, и я думаю, что это не то место, где мы можем найти твою сестру и персону, которую она разыскивала.
—
Нет, месье Поль, это совершенно не то, о чем вы думаете… моя сестра искала нашего отца.
—
Вашего отца! — повторил эхом Амьен, который был совершенно не готов к её словам. — Ах! Конечно, ведь он был французом. Я об этом даже не подумал. Но ты мне только что сказала, что вряд ли узнаешь его, если увидишь.
—
Зато моя сестра его вполне хорошо запомнила, — сказала Пия. — Она была старше меня на три года, и когда отец оставил нашу мать, сестра была уже в состоянии все понимать.
—
Тогда она должна была тебе сказать о том, что произошло между ними, и почему ваш отец бросил вас таким образом… оставил в нищете своих детей. Между нами говоря, он повёл себя очень недостойно, так как, в конце концов, он никогда не отрицал своего отцовства, и было время, когда он вас называл своими дочерями.
—
Я сохранила об этом времени только очень неясные воспоминания. Я помню, что мы жили в Риме, и что мы каждый день проводили в старом доме, на немного менее широкой площади, чем площадь Пигаль, и лицом к лицу перед огромной лестницей, ведущей к церкви с башнями.
—
Отлично… это уже кое-что! Я знаю это место… Испанская площадь, и испанская лестница у подножия церкви Тринита-деи-Монти. И внезапно ваш отец перестал у вас появляться?
—
Да. Он неожиданно уехал… возвратился во Францию, и тогда мы были вынуждены возвратились в Субиако. Моя мать могла бы продолжать зарабатывать на жизнь, позируя в мастерских художников… ведь она была очень красива! Но она больше не захотела заниматься этим ремеслом и увезла нас в горы…
—
На что же вы там жили?
—
Моя мать собрала немного денег в те времена, когда работала натурщицей …
—
Как! Твой отец ей ничего не оставил?
—
Ничего.
—
Это отвратительно.
—
Моя сестра думает, что он не смог обеспечить нашу жизнь потому, что сам был беден.
—
Прекрасный повод не содержать свою семью! Хотя у него хватило средств, чтобы отправиться обучаться живописи из Франции в Италию. Если он был не в состоянии обеспечить вам достойную ренту, то не имел права бросить вас в крайней нищете. Он был обязан остаться и работать ради семьи. И Бог знает то, что вы испытали! У вас был хоть какой-нибудь кров, по крайней мере?
—
Моя мать сняла за околицей деревни сарай, брошенный пастухами и стала прачкой, обстирывая белье
в двух или
трёх богатых домах. А моя сестра и я пасли деревенский скот.
—
А что же ваш отец… от него не поступало никаких новостей?
—
Достаточно долго… нет. Но однажды кюре сказал моей матери, что ему написали из Франции, чтобы узнать у него, не живёт ли наша семья в Субиако. Не знаю почему, но моя мать попросила его ответить, что мы оставили страну и он не знает, куда мы уехали. Сделал ли кюре это? Это то, чего мы не знали никогда.
—
Получается, что бедная женщина не хотела больше даже слышать о нем. Должно быть, твой отец её смертельно оскорбил. Она его, вероятно, проклинала до самой своей смерти.
—
Нет, никогда ни одного горького слова в его адрес не вышло из её рта. Она даже никогда не произносила его имени в моем присутствии.
—
Но ты его знаешь, это имя?
—
Моя сестра знает.
—
И она тебе его не назвала?
—
Я у неё не спрашивала. Я видела, что ей будет очень трудно произнести его имя. Каждый раз, когда я делала хоть малейший намёк на цель её приезда в Париж, сестра принималась плакать.
—
Все это… что ты мне только что рассказала, моя дорогая малышка, это что-то экстраординарное. Но сейчас не время комментировать твою историю. Сейчас идёт речь только о том, чтобы найти твою сестру. Когда в последний раз она приходила к тебе?
—
Должна была прийти в прошлую среду. Я её прождала весь вечер, но она не появилась.
—
Но ты её видела накануне?
—
Да, месье Поль. Она оставалась у меня позже, чем обычно, и сказала мне, уходя, что вернётся ко мне на следующий день.
—
А как сестра добиралась к тебе? — спросил Амьен, немного поразмыслив.
—
Пешком, и я думаю, что она таким же образом возвращалась домой… ведь она была не богата.
—
И вероятно, что она жила не далеко от тебя? И значит ты её не провожала, когда она тебя оставляла в твоей мансарде?
—
Нет. Она мне запретила это делать.
—
И ты её никогда не встречала на улице?
—
Никогда. Я столь редко выхожу из дома, и то, только для того, чтобы отправиться к вам… и для этого и туда и обратно я пользуюсь омнибусом.
—
Скажи мне, малышка, твоя сестра носила, как и ты, народные костюмы Субиако?
—
О! Нет, месье Поль. С тех пор как она стала петь в театрах в больших городах Италии, она одевалась на французский манер.
Амьен собирался продолжить эти расспросы о жизни пропавшей сестры Пии, но странный шум привлёк его внимание.
Осторожное царапанье в дверь донеслось до его уха, и вскоре послышалось жалобное мяуканье.
—
Ах! Мой Бог! Ведь это Улисс! — воскликнула девушка.
—
Улисс! — машинально повторил Амьен. — Быстрей, давай посмотрим, в чем дело! Ты же уже знаешь, что он умер. Кошки не воскресают.
—
Но, однако, кажется… это действительно кошка. Послушайте! Она скребётся в дверь.
Второй каскад мяуканья, гораздо плачевнее, чем первый, заставил их одновременно вздрогнуть.
—
Бедный зверь умирает от голода, — продолжила Пия. — Можно я ему открою?
—
Моя бог! Конечно же открывай дверь. Если даже это не душа моего ангорского кота, которая пришла с того света, то тогда это мой новый кошачий компаньон, который хочет жить со мной. Я очень скучаю с тех пор, как у меня больше нет никаких животных дома. Я уже был готов купить обезьяну или попугая, но понял, что все-таки предпочитаю кошку. Это менее затруднительно в содержании, и так как само Провидение мне посылает …
Пия была уже у двери, но едва она её открыла, как до Амьена донёсся испуганный крик, даже, можно сказать, вопль испуганной девушки.
Верро стоял перед нею, шляпа на затылке, руки в карманах брюк, насмешливые глаза на лице и трубка во рту.
—
Как! Это — ты! воскликнул Амьен, — что означает эта глупая шутка?
—
Мой дорогой, — ответил горе-художник, прокрадываясь в мастерскую, — я подозревал, что ты рассердился на меня и вряд ли мечтаешь о встрече со мной. Если бы я, как обычно, сделал просто тук-тук в твою дверь, ты узнал бы мой привычный способ стучаться в твою дверь и… я прекрасно знаю тебя… ты вполне способен не открыть мне дверь. И так как природа меня одарила особенным талантом и способностью имитировать крики животных, я спародировал мяуканье Улисса. Разве это было не похоже?
—
Тебе должно быть стыдно напоминать мне о твоей жертве.
—
Она была необходима, эта жертва, — сказал Верро, размахивая руками, как актёр дешёвой мелодрамы. — И она мне ещё раз помогла, так как сумел проникнуть в твою мастерскую… И раз я уже попал сюда, то и останусь здесь, чтобы ты не говорил, мой разлюбезный друг. — И начинающий сыщик продолжил, обращаясь к Пие, — Добрый день, малышка. Ты красива, как рассвет этим прекрасным утром.
Пия не ответила на этот комплимент. Она вернулась на свою скамеечку, чтобы Амьен понял, что она не хочет больше говорить о своей сестре перед этим посетителем, которого она почти что откровенно не любила.
Но Амьен, которого вероломное проникновение Верро в его студию ввергло в мрачное настроение, и он не стеснялся в выражениях, чтобы донести до него ход своих мыслей.
—
Я должен был бы вышвырнуть тебя, — пробормотал он. — Тебя не было видно уже четыре дня. Ты, без сомнения, сел на мель на скамьях какого-нибудь кабачка, хозяева которого имели неосторожность открыть тебе кредит… а у меня ты укрываешься, потому что с тебя, поняв твою натуру, пытаются его взыскать. Это происходит уже не в первый раз. Я готов оказать тебе услугу и потерпеть некоторое время твоё присутствие у себя, но при одном непременном условии, что ты не разожмёшь свои зубы и рот. Я должен побеседовать с Пией, прежде чем снова примусь за работу, и я тебе запрещаю вмешиваться в наш разговор.
Пия, услышав эти слова, бросила на него умоляющий взгляд, в котором недвусмысленно читалось её желание…
—
Ничего не бойся, моё дорогое дитя. Я не доверю твоей тайны скромности этого пьяницы Верро, но у меня есть ещё один или два вопроса которые я хотел бы тебе задать. Посмотрим! Сегодня у нас понедельник… следовательно, прошло пять дней со времени исчезновения, которое тебя так беспокоит. Как ты думаешь, что случилось с… этой персоной? Несчастный случай?
—
Увы! Это возможно, ведь Париж столь опасен, и главным образом, по вечерам. Я придумываю и представляю себе самые ужасные вещи… ведь она могла быть раздавлена каретой или убита бандитами… уже не раз я думала о том, чтобы сходить в Морг… но я не осмелилась… боюсь её там найти.
—
Вот как! В Морг! Это место мне хорошо известно! — закричал Верро, который набивал свою трубку в углу мастерской.
—
Молчи ты там! — прикрикнул на него в ответ Амьен.
—
А я с тобой и не разговариваю. Это я сам себе сказал. Монолог… Ты же мне не запретил это делать… Тогда, какие могут быть претензии?
—
Я тебе запрещаю все. Переваривай спокойно свой абсент, который до сих пор бродит в твоём теле, и оставь нас в покое.
И Поль сказал тихо Пие:
—
Послушай, малышка. Я тебе обещаю сделать все возможное, что необходимо, чтобы её найти. В нашей стране… не то что в твоих горах… невозможно исчезнуть, не оставив следов. Будет достаточно лишь сигнализировать о факте её пропажи префекту полиции, и они организуют её поиски… и найдут её, я тебе за это отвечаю. Иностранец, который прибывает в нашу страну, должен арендовать квартиру или гостиницу, хозяева которых обязаны спрашивать имена своих арендаторов и записывать их в регистр жильцов, который инспекторы полиции имеют право просматривать, когда им заблагорассудится.
—
Её зовут Бьянка, — прошептала девушка.
—
Это её имя, а фамилия?
—
Такая же, как и у меня.
—
Да, я совсем забыл, что у вас фамилия вашей матери. Ты мне раньше называла, но я забыл… Напомни мне её, пожалуйста.
—
Романо, — ответила Пия.
—
Она говорила тихо, но у Верро был тонкий слух.
—
Романо! — вдруг вскричал он. — Вас интересуют данные о персоне, которую зовут Романо! Я могу дать вам справку.
—
Ты опять вмешиваешься? — Закричал ему Амьен. — Я же тебе уже сказал, чтобы ты оставил нас в покое.
—
Хорошо! Я помолчу, — пробормотал Верро. — Но ты ошибаешься, не давая мне сказать ни слова, ведь я мог бы тебе рассказать много интересных вещей.
—
О чем?
—
О персоне, имя которой Пия назвала только что.
—
Ты нас подслушивал! Ты за нами шпионишь! Господи, как же я был глуп, когда сдался на твои уговоры и впустил тебя сюда. И поверь мне, ты доставишь мне большое удовольствие, если выйдешь из моей мастерской той же дорогой, какой и зашёл сюда.
—
Ты не прав, я не подслушивал, и доказательством тому то, что я не услышал слова ни слова из того, что ты сказал малышке. Но она сама повысила голос в конце вашего коллоквиума, а я как-то не забыл помыть уши сегодня с утра, так что невольно в них влетело имя, которое мне прекрасно известно.
—
Откуда ты его знаешь?
—
А тебе не все равно? У меня есть секрет… представь себе, что у меня, как и у тебя, тоже могут быть свои секреты, которые я храню от чужих ушей… Забудь этот разговор, мой дорогой друг. Я не нарушу больше мирное течение вашей беседы. Буду нем, как рыба. Пусть у меня язык отсохнет, если я произнесу ещё хоть одно слово.
—
Хватит паясничать, я хочу знать, что тебе известно об этой персоне по фамилии Романо.
—
Этой Романо. Вот как! Значит ли это, что она женщина?
—
Не изображай невинность и познания во французской грамматике. Что ты знаешь о ней?
—
Совсем ничего.
—
Ты лжёшь. Ты сказал только что, что мог бы сообщить мне новости о ней.
—
Это вполне возможно. Но я их храню для себя.
—
Пия взволнованно и с большим вниманием слушала эти вопросы и ответы. Она не осмеливалась принять участие в этом диалоге, но внимательно смотрела на Амьена, пытаясь прочитать в его глазах то, о чем он думал после слов, брошенных этим сумасшедшим Верро.
—
Послушай! — серьёзным тоном сказал художник маляру, считавшему себя художником, — я тебя поддерживал до сих пор во всех твоих начинаниях, но сейчас я тебе категорически заявляю, что если ты немедленно не объяснишься со мной, я попрошу тебя убраться из моего дома, и больше ты меня в этой жизни никогда не увидишь.
—
Ты это серьёзно?
—
Очень серьёзно. Даю тебе слово чести.
—
Тогда, я собираюсь встать на путь признаний, и то, что я делаю, это только в твоих интересах. Ты бы всю оставшуюся жизнь жалел о том, что поссорился со мной. Я не хочу, чтобы твоё существование было отравлено горем утраты.
—
Когда ты наконец закончишь со своими дурацкими шутками?
—
Уже закончил. Так ты у меня просишь сведения о некоей Романо. Я тебе могу сказать, что ты её знал.
—
Я…! Ты безумен.
—
Отнюдь. Ты, правда, видел её лишь однажды, но зато провел с ней около часа… или рядом с ней, проще говоря.
—
Где это?
—
Мой друг… Ты совсем не догадываешься… обратись к своему воображению и памяти?
—
Пытаюсь… но не могу уловить суть твоей иронии.
—
Подумай хорошенько! У тебя короткая память. Напряги её и свой разум. Как ты провел свой вечер в прошлый вторник?
—
Вторник? — прошептал Амьен, совершенно не помнящий обыкновенно, что он делал пару ней назад, а не то что произошло на предыдущей неделе.
—
Я тебе помогу освежить память. Ты возвращался в этот день к себе домой, и позволил себе заметить меня сидящим за столиком в кафе… куда ты соизволил все-таки войти.
—
Сойдя с омнибуса? — спросил очень взволнованный этими словами Амьен.
—
Совершенно точно. И именно в этом омнибусе ты встретил синьору, о которой осведомляешься сейчас с таким тщанием.
—
Что! Эта девушка… которая… была …
—
Эту девушку как раз и звали Бьянкой Романо. Я обнаружил это вчера, и осмеливаюсь тебе сказать, что это открытие оказывает мне честь, так как оно вызвано исключительно моей настойчивостью и проницательностью.
—
Как ты убедился в том, что её на самом деле так звали?
—
Я нашел квартиру, в которой она жила. Ну… квартира, это громко сказано… так, мансарда с голубями. Она жила совсем близко отсюда, на улице Аббатис на Монмартре. Я беседовал с хозяйкой квартиры, которая мне дала самые точные сведения о ней, и которая… не буду излишне скромен… благодаря моим наставлениям была так любезна побеспокоиться о том, чтобы отправиться в Морг, дабы опознать её тело. Эту респектабельную даму зовут Софи Корню, и у нее доброе сердце, так как она оплатила расходы на похороны девушки, которые имели место этим утром. Я шёл во главе траурной процессии вместе с нею.
—
Замолчи!
Но было уже чересчур поздно. Пия все услышала. Она вскочила и сделала шаг в сторону Верро, который не догадывался и не понимал, какой эффект могут произвести его слова.
—
Моя сестра умерла, — прошептала девушка и упала в обморок.
—
Несчастный! Видишь, что ты наделал, — закричал на Верро Амьен.
—
Разве я мог догадаться, что эта малышка тоже из рода Романо? — сказал сквозь зубы Верро. — Я знал только, что её зовут Пией.
Верро можно было упрекнуть в нехватке такта и здравого смысла, но в его сердце отнюдь не было ни капли злобы.
И как бы в оправдание этого он быстро вскочил с места и бросился к Пие, чтобы помочь своему другу поднять её с пола.
Вдвоём они поставили девушку на ноги, но так как она была без сознания, Амьен отнёс её на руках к окну и положил на тахту.
—
Её сестра! — шептал он, совершенно растерянный, — это была сестра Пии! Я должен был бы сам об этом догадаться, услышав её рассказ. Эта та самая девушка, исчезнувшая во вторник вечером, в тот самый вечер моего трагического приключения в омнибусе …
—
И я не намного лучше тебя, черт возьми! Мне следовало сразу все понять, — воскликнул Верро. — Мёртвая девушка походила чертами лица на Пию. Как я не подумал я об этом? Возраст… итальянский тип лица… все было так явно. Правда, нужно сказать, что я не подозревал, что у Пии была сестра. Она очень скрытна, эта малышка.
—
Замолчи, животное! И принеси мне флакон нюхательной соли… там, на столике, около бюста Наполеона.
—
Уже иду… приоткрой ей корсаж… или ты ждёшь, когда она задохнётся, ожидая от тебя этой милости.
Амьен последовал этому совету, и смуглые плечи девушки показались из под её красного платья.
—
Вот флакон, который ты просил— воскликнул Верро. — Поддержи её голову, пока я поднесу его к её носу. Это её обморочное состояние не продлится долго. Я не знаю, что в этой английской бутылке, но я попробовал, и мне кажется, что запах такой, что разбудит и мёртвого… Продирает мозг насквозь.
Пия, распростёртая на тахте, прислонила свою прелестную голову на грудь Поля Амьена, волосы её были распущены и кудрявые локоны спускались вниз прямо по бледным щекам, глаза закрылись, и едва заметное дыхание исходило из слегка приоткрытых губ.
—
Ты её убил, — сказал Амьен горе-художнику, который стал на колени, пытаясь заставить дышать парами соли бедного ребёнка.
—
О! Что ты, нет. Не пройдёт и одной минуты, как она вернётся к нам, и я попытаюсь её успокоить. Кто бы, черт возьми, догадался, что она столь чувствительна? Это не изъян… и не слабость, присущая всем итальянкам. Я знавал одну, которая потеряла своего мужа утром и позировала, изображая вакханку, уже в полдень, в мастерской Жан-Жака Эннера… ты его знаешь. После этого ему ничего другого не оставалось, кроме как стать её мужем.
—
Достаточно! Я извиняю твою глупость, но запрещаю тебе рассказывать Пие, как умерла её сестра. Этого будет достаточно, чтобы добить малышку.
—
Не бойся… я придумаю безобидную…насколько это возможно… историю, и чтобы она меня простила, я отведу Пию к месту, куда мы проводили её сестру этим утром. Софи Корню все хорошо организовала. Очень милая служба состоялась в церкви на Монмартре, и концессия на пять лет на кладбище Сент-Уэн дорогого стоит. А я расщедрился на большой букет Пармских фиалок.
Болтая таким образом, Верро без особого успеха играл перед носом Пии флаконом с ароматическими солями. Вдруг Пия судорожно вздрогнула, но по прежнему не пришла в сознание, и у Амьена возникло непреодолимое желание вырвать язык у этого неисправимого болтуна, этот корень зла, причину всех его горестей.
И вдруг, в этот критический момент, в дверь неожиданно постучали.
—
Дай мне флакон и открой дверь, — раздражённо сказал Амьен. — Если я не открою дверь, они продолжат стучать и ещё раз испугают Пию. И когда ты увидишь, кто посмел ко мне явиться в неурочный час, ты доставишь мне удовольствие закрыть дверь перед носом того дурака, который позволяет себе прийти и беспокоить меня без предупреждения.
—
Если бы я знал, что у тебя есть кредиторы, то был бы уверен, что это один из них, — ворчал Верро, направляясь к двери. Стук был властным и настойчивым.
Пия, должно быть, услышала его и испугалась. Она вдруг обвила своими руками шею художника, а Поль привлёк её к себе так, чтобы его губы буквально касались лица девушки.
Сами о том не подозревая, они образовали группу, которую любой художник мечтал бы изобразить на своём холсте.
Это была картина маслом наяву.
Верро, который этого не видел, приоткрыл дверь и высунул голову наружу. Он мысленно приготовил фразу, которая бы обратила в бегство любого чужака, которого он предполагал встретить на лестничной площадке, и слова эти так и вертелись на его языке, так как он обладал обширным репертуаром насмешливых дерзостей, а миссия, которую Амьен ему поручил, была как раз из тех, которые он любил выполнять где он мог применить свои познания.
Но слова застыли в его глотке, когда он заметил молодую женщину ослепительной красоты, сопровождаемую господином с внушительным лицом и респектабельного вида.
Верро исповедовал культ Рубенса, короля цвета, и одно из произведений голландского маэстро наяву явилось на свет перед ним.
Впечатление было столь живым и сильным, что он буквально застыл, открыв дверь нараспашку…
Верро думал: «Амьен может говорить все, что ему заблагорассудится, но я не могу оставить этот шедевр на лестнице.»
В то же самое время он снял свою шляпу и поклонился до земли, отступая на три шага, чтобы уступить дорогу этой триумфальной персоне, которая вошла внутрь непринуждённым шагом, даже не удостоив его взглядом.
Господин, который её сопровождал, последовал, немного поколебавшись, за ней, а Верро поднёс руку к своему лбу, изображая безоружного солдата, капитулирующего перед превосходящими силами противника.
И тут Амьен испустил радостный крик, увидев, что Пия открыла глаза.
Этот возглас со стороны можно было бы трактовать, как возглас удивления, потому что одновременно он узнал в вошедших в студию персонах месье Дюбуа и его дочь.
Диван, на котором лежала Пия, положив голову на грудь Амьена и обвив рукой шею художника… эта злополучная тахта стояла прямо напротив двери, чуть ниже широкого квадратного окна, которое освещало мастерскую, и следовательно, оказывалась прямо перед глазами людей, которые входили в мастерскую.
Месье Дюбуа внезапно остановился, заметив эту грациозную картину, и стал бормотать непонятные, невнятные слова.
Его дочь, намного менее смущённая увиденным, чем её отец, все таки стеснялась продвинуться вглубь ателье, и на её лицо легла недовольная гримаса и кровь прилила к её щёкам.
Верро спокойно закрыл дверь за вошедшими и созерцал с каким-то выражением восторга эту сцену, которая так радовала его сердце художника.
Но положение Поля Амьена, между тем. было убийственно нелепо. Бедный юноша не мог оттолкнуть несчастную девушку, которая прижималась к нему, чтобы подойти к мадемуазель Авроре и поприветствовать её и месье Дюбуа.
Пия вывела его из затруднительной ситуации. Она пришла в себя и вырвалась из объятий художника. Она даже нашла в себе силы привести в порядок свою блузку, собрать волосы в пучок и встать на ноги. И застыла… бледная и дрожащая, пристально смотря на красивую незнакомку, которая, в свою очередь, рассматривала её с пренебрежительным выражением лица.
—
Я вижу, что мы вас побеспокоили, — наконец вымолвил, прерывая ставшее уже неприличным молчание, месье Дюбуа. — Если бы я знал, что у вас происходит, прошу вас, мой дорогой месье Амьен, в это поверить, я не вошёл бы.
—
А я бы глубоко сожалел, если был бы лишён возможности наслаждаться вашим визитом, — ответил Амьен с усилием, — и я вас прошу меня извинить. Этой девушке, которая служит моделью для моей картины, стало только что плохо во время сеанса …
—
И вы ей помогли. Это так естественно. Но мы вас затрудним, оставаясь здесь, и мы собираемся проститься с вами.
—
О! Месье, — воскликнул Верро, — Вы не будете так жестоки… вы ведь не покинете нас столь стремительно… поверьте, что как только мадам закроет дверь, мне покажется, что солнце погаснет и мир канет в бездну.
Пройдоха встал перед красавицей Авророй и стал нагло её рассматривать, прикидываясь Ясоном, прибывшим на остров Лемнос, и ослеплённым красотой царицы Гипсипилы. Но этот его манёвр, казалось, не рассердил мадемуазель Дюбуа, и красавица Аврора как и Гипсипила, тут же организовавшая в честь Ясона состязания по пентатлону, одарила Верро такой улыбкой, что тот тут же воспарил на небесах, несмотря на то, что Амьен задыхался от гнева.
—
Малышка уже на ногах, — продолжил нахальный маляр, — несколько мгновений отдыха на этом зелёном диване, и она уже в порядке. Не так ли, carissima
1
? — добавил он, обращаясь к бедной девушке, которая в это время плакала.
—
Нет, я ухожу, — ответила Пия, вытирая слезы.
—
Ты права, моя дочь. Свежий воздух тебя полностью излечит. Прогуляйся по пляс Пигаль и возвращайся, когда ты почувствуешь себя в состоянии держать позу.
—
Я не вернусь, — прошептала Пия.
И она направилась, пошатываясь, к двери. Амьен хотел броситься к ней, чтобы задержать девушку, но взгляд мадемуазель Авроры буквально приковал его к месту.
Пию удивил этот требовательный властный взгляд. Её бледные щеки покраснели, а милое личико поразила гримаска мучительной боли. Было откровенно понятно, что она ранена в самое сердце.
Но Пия не остановилась.
Этот раз Амьен не сдержался. Он прошёл перед мадемуазель Дюбуа и присоединился к Пие, когда она пыталась открыть защёлку замка двери.
—
Возвращайся к себе домой, моя дорогая Пия, и будь мужественной, — сказал Поль ей достаточно громко, чтобы месье Дюбуа и его дочь слышали его слова. — Я приду к тебе сегодня, а завтра мы пойдём вместе на кладбище и отнесём цветы на могилу.
—
Прощайте! — ответила итальянка, подавляя рыдание.
Она вышла, оставив Амьена терзаться угрызениями совести, ведь ему частенько и до этого недоставало сил и решимости поступить так, как требовало его сердце.
Боль Пии тронула его сердце, и если бы он был полностью в состоянии контролировать себя, он бы никогда не позволил ей уйти таким образом, но присутствие мадемуазель Дюбуа заставило его потерять голову и частично парализовало волю.
—
Я действительно сожалею, — воскликнул отец Авроры. — Вы хотели бы, без сомнения, сопроводить эту малышку …
—
Это было бы абсолютно бесполезно, — прервал его Верро. — Я её знаю. У неё железная воля, и если она вбила себе в голову уйти одной, никто её в этом не переубедит. Впрочем, она не больна. У неё большое горе, вот все.
—
Какое ещё горе? — сухо спросила мадемуазель Аврора.
—
О! Поверьте мне… Большое. Она узнала только что… у неё сестра умерла.
—
Именно здесь, в этой студии… она узнала об этом?
—
Да, мадам, и совершенно случайно… этакий несчастный случай. Я не слышал никогда, что у неё есть сестра, и собирался рассказать моему другу Амьену, что я помогал только что на похоронах девушки, которую раньше никогда не знал, но случайно увидел её тело в Морге. Мне было известно только её имя, и я имел неосторожность сказать в присутствии малышки, что несчастную девушку звали Романо.
—
Романо! Девушку, о которой вы говорите, звали Романо?! — воскликнул месье Дюбуа.
—
Да, Бьянка Романо, — ответил Верро, довольно удивлённый тем, что видит, как на лице его собеседника появляются признаки заметного волнения.
—
И у вас есть доказательство, что она умерла!
—
Сугубо материальное доказательство. Её тело только что похоронили, и я присутствовал при этом.
—
Тогда… Это означает, что можно получить свидетельство о её кончине.
—
Безусловно. Вчера это было бы трудно сделать ввиду того, что никто в Морге не смог опознать тело бедной девушки, хотя оно было выставлено там на протяжении уже трёх дней, но сегодня все проблемы были решены.
—
Это был несчастный случай?
—
Да, месье … несчастный случай … но довольно странный…
—
Не могли ли бы Вы мне сказать, где она жила?
Этот вопрос, так неожиданно заданный месье Дюбуа, имел непредсказуемый эффект… Верро незамедлительно прекратил свой поток откровений. Он не любил буржуа, а именно так он называл всех людей, которые не имели чести быть художниками… и всегда был настороже с ними. Итак, он сразу же понял, что по его шкале деления людей месье Дюбуа был буржуа первого класса, то есть самого мерзкого, и если он уже успел сболтнуть лишнего, то это лишь благодаря тому, что мадемуазель Аврора его очаровала своей красотой. Но Верро сразу понял, что стоило поменьше рассказывать о трагической истории в омнибусе, ведь известный ему Фурнье заставил его поклясться не рассказывать о ней никому.
—
Я не знаю, — ответил Верро с апломбом. — Но если вы желаете узнать её адрес, вы могли бы справиться о нем в префектуре полиции.
Амьен, между тем, сидел как на иголках после ухода Пии. Он прекрасно видел, что мадемуазель Дюбуа украдкой за ним наблюдала, и догадывался, почему.
Поль хотел бы объяснить Авроре, почему он был вынужден обнимать молодую итальянку. А с другой стороны, он чувствовал, что ему не следовало самому идти навстречу вопросу, который его и так ожидал.
Пытаться оправдываться до того, как у него не попросили это сделать… это была почти дерзость и самонадеянность… это было равносильно тому, как если бы он сказал: «Я знаю, что вы ревнуете итальянку ко мне, и я постараюсь вам доказать, что я вам не дал, в сущности, никакого повода для этого.»
Но прекрасная Аврора не привыкла скрывать свои чувства, и без малейших колебаний затронула тему, которую Поль Амьен не осмеливался обсудить.
—
Она красива, эта малышка, — сказала мадемуазель Дюбуа небрежно. — Она что… позирует здесь каждый день?
—
Да, мадемуазель, с тех пор, как я начал работать над моей последней картиной, — ответил ей художник, который никогда не лгал.
—
То есть уже четыре месяца, если я не ошибаюсь.
—
Четыре с половиной месяца, мадемуазель, если быть точным.
—
Я понимаю, что вы не продвинетесь далеко в вашей работе, если вам приходится также часто прерывать сеансы, как вы это сделали сегодня.
—
Это случилось впервые, мадемуазель. Обычно, этот ребёнок держит позу великолепно, но сегодня, непосредственно перед ваши приходом, она внезапно получила столь печальную новость, что потеряла сознание. Я должен был поднять её и отнести на эту тахту.
—
Это вполне естественно. Как вы можете быть не заинтересованы в ней? Ведь Вы её видите каждый день в течение трёх или четырёх часов. И мне, впрочем, показалось, что эта итальяночка тоже к вам очень привязана. У нее были слезы в глазах, когда она говорила вам: «Я ухожу.»
—
Она плакала, потому что потеряла свою сестру.
—
Ах! Это её сестра, та покойница, которую только что похоронили, как я слышала?
—
Да, мадемуазель.
—
Что! Бьянка Романо была сестрой этой натурщицы! — воскликнул месье Дюбуа.
—
Да, месье. Разве я не сказал вам об этом?
Это был приятный сюрприз для отца Авроры-узнать из уст Верро, что месье Бланшелен ему сказал правду. В Париже не могло быть двух Бьянок Романо, и единственная живущая в этом городе действительно отправилась в мир иной, в этом больше не было никаких сомнений, так как персоны, не заинтересованные в его деле, подтвердили это совсем ненароком.
Он радовался, глубине души, смерти молодой девушки, этот превосходный месье Дюбуа. Он даже спросил себя, нет ли средства и возможности избегнуть выполнения своих обязательств по отношению к своему торговому агенту. Разве он нуждался теперь в нем… зачем ему платить сумасшедшие деньги за копию со свидетельства о смерти… теперь, когда он знал, где её достать? Но его радость тут же померкла после того, как он обнаружил только что, что у покойной была сестра. Кто был отцом этой неожиданной сестры? Это был большой… нет… важнейший вопрос, и месье Дюбуа попытался тут же его прояснить.
—
Фамилия Пии тоже Романо, — ответил на его немой вопрос Амьен. — Это — фамилия их матери.
«Тогда, все в порядке, — подумал наследник по закону покойного Франсуа Бойе. — Мой брат никогда мне не говорил об этой второй дочери. Следовательно, она не от него, и их связывает только общая мать. И, так как мой братец пережил на один день Бьянку, эта натурщица не имеет никакого права на его наследство.»
—
Но, мой отец, — сказала, улыбаясь, мадемуазель Аврора, — мы пришли к месье Амьену вовсе не за тем, чтобы устанавливать родственные связи этих Романо, и так как вы забываете об этом сказать, я сама желаю ему напомнить, что он нам обещал показать достопримечательности своей мастерской, и я прошу его это сделать, поскольку пока что кроме итальянки в красной нижней юбке, распластанной на зелёном диване, я ничего примечательного не увидела.
И Аврора отвесила Полю Амьену явный поклон, который был рад его получить, но тон, которым девушка произнесла слова, касающиеся Пии, дошёл до него не сразу и шокировал его своей грубостью.
Чёрствость, почти жестокость, ироничная манера, с которой она обсуждала бедную девушку… Пия не заслуживала такого презрения.
Она не была ни горда, ни насмешлива, эта Пия, и её не в чем было упрекнуть за столь внезапный уход. Она лишь страдала и терпела, ни на что не жалуясь и безмолвно любя своего благодетеля.
Прекрасная Аврора, напротив, демонстрировала больше уверенности, чем чувствительности, и если она соизволяла показать, что Поль Амьен ей нравился, то при этом совершенно не беспокоилась о том, что её слова могут ранить чувства Поля, ведь она говорила таким тоном о девушке, судьбой которой он, вполне очевидно, интересовался.
Художник был благороден и у него было большое сердце, поэтому он не смог удержаться от мысленных сравнений девушек, результат которых оказался совсем не в пользу богатой наследницы крупного состояния. Но Аврора была настоль красива, что он был готов простить ей её недостатки.
—
Мой Бог, мадемуазель, — сказал Поль, прилагая усилия, чтобы грациозно ответить на её любезные, в какой-то мере, слова, — я боюсь, что был нескромен, когда говорил вам, что в моей мастерской есть какие-то исключительные ценности. В надежде встретить вас здесь я позволил себе рассказать вам о чудесах… которые не существуют. Здесь у меня только эскизы, наброски, этюды… всякое старье, которое я собрал в римской провинции во время учёбы… несколько полуистлевших обрывков старых гобеленов, инкрустированная слоновой костью мебель… чрезвычайно ветхая… У месье вашего отца аналогичная коллекция намного красивее и обширнее.
—
Но ваши картины, наш дорогой мэтр, — воскликнул месье Дюбуа, — мы специально пришли, чтобы ими восхититься.
Он был в восторге от того, что с его языка слетели эти слова: " Дорогой Мэтр", потому что это выражение не для буржуа.
Верро, который внимательно наблюдал за этой сценкой, намереваясь потом посмеяться над происходящим, понял это намерение, и закусил себе губы, чтобы не рассмеяться.
—
Мои картины не заслуживают того, чтобы ими восхищаться, — скромно сказал Амьен, — но я был бы счастлив их вам показать. К сожалению, я не могу их хранить у себя по той простой причине… что я их продаю.
—
Вы их продаёте даже очень хорошо, и я вас с этим поздравляю, — воскликнул месье Дюбуа. — Ваше состояние в кончиках ваших пальцев, а живопись сегодня-королева профессий. Если бы у меня был сын, я из него сделал бы художника.
—
Хм! — хмыкнул Верро, — а накладные расходы. Краски бесценны. Цена на них чудовищна. Месье, я разорился на тер де Сьене
2
и жён де хроме
3
.
—
Ах! Месье — тоже художник?
—
Я льщу себя этим. Я стал им с самого нежного детства. Мне судьбой, уже при рождении, было предначертано стать художником. Поэтому у меня никогда не было учителя. Я — ученик природы. Поль, представь меня, наконец.
—
Жак Верро, мой школьный товарищ и друг, — прошептал Амьен, который много бы дал за то, чтобы этот вечный студент немедленно испарился из его мастерской.
—
Очарован знакомством с вами, месье, — серьёзно произнёс месье Дюбуа. — Пишите ли Вы портреты?
—
Я пишу и крашу все… все за исключением вывесок… хотя, если бы меня об этом попросил какой-нибудь несчастный коммерсант, я бы рискнул опозорить мою кисть. Но если бы мне оказали честь увековечить черты мадемуазель, вашей дочери, зафиксировав их на холсте, я уверен, что создал бы шедевр.
Этот комичный комплимент сильно разозлил Поля, хотя со стороны не казалось, что Верро не понравился мадемуазель Авроре, которая вознаградила его улыбкой.
—
У вас есть по крайней мере одна картина, — сказала мадемуазель Дюбуа, обращаясь к Амьену, — та, которую вы заканчиваете сейчас для Салона. На нее запрещено посмотреть?
—
Нет, конечно, — быстро ответил художник. — И я вам клянусь, мадемуазель, что если бы мне улыбнулось счастье и картина вам понравится, то для меня уже не будет не иметь никакого значения, если жюри Салона отвергнет мою работу.
Отец и дочь сели перед холстом, и месье Дюбуа воскликнул:
—
Смотри, вот та самая итальянка, которая потеряла свою сестру. Вы можете хвалиться, мой дорогой, вы поймали сходство. Это поразительно.
—
Я нахожу, что вы, месье Амьен, ей льстите, — в свою очередь сказала мадемуазель Дюбуа. — У неё, конечно, красивые глаза, но нижняя часть лица испытывает явную нехватку изящества. И если уж я осмеливаюсь говорить всё, что думаю, то добавила бы, что народность, которую предоставляет модель, грешит отсутствием изысканности.
—
Это-то, что я повторяю каждый день Амьену, — воскликнул шутливо Верро. — Мы упорствуем в наших привычках, привозя к нам в Париж из года в год жительниц Рима, произведённых специально для экспорта, и крутим одну и ту же, образно выражаясь, всем уже порядком надоевшую мелодию. Если бы Рубенс хотел нарисовать пастушку, сидящую у подножия гробницы Сесилии Метеллы, он просто взял бы красивую фламандку, и цитадель Антверпена была бы на месте гробницы. Ах! Дорогой Поль, если бы мадемуазель твоя гостья согласилась позировать вместо Пии, ты сделал бы настоящую картину, грандиозную и оригинальную, отличающуюся от всего, что выставляется в Салоне.
—
Но, — сказала прекрасная Аврора, — предполагая, что я на это соглашусь, месье Амьен не согласился бы, я опасаюсь, стереть со своей картины изображение этой девушки. Если он её выбрал, то это потому, что она ему нравится.
Амьен почувствовал, что от ответа, который он даст на этот вопрос, зависел успех проекта, который ему был дорог. Мадемуазель Дюбуа смотрела на него глазами, которые ясно говорили: если вы желаете жениться на мне, вы пожертвуете этим холстом и итальянской натурщицей.
Не то чтобы у неё было намерение на практике применить нелепые идеи Верро… у Авроры хватало вкуса, чтобы не заставлять художника изображать её пастушкой из Абруццо, но она хотела подвергнуть своего будущего мужа испытанию.
Отнюдь не модель ей не нравилась, а женщина, эта бедняжка Пия, чья несомненная красота так резко контрастировала с её собственной.
—
Ты сошла с ума, — вмешался в их разговор месье Дюбуа. — Наш друг Амьен не может пропустить Выставку, потакая одному из твоих капризов.
—
Если бы мадемуазель хотела мне позволить сделать свой портрет, я был бы самым счастливым человеком на свете, — тихо сказал Амьен, который надеялся выпутаться из затруднительного положения этим неопределённым предложением.
—
А я, разумеется, была бы самой счастливой женщиной, — сухо возразила высокомерная Аврора, — но упрекала бы себя вся мою жизнь за то, что лишила эту малышку бессмертия, которое вы ей собираетесь дать.
—
Я вам клянусь, мадемуазель, что у меня нет притязаний на то, что мои произведения переживут меня… и не более, чем Пия думает о том, что её черты войдут в историю. Бедная девушка работает, чтобы ей было на что жить… как и я, в конце концов, так как я продаю мои картины для этого же. Но я страстно люблю моё искусство, и если вы согласились бы послужить для меня моделью, я уверен, что сделал бы прекрасный портрет. Вдохновение нас частенько обходит стороной… нас, художников, которые вынуждены жить своим талантом. Для того, чтобы заработать больше денег, мы выбираем темы, которые больше всего в данный момент нравятся публике, покупающей наши холсты. Итальянские сцены выгодно продаются, поэтому я написал девушку, пасущую коз в римской кампании, хотя с таким же успехом мог бы нарисовать Трансеверинку, вставшую на колени перед мадонной. Хотя… если бы я мог писать картины, о которых мечтаю, то когда меня посетит вдохновение, я писал бы картины только для себя, а не клиентов.
—
И для меня также, я надеюсь, — добавила, улыбаясь мадемуазель Аврора, которую это заявление, замаскированное под жизненное кредо, полностью успокоило. — Но я вас предупреждаю, что если бы я решилась позировать для вас, я вам не оставила бы мой портрет.
—
Я был бы рад отдать его вам, — громко сказал Амьен, — но не мог бы вам поклясться, что не сохранил бы его копию.
—
А я бы не противилась этому. Весь вопрос состоит в том, чтобы знать, буду ли я позировать. Мой отец утверждает, что вы нанесёте себе большой ущерб, бросив работу над почти законченной картиной.
—
Но я могу и заканчивать эту работу и делать в то же самое время ваш портрет, — возразил Амьен, который прекрасно видел, куда метила мадемуазель Дюбуа.
—
Иными словами, вы разделили бы ваше время и вашу мастерскую между мной и мадемуазель Пией. У вас будет два холста и два мольберта. Пастушка стояла бы в одном углу, и я в другом, и у каждой из нас была бы своя очередь позировать вам. Я очень обязана вам, месье… вашей доброй воле… но вы мне позволите не принимать участие в такой гениальной комбинации.
Аврора сказала это столь сухим тоном, что багрянец залил лицо художника.
—
Я вам не предлагаю ничего подобного, мадемуазель, — ответил он холодно. — Я прекрасно понимаю, что вы не можете позировать здесь, так как я вынужден встречать в своей мастерской людей, которых вам не было бы приятно встретить, но если месье ваш отец мне разрешил бы работать у него …
—
Несомненно… я буду этому рад! — воскликнул месье Дюбуа, — с большим удовольствием.
—
Вы не думаете, мой отец, — прервала его мадемуазель Аврора, — что свет в вашем доме отвратительный и не годится для работы настоящему художнику. Впрочем, если бы я решила заказать мой портрет, я хотела бы, чтобы работа над ним началась с завтрашнего дня, и месье Амьен забывает, что завтра он обещал этой бедной во всех смыслах девушке отвести её на кладбище, где похоронили её сестрицу. Это обещание свято, и боже упаси, чтобы я помешала его исполнить.
Это было уже чересчур, и Амьен, оскорблённый, ответил ей той же монетой.
—
У меня должно просто отсутствовать сердце, чтобы проявлять невнимательность в этом деле, — сказал он, смотря прямо в лицо мадемуазель Дюбуа. — Но оно у меня есть, и я всегда буду на стороне слабых.
—
Это очень щедро с вашей стороны, — саркастически произнесла высокомерная Аврора. — Но иногда великодушие стоит достаточно дорого.
—
Я не считаюсь с расходами, — резко ответил художник.
—
Аврора, ты зашла чересчур далеко, — воскликнул месье Дюбуа. — Месье Амьен свободен располагать своим временем, как он ему заблагорассудится и, чтобы вас примирить, я предлагаю, чтобы …
Эта попытка примирения была прервана громким стуком в дверь. Верро, с тех пор как началась эта битва слов, довольствовался тем, что оценивал про себя выпады сторон, не вмешиваясь. В сущности, он был на стороне мадемуазель Дюбуа, на которую он посматривал в качестве знатока и которую находил великолепной в её образе разгневанной львицы.
Верро даже предполагал чуть позже прочитать мораль Амьену, который, по его мнению ошибался, отказываясь от столь красивой персоны и такого зажиточного буржуа ради красивых глаз маленькой натурщицы.
Но он с жадностью воспользовался случаем пресечь в корне этот спор, поспешив открыть входную дверь, не дожидаясь даже разрешения своего друга.
За этой самой дверью стоял идеально выбритый господин, одетый во все чёрное и с белым галстуком.
Верро, голова которого была забита воспоминаниями о преступлении в омнибусе, принял посетителя за комиссара полиции, и, приветствуя его поклоном до земли, начал речь, в которой сразу затронул вопрос судебного следствия.
—
Прошу прощения, месье, — прервал его вновь прибывший господин, — я приехал из провинции, чтобы увидеть месье Дюбуа. Мне сказали у него дома, что он в гостях у Поля Амьена, художника, на пляс Пигаль, и я позволил себе…
—
Я здесь, — закричал месье Дюбуа, устремляясь к двери.
—
Месье, — продолжил посетитель, — я имею честь приветствовать вас. Я — мэтр Дрюжон, нотариус, и я прибыл из Амели-ле-Бэн, чтобы вам принести …
—
Завещание моего брата… я знаю, знаю, Я дал распоряжение слугам, чтобы они мне сообщили о вашем приходе, и я вас благодарю за то, что вы потрудились сами лично прийти сюда… Дорогой Амьен, прошу меня извинить. Я ожидал этого господина с нетерпением, чтобы урегулировать одно семейное дело, и спешу побеседовать с ним, а посему обязан попрощаться с вами.
—
Это совершенно естественно, — произнёс художник, склоняя голову.
—
Но мы скоро вновь увидимся, и я надеюсь, что все устроится и к вашему и нашему удовольствию. Этот первый визит не в счёт. Пошли, Аврора, — добавил месье Дюбуа, немного потерявший голову в этой суматохе.
Аврора же, не ожидая приглашения отца, уже направилась к двери. Она вышла, даже не посмотрев в сторону Амьена, но при этом удостоив Верро улыбкой, которая мгновенно привела его в чрезвычайно гордое состояние.
Нотариус был уже на лестнице. Он издалека приехал в Париж конечно же не для того, чтобы смотреть на картины, и это при том, что художники его и без того совершенно не интересовали.
Амьен церемонно провел отца и дочь до первой ступени лестницы, бросив уничтожающий взгляд на Верро, который, казалось, хотел их сопроводить намного дальше, и возвратился вместе с ним в мастерскую.
—
Итак, мэтр Дрюжон, — начал месье Дюбуа, и взял за руку нотариуса спускаясь рядом с ним по лестнице, — мы с вами идём ко мне, чтобы вы мне показали завещание целиком, так как ваши телеграммы, которые вы отправили в мой адрес, дали мне о нем только общее и отнюдь не полное впечатление. Но все равно, вы можете похвалиться тем, что нагнали на меня страху. Знаете ли Вы, что это совсем не весело терять право наследования такого огромного состояния, которое мне должно было достаться по закону?
—
Кому говорите вы об этом, месье? — вздохнул нотариус. — Я сделал все, что мог, чтобы предотвратить удар, настигший вас, и я прошу вас полагать, что если бы это зависело от меня, вы не были бы лишены наследства… этого гигантского для моей практики состояния.
—
Да, да… я это знаю… и я вам хочу сказать, что то, в чем вы не имели успеха, за вас сделало Провидение.
—
Как это?
—
Вы мне телеграфировали плохую новость. А я вас хочу познакомить с хорошей. Завещание моего брата не стоит ничего.
—
Прошу прощения, месье, но я его видел своими глазами, и к несчастью, могу вас уверить… оно, напротив, составлено по всем правилам и совершенно законно. На нем есть дата, оно подписано и даже собственноручно написано рукой завещателя, который к тому же принял особые меры предосторожности, чтобы никто не мог оспорить его последнюю волю, и пригласив нескольких почтенных горожан, сам зачитал им его, заявив, что это было действительно выражение его последнего желания… так что к этому завещанию невозможно придраться, его невозможно оспорить в судебном порядке, и было бы ошибочно и самонадеянно надеяться, что …
—
В нем что то отсутствует… И я это знаю! Но оно недействительно, между тем, — возразил месье Дюбуа, акцентируя голосом внимание на юридическом термине, который господин Бланшелен ему преподал этим утром.
—
Оно недействительно! — повторил за ним эхом озадаченный нотариус. — Знаете ли Вы точное значение этого слова?
—
Черт возьми! Это означает, что названная в нем Бьянка Романо, единственная наследница, умерев за день до моего брата, не могла наследовать его состояние.
—
Имеете ли Вы доказательство этой кончины?
—
У меня оно будет завтра. Таким образом вы видите, что все сложилось, в результате, весьма неплохо для меня.
Нотариус качал головой и не казался служителем закона, убеждённым сказанным месье Дюбуа.
—
Вы больше не будете сомневаться в этом, когда я покажу вам копию похоронного акта.
—
Этого недостаточно, — грустно сказал мэтр Дрюжон, — поскольку Бьянка Романо не была единственной наследницей. Месье Франсуа Буае своим завещанием оставил все своё состояние двум своим дочерям, Бьянке и Пие. Если одна умерла, то тогда другая получит все совокупное наследство, если она, конечно, тоже не умерла раньше вашего брата.
—
Ах! мой Бог! — воскликнул месье Дюбуа, — все потеряно… потому что она жива, эта Пия… я видел только что эту мерзавку!
Аврора шла следом за отцом, и все слышала.
—
Я теряю намного больше, — прошептала она. — Так пусть она тоже умрёт, это гнусное создание, которое забрало у меня человека, которого я люблю, и состояние, которое мне принадлежало!
Часть VII
В Париже бедные люди живут главным образом в отдалённых кварталах, в кварталах, которые до сноса городской стены находились вне границ взимания городских налогов, и где, следовательно, проживание было менее дорого.
И когда эти бедные люди оставляют этот мир, их преимущественно хоронят на кладбищах, расположенных за городской стеной.
Большие кладбища, расположенные во внутренней части города, предназначены исключительно для привилегированных слоёв общества, у которых есть средства приобретать место на кладбище в бессрочное, так сказать, пользование.
На них также сохранялся угол, отделённый от остальных захоронений, для братской могилы, та же необходимая дань жизни, как и необходимость терпеть бедняков, снующих изредка на больших бульварах. Но средний класс мёртвых, тот, у кого не хватало денег на постоянную концессию, не допущен больше на эти места упокоения.
Они низведены до мест на двух пригородных кладбищах Сент-Уэн и Иври.
Земля же в деревнях в провинции для вечного отдыха принадлежит всем. Батрак с фермы там спит в той же самой земле, что и его сеньор из замка. Социальные различия в тех местах заканчиваются в могиле.
А в Париже только богатые имеют право оставлять свои кости в Парижской земле на вечные времена, братские же могилы для бедняков быстро наполняются новыми костями скончавшихся следующей ночью горемык.
Народ протестовал против такого порядка всеми возможными ему средствами, крестя странными именами эти дальние загоны кладбищ, отведённые для бедняков.
Они называли Кайеной4 кладбище Сент-Уэн, а Иври прозвали Полем Репы5.
Иври-зловещее место. Там по традиции хоронили гильотинированных преступников, неопознанные трупы из морга и скончавшихся в больницах бедняков. Сент-Уэн не имеет такой дурной славы, а известен всего лишь как грустное и печальное место, как тому и положено.
У кладбищ Пер-Лашез, Монмартра и Монпарнаса есть характерные черты. У кипарисов, обрамляющих их, было время, чтобы вырасти, надгробные памятники не походят на новостройки, мох пробивается сквозь щели мраморных плит, которым уже несколько столетий. Надгробия поколений, живших до нас. Воспоминания буквально висят в воздухе.
В Сент-Уэн все датируется, образно говоря, буквально вчерашним днём… у Сент-Уэн нет истории. Это — молодое кладбище, банальное и лишённое любой величественности.
На печальной равнине на севере Парижа просто выбрали большой участок, обнесли его стенами, и отправили туда могильщиков. Никаких деревьев, чтобы этот участок хоть как-нибудь отличался от соседних земель. Также сухо и голо, а потому и не тихо и молчаливо.
Там повсюду доносятся свистки локомотивов, гудки трамваев, и даже музыка оркестров, потому что за шлагбаумом кладбища вдоль дороги, которая ведёт к нему, с обеих сторон выстроились ряды кабачков и танцевальные залы на открытом воздухе.
По этой пыльной дороге, на следующий день после визита, который месье Дюбуа и его дочь нанесли в мастерскую художника, катился около полудня фиакр, в салоне которого сидели Поль Амьен и Пия Романо.
Верро, сидевший снаружи, беседовал с кучером. Амьен предпочёл бы избавиться от компании этого горе-художника, небрежно одетого и несдержанного на язык, что было невыносимо в такой момент, но Верро присутствовал на похоронах Бьянки, и без него Амьен не смог бы найти место, где упокоилась жертва преступления в омнибусе.
Можно было, конечно, навести эту справку у смотрителя кладбища, но Поль посчитал, что проще заставить Верро отвести их к могиле. Впрочем, Верро поклялся держаться надлежащим образом, соблюсти приличия, уважать боль Пии, и ни в коем случае не огорчать её рассказом о том, как Бьянка была убита.
После внезапного ухода прекрасной Авроры, между двумя художниками состоялся оживлённый, можно даже сказать, бурный разговор. Амьен упрекнул Верро за то, что тот грубо сообщил Пие о смерти её сестры, Верро в ответ насмехался над деликатностью Амьена и предпочтением, которое он оказывал маленькой натурщице, которая, по его мнению, была не достойна даже служить горничной у блистательной и богатой мадемуазель Дюбуа.
Верро заявлял, что надо было быть безумным, чтобы пренебрегать этой моделью Рубенса и сжигать свои корабли, что Амьен и сделал, приняв сторону бедной итальянки.
После чего Амьен рассвирепел и, багровый от гнева заявил, чтобы Верро не вмешивался больше в его дела и никогда не разговаривал с ним об убийстве, реальном или предполагаемом, Бьянки Романо.
Верро не нашел ничего лучшего, чем промолчать, тем более, что он клятвенно обещал Фурнье хранить тайну о его прошлых и будущих операциях.
Потому Верро любезно принял условия, которые ему навязывал его друг, и ссора кончилась тем, что они обо всем договорились.
Было решено, что на следующий день они все вместе отправятся в Сент-Уэн, и что после визита к могиле, Верро оставит Амьена наедине с Пией.
Несчастный ребёнок ужасно изменился с тех пор, Пия непрерывно плакала, и никакие усилия её друга Поля не могли осушить её слез.
Поль с раннего утра пошёл искать Пию на улицу де Фоссе-Сен-Бернар, у отца Лоренцо, и она чуть снова не упала в обморок при виде Поля, появившегося на пороге комнатушки, которую она занимала на последнем этаже дома.
Впервые в жизни нога Амьена вступила на пол этой комнатки, скромная меблировка которой была куплена на деньги, которые Пия заработала, позируя у него, и в другое время, ещё накануне, его присутствие здесь принесло бы ей радость.
Но Пия была уже не та беззаботная девушка с тех пор, как узнала ужасную новость, принесённую в студию Амьена его другом Верро. Она побледнела, увидев Поля, и зашаталась, но художник успел подхватить Пию в свои руки, и она молча и неподвижно осталась в них.
Было видно, что девушка поражена в самое сердце.
Её друг Поль тихо сказал, что пришел, чтобы попросить разрешения сопроводить её на кладбище, куда он собирался отнести цветы на могилу Бьянки, но при этом Поль воздержался от того, чтобы сделать хоть малейший намёк на визит месье Дюбуа и на странное отношение к себе его дочери, которая вела себя в его мастерской так, как будто она была в завоёванной ею стране.
Амьен также думал, что должен воздержаться от описания Пие сцены, которая произошла в омнибусе и его роли в ней. Зачем оживлять этим печальным рассказом боль бедной девушки? И что было ещё важно, чтобы Пия не решила отомстить за смерть своей сестры? Амьен, впрочем, сомневался, что эта смерть была результатом преступления, и предпочитал думать противоположное.
Пия оправилась от своего полуобморочного состояния довольно быстро, но, к большой неожиданности художника, она вначале колебалась, стоит ли ей последовать за ним. Чтобы Пия решилась, потребовалось, напомнить ей, что без него она никогда не сможет отыскать могилу сестры.
Поездка проходила в гробовом молчании до того момента, когда фиакр остановился на пляс Пигаль, на пороге дома Амьена, и в двух шагах от места, где несколько дней тому назад Поль заметил, что девушка, которая опиралась на его плечо, была мертва.
Но там, когда Амьен выходил из кареты, чтобы позвать Верро, который, ожидая его приезда, попивал пиво в ближайшем кафе, Пия прошептала:
—
Нет, нет, я не пойду.
Художник догадался, что она сама себе поклялась больше не входить в его мастерскую, куда мадемуазель Дюбуа могла возвратиться в любой момент, и это открытие навело Поля на определённые размышления.
Верро появился неожиданно, но он не стал нарушать их уединение и охотно уселся в фиакре вместе с кучером, так что Амьен остался с глазу на глаз со своей протеже, которая продолжала молчать.
Они прибыли на место, к кладбищу, не обменявшись ни словом, и остановились возле узенькой дорожки, которая вела к кладбищенским воротам.
Верро спрыгнул на землю и открыл им дверь. Пия уклонилась от руки, которую он ей предложил, чтобы помочь спуститься на землю, и Поль не был слишком удивлён отвращением, которое она выказывала, отказываясь принимать услуги этого бездельника, который буквально накануне не сводил глаз с прекрасной Авроры.
Вокруг них сновали люди-стервятники различных профессий, кормящихся на смерти: мраморных дел мастера, предлагающие погребальные урны и ремонт разрушенных колонн на могилах, садовники, продающие цветочные горшки, украшающие их, дипломированные гиды, предлагающие иностранцам провести экскурсию по красотам кладбища, не считая кучеров катафалков, в ожидании очередной жертвы охлаждавшие вином свои разгорячённые тела в кабачке на углу пред кладбищенской площади.
Появление Пии вызвало ропот недовольства в этом специфическом мире. Бедный ребёнок не одел траур. Никто даже не хотел предположить иное… что ей попросту негде его взять, что у нее не было другой одежды. Все были уверены, что иностранцам следовало придерживаться общепринятых французских правил, и было необходимо одеться на французский манер, во все, что угодно, кроме тех итальянских платьев, которые она привезла с собой со своей родины.
На Пие был белый чепчик и красное платье с белым передником, которые в Субиако носят абсолютно все женщины. Именно такой костюм частенько встречается на улицах квартала Мучеников в Париже, но очень редко на пороге кладбищ.
Девушки из Абруццо умирают, однако, точно также, как простые парижанки, и в толпе решили, наконец, что они ждут на пороге кладбища Сент-Уэн процессию, сопровождающую в последний путь одного из своих соотечественников, но присутствие Амьена нарушало это благостное предположение, и буквально взрывало простой и чистый французский ум. Элегантность костюма Поля не позволяла заподозрить его в том, что он был родственником малышки в алых нижних юбках, а между тем, Поль вышел из кареты вместе с нею.
Справедливости ради стоит сказать, что Верро со своей блузой и несуразной шляпой вообще приводил в замешательство местных аборигенов, у которых мозги стали закипать от вида этой разностильной группы. Амьен заметил, что на них смотрели немного пристальней, чем ему того хотелось бы, и потому он поторопился совершить необходимые покупки.
При виде предлагаемого для ублажения покойников товара Амьен чуть не впал в ступор. Сделать правильный выбор среди этого, как считали во всем остальном мире, французского шарма, было нелегко. Гуляющий по рынку ветер разметал по лоткам полный набор безвкусных объектов, включающих в себя венки из бессмертников, украшенных фальшивыми жемчужинами, стеклянные рамки, скрывающие искусственные букеты, несуразные крестики аляповатой раскраски.
Подобное убожество оскорбляло вкус Амьена, и он обратился к садовнику, который продал ему четыре горшка свежих цветов, чтобы тот предоставил ему мальчика-носильщика, который мог донести их до могилы Бьянки Романо.
Но Пия осталась сзади, чтобы поторговаться о цене на маленький крест из черных жемчужин, который она оплатила из собственных денег. Верро ничего не покупал, и поэтому опередил их. Он был уже на кладбище, и Амьен был немало удивлён, увидев, что он звал голосом и жестами женщину, которая шла перед ним, женщину, одетую в совсем старый тартан, голова которой была увенчана экстравагантной шляпой, бывшей в моде последний раз лет пятьдесят тому назад.
«Он что, собирается нас отвести к ней после кладбища? — спросил себя Амьен. — Что эта старая колдунья, выряженная, как осел, которого показывают на воскресной ярмарке, делает здесь? И что за фарс здесь устроил Верро, знакомясь со старухой на кладбище! В действительности, эта скотина не соблюдает никаких договорённостей, и я ошибся, приведя его сюда. Хотя, я вряд ли обошёлся бы без него. Ладно, посмотрим! Он уже тащит её ко мне. Верро безумен, честное слово!»
Верро действительно шёл в его сторону, под руку со старухой, и он её скорее волочил за собой, чем они шли вместе, так как колдунья не казалась настроенной следовать за ним.
Пия, между тем, уже шла с рынка, чтобы присоединиться к Амьену, но остановилась, как только увидела, что Верро возвращается назад в сопровождении этой странной компаньонки.
—
Верро способен обратить в бегство это бедное дитя, — сказал сквозь зубы Амьен. — Мне нужно прекратить эту неуместную шутку.
И он пошёл прямо к Верро, который ему в это время кричал:
—
Я хочу тебе представить мадам Софи Корню, которая меня удостоила своей дружбой и которая оплатила из своего кармана место, в котором обрела покой Бьянка Романо. И продолжил, обращаясь уже к старухе, — Мадам Корню, а вам я представляю моего друга Поля Амьена, первоклассного художника, отмеченного на многих выставках и три раза награждённого медалью.
Старуха смотрела во все глаза на Амьена, переваривая представление, которое устроил этот чёрт Верро.
—
В добрый час! — проворчала она, — вот, наконец-то, я вижу то, что называю художником. Это ведь у вас мастерская в том большом доме на Пляс Пигаль, где живёт много художников. Я вас знаю. Я знаю обо всем и обо всех в квартале. Правда ли это, что вы вдруг оказались другом этого бездельника Верро?
Амьен покраснел от гнева, и ещё немного, и он повернулся бы спиной к Софи Корню. Но она ему не оставила времени на ответ.
—
Хорошо! — продолжила хозяйка доходного дома, — молчание-это знак согласия. Я у вас спросила об этом только потому, что вы мне показались господином… которому Верро чистит палитру после сеанса. А малышка там… это — натурщица, не так ли?
—
Как! Почтенная мадам Корню, — сказал Верро, недавно названный подмастерьем Поля, — вы не догадываетесь, кто это? Посмотрите внимательнее на неё и поищите сходство.
Хозяйка квартир принялась рассматривать Пию, которая застыла, не осмеливаясь сделать ни одного шага, и воскликнула:
—
Ты прав, мой мальчик. Это — живой портрет моей умершей квартирантки. Почему ты мне сразу же не сказал, что это её сестра? Ведь ты мне достаточно много рассказывал о ней вчера на похоронах Бьянки. Представь меня ей, чтобы я могла, по крайней мере, обнять малышку.
У Корню был ясный голос, и Пия должна была услышать и разобрать все, о чем она говорила, поэтому Амьен вмешался, чтобы остановить словесные излияния старухи.
—
Мадам, — строго сказал он ей, — это дитя обременено печалью, и я вас прошу соизмерять сказанное вами с её состоянием. Я знаю, что вы проявили милосердие, организовав похороны её сестры, понесли расходы, но вы должны понимать, что сделаете её скорбь невыносимой, напоминая подробности этого печального события.
—
Я не собираюсь причинить ей боль… и доказательством тому будет то, что я буду нема как рыба… пока мы будем на кладбище… но потом мне будет необходимо побеседовать с девушкой, потому что ей необходимо прийти ко мне, чтобы я ей передала сундук её сестры. Но мучить её, терзать разговорами, ах! Вам нечего этого бояться. Вы меня не знаете, но могли бы спросить у Верро, жестокосердна ли я. И ещё! Знаете ли Вы, почему я сюда пришла этим утром? Чтобы поговорить с резчиком мрамора, и заказать красивый камень, который будет установлен на могилу…
—
Это как раз то, что сильно заботит и меня, — громко сказал Амьен.
—
Ах! Но нет. Не стоит того. Но… если вы хотите, мы разделим расходы пополам. И если я уже здесь, не мешайте мне посмотреть, принёс ли садовник цветы, которые я ему заказала вчера. О! Будьте спокойны, я вас не затрудню, пойду с Верро, который мне, конечно же, предложит свою руку, а Вы с малышкой последуете
за нами.
Если у Амьена и были возражения, то предложенное урегулирование проблемы одновременно освобождало его и от старухи, и от Верро. Он позволил им уйти вперёд, и вернулся к неподвижно стоящей Пие.
Поль нашел её в слезах, и у него не хватило мужества объяснить ей происходящее. Они вместе последовали по аллее, на которую свернули Софи Корню и Верро. Носильщик, несущий цветочные горшки, которые Амьен купил только что, двигался арьергарде этой странной с виду, если смотреть со стороны, группы.
Пия вытерла свои слезы и шла твёрдым шагом, не произнося ни слова и не поднимая глаз.
Пройдя круглую площадь, которая оказалась недалеко от входа на кладбище, они вышли следом за Верро и старухой на дорогу, которую окаймляли с одной стороны три ряда могил скромной внешности, а с другой просторное поле, в середине которого была видна длинная траншея, которая была вырыта только что… или совсем недавно.
Эта траншея была той самой братской могилой, в которую только чудом не угодила Бьянка Романо.
Возле неё был целый лес черных деревянных крестов… убогих крестов, жавшихся друг к другу точно также, как и лачуги их обитателей при жизни в большом городе, где не хватает площади под застройку… кресты над могилами бедняков, искривлённые кресты, согнутые, почти искорёженные ветрами.
Издалека было видно, как женщины бродили в этом лабиринте смерти в поисках места, где отдыхал их любимый мертвец, как они опускали голову, пытаясь прочитать имена на крестах, наполовину стёртые дождём, и падали со слезами на влажную землю, обнаружив цель поиска.
Полю Амьену это напомнило о том, что без этой старой женщины, которую он столь неприветливо встретил, тело Бьянки было бы брошено в этот общий котлован, который служит местом погребения для неопознанных покойников. Он сказал себе, что если Пия имеет возможность прийти помолиться на отдельную могилу, то этому она обязана Софи Корню, и хозяйка квартир с улицы Аббатисс казалась ему уже более симпатичной и не такой смешной на вид.
Присмотревшись к ней внимательней, Поль нашел её лицо даже внушающим доверие.
«Она права, — думал он, — Пия не может уклониться от встречи с ней, ей необходимо пойти забрать сундук и документы своей сестры Бьянки Романо, так как важно, чтобы этот ребёнок в конце концов убедился, что мёртвая девушка была действительно её сестрой. Крайне важно, чтобы я убедил Пию совершить некоторые совершенно необходимые действия, хотя, как мне кажется, она отнюдь не расположена меня слушаться. Я скоро поверю, что Пия испытывает ко мне отвращение. Она не открывала рта с тех самых пор, как мы отъехали от дома отца Лоренцо, а только и делала, что плакала.
Возможно, что это присутствие Верро её так огорчает. Лишь бы только он не отпускал дурацких фраз даже малейшим намёком на трагический конец Бьянки! Ведь он так болтлив!
К счастью, мне он больше не понадобится после того, как приведёт нас к месту, где похоронена Бьянка… и я сразу же попрошу его уйти. Я мог бы отослать его даже сейчас, потому как Софи Корню знает, где могила, но Верро стал бы требовать у меня объяснения, почему… и я не хочу препираться с ним, пока мы будем на кладбище.»
Но Верро, впрочем, ушёл от него уже очень далеко. Он шёл столь быстро, что старуха с трудом поспевала за ним, и при этом он, без сомнения, одновременно держал интересные речи, так как не прекращал на ходу жестикулировать с чрезвычайным оживлением.
«О чем, черт возьми, он может говорить со старухой? — спрашивал себя Амьен. — С него станется рассказывать ей сейчас о драме в омнибусе. И я способен представить результаты его болтливости. Корню ещё сегодня пойдёт торговать вразнос этой историей по всему кварталу, и вскоре эти слухи дойдут до ушей комиссара, который тут же начнёт расследование. Вмешательство юстиции в это дело, вполне вероятно, приведёт к тому, что устроят эксгумацию тела этой несчастной Бьянки. Пия умрёт с горя от этого действа.
И Бог знает, для чего потребовалась бы эта отвратительная церемония! Держу пари теперь, что это было никакое не преступление, и ни мужчина из империала на крыше омнибуса, ни женщина из внутреннего салона не должны упрекать себя в смерти девушки. Да, они были вместе в театре на спектакле, хотя в тот день в омнибусе не казалось, что они знакомы друг с другом. Но что это доказывает? Они вполне могли познакомиться на улице, выйдя из омнибуса. Впрочем, я могу узнать имя мужчины и его адрес в любое время, когда только захочу. Мне достаточно попросить эти сведения у месье Дюбуа.
Что касается булавки, Верро придумал, что она была отравлена. Но Улисс мог просто умереть от спазматического приступа. Это — болезнь всех кошек.»
Давая, таким образом, волю своему воображению, Амьен продолжал брести рядом с Пией, более молчаливой, чем когда-либо, и пытался не слишком далеко отстать от Верро, шедшего впереди, как разведчик, в сопровождении Софи.
Вскоре авангард повернул направо, и Амьен оказался в боковой аллее, которую окаймлял ряд чахлых кипарисов.
Эта аллея должна была привести к могиле Бьянки, так как в конце её уже был виден участок со свежими захоронениями.
Расположенные вдоль аллеи могилы не походили на места, предоставляемые под погребения неимущим слоям населения. Но это и не был тот квартал кладбища, который предоставляется в вечное пользование богатым покойникам. Тут на могилах уже не было дерева, сплошь каменные памятники с вкраплениями мраморных элементов, ведь эти могилы заполнили жильцы не на пять лет, как ямы с деревянными крестами, а уже на несколько десятков лет.
Сделав сотню шагов по этой узкой дороге, Верро и старуха остановились и тут же исчезли за кипарисом, который был немного выше, чем другие.
—
Она там, — сказал Амьен, смотря украдкой на Пию, которая была ужасно бледна. — Наберись мужества, моя девочка! Обопрись на мою руку, и если хочешь, мы можем остаться здесь… если ты не чувствуешь в себе сил идти дальше.
—
Спасибо, — прошептала итальянка, — дальше я пойду… сама.
В этот момент Верро вновь появился на краю аллеи и сделал им знак идти. Они были только в нескольких шагах от Верро, и Пия пошла к нему, а Амьен следом, что позволило ему услышать хриплый голос Софи Корню, которая говорила в это время:
—
Как! Это — вы, госпожа Бланшелен! Лучше бы мой дом сгорел, чем я встретилась с вами здесь!
—
С кем эта старая сумасшедшая чертовка здесь разговаривает? — спрашивал себя Амьен.
Крона кипариса мешала Полю увидеть персону, к которой обращалась госпожа Корню, а имя Бланшелен было совершенно неизвестно. Но он был в ярости от того, что оставил Верро с болтуньей, которая приставала к женщине в двух шагах от могилы Бьянки, и Амьен поклялся себе уйти не попрощавшись, и чем раньше, тем лучше, с хозяйкой квартир на улице Аббатисс.
Он продолжил, между тем, двигаться вперёд, и Верро, который встал, как часовой, на краю аллеи, указал ему пальцем на один холмик, со свежей землёй вперемежку со щебнем наверху, который уже окружили деревянной балюстрадой, несомненно оплаченной щедрой рукой Софи. В двух шагах дальше зияла свежевыкопанная яма, затем ещё одна… целый десяток ям, готовых в любую минуту встретить вновь упокоившихся парижан.
Это было ужасное зрелище, и Амьен старался изо всех сил скрыть от Пии этот гадкий спектакль.
Бедная малышка была очень бледна, но у неё хватило сил выдвинуться вперёд до ограды могилы сестры, встать на колени и воткнуть в землю маленький крест, который она купила на пороге кладбища.
Затем Пия принялась молиться, прислонив лоб к балюстраде могилы.
Амьен, дабы не нарушать её молитву, тихо отступил назад и возвратился на аллею, где он оставил мальчика, ответственного за четыре цветочных горшка.
—
Помоги мне их нести, — сказал он Верро, потянув его за рукав блузы. — Я не хочу, чтобы этот носильщик прервал молитву Пии.
—
Да ладно! Я их отнесу сам, по одному, — ответил художник-недоучка. — Но нашу прекрасную Софи обворовали. Садовник, которому она вчера заплатила за цветы на могилу, даже не побеспокоился исполнением заказа.
—
Она невыносима, эта твоя Софи. Неужели она ходит на кладбище для того, чтобы болтать здесь, как в овощной лавке? И кто эта женщина, которая разговаривает с нею?
—
Боже мой! Откуда я знаю. Все, что я могу тебе сказать … она одета, как принцесса. У Корню прекрасные знакомые. Эй! Носильщик! Давай, иди сюда, я тебя избавлю от твоих горшков.
В то время, как Верро брал в руки цветочные горшки, Амьен, который чуть отошёл в сторону, чтобы его пропустить, оказался возле кипариса, за которым стояли и разговаривали друг с другом две женщины, и ясно услышал эти слова, сказанные спокойным голосом:
—
Значит это правда… то, о чем мне сказали, моя дорогая мадемуазель Корню… что один из ваших арендаторов был доставлен в Морг? Вы вспоминаете, что в последний раз, когда вы пришли на сеанс консультироваться со мной, я вам сообщила об одном несчастном случае. Мне бы не хотелось, чтобы с вами произошло тоже самое. Я беспокоилась, и пошла к вам. Там, мне сказали, что вы уехали в Сент-Уэн, и у меня было такое желания вас увидеть, что я взяла фиакр, чтобы вас догнать. И прибыла сюда первая.
—
Черт возьми! — воскликнула Корню, — я приехала на омнибусе. Но вы, получается, знали, где была похоронена малышка?
—
Мне сказали её имя. Я зашла к смотрителю кладбища, и он указал мне место захоронения девушки. Но я вижу, что вы здесь не одна.
—
Нет, я встретила у ворот кладбища одного индивида, ранее мне знакомого… тщедушное существо с козлиной бородкой… того самого, который позавчера меня предупредил, что малышка лежит в Морге.
—
А эта девушка, которая молится на могиле, с ним?
—
Да… и с другим художником… Куда он делся?
—
Художник? Тогда, наверное, этот ребёнок, одетый в какой-то сугубо итальянский наряд, модель, без сомнения?
—
Да, госпожа Бланшелен, и она, к тому, же-сестра покойницы.
—
Её сестра! Это не возможно! — воскликнула дама.
—
Но это так. Её фамилия Романо, как и у той, умершей, и она на неё походит, как две капли воды.
—
Это странно!
Амьен не пропустил ни слова из этого диалога, который, между тем, никак не помог ему хоть что-нибудь узнать о подруге Софи Корню. Он удивился, что незнакомка принимала такое участие в судьбе умершей Бьянки Романо, и ему захотелось увидеть, как она выглядит. Поль тихо вернулся на аллею, и прокрался между двумя кипарисами, таким образом, чтобы поместиться на одну линию с двумя женщинами, но в нескольких шагах от них.
Пия продолжала молиться, а Верро нагрузил себя заботой об установке цветочных горшков в промежутках между балясинами балюстрады.
Слева Амьен вначале заметил тартан Корню, которая была обращена к нему спиной, а затем изящно и элегантно одетую персону, которая стояла напротив неё, и ему показалось, на первый взгляд, что лицо этой женщины ему было незнакомо.
Она также заметила Поля и смотрела на него во все свои глаза, и он догадался по движениям её губ, что она шёпотом спрашивала его имя у мадемуазель Софи.
Внезапно, воспоминание осветило его разум.
—
Именно эту женщину я видел в театре Порт-Сен-Мартен в вечер представления Рыцарей тумана, — прошептал Поль.
Встреча эта была больше чем странной, и она ввела Амьена в бесконечное недоумение.
На протяжении уже нескольких дней Амьен больше не верил в то, что в омнибусе было совершено преступление, а сейчас несколько мгновений разрушили эту его благостную картину мира, и он понял вдруг, что у него больше нет веских причин доказывать самому себе, что идеи Верро были абсолютно химерическими, и что Бьянка Романо умерла естественной смертью.
И все подозрения, которые несколько дней тому назад бороздили его голову, вернулись в свои закрома.
Почему эта женщина оказалась около могилы Бьянки? Объяснения, которые она дала Софи Корню, казались лишь поводом, чтобы оправдать её присутствие здесь, на кладбище. И почему она воскликнула: «Это не возможно!», когда хозяйка квартиры ей заявила, что девушка, молившаяся у могилы, была сестрой покойной?
Эти мысли промелькнули в голове Амьена в одно мгновение, и в то же время он понимал, что у него нет времени на размышления, и нужно немедленно принимать решение.
Подойти к этой женщине и расспросить её? По какому праву? У него не было никаких доказательств её вины, и она не была обязана ему отвечать. И затем, сцена с разбирательством в двух шагах от Пии, которая непременно всё услышала бы и увидела! Этого могло бы хватить, чтобы убить бедного ребёнка, чувствительность которого была и без того чрезмерно возбуждена.
Не лучше ли было скрыть свои впечатления от этой неожиданной встречи и наблюдать с безразличным лицом за поведением, с которым при этой неожиданной встрече собиралась держаться дама, которую у него было столько мотивов подозревать в совершении преступления?
«Корню, которая связана с ней, я всегда смогу найти через Верро, а у неё узнать, где живёт эта таинственная дама и чем она занимается, — думал Поль. — и мне даже не потребуется все делать самому. Верро возьмёт на себя очень охотно эту функцию.»
Эта продуманная аргументация заставила Поля принять решение воздержаться от разговора с этой незнакомой и таинственной дамой. Он довольствовался тем, что маневрировал таким образом, дабы лишь немного приблизиться к обеим женщинам, которые продолжали беседовать и, как бы тихо они ни говорили, он смог ухватить фразу, произнесённую незнакомкой:
—
Так как вы не одна, а в компании, моя дорогая. Я вас оставлю, в таком случае, но мы, надеюсь, снова увидимся сегодня днём.
—
Я обязательно приду к вам, — воскликнула хозяйка доходного дома. — Мне нужно многое вам рассказать, и кроме того, вы уже давно меня не консультировали.
—
Я к вашим услугам, моя дорогая Софи. Только приходите одна.
И, склоняясь в уху Софи, дама добавила другую рекомендацию, которую Амьен не расслышал, но о смысле которой он догадался.
—
Она запрещает ей давать мне свой адрес, — подумал Поль.
После чего, обе подруги пожали друг другу по-английски руки, и таинственная персона ушла, не удостоившись заметить, что при этой сцене присутствовали двое мужчин, которые её рассматривали.
Поскольку Верро бросил наконец пристраивать горшки своего друга на могиле итальянки и также заинтересовался женщиной, которая, казалось, прибыла к захоронению раньше них, но вдруг оказалась беседующей с мадам Корню, то он пообещал себе расспросить её о незнакомке.
В это время Пия закончила свою молитву и поднялась с земли вся в слезах. Она застыла на несколько мгновений, облокотившись на балюстраду и уставившись глазами на землю, которая покрывала тело её умершей сестры, а затем повернулась к Амьену.
Пия не плакала больше, и её бледное лицо приняло такое выражение, которого её друг не видел на нем никогда.
—
Спасибо, — сказала она ему твёрдым тоном, — спасибо и прощайте!
—
Как это, прощай! — воскликнул Амьен. — Я надеюсь, что ты не собираешься уйти без меня. Фиакр, который нас привёз, отвезёт тебя и меня назад на пляс Пигаль, ты позавтракаешь в мастерской, и потом мы возобновим сеанс, прерванный вчера.
—
Нет, я больше никогда в моей жизни позировать не буду. Никому.
Амьен собирался прикрикнуть на неё, но вовремя вспомнил, что могила Бьянки была перед ними, и это не лучшее место и момент для беседы с одной юной экзальтированной персоной, которая, без сомнения, быстро изменит своё мнение.
—
Хорошо, — сказал Поль, — я тебе даю выходной сегодня. Ты очень расстроена, и будет вполне справедливо, что ты немного отдохнёшь. Я подожду, пока твоя боль утихнет, но все-таки, я надеюсь, что ты мне позволишь тебе отвезти на улицу Фос-Сент-Бернар.
—
Через улицу Аббатисс, — добавила Корню, которая исподтишка приблизилась к ним. — Ведь действительно нужно, моя девочка, чтобы ты зашла ко мне и забрала вещи и документы своей сестры. Я не хочу их хранить у себя.
—
Это бесполезно, мадам, — прошептал девушка без эмоций. — Я не претендую ни на что из того, что принадлежало ей.
—
Ты можешь и не претендовать ни на что, но я, тем не менее, всё равно все тебе отдам. Я теперь знаю, где ты живёшь, и отошлю тебе сундучок твоей сестры. И, между тем, уже четверть часа меня ничто здесь не задерживает, и мне осталось найти лишь дорогу в Сент-Уэн, чтобы вытрясти свои деньги из этого негодяя садовника, который получив с меня мои франки, не прислал на могилу даже горшка левкоев. Так что, я побежала.
—
Со мной, мадам, — воскликнул Верро. — Я последую за вами по пятам.
Он предложил старухе свою руку, и она её приняла, бормоча слова, которые не были, разумеется, комплиментами. Пия бросила последний взгляд на могилу, на которую Верро поставил горшки с цветами, купленными его другом, и направилась на аллею.
—
Сейчас я с ней откровенно поговорю, — подумал Амьен, пристраиваясь около нее.
Пия шла, опустив глаза и продолжала молчать. Амьен решил пойти на крайние меры, чтобы заставить её заговорить, и дождавшись, когда они вышли на кипарисовую аллею, тихо ей сказал:
—
Малышка, ты мне причиняешь много страданий.
—
Я? — прошептала девушка, не осмеливаясь посмотреть на Поля.
—
Да, ты. Я понимаю, что у тебя горе и тебе хочется отдохнуть несколько дней… но почему ты не хочешь больше приходить мою мастерскую? Ты обижена на меня?
—
Нет, месье Поль. Я от вас видела только хорошее… вы меня облаготельствовали.
—
Ты не должна меня благодарить. Я не мог не беспокоиться о твоей судьбе, потому что ты была одинока в этом мире… по крайней мере, я так думал, и теперь… это слишком… оставить меня таким образом… я этого не заслужил… Ну объясни мне, пожалуйста… Я тебя чем-то обидел, несомненно?
Пия повернула голову, пытаясь скрыть слезы на своих глазах.
—
Так! Ты плачешь. Значит, я был прав. Чем то я тебя невольно огорчил. Итак, скажи мне, что я тебе сделал плохого… только это меня остановит.
—
Ничего, месье Поль. Вы всегда хорошо относились ко мне, хотя я была всего лишь бедной девушкой, и я, возможно, умерла бы от голода, если бы вы меня не подобрали на улице. Никогда в жизни я не была так счастлива, как с тех пор, как узнала вас, и никогда больше не буду…
—
Тогда почему ты хочешь меня оставить?
—
Потому что так нужно.
—
Послушай! Это не серьёзно. Кто тебя принуждает уехать?
—
Я сама хочу возвратиться в Субиако.
—
И что ты там будешь делать, в этом своём Субиако? Позировать художникам, которые приедут туда на летнюю сессию? Ты не сможешь там заработать на жизнь. В горах все женщины столь красивы, что художники избалованы, ведь у них нет затруднения в выборе модели.
—
Нет, месье Поль, я не буду больше никому позировать. Я вернусь к моей старой профессии. Я буду пасти коз.
—
Ты сошла с ума. Если бы у тебя там была ещё жива твоя мать, я объяснил бы это причудой, но у тебя не осталось больше ни одного родственника, даже дальнего, в тех краях, ты же мне сама часто говорила мне об этом.
—
А здесь никто меня больше не любит.
—
Я так не считаю, Мне кажется, что тебе просто так кажется! Послушай, Пия, ты мне делаешь очень больно, рассуждая таким образом… и если бы я тебя не знал так хорошо, как узнал за время нашего знакомства, у меня появился бы соблазн поверить, что у тебя нет сердца. Как! Я всегда относился к тебе, как к другу, и за время нашего знакомства я дал тебе тысячу доказательств моего уважения и привязанности, а у тебя получается вот так вот просто заявить мне, что ты не хочешь больше меня видеть. По правде говоря, я тебя не узнаю… ты ли это. Я мог бы тебе также напомнить, что твой неожиданный отъезд принесёт мне серьёзные затруднения, так как, если ты перестанешь мне позировать, я не смогу закончить мою картину …
Пия разрыдалась, и Амьен продолжил с искренним волнением:
—
Но я предпочитаю тебе сказать, что я о тебе не только как о модели сожалел бы, если бы ты продолжала настаивать на своём решении. Я привязался к тебе, и моё ателье превратится в мастерскую ужасов, если ты в него больше не вернёшься.
—
Я не могу!.. Я не могу! — прохрипела девушка приглушенным голосом. — Я хотела бы… но это сильнее меня… вы вчера прекрасно видели, что я чуть не умерла.
На этот раз, Амьен все понял. Правда, которую он подозревал, понемногу стала вырисовываться в его сознании, и настала его очередь помолчать.
Он изыскивал средство успокоить Пию, не обещая при этом закрыть свою дверь перед мадемуазель Дюбуа, и надо отдать ему должное, что он думал гораздо меньше о своей пропущенной выставке, чем о трогательной боли бедной итальянки, которая позволила ввергнуть себя в безнадёжную любовь.
Они молча дошли до круглой площади кладбища.
Верро, со своими длинными и быстрыми ногами, опередил их вместе с Софи Корню, которая семенила рядом с ним, как крыса.
—
Согласилась бы ты попозировать мне ещё несколько раз в другом месте… не в моей мастерской? — внезапно спросил Пию Амьен.
Пия печально покачала головой.
—
В месте, где вы ни с кем не встретитесь, но тебе придётся работать шесть часов в день. Я опаздываю, и мне нужны долгие сеансы, чтобы успеть к открытию Салона, — добавил он, улыбаясь.
—
Если бы я могла думать, что это будет возможно, — прошептала девушка.
—
Ты бы не улетела в страну апельсиновых деревьев, — весело закончил Амьен. — Очень хорошо! Больше я от тебя ничего не требую. Только поклянись мне, что ты не уедешь, не повидавшись снова со мной, и ты будешь ожидать от меня новостей в своей комнате на улице Дефоссе-Сен-Бернар.
—
Я вам в этом клянусь душой моей сестры! — ответила Пия, поднимая на него свои большие глаза, наполненные слезами.
—
Спасибо, моя дорогая. Я сейчас избавлюсь от Верро и этой старухи. Ты сопроводишь меня до моей двери… только до моей двери, а затем фиакр тебя отвезёт к тебе домой.
У Амьена была одна милая идея. Пия о ней ещё не догадалась, но уже и не плакала больше.
Часть VIII
Улица Ла Сурдиер — одна из тех, которую все новые веяния старого Парижа не коснулись. Эта улица граничит с холмом Мулен, который уже давно стёрли с лица земли, но она сегодня по прежнему такая же, как и сто лет назад, хотя вокруг нее все уже изменилось.
Улица Нев-де-Пети-Шан и улица Сен-Онора тщетно пытаются шуметь на севере и юге от нее, рынок Мен-Онора напрасно суетится на западе, все равно старая улица Ла Сурдиер остаётся мирной и спокойной, как бабушка, прикорнувшая на диване у камина.
На неё приходят лишь тогда, когда имеется определённое дело, просто так по ней никто не гуляет. Ведь она никуда не ведёт.
Это — почтенная улица. Дурная слава не поселилась на ней, но и добродетельные девушки, которые совершают каждый день верховые прогулки вдоль озера, не подозревают о её существовании. У неё есть респектабельность, как сказал бы англичанин.
Дело не в том, что она заселена миллионерами, совсем нет, здесь поселились достойные люди, которые имеют все для того, чтобы жизнь их была приятной и непринуждённой. Летом, по вечерам, там играют в бадминтон на тротуарах. На них также выносят стулья и неторопливо и спокойно беседуют друг с другом. Сквозь булыжник мостовой пробивается травка и иногда можно заметить куриц, поклёвывающих зерно. Стук колёс кареты здесь привлекает людей к окнам. Одним словом, это самая настоящая провинция в самом центре Парижа.
Дома, которые её окаймляют, выглядят чрезвычайно добротно со своими высокими воротами, молчаливыми дворами и широкими каменными лестницами. Они, кажется, были построены специально для того, чтобы скрыть от мирской суеты внутри своих стен бывших судей, отставных каноников или просто мудрецов, пресыщенных этим миром.
Огюст Бланшелен вот уже три года как обосновался на этой улице, и он не был ни наименее спокойным, ни самым уважаемым из жителей этого действительно пользующегося доброй славой квартала.
На первом этаже одного большого здания, справа от входа можно было увидеть медную табличку, на которой было выгравировано его имя, за которым следовало обозначение рода его деятельности: «Торговый агент».
Слева, на двери напротив, визави, сверкала надпись, смысл которой непонятен большинству в этом мире: «Стелла, ученица мадемуазель Ленорман — Консультации с полудня до пяти часов.»
Консультации о чем?… И если множество людей об этом не догадывались, то некоторые знали, в чем идёт речь и чего можно ждать за дверью.
Есть ещё в Париже кумушки-сплетницы, которые помнят мадемуазель Ленорман, гадалку с улицы Турно, и которые твёрдо верят, что пятнадцатью годами раньше коронования Наполеона она предсказала, что Жозефина станет императрицей.
У Стеллы, ученицы этой знаменитой ведьмы-гадалки, в числе клиенток было много горничных, женщин лёгкого поведения, несколько жён мелких буржуа, и попадались даже дамы… настоящие дамы, которые в другое время могли бы приехать к ней в экипаже, если бы они не опасались скомпрометировать гербы, нарисованные на дверях их карет.
Стелла исповедовала учение великих Сивилл. Она не впадала в сомнабулитическое состояние. Она просто предсказывала будущее при помощи карт, или даже без карт, когда её посещало вдохновение.
И оно к ней обязательно приходило, это вдохновение, когда консультация её щедро оплачивалась.
Обе квартиры, гадалки и торгового агента, занимали весь первый этаж. У них были два вполне отдельных входа, и клиентура месье Бланшелена не имела ничего общего с клиентками госпожи Стеллы. Серьёзные люди звонили в правую дверь, а верующие в чудеса звонили в левую, и они никогда не пересекались друг с другом.
Но на самом деле обе квартиры составляли между собой одно единой целое, в том смысле, что их владельцы могли заходить к друг другу, не пересекая лестничную площадку.
Каждая имела совершенно одинаковую планировку и состояла из прихожей, столовой, салона, кабинета и спальной комнаты, но меблировка и обстановка были абсолютно различны и ничуть не походили друг на друга. У Стеллы все было драпировано и обтянуто чёрной тканью, и отовсюду на вас смотрели разные странные вещи, средневековые сундуки, церковные кресла, и серванты, купленные по случаю в антикварных лавках. Библиотека была переполнена пыльными колдовскими книгами, несколько черепов и множество чучел сов стояло во всех углах. Тяжёлые шторы никогда не раздвигались, в комнаты не проникал ни один лучик дневного света, и ворожея пользовалась лишь старыми железными лампами с тремя горелками, подвешенными на потолках.
У месье Бланшелена, напротив, в кабинете было светло, чисто и современно. Красное дерево и орех, буфет, увенчанный крейским фарфором, бюро с выдвижными ящичками и зелёным кожаным сиденьем, и бюстами юрисконсультов на карнизах.
Маленькая негритяночка двенадцати лет встречала клиентов Стеллы. Клиентов Бланшелена вводил в его кабинет маленький клерк.
Только была одна маленькая деталь … оба кабинета— гадалки и торгового агента, были отделены друг от друга довольно тонкой перегородкой, и в которой оба владельца квартир с обоюдного согласия проделали окошко и дверь, искусно скрытые в деревянной обшивке.
Во второй половине дня, который Амьен начал с похода с вместе Пией на кладбище Сент-Уэн, месье Дюбуа и Софи Корню случайно встретились, можно сказать, невольно познакомились, у подножия лестницы, которая вела и к логову колдуньи и к бюро торгового агента.
Софи Корню уже преодолела три пары ступеней лестницы, когда месье Дюбуа вошёл в вестибюль и остановился на мгновение, чтобы вытереть свои ноги о коврик.
Они не были знакомы друг с другом, и вполне естественно, что они не поздоровались, но наблюдали друг за другом уголками глаз.
Отец прекрасной Авроры находил одеяние Софи Корню удивительно нелепым, и так как он раньше никогда не посещал Бланшелена, у него появился соблазн принять её за клиентку торгового агента.
—
Какая прекрасная клиентура у этого пройдохи! — пробормотал он тихо.
Софи, как мы знаем, не любила бездарных представителей богемы, недоучившихся художников, но буржуа, выпячивавших на весь мир своё богатство, она просто ненавидела.
—
Что здесь делает этот придурок? — процедила она сквозь зубы. — Он похож на судебного исполнителя, который заработал состояние, перекачивая в свой карман деньги бедняков.
Вот в таких вот любезных размышлениях друг о друге они пребывали в то время, пока поднимались на лестничную площадку первого этажа.
Там месье Дюбуа испытал удовлетворение, увидев, что старуха звонит в дверь в тот самый момент, когда он заметил на противоположной медную табличку с сверкающей прописью надписью с именем Бланшелена.
«В добрый час! — подумал он, — я совсем не огорчён, что нам с этим созданием в разные двери.»
Мальчишка с растрёпанными волосами и пером за ухом открыл ему дверь, заслышав звонок и ввёл его в прихожую, даже не спросив его имени.
—
Патрон там. Я предупрежу его, — сказал этот нечёсаный писарь.
Месье Дюбуа остался один в прихожей, меблированной четырьмя стульями из плетёной соломы и украшенной афишами, на которых располагались, по старшинству, имена господ судей и должностных лиц департамента юстиции округа Сены.
—
Честное слово, можно подумать, что я на приёме у адвоката, — произнёс он, пожимая плечами. — Этот интриган важничает. Но это мне не помешает с ним поговорить начистоту. Когда я подумаю, что у него хватило наглости просить у меня сто тысяч франков…! К счастью, что я их ему не дал.
—
Патрон вас ожидает, — протявкал маленький клерк, показав свою заострённую мордочку у входа в коридор.
Месье Дюбуа, величественным жестом приказал слуге уступить ему дорогу, и медленно направился к открытой двери, которую он заметил в глубине коридора. Он нашел месье Бланшелена стоящим, вернее прислонившимся к перегородке, на которой висела гравюра, изображающая Гиппократа, отказывающего послам Артаксеркса.
Коммерческий агент, казалось, был не слишком удивлён его визитом и принял его с почтительной готовностью.
—
Хотя я и не был готов, месье, к чести, которую вы мне оказали, посетив моё скромное жилище, — сказал он, склоняясь в поклоне, — и я сожалею, что вы доставили себе столько хлопот этим визитом, хочу вам заметить, что вы взяли на себя напрасный труд, так как я намеревался сам завтра появиться у вас, чтобы отдать вам, как мы и договаривались, свидетельство о кончине Бьянки Романо.
—
Мне она больше не нужна, эта ваша выписка из книги актов гражданского состояния, — внезапно сказал месье Дюбуа. — Вы насмехались надо мной, или, скорее, вы меня недостойно обманули.
—
Я не сделал ничего подобного, в чем меня можно упрекать, — спокойно возразил месье Бланшелен. — Пожалуйста, сядьте, месье и объяснитесь, — добавил он, указывая на стул.
Месье Дюбуа, поколебавшись, сел на указанный ему стул и принял вызывающую позу, как человек, который готовится обрушить на оппонента серию упрёков.
—
Вы осмеливаетесь сказать, что вы меня не обманули! — начал он. — Я вам поручил произвести некоторые изыскания в Италии в отношении девушки, которая могла оказаться дочерью моего брата, и Вы обнаружили, что эта девушка умерла, но вы воздержались от того, чтобы сказать мне, что неё была сестра.
—
Я не мог вам об этом сказать, так как ещё вчера мне это было неизвестно.
—
Значит, вы об этом узнаете только сейчас и от меня?
—
Нет, мне это известно уже несколько часов. Но я не вижу, чем существование этой сестры может встревожить вас. Бьянка Романо, умерев раньше месье Франсуа Буае, не смогла унаследовать его имущество.
—
Да, но вы, кто претендует на то, что ему известно все… вам неизвестна последняя воля моего брата, изложенная в его завещании.
—
Никто, я уверен в этом, не знал её до смерти завещателя.
—
Никто… но я её знаю. Нотариус, который её оформил в письменном виде, прибыл ко мне в Париж и показал мне копию завещания. Мой брат оставил совокупность всего своего состояния, равными долями, не одной, а двум своим дочерям, Бьянке и Пие Романо. Бьянка умерла, но Пия жива. Следовательно, я окончательно и бесповоротно лишён наследства брата.
Торговый агент изменился в лице. Очевидно, он тоже больше не сомневался в том, что Пия такая же законная наследница, как и её сестра.
—
Я уже успокоился, — продолжил месье Дюбуа, — но постарался сейчас до вас донести моё решение, означающее, что в связи со случившимся наши соглашения отныне беспредметны, и мне хотелось бы получить от вас обязательство, подписанное мною… которое больше не может ничему и никому послужить.
—
Оно не может мне сослужить никакой службы… теперь, — медленно сказал Бланшелен, размышляя, — но ситуация может измениться.
—
Что вы имеете ввиду? — спросил месье Дюбуа раздражённо. — Речь идёт о фактах, а не о химерических предположениях. Вы не можете воспользоваться по отношению ко мне обязательством, выполнение которого с моей стороны подчинено условию, которое стало невыполнимым. Так что у вас нет никакого основания и интереса его хранить, и вам следует мне его вернуть.
—
Позвольте мне у вас спросить, почему вы так упорно хотите его получить, этот документ, — холодно произнёс Бланшелен.
—
Я не хочу, чтобы остались даже малейшие следы соглашения, о котором я сожалею… что я сделал это.
—
Я мог бы вам ответить, что в отличие от вас я, наоборот, люблю, когда эти следы существуют, и вы не можете вынудить меня вернуть вам акт, подписанный вами без всякого принуждения. Но я предпочитаю вам доказать, что этот акт ещё может сослужить нам службу… позже. Пожалуйста, вспомните его содержание.
—
Я его и не забывал никогда. Там сказано, что в вознаграждение действий, предпринятых по моей воле и не указанных в этом документе я вам должен заплатить сумму в сто тысяч франков, подлежащую оплате в день… вы хорошо слышите… когда я получу свою долю наследства, как наследник по закону, в наследственном имуществе своего сводного брата Франсуа Буае.
—
Абсолютно точно, месье, и я буква в букву придерживаюсь условий этого соглашения.
—
Очень хорошо. Тогда, вы никогда не получите ваши сто тысяч франков, потому что я никогда не получу ни одного су из наследства моего брата.
—
Почему вы так думаете?
—
О! Прошу вас, не нужно никаких двусмысленностей. Вы, полагаю, не возьмёте на себя смелость утверждать, что если эта Пия исчезнет из этого мира так же, как и её сестра, то я получу наследство брата. Пия Романо пережила завещателя, и следовательно, она унаследовала его имущество, и следовательно даже её смерть не сделает меня наследником состояния моего брата. Это состояние перейдёт, в этом случае, её родителям, а, за неимением таковых, к государству, так как итальянский закон, вероятно, аналогичен на французскому законодательству.
—
Я тоже так думаю.
—
Так что вы тогда ожидаете от будущего?
—
Это — моя тайна.
—
Мне кажется, что я имею право знать эту вашу тайну. Я не хочу, чтобы моя рука увязла в нечистых делишках, которые вы, без сомнения, задумали, чтобы запутать очень ясное… явное дело.
—
Вы не будете нести ответственность за то, что я делаю и сделаю.
—
Я на это очень надеюсь.
—
Тогда, позвольте мне действовать так, как я считаю нужным это делать.
—
Я не могу вам в этом помешать, но я вам заявляю, что вам не оплатят ваше старание. Меня больше не интересует это наследство. Я смирился с тем, что потерял его, и не хочу больше слышать о нем от вас.
—
Вы услышите об этом от меня только тогда, когда я буду в состоянии вам доказать, что ситуация полностью изменилась. И для начала скажу вам о том, что это не произойдёт ни через неделю, ни через месяц, ни даже через год. Я хотел бы лишь добавить, что оставляю на ваше усмотрение оценку, которую вы дадите моим усилиям, чтобы вознаградить услугу, которую я вам окажу.
—
Если это так, что вы собираетесь сделать с бумагой, которую я вам подписал?
—
Покажу её, если вы когда-либо… или кто-нибудь другой начнёт сутяжничать… придираться к методам и средствам, которые я использовал. Эта бумага, месье, моя гарантия. Она доказывает, что мы с вами всегда все делали согласованно. Природа действий, которые вы мне поручили, там не указана, вы это признали только что сами. Из этого следует, что все, что я сделал до сих пор и сделаю в будущем… сделано мной по вашему указанию.
—
Иными словами, вы меня пытаетесь убедить, что если юстиция заинтересуется вашими делами, вы попытаетесь меня скомпрометировать. И я вас заранее предупреждаю, что вы в этом не преуспеете. У меня слишком устойчивая репутация в обществе, чтобы меня обвинили в том, что я дал согласие на неправомерные махинации. Давайте остановимся на этом месте, месье. Не хотите ли Вы мне отдать подписанную мной бумагу?
—
Нет, не более, чем письмо, которое вы мне написали месяц тому назад, и в котором дали мне ваши инструкции по поводу Бьянки Романо, и в котором шла речь о том, чтобы любой ценой помешать ей приехать во Францию, или, если она уже успела добраться туда, остаться там.
—
Очень хорошо, — гневно воскликнул месье Дюбуа. — Храните все… это смешно… и я не боюсь вас.
—
Я убеждён, — спокойно возразил месье Бланшелен, — что вы не смеялись, когда узнали, что шестьсот тысяч франков не попадут в ваш карман, потому что у вашего брата оказалось две дочери, а не одна, и теперь вы рискуете их окончательно потерять. Итак! Месье, вместо того, чтобы ссориться со мной и приписывать мне намерения, которых у меня нет, вы поступили бы гораздо лучше и несомненно, более правильно, если бы вы доверились мне… моему умению улаживать самые сложные проблемы. Я, конечно, затрачу на это моё время, но я вам отвечаю за конечный успех. Настанет день, когда я вам принесу наследство покойного месье Франсуа Буае на блюдечке с голубой каёмочкой, как ключи от завоёванного города, и вы не должны мне мешать его завоевать. Единственное, что я у вас хочу попросить. Ещё… дать мне… справку… банальную справку.
—
Справку! — эхом повторил за ним месье Дюбуа. — мне нечего вам сообщить. Берите справки, где хотите. Меня это не касается.
—
Существует одна, которую предоставить мне можете только вы, — сказал торговый агент равнодушно, — и я уверен, что вы не откажетесь, так это не в состоянии вас скомпрометировать. Много ли человек уже успели узнать, что Бьянка Романо была сестрой этой Пии, которая позирует художникам?
—
Можно сказать, что сегодня это будет известно всем… это обнаружилось вчера в мастерской художника, который пользовался этой второй дочерью моего брата, как моделью… в мастерской месье Поля Амьена.
—
Это тот самый молодой человек, который был с вами на спектакле в театре Порт-Сент-Мартен?
—
Да, и у него нет никакого мотива, чтобы хранить тайну этого родства. Но кроме того, был там один из его товарищей, пачкун красками, называемый Верро, который мне показался чрезвычайно болтливой персоной. Вы можете смело считать, что в этот час во всех мастерских квартала обсуждают эту новость.
—
Это вероятно, но для меня не так важно. Я стараюсь сосредоточиться только на одной детали.
—
Какой? — внезапно спросил месье Дюбуа, который позволил себя понемногу втянуть в расспросы человеку, с которым он, как ему казалось, только что порвал всяческие отношения.
—
Кроме вас, месье, кто ещё знает, что месье Франсуа Буае оставил своё имущество обоим девицам Романо?
—
Нотариус знает. Именно он меня об этом оповестил. Моя дочь также это знает. Она была там, когда он мне об этом сообщил.
—
А другие? Те, кого вы назвали только что… месье Амьен?… месье Верро?
—
Они не знают этого, черт возьми! Я был не в восторге от этой новости, и, естественно, не развлекался тем, что рассказывал всем подряд о случившемся.
—
Естественно, что вы им об этом и не расскажете. Но сестра покойницы, Пия? …
—
Ей ничего не известно. Но она, конечно, всё узнает.
—
Кто её предупредит? Это будете не вы, я надеюсь.
—
Это будет нотариус, вероятно.
—
Значит он
знает, что она сейчас в Париже?
—
Да, я ему сказал, что видел её только что. Она была как раз у месье Амьена, когда этот нотариус, который меня везде искал, представился там.
—
Черт! Это неприятно. Но, наконец, ему ведь не известен адрес этой девушки?
—
Не более, чем мне. Только, чтобы его получить, нотариусу будет достаточно осведомиться о нем у месье Амьена.
—
И вы полагаете, что он это сделает?
—
Я этого не знаю. Но, мне кажется, что это его долг.
—
Почему? Он что, — исполнитель завещания?
—
Нет. Он даже не составлял это завещание. Мой брат его написал лично, не консультируясь ни с кем, и это несчастное, прискорбное завещание лично вскрыл президент суда.
—
Тогда… этот нотариус не обязан искать наследников.
—
И тем более, что он всегда защищал мои интересы… даже при жизни моего брата. Я ему возместил ущерб от его командировок, и не думаю, что у него будет желание надолго оставаться в Париже.
—
Не могли ли бы Вы мне сказать, в каком отеле он остановился?
—
В маленьком отельчике на улице Булуа 75. Я очень надеюсь, что вы не отправитесь беседовать с ним, чтобы ввести его в курс ваших проектов, о которых я ничего не знаю и знать не хочу.
—
Я остерегусь делать это… но я вас прошу верить, что в моих проектах нет и не было ничего постыдного. Я хотел бы только убедиться, прежде чем он уедет, что он не стал заботиться о делах Пии Романо. И я могу справиться у вас вслед за этим… осмелюсь ли я у вас спросить его имя?
—
Мэтр Дрюжон, — ответил месье Дюбуа, вставший на путь признаний.
Самоуверенность, апломб месье Бланшелена гипнотизировала Дюбуа, уверения торгового агента в собственной честности успокаивали его совесть… и затем, хотя Дюбуа и утверждал обратное, но он полностью не отказался от призрачной надежды вернуться в свои права наследника огромного состояния.
Чтобы окончательно успокоить свою совесть, он решил не вмешиваться ни во что… но, секунду поразмыслив, Дюбуа решил, что будет глупо окончательно порвать с человеком, который обещал ему вернуть казалось навсегда потерянное наследство.
—
Я вас благодарю, месье, — сказал агент, — и клянусь, что вы не пожалеете о том, что решили воспользоваться моими услугами.
Месье Дюбуа не придал никакого значения этому заявлению. Он довольствовался тем, что сказал:
—
Помните, что не может быть никаких отношений между нами в деле о наследстве, пока оно не будет в той или иной мере разрешено.
И Дюбуа встал с важным видом.
Бланшелен очень смиренно попрощался с ним и молча проводил его до двери квартиры.
Хитрец знал истинную цену протестам и показной незаинтересованности месье Дюбуа.
Хозяин квартиры спровадил своего маленького слугу, который грыз лесные орехи в прихожей, и возвратившись в свой кабинет, вместо того, чтобы сесть на стул перед своим бюро, приставил своё ухо к перегородке, и минутой спустя трижды, с определённым интервалом, постучал в нее.
В ответ на этот сигнал ему ответили тотчас же тремя скромными ударами с равными интервалами.
Бланшелен продвинул вперёд правую руку, и нажал на медную кнопку, очень искусно скрытую в резьбе деревянной обшивки. Тотчас же панель выскользнула из пазов и обнаружилось довольно широкое отверстие, в которое свободно мог пройти человек, и в эту тайную дверь в кабинет Бланшелена прокралась женщина, одетая в длинный чёрный халат и тюрбан красного шелка. Под этим странным и нелепым нарядом Поль Амьен, будь он там, лишь с большим трудом мог бы узнать персону, которую видел на кладбище Сент-Уэн и в партере у оркестра в театре Порт-Сент-Мартен.
Это была действительно та самая женщина, и по правде говоря, костюм гадалки был ей к лицу. Чёрный цвет волос подчёркивал пламенность кожи её лица, а свободное платье на удивление подчёркивало её талию.
Только у неё было озабоченное выражение лица.
—
Я её видела только что, — произнесла она без предисловий.
—
Кого? — спросил Бланшелен нетерпеливо.
—
Софи Корню, черт возьми! Она пришла ко мне на сеанс, и я воспользовалась случаем, чтобы разузнать у неё детали. Но те, что она мне поведала, не очень интересны.
—
Да что же она, в конце концов, тебе сказала?
—
Что это Верро ей вчера на похоронах сообщил о том, что у Бьянки была сестра. Только Софи её раньше не видела, эту сестру, и впервые с ней встретилась сегодня на кладбище.
—
Ты мне уже рассказывала это недавно, и если тебе больше нечего к этому добавить …
—
Я знаю, как Верро обнаружил родство натурщицы. Он все объяснил Софи, которая мне повторила слово в слово только что историю, которую этот холстомаратель ей выложил. Кажется, что позавчера он навестил художника, который живёт на пляс Пигаль.
—
Поля Амьена, того самого, которого посетила идея проследить за ними однажды, тем вечером, когда мы выходили из театра, и которого мы столь славно покатали по Парижу.
—
Я до сих пор смеюсь, вспоминая это. Ведь это я придумала трюк с фиакром… Итак! Верро, войдя в мастерскую к своему другу, принялся вопить во весь голос, что ему известно имя девушки, тело которой демонстрировалось в морге, и что её зовут Бьянка Романо.
—
Ах! Негодяй! Я же запретил ему болтать.
—
Услышав это, эта Пия, которая позировала в это время художнику, свалилась на пол, вопя: «Это — моя сестра!» Вот так все и выяснилось.
—
Я надеюсь, что эта скотина Верро не говорил обо мне в присутствии Амьена!
—
По крайней мере, он этим не хвастался. Иначе Софи бы мне об этом рассказала.
—
И ты думаешь, что он не назвал моего имени этой старухе?
—
Что касается этого, то нет, я уверена. Софи тебя не знает, так она меня всегда называет госпожой Бланшелен. Упоминание твоего имени поразило бы её воображение…
—
Верро его и не знает, моего имени. Для него, и для завсегдатаев Гранд Бока меня зовут Фурнье.
—
Это правда, я об этом не подумала.
—
И он никогда не знал, где я живу. Лишь бы только твоя Софи Корню не указала мой адрес!
—
Никогда в жизни. Почему ты решил, что она впутает тебя в это дело? Она думает, что ты даже не подозреваешь о существовании всех этих людей.
—
Тем лучше! Потому что если бы она болтала, у нас в колоде появилась бы плохая карта. Итак Верро начал взрывать существующее положение. Он связан с этим Амьеном, который уже начал выслеживать нас, и лишь чудом не преуспел в этом. Если бы он выяснил, что Фурнье зовётся на самом деле Бланшеленом, и что у него агентство на улице Сурдиер, нам бы ничего не оставалось, кроме как собирать наши сундуки и чемоданы.
—
Ну нет! Этого не случится. И затем, хоть у Бьянки и появилась сестра, это не имеет никакого значения… Дюбуа все равно получит своё наследство, а ты получишь свои сто тысяч франков.
—
Ты на самом деле веришь в то, о чем говоришь? — гневно воскликнул Бланшелен.
—
Что? Что случилось? — спросила очень взволнованная его словами Стелла.
—
Только что от меня ушёл Дюбуа, сообщивший, что у его брата было две дочери, Бьянка и Пия, которым этот дурак его брат оставил все своё состояние равными долями, и теперь, когда старшая сестра отправилась в мир иной, все состояние переходит к её младшей сестрице.
—
Ах! — прошептала потрясённая этим известием гадалка, — стоило ли тогда так рисковать!
—
Да, ты права, нам нанесли тяжёлый удар. Но я не признаю своё поражение. Если мне суждено потерять сто тысяч франков, которые Дюбуа обязался мне выплатить после того, как получит наследство, я возьмусь за это дело иначе. Я не собираюсь компрометировать себя даром.
—
Я тоже не успокоилась бы на твоём месте, но как поступить? Ты же не намереваешься, я надеюсь, переиграть по второму разу историю Бьянки. Это слишком опасно.
—
И было бы бессмысленно, не приведя ни к чему хорошему. Но есть не один способ нейтрализовать женщину, которая затрудняет тебе жизнь.
—
Я знаю только об одном, — сказала мрачно Стелла, — и мы его уже использовали, поэтому, если мы вернёмся к нему вновь, то это было бы чересчур рискованно.
—
Об этом речь не идёт, — решительно возразил Огюст Бланшелен. — Ситуация изменилась с тех пор, как её отец умер. Даже если бы Пия завтра умерла, все, что она унаследовала, если у нее нет родителей, перейдёт в пользу государства. Мы, напротив, заинтересованы сейчас, чтобы она была жива и ни один волосок не упал с её головы. Я предпочитаю иметь дело с нею, а не с итальянским правительством.
—
Так как ты тогда надеешься вытянуть всё с этой малышки?
—
В настоящий момент, никак. Потом… посмотрим. Это — долгосрочное дело.
—
Я не понимаю твоей идеи.
—
Мой замысел состоит в том, чтобы использовать для достижения цели и к нашей выгоде непосредственно саму эту Пию Романо. Мой план построен на том, что мы должны воспользоваться тем, что Бьянка была её сестрой, и Пия знает, что сестра умерла, но, что очень важно, не знает о завещании в её пользу. Вообще о нем ничего не знает. И никто о нем не знает, за исключением господина Дюбуа и его нотариуса. Дюбуа воздержится от того, чтобы предупредить малышку о привалившем ей богатстве, а нотариус собирается возвратиться в свою богом забытую провинцию. Наследство на некоторое время останется открытым в связи с отсутствием претендентов на него, и никто его не получит, пока наследница не объявится. А мы ей помешаем это сделать.
—
Хорошо! А потом?
—
Потом … потом нужно будет играть очень осторожно. В дипломатическом ключе.
—
Дипломатическом?… Я не понимаю.
—
Нужно, чтобы ты поняла, что действовать нужно очень ловко… так как именно ты должна кое в чем убедить малышку. И я уверен, что ты будешь иметь успех, если возьмёшься за дело с умом.
—
Ты забываешь, что я с ней не знакома.
—
Ты её видела, и она тебя видела.
—
Да, на кладбище, но я с ней не разговаривала.
—
Это не имеет никакого значения. Ты пойдёшь к ней, и это сделать очень просто, потому что я знаю, где она живёт.
—
Я тоже. Она живёт на улице Дефоссе-Сен-Бернар. Художник назвал адрес в присутствии Софи Корню, а она сказала об этом мне.
—
Значит это именно к ней Бьянка ходила каждый вечер. Если бы мы узнали об этой детали раньше, могли действовать иначе. Но что сделано, то сделано. Примем ситуацию такой, как она есть, и постараемся выжать из нее максимум в нашу пользу.
—
Хорошо! Но под каким предлогом я проникну в квартиру к этой Пие?
—
Ты скажешь ей, что бывала раньше у её сестры Бьянки в меблированной комнате, в которой она жила на улице Аббатисс. Она будет рада тому, что сможет поговорить с тобой о покойнице.
—
Очень хорошо, но что я могу ей рассказать?
—
А не нужно ничего рассказывать. Ты начнёшь с того, что примешься её утешать. Ты её будешь жалеть, ты ей поклянёшься, что её сестра тебя очень любила, ну и дальше… по обстоятельствам.
—
Это будет трудно. В Сент-Уэне она оплакивала сестру, как Мария Магдалина Христа на Голгофе, и когда она встала на колени на её могиле, я подумала, что у неё не будет сил подняться на ноги.
—
Это как раз то, что нам нужно. Она должна быть такой же экзальтированной, пылкой, как и все итальянки. Тебе не составит труда втереться к ней в доверие.
—
Для чего?
—
Первым делом нужно вынудить её поменять профессию. Очень важно, чтобы она больше никогда не вернулась к этому Полю Амьену, который, судя по всему, хочет её поддержать в этом деле. Ты должна придумать какую-нибудь историю, чтобы добиться этого… Какую? Не знаю. Прощупай, как говорится, местность. Если, например, ты заметишь, что она влюблена в него …
—
Так оно и есть. Она и так уже влюблена в него. Верро об этом сказал Софи Корню.
—
Тогда, все очень просто. Ты ей расскажешь, что художник публично насмехался над нею.
—
Верро рассказывал также, что она ревнива… и ты не поверишь, к кому она его ревнует… к мадемуазель Дюбуа…!
—
Невозможно!.. Но если это правда, Амьен выиграет в этой борьбе много денег, ведь этот дурак Дюбуа мечтает отдать ему в жены свою дочь. Амьен уже запросто сидит в его ложе в театре…
—
А мадемуазель Дюбуа заставила своего отца отвести её к этому Амьену в студию. Она нашла там Пию, которая тут же в ярости ушла прочь. Верро уверяет, что она громогласно поклялась больше не позировать Амьену.
—
Восхитительно! Наше дело в шляпе. Ты должна найти эту Пию Романо вполне расположенной выслушать все твои истории и легко завоюешь её доверие. Ты у нее попросишь разрешения перенести на неё привязанность, которую ты питала к её скончавшейся сестре, и в конечном счёте ты сделаешь ей предложение переехать к тебе домой, или, что ещё лучше, сопроводить Пию тут же на её родину, в Италию, если она хочет возвратиться туда.
—
Как! Ты хочешь отослать меня в Италию?
—
Нет. В принципе, я просто предпочитаю, чтобы наследница всегда была у нас под рукой… но нужно все предусмотреть. Важно, чтобы мы все время с ней общались, где бы она не была, и заставили её прекратить общение со всеми людьми, которых она до сих пор знала. Я хочу, чтобы она больше никогда не увидела ни месье Амьена, ни Верро, и чтобы исполнитель завещания покойного Франсуа Бойе, нотариус, не узнал, что с ней стало.
—
Очень хорошо! Но, предположив, что мы сумеем сделать все это, что нам это даст?
—
Я тебе объясню мой план, — сказал Бланшелен. — У него две цели, и он сможет быть изменён, в зависимости от того, какой поворот примут события. У меня есть, как ты знаешь, подписанное Дюбуа обязательство вручить мне сто тысяч франков в тот день, когда он вступит во владение наследством своего брата. И он может его получить только в том случае, если Пия Романо откажется от него.
—
Но этого не случится никогда.
—
Почему? Всегда можно отказаться от выгод, которые вам несет завещание, результатом чего станет восстановление в правах наследников по закону.
—
И ты полагаешь, что можно склонить Пию отказаться от денег в пользу человека, которого она не знает?
—
Если бы она его знала, это было бы намного труднее, так как она ревнует художника к мадемуазель Дюбуа. Но ей совершенно не известно, что её родной отец — сводный брат месье Дюбуа… к тому же у них, слава богу, разные фамилии, и я устрою так, чтобы она этого никогда не узнала. И я добавлю, что для того, чтобы подписать надлежащим образом акт об отказе от наследства, Пия должна быть совершеннолетней, а сейчас, вероятно, эта девушка ещё таковой не является.
—
Мне показалось, что ей едва ли есть шестнадцать лет.
—
Тогда нам придётся ждать несколько лет, чтобы добиться нашей цели. Но мы могли бы подтолкнуть её за это время к решению уйти в монастырь и стать монахиней.
—
Плохое решение. Она отдала бы в этом случае все своё добро монастырю, который получит то, что должно стать нашим.
—
Нет, ты ошибаешься, потому что она не знает, что богата.
—
Тогда, скажи мне, как она может отказаться от состояния, о существовании которого она не знает?
—
Можно сказать ей правду в самый последний момент, надлежащим образом её приготовив к этому. Нужно бить в одну точку, на её великодушие, требуется её убедить, что месье Франсуа Буае совершил неправедные действия, лишив наследства своего брата, и что эту несправедливость она должна исправить.
—
Я очень сомневаюсь, чтобы она воспримет такие увещевания.
—
Это зависит от многих вещей. От экзальтированной девушки, чувства которой к тому уже будут искусно
возбуждены, можно многого добиться. Если, как это утверждает
Верро, она в отчаянии, потому что Амьен её не любит, она будет слушать советы тех, кто её пожалеет, выслушает, обсудит происходящее и будет бережно к ней относиться.
—
Это возможно… со временем… но, если честно, столько хлопот в течении нескольких лет ради ста тысяч франков комиссионных… которые месье Дюбуа в конце концов может и отказаться отдать.
—
Я этого не боюсь. У меня есть его письменное обещание и письмо, которое его компрометирует. Он никогда не осмелится меня обмануть. Но ты права, говоря, что сто тысяч франков это мало, в то время как этот Дюбуа унаследует шестьсот тысяч.
—
Почему бы нам не оказаться на его месте и не получить все наследство?
—
Молодец! Вот мы и добрались до главного, наконец! Если мы сможем заставить Пию отказаться от наследства, то тогда уже будет совсем легко убедить её завещать все её деньги нам. И именно этой цели мы должны добиться. Но, чтобы её достичь, нам потребуются большие средства и немалые усилия.
—
Какие?
—
Вначале… нам придётся оставить Париж вместе с нею.
—
Это как раз будет нетрудно… кажется, она сама хочет возвратиться к себе домой в Италию. Софи Корню слышала, как она говорила художнику: «Я не хочу позировать больше, я хочу в Субиако.»
—
Очень хорошо. Мы её сопроводим в Италию.
—
В каком качестве?
—
В качестве друзей, черт возьми! Ты заработаешь её доверие, предложив избавить от дорожных расходов. Я предполагаю, что она не купается в золоте. Ты ей расскажешь, что имеешь намерение провести два года в Риме в связи с проблемами со здоровьем, и ты нуждаешься в компаньонке, говорящей на итальянском языке, и что ты обращаешься к ней, потому что хозяйка квартиры, в которой жила её сестра, тебе её рекомендовала. Ты добавишь, разумеется, что уезжаешь вместе с твоим мужем, так как я совершу это путешествие вместе с вами.
—
Ты бросишь все свои дела?
—
У меня нет ни одного, которое могло бы принести мне столько денег, как это. И впрочем, очень хорошо, что мы оставим Париж на какое-то время. Я опасаюсь болтливости и любопытства Верро, и я боюсь Амьена. Если он все-таки нас выследит и обнаружит, что мы живём вместе, он вспомнит и события в омнибусе и нас в нем. И сопоставит все события и лица. Он вполне в состоянии сделать это. А через два года несчастный случай, приключившийся с Бьянкой Романо уже забудется, станет старинной историей.
—
Как! Мы останемся в Италии на два года?
—
На два или три года, а может и больше, если потребуется. Мы там останемся до тех пор, пока малышка не отпразднует вместе с нами день рождения, на следующий день после которого она получит право подписывать имеющие юридическую силу документы, то есть своё восемнадцатилетние.
—
И ты веришь, что к этому времени её посетит идея составить завещание?
—
Это я беру на себя. И кому она может оставить все своё имущество, если у неё нет родителей… и никаких родственников? Только нам, ведь за это время мы должны стать её семьёй.
—
Хорошо! Но она моложе нас, и проживёт дольше нас, вполне вероятно?
—
Я в это не верю, — рассмеялся Бланшелен. — Ты забываешь, что этот идиот Верро отдал мне булавку, которую ты потеряла.
Часть IX
Он не производил респектабельного впечатления, этот доходный дом, где отец Лоренцо селил своих пансионеров, на улице Дефоссе-Сен-Бернар. Это было старое и чёрное шестиэтажное сооружение, намного более высокое, чем широкое, и беспорядочно пронзённое узкими окнами, из которых ни одно размерами не совпадало с соседними. Своим фасадом, позеленевшим от дождей, и задушенным двумя зданиями гораздо лучшей внешности по краям, дом походил на кусок заплесневелого пирога.
Жители входили в этот барак через тёмную аллею, которая приводила во влажный и плохо освещённый двор, похожий на дно колодца.
На цокольном этаже, было два помещения. В одном располагался кабачок, дверь которого напрямую выходила на улицу, так что Лоренцо имел возможность заманивать к себе прохожих дешёвым алкоголем, другое служило столовой для натурщиц и натурщиков, которые нашли пристанище у этого пройдохи.
Вечером, с наступлением темноты, и утром, на рассвете, там можно было встретить за столами пёструю компанию, состоящую из калабрийских разбойников и крестьянок из Абруццо. Были там целые семьи, начиная от старца с седой бородой до маленьких девочек в возрасте четырёх лет, сидящих на коленях пышных матрон.
Там говорили на диких местных диалектах Апеннин, выдыхая при этом запах чеснока и табака, который можно было чувствовать вплоть до Ботанического сада.
Все они засыпали по ночам в своих комнатках, устроенных, как монастырские дортуары, и жили в довольно хорошем взаимопонимании. Свары, заканчивающиеся ударами ножом случались там редко, хотя ссорились жильцы его дома частенько.
Отец Лоренцо дисциплинировал своих арендаторов, и внушал им уважение и благоговейный ужас. Ещё сильный, несмотря на свои шестьдесят пять лет, этот человек не спускал ни насмешек в свой адрес, ни задержек в платеже арендных выплат. Он ежедневно занимался своим доходным домом и пристраивал его жильцов на работу уже на протяжении пятнадцати лет, и никогда у него не было проблем с французской полицией. А между тем, в давние времена отец Лоренцо возглавлял банду разбойников, которая промышляла грабежами путешественников и владельцев доходных мест в окрестностях Террачины в Италии.
Но деньги меняют людей. Накопив этой профессией порядочный капитал, и узнав, что его голову в Римских краях оценили в кругленькую сумму, отец Лоренцо вдруг прямо средь бела дня испытал отвращение к ночёвкам под открытым небом под звёздами и питанием сырыми каштанами.
И так как он был честолюбив, вместо того, чтобы спокойно отойти от дел, отец Лоренцо совершил переход к Неаполю и сел на пакетбот до Марселя, откуда добрался в Париж, чтобы его сбережения начали плодоносить.
Бог благословил его усилия. Предприятие, которым он управлял, процветало. Отец Лоренцо купил здание с побочными доходами, которые он получал, принимая и кормя своих соотечественников. И пансионеры не обходили стороной его заведение, так как у него были корреспонденты во всех деревнях на юге Италии, да и сам он время от времени туда наведывался, вербуя постояльцев.
Это был, впрочем, совсем неплохой человек. Отец Лоренцо открывал разумные кредиты, и даже просто безвозмездно предоставлял маленькие суммы моделям, временно оставшимся без работы. Он брал также на себя труд найти им эту работу, и ему это всегда удавалось, поскольку он был вхож в ателье почти всех художников, а когда модель уже исчерпала свои возможности, попозировав уже везде, где только можно, он за свой счёт отправлял её на родину.
Именно к нему Амьен в своё время обратился относительно жилья и содержания Пии.
И так как сделка, предложенная художником, была очень выгодной для Лоренцо, этот честный бандит отнёсся к девушке с бесконечными уважением и вниманием.
Он даже привязался к ней, и мог рискнуть своей жизнью, чтобы защитить её, если бы он заметил, что какой-нибудь негодяй близко приблизился к ней, или, не дай-бог, оскорбил бы её.
И Пия приспособилась, не испытывая никаких неудобств, к жизни в этом гадком караван-сарае, где бы не захотела поселиться даже самая бедная парижская работница.
Справедливости ради нужно сказать, что она жила совершенно обособленно, ни с кем не поддерживая никаких отношений, хотя и не пренебрегала обменом односложными фразами с соседями по дому, если они встречались на её пути в коридорах или на лестницах дома.
Пия занимала комнату на последнем этаже дома, под крышами, мансардную комнату, в которой раньше ютились шарманщики и их ручные обезьянки во времена, когда у бедняков из южной Италии ещё была возможность посылать своих детей просить милостыню во Франции.
И этого убогого жилища Пия смогла сделать прелестное гнёздышко.
Но не богатством меблировки сверкала мансарда, которая столь нравилась Пие.
Железная кровать, несколько стульев из соломы, стол белого дерева, зеркало, сундук, где она держала своё белье и одежду, большой кувшин и широкая миска для умывания, а на побеленных стенах висели два эскиза, нарисованных карандашом и подаренных ей Амьеном. Но было не все.
Пия извлекла пользу и из водостока, который окаймлял единственное окно её мансарды, так как она там создала в нарушение всех городских правил вольер и сад. Сад она разбила в ящике из под зелени, а в вольере поселила лишь одного зяблика, но цветы всегда были свежими, а зяблик пел с утра до вечера.
И затем, из этого слухового окна был чудесный вид, ведь дом отца Лоренсо смотрел на северо-восток.
Справа, на другой стороне улицы, расположились магазины и винные склады, а чуть дальше начинали зеленеть старые деревья Ботанического сада.
Слева, за мостами и над неровными крышами домов, возвышался холм Пер-Лашез, увенчанный кипарисами, чьи тёмные силуэты выделялись на фоне ясного неба.
Каждый уголок Парижа был виден из её окошка таким, как его видят летающие возле крыши дома птицы.
На следующий день после поездки в Сен-Уэн Пия, которая встала до рассвета после бессонной ночи, погрузилась в мечтания, облокотившись на подоконник своего окна и глядя на предрассветный Париж.
Воздух был тёплым, и утренний туман рассеивался в первых лучах весеннего солнца, позолотившего крыши домов.
Зарождался прекрасный день, один из тех праздников, которые Бог иногда дарит обездоленным персонам большого города, тем, кто не имеет возможности обсуждать иной спектакль, кроме спектакля пробуждения природы.
Торговцы болтали на пороге своих лавок, а дети играли на улице.
Жильцы Лоренцо готовились вылететь из своих комнатушек, чтобы до полудня оказаться в мастерских квартала Пигаль и квартала Люксембург.
Были слышны резкие звуки бегущих по лестнице ног моделей, и даже прыжки через окна дортуаров с нижнего этажа, под радостные взрывы смеха, заставлявшие прохожих поднимать голову от тротуара. Старый бандит, ставший почтенным владельцем доходного предприятия, курил трубку на пороге своего кабачка и улыбался от удовольствия в зарослях своей бороды, прикидывая свой месячный доход и денежки, которые он положит в карман этим вечером.
Это было время, когда все его жильцы получали деньги, и поступления Лоренцо не заставили бы себя ждать.
Лоренцо лишь немного удивлялся тому, что не увидел, как спустилась Пия, которая всегда была готова отправиться на работу первая, но он никогда не входил к ней в комнату сам, если только она сама его не приглашала.
А Пия и не думала о том, чтобы позвать его, как и не думала о том, чтобы пойти купить себе какой-нибудь скромный завтрак.
Её мысли витали далеко от этого доходного дома… в том месте, где Поль оставил её накануне, заставив поклясться, что она не уедет, не повидавшись с ним снова.
И Пия спрашивала себя о том, что Поль имел в виду, говоря ей, что она будет позировать ему в другом месте, не в его мастерской.
Продолжать позировать ему, стоять наедине только с ним одним, это было её единственной надеждой… но она почти не верила в это.
«Поль понял, как я страдаю, и сжалился надо мной, — с грустью думала Пия. — Но это так хорошо! Он мне обещал вскоре сообщить новости, которые помогут мне утешиться и помешают уехать. Поль полагает, что мне не хватит мужества от него убежать, и что я вернусь…. Нет… он не придёт. Он обманул меня. Зачем ему приходить ко мне? Я — лишь бедная необразованная девушка из Абруццо, оказывающая услуги богатому художнику, которому стоит лишь махнуть рукой, чтобы у его дверей выстроилась очередь из итальянских натурщиц. Это мне нужно идти к нему и просить, как милость, чтобы он снова взял меня на работу.
Но я не пойду. Ведь я там найду эту женщину, и я предпочту умереть, чем вновь появиться перед нею. Нет, я не пойду. Я буду ждать два дня… если я его не вижу за это время, я ему напишу, чтобы с ним попрощаться, схожу помолиться в последний раз на могиле Бьянки, и тогда …»
Пия была погружена в эти свои мысли, когда в дверь её комнаты тихо постучали.
Она повернулась к входу, бледная и дрожащая.
—
Господи, только бы это был он! — прошептала Пия, не в силах пошевелить и пальцем, прикованная к месту волнением.
После нескольких мгновений тишины стук раздался снова, на этот раз более громкий и требовательный.
Пия хотела ответить, но голос отказывался повиноваться ей. Затем одна мысль посетила её голову… это не мог быть Амьен. Поль был нетерпелив, а ключ был снаружи. Амьен бы вошёл.
В этот момент ручка двери повернулась и дверь медленно открылась.
Пия угадала. Это был не Поль. Но неожиданность, которую она испытала при виде входящей в её комнату персоны была ещё более живой.
Этой персоной оказалась очень изящно, элегантно одетая в чёрное женщина с довольно миловидной физиономией. Её вполне можно было принять за даму, которая занимается благотворительностью и обходит с этой целью лачуги бедняков.
Пия, которая не была приучена к визитам такого рода, решила, что это ошибка, и собиралась об этом громко сказать, когда неизвестная дама подошла к ней, взяла за обе руки и обняв, поцеловала в лоб.
И Пия, совершенно растерянная, не осмелилась уклониться от неожиданной ласки.
—
Я вижу, моё дорогое дитя, — начала дама, садясь на один из трёх соломенных стульев, украшавших мансарду, — я вижу в вашем удивлении, что вы меня не узнали… что, впрочем, совершенно естественно, так как вы меня раньше видели только мельком.
—
Извините меня, мадам… но я этого не припоминаю, — прошептала девушка.
—
Вчера я была рядом с вами… хотя мне не следует напоминать вам об этих тяжких моментах… я была рядом с вами в то время, когда вы молились за ту, кого больше нет с нами.
Пия вздрогнула и внимательно посмотрела на женщину.
—
На кладбище Сент-Уэн… около могилы вашей сестры.
Память возвратилась к девушке. Накануне она едва заметила, после бессонной ночи, даму, которая беседовала с Софи Корню, но теперь ей показалось, что это была действительно она.
—
Я как раз перед этим молилась на могиле нашей дорогой Бьянки …
—
Вы, мадам…! — произнесла изумлённая Пия.
—
Это вас удивляет, потому что вы не знаете, что я любила вашу сестру так сильно и нежно, как если бы я была её матерью.
—
Вы её знали!?
—
Да… вот уже два года как. Я встретилась с Бьянкой в Милане у друзей моего мужа, который тогда путешествовал со мной по Италии. Я привязалась к ней всей душой, и в итоге она ответила мне взаимностью.
—
Бьянка мне никогда не говорила о вас.
—
Не более, чем она вам сказала, почему она приехала в Париж.
—
Простите меня, мадам, но Бьянка мне об этом сказала.
Дама закусила свою губу от неожиданности губы, но не потеряла хладнокровия, и быстро нашлась после этого неожиданного удара.
—
Таким образом, — продолжила она, — вы знали, что Бьянка искала своего отца… который был также и вашим!
—
Я это знала.
—
Но вы не знаете, что именно благодаря мне она его нашла.
—
Наш отец! Что! Она с ним виделась… и не сказала мне об этом! Нет, нет, это невозможно.
—
Она его не успела увидеть… после долгих розысков я узнала, что он жил в маленьком городке на юге Франции… и Бьянка, проинформированная мной… ему написала…
—
И она от меня это скрыла!? Странно…
—
Она и от меня скрыла, что у неё была сестра… от меня… а ведь я ей предоставила столько доказательств моей дружбы и преданности. А буквально только вчера я случайно узнала, кем вы для неё были. Она была излишне скромна, или скорее сдержанна и осторожна. Ведь она вам никогда не говорила, где она жила.
—
Нет, хотя я часто спрашивала.
—
Это я рекомендовала её этой доброй женщине, которая держит дом с меблированными комнатами на улица Аббатисс и которая вчера принесла цветы на кладбище. И ей тоже, этой превосходной мадам Корню, Бьянка никогда не говорила о вас… Бьянка ей рассказывала, что она по вечерам ходила брать уроки пения, а сама в это время встречалась с вами. А я, в свою очередь, не знала, что Бьянка уходила из дома по вечерам. Ко мне она приходила только по утрам. И со мной она говорила только о вашем отце. Бьянка мечтала лишь о том, чтобы снова его увидеть.
—
Но она с ним не встретилась? — спросила девушка с волнением.
—
Увы! Нет. И это её убило.
—
Что хотите этим сказать?
—
А вам разве не рассказали, как умерла ваша сестра? — спросила дама после некоторого молчания.
—
Мне только сказали, что она умерла внезапно, — прошептала Пия со слезами на глазах.
—
Она умерла от печали и горя.
—
Что! …
—
У нее было больное сердце… и оно разбилось. Она узнала прямо перед своей гибелью, что ваш отец отказался принять её… он отрёкся от Бьянки …
—
Возможно ли это?
—
Это сущая правда. В своём письме Бьянка умоляла отца признать их родство, напоминала, что у него есть две дочери, но он ответил очень грубым письмом. У бедного ребёнка не хватило сил пережить этот удар.
—
Ах! Это ужасно! — Зарыдала девушка, оседая на стул, который оказался там очень кстати, так как иначе она бы снова упала на пол, как накануне в мастерской Поля Амьена.
Дама встала, вытерла батистовым платочком слезы, которые наводняли лицо Пии, и тихо сказала:
—
Не отчаивайтесь, моё дитя. Мужчины забывчивы, и ваш отец подчинился, без сомнения, первому порыву гнева, узнав, что та, которую он оставил много лет назад, стала певицей, чтобы у неё были средства на жизнь, но мужчины отходчивы, и его сердце может измениться… оно изменится… и я надеюсь, что хотя он отклонил руку своей старшей дочери, он не отклонит порыв сердца и руку младшей… вашу… и придёт вам на помощь …
—
Нет… потому что я у него ничего не попрошу, — сказала Пия, выпрямляя плечи. — Он никогда не услышит обо мне.
Дама при этих словах изменилась в лице.
—
Мне нравится ваша гордость, — сказала она после некоторого молчания, — и у меня не хватит мужества вас осуждать за это решение. Но настала пора вам узнать, кто я и почему пришла к вам. Меня зовут мадам Бланшелен. У моего мужа приличное состояние. Мы живём в Париже, но каждый год весной совершаем путешествия в разные страны. И вот уже три раза мы были в Италии, и мы вернёмся туда ещё не раз, разумеется, так как мы полюбили вашу прекрасную страну. И как я вам уже говорила, во время одного из наших путешествий мы познакомились с вашей сестрой, и я подружилась с ней. Известие о её смерти потрясло меня, но я благословила случай, который донёс до меня известие, что у моей дорогой Бьянки была сестра, и я поклялась себе, что перенесу на эту сестру всю привязанность, которую мне внушала та, кого мы сейчас оплакиваем. Я узнала, где вы живете. Госпожа Корню мне об этом сказала, а ей об этом сказал вчера на кладбище кто-то из знакомых. Это я попросила её расспросить о вас и о вашем знакомом художнике, и месье Верро ей рассказал, что у вас не было другой возможности выжить, кроме как позировать в мастерских художников. Тогда, я подумала о том, чтобы предложить вам лучшие условия для жизни.
—
Я вас благодарю, мадам, но я не нуждаюсь ни в ком и ни в чем, — прошептала девушка.
—
Я это знаю, моё дитя. Мне известно также, что вы разумны, экономны, что вы всегда отличались образцовым поведением, и что благодаря вашей работе вы смогли сделать некоторые накопления. Но простите меня за то, что я вам говорю об этом, но я не вижу будущего для вас в этой профессии… ведь вы не всегда будете так красивы, и когда достигнете того возраста, когда вы не сможете больше служить моделью для художников …
—
Я не буду дожидаться этого момента… и решила больше никогда не позировать.
—
А что вы намереваетесь делать?
—
Я собираюсь возвратиться в Субиако, где родилась я и где умерла моя мать.
—
В Субиако! Какое странное совпадение! Мы оказались там с мужем однажды проездом, но были так очарованы вашими прелестными горами, что решили весной расположиться там и остаться до конца лета. Почему бы вам не поехать туда вместе с нами?
—
С вами, мадам!? О, разве вы не видите, что я — всего лишь бедная девушка, которая там должна будет заняться своим прежним делом, тем, чем я занималась перед отъездом во Францию… чтобы прожить… выжить… пасти коз!
—
Тогда… наших коз, — сказала госпожа Бланшелен с доброй с улыбкой. — Мы срочно купим стадо коз. Так как мой муж исполняет все мои желания, а я постараюсь быть вместе с вами. Послушайте меня, моя дорогая Пия. Вы одиноки в этом мире, так как ваш отец отверг Бьянку, и поскольку вы не хотите вновь затронуть родственные струны его сердца …
—
Никогда! — громко произнесла Пия. — Он никогда не узнает о моем существовании.
—
Ну хорошо! А я, женщина, у которой есть все, что необходимо
для счастья в этом мире… но мне его
недостаёт, на самом деле… признаюсь вам… ведь у меня нет детей, и это самая большая печаль в моей жизни… и у меня была мечта… которая рухнула в вечность… я мечтала удочерить вашу сестру, если бы её отец отказался её признать… и обсуждала это с моим мужем, который разделил мои идеи, и мы представляли, что однажды выдадим Бьянку замуж и позже оставим ей все наше состояние. Смерть похитила у нас вашу сестру, но случай подарил нам вас, и теперь только от вас, моё дитя, зависит, вернётся ли к нам надежда, которую мы, казалось уже безвозвратно потеряли. Пия, моя дорогая Пия, хотите ли вы, чтобы я стала вашей матерью?
—
Моей матерью! — повторила Пия, опуская голову, — Увы! Я её потеряла.
—
Я вам её заменю, — взволнованно сказала дама. — Ваша сестра, которую я столь нежно, по-матерински любила, не отклонила бы это предложение, если бы это от неё зависело, осчастливить этим меня или нет. Я не осмеливалась предложить ей удочерение, потому что думала, что её отец не посмеет отказаться от своей дочери. Но когда я узнала, что у этого человека нет сердца, что он оттолкнул свою дочь, моё решение было моментальным. Если бы смерть не поразила Бьянку, я бы уже была у неё и непременно сказала бы: «Придите, двери нашего дома открыты для вас. Приходите, и мы больше никогда не расстанемся.» И я уверена, что Бьянка уже жила бы с нами.
—
Моя сестра никогда не оставила бы меня.
—
О! Конечно же нет. Бьянка мне рассказала бы о вас… она бы непременно привела бы меня сюда… и я умоляла бы вас не оставлять её, и я уверена, что вы не сопротивлялись бы моим просьбам и согласились бы жить вместе с нею у меня… и у меня было бы две дочери вместо одной. Бог призвал Бьянку к себе, но вы продолжаете жить, Пия, и вы теперь круглая сирота, одна в этом жестоком мире, без друзей, без родителей, так как у вашего отца хватило варварства отказаться от своих детей. И я уверена, что вы не откажетесь от новой семьи, которая вам протягивает свои руки.
—
Я вас благодарю за вашу доброту, мадам, — прошептала Пия, — но я вам уже сказала, что я хочу возвратиться в Италию.
—
И я вам тоже сказала, что это лето мы, мой муж и я, собираемся провести именно в вашем родном городе… и будет вполне естественно, если мы совершим поездку в Субиако все вместе. Когда вы хотите уехать, моя дорогая Пия?
—
Я не знаю.
—
Мы вместе выберем день, который вас удовлетворит, моё дитя.
—
Вы слишком добры, мадам, но я не могу вам обещать, что поеду вместе с вами.
—
Почему? Вы не знаете, когда покинете Францию?
—
Да… пока не знаю.
—
Мне кажется, что вам это лучше сделать как можно раньше… особенно, учитывая то обстоятельство, что как только что вы мне сказали, что больше не хотите позировать художникам… ведь вы быстро исчерпаете ваши ресурсы и вам не на что будет жить.
—
Я не останусь здесь. Вы правы… Возможно, что я уеду завтра. Но я не могу покинуть Париж прежде, чем увижусь с одним человеком, который зайдёт ко мне попрощаться.
—
Кто-то ещё интересуется вашей судьбой! Ах! Я очень счастлива. Я хотела бы с ним познакомиться, с этим вашим другом, который остался вам верен в этом несчастье и поддерживает вас. Я хочу поговорить с ним о вас и моей идее поехать вместе с вами в Италию и пообещать ему заменить его рядом с вами.
—
Тогда, — спросила её Пия, — вы не найдёте ничего плохого в том, что я сначала посоветуюсь с ним.
—
Не только не найду это плохим, но и призываю вас сделать это. И если вы сочтёте возможным назвать мне имя вашего друга и его адрес, я сама отправлюсь к нему и все объясню, в деталях расскажу о том, что я хочу сделать для вас, и попрошу его присоединиться ко мне
в моих усилиях помочь
вам принять моё предложение. Если он испытывает к вам настоящую дружбу, то обязательно поддержит моё предложение, так как увидит, что оно идёт из самого моего сердца.
—
Хорошо, мадам, я вам его назову. Это тот художник, который меня вчера привёз на кладбище Сент-Уэн.
—
Что! Это месье Верро! — воскликнула дама, которая прекрасно знала, каких слов ей стоит ожидать из уст Пии. — Но это-не серьёзный художник. Госпожа Корню, которая поселила у себя вашу сестру, мне сказала, что он проводит все своё время в кафе наедине с бутылкой, вместо того, чтобы работать. И мне кажется, моя дорогая Пия, что если именно у этого бедного гуляки вы хотите спросить совет …
—
Я вам говорю не о нем, мадам. Мне известен месье Верро и я знаю, чего он стоит, и надеюсь, что больше никогда в жизни не увижу его. Я вам говорю о другом человеке… о месье Поле Амьене.
—
Художнике, который живёт на пляс Пигаль?
—
Да, мадам.
—
Именно в его мастерской, насколько мне известно, вы узнали о смерти вашей сестры… и только у него одного вы позировали со времени вашего прибытия в Париж.
—
Кто вам сказал об этом? — спросила достаточно удивлённая Пия.
—
Госпожа Корню, которая сама узнала это от Верро.
—
Тогда он должен был ей также сказать, что я всем обязана месье Амьену, и что я жила только благодаря его щедрости, и что без него …
—
Месье Амьен вам также кое-чем обязан. Где бы он ещё нашел такую модель… такую, как вы? Но он вам действительно обещал, что придёт к вам до вашего отъезда из Парижа?
—
Настолько, что заставил меня поклясться, что я не сделаю этого, не повидавшись с ним.
—
И вы ждёте, что он выполнит своё обещание?
—
Без сомнения. Почему я должна сомневаться в его словах?
—
Мой Бог! Я не утверждаю, что он забудет о своём обещании, но я была бы очень удивлена, если он действительно найдёт время, чтобы его сдержать. Разве вы не знаете, что месье Амьен собирается жениться в самое ближайшее время?
—
Месье Амьен собирается жениться… вы это сказали? Нет, это не возможно, — прошептала ужасно побледневшая в одно мгновение Пия.
—
Я вас уверяю, моё дитя, что он вскоре женится, — сказала госпожа Бланшелен. — Объявления об этом уже были в газетах, и церемония бракосочетания состоится на следующий день после открытия Салона.
—
Откуда вам стало это известно?
—
Месье Верро об этом рассказал мадам Корню, а она мне. Месье Амьен сочетается браком с мадемуазель Авророй Дюбуа, дочерью богатого домовладельца. Это — очень выгодная партия для него, ведь у него нет ничего за душой, а у невесты очень хорошее приданое и, к тому же, она прелестна. Но что это с вами, моё дорогое дитя?
—
Ничего, мадам, — ответила Пия, с трудом сдерживая душившие её рыдания.
—
Так значит Вы привязаны к месье Амьену… а я то думала, что эта новость вам доставит удовольствие… но вижу, что ошиблась.
—
Я в это не верю… если бы он должен был жениться… он бы мне не обещал прийти ко мне
.
—
Почему? Напротив, это вполне логично. Разве он не хочет закончить картину, которую начал? Если эта картина будет закончена, она будет иметь большой успех, и месье Амьен очень беспокоится о том, чтобы не пропустить выставку. Как он её закончил бы, если вы откажетесь позировать ему?
—
Получается, что он придёт сюда лишь потому, что нуждается во мне…
—
Вас это не должно удивлять, моя дорогая малышка. Великие художники эгоистичны. Месье Верро все эти детали разболтал этой доброй Софи Корню. Он даже добавил многие другие детали. Вы его знаете… вы должны знать, что этот болтун расскажет всему свету не только о своих делах, но и даже о делах своих друзей.
—
И о чем он ей рассказал?
—
О тех вещах, повторить которые было бы ошибкой с моей стороны.
—
Ничего не бойтесь, мадам… я готова выслушать все. И, если вы питаете дружеские чувства ко мне… вы должны меня просвятить относительно намерений месье Амьена.
—
Мой Бог! Дорогая Пия, вы меня привели в замешательство. Разве это стоит того, чтобы лишить вас одной иллюзии… Но с другой стороны, если вы должны были пожертвовать будущим, которое я вам предлагаю, ради человека, который думает только о том, как вас использовать в своих интересах …
—
Говорите, я вас умоляю!
—
Дело в том, что я опасаюсь не только вас огорчить, но ещё и глубоко ранить ваши чувства.
—
Рана уже нанесена, — ответила Пия глухим голосом.
—
Итак, моё бедное дитя, кажется, что месье Амьен заметил… или подумал, что заметил… даже не знаю, как вам это сказать… он решил, что внушил вам чувство, которое …
—
Заканчивайте, мадам. Он решил, что я его полюбила.
—
Вы сами об этом сказали.
—
Это правда…. Я его люблю.
—
Увы! Я это подозревала. И благословляю Бога, который вложил в мою голову мысль прийти сюда… потому что может быть ещё осталось время, чтобы… спасти вас от самой себя… излечить вас от этой гибельной страсти. Я не решалась вам сказать жестокую правду, но теперь я больше не колеблюсь. Поэтому, знайте, моя бедная девочка, что если этот человек от вас скрыл, что он собирается жениться, то лишь потому, что опасался, что вы покинете его, не закончив работу. После сцены, которая произошла в его мастерской, мадемуазель Дюбуа устроила другую Полю Амьену перед месье Верро. Она ревнует его к вам, и запретила своему будущему мужу видеться с вами. И он ей поклялся, что вашей ноги больше не будет у него в мастерской.
—
Но… я в это не верю… это было бы недостойно… и, кроме того, я его снова видела следующим днём.
—
Потому что он был заинтересован в том, чтобы не ссориться с вами. Месье Амьен ведёт двойную игру. Как мужчина, он заинтересован не потерять свою богатую невесту, а как художник он не хочет лишиться своей натурщицы, которую он не сможет заменить. И я разгадала его план. Скажите мне откровенно, Пия, не предложил ли он вам позировать для него в другой мастерской… не в его?
—
Он не говорил о другой мастерской, а лишь спросил у меня, не согласилась ли я ему позировать в месте, где мы будем с ним наедине… только он и я.
—
И вы приняли его?
—
Я ещё не дала ответ, так как жду новостей от месье Амьена…
—
И ещё вы ему пообещали не уезжать, не повидавшись снова с ним. Это — именно то, чего он добивался. И он придёт.
—
Сюда? — спросила девушка, поёживаясь от озноба, вдруг охватившего её тело.
—
Несомненно. Он знает, что в этой комнате вы будете в его власти до тех пор, пока он не закончит свою картину… все, как ему нужно, и за спасибо …
—
Я не буду его ждать, — решительно сказала Пия.
Девушка внезапно встала и, так как она зашаталась, добрая госпожа Бланшелен обхватила её своей рукой вокруг талии, чтобы поддержать.
—
Вы правы, моё дитя, — сказала она мурлыкающим голосом. — Не нужно, чтобы месье Амьен вас здесь нашел, нужно расстроить гадкие замыслы злодея. Пусть он женится на мадемуазель Дюбуа, потому что она богата… но пусть, по крайней мере, он не злоупотребляет вашей доверчивостью. Позировать, чтобы оказать услугу этому человеку, который недостойно насмехался над вами… в этом было бы проявление вашей слабости… и если я верю тому, что ещё сообщил месье Верро… который знает все… что Поль Амьен способен воспользоваться вашей изоляцией, чтобы попытаться вас соблазнить… Ему было бы трудно попытаться сделать это в его мастерской, куда его невеста могла прийти в любой момент, но здесь …
—
Я хочу уехать, — прервала её девушка, — уехать сегодня же вечером.
—
Этим вечером, возможно, мы уже не успеем это сделать, но и здесь вам оставаться нельзя. Вчера месье Амьен вам сообщил о своём предстоящем визите. И он придёт, разумеется, сегодня. Если вы стараетесь избегнуть встречи с ним, у вас нет ни одной свободной минуты, чтобы покинуть этот дом. А двери моего дома открыты для вас, Пия. Я вас туда отведу, и я вам клянусь, что не буду пытаться оказать влияние на ваши решения. Вы останетесь у меня ровно столько времени, сколько пожелаете сами… навсегда… или на несколько дней, которые вам понадобятся, чтобы разобрать вещи или документы, которые остались от вашей сестры, и которые необходимо забрать из комнаты вашей несчастной умершей сестры у мадам Корню.
—
Зачем? — прошептала Пия.
—
Это абсолютно необходимо, моё дорогое дитя. Вы не можете оставить в том доме принадлежащие вашей сестре вещи, ведь подумайте сами, что иначе они будут проданы с аукциона… её одежда, её белье… это было бы надругательством над памятью сестры… и затем… там могут быть документы, в которых вы можете нуждаться впоследствии. Я понимаю, что у вас не хватит мужества войти в дом, где жила Бьянка, да этого и не требуется. Я предупрежу мадам Корню, чтобы она все доставила ко мне домой.
—
Хорошо, пусть будет так! — Произнесла Пия, которая больше не могла думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы быстрее уйти из этого дома и избежать встречи с Полем Амьеном. Теперь она твёрдо полагала, что Поль её обманул. — Увезите меня, мадам, я готова за вами следовать, если вы мне обещаете, что завтра вечером я смогу уехать из Парижа.
—
Я вам это обещаю, и хотя мне это будет стоить расставания с вами на некоторое время, я не буду вас отговаривать от этого путешествия, если вы не хотите ждать, пока мой муж закончит свои приготовления к отъезду. Вы будете свободны, абсолютно свободны, Пия. Мы к вам присоединимся в Субиако, и я надеюсь, что там вы не откажетесь от того, чтобы нас увидеть. Но время летит быстро. Пойдёмте, моё дитя, я вас умоляю!
Пия была так возбуждена обрушившимися на неё новостями, что была уже не в состоянии здраво рассуждать… и не здраво тоже.
—
Я готова, мадам, — сказала она, устремляясь к двери, которую мадам Бланшелен открыла только что перед нею.
Пия пропустила вперёд эту женщину, и не позаботившись даже о том, чтобы забрать ключ, спустилась вслед за ней по лестнице.
Они по дороге никого не встретили, лишь отец Лоренсо курил свою трубку на пороге своего кабачка. Он дружелюбно приветствовал Пию, но она промолчала, и старик у неё не спросил, куда она шла.
Хорошо одетые люди ему внушали уважение, а дама, которая увозила его жиличку, носила шёлковое платье.
Дама села в фиакр, который ждал её у двери дома. Пия присоединилась к ней, после чего женщина сказала адрес кучеру, и опустила шторы на окне, когда лошадь рысью пошла в направлении набережной.
Предосторожность была вполне разумна, так как в это время другой фиакр приближался навстречу им, большой фиакр, предназначенный также для перевозки больших сундуков, в салоне которого сидели два господина.
Оба фиакра встретились на мостовой, и если мадам Бланшелен посмотрела на пассажиров другого фиакра, немного отодвинув штору в салоне, то они её не увидели… ни её, ни девушку, которую она в это время похищала.
Минутой спустя, эти два пассажира спрыгнули на тротуар перед доходным домом итальянского разбойника, к большому изумлению Лоренцо, не привыкшего к такой деловой активности.
—
Добрый день, старый бандит, — закричал ему первый спустившийся из фиакра мужчина, куривший глиняную трубку, которую он держал в одной руке, и с цветочным горшком в другой. Ты меня не признаешь, birbante
6
? Признай, по крайней мере, illustrissimo
7
синьора Амьена, благотворителя одной из твоих пансионерок!
—
Смотри-ка! Да это — вы месье Амьен! — произнёс Лоренцо на довольно хорошем французском языке.
Этот бандит на пенсии говорил немного на всех языках, получив возможность их изучить довольно курьёзным способом, увозя в горы путешественников по Италии со всего мира, где они проводили с ним много времени до тех пор, пока их родственники не заплатят за них выкуп, ибо в противном случае он без всякого сожаления отрезал им вначале уши, а потом, если это не помогало, и голову. И все это знали.
—
Да, старый брат дьявола, это именно я, — весело сказал художник. — Доставьте мне удовольствие и помогите кучеру спустить с крыши кареты мольберт.
Лоренцо повиновался, не говоря ни слова, в то время как Амьен оплачивал кучеру поездку.
—
Ты не ожидал нас здесь увидеть, месье достопочтенный разбойник, — произнёс Верро, как всегда пребывавший в весёлом расположении духа уже с утра. — Никогда ещё твой домишко не удостаивался визита двух талантливых художников, и такая честь будет ему оказываться каждый день в течение трёх недель. Я тебе советую поставить свечку в церкви в ради этого события. И тем временем, если у тебя есть бутылочка старого доброго Капри, ты можешь мне её принести. Я хочу чокнуться с тобой и твоими пансионерками. Почему они не выглядывают в окна, твои птички? Улетели…? Как…? Все? Всё ваше войско на пути к позированию…. В мастерские?
—
Осталась только мамаша Карлотта… у её малыша поднялась температура, — пробормотал Лоренцо, прислоняя к стене дома мольберт и холст, завёрнутый в ткань.
Фиакр, тем временем, освободившись от пассажиров и их багажа, уже катился по направлению к набережной.
—
Итак, как идут дела? — продолжал болтливый маляр. — Признайся, что эта профессия лучше, чем та, другая, которой ты занимался на тракте между Римом и Неаполем. Но не беспокой эту Карлотту. Она слишком уродлива, мне это известно. Когда я буду создавать шедевр, картину, на которой будет изображена колдунья, я обязательно воспользуюсь её услугами. Лучше уж мы с вами разопьём бутылочку вина на двоих. Синьор Амьен её оплатит, но не воспользуется содержимым. Нет ли у тебя только какого-нибудь мальчика, чтобы отнести всё это добро наверх? На какой этаж? Шестой, по крайней мере, не считая антресоль и подвал.
—
Значит вы приехали сюда работать? — Спросил его добрый с виду хозяин дома.
—
Да, отец Лоренцо, — ответил Амьен. — Мне нужно закончить одну картину.
—
Ты её видишь перед собой, эту картину, — прервал его Верро. — Берись за нее с респектом. Это — не просто картина, это-шедевр, и он будет закончен в твоём доме. Потомки будут упоминать этот факт в летописях.
—
Когда модель не хочет прийти к художнику, необходимо, чтобы художник пришел к модели, — продолжил Амьен.
—
Ах! Это вы о Пие! — выдохнул Лоренцо. — Это сущая правда. Она печалится, потому что её сестра умерла.
—
Ты знал её сестру?
—
Я видел её однажды вечером. Но она мне не ответила, когда я с ней заговорил. Я мог бы легко найти ей работу, если бы она согласилась попозировать какому-нибудь художнику. Но нет. Она была дикой, как горная птичка.
—
И когда она уходила, она села в омнибус на бульваре Сен-Жермен, не правда ли, папаша? — Спросил Верро.
—
Это вполне возможно, но мне неизвестно, и я не знаю, где она жила. Думаю, что она запретила Пие мне об этом говорить.
—
А вот и нет. Тут ты ошибаешься. Пия сама этого не знала.
—
Как, кстати, дела у Пии? — спросил Амьен, которого эта болтовня совершенно не интересовала.
—
Она не больна, синьор, но очень печальна. Плачет с утра до вечера, и ничего не ест.
—
Аппетит к ней возвратится, я на это надеюсь, и весёлое настроение также. Я беру на себя заботу излечения её от меланхолии. Шестичасовые сеансы каждый день, мой дорогой, заставят Пию забыть всё плохое, что приключилось с ней в последние дни.
—
Как! Сеансы прямо в её комнатке?
—
Да, отец Лоренцо. Она крохотная, и мне это прекрасно известно, но в ней, все-таки, достаточно места, чтобы поставить мой мольберт, а свет там должен там быть ещё лучше, чем в моей мастерской. Только, мой дорогой старик Лоренцо, я не хочу, чтобы об этом болтали в твоём доме. Ни одного слова твоим арендаторам. Они меня не увидят, так как весь день работают в городе, и я буду каждый день приезжать уже после того, как они отправятся на работу, а уезжать перед их возвращением.
—
Capito, signor… понял, месье Амьен.
—
Очень хорошо. Тогда, возьми мольберт на свою спину, а Верро понесёт холст, я же возьму на себя заботу о горшке с цветами. Пия будет приятно удивлена, увидев нас нагруженных, как грузчики на рынке…
—
Да… когда она возвратится.
—
Что! Она ушла?
—
Пять минут тому назад. И меня удивляет, что вы её не увидели. Фиакр, на котором уехала Пия, проехал навстречу вашему.
—
Как! Она уехала на фиакре… сейчас! — Воскликнул Верро. — Как теперь я понимаю, Пия больше не любит омнибусы.
—
Это — странно, — выдавил из себя Амьен, — она мне обещала…
—
Пия уехала вместе с дамой.
—
Как…! Она была не одна!
—
Нет. Дама, которая её увезла, приехала за ней на фиакре. Она оставалась наверху почти три четверти часа и спустилась вниз вместе с Пией, и все это время фиакр ждал её у входа, и они поднялись внутрь кареты непосредственно перед тем, как ваш экипаж показался на углу улицы.
—
Тогда, мы с ними пересеклись …
—
И я понимаю, почему мы их не увидели. Я вспомнил… Шторы их фиакра были опущены, — воскликнул Верро.
—
Это правда, я теперь тоже припоминаю этот странный фиакр, — прошептал Амьен задумчиво.
—
Как выглядела эта дама? — спросил Верро, обращаясь к хозяину дома. — Для начала скажи… была ли это дама? Или она выглядела, как художница, у которой ветер в голове, и которая искала модель для своей картины?
—
На ней было шёлковое платье и бархатное манто. И она сюда приходит не в первый раз.
—
Значит, она уже была знакома с Пией?
—
Нет, я так не думаю. В тот вечер, когда её сестра была наверху у нее, эта женщина тоже приходила сюда, и она у меня спросила, к кому пришла персона, которая только что вошла в дом. Я ей ответил, что не слежу за постояльцами, и она ушла, грубо ворча. Но сегодня утром она уже хорошо знала, чего хотела, так как сразу же назвала мне имя Пии Романо, и сказала, что та ждёт её наверху.
—
Эта дама, вполне очевидно, лгала. Пия не ожидала никого, кроме меня, — воскликнул Амьен.
—
Это тот вопрос, на который ты сейчас не знаешь ответа, — возразил Верро. — Малышка не рассказывала тебе о своих делах, и доказательством тому служит факт, что она тебе никогда не упоминала о Бьянке. И вероятно, что она не хотела, чтобы ты знал, куда она отправилась, так как она предусмотрительно опустила шторы своего фиакра.
—
Уверен ли ты, что окна фиакра были зашторены, и именно Пия это сделала? Этот внезапный отъезд похож на похищение, и обсуждаемая нами дама мне подозрительна. Пия тебе ничего не сказала, уезжая? — добавил Амьен, обращаясь к хозяину дома.
—
Ничего… совсем ничего, синьор. Она даже не посмотрела на меня, — ответил Лоренцо.
—
Значит, она собирается вернуться, — сделал свой обычный скоропалительный вывод Верро. — Раз она ничего не взяла из своей комнаты, то обязательно вернётся. Никто не переезжает, бросив всё в старой квартире.
—
Ты прав. Давайте поднимемся к Пие и подождём её в комнате, — сказал Амьен, устремляясь к лестнице, которая вела к мансарде на шестом этаже.
Верро последовал за ним, не обращая внимания на старика, который что-то бормотал себе то ли себе под нос, то ли в бороду.
Старый пройдоха жалеет лишь о том, что потерял свои комиссионные, — думал Верро, объясняя таким образом для себя ворчание старика.
Он не понял, что Лоренцо лишь предупреждал их, что Пия всегда уносила, когда уходила, ключ от комнаты с собой, и, вполне вероятно, они загнав себя таким бешеным темпом подъёма наверх, наткнутся на шестом этаже на закрытую дверь.
В чём, впрочем, Лоренцо ошибался, так как ключ остался в замке двери в комнату Пии.
Верро, войдя в её комнату после своего ничего не заметившего друга, обратил его внимание на этот довольно необычный факт.
—
Это странно, — сказал Верро, — я считал Пию более аккуратной хозяйкой. Она оставляет свою комнату в распоряжение первого встречного. Ладно бы ещё она пошла за покупками куда-нибудь по соседству, тогда это можно было бы с грехом пополам как-нибудь объяснить, но она уехала на карете, что, очевидно указывает на то, что Пия собирается провести продолжительное время вне дома. Справедливости ради нужно заметить, что здесь… ха-ха… практически нечего воровать.
Амьен молчал, но видя эту пустую комнатушку, почувствовал тяжесть в сердце, поймав себя на мысли, что ищет глазами письмо, адресованное ему.
Предчувствие ему подсказывало, что Пия упорхнула из этого гнёздышка навсегда, но это ему казалось невозможным… чтобы она уехала, не написав ему ни строчки… не попрощавшись с ним.
Он также спрашивал себя, кто была эта женщина, которая только что увезла Пию, и которую Лоренсо уже видел однажды вечером при довольно странных обстоятельствах, когда она пыталась у него справиться о Бьянке Романо.
И неясные подозрения начинали пускать ростки в его душе.
—
Интересно, — сказал Верро, меряя шагами мансарду, — как ты собирался здесь заканчивать свою картину. Комнатка настолько мала, что в ней едва ли поместится твой мольберт, а уж где ты хотел пристроить свою натурщицу… Лишь бы только этот плут Лоренсо не заставил нас ждать. Ах! Стучат, это — он. Боже мой, какая деликатность. Он не может запросто открыть дверь, боится нас побеспокоить, придётся мне идти и открывать ему дверь.
И он отправился открывать дверь, в то время как Амьен высунулся в окно, чтобы посмотреть на улицу в надежде, что вдруг это Пия вернулась, а не старого отца Лоренцо его друг Верро найдёт на лестничной площадке.
Внезапно, открывая дверь, Верро, чуть не снёс ею персону, которая так настойчиво требовала впустить её в комнату.
Это был мужчина, очень хорошо одетый господин самого респектабельного вида, каких нечасто можно было встретить в доме отца Лоренсо.
Верро едва успел отступить назад, уклоняясь от двери, и впадая в шоковое состояние от удивления при виде появившегося на пороге бородатого чучела.
—
Прошу прощения, — пробормотала эта персона, — я ошибся, без сомнения …
—
А вы кого ищите? — закричал ему Верро громовым голосом, то ли пугая пришельца, то ли предполагая, что тот глух, как пробка.
—
Я ищу девушку …
—
Как! в вашем возрасте?
—
Да… Итальянку, профессия которой натурщица…
—
Ничего себе! Надеюсь, что вы не станете меня уверять, что ваша профессия художник… с вашей то физиономией…!
—
Месье!
—
О! Не сердитесь. Это — комплимент. Вы слишком комильфо, чтобы быть художником. Вы мне на самом деле кажетесь советником в кассационном суде какой-нибудь провинциальной столицы. Как зовут эту вашу итальянку?
—
Пия Романо.
—
Ах…ба… вот это новость так новость!
—
Человек, который держит этот дом, мне сказал, что она жила на последнем этаже, и я …
—
Он не шутил. Это здесь. Что вы от неё хотите, от Пии Романо?
—
Я должен с ней поговорить о деле, которое персонально касается именно её.
—
Этой фразой, я надеюсь, вы хотите донести до моего мозга мысль, что нуждаетесь во мне и моих услугах по поиску упомянутой вами персоны. Я понимаю это, но, к сожалению, ничем вам помочь не могу. Малышка вышла.
—
Тогда я зайду сюда ещё раз попозже.
—
Подождите! Подождите же! — внезапно воскликнул Верро, рассматривая посетителя. — У меня есть неясное подозрение, что я вас уже видел где-то.
—
Это вполне возможно, месье, так как мне тоже кажется, что я вас уже встречал… только я не припоминаю, при каких обстоятельствах.
—
Сейчас… сейчас… Конечно! Ведь это вы приходили на пляс Пигаль… в мастерскую… и искали папашу Дюбуа.
—
Действительно, месье, и я теперь вспоминаю… тогда, там… вы тоже
открыли мне дверь.
—
Это точно, вы верно подметили… я ненавижу портье, но мне приходится их подменять время от времени. Так что, входите, месье.
—
Простите, но …
—
Мадемуазель Пия вышла, но она должна вернуться, и тем временем вы сможете побеседовать с двумя самыми близкими из её друзей. Эй! Амьен! — закричал Верро.
Амьен был рядом, как и все в этой мансарде, так что заслышав этот диалог он бесшумно приблизился к двери.
Как только он показался, посетитель снял свою шляпу и принял другое выражение лица. Очевидно, он находил, что у Амьена не было ничего общего с его плохо одетым и мало воспитанным товарищем, который представился ему первым, и что он вполне мог объясниться с ним.
—
Месье, — вежливо сказал он, — у меня уже была честь вас видеть, и я очень счастлив встретить вас здесь, так как я пришел сюда прямо от вас, от дверей вашего ателье.
—
Если я не ошибаюсь, месье, вы — нотариус месье Дюбуа, — спросил его Амьен, который вполне ясно вспоминал первый визит этого персонажа.
—
Его нотариус… нет… вы не совсем правы… не его… я был нотариусом его брата, месье Франсуа Буае, умершего совсем недавно в Амели-ле-Бэн.
—
Да…! Ладно, это, наверное, почти одно и тоже. Извините меня, мэтр, юриспруденция-это не моя стезя. Месье Дюбуа мне говорил о потере, которая его постигла только что… какое-то огромное наследство… но я его больше не видел с того самого дня, когда вы приходили в мою мастерскую, и …
—
И вы спрашиваете себя, какой мотив заставил меня пожелать вновь увидеть вас. Так вот, речь идёт …
—
Нет, нет, не здесь, — воскликнул Верро, увлекая посетителя в комнату. — Я вас встретил на лестничной площадке только потому, что не знал, с кем имел дело… а в первый раз я вас принял за комиссара полиции, но так как вы — нотариус, это кардинально меняет дело.
Должностное лицо вошло в комнатку, не заставляя себя упрашивать. Присутствие Амьена его успокоило.
—
Месье, сказал он, — меня зовут мэтр Дрюжон, и вы знаете, без сомнения, что я приехал в Париж, чтобы ознакомить месье Дюбуа с завещанием его брата, но вам наверное неизвестно… я предполагаю, что это завещание лишило его наследства.
—
Действительно, мне это неизвестно, — прошептал Амьен, чрезвычайно удивлённый таким началом.
—
Месье Франсуа Буае
оставил все своё состояние двум своим дочерям, которые у него появились на свет во время его пребывания в Италии и которые, не будучи признаны
им никогда до времени составления завещания, носят имя их матери и зовутся Бьянкой и Пией Романо.
—
Что! — воскликнул Амьен, — Пия-дочь этого месье Буае!? Племянница месье Дюбуа!?
—
По закону, нет, — ответил мэтр Дрюжон. — Её отец не признал Пию Романо своей дочерью при жизни. Если бы он это сделал, то не смог бы оставить ей и её сестре все своё состояние, так как французский закон, как бы это не было парадоксально, запрещает завещать собственному ребёнку то, что он позволяет завещать в пользу обыкновенного иностранца.
—
Лучше уж получить наследство, чем папашу-буржуа, — произнёс поучительно Верро, — особенно, если наследство крупное.
—
Более пятисот тысяч франков.
—
Вот это да… Полмиллиона, которые с неба падают в фартук Пии!.. Ах!.. Она богачка! Богаче всех нас, вместе взятых! И этот маленький бекасик упорхнул на прогулку в фиакре прямо перед тем, как ей в гнёздышко принесли такой куш. Представляю, какое у нее будет лицо, когда она вернётся назад! Так что, Поль, в моей голове появилась неприятная для тебя мысль, что ты никогда не закончишь свою картину. На этот раз она точно больше не захочет тебе позировать …
И для того, чтобы выразить свою радость по поводу этой новости, Верро исполнил в середине комнаты несколько па, которые, по его мнению, должны были изображать пляску радости итальянских горцев из Абруццо, к большому изумлению мэтра Дрюжона, который принял его за сумасшедшего, которого неожиданно настиг приступ безумия.
—
Месье, — сказал Амьен, взволнованный, но тем не менее не так экспансивно реагирующий на эту новость, как его друг, — я очень счастлив узнать, что этот ребёнок будет богат, так как он достоин счастья, и эта новость настигнет её весьма кстати, чтобы компенсировать несчастье, которое её поразило только что, ведь сестра её умерла внезапно… неожиданно.
—
Бьянка Романо была сонаследницей Пии Романо. Завещание месье Буае устанавливало равные доли в наследстве обоим дочерям Стеллы Романо, их матери, жившей в Субиако в Италии. И, в связи с кончиной старшей дочери месье Буае, совокупность состояния по завещанию переходит к младшей дочери наследодателя.
—
Пия об этом даже не подозревает.
—
Она могла бы никогда не узнать об этой удаче в своей жизни, так как никто о них, сестрах Романо, ничего не знал. Месье Буае не занимался своими дочерями, и когда он вспомнил о них, а это, нужно сказать вам честно и прямо, произошло лишь в последний момент его жизни, то не смог даже сказать, где они живут сейчас. Абсолютно случайно я получил позавчера известия о той дочери, которая осталась в живых. Но эти новости были очень неполными, можно сказать, скудными. Вы вспоминаете, месье, что я появился в вашей мастерской для того, чтобы поговорить с месье Дюбуа, которого отыскал там.
—
Я прекрасно это помню. И вы у меня чуть не встретили Пию Романо. А ведь тогда она узнала только что о смерти своей сестры, и ушла несколькими мгновениями раньше.
—
И выходя из вашего дома вместе с месье Дюбуа я узнал от него, что он видел только что у вас единственную наследницу своего брата …
—
Которая лишила его наследства. Это очень щедро с его стороны, так как за неимением справки, которую он вам, таким образом предоставил, возможно, что претензии Пии на наследство никогда не были бы обнаружены.
—
Да, вы правы, месье, это очень вероятно… Эта случайная информация была невероятно важна для установления истинного владельца будущего состояния. Но для того, чтобы реально отыскать наследницу, месье Дюбуа не может быть моим помощником… с ним я, вполне очевидно, не буду иметь успех.
—
Почему? Ничего легче для него быть не может. Для этого месье Дюбуа достаточно лишь справиться у меня о месте жительства Пии, и я тут же сообщил бы ему и вам её адрес.
—
Это — как раз то, что я его попросил сделать, но он мне ответил, что не собирается и пальцем шевелить ради выполнения завещания, которое лишило его наследства в пользу какой-то там иностранки.
—
Это странно… Ведь вы только что сказали, что без него вы бы не узнали, что Пия Романо позировала у меня.
—
Да, первый порыв души всегда хорош… поскольку спонтанен и не обдуман. Но вскоре дурной нрав и досада одержали верх над месье Дюбуа. У месье
брата месье Буае
действительно нет повода быть довольным, и мы не можем требовать от него, чтобы он принял близко к сердцу интересы этой девушки, которая унаследует состояние, которое он уже считал по праву своим.
—
Значит он отказался вам указать способ узнать адрес Пии?
—
Совершенно верно. Он мне заявил, что больше ничего не хочет слышать о наследнице. Мадемуазель Дюбуа, которая неожиданно появилась, во время нашей беседы, одобрила… вернее, была очень рада решению своего отца, и велела мне не вмешиваться больше в это дело, которое, как сказала она, меня больше не касается. Она даже добавила, что эта Пия была бродяжкой, как и её сестра, и что она, без сомнения, уже оставила Париж, и бесполезно её здесь искать.
—
Ничего себе! Вот так поворот сюжета! — процедил сквозь зубы Верро, — она никакая не дочь буржуа… а гораздо хуже. Какой там Рубенс! Кто бы в это поверил?
—
К счастью, месье, вы не последовали этому совету, — сказал взволнованно
Амьен.
—
Нет, — ответил нотариус, — я подумал, что не могу… не имею права пренебрегать долгом нотариуса и честного человека, и обязан сделать все, что в моих силах и что зависит от меня, дабы Пия Романо узнала последнюю волю своего отца. Я решил отложить свой отъезд из Парижа, несмотря на срочные дела дома, и ещё вчера пошёл справиться о мадемуазель Пие Романо в префектуре полиции.
—
В префектуре!? — воскликнул Верро. — О! Предполагаю, что они не должны были вам много рассказать об этом деле! Сестра Пии умерла при довольно странных обстоятельствах, и полиция пребывает в полном недоумении относительно её смерти.
—
Прошу прощения, месье, — продолжил нотариус, — но именно смерть этой сестры Романо указала мне дорогу к дому другой сестры. Они мне сказали, что недавно умершая Бьянка Романо жила на Монмартре в доходном доме. Я туда отправился этим утром, и персона, который держит этот дом мне сообщила, что Пия живёт на улице Дефоссе Сен-Бернар.
—
Какое счастье, — прошептал Амьен, — ведь еще вчера утром, прежде чем пойти на кладбище, старуха Корню его не знала.
—
Она не смогла мне сказать номер дома, но я встретил на углу набережной… итальянку в национальном костюме, и осведомился у неё …
—
А эта пейзанка из Ломбардии вам указала на барак отца Лоренсо, — прервал его Верро. — Единственное, что меня удивляет, так это то, что этот старый разбойник вас сюда впустил, так как он видел только что, как отсюда выводили мадемуазель Пию Романо.
—
Этот почтенный синьор казался достаточно удивлённым, когда я у него спросил, на каком этаже жила девушка, и не хотел мне отвечать, но в конце концов указал мне на шестой этаж, не добавив при этом, что у Пии в комнате уже были посетители. Я полагаю, что он принял меня за агента полиции.
—
Это меня совсем бы не удивило, — пробормотал Верро. — Старик-разбойник всю жизнь прожил в страхе, что нагрянет полиция. В душе он до сих пор остаётся налётчиком с большой дороги.
—
Месье, — сказал Амьен, делая своему товарищу знак замолчать, — я вас благодарю за ваше щедрое участие в судьбе девушки. Оно пришлось тем более кстати, что у меня есть причины беспокоиться в связи с отсутствием этой девушки. Я приехал сюда, чтобы закончить картину, для которой Пия мне позировала. Она мне обещала ждать меня, а хозяин дома нам рассказал только что, что она уехала в фиакре с изящно одетой женщиной… уехала неожиданно, не сказав ни слова, когда она вернётся… и вернётся ли вообще. Это очень странно, и я начинаю опасаться, как бы её не похитили.
—
Это не было бы непоправимым несчастьем, — возразил, улыбаясь, мэтр Дрюжон. — Хорошеньких девушек всегда похищают красивые кавалеры.
—
О! Речь идёт совсем не о том похищении, которое вы имеете ввиду. У Пии нет возлюбленного. Но она теперь богата, и возможно, кто-то страстно желает заполучить её состояние.
—
Да, Пия Романо богата… но мало кто об этом знает… хотя, если предположить, что кто-то хочет его заполучить… принимая во внимание универсальное правило… ищите того, кому это выгодно… я бы обратил ваше внимание на то, что её смертью может воспользоваться только месье Дюбуа.
—
Кажется, я все понял… как раз накануне того дня, когда месье Франсуа Буае умер в Амели-ле-Бэн, завещание относительно Бьянки уже не имело юридической силы, потому что мадемуазель Бьянка Романо умерла к тому времени, и месье Дюбуа это было прекрасно известно… потому-то он в моем присутствии с нетерпением ждал события, которое ему принесёт состояние его брата после его смерти… и вдруг я ему сообщил новость о том, что есть другая законная наследница, очень даже живая. И в этом он не мог сомневаться, так как он сам её видел… и потому-то его лицо так переменилось.
—
Бьянка была убита, — воскликнула Верро, — и те, кто её убил, убьют и Пию, это ясно, как божий день. Если они не убили Пию до сих пор, так это только потому, что им было неизвестно, что она наследница огромного состояния.
—
Убита… Бьянка…! — повторил оглушённый этими словами нотариус, — но, месье, вы же так не думаете. Полиция провела официальное расследование, и было установлено, что эта девушка умерла от разрыва аневризмы.
—
Ах! Да… Вы хотите поговорить об этом в полиции!? Да они там ничего слышать не хотят. Но я то здесь и к вашим услугам. И у меня есть доказательства убийства, а с помощью одного моего товарища, которого я знаю, я схвачу негодяев, которые совершили это грязное дело. Вопрос состоит лишь в том, успею ли я их схватить раньше, чем они отправят на тот свет младшую сестру вслед за старшей.
—
Достаточно! Теперь позволь мне говорить, — воскликнул выведенный из терпения Амьен.
И он продолжил, обращаясь к мэтру Дрюжону, которого речи Верро очень обеспокоили:
—
Месье, вот что произошло… Бьянка Романо умерла несколько дней тому назад поздно вечером, в омнибусе, в котором волею обстоятельств оказался и я… умерла чрезвычайно странно… не испустив не то что крика… нет, ни малейшего звука… не шелохнувшись. То, что она умерла, заметили только тогда, когда омнибус прибыл на конечную станцию, и я подобрал на полу в салоне длинную булавку, которую женщина, сидевшая рядом с Бьянкой, потеряла или бросила, использовав самым гнусным образом перед этим. На следующий день я случайно обнаружил, что эта булавка была отравлена. Кошка, которая укололась об неё, тут же свалилась замертво. Без малейшего звука.
—
Ах! мой Бог! Но тогда получается, что если эта женщина убила сестру Пии…
—
Она может убить также и Пию. И я почти уверен теперь, что именно эта женщина увезла только что несчастного ребёнка, которого вы ищете.
—
Но, месье, — воскликнул нотариус, — если вы не ошибаетесь, ваш долг состоит в том, чтобы незамедлительно сигнализировать органам правосудия обо всех фактах, которые вам известны. Меня удивляет, что вы так долго медлили и не сделали этого до сих пор.
—
Я ошибся, и я это теперь вижу, — сказал Амьен. — Но я не верил в преступление. Я не знал в то время, что мёртвая девушка была Бьянкой Романо, которая должна была унаследовать значительное состояние. Убийство бедной и неизвестной девушки мне казалось необъяснимым и невероятным, потому что я не видел интереса, причины, по которой её могли бы убить. Новость, которую вы мне сообщили только что, совершенно в другом свете освещает эту мрачную историю. Очевидно, что наследницам месье Франсуа Буае угрожает смерть.
—
Что касается меня, то я уже давно об этом догадался, — воскликнул Верро. — И кроме того, именно я конфисковал смертельную булавку.
—
Что ты с ней сделал? — внезапно спросил у него Амьен.
—
Ах! Ах! Что произошло… это невероятно… Ты решил выслушать меня… Ты мне больше не запрещаешь говорить, и мне кажется, что ты сам хочешь, чтобы я рассказал тебе о моих операциях. Ты невольно признаешь, что я был на правильном пути, и раз ты признал свои ошибки, я на тебя не сержусь. И тогда ты можешь узнать, что я вручил эту булавку одному человеку, который взял на себя труд отдать её на исследование первоклассному химику, чтобы определить природу яда, который покрывал острие этой булавки. Опыт, в настоящее время, должен быть уже закончен и результат известен. Нам остаётся только найти женщину, которая пронзила этой булавкой Бьянку, и мой друг Фурнье взял эту работу на себя. Это равносильно тому, что мы уже держим убийцу в наших руках, так как он номер один в расследовании запутанных преступлений. Я лично в этом убедился. Ему потребовалось всего полчаса, чтобы обнаружить меблированную комнату, где жила Бьянка.
—
Что!? Он сам тебя туда отвёл?
—
Тебе об этом было бы уже давно известно, если бы ты потрудился у меня об этом спросить. Но как только я открывал рот, чтобы произнести имя этого достойного месье Фурнье, ты мне затыкал рот.
—
Итак! Можешь рассказать всё это сейчас. Где он, этот умелый сыщик? Я надеюсь, что он не связан с открытием места, где жила Бьянка. Или он лично привёл тебя прямо к её дому?…
—
Как ты догадался об этом… но вот черт возьми! Я его больше не видел с того самого дня, когда он меня отвёл на улицу Аббатисс.
—
И ты не пошёл к нему домой, чтобы узнать, куда он пропал?
—
Нет… И по одной простой причине. Он забыл мне дать свой адрес.
—
Как! Ты поручил булавку… такую важную улику, индивиду, чей адрес ты даже не знаешь!
—
О! Не нужно столько эмоций… Зато мне известно одно заведение, завсегдатаем которого он является. Месье Фурнье не пришел туда вчера, но обязательно вернётся. Это — Гранд Бок.
—
И ты всерьёз рассчитываешь, что этот странный завсегдатай пивной найдёт убийц! Забудь об этом и успокойся. Я их сам найду. Я снова видел эту парочку вечером в театре… женщину из омнибуса, и представь себя, она была вместе со своим сообщником, мужчиной, который уступил ей место в салоне и поднялся на крышу, на открытую площадку, и этот человек— не кто иной, как торговый агент, услугами которого пользовался до сих пор и продолжает пользоваться до сих пор месье Дюбуа…
—
Торговый агент? Подождите-ка, — сказал мэтр Дрюжон. — Действительно, месье Дюбуа мне сказал, что ещё до смерти своего брата он, предвидя, что тот напишет завещание, которого он опасался, воспользовался услугами одного агента, чтобы собрать информацию в Италии на Стеллу Романо и её двух дочерях.
—
Он вам назвал его имя?
—
Нет, но он мне назовёт его имя, если я у него его спрошу, я в этом не сомневаюсь.
—
А я на это надеюсь. Не возражаете, месье, если мы незамедлительно отправимся к месье Дюбуа за этими данными?
—
Весьма охотно, если вы думаете, что он сможет нам предоставить нужную справку… извините за такое выражение… эта история омнибуса и отравленной булавки столь новы для меня, что я немного потерялся.
—
Я вам все это подробно объясню по дороге. Но мы не имеем права терять ни одной минуты.
—
А я? — Обескураженно спросил Верро.
—
Ты!.. А тебе я рекомендую бежать в твою любимую пивную и посмотреть, вдруг твой друг Фурнье объявился там, — объявил свой приговор Амьен, который не хотел больше сотрудничать с этим горе-сыщиком.
Открывая дверь, Поль оказался лицом к лицу с Лоренцо, согнувшимся под весом холста и мольберта, с которыми он наконец добрался до комнаты Пии.
—
Женщина, которая пришла за Пией… не было ли у нее красных пятен на лице? — Вдруг спросил он внезапно у старого разбойника.
—
Да… и ещё у неё были черные глаза… как уголь… и большой нос… римский, — сказал старик. — Если бы она захотела позировать в образе Медеи, я без труда нашел бы ей работу у богатого художника.
—
Это она, — прошептал Амьен. — Послушай меня, мой добрый человек. Ты сейчас оставишь здесь все, что ты принёс, закроешь комнату и заберёшь с собой ключ. Если Пия вернётся, ты ей помешаешь вновь уйти, если же она попытается это сделать, ты немедленно пошлёшь кого-нибудь разыскать меня. И если женщина, которая её увезла, осмелится вернутся сюда, тебе следует найти комиссара полиции и задержать её. Понял ли ты меня?
—
S
ì, синьор, да— ответил Лоренсо, который никогда и ничему не удивлялся.
Амьен был уже на лестнице. Нотариус последовал за ним. Он принял близко к сердцу это дело, и хотел внести и свою лепту в его разрешение, внести в него ясность.
—
Идите, дети мои, — бормотал Верро, оставшись позади, — консультируйтесь с вашим буржуа. Существует ещё такой мой товарищ Фурнье, и только он в состоянии распутать это дело, и когда я пожму его руку при встрече, он задаст вам жару
…
Часть X
Верро последовал совету, данному ему Амьеном при расставании на пороге дома отца Лоренцо.
В то время как его друг Амьен и нотариус Дрюжон начали собственную охоту и пустились по следу преступников, он прямиком отправился в кабачок Гранд-Бок, где надеялся, наконец-то, встретить месье Фурнье, и он рассчитывал, благодаря этому своему умелому помощнику, прийти на финиш расследования раньше остальных защитников Пии.
Речь шла прежде всего о том, чтобы её обнаружить и освободить из рук, как все на это указывало, её врагов.
У Верро была очень большая вера в таланты Фурнье, и ему не терпелось бросить их по следу пропавшей Пии Романо.
Только Фурнье, который менее, чем за один час смог обнаружить адрес места жительства Бьянки, был в состоянии обнаружить вертеп, в котором удерживали сейчас её сестру.
Верро, впрочем, имел целую кучу других вопросов, ответы на которые он хотел бы получить у этого своего ценного товарища, так как он его не видел со времени их экскурсии на улицу Аббатисс, и даже не знал в настоящее время, закончил ли его знакомый химик, который должен был исследовать булавку, свои опыты.
Итак, он бегом примчался, полный иллюзий, в Гранд-Бок, где нашел лишь патрона этого заведения, меланхолически сидящего у своей стойки, и Верро ничего не оставалось делать, кроме как лишь справиться у него о своём товарище и узнать о том, что Фурнье больше не показывался в этом кабачке.
Отец Пуавро, который пребывал, как всегда, в промежутке между двумя порциями абсента, начал изливать изумлённому горе-художнику свои печали, жалуясь на то, что вот уже несколько дней, как вся его клиентура таинственным образом пропала.
Бильярд пустовал без игроков, а питейный зал оставался пустым. Ушёл в отставку самый верный из завсегдатаев-торговец аптекарскими товарами, Морель, второй в этом списке верных посетителей, который тоже забыл дорогу к бедному Пуавро.
А тот приписывал это дезертирство неким слухам, которые распространились среди потребителей его алкоголя.
Шептались, что один полицейский стал посещать его кабачок, а эти господа завсегдатаи, которые не любили полицию, пошли пить и играть в другое место.
Этот агент, персону, которого никто не мог вычислить, но утверждали, что он приходил каждый день в Гранд-Бок, и маскировался таким образом, чтобы никто не мог догадаться, кто он есть на самом деле.
Из чего следовало, что подозревали всех, и особенно мирных буржуа, для которых Гранд-Бок служил местом ежедневных встреч.
Подозревали мраморщика, подозревали торговца аптекарскими товарами, в числе подозреваемых был и Фурнье, и патрон думал, что эти приличные люди, услышав оскорбительные намёки в свой адрес, бежали прочь, не желая быть измазанными с головы до ног этими потоками клеветы.
Так, что несчастный Пуавро, покинутый всей своей клиентурой, имел в перспективе лишь только одни неумолимо приближающиеся очертания руин его банкротства.
—
Когда я думаю о том, что в стукачестве обвинили даже вас
, мне хочется грязно выругаться…! — воскликнул Пуавро, ударяя кулаком по стойке. — Ах! Если бы я знал негодяя, который изобрёл эти истории, чтобы сделать меня нищим, я бы с огромным удовольствием его убил.
Верро мало волновали эти признания и переживания кабатчика. Слова о том, что подозрения о работе на префектуру полиции затронули и его были неудачливому художнику безразличны, а финансовые несчастья Пуавро его трогали ещё меньше. Но он подумал, что завсегдатаи этого заведения не так уж были и неправы в своих подозрениях, потому что лично он сам был убеждён в том, что Фурнье работает или ранее работал в полиции. Но неприятной стороной этих слухов стало то, что вероятно Фурнье, предупреждённый о них и подозрениях в его адрес, больше сюда не возвратится.
Где теперь его искать? Верро безутешно сожалел о своей глупой промашке, о том, что он не настоял на том, чтобы узнать, где жил Фурнье, и не видел больше иного средства выяснить его адрес, чем отправиться за этими сведениями в префектуру. Правда, он сомневался, что там захотят ему этот адрес сообщить.
Так как больше ничего интересного вытянуть из патрона кабачка не было никакой возможности, Верро ушёл, попросив его на всякий случай сказать Фурнье, если случайно тот вдруг появится в его заведении, что его друг Верро желал его увидеть, и чем раньше, тем лучше, и он будет ждать его каждое утро у себя на улице Мирра, в антресолях над пятым этажом.
По правде говоря, Верро не чересчур полагался на свой визит в кабулё, и подумал, что может быть сейчас было бы лучше всего попросту пойти к Софи Корню, и рассказав ей об исчезновении Пии, попытаться получить от домохозяйки несколько полезных указаний.
Он задумчиво шёл по бульвару Рошешуа, когда заметил сидящего на скамейке и беседующего с двумя индивидами довольно скверной наружности бывшего аптекаря Мореля, о чьём отсутствии так сожалел совсем недавно бедный Пуавро.
Тотчас же в голову Верро пришла идея спросить у него, не мог ли бы он ему сообщить какие-нибудь новости о Фурнье.
Морель сидел спиной к Верро и не видел, что художник приближается к нему, но Верро его узнал издалека, по особой манере сидеть и, главным образом, по большой конусообразной шляпе тромблон, которую в их квартале, где любимым украшением причёски служила шёлковая фуражка, носил только один человек-бывший аптекарь.
«С кем, черт возьми, он там беседует? — спросил себя Верро, рассматривая двух мужчин, застывших перед бывшим аптекарем. Для бывшего торговца это не самые лучшие знакомые.»
Эти люди, действительно, были довольно плохо одеты, и они сознавали, без сомнения, своё социальное положение, поскольку стояли навытяжку перед аптекарем, а Морель, сидящий на муниципальной скамье, казалось, давал им какие-то распоряжения.
Верро, ни мало не смущённый этой странной сценой, подошёл к ним, совершенно не переживая по поводу того, что его появление прервёт этот разговор.
Но он не заметил, что оба индивида, которые ему противостояли, наблюдали тайком за каждым его движением.
Они предупредили, без сомнения, отца Мореля, что какой-то господин приближается к ним, так как этот респектабельный старик друг повернул голову и узнал тотчас же Верро, поприветствовав его поощряющей улыбкой.
Незамедлительно оба собеседника попрощались с аптекарем и направились медленным шагом к пляс Пигаль.
«Хорошо! — подумал художник-недоучка, — теперь, когда старик остался один, я могу у него спросить, не видел ли он Фурнье. Придётся кричать во все горло, но мне все равно. На бульваре больше никого нет, и впрочем, у меня нет тайн которые мне нужно было бы ему сообщить.»
—
Добрый день, мой дорогой месье Верро, — сказал ему аптекарь на пенсии. — Я вас не видел целую вечность и очень доволен тем, что снова встретил.
—
Я тоже, папаша, доволен, так как вы не приходите больше в Гранд-Бок, а мне нужно с вами поговорить, — ответил Верро, повышая свой голос насколько это только возможно. — Скажите мне, почему вы покинули отца Пуавро? Я зашёл сегодня в его кабулё, и нашел бедного отца Пуавро с глазу на глаз лишь с бутылкой абсента, но не с его любимыми завсегдатаями. Он собирался её опустошить, чтобы успокоить нервы, расшатанные потерей вашей персоны.
—
Мой Бог! Я могу вам честно сказать, что Пуавро неплохой человек, но у него довольно своеобразная клиентура… в основном из мира, так сказать, отверженных и, между нами говоря, это общество не слишком привечает таких как я. Я ходил к нему из-за вас и из-за месье Фурнье… но вот уже несколько дней, как он покинул это заведение, и мне показалось, что вы тоже незамедлительно сделаете тоже самое.
—
Я… это будет зависеть… от решения моего друга Фурнье, которого я безуспешно везде разыскиваю.
—
Серьёзно? Получается, что вы не знаете, где он живёт?
—
Нет, а вы? — проорал Верро.
—
Нет… и это не удивительно. Я его видел только в этом кабачке… да и там он не часто общался со мной… вы ведь понимаете, что мало удовольствия беседовать с глухим …
—
Кто бы это говорил, скотина безухая! — проворчал Верро.
—
Кажется, что вы имеете такое же просвещённое мнение, — сказал Морель, громко рассмеявшись.
—
Вы же прекрасно видите, что это не так, ведь я специально остановился, чтобы поговорить с вами, — закричал ему в ответ Верро.
—
Это очень любезно с вашей стороны, но вряд ли вас развлекает, раз вы называете меня скотиной.
—
Как! Вы это услышали? — поразился Верро, всего лишь на мгновение смутившись.
—
Да, и вас это удивляет лишь потому, что вы никогда не жили вместе с глухими.
—
Нет… И слава богу!
—
Если бы вы провели некоторое время с ними, вам было бы известно, что на открытом воздухе у нас совершенно другой слух, чем в четырёх стенах здания, например. Здесь, на улице, на свежем воздухе, или в карете с открытыми окнами, например, мы слышим все.
—
Хорошо! Я прекрасно понял, что
как только мне нужно будет с вами о чем-нибудь поговорить, я найму фиакр, и мы будем кататься столько времени, сколько нам потребуется, чтобы побеседовать… только вы оплатите
эти часы.
—
О! Весьма охотно… но тем временем мы можем всегда поговорить немного здесь… в хорошую погоду я всегда провожу здесь несколько часов, и вы не будете нуждаться том, чтобы надрываться и драть горло во время нашей беседы.
—
Это меня устраивает, так как я не люблю привлекать внимание прохожих. Я у вас хотел спросить, не могли бы вы мне сообщить новости о Фурнье. Вы не знаете его адреса, но, возможно, вы его видели в последнее время.
—
Нет, к несчастью… так как я его очень люблю, этого мальчика, хотя он почти не ищет встречи со мной. Но я вам клянусь, что если бы я его заметил на улице, то обязательно подошёл бы к нему. Мне кажется, что он не живёт в нашем квартале.
—
Ба! Странно, ведь Фурнье постоянно торчал в Гранд-Боке, а рыбак обычно не ходит на рыбалку далеко от своего дома. Так что он должен вскоре найтись, и ради того, чтобы узнать, где он живёт, я готов пожертвовать своей любимой трубкой.
—
Значит вы в нем так сильно нуждаетесь? Спорим, что я догадываюсь, почему!
—
Ах! Я вам бросаю вызов, папаша.
—
Черт возьми! Это не сложно. Вы хотите, чтобы он вам вернул позолоченную булавку, которую вы ему накануне отдали у отца Пуавро?
—
Булавка! Как!? Вы это заметили …
—
Глухие замечают все. Черт возьми! Это совершенно ясно. Они не рассеянны, в отличии от других, так как не слышат ничего, и компенсируют этот недостаток внимательностью к мелким деталям.
—
Тогда… значит вы не слышали того, о чем я с ним говорил?
—
Ах! Этого… нет. В зале, где мы сидели, очень низкие потолки, а вы уже знаете, что нам нужно открытое пространство, чтобы наши уши открылись. Но иногда мы догадываемся о сказанном по жестам, по движениям губ, по выражению физиономии.
—
И догадались ли вы тогда, о чем мы разговаривали с Фурнье? Вам с вашего места было удобно нас рассматривать, так как мы сидели за одним с вами столом.
—
О! Я не могу сказать, что понял все, могу и ошибиться, но общее представление имею. Мне показалось, что вы ему рассказывали о том, что кого-то убили или поранили этой булавкой, и которую Фурнье обещал отдать на исследование, чтобы выяснить, не была ли она отравлена.
—
Вы смогли понять это? Ах! Думаю, это было трудно!
—
Ну нет, это, напротив, было совсем просто. Я хотел взглянуть на эту булавку, но вы остановили мою руку. Я сразу же подумал, что вы опасаетесь несчастного случая. И дальше!.. Вы показали ему разорванное пополам письмо, и я предположил, что вы его нашли вместе с булавкой.
—
Честное слово, отец Морель, я начинаю думать, что вы хитрец. А я то вас принимал за наивного человека!
—
Ба! Лучше скажите… дурака. Это бы нагляднее проиллюстрировало вашу мысль.
—
Мой бог! Это вполне возможно, — цинично сказал Верро, — но я не стыжусь провозгласить, что ошибся. Человек, который понимает, ничего не слыша, способен на многое… на всё.
—
Вы очень добры… Так значит, я все понял правильно. Булавкой воспользовались, чтобы совершить преступление.
—
Ею убили девушку в омнибусе.
—
Наверное, вы имеете ввиду случай в омнибусе на пляс Пигаль. Я читал об этом в Пети Журналь.
—
Точно, мой старый друг. И с того самого дня мы, я и мой друг Амьен, ищем негодяйку, которая сделала своё мерзкое дело, а также и бандита, который ей в этом помог. Амьен был в том омнибусе, и он их видел. К несчастью, Поль решил, что это был несчастный случай… и перестал заниматься этим делом. Что касается меня, то я продолжал считать, что было совершено преступление и сообщил о своих подозрениях Фурнье, и он согласился со мной. А в это время преступники продолжают свою деятельность. Они только что похитили сестру бедной девушки, которую они убили, и если мы не сумеем их схватить, то они разыграют с ней дурную комбинацию.
—
Почему? Что они имеют против этих бедных сестер… это какая-то месть…?
—
Слишком долго объяснять… и вряд ли вас это заинтересует. Небольшая история большого наследства. Один богатый буржуа, который был биологическим отцом обеих малышек, умирая, оставил им все своё немалое состояние.
—
И тогда родители этого буржуа… или другие родственники, претендующие на это наследство, заплатили бандитам, чтобы их убить и получить это состояние?
—
Это вполне возможно… хотя… нет… у покойника не было никого, никаких родных, кроме брата, месье Дюбуа, который очень богат и потому не должен быть, казалось, заинтересован в этом деле.
—
Кто его знает. Ради денег совершаются и не такие дела! Вы сказали, что его зовут Дюбуа… на вашем месте, я поискал бы адрес вашего друга у него… Вы знаете, где живёт этот месье Дюбуа?
—
Нет, но мой друг Амьен знает. Поль близко с ним знаком. И вы мне напомнили об одной вещи, которую он упомянул в этим утром в моем присутствии. Кажется, что месье Дюбуа прежде использовал одного торгового агента, который мог бы быть сообщником женщины с булавкой. Амьен видел этого человека в театре на следующий день или через день после преступления, и он его узнал… они вместе ехали в том самом омнибусе… только,… он не знает его имени.
—
Ему ничего не стоит спросить об этом месье Дюбуа.
—
Это как раз то, что он до
лжен сделать сегодня… сейчас…
а я в это время, когда заметил вас, шёл на улицу Аббатисс, повидаться с женщиной, которая поселила у себя покойную девушку… а потом намеревался отправиться к Амьену, чтобы понять, где мы находимся в процессе нашего расследовании.
—
Хотите ли бы Вы, чтобы мы пошли к нему вместе?
—
Как,…Отец Морель, вы думаете о том, чтобы вмешаться в это дело! Вот это новость! Я понимаю, что это вас развлечёт, но я спрашиваю себя, чем вы можете нам пригодиться…?
—
Вы несколько мгновений тому назад сказали, что я способен на все, — ответил, улыбаясь, аптекарь. — Итак! Попробуйте. Подвергните меня испытанию. Вы увидите, что глухота имеет и хорошие стороны. Таких людей никто не опасается. И затем, чем вы рискуете? Речь идёт только о том, чтобы сообщить мне адрес этого торгового агента. Я нанесу ему визит, и если во время беседы с ним я узнаю что-то новое, я вам обязательно сообщу.
—
Моя бог! — Воскликнул Верро, — я не вижу причин, почему я должен отказать вам… и почему бы мне не воспользоваться вашими услугами. Амьен, возможно, опять посмеётся надо мной, но мне все равно. Впрочем, я тоже, как и он,
имею право взять себе помощника, и я надеюсь, что вы будете также хитры, как и нотариус, который
ведёт поиски вместе с Полем.
—
Это для меня новость! Какой ещё нотариус?
—
Да один нотариус из провинции, который получил в своё распоряжение завещание отца обеих малышек. Ах! Он добрый малый, не волнуйтесь. Без него мы бы никогда не узнали последнюю волю покойного… и о том, что наследовали обе сестры Романо, а не одна… и с тех пор, как нотариус узнал, что наследница исчезла, он думает только о том, чтобы её найти. И, послушайте! Нотариус, возможно, в этот самый момент находится у месье Дюбуа, чтобы спросить адрес этого торгового агента.
—
Это очень хорошо, но месье Дюбуа, захочет ли он его ему сообщить?
—
И вы полагаете, что если он откажется сообщить его нотариусу, то
он даст его вам?
Впрочем, это в
озможно. Во всяком случае, ничего не стоит попробовать.
—
Ладно, мне будет любопытно посмотреть, как вы возьметесь за дело. Я не знаю в точности, где живёт буржуа, но Амьен нам подскажет. Пляс Пигаль не далеко. Давайте, папа, вперёд.
Морель стоял уже рядом с ним. Он вскочил со скамейки с юношеской живостью, и Верро не мог поверить изменениям, которые произошли в одно мгновенье в походке и даже лице аптекаря-пенсионера. Его спина внезапно распрямилась, лицо приняло умное выражение, а маленькие глаза засверкали. Перед ним стоял уже совершенно другой человек.
—
Морель, мой друг, вы неузнаваемы, — воскликнул Верро. — Если бы этот дорогой Фурнье, наш друг, вас сейчас повстречал, он бы принял вас за другого человека и не узнал. И я не могу поверить в это чудесное превращение. Раньше я никогда не видел, чтобы свежий воздух столь целебным образом воздействовал на глухих.
—
Вы увидите ещё и не такое, — сказал этот добрый человек, мягко улыбаясь кончиками губ. — Но, не будем терять время. Месье Дюбуа живёт, возможно, очень далеко, и кто его знает, куда он нас пошлёт, на какую окраину Парижа, чтобы мы нашли его торгового агента? Придётся взять фиакр, так как …
—
Послушайте! Смотрите, ваши друзья нас преследуют, — прервал его Верро, указывая пальцем на обоих индивидов, коих совсем недавно его прибытие к аптекарю обратило в бегство.
—
Не беспокойтесь о них, мой дорогой. Эти бедные люди работали у меня в те времена, когда я ещё держал свою лавку, и, когда они меня встречают на улице, то всегда подходят ко мне и справляются о моем здоровье.
—
А почему они так быстро ушли, когда увидели меня?
—
Потому что плохо одеты. Это их делает робкими.
—
По сравнению со мной, конечно, я ведь стараюсь следить за модой…! Да, вы правы, они действительно находят, что я выгляжу зажиточным господином. Это мне льстит.
И эти речи, и некоторые другие, не менее незначительные, веселили их по пути на пляс Пигаль.
Отец Морель, все более и более подвижный, шёл столь быстро, что Верро с трудом за ним поспевал.
Когда они подходили к дому художника, прямо перед ними у подъезда остановился фиакр, из которого спустились два господина.
—
Отлично! — воскликнул Верро, — вот как раз и Амьен с нотариусом. Черт! На них лица нет. Наверное, что-то случилось? Лишь бы только они не узнали, что Пия уже отравлена… так же, как и её сестра!
—
Спросите у вашего друга, что произошло, — сказал Морель. — А пока вы будете говорить с ним, я собираюсь побеседовать с нотариусом.
Так и было сделано. Верро потянул Амьена в сторону, а бывший аптекарь со шляпой в руке подошёл к мэтру Дрюжону, который, казалось, не был слишком удивлён, увидев его. Можно было даже предположить, что они были ранее знакомы.
—
Итак, — начал Верро, — ты узнал адрес агента?
—
Нет, — мрачно ответил ему Амьен. — Месье Дюбуа утверждает, что он его не помнит. Так что у нас осталось только одно средство узнать его: нам необходимо найти хозяйку доходного дома на улице Аббатисс. Она знает женщину из омнибуса, так как с ней вполне приятельски разговаривала на кладбище. Нужно будет добиться, чтобы она нам сказала, где её приятельница живёт. А что ты сделал хорошего…? Ничего, не правда ли? Твой знакомый из пивной посмеялся над тобой.
—
Я его не смог увидеть. Но смог завербовать ещё одного умного помощника.
—
Это этого маленького старичка, которое разговаривает сейчас с мэтром Дрюжоном?
—
Да, у него не самое умное лицо, но я полагаю, что он, тем не менее, достаточно проницателен. Я уже имел возможность в этом убедиться.
Амьен чуть не вскрикнул от ярости, но тут его глаза упали на крупную женщину, которая подходила к нему, качаясь на своих бёдрах, как судно на волнах.
—
Мне кажется, или ошибаюсь, — прошептал он. — Это ведь та самая продавщица апельсинов, с которой я ехал в тот злополучный вечер в омнибусе и которую я потом встретил возле театра Порт-Сен-Мартен.
—
Похоже, что вы меня не слишком запомнили, — сказала торговка-сплетница. — Черт! Понятное дело… сегодня я не продаю апельсины. Но я то вас сразу же признала, и если я позволяю себе с вами заговорить, то только потому, что теперь я знаю, где жила малышка из омнибуса.
—
Я тоже это знаю.
—
На улица Аббатисс, да? У Софи Корню. Тогда, я вам не сообщила ничего нового… но… это не все. Представьте себе, что я нашла женщину, которая была в омнибусе рядом с малышкой… ну вы знаете, ту, которая вышла из театра, в тоже самое время, что и вы… ну та, которой предлагал руку мужчина с верхней площадки омнибуса, с империала. И вы в жизни не догадаетесь, чем она занимается, эта красотка?
—
Нет, но если бы вы могли меня проинформировать о ней, вы мне оказали бы неоценимую услугу.
—
Она предсказывает большие приключения… гадает на картах… это госпожа Стелла с улица Сурдиер, 79. Мадам Корню её клиентка и вчера я их встретила, когда они разговаривали на бульваре Рошешуа, и так как я знаю уже давно эту бравую мадам Софи Корню, я подошла к ним… и так как вторая женщина не вспомнила моё лицо, она предложила мне погадать… и я попросила у неё адрес, где она окажет мне эту любезную услугу… и она мне его дала…
—
А вы ей не напомнили о происшествии в омнибусе?
—
О, Господи! Нет, конечно. Если бы я начала с ней говорить на эту тему, разговору не было бы конца, а у меня было мало времени. Но я ей обещала прийти к ней на сеанс спиритизма.
—
Не хотите ли Вы, чтобы мы пошли к ней вместе? — С некоторым усилием спросил Амьен.
—
Если это может вам доставить удовольствие… сама то я не верю в такие глупости… но меня это
развлечёт, тем не менее. Только, вы знаете, что я не богата, чтобы заплатить за такой визит…
—
О! Не волнуйтесь, я оплачу этот сеанс гадания.
—
Тогда это меня устраивает. Назначьте мне день и час.
—
Прямо сейчас. И я вас отвезу туда на фиакре.
—
Это меня устраивает ещё больше. Мне совершенно нечего делать до вечера. Я продаю мой товар только возле театров, когда начинаются вечерние спектакли.
—
Отлично! Подождите меня буквально пять минут, мне нужно сказать пару слов вот тому господину.
—
Тому, на котором белый галстук? У него хорошее лицо… Он походит на мирового судью из моей провинции. Но другой отличается от него… не так хорош.
—
Вы наблюдательны, мадам, и все-таки, чуть-чуть подождите меня, пока я не переговорю с мэтром Дрюжоном, — сказал Амьен, делая знак Верро, который уже понял его намерение.
—
Послушайте, мамаша, — начал художник-недоучка, подходя к торговке апельсинами, в то время, как его друг собирался присоединиться к нотариусу, начавшему с отцом Морелем
очень живописную беседу, — скажите мне, откуда вы знаете эту прекрасную Софи?
—
Это не так уж трудно. Её знает весь квартал. Надо вам сказать, что я живу на углу улицы Мюллер.
—
А я на улице Мирра… получается, что мы соседи. И когда вы захотите сделать ваш портрет, то я…
—
Значит, вы фотограф?
—
Ни за что в жизни. Как вы могли подумать… такое низменное занятие… фотография… Нет… Я изображаю, но… но не карточках… и не на зданиях …
—
Художник… значит? Мне нравятся художники. Ваш друг тоже художник?
—
Он художник номер один в Париже, и зарабатывает этим такие же хорошие деньги, как и вы. И я это говорю не для красного словца, не для того, чтобы сделать вам комплимент, но не могу удержаться от того, чтобы не сказать вам, что вы прекрасно выглядите… и сразу видно, что вы крепко стоите на нашей бренной земле.
—
Ну да… неплохо, но?… Но скажите мне запросто… не скрывая ничего от меня… почему и о чем ваш друг хочет проконсультироваться с гадалкой?
—
Он хочет узнать, от какой болезни умерла малышка из омнибуса.
—
Ничего себе… это — странная мы
сль. Что касается меня, то я неё собираюсь попросить средство, способное вылечить от тяжёлой болезни моего мужа, который не встаёт с постели уже месяц. Ах! А вот и ваш товарищ, который закончил говорить с этими двумя стариками.
—
Он высматривает вас, мамаша.
Амьен подошёл к ним с совершенно преображённым лицом, на котором сияли блестящие глаза. Верро был совершенно изумлён этим внезапным преображением.
«У него такое довольное выражение, как будто он уже нашел Пию, — подумал он.»
—
Моя прекрасная госпожа, — сказал Амьен торговке апельсинами, — эти господа хотят с вами поговорить.
—
Они очень вежливые с виду. И чего они хотят от меня?
—
Сведений, в которых они нуждаются. Они вам объяснят, в чем дело.
—
Тогда, пошли к ним… чего тянуть, — воскликнула толстуха.
—
И в то время как она двинулась вперёд, Верро проговорил сквозь зубы:
—
Если я понимаю то, что всё это означает, пусть тогда мне в нос воткнут ту булавку, которую я отдал Фурнье.
—
Ты поймёшь это позже. Сделай мне милость, поди, найди фиакр, — сказал ему Амьен.
—
Как! А где тот, на котором ты приехал? Смотри-ка! Папаша Морель и нотариус заставляют подняться в твой фиакр эту апельсиновую бочку, и сами садятся в него следом за ней. Там не хватит места для нас. Черт возьми, нет! Не может быть. Они хотят уехать без нас… но куда, черт возьми?
—
Ты это сейчас увидишь, так как мы поедем вслед за ними.
Часть XI
В тот же день для жителей улицы Сурдиер, которые прогуливались перед дверями своих респектабельных домов, состоялся совершенно непредусмотренный спектакль, чрезвычайно удививший местных аборигенов.
Два фиакра, которые следовали друг за другом буквально ноздря в ноздрю, остановились на углу улицы Гомбуст, куда они прибыли по улице Сен-Рош, и расположились в ряд напротив одного из домов.
Из первого спустились четверо мужчин и дородная женщина, которые тотчас же разделились на три группы.
Одновременно, двое других мужчин вышли из второй кареты и направились мелкими шажками к рынку Сен-Онора.
Женщина вошла на улицу Сурдиер. В десяти шагах за нею шёл маленький старик с нахлобученной на голову шляпой тромблон.
Немного дальше за стариком шли два больших черта довольно неприятной наружности, которые передвигались шеренгой и в ногу, как два солдата.
Пятый пассажир из первого отряда пошёл тем же путём, что и первые путешественники по тихой улочке. Он был одет в чёрный костюм и обвязан белым галстуком, как распорядитель на похоронах.
Все эти люди, которые, казалось, не были знакомы между собой, являлись между тем частью одной и той же экспедиции, хотя внимательный наблюдатель сразу же догадался бы об этом.
Но мелкие торговцы, которые видели, как они проходят мимо их окон, не догадывались о такой незамысловатой хитрости, и никто из них не прилип к окнам, чтобы посмотреть на них и на то, что будет происходить дальше.
Женщина вошла во двор, который предшествовал довольно красивому дому, и переговорила с консьержем.
Маленький старик, который шёл за ней, прибыл, прежде, чем коллоквиум был закончен и, так как они оба спрашивали одно и то же лицо, портье дал им обоим один и тот же ответ:
—
Первый этаж, дверь слева. Но я не знаю, мадам, принимает ли она, поскольку я слышал, что мадам прорицательница собирается отправиться в путешествие.
Они поднялись по лестнице вместе, не обменявшись при этом ни одним словом.
Когда эта пара прибыла на лестничную площадку, всё было уже совсем по другому.
—
Вы хорошо поняли, что должны сказать, не правда ли? — тихо спросил женщину старик. — Вы — сестра моей приходящей служанки. Я глух, как пробка, и сделал уже все, что мог, чтобы излечиться от этой напасти. Вы мне рассказали о мадам Стелле, которая даёт консультации по поводу всех болезней, и вы меня привели к ней, чтобы она назначила мне лечение.
—
Знаю! Знаю! — ответила толстуха.
—
И когда вы меня представите, вы мне позволите говорить самому.
—
Это меня вполне устраивает, потому что я не знаю, с чего мне начинать разговор.
—
Вот эта дверь, — продолжил мужчина, показывая на табличку, на которой сверкало имя ученицы мадемуазель Ленорман. — Звоните, моя добрая подруга.
И в то время, как его кумушка нажимала на медную кнопку звонка, он заметил другую надпись, которая располагалась визави табличке гадалки.
—
Отлично! — прошептал он, — и торговый агент напротив. Это — её компаньон, держу пари. И у меня есть идея, как убить одним ударом двух зайцев.
—
Не открывают, — сказала женщина.
—
Звоните сильнее.
Она возобновила усилия, но без особого успеха.
—
Постоянные посетители наверняка знают способ попасть на сеанс гадания, какой-то приём, по которому их отличают от остальных, — тихо сказал старик. — Речь идёт о том, чтобы узнать, как они дают знать о себе, а это не легко. Продолжай трезвонить, и посмотрим, что произойдёт.
Перезвон не произвёл никакого результата. Ничто не шевелилось в квартире гадалки, ни одного звука не доносилось из нее, но человек, который ещё недавно был совершенно глух, сумел расслышать шум шагов в квартире торгового агента, и тихо приблизился к его дверям, чтобы попытаться получше расслышать происходящее там.
Он собирался приложить своё ухо к двери, когда эта дверь вдруг приоткрылась.
—
Вот это да! — Воскликнул глухой старик, — это вы, месье Фурнье!
Одновременно он просунул свою голову и руку в щель приоткрывшейся двери.
—
Как! Это-вы, отец Морель! — воскликнул мужчина, открывший дверь.
—
Ах! Как я доволен тем, что вас вижу, так как у меня куча новостей для вас. Много чего странного случилось в Гранд-Боке с тех пор, как вы туда больше не приходите… А я не надеялся вас встретить здесь. Я приехал с моей хорошей знакомой, чтобы проконсультироваться с мадам Стеллой.
—
Её там нет, — закричал ему в ухо Фурнье, сделав из своих двух рук нечто подобие рупора.
—
Ах! Жаль. Мне говорили, что она мне может дать средство, которое меня освободит от моего недуга. Придётся мне приезжать к ней ещё
раз… но, так как вы вот… передо мной… я хотел бы беседовать с вами.
—
У меня сейчас совершенно нет времени.
—
О! Могу вас заверить, что это не надолго. Вы можете мне дать пять минут?
—
О чем вы должны мне сказать?
—
О тех вещах, которые вас, несомненно, заинтересуют. Вообразите себе, что уже два дня учреждение нашего уважаемого отца Пуавро полно доносчиков и шпионов, а все нормальные завсегдатаи его покинули.
Фурнье продолжал держать дверь лишь немного приоткрытой и не казался расположенным пропустить отца Мореля внутрь квартиры.
Он смотрел на происходящую перед его глазами сцену с подозрительным лицом, и также косился краем глаза на толстую продавщицу апельсинов, которая издалека с интересом посматривала на их коллоквиум.
Но, когда было произнесено слово «доносчиков»… торговый агент тут же изменил своё отношение к происходящему.
—
Так что там происходит в Гранд-Боке? — спросил он, крича во все горло, чтобы не пришлось, не дай бог, повторять свой вопрос.
—
Кажется, что ищут одного индивида, который оказался замешан в дело об убийстве, и который, как оказалось, посещает наш любимый кабачок под чужим именем. Я могу вам рассказать все детали происходящего. Но вы наверное, не можете меня принять, потому что вы не у себя дома, — сказал Морель, указывая на табличку, на которой было написано имя Бланшелен.
—
Я сейчас в гостях у одного из моих друзей, который отправился по делам и попросил меня заменить его на один час.
—
Тогда, я вас не побеспокою надолго, и у нас есть время, чтобы побеседовать. Только один момент… я лишь скажу моей знакомой, что собираюсь с вами поговорить, и чтобы она меня подождала на улице.
Это последнее предложение для Фурнье решило дело в пользу глухого Мореля. Торговый агент не хотел впускать в свой дом незнакомую ему женщину, но старика, не способного услышать колокол Нотр-Дам-де Пари он совершенно не опасался, и считал полезным для себя основательно его расспросить о манипуляциях полиции в забегаловке отца Пуавро.
—
Мы не можем здесь говорить, — продолжал орать Морель. — Мой недуг обязывает вас кричать, и не пройдёт и пары минут, как сюда сбегутся все соседи. Уходи, Вирджиния, — продолжил он, обращаясь к толстухе, — Если тебе неудобно ждать меня внизу, можешь пойти в сад Тюильри и посидеть на скамеечке перед большим фонтаном… я к тебе там вскоре присоединюсь.
Он прекрасно знал, что Вирджиния с полуслова поймёт его намёк, и она даже не собирается ни при каких обстоятельствах отправляться так далеко пешком.
Бравая продавщица апельсинов ему слепо повиновалась с тех пор, как узнала, с кем имеет дело. Она не требовала дальнейших объяснений, и сразу же безропотно спустилась по лестнице вниз, причём, что естественно, гораздо быстрее, чем чуть раньше по ней поднялась.
—
Входите, мой старый друг, — пригласил Мореля Фурнье, открывая широко дверь.
Морель зашёл внутрь. Фурнье следом закрыл на запор дверь и провел его в свой кабинет, по которому прогуливалась женщина, которую Амьен узнал бы без труда, если бы он был там, так как она была одета точно также, как в вечер представления постановки «Рыцарей тумана».
Эта дама нахмурилась, увидев мужчину, которого привёл её сообщник, и взглядом спросила его, кто это.
—
Не беспокойся, — сказал ей в пол голоса Фурнье. — Мне нужно вытянуть кое-какие сведения из этого дурака, и если я вдруг замечу, что это— полицейский шпион, он не выйдет отсюда живым.
Говоря таким образом, Фурнье украдкой посмотрел на доброго Мореля, на лице которого не дрогнул ни один мускул. Физиономия старика осталась улыбающейся и глупой, как обычно.
—
Отлично! Я убедился, что все в порядке, — продолжил так называемый Бланшелен. — Я боялся, как бы он не прикидывался глухим, не являясь таковым на самом деле. Теперь я уверен, что он действительно глух как пробка. Мы можем спокойно разговаривать между собой, как будто его здесь нет.
—
Но скажи мне, наконец, кто этот человек, и что он здесь делает?
—
Этот идиот является завсегдатаем алкоголической дыры под названием Гранд-Бок, и он пришел сюда не ко мне. Ты удивишься, но его подруга привела этого идиота к тебе, чтобы проконсультироваться по поводу его глухоты..
—
Так значит, это он трезвонил в мою дверь?
—
Нет, это его подруга, и когда я приоткрыл мою дверь, чтобы посмотреть, что там происходит, что за шум на нашей лестничной площадке, то нос к носу столкнулся с этим глухарём.
—
Хорошо, пусть это было так! Но зачем ты привёл его сюда?
—
Потому что он мне сказал, что видел агентов полиции в кабачке отца Пуавро, и я хочу знать, почему это происходит.
—
Тогда побыстрее разберись с ним и отправь его прочь, потому что я не хочу оставлять нашу малышку надолго одну. Она все время тараторит о том, что должна уехать сегодня вечером и, чтобы её успокоить, мне пришлось ей пообещать, что мы скоро поедем за сундуком её сестры к Софи Корню.
Во время этого обмена объяснениями Морель оставался недвижим, созерцая безмолвно даму и готовясь поприветствовать её добрыми словами.
—
Мадам — жена друга, который попросил меня заменить его на часик в этом кабинете, — закричал ему Фурнье.
—
Все мои комплименты месье вашему другу, месье Фурнье, и вам мадам— завопил глухой старик, склоняясь до земли.
—
Хорошо! Хорошо! Мы вас поняли. Сядьте и расскажите мне вашу историю. Итак, значит, полиция ищет какого— то убийцу у нашего бедного Пуавро?
—
Да… и мне кажется, что там его никто не схватит… просто напросто потому, что к Пуавро больше никто не ходит. Никто не любит полицейских, никто не хочет попасть под подозрение, и поэтому в Гранд Боке больше никого нет.
—
И все-таки, кого он убил, этот убийца из Гранд-Бока? Уже неделю, как газеты не сообщали ни об одном преступлении.
—
Скажем так, что это — старое дело. Девушка, которую убили… это произошло как будто бы ночью в омнибусе.
Этот ответ, данный аптекарем, совершенно беспристрастно и самым что ни на есть безразличным тоном, вполне очевидно сильно расстроил гадалку и её друга-пособника— соучастника.
Они не ожидали услышать того, что таким излишне безучастным тоном им говорил этот старик, ведь они уже не рассчитывали, что о смерти Бьянки Романо будут говорить в таком контексте, и им показалось, что аптекарь подаёт им эту новость так, как будто уже всему Парижу известно, что девушка умерла не естественной смертью, а была убита.
И этого было более чем достаточно, чтобы вызвать их недоверие к сказанному.
Они обменялись взглядом, и женщина сделала вид, что уходит.
—
Откуда вы это знаете? — спросил Фурнье экс-аптекаря, уже умышленно не повышая диапазон своего голоса.
—
Вы у меня спрашиваете имя убийцы, которого разыскивают, — прогрохотал Морель, делая себе рукой некое подобие слуховой трубки. — К несчастью, я об этом знаю не более чем вы. Завсегдатаев у отца Пуавро не так много, и подозрения понемногу распределяются между всеми ними… и, главным образом, распространяются на тех, кто перестал посещать его кабачок в последние дни. Но я могу вам назвать одну скотину, которая является причиной всего этого. Это мерзкий маляр, с которым вы играли в карты… которого зовут Верро. Кажется, что он подал жалобу в префектуру полиции.
—
Это меня не удивляет, — пробормотал Фурнье, обращаясь к своей спутнице. — Старик, вероятно, сказал правду, и я все более и более уверен, что он действительно глух, как пень, потому что ответил не на мой вопрос, а на какой-то свой. Он не услышал и не услышит ни слова из того, о чем мы говорим.
—
Я ему верю, — прошептала женщина, — но это не значит, что я думаю, что все действительно так серьёзно, как он это нам описал. Я имею ввиду его предположение, что это произошло именно потому, что этот дурак Верро вдруг отправился в полицию тебя разоблачать. Хотя… с твоей стороны было не очень осторожно говорить с ним об этом деле.
—
Я не мог без него обойтись, иначе как бы я сумел от него заполучить булавку и письмо. Но я не был бы удивлён, узнав, что этот маляр, не видя меня больше в этом кабачке, дойдёт до того, что начнёт подозревать меня… если конечно это его друг Амьен не подтолкнул его к этому дурацкому поступку. Он нас видел, этот Амьен, и если, к несчастью, Дюбуа ему дал адрес месье Бланшелена, своего торгового агента, мы с тобой окажемся в плохой ситуации.
—
То есть… вполне можно сказать другими словами, что мы с тобой в тот же день ляжем спать уже не здесь, а в тюремной камере на набережной Орфевр. Если ты мне веришь, то нам не следует играть в игры с мадемуазель Фортуной. И я хочу, чтобы мы уехали из Парижа сегодня же вечером вместе с Пией.
—
Но ты мне только что сказала, что она непременно хочет забрать сундук своей сестры.
—
Если бы следовало сделать только это, то я бы сама забрала этот несчастный сундук. Но она ещё также хочет пойти ещё раз на кладбище Сент-Уэн.
—
И потом она согласна уехать?
—
По крайней мере она просила меня только об этом.
—
Ладно! Отвези её к Софи Корню, а прямо от нее в Сент-Уэн. На это потребуется не больше трёх часов. У тебя ещё останется время, чтобы успеть на восьмичасовой вечерний скорый поезд до Марселя. Я думаю, что чем меньше времени она будет оставаться в Париже, тем лучше, потому что когда наш художник узнает, что малышка больше не появляется у Лоренцо, он вместе со свои другом маляром способен начать действовать, дабы разыскать её. К сожалению, мы теперь во власти случая… а вдруг они попадутся на вашем пути.
—
О! Я позабочусь о том, чтобы опустить шторы в нашем фиакре, и кроме того… возможно, что они ещё не разыскивают нашу бедную сиротку.
—
Возможно… Но завтра то они точно будут её искать, так что вам обязательно нужно сбежать из Парижа этим вечером в Марсель. А я там к вам присоединюсь послезавтра.
—
Я полагаю, что ты прав, и, чтобы не терять время, я отправлю свою маленькую негритяночку-обезьяночку искать мне фиакр.
—
И это правильно. Только подожди, пока я избавлюсь от этого старого дурачка, который нам оказал только что замечательную услугу.
И, повернувшись к аптекарю, который стоял позади него с блаженным видом, он настолько громко, как только мог, закричал:
—
Извините меня, отец Морель. Мадам мне рассказывала о том, что она читала в газетах об этой истории в омнибусе. Я думаю, что не стоит суетиться, история не стоит и выеденного яйца, и я постараюсь успокоить этого бедного черта Пуавро
Не хотите ли пойти сейчас в Гранд-Бок и подождать меня там? Я
там появлюсь через час.
—
С огромным удовольствием, — ответил глухой старик. — Вы, как и я, не бросаете в беде старика Пуавро. Но я не хочу больше вас беспокоить, и буду рад вас приветствовать в его заведении… и нижайший вам поклон. А я завтра приеду сюда опять, чтобы проконсультироваться с вашей соседкой, госпожой Стеллой, — добавил Морель, пятясь к выходу.
Фурнье проводил старика Мореля до лестничной площадки, и попрощался с ним довольно сильным рукопожатием, после чего закрыл на ключ дверь своей квартиры.
Как только он это сделал, аптекарь Морель буквально на глазах преобразился, распрямил плечи и стремительно сбежал вниз по ступенькам подъезда, быстро пересёк двор и принялся бежать со всех ног к улице Гомбуст, где его ожидали оба фиакра.
Часть XII
Маленькая негритяночка была проворна, как обезьянка, и при этом всегда была предельно услужлива, угодливо приседая перед своей хозяйке-колдунье. Стелле не пришлось ждать и десяти минут, как её чёрная посланница вернулась вместе с фиакром.
Ближайшая станция фиакров была, однако, не так уж и близко, но маленькой негритянке выпал шанс встретить порожний фиакр неподалёку от дома возле улицы Сурдиер.
Пия уже давно была готова отправиться за вещами сестры и на кладбище. В сущности, ей было очень просто собраться в дорогу, ведь у неё ничего не было в этом случайном пристанище, кроме одного-единственного платья, и то того, что было на ней. Так что Пия сразу же оказалась у дверей, когда её новая покровительница предложила ей немедленно поехать на улицу Аббатисс и на кладбище Сент-Уэн для того, чтобы они смогли успеть на вечерний поезд в Марсель, ведь ни о чем другом она свою новую покровительницу и не просила.
Пие было в принципе все равно, уехать в Италию одной или в компании, лишь бы только оставить Париж, и чем раньше, тем лучше.
Единственное, чего она опасалась, состояло в том, чтобы не встретиться в дороге с Полем Амьеном, потому что она боялась, что позволит себя уговорить, если он начнёт её умолять остаться в Париже.
Стелла, у которой было множество других опасений, гораздо более угрожающих, была не так спокойна, поэтому, когда они подошли к дверям фиакра, она бросила быстрый взгляд по обе стороны улицы.
Она там не увидела ничего подозрительного. Фиакр стоял напротив тротуара, а кучер, оставив своё место, беседовал с мужчиной, который судя по всему должен был быть одним из его товарищей, во временном отпуске, так как он носил непромокаемую шляпу из вощёной ткани и красный жилет поверх блузы, ка и большинство парижских кучеров.
—
Это вас привела моя служанка? — спросила его гадалка, — маленькая негритяночка двенадцати лет от роду?
—
Да, мадам… и если мадам хочет, она может подняться, — ответил кучер, — открывая дверь.
—
Я вас беру только на определённое время, и если вы будете передвигаться достаточно резво, у вас будут хорошие чаевые.
—
О! И меня это вполне устраивает… Мадам будет довольна… куда поедем?
—
На улицу Аббатисс… а по дороге туда на Монмартре вы повернёте налево и дальше наверх по улице Мучеников, а затем я вам скажу, где остановиться, когда мы окажемся перед нужным мне домом.
—
Хорошо, мадам… только, если мадам мне позволит… не мог бы я взять на место рядом со мной моего друга, вот этого, что стоит со мной. Я его высажу на площади у Мэрии, это в двух шагах от места, куда направляется мадам.
—
Делайте, как вам заблагорассудится, — ответила так называемая ученица мадемуазель Ленорман.
Она очень торопилась, и думала только о том, чтобы Пия быстрее поднялась в карету, и сразу же после этого опустить шторы на окне.
—
Вы же не хотите, чтобы вас увидели с улицы, не так ли, мой дорогой ребёнок? — спросила она у нее.
—
Вы же знаете, что нет, — прошептала малышка.
—
Предосторожность вынужденная… необходимая, так как нам придётся проехать через квартал художников. Нет другой дороги, чтобы попасть к Софи.
—
Какое это имеет значение? Я здесь хорошо скрыта от чужих взглядов… и впрочем, никто больше не думает обо мне, там, наверху, на Монмартре.
У Стеллы были основательные причины иметь совершенно противоположное мнение, но она не стала его высказывать, и поездка протекала в молчании.
Пия же была мрачной и подавленной. Она позволила везти себя, как везут в карете осуждённого к месту казни.
У её сопровождающей было достаточно ума для того, чтобы не пытаться вывести Пию из этого оцепенения, которое избавляло лже-прорицательницу от необходимости отвечать на затруднительные вопросы.
Она говорила себе:
«Всё, как мне кажется, в порядке. Корню предупреждена о нашем визите, и она должна была спуститься на аллею с вещами и бумагами Стеллы, и у нас на все про всё уйдёт не больше пяти минут у дома Бьянки. На кладбище, конечно, нам сильно не повезёт, если мы встретим кого-нибудь знакомого, но будем надеяться, что этого не произойдёт. И тогда этим вечером, в восемь часов, мы покатим на поезде к Марселю.»
Фиакр летел как ветер, и гадалка поздравляла себя c тем, что ей столь повезло с каретой. На бульваре лошадь перешла на рысь, и когда карета съехала с него, она помчалась вперёд умопомрачительным аллюром.
Стелла, укрытая шторой от нескромных взглядов прохожих, не имела, из-за этого, со своей стороны, возможности внимательно отслеживать маршрут поездки, и не заметила, какие улицы избрал на самом деле кучер на пути к цели их поездки. Но когда она однажды приподняла уголок шторы, чтобы выглянуть наружу, то тут же заметила, что кучер ошибся, и вместо того, чтобы подниматься вверх прямо к улице Аббатисс, он повернул налево.
Она стала стучать в окошко кучеру, чтобы предупредить его об ошибке, потом стала звонить в колокольчик, но все было бесполезно, кучер никак не реагировал на её сигналы.
Этот кучер был, должно быть, был совершенно глухим, как отец Морель, так как он остановился только на пляс Пигаль.
Стелла, изумлённая и взбешённая происходящим, утратила все своё хладнокровие и осторожность, и внезапно открыла одно из окон кареты, чтобы схватить за полу кафтана этого кучера-идиота, который провернул такой трюк и приехал совершенно не туда, куда ему указали.
Но, на тротуаре, напротив которого остановился этот непослушный фиакр, она увидела группу людей, которые, казалось, ожидали её. Она это сразу же поняла это, так как узнала среди них Амьена и Верро.
Тогда, не думая больше ни о чём, кроме спасения, гадалка попыталась убежать, и открыв дверь с другой стороны фиакра, она прыгнула вниз и буквально упала в руки мужчины в блузе, который спустился с кучерского места, чтобы подхватить её.
Гадалка попыталась от него ускользнуть, выворачиваясь, как угорь на сковородке, но кучер своими огромными ручищами схватил её в охапку, и поднял, как пёрышко, на уровень своих богатырских плеч, после чего отнёс женщину в вестибюль большого дома художников и поместил в комнатку портье, под наблюдение ожидавших её там двух полицейских.
Все это было проделано столь быстро, что у Стеллы не было времени и сил, чтобы даже закричать, и случайные прохожие решили, что шла речь об упавшей в обморок женщине.
Пия, погруженная в свои печальные мысли, ничего произошедшего даже и не заметила, образно говоря, но, почти в то же мгновение, другая дверь кареты открылась, и в проёме показался Поль Амьен.
—
Ах! — прошептала девушка, отклоняясь назад, — эта женщина меня обманула, она привезла меня к вам… оставьте меня! …
—
Эта женщина! — воскликнул Амьен, — Да знаешь ли ты, что это она убила твою сестру, и она убила бы и тебя, как убила Бьянку, если бы мы не сумели тебя вытащить из её когтей. Я не могу тебе объяснить всё это прямо здесь. Верро тебя отведёт в мастерскую, а я к тебе присоединюсь там через несколько минут. Вначале я должен помочь полиции разоблачить эту негодяйку.
—
В мастерскую! Никогда! — ответила Пия глухим голосом.
—
Почему? Что я тебя такого сделал, что ты…?
—
О! А я догадался! — воскликнул Верро, который в это время приблизился к ним. — Она боится наверху встретить мадемуазель Дюбуа. Итак! Малышка, я тебе клянусь, что эта блондинка не ступит больше туда ни одной ногой, и что если её респектабельный отец посмеет там появиться, я возьму на себя смелость выставить его вон за дверь. Спроси сама об этом у Амьена.
—
Я тебе клянусь, что так и будет! — продолжил его слова Амьен.
И его глаза говорили так красноречиво, что было сразу понятно, что он не лгал, так что Пия, бледная и дрожащая, согласилась принять руку, которую ей предлагал Верро, чтобы помочь спуститься, и позволила себя сопроводить в дом.
—
А теперь пора поговорить с вами, госпожа Фурнье, — процедил сквозь зубы Амьен.
—
Ах! Какая негодяйка! — воскликнула появившаяся перед ним торговка апельсинами, — Ведь она сидела прямо передо мной в омнибусе. Могла и меня убить. Но как вы это докажете.
—
О! Не сомневаюсь, что она не осмелится больше ничего отрицать, — сказал нотариус Дрюжон. — Но… схватили ли её сообщника?
—
Его уже должны были упаковать, — закричал мужчина, сидящий на козлах фиакра. — Патрон взял эту операцию на себя, так что минут через десять они будут здесь. Как вы находите, неплохо он организовал эту операцию?
—
Чудесно. Идея переодеть вас в кучеров, вас и вашего товарища, превосходная.
Амьен и Вирджиния Пилон оставили мэтра Дрюжона петь дифирамбы псевдо Морелю, который был на самом деле старшим офицером полиции Сюрте, и побежали в комнату привратника, где находилась под присмотром полицейских прорицательница Стелла.
Гадалка казалась похожей на загнанного в ловушку дикого зверя, и когда она увидела, как перед её глазами появляются два свидетеля, показания которых она не могла опровергнуть, молния гнева сверкнула в глазах женщины, но она не пошевелилась, и презрительно пренебрегла ответами на вопросы Амьена, который вскоре утомился их задавать и решил отправиться к Пие, да и в этот момент прибыл настоящий профессионал и псевдо аптекарь Морель. Умелый полицейский закончил свою работу на улице Сурдиер. Огюст Бланшелен был арестован у себя дома комиссаром, которому помогали четыре агента, и был уже на пути к камере заключения при префектуре.
Появление Мореля в комнате консьержа привело к неожиданной развязке. Стелла поняла, что она пропала и ей не удастся выкрутиться из этого грязного дела. Мнимый глухой оказался на поверку совсем не глухим, а значит прекрасно слышал каждое слово её разговор с сообщником, и он знал, в чем они виноваты… каждый.
—
Где булавка, которая послужила вам орудием убийства Бьянки Романо? — спросил он у неё с ходу, без преамбулы. — Она должна быть у вас с собой, и если вы мне её не отдадите, мадам, которая сидела рядом с вами в омнибусе, вас сейчас обыщет.
—
Это ни к чему, — сказало хриплым голосом это ужасное создание, — я вам её отдам. Вот…
Стелла держала булавку все это время, пока её тащили в комнату консьержа, в своей перчатке, и тут она, поднося свою руку со смертоносным оружием полицейскому, вдруг с силой сжала её, и упала, поражённая заморским ядом, не оставляющим шансов на жизнь. Ядовитое жало проникло в её ладонь.
Бьянка была отомщена.
—
Ну что же, она сэкономила работу суда присяжных, — философски произнёс Морель, в то время как к телу гадалки устремились полицейские, чтобы поднять мёртвую женщину с пола. — Держу пари, что у этого негодяя Фурнье не хватит мужества сделать тоже самое, что только что сотворила его сообщница. Справедливости ради нужно заметить, что сейчас у него появился шанс благополучно выпутаться из этого дела и сохранить свою голову на плечах. Теперь, когда его милая подруга сыграла в ящик, соучастие этого негодяя в убийстве будет трудно доказать. Но мне очень хотелось заполучить эту булавку. За неимением этого вещественного доказательства присяжные заседатели никогда не осудили бы его хотя бы на галеры.
И якобы аптекарь подобрал с пола комнаты смертоносное жало с позолоченной головкой и тщательно завернул его в газету.
Торговка апельсинами, увидев падение замертво гадалки, от испуга припустилась со всех ног к выходу, но у дверей в коридор столкнулась с мэтром Дрюжоном, который беседовал с персонажем, которого вряд ли кто-то ожидал здесь увидеть.
При виде фиакра, которым правил настоящий кучер, а не полицейский, из которого спустились месье и мадемуазель Дюбуа, нотариус, который прогуливался по тротуару, был ни мало удивлён тем, что увидел их здесь, так как буквально час тому назад месье Дюбуа отказался дать ему адрес торгового агента, и они расстались очень холодно.
Итак, месье Дюбуа было известно, что Амьен действовал совместно с мэтром Дрюжоном. Так что же он тогда искал в мастерской художника?
—
Я знаю его имя, — кричал Дюбуа, сходя с кареты. — Его зовут Бланшелен, и он живёт …
—
На улице Сурдиер. Вы мне не сообщили ничего нового, — прервал его нотариус. — Он уже арестован.
—
Арестован! Ах! Мой Бог! Так это, следовательно, была правда… он совершил преступление! Вы — свидетель, что я привёз его адрес месье Амьену, как только нашел его у себя в кабинете… не прошло и десяти минут после вашего отъезда, как я его обнаружил в моих бумагах.
Месье Дюбуа в глубине души был, конечно, совсем не спокоен, так как он думал о своих письмах торговому агенту и подписанному им обязательству, которые полиция должна была найти у Бланшелена. Он понял, что ему пора принять меры предосторожности, чтобы его не подозревали в заказанном этому негодяю убийстве. Поэтому, отправляясь к Амьену, он прихватил с собой свою дочь, чтобы придать видимость повода своему визиту.
—
Давайте поднимемся, мой отец, — сказала мадемуазель Аврора, ещё более крас
ивая и высокомерная, чем когда-
либо. — Месье Амьен нам объяснит, что происходит.
—
Я вас предупреждаю, что он не один, — прошептал мэтр Дрюжон.
—
Ах!..Что же… вот и ещё одна причина подняться наверх, — воскликнула Авроа. — И мы будем полностью осведомлены о происходящем.
Мадемуазель Дюбуа догадалась, что это маленькая итальянка была там, наверху, у художника, но она не была той девушкой, которая отступает. Аврора вошла в дом, а месье Дюбуа последовал за нею.
—
Только не смотрите в комнату портье, — закричала им вслед Вирджиния Пилон.
Она зря их предупреждала. Отец торопился попасть в мастерскую художника не меньше своей дочери.
Им не потребовалось звонить в дверь, чтобы зайти в мастерскую. Дверь была открыта, и они могли созерцать абсолютно непредвиденную картину. Пия сидела на том же самом месте, где мадемуазель Дюбуа её увидела в первый раз, но Пия больше не плакала.
На этот раз Пия с восторгом выслушивала клятвы Поля Амьена, вставшего на колени перед нею… Пия протянула свои руки художнику, который покрывал их поцелуями.
И Верро, как всегда весёлый, в своей обычной клоунской манере изображал священника и шутливым жестом благословлял их. И он был первым, кто заметил месье Дюбуа и его дочь, застывших на пороге, и у него хватило бесстыдства и наглости закричать им:
—
Разве это что это трогательно? Дафнис и Хлоя, ей богу!
Амьен в одно мгновение вскочил на ноги и пошёл прямо к ним.
Пия застыла, бледная, с тоскливым выражением лица. В этот момент должна была решиться её судьба.
—
Пойдёмте, мой отец, — сухо сказала надменная Аврора. — Ноги моей больше здесь не будет, так как месье принимает у себя создание, которое у вас украло наследство вашего брата.
—
Вы оскорбляете ребёнка, который несравненно лучше, чем вы, — возразил гневно Амьен. — Уходите! А вы, месье, — продолжил он, обращаясь к месье Дюбуа, — знайте, что всем прекрасно известно, что это как раз вы страстно желали получить неправедным путём наследство отца сестёр Романо, и пытались украсть наследство мадемуазель Пии Романо, приложив руку к смерти её сестры Бьянки. Я, со своей стороны, надеюсь, что юстиция не станет вас донимать рассмотрением ваших позорных тесных связей с преступниками, и лишь надеюсь на то, что больше никогда не увижу вас и вашу дочь.
Отец и дочь опустили голову. Пия сполна отомстила им, став равной Дюбуа по состоянию и положению в обществе, но, в отличие от них, с незапятнанной репутацией.
*
* *
Прошло три месяца. Заседание суда по делу Бланшелена, или так называемого Фурнье, состоится в ближайшее время. Обвиняемый надеется на смягчающие обстоятельства. Морелю успех в этом деле позволил получить продвижение по службе. Возможно, однажды, он даже станет шефом Сюртэ.
Мэтр Дрюжон возвратился к своим обязанностям нотариуса, одарённый благословениями Амьена и Пии, которые уехали в Италию. Они сыграют свадьбу в Субиако, и состояние месье Франсиса Буае позволит им вести тот образ жизни, о котором они мечтали, чтобы быть счастливыми, творческий и независимый. Амьен пропустил свою выставку в этом году, но счастье, которое его ожидает, очень даже стоило этой жертвы.
Верро успокаивается, попивая пиво в отсутствие своих старых друзей. Пия купила ему прекрасную студию в доме художников на пляс Пигаль, и он всерьёз задумался над тем… а не стоит ли ему бросить профессию частного сыщика и вновь заняться ремеслом художника. Месье Дюбуа был относительно счастлив, ведь его не беспокоили в связи с делом об убийстве в омнибусе благодаря хорошей работе его адвокатов. Но, несмотря на это, Аврора не может найти себе жениха. Проблема в том, что претенденты на её руку испарились. В Париже все знают обо всем, и громкое преступление в омнибусе причинило невосполнимый ущерб репутации семейства Дюбуа.
КОНЕЦ
Игорь Шинкаренко, isinkarenko@yahoo.fr или igorsinkarenko0@gmail.com






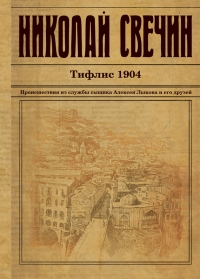

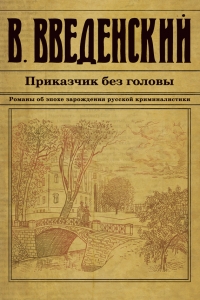

Комментарии к книге «Мистерия в парижском омнибусе», Игорь Шинкаренко
Всего 0 комментариев