Владимир Корнев, Владимир Шевельков ПОСЛЕДНИЙ ИЕРОФАНТ Роман начала века о его конце
Mors non est, sed noster amor est.[1]
Авторы выражают глубокую признательность за помощь в издании этой книги Льву Лурье, Алексею Деревягину и Олегу Седову
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Адвокат Думанский, надворный советник и приват-доцент права, стоял воскресную литургию в петербургском Всея Гвардии соборе Преображения Господня. Высокий, статный протодиакон в богато расшитом парчовом стихаре, высоко поднимая руку с орарем, громовым басом возглашал сугубую ектенью:
— Рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем…
Певчие, хор девочек в белоснежных облачениях, послушно вторил ему троекратным «Господи, помилуй!». Регент в концертном фраке дирижировал хором, строго следя за последовательностью литургийных антифонов и благоговейностью пения. Верующие, нарядно одетые по случаю предстоящего причащения, усердно крестились на каждый возглас диакона, некоторые вполголоса подпевали хору.
— Еще молимся о Благочестивейшем, Самодержавнейшем, Великом Государе нашем Императоре Николае Александровиче всея России… о супруге Его, благочестивейшей Государыне Императрице Александре Феодоровне, о матери Его, благочестивейшей Государыне Императрице Марии Феодоровне, о Наследнике Его, благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Алексии Николаевиче, и о всем Царствующем Доме… Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте…
Многие из молящихся в храме опустились на колени. Кто-то преклонил голову до земли. Объятый особым, редко посещавшим его чувством благоговения, земной поклон совершил и Думанский. Хор стройно, сугубо торжественно трижды пропел: «Господи, помилуй!».
Думанский, сдерживая волнение, подошел к праздничной иконе и приложился к ней губами. Нервы были напряжены так, что дрожали колени. Пошатываясь, Викентий Алексеевич двинулся к выходу из храма, но внезапно путь ему преградил безобразный старик с седой, свалявшейся в колтуны бородой и необыкновенно большим лбом. Старик был облачен в какие-то страшные лохмотья.
«Что он от меня хочет? — подумал было Думанский и, быстро сообразив, опустил руку в карман, нашаривая медь. — Наверное, это юродивый. Нужно подать Божьему человеку». Но старец сам протянул Думанскому какой-то бесформенный сверток, бормоча при этом нечто маловразумительное:
— Ради Христа, ради Христа… Приимите, и Господь помилует душу-то грешную… Ради Спасителя нашего, приимите… Да не в суд и не во осуждение…
Думанский шарахнулся было в сторону. А назойливый «юродивый» все не отставал:
— Да-с-с, милостивый с-дарь, смею отрекомендоваться, Карл Иоганнович Росси! Не признали-с? Да кто ж теперь меня признает, а бывало, с Самим Государем… Тот самый Росси я, Их Императорских Величеств Александра Павловича Благословенного и Николая Павловича придворный архитектор.
Думанский недоумевал: «Ну точно, юродивый. И с чего бы это я должен был его признать? Придворный зодчий! Delirium,[2] кажется, так это называют врачи. Да ему и врачи-то, наверное, уже не помогут».
— Вы не думайте, милостливый с-дарь, ежели я появляюсь где-то, это есть, можно сказать, знак свыше. — И «Росси» указал пальцем под купол. — Вот сейчас я непременно должен передать вам сей пакет. Только без лишних церемоний и маргиналий. Так-то-с!
«Росси это или нет, уже не важно. Но подумать только, — а если действительно он? Sic transit gloria mundi!»[3] — пронеслось в голове у Думанского, и он машинально принял сверток, а затем двинулся к выходу.
Старика и след уж простыл. Служба кончилась, люди стали выходить на улицу. Выйдя за церковную ограду, адвокат бросил пару медяков сидящим на земле нищим. В этот момент за спиной его раздался стук копыт. Обернувшись, он увидел мрачные тюремные сани. Из них выскочили люди в просторных черных одеяниях, и с ходу принялись палить куда попало. Пули отлетали от трофейных пушек ограды, впивались в каменный парапет, крушили булыжник мостовой.
Викентий Алексеевич почувствовал, как по спине уже потекли струйки холодного пота: «Finita.[4] Так глупо кончается жизнь! Хоть бы причастился сегодня». Какое-то шестое чувство уверяло адвоката, что цель, в которую метят злодеи, — он. Дальше все происходило как в кошмарном сне: одна пуля попала в голубя, разорвав тело птицы в клочья, разбрызгав вокруг капли крови. В воздухе закружились белые с алым перья «небожителя». И так уж нужно было случиться, что в то же мгновение из собора неслышно выпорхнули, все в белом, девочки-хористки. Пули настигали и их. Юные, невинные тела бились в агонии в лужах крови. Кругом поднялся визг, люди в панике бросились врассыпную. Руки Думанского задрожали, в глазах потемнело. Он выронил сверток, тот с металлическим лязгом грянул о мостовую. Из бумаги выпростался громадных размеров смит-вессон.
«Разве такие большие бывают»? — удивился адвокат, но тут же, мало соображая, что делает, схватил револьвер и в несколько выстрелов, почерком профессионала, уложил наповал всех нападавших. Перестрелка длилась считанные секунды. Барабан револьвера остался пуст. Ничего не сознавая, Думанский мутным взором осматривал место происшествия. Сани — в щепки, трупы, кровь, мертвые лошади, он сам в шоке, и над всем этим — разлетающиеся вороны с мерзким, похожим на дьявольский хохот, граем.
Думанский бросился обратно к собору. Но кошмар не отступил: стены Преображенского храма были покрыты обоями со странной повторяющейся росписью — вертикальными виньетками из голубых лилий…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Испытание Фемиды
Зал судебного заседания — это место, где Иисус Христос и Иуда Искариот были бы равны, причем Иуда имел бы больше шансов на выигрыш дела.
Г. МетенI
Тут Викентий Алексеевич Думанский наконец открыл глаза — перед взором адвоката голубели обои его собственной спальной.
«Слава Тебе, Господи! Это только сон, и я дома», — сообразил он, зевнув, и почувствовал несказанное облегчение. Медленно потянувшись, остался лежать в огромной постели. Ему еще было необходимо окончательно осознать переход в бодрствующее состояние, хотелось понежиться. «Что же это все-таки мне приснилось? Может быть, вещий сон? Этот странный старик „Росси“… Но последнее… эти убийцы, пальба. Дичь какая-то! Никогда бы не подумал, что в моем подсознании могут родиться столь брутальные сцены. Чужая душа — потемки, это понятно, но когда в собственной такой кавардак… Наверное, это все из-за вчерашнего ростбифа с кровью. Сколько раз я зарекался плотно ужинать! Да уж, непременно от ростбифа».
Наконец Думанский, поеживаясь, выбрался из-под одеяла, встал и, взяв с ночного столика большой хрустальный флакон, щедро опрыскал лицо дорогим одеколоном «Коти», затем, открыв фиал с туалетной водой другого, более тонкого, почти неуловимого аромата, тщательно протер холеные руки. Вообще, к своим рукам, лицу и прочим частям тела Думанский испытывал глубокую симпатию и оказывал им внимание, не свойственное большинству мужчин. Нет, он вовсе не был нарциссистом — просто любил разглядывать себя в зеркале, расстраиваясь, если что-то в его внешнем облике менялось к худшему, и считал, что уход за телом — одна из неотъемлемых черт истого аристократа, наконец, просто его священная обязанность. Это правило было усвоено им с младых ногтей, как и прочие светские манеры, и он не помнил случая, чтобы когда-либо ему изменил. «Если женщины проводят едва ли не весь досуг в уходе за своей внешностью, — рассуждал Викентий Алексеевич, — то уж мужчина вправе уделить этому занятию хотя бы час в день».
Завершив свой туалет, Думанский закутался в бухарский халат с кистями на поясе, подошел к окну и, широко растворив его, жадно вдохнул легкий бодрящий воздух. Каждое утро любовался он панорамой столичного центра, открывавшейся с высоты пятого этажа дома на Кирочной улице. Озирал аристократическую Литейную часть с особняками знати и богатых буржуа, с небольшим голубым куполом фельтеновской кирхи Святой Анны и крестоносной пикой Кавалергардской церкви, с недавно выстроенным помпезным домом Офицерского собрания. Отсюда, конечно же, были видны купола Преображенского собора, поодаль — шпили Михайловского замка и Симеониевской церкви в туманной дымке, слева высокая Владимирская колокольня, справа же утопающее в лесах «самоцветное» многоглавие храма Воскресения Христова с его ажурными, сверкающими золотом восьмиконечными крестами, и всюду крыши, крыши, крыши, белые от снега. В сочетании с перламутровым декабрьским небом северной столицы все эти детали составляли впечатляющую картину. «Будь я художником, обязательно написал бы великолепный пейзаж. Странно, что наши маститые живописцы совсем почти не пишут Петербург. Все бы им вылизывать бесконечные средиземноморские ландшафты, среднерусские поля и перелески или поэтизировать однообразие карельских сосновых боров. Вот ведь могут же французы вдохновляться парижскими видами, и как пишут — смело, буйно, а мы о наших петербургских красотах словно забыли. Только говорим о неповторимости Северной Венеции, но когда же родится наш северный Каналетто?» — так думал Думанский, воображая себя маэстро кисти. Но… его профессиональная стезя была совсем иной, и, хотелось ему того или нет, каждое утро он должен был выходить на нее в строгом форменном сюртуке с выпускным знаком Императорского Училища правоведения, не забывая при этом покрасоваться перед большим зеркалом в прихожей.
Сегодняшнее утро не было исключением из правил, и приват-доценту права в строго определенный час нужно было находиться в суде, дабы исполнять адвокатские обязанности. Окончательно пробудившись и воскреснув к жизни, господин Думанский приступил к ритуальному обходу своей не столь уж просторной, оставшейся еще от покойных родителей квартиры: он, собственно, и не ожидал найти ничего нового в этих шести комнатах, заполненных мебелью всех стилей, размеров и форм, тешивших нравы столичных жителей на протяжении почти двух столетий, огромным количеством книг в сафьяне и коленкоре, картин — от портретов пращуров в пудреных париках, среди которых, между прочим, были и кисти Рокотова, до каких-то сомнительных натюрмортов под Снейдерса и пейзажей бог весть чьей работы и не бог весть каких художественных достоинств. Было в этой квартире множество скульптуры, дагерротипов в затейливых рамках — на стенах, на комодах и столиках: имелось даже стоявшее в прихожей невероятных размеров чучело медведя с серебряным подносом для визитных карточек посетителей (медведь этот, по семейному преданию, был убит прадедом Думанского — большим любителем ловли и травли всякой живности — где-то в валдайских лесах, на совместной охоте с князем Путятиным). Словом, жилище петербургского адвоката было заполнено огромным количеством предметов — правду сказать, большей частью явных безделиц, доставшихся ему в наследство от знатных пращуров вместе с имением в псковской глуши. Сам же Викентий Алексеевич мало что присовокупил к этому скарбу, и отнюдь не потому, что был стеснен в финансах (практику он имел выгоднейшую), а потому, что по своему воспитанию не стремился к жизни более роскошной и было трудно выдумать что-либо, в чем он нуждался и о чем еще до его рождения не позаботились предки-сибариты.
Профланировав через всю квартиру мимо привычных вещей, десятилетиями стоящих на раз и навсегда определенных им местах, Думанский не обнаружил не только ничего нового, но и собственной жены (с которой он не первый год был в контрах), почитательницы богемы, частенько посещавшей декадентские художественные и литературные салоны, заразившие ее пагубной страстью к кокаину да склонностью к новомодной однополой «любви». Куда-то запропастилась и молоденькая горничная Даша, всего-то год назад приехавшая в столицу, но уже, насколько это было уместно для прислуги, копировавшая «передовые» взгляды своей госпожи.
Так незадачливый глава семейства, поминая далеко не святых угодников, не раз вдоль и поперек измерил то, что в женских романах называют семейным гнездышком, и наконец отчаялся найти не только кого-либо, с кем мог бы перемолвиться словом, но даже просто прислугу, обязанную хотя бы подать барину пальто перед уходом того на службу.
И вот, в тот самый миг, когда Викентий Алексеевич уже обулся в штиблеты и накинул кашне, в прихожей раздался пронзительный звонок. «Ну, сейчас я объясню этой „даме света“, как следует вести себя супруге уважаемого в высших кругах человека, потомственного дворянина… Хотя что в том толку? Разве в первый раз? — соображал Думанский, намеренно не спеша открывать. — Ну да уж этого позора — увы! — не смыть, а вот Дарье я точно пригрожу отказом от места».
Каково же было удивление разнервничавшегося Викентия Алексеевича, когда, открыв двери, он увидел на пороге своего коллегу, юриста-универсанта недавнего выпуска. Он успел только в радостном удивлении развести руками, как гость с иронией заметил:
— Что же это вы, драгоценнейший Викентий Алексеевич, заставляете себя ждать? Я давно уже заказал мотор, и он сейчас ожидает у парадного. Скорее собирайтесь, и на Шпалерную — нас ждут великие дела!
II
Щегольской авто-кабриолет мчал по Литейной части, попискивая на перекрестках клаксоном и привлекая внимание прохожих. Не так уж часто еще встречался на улицах столицы мотор, чтобы не вызывать всеобщее любопытство. За рулем, в темных очках, с ног до головы в коже, красовался знающий себе цену водитель, а на заднем сиденье вальяжно раскинулись пассажиры — два важных господина благородной наружности. Тот, что выглядел моложе, с любопытством просматривал свежую петербургскую прессу, и время от времени отпускал вслух едкие комментарии по поводу прочитанного. Его vis-a-vis[5] — господин в строгом черном пальто и каракулевой шапке «пирожком» — с интересом внимал чтению, подперев рукой подбородок и то и дело удивленно покачивая головой.
— Вы только послушайте, Викентий Алексеевич, что в утренних «Ведомостях» пишут! Дело Гуляева называют ни больше ни меньше как процессом века. А каковы обобщения: «Сей прискорбный факт, казалось бы, бросает тень на наше славное Отечество, и в скором времени наши недоброжелатели за границей, несомненно, попытаются воспользоваться криминальным скандалом в своих целях. Однако следовало бы рассматривать его в свете всеобщего падения нравов и критики, которой подвергается ныне христианская добродетель почти повсеместно».
Думанский удовлетворенно кивнул, выражая свое согласие с только что услышанным:
— Весьма резонно. Собственно, журналист прочитал мои мысли.
— Что-то вы дальше скажете, коллега! — продолжал любитель судебной хроники. — О вас автор статьи тоже не забыл: «Как знать, возможно, перед нами печальный пример трагедии? Во всяком случае, именно такого мнения придерживался на суде в отношении подзащитного талантливый адвокат Викентий Думанский — восходящее светило русской юриспруденции, известный нам по целому ряду блестяще проведенных процессов. „Мой подзащитный — личность психически неуравновешенная, жертва общественных пороков, и случившееся с ним, наряду с осуждением, взывает о сострадании. Если бы мы могли избежать пагубных воздействий среды на наши поступки!“ — воскликнул господин Думанский».
— Ну хватит, хватит! — Лицо Думанского выражало неудовольствие. — Я и так прекрасно помню все, что тогда сказал. Ох уж мне эти газетные льстецы! «Восходящее светило»! Стоит только этому «светилу» отправить в тюрьму какого-нибудь влиятельного негодяя, как та же пресса затопчет «светило» в грязь. Все это — увы! — банально и давно известно. Поищите-ка лучше, дражайший, что-нибудь ругательное. Неужели ни одна газета не позволила себе подвергнуть остракизму адвоката Думанского?
Молодой человек грустно улыбнулся:
— Эх, Викентий Алексеевич! Я всегда замечал в вашем характере нечто от мазохиста. Ну, уж коли вам так угодно, извольте. Vox Dei,[6] так сказать, — статья в «Епархиальных ведомостях». Рецензия на ваш очерк. А я и не знал, что вы писали о деле Гуляева.
— Ах да! — спохватился Думанский. — Я ведь действительно написал небольшой очерк в «Судебный вестник». Ну знаете, некоторые соображения по сути процесса под заголовком «Убийца или жертва?». Идея вам должна быть понятна. Не думал, однако, что духовная пресса так быстро откликнется. И что же им не понравилось, это интересно?
— А вы послушайте, как негодуют: «„Сердобольный“ адвокат Думанский, защищающий, кстати, в суде интересы обвиняемого, продолжает с подозрительным упорством оправдывать заведомого преступника. Гуманизм для господина Думанского — ценность непререкаемая, а преступник становится в его изображении жертвой развращенного общества, игрушкой страстей — метаморфоза впечатляющая. „Разве христианский мир станет совершеннее после узаконенного убийства еще одного из сынов человеческих?“ — восклицает юрист, обуреваемый „праведным гневом“. Приходится с прискорбием отметить, что сей государственный муж, окончивший, по всей вероятности, Императорское Училище правоведения, на эмблеме коего, как известно, красуется священное слово „ЗАКОН“, очевидно, так и не понял за годы учебы и судебной практики, какой смысл вкладывает в это слово христианское государство, каковым является наше Богоспасаемое Отечество. Всякое преступление есть пример нравственного разврата и требует достойной кары в зависимости от тяжести содеянного. Если человек, столь дерзко преступивший заповеди Христовы, не будет призван к ответу судом земным, то это будет великим соблазном для христиан, которые увидят, что законы Божии, а тем более человеческие, можно безнаказанно попирать».
Думанский развел руками:
— И мне все это понятно не в меньшей степени, чем любому православному человеку, но что поделать, если церковные иерархи почему-то поверили в виновность Гуляева, а я не нахожу ее доказательств и, следовательно, — не верю. Не может Гуляев быть убийцей!
— А как вам такое понравится, Викентий Алексеевич: «Характерно и то, что „передовой“ юрист в своем очерке позволил себе назвать преступника „еще одним из сынов человеческих“, что является неприкрытым кощунством в отношении самого Спасителя мира. Допустив столь неуместное сравнение в погоне за образностью речи, господин Думанский только выдал свои вульгарно-материалистические убеждения».
Адвокат помрачнел:
— Совсем не нравится. И как это я мог допустить такое неосторожное выражение! Теперь, чего доброго, будут Думанского безбожником считать. Дожил!
— Не спешите посыпать голову пеплом, коллега! Что-то запоют эти борзописцы, когда мы выиграем процесс. Давайте-ка я вас лучше развлеку. У меня тут есть одна занятная статейка…
— А стоит ли? Уже и так достаточно, — устало произнес Думанский.
— Да о вас там ни слова. Всё о Гуляеве, и в таких, знаете ли, красках! Газета иностранная, «Нью-Йорк таймс». Неужели вам не интересно узнать, как выглядит это дело из-за океана?
— Ну прочтите, пожалуй.
— «Россия в очередной раз удивила мир. Русский Казанова…». Это не кто иной, как наш купчишка. Забавно, не правда ли, Гуляев — Казанова! Итак, «…русский Казанова пошел дальше своего прототипа — список его „приключений“ значительно длиннее, чем у знаменитого итальянца. По достоверным данным, в нескольких европейских государствах он уже заочно приговорен к смертной казни за бесчисленные кутежи, которые устраивал всюду, куда заносила его безумная фантазия и тяга к сумасбродству. Кажется, этот скандалист решил доказать человечеству, что Россия — самая богатая страна в мире (цель, которой задаются многие русские с приличными капиталами), — куда бы ни приезжал купец-самодур, везде учинял попойки такого масштаба, что местное население становилось практически нетрудоспособным, а разгул волной докатывался до соседних государств. Не так давно в результате подобного дебоша сгорело здание в центре Гамбурга. Правда, приходится признать, никто не уверен, что это сделал именно Гуляев. К чести последнего следует отметить, что он немедленно в полной мере возместил городу причиненный ущерб в размере более четырехсот тысяч рублей, но даже эта сумма вряд ли способна загладить моральный ущерб, нанесенный репутации славного немецкого города».
— Ну что, узнаете своего подзащитного? — спутник с иронией посмотрел на Думанского. Тот даже покраснел от возмущения:
— Но ведь это бред какой-то! Пасквиль! Скандальные истории, мистика. И ведь никакого отношения к данному делу не имеет.
— Вероятно, никакого, но это только доказывает, что может сделать людская молва из ничего, перешагнув через океан. К тому же отдадим должное богатой фантазии ушлых американских репортеров, которые заработали на этой сенсации кругленькую сумму в долларах.
— Вы правы… Остается только радоваться, что полновесным российским рублем за эту чепуху им никто не заплатит.
— Нет, вы подумайте, чего только не напишут, — продолжал углубляться в содержание статьи новоиспеченный адвокат Сатин. — В молодые годы Гуляев-то, оказывается, соблазнил пол-Европы, а некую мадам Буальи обобрал до нитки, «оставив ей только воспоминания о многих тысячах франков, о своей загадочной русской душе и напев „Марсельезы“». Ха-ха-ха!.. Каков стиль! А дальше-то — самое интересное! «Из Франции, дабы избежать возмездия за свои проделки, „Казанова“ направился, как ни странно, не на свою азиатскую родину, в просторах которой хватит места целой армии подобных ему „романтиков“, а в гостеприимные объятия самого свободного государства мира — Соединенных Штатов. Пользуясь случаем, хотелось бы спросить господина президента и господ сенаторов: доколе въезд в нашу великую страну, призванную являть остальному миру пример торжествующей демократии и процветания, будет одинаково доступен для тех, кто готов влиться в число законопослушных американцев, и для проходимцев со всего света? Иначе и не назвать непрошеного „гостя“ из дикой России, избравшего цивилизованное государство ареной для своих очередных преступлений. Десять лет звероподобный мужлан „гастролировал“ по всему свету, порождая зловещие слухи и анекдоты, пока наконец не попал в руки правосудия, достойно увенчав список своих похождений кровавым злодеянием в столице собственного отечества. В России с преступниками церемониться не принято — их ждут в лучшем случае каторжные работы в непригодной для жизни Сибири, с ее вечной лютой зимой и свирепыми медведями, в худшем — эшафот. Можно надеяться, что суд определит современному Казанове последнее, предоставив нам возможность в очередной раз ужаснуться необузданности девственной русской натуры».
— Всё, больше не могу это слушать! — замахал руками Думанский. — Я мысленно умываю руки, а вам, коллега, по приезде в суд советую вымыть их в буквальном смысле.
Тут молодой юрист, до сих пор учтиво обращенный лицом к старшему коллеге, разразился вдруг гомерическим хохотом и, не в силах что-либо произнести, рукой указал на рекламную тумбу. Возле тумбы крутился огромный безродный пес, намекающий всем своим видом на то, что содержание афиши должна знать каждая собака в столице.
Сатин продолжал хохотать, Викентий Алексеевич же тем временем прочел на тумбе — такой, на какие обычно наклеивают объявления, начиная с анонсов спектаклей в Императорских театрах и кончая рекламой зубного порошка «Одоль», — отпечатанную крупным шрифтом информацию для желающих присутствовать на завершающем заседании суда над особо опасным государственным преступником, авантюристом и маньяком Гуляевым. Афиша обещала впечатляющее зрелище и заведомо обвинительный приговор «маньяку».
«Ну, это мы еще посмотрим!» — подумал Думанский.
Лавируя в толпе, собравшейся у входа в суд, и среди публики, заполнившей его внутри, юристы не без труда проникли в процессуальный зал. Викентию Алексеевичу вспомнилось, как перед первым заседанием в кулуарах он был буквально атакован молодой особой в трауре. Лицо ее было наполовину оттенено вуалью, что, впрочем, не могло скрыть решительного настроя барышни:
— Monsieur Думанский? Наконец-то! Я — дочь убитого… Дочь покойного… Я — Мария Сергеевна Савелова.
— Да-с-с… Трагедия! Понимаю вас, Марья Сергеевна, и разделяю вашу скорбь. Примите мои соболезнования. Должен сказать…
— Не желаю ничего слышать от вас! Все только лицемерное фразерство, вы согласились защищать убийцу моего отца, этого… этого Гуляева…
Адвокат попытался возразить негодовавшей Савеловой:
— Pardonez moi,[7] милая барышня. Вы, кажется, чего-то не понимаете — что значит «согласились»? Защита подсудимого — мой служебный долг, и потом, кто ж вам сказал, что Гуляев убийца?
— Всей России известно про его похождения! Пьяница и дебошир, безобразный тип, самодур, для которого нет ничего святого, ни Бога, ни совести.
— Допустим, но все вышеперечисленные качества еще не являются доказательствами его вины.
— Да какие еще нужны доказательства?! — девушка в своем справедливом негодовании была близка к истерике. — Зарвавшийся купчишка, насквозь пропитанный вином, да еще с амбициями! Странно, что он не зарезал кого-нибудь еще до моего бедного papa… У меня нет никаких сомнений: в судебной хронике были интервью и высших чинов полиции, и прокурора. Все, все говорят одно и то же, всем известно…
Думанский спокойно продолжал парировать:
— Вот ведь какая незадача! Полагая, что всем все заведомо известно, преступление, оказывается, уже раскрыто, и только мне одному ничего еще не ясно, вы, mademoiselle, ставите под сомнение мою профессиональную компетенцию. Может, не стоит все-таки торопиться с выводами, считая адвоката полным идиотом? Извините за наставления.
— A-а! Вы позволяете себе иронизировать! Весьма благородно с вашей стороны!.. Этот цинизм, этот тон… Это, знаете ли, переходит всякие границы… Но я догадывалась, как здесь обстоит дело: деньги заправляют и в суде, а этот торгаш пошло купил вас! Вероятно, предложение убийцы было настолько лестным, что оказалось дороже вашей репутации… И вы согласились участвовать в этом гадком водевиле! Уверена, что вам и раньше удавалось своими хитроумными приемами оправдывать негодяев всех мастей… Так знайте же: Гуляев не уйдет от наказания с вашей помощью, и вам эта отвратительная игра тоже с рук не сойдет — я буду мстить. Учтите, пострадают ваши подручные, родственники, ваши друзья — ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, на что я способна! Я добьюсь справедливости, господин Думанский, слышите? А средств у меня достаточно, не меньше, чем у тех, кого вы беззастенчиво защищаете… Я буду апеллировать к Его Величеству! Да я просто уничтожу вас, адвокат негодяев!!! Впереди у вас чудовищная бездонная пропасть и полное забвение!
Это была уже настоящая истерика — подобное опытный Викентий Думанский видел не однажды. Его выручил Сатин, весьма кстати выглянувший из дверей, ведущих в зал заседаний:
— Помилуйте, Викентий Алексеевич! Задерживаете — без вас никак. Присяжные и председатель давно на местах!
— Госпожа Савелова, — напоследок произнес адвокат, — право же, я не заслуживаю подобного гнева. Успокойтесь — я вам не враг! Не то, чтобы мне неинтересно было вас слушать, однако меня, как видите, ждет дело — между прочим, дело вашего отца. Убедительно прошу — возьмите себя в руки, любое вмешательство и давление только повредит следствию. Еще раз прошу прощения, mademoiselle, — уповайте на Бога! — И с этими словами отправился на кафедру.
III
Близился Филиппов пост. На дворе стоял ноябрь 1904 года. Извозчичьи пролетки с поднятыми кожухами мерно катились по мостовым, копыта лошадок привычно попирали торцы, разбрызгивая снежную жижу. Столичные жители, как и во всякий будний день, спешили по делам службы, не обращая внимания на неизбывную тоску чухонской зимы: титулярный советник влачился в канцелярию перебирать постылые бумаги; офицер-преображенец спешил в казарму к приему дежурства: дородный лавочник с окладистой пшеничной бородой, в поддевке дорогого сукна, семенил в магазин, прикидывая на ходу, сколько придется заплатить поставщику за партию архангелогородской семги и как бы потом успеть к вечерне в Сергиевский Всея Артиллерии собор; спрятав в муфту руки и прокламации, торопилась в Лесной на нелегальную сходку марксистов одетая с подчеркнутой строгостью молодая особа — вероятно, какая-нибудь бестужевка. Словом, город жил своей повседневной, исполненной имперской вальяжности суетой, которая дает петербургскому прохожему иллюзию благополучного существования и значительности собственной персоны. Лишь одинокий поэт без имени, в длинном и просторном черном плаще с пелериной, развевавшимся за спиной словно крылья огромной птицы, медленно брел навстречу новым откровениям, и его отстраненно-пронзительный взгляд отмечал в окружающем мире печальные приметы вечного угасания.
Было, однако, в этой скучной размеренности обычного зимнего дня столицы и событие из ряда вон выходящее, скандальная хроника коего, несомненно, просилась на первую полосу вечернего номера «Петербургских ведомостей»: в старинном здании ранне-классических форм, что на углу Литейного и Шпалерной, — том самом, где некогда располагался арсенал, а теперь уже долгие годы Окружной суд, — готовились к заключительному заседанию по делу господина Гуляева. Уже не первый месяц с перерывами продолжались открытые слушания — известный российскому деловому миру купец-филантроп и поставщик Императорского Двора, особа, приближенная к Государю, приковал внимание специфической части общества, именуемой «общественностью». Масштабы процесса действительно были впечатляющими: такого шума успел наделать по обе стороны Атлантического океана экстравагантный подданный Российской Короны.
Весь огромный Петербург, аристократический и разночинный, по мере возможности следил за ходом дела. Билеты на громкий процесс были давно распроданы; их обладатели занимали места задолго до начала очередного заседания, стараясь расположиться так, чтобы можно было разглядеть главных участников судебного действа. Даже полуграмотные извозчики, подмастерья и служанки, рядовые полицейские и всезнающие дворники — кто восторженно, кто с раздражением, а многие и с неподдельным ужасом — обсуждали подробности, если не прочитанные ими самими, то уж, по крайней мере, узнанные со слов господ, благо, газеты день за днем педантично излагали историю гуляевских похождений. Это была все та же пестрая хроника кутежей, скандальных происшествий в игорных домах и увеселительных заведениях, бесконечная вереница любовных историй. Однако причина, по которой Гуляев угодил на скамью подсудимых, являлась куда более серьезной: преднамеренное убийство известного всей России банкира Савелова, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Труп последнего был обнаружен ранним утром 7 июля 1904 года в одной из комнат третьего этажа дома терпимости по Гороховой, 77. Деньги, которые убитый имел с собой накануне, — в газетах называлась цифра три тысячи рублей, — были похищены, а сама смерть наступила в результате огнестрельного ранения из револьвера конструкции смит-вессон, принадлежавшего Гуляеву и обнаруженного в другой комнате того же публичного заведения, где находился в ту ночь сам купец. Причем отпечатки его пальцев на пистолете специалистами по дактилоскопии тоже были обнаружены. Словом, доказательств вины Гуляева было предостаточно. Публика, заполонившая зал суда на заключительном заседании, желала скорее услышать приговор: большинство, как водится, жаждало крови, и лишь немногие втайне надеялись на милосердие Фемиды. Но в том, что Гуляев виновен, уверены были практически все (кроме разве что его сотоварищей купцов). Попытка Гуляева оправдаться перед судом тем, что пистолет он якобы нашел в ту же ночь возле дверей комнаты, где преспокойно и преприятно проводил время с одной из обитательниц веселого дома, встречалась скептическими взглядами одной или откровенным хохотом другой части зала (что, впрочем, говорило не столько об отношении к подсудимому, сколько о различном культурном уровне присутствующих).
Обликом своим подсудимый производил неприятное, даже отталкивающее впечатление. Животное начало в нем было явно гипертрофировано: массивная, если не сказать грузная, фигура, одутловатое лицо с пухлыми влажными губами — нижняя была несколько отвисшей, так что рот всегда был приоткрыт, и от этого лицо приобретало глуповатое выражение; глаза вишнево-карие с воистину безумным блеском, нелепо оттопыренные уши; копна вьющихся, непослушных, черных как у цыгана волос, буквально вызывающие дикорастущие усы. Это был тип гоголевского Ноздрева — неприлично пышущий здоровьем детина в расцвете лет, чья внешность наводила на мысль о какой-то скрытой патологии ее обладателя. Ко всему прочему на лице его были заметны следы побоев, появившиеся в результате попыток показать привычку ко вседозволенности в процессе конвоирования из тюрьмы в зал суда. Однако стоило лишь заговорить с ним — и он сразу превращался в милейшего собеседника с завидным чувством юмора да, наконец, просто в добродушнейшего господина, вмещавшего в своем грузном теле всю широту противоречивой русской души. Возможно, способность подобным образом преображаться и была одной из главных причин успеха Гуляева у женщин.
Викентий Алексеевич Думанский, представлявший на суде интересы подсудимого, был известен всей деловой России как один из лучших практикующих молодых адвокатов. Не прошло и десяти лет со дня защиты магистерской диссертации в Императорском Принца Ольденбургского Училище правоведения, а на счету Думанского был уже не один десяток успешно проведенных процессов. Гибкий ум и незаурядный ораторский дар помогали адвокату творить чудеса на судебной кафедре. Ему удавалось не только оправдывать невиновных, попавших под следствие по навету или недоразумению, но и спасать репутацию некоторых заведомых негодяев, которые без его помощи не могли рассчитывать на удачный исход дела. При этом в случаях с ложно обвиненными Думанский был принципиально бескорыстен; защищая же мерзавцев, напротив, считал своим долгом содрать с клиента приличную сумму. Заниматься делом Гуляева он согласился без колебаний, хотя этот колоритный тип, сочетающий широту натуры и чудаковатое, если не сказать вульгарное, простодушие, не вызывал у Думанского ни малейшей симпатии — с подзащитным они были слишком разные люди, не имевшие общих точек соприкосновения. Однако Думанский действительно был уверен, что этот человек не виновен в зверском убийстве, да и дело представлялось достаточно интересным.
Адвокат был выше среднего роста блондин, в самом расцвете лет, выглядевший даже несколько моложе своего возраста. В неприступном выражении его светло-серых, почти стальных, глаз, в его уверенных манерах читалось нечто обнадеживающее нуждавшихся в защите. Одет он был строго, но изящно: аспидную черноту бархатного отворота сюртучной тройки подчеркивала снежная белизна крахмального воротничка, твердые уголки которого, топорщась, заставляли держать голову с гордой независимостью; наконец, его черный с отливом галстук был щегольски украшен жемчужной булавкой.
— Господа судьи! Господа присяжные заседатели! Судебное заседание по обвинению Гуляева Ивана Демидовича, тысяча восемьсот шестидесятого года рождения, уроженца города Рыбинска Рыбинского уезда Ярославской губернии, православного исповедания, великоросса, купца первой гильдии, на государственной службе не состоявшего, холостого, детей не имеющего, под судом и следствием ранее не состоявшего, объявляется открытым. Напоминаю, что Гуляев обвиняется в преднамеренном убийстве господина Савелова Сергея Александровича, совершенном седьмого июля тысяча девятьсот четвертого года при отягчающих обстоятельствах — с особой жестокостью, и в завладении деньгами убитого в сумме не менее трех тысяч рублей, — строго и устало произнес председательствующий в чине действительного статского советника, спокойно поправив массивного «Владимира» второй степени под топорщившимся воротничком манишки.
Казалось, сам Государь, в полный рост изображенный на парадном портрете, украшающем залу, насупил брови и, взыскующе взирая на собравшихся, обвел зал внимательным взглядом молчаливо свидетельствуя непреклонность монаршей воли и законов Империи.
— Решается вопрос о порядке исследования доказательств по делу. Вчера мы, позволю напомнить, завершили допрос лиц из числа указанных в обвинительном акте по эпизоду об убийстве Савелова.
Большинство присутствующих составляли важные мужи в шитых золотом мундирах высших рангов государственной службы, с регалиями, не уступавшие друг другу в пышности усов, в размерах баков и благородных лысин. Тут же находились преуспевающие буржуа, одетые с иголочки у лучших столичных портных. Отдельно расположились люди торгового сословия — большей частью дородные, с буйной растительностью на лице, сурово оглядывающиеся по сторонам господа, готовые на любые издержки, дабы выручить сотоварища по цеху: это была купеческая депутация могущественного ярославского землячества обеих столиц. Как всегда в подобных случаях, хватало в зале и зевак — любопытствующих мещан, профессиональных правдоискателей, вечно против чего-то протестующих студентов. Были здесь даже те, кого принято называть «темными личностями». Слышалась и иностранная речь: на открытое слушание съехалось множество репортеров со всех концов света, а ряд государств, где Гуляев оставил по себе наиболее «яркую» память, прислали на процесс, обещавший стать хрестоматийным, и представителей своих органов юстиции (они, разумеется, не играли никакой процессуальной роли, но что поделаешь — политическая дипломатия!).
Неплохой психолог, Думанский не мог, однако, взять в толк, как выдерживают обыватели подобные судебные заседания: по лицам было видно, что почти никто из присутствующих в зале зевак не понимает сути происходящего — ни пояснений экспертов, ни тонкостей толкования закона, ни значимости требований сторон о точном соблюдении процесса: ждали лишь сенсации и ради нее терпели долгий утомительный перечень приводимых доказательств. Вереницей допрашивались свидетели, изучались документы, осматривались вещественные доказательства, оглашались справки и заключения.
Внешность вошедшего в зал очередного свидетеля, как и большинства проходивших по делу лиц, нельзя было назвать приятной: вызывающий взгляд, застывшее, без тени эмоций, лицо, волосы зачесаны назад, черные усики топорщатся в стороны наподобие маленьких острых лезвий: поверх невзрачной, в черную полоску, точно пижамной, пары небрежно наброшено дорогое черное пальто, словно бы с чужого плеча, вокруг шеи обвился грязно-серый вязаный шарф: лаковые штиблеты, гармонировавшие с пальто, производили впечатление новых, но сапожная щетка явно их не касалась. Кесарев — так звали свидетеля — уверенно поднялся на трибуну, картинно положил руку на Священное Писание, неторопливо и словно бы через силу произнес клятву.
Обвинитель, как и требовала от него судебная этика, бесстрастно вопросил:
— Свидетель, поясните, пожалуйста, суду, какие отношения существовали между подсудимым и погибшим?
Кесарев с готовностью отвечал:
— От Савелова я неоднократно слышал, что Гуляев «перешел ему дорогу». Он и раньше Гуляева недолюбливал, а после одного случая так и вовсе стал ненавидеть. Савелов сразу покидал те места, где появлялся Гуляев. По личной причине, даже по интимной. — При этих словах он обвел присяжных многозначительным взглядом, что породило шепот в зале.
Прокурор удовлетворенно кивнул. Думанский обратился к председательствующему:
— Могу я задать уточняющие вопросы?
— Пожалуйста, если господин обвинитель более вопросов не имеет.
Думанский незамедлительно перехватил инициативу:
— В таком случае, господин Кесарев, поясните, когда и при каких обстоятельствах погибший все это вам рассказывал? Вы ведь служили в банке всего-навсего помощником секретаря. По меньшей мере, странная доверительность крупного финансиста к скромному служащему… Какие особого свойства отношения между вами существовали, если господин Савелов нашел нужным сообщить вам причину своего разлада с подзащитным? В своих показаниях вы сочли необходимым подчеркнуть неприязнь Савелова к Гуляеву, но ведь к последнему, как можно заключить из газетных сообщений, относится подобным образом девяносто девять процентов мужского населения Европы. Может быть, вы в состоянии пояснить и отношение моего подзащитного к Савелову? Мы ведь слушаем дело об убийстве господина Савелова господином Гуляевым, а не наоборот.
На секунду показалось, что свидетелю не хочется отвечать на заданный вопрос, но тут же его лицо приняло независимое выражение. Он с подчеркнутой любезностью улыбнулся адвокату, как бы давая понять, что тот напрасно отнимает у него бесценное время:
— По-моему, о наших отношениях с покойным и так все ясно. Должность в его банке я занимал незаметную — это правда, но мы с ним были добрые друзья, а уж как люди становятся друзьями, это одному Богу известно. Савелов мне однажды рассказывал, что Гуляев его чем-то обидел, задел. Может, это и было связано с женщиной — точно не скажу. А Гуляев ненавидел Савелова, это точно! Я думаю, подсудимый и сам этого отрицать не станет. — Кесарев с покровительственным сочувствием — как на больного — посмотрел на Гуляева.
Думанский разочарованно развел руками. Затем произнес:
— Поясните в таком случае хотя бы ваше собственное мнение о моем подзащитном, дабы суд удостоверился в том, что у вас нет оснований его оговаривать.
Кесарев не успел ответить, как сорвался обвиняемый, в который раз уже вызвав неудовольствие адвоката:
— Слушайте, да уберите вы отсюда этого таракана! Закон вы или кто? Не ясно, что ли, что он меня оговаривает? Что вы его слушаете? Он же соврет — недорого возьмет! Я сам не хуже Кесарева знаю, как Савелов ко мне относился, а он пусть нос не сует в мои дела!
Гуляев рванулся к Кесареву, потрясая кулаками, точно до его сознания дошло что-то важное:
— Ах ты, вражина анафемская, да ты сам меня с Савеловым рассорить хотел! Да это ж ясно как Божий день! Держал я некоторый капиталец в савеловском банке, а вот шаромыжник этот с большой дороги нашептывал покойнику, будто нечестно нажиты мои капиталы, — имя мое чернил, а сам-то в доверие втирался! Я когда о том узнал, все деньги перевел в Русско-Азиатский банк. С тех пор Савелов, Царствие ему Небесное, меня и невзлюбил… Ах ты ж мразь!
Последние слова Гуляев договаривал, когда уже двое бдительных жандармов скрутили его, не допустив до слегка побледневшего, но уверенного в своей недосягаемости свидетеля.
— Подсудимый! — завопил председательствующий. — Сколько можно напоминать, что вы в суде, где следует вести себя соответствующе! Прекратите мешать следствию бесцеремонными репликами!
Взяв себя в руки, председательствующий в строгом тоне обратился к адвокату:
— Прошу продолжать допрос свидетеля Кесарева.
Думанский последовал указанию:
— Свидетель, вы знали когда-либо человека по фамилии Челбогашев? Вам, по крайней мере, что-нибудь говорит эта фамилия?
Кесарев в упор посмотрел на адвоката, потом, сощурив глаза, ответил:
— Нет. О таком впервые слышу.
— Суд не будет возражать, если я оглашу копию определения о прекращении уголовного дела в отношении господина Кесарева, возбужденного в связи…
Думанский не успел договорить фразу, как с места вскочил обвинитель и замахал руками:
— Наше судопроизводство не допускает оглашения сведений о прежних судимостях обвиняемого! Почему мы ставим свидетеля в положение заведомо худшее в сравнении с положением обвиняемого? Я решительно протестую!
Председательствующий стукнул по кафедре молотком:
— Протест удовлетворяется!
Нужно было видеть реакцию Кесарева, который походил сейчас на павлина, расправившего хвост.
Адвокат, однако, и не думал отступать.
— Тогда, с вашего позволения, — он кивнул в сторону судьи, — я ознакомлю высокий суд с содержанием другого документа, обнаруженного в личном сейфе покойного: к сожалению, полиция не догадалась, что наше законодательство предусматривает хранение счетов, денежных средств и ценных бумаг не в одном только банке. К тому же я просил бы позволения допросить одну персону из прислуги Гуляева.
Получив разрешение, Думанский приступил к чтению документа:
— «Сим удостоверяю, что мною, Челбогашевым Дмитрием Михайловичем, взяты у господина Савелова сего тысяча девятьсот четвертого года, января, числа первого, семнадцать тысяч рублей ассигнациями, кои я обязуюсь возвратить не позднее седьмого июля тысяча девятьсот четвертого года». Далее следует собственноручная подпись должника.
— И что же? — Обвинитель, уставший не меньше остальных присутствующих, готов был сорваться, но сдержался. — Что с того? Мало ли убитый ссуживал денег? Неужели мы теперь будем изучать все его долговые расписки?
— Удивляюсь, коллега, — произнес Думанский, — вам прекрасно известно, что добросовестное судопроизводство не вправе упустить ни малейшей детали дела. Подобная расписка — важнейший документ в любом деле! В ней же указан срок уплаты.
Прокурор притих, оценив необдуманность своих слов. Теперь казалось, что защитник обращается уже не ко всему залу, а к одному прокурору:
— Только вчера господа члены Английского клуба пояснили высокому суду, что Савелов уехал из клуба, проиграв около пяти тысяч, причем уехал за деньгами, пообещав оплатить долг вечером следующего дня. Убийство, таким образом, совершено не просто в ночь накануне возвращения долга господином Савеловым, но — главное! — когда он сам должен был получить очень приличную сумму. Потерпевший направился в дом терпимости не за интимными услугами, о чем не стесняются говорить злые языки, забывая, a propos,[8] что de mortuis aut bene aut nihil,[9] а с совершенно иной целью — получить обратно свои деньги, ссуженные вышеупомянутому Челбогашеву. Тем подозрительнее в моих глазах выглядит факт, что Челбогашев назначил своему кредитору встречу в столь неподходящем месте. Хочу подчеркнуть это обстоятельство, чтобы не бросить тень на доброе имя покойного. Что же касается моего подзащитного, господина Гуляева, то он известен всей России не только как сибарит, сумасброд и человек развращенный, — я готов первым признать это, — но и, что явно делает ему честь, как щедрый филантроп и меценат. — Думанский передал председательствующему внушительную кипу бумаг. — Я думаю, что нет необходимости оглашать каждый из представленных мною документов о его пожертвованиях на нужды церкви, народного просвещения и медицины. Достаточно сказать, что общая сумма их превысила триста тысяч рублей, а если еще учесть, что по доброй русской традиции большая часть пожертвований сделана анонимно и не подвергалась, так сказать, земному учету, то можно быть уверенным, что эта сумма гораздо большая.
Нарастающий в зале шепот превратился в гул, и невозможно было понять, кто доволен услышанным, а кто откровенно раздосадован. Кесарев по-прежнему оставался внешне спокойным, стремясь всем своим видом показать, что впервые слышит фамилию «Челбогашев».
Вопреки протестам прокурора, призывавшего не доверять объяснениям Гуляева по поводу кражи его револьвера кем-то из прислуги (купец даже не удосужился заявить об этом в полицию), ходатайство адвоката о допросе горничной было удовлетворено. Из зала для дачи показаний проследовала женщина, одетая несколько богаче, чем полагалось прислуге, что, впрочем, никого не удивило: Нина Екимова была в услужении не у канцелярского чиновника с жалованьем в тридцать рублей.
— Свидетельница, до того как вас нанял в горничные мой подзащитный, были ли вы знакомы со свидетелем Кесаревым? — осведомился Думанский.
Не меняя выражения лица, женщина с полминуты настороженно смотрела на адвоката, очевидно пытаясь угадать, какого ответа он ждет, затем активно замахала руками, завертела из стороны в сторону головой, демонстрируя полное отрицание:
— Это господин, которые Ивана Демидыча знакомые? Нет, нет, нет! Откуда ж мне было их знать? Я и сейчас с ними не знакома. Приходили к Ивану Демидычу, и всё… Мое дело маленькое: пальто в прихожей принять, на стол подать, а знакомства там разные — не положено.
— Выходит, вы даже никогда с ним не разговаривали? Не встречались вне дома вашего хозяина?
— Да на что ж это вы намекаете? — Горничная заволновалась. — Я женщина строгая, никого до себя не допущу… Я простая ведь, с деревни, а этот все ж таки господин сурьезный. Кроме «здрасьте» да «до свиданья» ничего от него тогда не слыхала. Ну, могла потом на улице встретить, случайно, да вряд ли это…
Она стояла, переминаясь, нервно приглаживая волосы и поворачивая колечко на пальце камнем к тыльной стороне ладони.
Услышав то, что и рассчитывал услышать, адвокат обратился к Кесареву:
— Свидетель, вы подтверждаете эти показания? Казалось, тот недоумевал. Что от него хотят? Нелепый суд с нелепыми вопросами.
— Я, разумеется, подтверждаю.
Иного ответа Думанский и не ожидал. Допрос продолжался:
— А где вы были в ночь совершения убийства?
Кесарев пояснил, сложив руки на груди, ни секунды не раздумывая:
— Я отдыхал с друзьями в Павловске. Отужинал и ночевать остался в гостях.
Адвокат опять обратился к Екимовой:
— Несколько лет назад известный вам лишь как друг господина Гуляева господин Кесарев содержал трактир в Новгороде. Прислуживали там именно вы. Получается, что вы не помните своего прежнего хозяина?
Екимова ничего не отвечала, продолжая изучать собственное кольцо. Думанский многозначительно вздохнул и извлек из стопки бумаг, лежавшей перед ним, листок с машинописным текстом:
— Господин председательствующий, вас не затруднит огласить результаты исследования подногтевого содержимого трупа?
При слове «труп» бывшая трактирная подавальщица покачнулась. Ей принесли воды.
— «…На кистях трупа имеются… — председательствующий пробежал глазами текст акта экспертизы в поисках нужного факта. — Вот: „частички темно-серой шерстяной ткани, по всей видимости, костюмного сукна…“» Достаточно? У нас еще один свидетель защиты — господин Иванцов.
К присяге подошел неуклюжий мужичок в нагольном тулупе. Осенив себя широким двуперстным крестом, он приложился к Евангелию, как это делают на исповеди, и отвесил поклон залу:
— Не взыщите, православные! Бог мне судья, ежели чего утаю! Служу-то я извозчиком, — начал отвечать он на заданный адвокатом вопрос о роде занятий. — С лошадкой своей на хлеб насучный промышляем. А человека этого, — он торопился скорее выложить суду все, что ему известно по делу, — и убитого с ним-то ись он, конешно, тогда ишо живой был! — я подвозил. Он, человек-то этот, в сером спинжаке еще был, сукно, видать, дорогое. Подвез я их к дому этому — тьфу, страмотища! — на Гороховой. Да! Еще женщина с ними была. — Он подозрительным взглядом изучал стоявшую неподалеку Нину Екимову, которая, в свою очередь, ожидала, когда ее отпустят. — Как щас помню, за день до Казанской это было, под Влахернскую, то ись аккурат седьмого июля заполночь.[10]
Впервые за время следствия Кесарев забеспокоился, накинулся на извозчика:
— Да ты… Что ты несешь, лапотник? Рожа-то у тебя какая… Видать, нарезался вчера… Да вы посмотрите, господа судьи, он же языком еле ворочает. Это ж просто пьянь… Совершенно невозможные подробности… Где ты меня мог видеть? Вы спросите — он ведь не помнит, что вчера было!
Мужик нисколько не смутился:
— Нет, барин. Зелья-то я вообще в рот не беру — по старой вере живу сугубо. А с памятью у меня, слава Богу, пока што грех жаловаться. Это ить у вас городских память короткая. Вы, господин хороший, так щедро тот раз со мной расплатились — уж куда там забыть! Я тада как раз лошадку из деревни привез, первый день на промысел вышел. Хороших людей по надобности возить — Божеское дело… Как не помнить — я на те деньги савраске моей новую сбрую справил. Благодарствуйте!
Поклонившись, он опять стал коситься на Нину, что не ускользнуло от опытных глаз адвоката.
— А эту женщину вы узнаете? Не она была со свидетелем и убитым в тот вечер?
Иванцов и рта не успел раскрыть, а Нина Екимова, лицо которой то краснело, то становилось белым как полотно, уже подскочила к нему, истошно вопя:
— Ну я-то тут при чем? Никогда я тебя не видела! Ты глаза свои бесстыжие пошире раскрой! Не было меня там, не было!
Напуганный извозчик отшатнулся и стал закрещивать вздорную бабу, словно хотел изгнать вселившегося в нее беса. Думанский уже переключился на Кесарева:
— Так вы, господин Кесарев, кажется, хотели заявить, что Челбогашев вам не известен? Я еще ничего не оглашаю! — Адвокат сделал упреждающий жест обвинителю, который собрался, было протестовать. — А у меня есть сведения, что в Новгороде было в производстве уголовное дело об убийстве одного местного купца первой гильдии, которое так и прекратили за недостатком улик, и, что любопытно, дело-то как раз в отношении вас, сударь, вкупе с вышеупомянутым Челбогашевым. Екимова взяла в долг деньги, а когда их надо было вернуть, кредитор был убит выстрелом из револьвера. В доме, где вы снимали комнату и который, разумеется, покинули после совершения преступления, было обнаружено письмо «незнакомого» вам Челбогашева, который любезно приглашал вас в Петербург, куда вы и отправились срочно, зачем-то прихватив с собой Екимову, хотя у нее, должницы, было безусловное алиби. Когда через несколько месяцев дело затребовала надзорная инстанция, тут же странным образом сгорела канцелярия…
Кесарев, выражая искреннее удивление, посмотрел на свидетельницу, которая все еще стояла у судебной кафедры с непроницаемым лицом, а потом, встрепенувшись, с нескрываемой ненавистью — на адвоката и почему-то особенно раздраженно на его безмолвного помощника. Впрочем, это продолжалось всего какое-то мгновение — он тут же принял безмятежный вид, невинно улыбнулся, рисуя пальцем на пыльной кафедре какие-то кружочки, и почти ласково пояснил:
— Я вас не понимаю, господин адвокат, вы же сами только что сказали, что улик было недостаточно, дело закрыли, потом оно еще и сгорело… А может, и вовсе не было дела-то? Или было, да не про мою честь. В России сколько угодно Кесаревых и Челбогашевых.
В свою очередь Думанский пристально посмотрел на свидетеля:
— Не спешите, свидетель, я еще не закончил. В новгородском преступлении помимо вас и Челбогашева, принимала участие еще некая особа… Поскольку впоследствии в окрестностях Петербурга был найден труп с документами пресловутого Челбогашева, возникает вполне логичный законный вопрос: кто же убил этого человека? А у вышеупомянутой некоей особы слабого пола в трактире, где та прислуживала, между прочим обнаружили любопытные документы — долговые расписки убитого купца, которые она забыла захватить с собой… или уничтожить. (Екимова слушала затаив дыхание.) И потом, вот ведь казус: канцелярия-то сгорела, а дело как раз сохранилось каким-то чудом. Господин секретарь, будьте любезны передать мне данные материалы.
Воцарившуюся тишину не посмел нарушить даже судья. Викентий Алексеевич уверенно и требовательно посмотрел на своего ассистента. Сатин растерянно захлопал ресницами, затем уперся взглядом в Думанского и наконец протянул ему первую попавшуюся под руку папку.
У Нины Екимовой окончательно сдали нервы: она задрожала, не отрывая глаз от папки, забилась в истерике:
— Это все он! Он это! Все Кесарев, а меня там не было! Уговорил меня, я левольверт и взяла, отдала ему, даже денег не брала! Знать не знала, зачем он ему нужон, убивцу окаянному!
Зал захлестнула буря эмоций — подобного финала следствия никто не ожидал: данное уголовное дело не обмануло ожиданий толпы. Еще бы: истинный убийца преспокойно фигурировал в качестве свидетеля, а на скамье подсудимых столько времени томился человек, к злодейству не причастный!
Между тем Кесарев, на некоторое время переставший быть центром всеобщего внимания, качнулся всем телом сперва вправо, затем влево, подобно маятнику, после чего вильнул в сторону и быстрым шагом направился к двери, через которую преспокойно покинул зал суда. Самое удивительное состояло в том, что никто даже не подумал препятствовать этому неожиданному побегу. Лишь в самый последний момент, обнаружив ошеломляющий факт — отсутствие свидетеля, превратившегося вдруг в подозреваемого, все наконец-то сообразили, что у них на глазах произошло нечто уж вовсе неподобающее.
Кесарев исчез так внезапно, будто его там и вовсе не бывало, испарился, что называется, в мгновение ока. Так окруженная кольцом охотников, загнанная лисица, исхитрившись, уходит от преследования. Всеобщее волнение охватило сбитый с толку зал. Ражие жандармы, стоявшие у входа, недоуменно переглядывались. Кое-кто из присутствующих поглядывал на потолок, ища несуществующее отверстие, но даже если бы таковое нашлось, разве у преступников бывают крылья?
Более других был обескуражен адвокат Думанский: он вел расследование к успешному завершению и вот теперь дело зашло в тупик. Лишь «подсудимый» Гуляев, в своей самоуверенной непосредственности совсем потерявший нить происходящего, кричал с места:
— Так я и не был с ним знаком-то! С Челбогашевым!
IV
Во время обыска на квартире у взятой под стражу Екимовой нашли темно-серую пиджачную пару — это было последнее доказательство вины Кесарева. Сразу после оглашения оправдательного вердикта Гуляева прямо в зале суда освободили из-под стражи.
Едва почувствовав, что спасен и не состоит под следствием, купец со всех ног бросился к Думанскому:
— Ну дела, ну диво — все видели, все слыхали, каков истинный правовед? Премного вам благодарен, господин Думанский! Век за вас буду Бога молить, душа родная! Это ж надо, это ж Сенат и Синод в одном лице — такие сети распутать, такой клубок змеиный! Умница вы мой раздрагоценный! Красавец вы мой яхонтовый! Я ведь уже смирился было, всё, думаю, — кандалы, каменный мешок, бессрочная каторга, а может, и вовсе виселица… Знать уж, Богу так угодно, голову с плеч — ну и прощай, головушка разудалая! А вы чудо сотворили! Николай-угодник прямо! Озолочу! Говорите, в чем нужда, — Гуляев рублем не поступится.
Думанский поморщился — он не любил чрезмерных излияний (к тому же на публику), и даже заслуженная похвала подчас утомляла его.
— Полноте, милейший, не стоит того… Все сложилось лучше некуда! Нервишки поберегите, они у вас слабые, а то ведь от радости в запой угодите… Я только исполнил свой долг: закон превыше всего! Да и что ж вы меня величаете — мерзавца ведь еще арестовать нужно, дело еще, можно сказать, только начинается. Еще понадобятся ваши свидетельские показания, господин Гуляев.
Выражение досады проступило на лице Гуляева.
— Эх, кабы я знал раньше, злодея того раздавил бы как клопа. Только вы ведали, что я не имел касательства к чудовищному обвинению. Это адское исчадие, мнится мне, еще много зла сотворит. Вот ведь тля! Холера босяцская… Каков наглец! А показания дам, непременно-с, всё по закону. Мы с вами наденем пеньковый галстук на этого сукина сына! А вы держитесь подле меня: теперь-то я воспарю и еще вас подниму. Сколько хочешь денег отпущу… Всякий день буду за вас молиться…
— Вот и ладно. На этом пока и оставим, а сейчас — уж не взыщите. В кулуарах мне, увы, не избежать «приятной» встречи — борзописцы так просто не отпустят. Честь имею кланяться! — Думанский протянул недавнему подзащитному руку, давая понять, что сегодня ему еще не миновать испытаний медными трубами.
Гуляев в ответ буквально раскланялся, однако было заметно, что он расстроен. Напоследок бывший обвиняемый с сердцем выложил:
— Эх, Викентий Лексеич, золотой вы мой! Обижаете! Гуляевской благодарностью гнушаетесь!
Думанский вытер лоб платком. Устал смертельно: нервное напряжение давало о себе знать. Как он и предполагал, сразу за дверями процессуального зала ему не без труда удалось отразить атаку целой армии «двунадесяти языков» газетчиков, которым пришлось отвечать на понятном им наречии. Какие-то совершенно незнакомые люди подходили к адвокату, поздравляли с блестящей защитой. Думанский был равнодушен ко всем похвалам в свой адрес.
Дождавшись, когда адвокат остался в одиночестве и аккуратно сложил в тисненую кожаную папку свои бумаги, к нему обратилась облаченная в траур Молли Савелова:
— Господин адвокат, не могли бы вы уделить и мне несколько минут?
Думанский казался растерянным: ему не хотелось ни с кем разговаривать, тем более с этой нервной особой, памятуя их нелицеприятный разговор перед заседанием, но отказать даме, да еще убитой горем, для него было недопустимо. «Я должен выслушать. Пусть говорит, только к чему это все? Сейчас опять будет истерика — как в тот раз…» Он, почти не поднимая глаз, довольно сухо, но вежливо отвечал:
— Чему обязан, mademoiselle?
— Господин Думанский, вам, конечно, известно, что с самого начала процесса я внимательно следила за тем, как вы вели защиту. Должна признаться — мое убеждение в меркантильности ваших интересов исчезло. Напрасно я вас обидела — поверьте, мне сейчас так неловко! Искренне сожалею об этом и приношу свои извинения. Горе застало меня врасплох — с нервами до сих пор трудно справляться. — Заметив, что Думанский нетерпеливо поглядывает на часы и переступает с ноги на ногу, Молли поспешила добавить: — Теперь-то я понимаю, что вы были честны, и постараюсь быть краткой. Видя, что вы защищаете истину, а не убийцу отца, стремитесь обличить настоящего преступника и тщательно подбираете неопровержимые улики, я вспомнила дополнительные факты, очень важные факты — они подтверждают причастность к смерти отца, более того — вину в убийстве! — именно Кесарева. Я считаю необходимым немедленно сообщить их вам. Этот мерзавец, лжедруг, часто бывал у papa, и papa имел несчастье доверять ему: вероятно, у того была чья-то серьезная рекомендация. Кесарев действительно пытался усилить вражду между papa и Гуляевым. Да собственно, до появления в нашем доме этого гадкого серого человека и вражды-то между ними никакой не было! Так, может быть, некоторое высокомерие со стороны papa: мы в родстве с Царствующей Фамилией, наш род древний, а Гуляев все-таки parvenue.[11] Monsieur Думанский, я прошу вашей помощи! Невиновный оправдан, но убийца остался безнаказанным. Будьте представителем моих интересов в суде по делу истинного убийцы. Бесспорно, суть настоящего дела лучше вас никто не знает… Поймите же, я не могу, не хочу настаивать — я умоляю!
Удивленный и даже озадаченный откровенным обращением mademoiselle Савеловой, Думанский сделал вид, что не понимает:
— Я тоже напрасно не стану отнимать ваше время… Вы, вероятно, хотите отсудить у негодяя долг в размере семнадцати тысяч рублей по долговой расписке?
Молли сохраняла внешнее спокойствие, но ей сделалось больно оттого, что адвокат заподозрил в ее предложении корысть. Чувствуя, что он намеренно сух и безучастен, девушка попыталась объяснить еще раз:
— Ну, зачем вы так! Речь идет не о деньгах, а о памяти моего убитого отца. Я не жажду крови — я лишь хочу справедливости… а если угодно, безопасности себе и другим. Нужно же довести дело до конца! Где же Высший Закон, Высшая Правда?
Думанский, сожалея и вздыхая, говорил уже прямо, хотя отказывать ему было и неудобно, но другого выхода в разговоре с этой проницательной особой, которой, видимо, было понятно все с полунамека — из неосторожного взгляда, нервического движения пальцев, случайного вздоха, — он не видел.
— Я, к сожалению, только слуга земного закона и к тому же слишком занят. Боюсь, что вряд ли смогу быть вам чем-то полезен.
Молли, не ожидая такого твердого отказа, слегка вспыхнула:
— Моя настойчивость, наверное, выглядит бестактно. Я понимаю, вы, разумеется, сейчас очень устали… Впрочем, я сама виновата — теперь вы мне просто не верите…
Думанский, сообразив, что несколько перегнул палку, поспешил загладить собственную некорректность:
— Прошу прощения, mademoiselle Савелова, что вынужден прервать сейчас наш разговор… Меня действительно ждут неотложные дела… Но в другое время я всегда готов быть к вашим услугам…
Диалог закончился уже у подъезда здания. Думанский подвел Молли к ее экипажу и помог ей сесть, с сухой вежливостью поцеловав протянутую ему руку.
V
Футбольный матч был в разгаре. Компания мужчин среднего возраста, в зимних спортивных бриджах, с азартом гоняла кожаный мяч. Слышались смех, крики — игра доставляла наслаждение.
— Князь, умоляю, дайте мне пас! — нервничал форвард.
— Опять вы упустили мяч, ваше сиятельство! — досадовал другой игрок, переживая оплошность князя.
— Позвольте, я мяч не упускал, его господин адвокат отобрал, — шутливо оправдывался тот.
— Не обижайтесь, князь, таково мое амплуа! — Адвокат с иронией разводил руками.
— Браво, Думанский, вы действительно защитник от Бога! — восхитился кто-то из играющих, и в тот же миг раздался пронзительный свисток судьи. Игроки, чувствуя приятную усталость, стали расходиться на перерыв. Немногочисленным зрителям оставалось только делиться впечатлениями от увиденного футбольного действа — развлечения, вот уж несколько лет пользующегося успехом даже у столичной аристократии.
«Приятно! — размышлял Думанский. — Великолепный способ отдыха придумали эти англичане. Этакое совмещение приятного с полезным». Чувствуя живительное тепло во всем теле, он медленно пошел в раздевалку, но вдруг заметил знакомую женскую фигуру в черном пальто и черной же шапочке из каракульчи. Дама решительно направлялась в его сторону.
Это была жаждущая «Высшей Справедливости» дочь Савелова. «Да уж! Отдохнуть теперь не удастся, — с досадой заключил Думанский. — Предстоит очередная истерическая сцена, выплеск эмоций, будто мне не достаточно Элен».
— Здравствуйте, господин адвокат! Не прогоните, надеюсь? Или я отвлекаю вас от «дел, не терпящих отлагательства», и вы, наверное, думаете: когда же эта особа оставит меня в покое… Угадала? — робко и приветливо улыбнувшись ему, но тут же приняв серьезный вид, произнесла Молли.
Думанский ответил на ее приветствие молча, едва заметным поклоном, выжидающе посмотрел на просительницу, как будто надеясь, что она вдруг развернется и уйдет. Против своей воли он отметил, что серьги, которые Молли сегодня надела, удивительно идут ей. Бриллиантовые искры вокруг больших зеленых камней изысканно гармонировали с безукоризненным траурным нарядом и до невероятности бледным лицом. Наконец Викентий Алексеевич с усилием произнес:
— Сожалею, mademoiselle, все же я вынужден отказать вам, если речь идет о том же, о чем мы говорили после процесса: я не хочу и не могу быть вашим представителем в суде. Я, если вы помните, адвокат, защитник, а выступать в роли полуобвинителя, обличать кого-то, настаивать, чтобы его настиг карающий меч правосудия, не соответствует ни моей профессиональной роли, ни моим жизненным правилам.
— Тогда, вероятно, я единственное лицо, заинтересованное в том, чтобы убийцу постигло возмездие. Выходит так? Сама я, конечно, не в силах что-либо сделать, но вынуждена напомнить: у меня есть нечто, что послужило бы важным доказательством вины Челбогашева, а с ним и Кесарева. Я нашла черновик письма к этому самому Челбогашеву, где отец сообщает о невозможности встречи с ним двадцать восьмого июня девятьсот четвертого года в том доме, где впоследствии был убит. Дела заставили его тогда отлучиться в наше имение.
Думанский еле сдержался, чтобы не зевнуть, и произнес, всем своим видом выражая неизбывную скуку:
— Ну-с, и что из того? Я ведь, кажется, объяснил…
Молли уже начинала терять самообладание:
— Но я прошу вас, помогите… Даже не знаю, какие еще доводы вам нужны! Убеждать вас в том, что я готова на любые расходы, по-моему, излишне, это ведь и так очевидно.
— Ну есть же судебная этика, в конце концов… Участвовать по одному делу то на стороне защиты, то на стороне обвинения? Хм… Не припомню такого случая… Это импосибильно![12] Я, представьте, никогда не имел прокурорской практики.
Оставаясь неподвижной, Молли глядела на футбольное поле, не видя в то же время ничего вокруг — слезы застилали глаза. Ей было понятно, что она осталась в этом бездушном мире наедине со своим горем и уже никто на свете не поддержит ее и не поможет, а убитый отец каждый день будет укоризненно смотреть на неблагодарную дочь с огромного портрета в гостиной.
Думанского парализовал этот взгляд. «Какие глаза! Эта юная дама великолепна в сознании собственной беззащитности. Невозможно допустить, чтобы она сейчас зарыдала!» Но тут же холодный разум иронически заметил: «Брось, с твоей стороны это не более чем пустая сентиментальность. Помнишь, с какой экзальтацией она обвиняла тебя в продажности? Не кажется ли тебе, что природа ее горячности та же, что и у твоей благоверной, господин Думанский? Должно быть, и порошки тайком нюхает».
И тут словно кто-то подсказал адвокату прекрасный выход из создавшегося положения: он заметил невдалеке своего ассистента, Сатина, который, заранее пообещав принять участие в матче, освободился после делопроизводства только сейчас и даже не успел еще переодеться. Держа под мышкой какой-то сверток, он спешил к Думанскому, но, заметив, что тот занят важным разговором, тактично застыл в отдалении. Однако Сатин скоро забыл о правилах приличия и впился глазами в собеседницу своего коллеги — настолько ее облик совпал с тем идеалом женщины, который присутствует в сознании наиболее утонченных, даже избалованных в эстетическом отношении мужчин. Из состояния оцепенения его вывел Думанский, окликнув по имени. Теперь, обращаясь к Молли, Викентий Алексеевич стал более любезен, благодаря тому, что взаимоприемлемый выход, кажется, был найден:
— Постойте, по-моему, я знаю, как вам помочь! Что вы скажете, если я предоставлю вам своего ассистента Алексея Иваныча Сатина? Посудите сами: все, что касается убийства вашего отца, ему известно не хуже, чем мне, а главное, он-то как раз неоднократно и с успехом представлял сторону обвинения в подобных делах. Кстати, коллега намерен в скором будущем открыть собственное юридическое бюро.
Зачарованный взгляд ассистента убедил Думанского, что тот не откажет. Викентий Алексеевич уверенно продолжал, взяв последнего за руку и едва заметно ему подмигивая:
— Не смотрите, mademoiselle, что господин Сатин сейчас так скромен и застенчив. Когда вы увидите, с какой энергией, с какой страстностью он борется за права клиента, как непреклонен в своем намерении покарать зло, вы, несомненно, убедитесь, что на стезе служения закону его ждут лавры блестящего прокурора — просто он пока не столь известен в столичных кругах. Не сомневайтесь — коллега непременно добьется обвинительного приговора для Кесарева! Если только этому не станет препятствием извечная медлительность властей, которая, боюсь, может позволить убийце скрыться. Нельзя терять времени. Да! Ведь Алексей Иванович к тому же специалист в области гражданского права, и ему, извините за каламбур, не составит большого труда вернуть принадлежащие вам по праву деньги. Ну-с вот, будем считать, что я вас уже познакомил — прошу любить и жаловать. Словом, скажу без преувеличения, господин Сатин на юридическом поприще — моя правая рука. Да и на футбольном поле!
Молли отвечала со вздохом:
— Что ж, я согласна… если Алексей Иванович воздержится от двусмысленных улыбок…
Сатин смущенно произнес:
— Помилуйте! У меня и в мыслях не было оскорбления на ваш счет. Эти замечания безосновательны. А вот Викентий Алексеевич, как всегда, шутит — я всего лишь скромный слуга закона. Прежде всего, примите мои искренние соболезнования.
— Алексей Иванович, разумеется, вы уже поняли из нашего разговора, что у госпожи Савеловой к вам просьба касательно дела об убийстве ее отца? На сей раз, правда, придется рассмотреть это дело в несколько ином ракурсе, но надеюсь, вы без труда найдете общий язык и мое вмешательство будет излишним. Всю необходимую документацию нынче же передам вам в бюро.
— Спасибо за доверие. Я послужу интересам дела и клиента с превеликим удовольствием. Будьте покойны, mademoiselle, слово чести! Ваше дело как раз по мне, иначе, признаюсь, я бы воспротивился.
— Ну, так значит, быть посему! Я рад, коллега, что в вас не ошибся.
Адвокат хотел было тут же уйти, но Сатин задержал его, протянув сверток:
— Да, чуть не забыл, этот Гуляев — какова власть денег! — непонятным образом заполучил у судебных исполнителей обратно свой револьвер, который должен был храниться у них до вступления в законную силу приговора в отношении настоящего убийцы. И вот подзащитный передает его вам, так сказать, на память, с дарственной надписью.
Думанский брезгливо развернул сверток и, прочитав на серебряной пластинке, искусно впаянной в рукоятку: «Адвокату Думанскому от благодарного негоцианта», удивленно воскликнул:
— Да уж, эту бестию ничто не образумит! Каким был, таким и остался! Наверное, уговорил приставов в суде подменить на такой же… Алексей Иванович, голубчик, вы держите его пока у себя! Не следует потакать даже «невинному» беззаконию.
Раскланявшись, довольный, что устранился от неприятного дела, Викентий Алексеевич оставил Молли с Сатиным tête-à-tête[13] договариваться об условиях сотрудничества, а сам поспешно вернулся на поле. Перерыв подходил к концу, вот-вот должен был начаться второй тайм. «Теперь самое время развеяться… Но все же, как хороша! Удивительная женщина!» — невольно восхитился Думанский и с наслаждением ударил по мячу.
VI
В привычный час Викентий Думанский явился на службу, готовый с головой уйти в дела. Вежливо раскланявшись с присутствующими, он поспешил к себе в кабинет. Картина, открывшаяся взору корректного Викентия Алексеевича, была весьма неожиданной.
— Что здесь творилось в мое отсутствие?! — возопил адвокат.
На пороге тут же выросла тщедушная фигурка секретаря. Бедный служащий был столь испуган разгневанным видом начальника, что не мог выговорить и слова: он беспомощно хватал ртом воздух, издавая лишь нечленораздельные звуки.
— Я вас спрашиваю, что здесь происходило? — требовал отчета Думанский.
В кабинете царил невероятный бедлам: ящики письменного стола были выдвинуты до отказа, дверцы шкафов какой-то злой дух распахнул настежь, обнажив их деревянную плоть, — содержимое, в беспорядке разбросанное по всему помещению, свидетельствовало о еще недавно бушевавшей здесь стихии.
— Отвечайте же, кто учинил этот разгром? — Думанский едва сдерживал праведный гнев.
— М-м… Видите ли-с, Викентий Лексеич, тут ваша супруга… С вашего позволения, тык скыть… Я не смел препятстыть… — переминаясь с ноги на ногу мямлил секретарь. Казалось, он готов провалиться сквозь землю, будто был виноват в чем-то непоправимом.
— Зачем она пожаловала?.. Да полно вам! Перестаньте дрожать-то, а лучше скажите вразумительно.
— Ваша супруга только что была здесь, — набравшись смелости, наконец ответствовал секретарь. — Она, простите, все время кричала, что вы взяли какие-то порошки. Вот-с!
Думанский мгновенно покраснел и весь как-то сник. Подчиненный, уловив пикантность ситуации, в которую попал господин начальник, сразу обрел самообладание — перед ним стоял Думанский, которого незачем было бояться. В тоне секретаря появилась уверенность, даже некоторая игривость:
— Мадам также сетовала, что вы отобрали все ее деньги.
— Хм. Спасибо, — тихо произнес Викентий Алексеевич, стараясь не смотреть в глаза подчиненному. — Думал, что хоть здесь буду избавлен от ее истерик!
Секретарь совсем уже освоился с ситуацией и сам принялся было наставлять патрона:
— Не стоит так убиваться, Викентий Алексеевич. Даст Бог, все образуется: мало ли что между близкими людьми бывает? Она и еще сказала…
Думанский отрезал:
— Оставьте! Не желаю о ней слышать… И кстати, в ваших советах не нуждаюсь.
— Прикажете здесь убрать? — осведомился приструненный секретарь.
— Ась? — И опять отведя взгляд в сторону, Думанский мучительно выдавил: — Н-нет уж. Я сам… Да! Вот еще что. Должен вас предупредить: потрудитесь впредь сюда никого без моего ведома не впускать.
Подчиненный угодливо осклабился:
— Кофе-с принести?
В ответ адвокат только вяло махнул рукой — маленький человек исчез за дверью.
Думанский подошел к окну и уставился в одну точку. Там, на дворе, у каретного сарая возились дети прислуги, копошились какие-то мужики, до слуха Викентия Алексеевича долетали обрывки площадной брани, но перед его глазами стояла только картина вчерашней ссоры с женой. Он вспомнил, как застал ее в своем домашнем кабинете. Жена что-то разыскивала среди деловых бумаг на столе. Увидев его, Элен бросила:
— Ты взял?
— Дорогая, есть какие-то рамки приличия. По какому праву?..
— К ч…ту приличия! Плевать на ваши приличия и на тебя, правоведа!.. Ты взял ЭТО?!
— Почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Я не намерен это терпеть!
Взгляд ее глаз был страшен: в нем сплелись воедино безумие порочной страсти и отчаянная ненависть. Она разбрасывала вещи и бумаги.
— Где? Зачем ты это взял? Прячешь от меня, да?.. Мое! ЭТО только мне! Не смей трогать, негодяй! Я ведь все равно найду… Ну где же, где же… А, ч-ч…рт!
Думанский попытался обнять ее за плечи и, сдерживая чувство брезгливости, произнес:
— Довольно. Успокойтесь… Вы больны, Элен, а эта гадость совсем погубит вас. Вам бы душу облегчить, исповедоваться…
— Хватит проповедей! Отдай немедленно!!! Слышишь, ты?! Ханжа! Сушеный сноб! — она сорвалась на крик, схватила что-то со стола и, скомкав, бросила ему в лицо.
Думанский едва выносил эти бесконечные сцены, этот визгливый, режущий слух голос, однако и на сей раз ему удалось сохранить присутствие духа.
— Успокойтесь. Мне не до ваших фантазий и истерик, ступайте к себе. Элен, я ничего не брал! Послушайте, вам давно пора показаться хорошему врачу. Я все устрою: лучшую лечебницу, новейшие лекарства, покой и уход… Вы же были совсем другой, Элен! Я любил вас когда-то, но этот яд… Когда я ухаживал за вами, я и подумать не мог…
Жена в исступлении бросилась на него.
— Мерзавец, ты клялся передо мной, перед Богом и людьми быть со мной в горе и в радости… Как врал! Тебе нужны были только мои деньги. Еще святошу изображал, бездарный актеришка! А теперь хочешь упрятать меня в желтый дом, да? Вот цена твоей любви!
Викентий Алексеевич насильно усадил ее в кресло. Ее трясло как в горячке, она явно не отдавала себе отчет в том полубреде, что срывался с запекшихся губ:
— Господи, кто бы знал, как мне плохо… Ты мучаешь меня, живу, как каторжанка какая-то… как монашка в затворе… Ты лишил меня свободы — у тебя одни дела на уме… Я хочу бывать в обществе, мне нужен воздух, аромат богемных кругов! Я задыхаюсь без поклонения: мужчины не видят моей красоты… Почему у нас нет своего выезда — это все твоя патологическая жадность! Да ты просто хочешь сжить меня со свету, сгноить, но я не позволю, не дамся! Это я испорчу тебе карьеру, это я разорю тебя, уничтожу, это я, это я, я…
Взглянув на жену, он невольно поразился, какие изменения произошли за последнее время в ее внешности. «Куда подевалась та нежная романтичная девушка-институтка, та добрая Элен, которая не могла спокойно видеть мертвую птичку и как-то целый вечер плакала над книгой про Антона-горемыку? Та красавица, что мечтала стать моим добрым гением? Вместо нее — совершенно незнакомая и чужая женщина! Абсолютно белое безжизненное лицо, совсем как у мраморной статуи. Будь моя воля, того, кто ввел в моду пить уксус, сослал бы на самые страшные сибирские рудники без суда и следствия! Ну уж во всяком случае не взялся бы защищать ни за какой гонорар. Зрачки величиной с булавочную головку, ноздри нервно подергиваются… Не иначе, готовится устроить очередной спектакль, напугать взрывом эмоций. А потом наигранное в бреду незаметно для нее самой станет настоящим. Непременно надо ее как-нибудь успокоить, а то не пришлось бы снова посылать за доктором. Подальше от греха! Вчерашние „Ведомости“ как раз писали о том, к чему приводит женское неистовство, мещанка Селиванова в состоянии экзальтации откусила своему сожителю два пальца на левой руке… Господи, как же я сам измучился с ней!»
Но настоящая истерика только начиналась.
— Ты отвратительный, бесчувственный человек! Жалкий эгоист… Ты ненавидишь меня. Носишься со своими подзащитными, с этими монстрами — лишь бы сделать мне плохо… Вспомни, когда ты в последний раз дарил мне что-нибудь достойное? А я так люблю драгоценности, я чахну без бриллиантов — я создана купаться в их блеске, ослеплять поклонников… Мне опостылели все мои уборы — ничего сверхмодного, экстравагантного, волнующего! Я сама поеду к ювелирам, у меня достаточно средств! Ты думаешь, у меня нет любовников?! Ничтожество!!! А-а-а! Ты не хочешь быть со мной?! Ты мне отвратителен! — Она была вне себя. — Убирайся к ч…ту! Пусть тебя убьют твои клиенты! Ненавижу!!! Я сама отравлю тебя… Нет! Я убью нас обоих — мы должны умереть вместе…
Она чувствовала твердость мужа и не могла этого вытерпеть, пытаясь сделать все, чтобы вывести его из равновесия, лишить самой возможности покоя. Этот вчерашний скандал, как всегда, закончился тем, что Думанский не вынес накала атмосферы и, хлопнув дверью, выскочил на улицу. Он хотел бежать куда угодно, только бы оказаться подальше от этого дома, от безумной бестии, чьим мужем он имел несчастье быть. Ноги сами привели его в клуб. Он почти не появлялся в собственном доме: с утра — суд, контора, прием клиентов, собрания; вечером — друзья, клуб, бильярд, возлияния, порой чрезмерные… В театре — один, в пустой ложе на двоих.
Музыка то успокаивала его, то захватывала всего целиком, возбуждала или, во всяком случае, приносила забвение хотя бы на несколько часов. Но в конце концов он опять оказывался дома, где царил холод давно уже расстроенных семейных отношений. А разве эти отношения были когда-то иными? Только в пору ухаживания и, пожалуй, некоторое время после. Во всяком случае, Думанский почти уже не помнил об этом.
Как-то Элен сорвала ему очень выгодное во всех отношениях, заведомо выигрышное дело. Явилась в контору, вошла без предупреждения в его кабинет как раз в тот ответственный момент, когда там присутствовали клиенты и вот-вот должна была состояться сделка. Она устроилась в кресле в эффектной позе и со свойственным ей бесстыдством закурила тонкую длинную пахитоску, глядя на мужа с таким укором, будто он причина всех бед, преследовавших ее с колыбели. Думанский готов был сгореть от стыда — ему и так надоело чувствовать на себе косые взгляды сослуживцев, которым, как водится, все было известно о его семейной драме, а тут очередная мизансцена скандальной пьесы разыгрывалась на глазах людей, от которых зависело его материальное положение и, в сущности, карьера. Извинившись перед клиентами, Викентий Алексеевич хотел было вывести неожиданную визитершу в приемную, но та принялась кричать:
— Ты используешь меня в своей грязной игре! Ты отнял у меня все деньги! Ты взял надо мной опекунство, ради того чтобы обладать моими капиталами! Если ты сейчас же, немедленно не дашь мне денег, я не знаю, что сделаю! Я пойду закладывать вещи!
Тогда все-таки удалось вывести истеричку из кабинета, Думанскому пришлось дать ей, сколько потребовала. Что еще оставалось делать? Он лишь предупредил жену, чтобы та впредь не смела появляться у него на службе. А теперь…
«Чего ожидать от нее теперь, после учиненного разгрома? — размышлял Думанский и внутри у него все клокотало. — Да ведь ее мало убить… Это же мегера, какой-то сгусток ненависти… Что за чудовищный пример падения нравов! И совершенно не контролируема! Это существо, приносящее только вред — себе, окружающим. Зло, которое воспроизводит зло, купается во зле, гиена, фурия, исчадие ада… До чего все это мерзко… Эдак можно и женоненавистником сделаться. Остановись, Викентий, успокойся! Это крест твой. Сказано ведь: каждому крест по силам его. Я должен терпеть».
Думанский хотел было отвлечься на что-нибудь другое — так подсказывал ему здравый смысл, и все же уязвленное самолюбие никак не могло согласиться с житейской мудростью. «Но что я, в конце концов, сделал? Какой совершил смертный грех? За что такие мучения! Ведь это же невозможно дальше выносить! Зачем только брал это опекунство… Разве можно было рассчитывать на какие-то улучшения? Из этой ямы еще никто не выбирался, а я взял и сам затянул себе петлю на шее. Что из того, что она мне венчанная жена? Давно нужно добиваться развода и потом действительно поместить ее в лечебницу — в Удельную, в Крым… Там ей самое место, а я все жалею! Тряпка, за это и терплю от нее! Решил поиграть в благородного супруга… Зачем? Зачем? Свистунов давно советовал — брось все, смени квартиру, спрячься от всех, ищи душе покоя! Какой там покой! Сам-то он может обрести этот покой? От покоя, что ли, его исступленные сочинения? Великий композитор! Тоже мне, советчик!»
Опомнившись наконец, адвокат кинулся в приемную: секретарь преспокойно сидел на своем обычном месте, во взгляде его прочитывалась одна неизбывная скука.
— Так где она сейчас? — бросил Думанский.
— Сказала, что едет домой, — ответил секретарь, лениво зевая.
«Проклятье! — чуть не произнес вслух адвокат. — Дома — истерика, здесь — грубое сонное царство! Вот дрянь… Решено — разведусь, и точка!»
Вне себя от ярости, он рванул с вешалки пальто и мысленно был уже на улице, но пронзительный телефонный звонок остановил Думанского. Не дожидаясь, пока «проснется» секретарь, Викентий Алексеевич сам снял трубку:
— Адвокатское бюро слушает!
Приятный голосок барышни-телефонистки проворковал:
— Алло! С вами будут говорить из полицейского управления.
Девичий голос сменился стальным баритоном:
— Это адвокатская контора? Извольте-ка пригласить господина Думанского.
— У телефона. Слушаю.
На том конце провода замолчали. После короткой паузы тот же голос, но уже в более мягком тоне, произнес:
— Господин Думанский… Видите ли, у нас весьма печальное сообщение, касающееся…
— Моей жены? — не задумываясь, выдохнул Думанский. Услышав эти слова, секретарь встрепенулся.
— Нет, нет! С ней, слава Богу, все в порядке.
«Я убежден как раз в обратном», — подумал Думанский, а голос в трубке продолжал:
— Речь идет о вашем сотруднике, господине Сатине. У вас ведь служил такой сотрудник?
Викентий Алексеевич почувствовал, как у него начинает кружиться голова, и опустился в кресло.
— Помилуйте! Разумеется, Алексей Иванович мой ассистент, мой ближайший сотрудник! Очень положительный человек… Простите? Я что-то не понимаю — то есть как «служил»? Он и сейчас…
— Сейчас я, к сожалению, не могу дать вам исчерпывающей информации, — угрюмо вещал полицейский чин. — Удостоверение личности и визитные карточки с данными Сатина обнаружены в кармане сюртука… Собственно, обнаружен труп, а в кармане вышеперечисленное. И кстати, монограмма имеется соответствующая на нижнем белье. Вот и все, что нам известно. Срочно необходимы ваши показания, впрочем, формальности вам известны не хуже меня. Труп обнаружили только что, в N-ском переулке. За вами уже отправлен мотор.
Не желая верить услышанному, Думанский впился пальцами в телефонную трубку, мысленно взывая к милосердию страшного вестника, будто тот, подобно святому угоднику, мог сотворить чудо.
— Сатин убит?! Но этого просто не может быть! Это невозможно, несправедливо… За что, в конце концов?!
Ему никто не ответил. В полицейском управлении уже повесили трубку. Бедный Викентий Алексеевич стоял ошарашенный возле своего письменного стола. Его рассеянный взгляд блуждал по следственным документам, которые еще вчера держал в руках его ассистент, можно сказать, едва ли не единственный друг, и вот теперь этот еще толком не познавший жизни молодой человек найден мертвым Бог знает где… Внезапно снова противно затрезвонил телефон. На сей раз барышня так же бесстрастно сообщила, что адвоката вызывает некий Ландау. «Хм… Ландау — один из уважаемых клиентов». А тем временем трубка уже настойчиво вещала:
— Господин Думанский? Мое почтение! Говорит Ландау…
— Да, я слушаю.
— Это я, Марк Ландау! Ваш постоянный клиент, неужели вы могли забыть? Впрочем, я сейчас, к сожалению, совсем не обладаю временем, чтобы распространяться о нашем сотрудничестве… Викентий Алексеевич, вы себе не представляете, в какой жуткой ситуации я оказался: меня обвиняют в мздоимстве, казнокрадстве! Вообразите — я звоню вам из жандармерии! Я АРЕСТОВАН!!!
Думанский вспомнил одного из своих назойливых клиентов, общение с которым всегда было для него малоприятным.
— Да, господин Ландау. Вашему положению не позавидуешь…
— Еще бы! — голос на том конце провода приобрел явно возмущенные ноты. — Эти обвинения… Поймите же — это полный бред, наветы моих врагов! Вы единственное мое спасение в сложившейся ситуации, вы та соломинка… Да, вы, только вы можете мне помочь — такому адвокату по силам вытянуть любое дело!
Викентий Алексеевич ответил отрешенно, но вполне категорично:
— Увы! Вынужден вас огорчить: я не могу, Марк, я не могу… Я сегодня потерял единственного ассистента, близкого друга, в конце концов. Могу лишь посоветовать обратиться в адвокатскую контору Привалова. Он вполне компетентный защитник.
Не дожидаясь реакции Ландау, Думанский положил трубку на рычаг и с силой придавил ее, будто этим он мог на ближайшее время избавить себя от любых звонков…
На «место происшествия», как обычно указывалось в протоколе осмотра, Думанский добрался сам, не дожидаясь посланного за ним мотора. Там уже вовсю орудовали судебный врач, фотограф и следователь. Полицейские, как положено, ограждали исполнявших свои привычные обязанности профессионалов от вездесущих зевак, нищих и прочих любопытствующих, желающих взглянуть на тело, насильственно разлученное с душой.
«Праздному сознанию всегда недостает сильных эмоций. Чужая трагедия для толпы — не более чем захватывающее зрелище. Обыватель жаждет хлеба и зрелищ. А желательно — крови», — в который раз убедился Думанский.
Труп лежал в конце небольшого тупичка. С одной стороны виднелось серое пятно старого дровяного сарая, напротив рябила ничем не примечательная ограда небольшого казенного садика, а спереди, закрывая полнеба, нависал глухой брандмауэр многоэтажного доходного дома. В глаза бросился рисунок на стене, второпях намалеванный сажей: роза, как бы распятая на четырехконечном латинском кресте. Нечто подобное Думанскому где-то уже случалось видеть.
В позе еще не рожденного плода на грязном, затоптанном снегу лежал Сатин. Сильно изуродованное лицо его, ухоженная шевелюра, одежда, дорогие модные штиблеты, как-то нелепо выглядевшие на убитом, — все было в крови. Адвокат вспомнил, что Сатин происходил из давно обедневших мелкопоместных дворян и, кроме старухи-матери (да и то где-то под Екатеринбургом), родных никого не имел. «Наг я пришел на эту землю, наг и уйду», — отдалось эхом где-то внутри, и тут же больно кольнуло в сердце. «Эх, Алексей Иванович, Алексей Иванович! Какой бес занес тебя в эту трущобу? Кто знает, как все могло случиться, не уехал бы ты из родных мест в Петербург „юриспруденцию долбить“?[14] О лаврах законника мечтал, а вышло-то вон что… Несчастье вышло… Как нелепо, Боже!»
Показания Думанский давал в каком-то полусне, чувство нереальности, абсурдности происходящего не покидало его. Сквозь этот морок он слышал голоса криминалистов, деловито обсуждавших предполагаемые подробности случившегося. До его слуха долетали и отдельные реплики праздной публики — неуместные вопросы, нелепые советы полицейским, и только последние, как ему показалось, вели себя подобающе ситуации: грозное молчание и физическая сила сдерживали тупой напор пошлости.
Наконец дознаватель прекратил задавать вопросы и, убедившись, что с адвокатом можно быть откровенным, продемонстрировал ему небольшой обрывок дорогого черного кружева и что-то напомнившую золотую серьгу с крупным голубым камнем (сапфиром на вид) в обрамлении бриллиантов:
— Вот, извольте видеть. Нашли любопытные улики — кружево бельгийской работы, судя по предположению эксперта, приобретено в торговом доме «Новости» на Перинной линии, а украшение на вид подозрительно дорогое. Не бижутерия ли? Еще предстоит установить… Преступление, по характеру нанесенных ранений, надо полагать, совершено женщиной. Сейчас-то всё уже затоптали, успели, однако, сфотографировать след дамского ботинка — небольшой, но отчетливый. Обувь была с острым каблуком, которым преступница явно воспользовалась при убийстве. Собственно, во всем почерке — типично женская истеричность. О выдержке и хладнокровии убийцы и говорить не приходится: видите, как обезображено лицо, месиво сплошное! Точно в исступлении — было нанесено много ударов, и все как-то неумело… Простите за эти подробности, но вы же понимаете — тут все детали важны, тем более такие «говорящие». На туловище повреждения тоже небольшой глубины — это явно от каблука, локализация в случайных местах: опытный преступник всегда знает летальные точки. В общем, или хотели помучить, или сил было маловато, чтобы сразу, наверняка… Я понимаю, вам тяжело слушать, но что поделаешь! Ваш коллега умер от потери крови, не сразу — таково заключение нашего медика… Да! Что интересно — денег не взяли. Мотивы преступления могли быть интимного характера, в связи с чем у нас к вам деликатный вопрос: покойный ничего не говорил вам по поводу своих отношений… ну, сами понимаете, какого рода?
Сатин был холост, в отношениях с противоположным полом щепетилен — за это Викентий Алексеевич мог ручаться, более того — ближайший подчиненный, уже полгода служивший в его бюро, порой казался ему юношей, требовавшим отеческой опеки, возможно даже не успевшим познать женщину. Впрочем, знай Думанский что-либо подозрительное о любовных связях Алексея Ивановича, и тогда не считал бы себя вправе предавать огласке чужие тайны, подавать повод для досужих сплетен о достойном человеке. Словом, он, конечно же, ответил отрицательно на подобный вопрос.
Сыщик пояснил:
— Дело в том, что по роду моей деятельности меня интересует только та информация, которую могут подтвердить окружающие или эксперты, — и в ожидании новых подробностей дознания обернулся к ассистенту, на месте заполняющему протокол.
— Я почти уверен — убийство ритуальное, — произнес тот. — В противном случае этот символический рисунок сажей сделан, чтобы ввести нас в заблуждение в отношении мотивов содеянного.
— Доказывать и разыскивать — по вашей части. Но для меня очевидно, что рисунок не имеет причастности к делу. Прежде чем появятся неоспоримые факты, можно лишь теоретизировать, неизбежно начинаешь подстраивать первый попавшийся визуальный материал под свою теорию, а не строить убедительную версию на основе фактов, — высокомерно резонерствовал дознаватель, точно проводил с малоопытным коллегой практикум по криминалистике. — Даже на стадии созерцания заметно, что штукатурка уже обветшала и рисунок явно не свежий, посему можно смело констатировать — этому художеству уже несколько месяцев, и оно не имеет никакой причастности к преступлению.
Он приблизился к адвокату и взял его за руку:
— Мужайтесь, Викентий Алексеевич, уже ничего не изменить. В данном случае смерть господина Сатина — факт непреложный, и теперь бесполезно изводить себя, думая о том, что убийства могло бы не быть. Вспомните, в конце концов, что в таких случаях говорил приснопамятный Борис Иванович Кохно. Склонность к убийству — это врожденный порок, и еще его знаменитая фраза: «Malum consilium consultori pessimum».[15]
«Конечно, Господь покарает убийцу», — мысленно согласился Думанский, но вдруг, что-то мгновенно сообразив, встрепенулся:
— А откуда вы знаете профессора Кохно?
— Собственно, оттуда же, откуда и вы, — ответствовал дознаватель. — Мы ведь с вами, дражайший, оба закончили Училище правоведения, только я поступил двумя годами раньше. Да вы меня вряд ли помните: Алексей Карлович Шведов, начальник сыскной полиции, к вашим услугам. Вам-то уже тогда прочили блестящее будущее — правоведы смотрели на вас с завистью, и я, признаться… Весьма польщен, давно мечтал познакомиться с именитым адвокатом.
— Какая приятная неожиданность, и я что-то даже припоминаю… — произнес удивленный Викентий Алексеевич. — Выходит, мы с вами однокашники.
Лицо Шведова на мгновение озарилось подобием улыбки:
— Именно так. Чижик-пыжик, где ты был…[16] Помните, конечно? Чем неожиданнее воспоминание о незабвенных годах юности, тем приятнее, — философски заметил он. — Вот вам, кстати, моя визитная карточка. Да-с… Мы, кажется, отвлеклись. Сегодня мои люди проводят обыск на квартире убитого, завтра с утра им следовало бы осмотреть его рабочий кабинет, ознакомиться с делами, которые убитый вел. У вас есть свои соображения на сей счет?
Думанский пожал плечами:
— Да у него, собственно, и не было своего кабинета — работал обычно за моим столом. Всегда рядом… Разумеется, все делопроизводство Алексея Ивановича, всю необходимую документацию канцелярия вам передаст, но я почему-то сомневаюсь, что убийство связано с деятельностью моего адвокатского бюро. Покойный вообще был безупречно честен. Чистый человек. Здесь трагическая случайность — знаете, темный переулок…
— Понимаю вас, коллега. Но, к сожалению, я знаю и другое — самые темные вещи порой творятся у нас под носом, а мы часто слепы и глухи… Что ж, тогда я должен буду побеспокоить вас завтра же, после обеда, и мы предметно поговорим о господине Сатине.
Обратной дорогой адвокат продолжал думать об участи несчастного коллеги, о его несостоявшемся будущем, о радостях, которыми тот жил, о том, что престарелая мать вряд ли вынесет свалившееся на нее страшное горе (хватит ли сил приехать хотя бы на похороны?), опять о самом Алексее Ивановиче и снова, снова о нем. Никто не мог прервать эти мучительные раздумья: шофер, знавший покойного по службе, угрюмо молчал. В бесконечном потоке мрачных мыслей Думанский вдруг вспомнил о мадемуазель Савеловой и о том, как он вчера передал Сатину дело об убийстве ее отца. В его совершенно расстроенном личными неурядицами и чудовищным убийством Сатина сознании вдруг что-то перевернулось.
«Господи, да ведь это же она! — От подобной мысли его просто на месте подбросило, было такое ощущение, словно с него живьем содрали кожу. — Выходит, я сам поставил его под удар! Я же должен был предположить, предупредить его, что… Именно такие и совершают убийства — для них не существует моральных запретов! С виду спокойные, а в глазах безумные искры. Будь прокляты все эти „роковые“ женщины! Как я с самого начала этого не заметил: сперва меня уничтожить грозилась, а после с той же горячностью просит не дать уйти от наказания преступнику. И эти ее сверкающие глаза… точно так же смотрит Элен, когда говорит о своей погубленной юности и присвоенных мною деньгах… Савелова эта наверняка помешанная — боготворила отца, решила отомстить за то, что Гуляев оправдан. Конечно же, она не поверила, что купец невиновен, и отыгралась на первом, кто под руку попался… До каких еще пределов может дойти вероломство людей! Худшее из зол то, что добром прикидывается. И этот спектакль в Юсуповом саду: говорила — дело не в деньгах, а в справедливости. Подлое семя! Всегда говорят одно, а на уме другое. У них всегда именно в деньгах-то и дело! — Думанский почувствовал, что в нем опять просыпается женоненавистник. — Она наверняка в сговоре с этим подонком Кесаревым! Мало ли что говорила, будто его не терпит. Знает она его давно, он уж как-нибудь успел убедить ее в своих „благих намерениях“. С чего же она так сразу мне поверила, что он негодяй? Э-э-э! Да тут, похоже, дело такое закручивается… А если дочь сама склонила Кесарева убить отца?! Может, еще и заплатила ему?! Она ведь единственная прямая наследница! „Всюду деньги, господа!“ Странно, что они сразу не взялись за меня… Бедный Сатин, он, похоже, влюбился в это чудовище, как говорится, с первого взгляда! Ах, проклятая серьга… Ну конечно! Все ясно до ужаса — его убили, а мне memento mori!»[17]
Викентий Алексеевич тщательно восстановил в памяти каждое слово и каждый жест Молли, все более уверяясь в своих подозрениях.
— Вы помните адрес убитого Савелова, банкира Савелова? — спросил Думанский, наклонившись к шоферу и жарко дыша ему в ухо.
Тот, ответив кивком, послушно развернул мотор в нужном направлении.
VII
Мотор остановился на Английской набережной, в квартале от дома Савелова. Думанский не хотел шума вокруг своего посещения дочери убитого банкира. Внутри у него все кипело, он боялся наделать глупостей.
«Нельзя так распускаться. Я должен все взвесить, с этой особой следует вести себя осмотрительно, — убеждал себя Викентий Алексеевич, но предательская дрожь пробегала по телу. — Как я ее ненавижу!» — Он ужаснулся собственной агрессивности.
Сначала Думанский старался идти спокойным шагом, но у самого подъезда его опять подхватила волна непреодолимой ярости… Убийство Сатина. Злость на жену… «Пост» дворника адвокат преодолел беспрепятственно — тот сам уступил дорогу незнакомцу, полному решимости все смести на своем пути. Последний ощутил доселе незнакомое ему чувство мести и на нужный этаж буквально взлетел. Рука сама решительно дернула круглую медную ручку электрического звонка. Казалось, уютный дом содрогнулся от этого гневного трезвона. Думанский не помнил, сколько времени звонил, — гнев полностью овладел его существом, и, когда дверь наконец отворилась, он уже не мог контролировать своих действий.
Столь поздний звонок в дверь удивил Молли. Она даже решила не тревожить прихворнувшую горничную и открыла сама. Узнав Думанского, пропустила его в квартиру из полумрака лестницы. Барышня как раз собиралась уходить и была уже в меховом гарнитуре — пышной шапке и длинной изящной шубке из чернобурки.
Молли отступила в глубь прихожей, приветливо поздоровалась, но, видя перекошенное гневом лицо визитера, удивленно подняла брови. Улыбка ее немедленно сменилась выражением беспокойства и испуга.
Думанский, приблизившись вплотную, глухим задыхающимся голосом прерывисто объяснился:
— Решили, что Гуляев купил меня? Вот она, ваша низкая месть! Вы! Вы чудовище, двуличная, лживая бестия!.. Ведьма!.. Но у меня есть доказательства! Ведь ТЫ убийца…
— Да как вы смеете! Врываетесь, с такими… такими чудовищными обвинениями… Я не понимаю… Да вы, часом, с ума не сошли?!
— Молчать!.. Сейчас поедете со мной и все расскажете сами!
— Пустите! Куда вы меня тащите? Оставьте же меня!!! Мне больно, слышите вы?! — Молли резко рванулась, высвободив руку из плена цепких мужских пальцев, и ударилась спиной о большое настенное зеркало в прихожей. Множество трещин паутиной расползлось по поверхности стекла, дробя его на десятки маленьких, неправильной формы зеркал. Думанский, подскочив к дочери банкира, снова перехватил ее запястья, будто сковав кандалами:
— В полиции сами все расскажете: кому и как поручили убийство вашего отца!..
Эти слова словно застряли у него в горле: он вдруг как будто впервые увидел Молли. Пушистая шапка съехала на затылок, открыв маленькие мочки с теми самыми серьгами, одну из которых Думанский полагал найденной на месте преступления. Они отражались в каждом «зеркальце» — изумрудные капли в искрящейся бриллиантовой россыпи. «Похожие, но совсем не они!!! И обе на месте. Какой же я идиот!» Занемевшие уже пальцы разжались сами, отпуская испуганную девушку.
— Наваждение… нервы… Кажется, я ошибся, mademoiselle. У меня сегодня был тяжелый день. Простите меня! Ради Бога, простите! Я не знаю теперь, что и думать… Мой ассистент, Сатин, погиб. Убит… — Викентий Алексеевич, сжимая руками готовую разорваться голову, стремительно покинул квартиру.
Думанский не находил себе места. Смерть друга и скандал в савеловских апартаментах сделали свое дело.
«Первое я, наверное, не мог предотвратить, как не могу ручаться за то, что подобное не случится когда-нибудь и со мной, — рассуждал Викентий Алексеевич. — Но оскорбить женщину, поднять на нее руку — как я мог себе такое позволить!» Он объяснял свою безобразную выходку умопомрачением, расшатанной нервной системой, но это не успокаивало — в его сознании подобная причина никак не могла оправдать вопиющей грубости поведения. «Проклятая Элен, — в ярости повторял он. — Это она меня довела. Демон в человеческом обличии, а не женщина. Если так пойдет дальше, скоро я во всех буду видеть одних злодеев».
Мучительнее всего было то, что Думанский почувствовал вдруг непреодолимую зависимость от оскорбленной им барышни Савеловой — еще никогда в жизни с ним не случалось ничего подобного.
Образ Молли преследовал его повсюду. «Какой странный у нее взгляд — ни с чем не сравнимый, она так волнующе-трогательно моргает, просто обезоруживающе… Испуганно-беззащитная красота! И как я мог видеть в ней изощренное притворство?!»
Бессонница совсем измотала Викентия Алексеевича — видения, полные бесстыдного соблазна, всю ночь поджаривали его на огне, а под утро приходил один и тот же кошмарный сон: скорченный труп Сатина на снегу, испещренном следами изящных ботинок, и едва различимая фигура уходящей через садик женщины-убийцы. Просыпаясь в холодном поту, Думанский вскакивал с постели: «Нет, это не она! Это никак не может быть она! Но если бы я не свел ее с Алексеем, не передал ему это проклятое дело ее отца, он наверняка остался бы жив! Значит, она — косвенная причина его смерти? Но что из того, если я ЛЮБЛЮ ее… А почему именно ее? Не потому ли, что оскорбил… Но разве моя любовь оправдывает содеянное?»
Вопросы, бесконечные вопросы, на которые не было ответа, раскалывали его мозг. Думанский чувствовал, что сходит с ума и не остается ничего, никакого средства к спасению, кроме молитвы. И он стал молиться: «Господи, вразуми и наставь! Разреши узы, оковавшие душу мою! Укажи путь Истины мне, ничтожному рабу Твоему!»
Утром следующего дня Думанский в спутанных чувствах, ведомый скорее привычкой, чем профессиональным долгом, явился на службу. Здесь он уже застал чинов сыскной полиции, которые сновали по конторе в поисках чего-либо с их точки зрения подозрительного, перебирали содержимое рабочих папок его несчастного помощника. На адвоката эта процедура подействовала раздражающе: будучи профессиональным юристом, он терпеть не мог обыск как таковой, даже в тех случаях, когда не отрицал его необходимость (что-то нечистоплотное виделось в этом потомственному аристократу), а в данной ситуации, можно сказать над еще не неостывшим телом, и подавно. Если бы не появление в дверях Шведова, который уже в полдень готов был к «предметному разговору», Викентий Алексеевич вряд ли и дальше мог бы изображать относительное спокойствие. Он попросил машинистку сварить кофе и с первым же глотком крепчайшего горького напитка, коротко заявил:
— В убийстве Сатина виновен все тот же Кесарев: он мстит, я уверен в этом!
— Поначалу, дражайший Викентий Алексеевич, мы с коллегами склонялись к аналогичной версии, но потом обнаружились новые скверные обстоятельства. Во избежание недомолвок между нами я должен ввести вас в курс дела. В общем-то, можно было бы считать, что ничего особенного не произошло, если бы при обыске на съемной квартире убитого в бумагах не нашлось множество упоминаний о его долгах и кредиторах. Между прочим, в итоге мы имеем весьма впечатляющую сумму. Вот такой, скажу я вам, непредвиденный пируэт.
— Не может быть! — Этот щекотливый факт изумил Думанского. — Вы уж простите, но это звучит как бред, просто нелепость какая-то — Сатин, же имел приличное жалованье на должности моего помощника, он даже собственное юридическое бюро собирался открыть! Скрывать не стану, я лично ссудил ему некоторую сумму, но на длительный срок в конфиденциальном порядке и уж, разумеется, безо всяких унижающих достоинство обременительных расписок. Кроме того, мне несколько раз приходилось безвозмездно давать Алексею Ивановичу некоторые суммы на лечение тяжелобольной матери. Зачем ему было лезть еще в какие-то долги? Нет… Он не мог, не должен был нуждаться! Тут очевидное недоразумение — ваши люди переусердствовали.
Шведова ничуть не удивила столь эмоциональная реакция отторжения со стороны адвоката:
— Что ж, вы, я вижу, в смятении, но, голубчик, извольте сами взглянуть: вот копии долговых расписок, а это, так сказать, сводная ведомость — у кого, сколько и до какого срока взял. Причем, заметьте, особо пикантная деталь: большинство денег — опять-таки внушительную сумму! — ссудил убитому не кто-нибудь, а Сергей Александрович Савелов. Да-да, именно он! Не сам, правда, через банк, но это вряд ли меняет дело, а главное — все засвидетельствовано документально. Убедитесь сами, что здесь никакой «нелепости» — голые факты, коллега. На фактах — вам это известно не хуже меня — строятся доказательства.
— Просто невероятно! И ведь Сатин ничего мне не сказал! Поистине, чужая душа потемки. Да он и не был для меня чужим… — Думанский отставил кресло, заходил по кабинету, сдавив ладонями виски. — Кажется, знаешь человека как самого себя, доверяешься ему, безусловно, а на деле выходит, что… К тому же — как это я сразу не вспомнил? — он ведь получил деньги еще и от mademoiselle Савеловой! Нечто вроде аванса за участие в повторном процессе. Та буквально умоляла, чтобы сторону обвинения представлял я, но выступать в роли прокурора — это совсем не мое, и я без тени сомнения счел за лучшее передоверить дело Кесарева Сатину…
Начальник сыскной полиции по-прежнему невозмутимо вернул взволнованного адвоката к его рабочему столу и продолжал апеллировать к бумагам, указывая пальцем какие-то позиции:
— Надо полагать, ваш ближайший сотрудник задолжал кому-то — я еще раз подчеркиваю! — астрономически крупную сумму и пытался вернуть ее следующим весьма оригинальным способом — назанимав, сколько возможно, заново. Кстати, обратите внимание, коллега: против каждой фамилии — довольно скромная цифра: должно быть, убитый не хотел афишировать свои денежные затруднения…
Правовед все еще не мог смириться с тем, что Сатин был совсем не так безупречно чист, как привыкли считать в бюро, и, по привычке, все еще выступал как бы в роли защитника на процессе:
— Что ж, неудивительно! Кому же приятно признавать свою финансовую несостоятельность.
Шведов тем временем, не придавая значения словам Думанского, логически подвел его к предварительным выводам следственной группы:
— В целом, мы склонны придерживаться той точки зрения, что истинной причиной убийства послужили именно деньги.
Костяшки сцепленных пальцев адвоката побелели — так он был внутренне напряжен. Адвокат опять встал с места не в состоянии на чем-либо остановить взгляд:
— Подумать только! Оказывается, он был в таком сложном положении. Нет уж, дайте-ка я все же взгляну на список… Так-так… Эх, Сатин! Бедняга… Что же ты, брат, натворил? Алеша… Увяз настолько, что… Скрыл от меня. Зачем?! Разве бы я не понял. Разве не помог бы? Как все глупо получилось — теперь уж точно не поможешь! Теперь только что панихиду заказать…
— В чем дело? — наконец забеспокоился Шведов, заметив, что с Думанским творится неладное и речь последнего звучит как-то нездорово. — Что вы там такое особенное увидели, право же… Да вы слышите ли меня, Викентий Алексеевич?
— Извольте, вот: господин Быстров, промышленник, был нашим клиентом как раз в то время, когда Сатин взял у него в долг, купчиха Сегодняева тоже, граф фон Бауэр…
Следователь насторожился:
— То есть вы хотите сказать, что убитый… занимал деньги у клиентов?! Но ведь за такое могут и из коллегии попросить, а уж руки точно никто не подаст. Что же могло сподвигнуть его на эти, как бы помягче выразиться… нечистоплотные поступки? Может быть, сомнительная любовная история? Интрижка какая-нибудь. Многие в его возрасте легко теряют голову из-за женщины.
Вспомнив о Молли и своем вчерашнем отчаянном визите в дом покойного банкира, Думанский встрепенулся:
— Женщина?! — И тут же отрицательно покрутил головой. — Совершенно исключено: мы ведь дневали и ночевали в конторе, все время друг у друга на глазах. А интрижка — совсем не его правилах. Тем более, если бы он вдруг влюбился… Постойте-ка, а разве вы меня уже не спрашивали об этом — прямо там, на месте преступления? Я еще тогда высказался определенно.
«Господи, неужели и меня в чем-то подозревают? Этого еще нехватало!» — теперь он ощутил себя на допросе.
— Да? Возможно, что и спрашивал. Значит, тогда я эту версию не исключал… Впрочем, есть нечто более любопытное, Викентий Алексеевич… — задумчиво произнес Шведов, на время закрыв разговор о сатинских прегрешениях. — Вы помните изображение на стене? Ну там, в тупике. — Его взгляд встретился с тревожным взглядом Думанского. — Вижу, вспомнили. Вот отсюда вторая версия — ритуальное убийство. Ее сразу же выдвинул мой ассистент, а я поначалу отмел, зато теперь считаю, что поторопился. Сейчас поймете, что я имею в виду, говоря о ритуальном характере. Распятая на кресте роза — так называемый розенкрейцеровский крест, если быть точным. Именно такой рисунок! Вы, вероятно, слышали о розенкрейцерах? Есть такой старинный рыцарско-масонский Орден.
— Я не предполагал, что вас могут интересовать такие материи.
— По роду деятельности мне приходится интересоваться абсолютно всем. На то ведь и «тайная» полиция: сами действуем тайно и разгадываем разные тайны. Как говорит обыватель, жандармы всюду суют свой нос. Царская служба обязывает! Ну так вот, о рыцарях Розы и Креста, прочих любителях скрытой символики и мрачных доктрин. Заметьте, всю эту хитрую атрибутику — пентаграммы, пирамиды со Всевидящим Оком посередине, просто перевернутые кресты или треугольники в окружении трех шестерок — нам не впервые случается видеть на месте преступления, особенно когда речь идет об убийстве совершенном садистическим способом! Я уже не говорю об исторических примерах из глубины веков. Совсем не исключено, что в данном случае имеется архисерьезная мистическая подоплека преступления. Попытайтесь посмотреть на это «банальное» убийство именно в ритуальном ключе. А если у вас появится новый материал по делу или даже собственная свежая версия, не сочтите за труд явиться ко мне в Департамент на Фонтанку. Мой кабинет не забудете — под номером ч…това дюжина. Тоже своего рода мистический знак. Кабинет остался в наследство от прежнего начальства. Да и просто — заходите в гости, Викентий Алексеевич, милости прошу! Я ведь оставил вам свою визитку, не так ли?
— Кажется… Ну разумеется, оставили, — подтвердил Думанский, глядя на донышко чашки, где бурела жирная кофейная гуща. — Знаете, я сейчас что-то не в себе — это так неожиданно. Нужно серьезно подумать над вашей информацией.
VIII
Молли рыдала в голос: от обиды, от одиночества, от сознания неопределенности положения. Всепоглощающее презрение к зарвавшемуся адвокатишке, первому в жизни гордой юной дамы наглецу, посмевшему поднять на нее руку и походя, пусть даже в аффектации, обвинить ее в убийстве самого дорогого человека, сменялось вдруг какой-то подспудной жалостью к этому холерику и вдобавок к себе самой. От подобной житейской путаницы и внутреннего разлада на душе было так тяжело!
Мать она потеряла еще во младенчестве, и о ней остались самые неясные воспоминания. Молли росла дикой, замкнутой девочкой, близких подруг у нее не было — вместо них были музыка и книги, а мечты о каком-то туманном, но непременно счастливом будущем заменяли реальную жизнь. Зато всегда рядом с ней был отец: пестовал, опекал, а порой и ограждал дочь от некоторых экстравагантных и не в меру ретивых претендентов на ее руку, точнее, на завидное наследство. И теперь, когда его вдруг не стало, Молли оказалась совершенно одна в почти незнакомом мире. Ей наконец открылась та сторона жизни, которую все эти годы умудрялись тщательно скрывать от нее. Она вдруг увидела людскую зависть, алчность. Даже знакомые, всегда бывшие в ее представлении лучшими друзьями дома, искренними доброжелателями семейства Савеловых, предстали вдруг в неожиданном свете. Молли не могла и вообразить себе такой черствости и равнодушия к чужому горю. А сколько вдруг объявилось «друзей» бедного папеньки, желавших получить «что-нибудь на память о покойном»! Ей стали наносить визиты какие-то «родственники», «дядюшки» и «тетушки», о существовании которых Молли и не подозревала. Эти люди не скрывали цели своего прихода, тем более что у всех «она была одна».
В обществе Молли не давали прохода разного рода «сочувствующие», чьи сплетни о сказочном богатстве единственной законной наследницы банкира Савелова постоянно доходили до нее. Тогда Молли затворилась дома, но и здесь ей постоянно чудилась эта крысиная возня. Единственное, на что находились силы в таком положении, было судебное расследование по делу об убийстве. Она не могла остаться неблагодарной дочерью. После столь страшной гибели отца Молли не скупилась на гонорары следователям, высшим полицейским чинам, лучшим адвокатам — лишь бы был найден убийца, лишь бы справедливая кара постигла его уже в этой, земной, жизни. Обычно кроткая, зла никому не желавшая, Молли чувствовала в себе неистребимую ненависть к негодяю, разрушившему счастье ее семьи, еще недавно казавшееся столь прочным. Иногда Молли самой становилось жутко от охватившей ее жажды мщения, но она успокаивала себя надеждой на то, что все забудется, стоит только найти преступника.
Когда на скамье подсудимых оказался Гуляев, Молли уверовала, что именно он виновник смерти отца, ведь ей так хотелось скорейшего разрешения всего этого кошмара! Узнав о том, что нашелся юрист, готовый защищать человека, сделавшегося ее смертным врагом, она ужаснулась. «И для служителей закона не осталось ничего святого. Только деньги управляют всем!» — с горькой досадой сетовала она.
Таким образом, адвокат Думанский стал в ее представлении едва ли не символом продажности и святотатственной беспринципности. В самом разбирательстве по делу Гуляева Молли почти не участвовала (только однажды ее вызвали для дачи показаний): следователь старался не тревожить излишними вопросами убитую горем женщину. Но ни одного судебного заседания Молли Савелова, неизменно облаченная в траур, не пропустила — присутствовать на них представлялось ей делом чести. Храня молчание, она выслушивала показания свидетелей, выступления судей, обвинителя и защитника.
«Пусть я буду немым укором для этих бессердечных людей. Пускай они запомнят меня на всю жизнь. На Страшном суде я стану главной свидетельницей их беззакония!» — воображала несчастная. И все-таки финал процесса оказался для нее неожиданным.
К возможному оправданию Гуляева Молли давно приготовилась, но предположить, что это оправдание вселит в душу надежду на справедливость, она никак не могла. И уж тем более не ожидала, что такую надежду может подать ей адвокат Думанский. Казалось бы, он оправдал свой гонорар, избавив от петли развратного купца, и все же не поставил на этом точку. «Неужели в нем заговорила совесть? — спрашивала себя Молли. — Странно, что я сразу отказала ему в праве быть порядочным человеком. А если он действительно человек благородный и честный слуга закона, то ничего удивительного нет в том, что, отстояв права ложно подозреваемого, примется за поиск истинного преступника и найдет его».
После такого «прозрения» у Молли тотчас сложился новый план действий: упросить Думанского способствовать скорейшему возобновлению следствия по делу и добиться осуждения Кесарева. Когда адвокат предложил ей услуги своего ассистента, Молли была несколько разочарована, но, по сути, план ее начинал воплощаться в жизнь, а это, считала она, важнее всего.
«Теперь-то уж точно справедливость восторжествует!» — убеждала себя Молли. Она чувствовала в себе запас душевных сил, которого, как ей казалось, должно было хватить на то, чтобы вынести все трудности, связанные с новым процессом. «А когда он завершится, в жизни начнется счастливая полоса. Непременно должно быть так, и никак иначе!»
Неожиданный скандальный визит Думанского с известием об убийстве Сатина окончательно поверг девушку в отчаяние. На следующий же день с самого утра она заперлась в спальне, пытаясь самостоятельно, без помощи нотариуса («Ну их, крючкотворов этих, — бумажные души!») составить прошения прокурору, в Окружной суд, даже в Сенат. В поисках справедливости, ища надежной защиты, бедная сирота вознамерилась было подать прошение и на Высочайшее Имя, но, задумавшись, решила: «Если прочие инстанции останутся равнодушными, тогда лишь буду умолять Государя». За время процесса в домашнем архиве скопилось много судебной хроники, и Молли попыталась выудить из нее нужные сведения; к тому же можно было воспользоваться и толстенным справочным ежегодником «Весь Петербург», где значились адреса, номера телефонов всех столичных адвокатских контор и практикующих светил юриспруденции, но после «общения» с Думанским девушка решительно не знала, к кому же из этих защитников-правоведов обратиться. Горничная через двери пыталась уговорить барышню принять пищу:
— Убиваете вы себя-с! Говели бы, еще понятно, а так куда ж это годится — голодом себя понапрасну морить да душу изводить?
Вечером в прихожей кто-то позвонил, но Молли и не думала выходить. Через пару минут в спальню постучала горничная:
— Барыня, сюпри… сюрприз вам прислали-с, мальчишка-рассыльный приходил!
Неприбранная и измученная Молли, ворча, выглянула в гостиную:
— Что там еще за глупости? Без них голова кругом идет… Ну, сколько можно мне мешать? Это невыносимо, жестоко, наконец…
На столе в китайской вазе стоял огромный букет свежих роз. Пурпур лепестков и матовая зелень стеблей причудливо сочетались с росписью по фарфору — огненно-золотыми извивающимися драконами. Горничная игривым тоном доложила:
— Сказал, что от какого-то важного господина, а имя, дескать, назвать не изволили — «их ноги-то-с»!
— Инкогнито! Запомнили, Глаша? И ноги тут совсем не причем. Это латынь, древний язык. Да, и вот что — заберите-ка их себе. Я не принимаю цветы невесть от кого!
Расстроившись пуще прежнего, Молли опять заперлась в спальне. «Кто на такое способен? Если Думанский, то это уже слишком. И он смеет надеяться, что я прощу его хамскую выходку?! Как бы не так! Хамство и вздорность нельзя ни себе позволять, ни другим спускать».
Неизвестный, однако, оказался настойчив и педантичен: букеты свежих роз стали появляться в квартире у Молли ежедневно, да еще и с неизменной точностью — в один и тот же ранний час. По указанию Молли, их сразу несли то к Глаше, то на кухню; чаевые молодая хозяйка брать запретила.
Время шло, а Молли Савелова все никак не могла найти обнадеживающий выход из создавшегося положения. Не знала, как возобновить и продолжить судебное разбирательство.
Через неделю в урочный утренний час дежурно зазвонил колокольчик в прихожей, и Глаша уже по привычке сразу открыла: в дверном проеме, как и следовало ожидать, показались огромные розовые соцветия, из-за которых на сей раз выглядывали сразу двое юных рассыльных, мал мала меньше. Выглядело все это весьма комично, учитывая, что большие вазы они едва удерживали:
— Куда прикажете-с, тетенька?
Обидевшись на «тетеньку», Глаша фыркнула. Но это не был еще конец церемонии и даже не вся процессия: на сей раз рассыльные выступали в роли то ли пажей, то ли герольдов. Раздвинув запыхавшихся мальчишек, с еще одним благоухающим букетом неописуемо прекрасных чайных роз в плетеной жардиньерке в прихожую вошел сам заказчик «цветочной феерии». Им действительно был не кто иной, как злополучный адвокат. Он, не раздеваясь, прошел мимо Глаши в прихожую (это тоже задело горничную) и, подозвав юных спутников, коротко указал на распахнутые двери залы:
— Туда!
С чрезвычайной торжественностью «пажи» поставили вазы на самое видное место в гостиной и, получив от Думанского по двугривенному, умчались в совершенном довольстве, только их и видели. Молли строго наблюдала за происходящим, а затем, полная решимости, двинулась на незваного гостя с единственным намерением выставить его вон:
— Это вы у Гуляева купеческим замашкам научились? Браво! Тому ли еще научитесь, господин правовед, — лиха беда…
— Но, Мария Сергеевна, выслушайте же, Бога ради! — Думанский встрепенулся, однако тотчас отступил на шаг, понурив голову. — Поверьте, я глубоко сожалею о происшедшем… недоразумении. Я, конечно же, очень виноват перед вами! Это было отвратительно. И все-таки…
— Никаких «все-таки»! То, что случилось с monsieur Сатиным, — ужасно. Я очень сожалею о нем, о его печальной участи. Но как вы только могли подумать, что я способна… Несусветный, кошмарный вздор! И вообще, после того «визита» на вашем месте я навсегда забыла бы сюда дорогу.
— Вы правы, мое поведение и сейчас, должно быть, выглядит дико. Глупо рассчитывать на снисхождение… Выходит, не прощен?
— Нет и нет! — гордая хозяйка дома оставалась непреклонной.
— Правильно, барышня, храни Господь от таких молодчиков! — Горничная догадывалась, что ценное зеркало разбил именно этот «ферт».
— А тебя не спрашивают, Глафира! — Молли указала на место бойкой прислуге, перейдя с ней на «ты», что означало крайнюю степень раздражения. — Хотя действительно: Боже сохрани когда-нибудь еще иметь дело с подобными типами.
— Ну, в таком случае вы не оставляете мне другого выбора! — Адвокат мгновенно сбросил пальто на пол и рухнул на колени перед Молли прямо посреди прихожей.
— Что вы делаете? Вы с ума сошли!
— Пусть так, но вот вам слово дворянина — я не сойду с этого места до тех пор, пока не добьюсь прощения. Хоть полицию вызывайте!
— А и вправду, кликнуть городового? — не удержалась Глаша.
— Этого только не хватало! Пусть стоит, если ему так хочется. А ты бы лучше цветы вынесла, советчица.
Захлопнув перед носом Думанского двери, Молли скрылась в гостиной. Через полчаса на парадном входе снова зазвонил колокольчик. Mademoiselle Савеловой опять пришлось выйти на звонок: Думанский по-прежнему стоял на коленях, а хозяйственная Глаша охотно впустила с лестницы двух мастеровых с большим, аккуратно упакованным во что-то мягкое предметом. Рабочие развернули упаковку, обнажив зеркало, — исполненный заказ, который должен был заменить разбитый экземпляр. Они попытались поднести зеркало к стене, но на пути их оказался застывший Думанский. Тогда мастеровые попытались обойти препятствие справа, потом слева — безуспешно. Старший, точно извиняясь, осторожно произнес:
— Ваша милость, нам пройти бы.
Истукан ожил, но отрицательно покрутил головой. Глаша присоединилась к просьбам — последовал тот же ответ. Наконец вмешалась сама Молли:
— Та-ак! Что же здесь еще происходит?
— Дак вот, барынька… Нам бы зеркальце заменить, а господин мешают… Не подойти-с.
— Ничего не поделаешь, голубчик. Я дал слово, что не сойду именно вот с этого места!
— Вам не надоел этот спектакль? Встаньте сейчас же! — тон Молли был повелительным, не допускавшим возражений. Адвокат, охотно повинуясь, вскочил на ноги:
— Слава Богу — я прощен!
Такой реакции девушка никак не ожидала:
— С чего это вы взяли?
Думанский опять бухнулся на колени. Теперь от его падения затряслась мебель, даже гул по квартире пошел. Молодой мастеровой, засмотревшись на «блажного» барина, выпустил зеркало из рук, и лишь чудом успел подхватить его. Старший, придерживая хрупкое изделие одной рукой, в свою очередь с перепугу отпустил тяжелый ящик с инструментами, чтобы подстраховать другой. Ящик, упав, чуть не отдавил ему ногу. Кривясь от боли, «страдалец» сквозь зубы процедил:
— Ах ты ж… Евсей… Чего ж ты… Ну ты, парень, и не прав!.. Не при господах будь сказано.
— Дак ведь я…
Подмастерье, не зная, как оправдаться, униженно запросил Думанского:
— Барин, вы бы хоть сюда, что ли, перебрались?
— Я тут не при чем. Вы не меня, барыню просите, — адвокат многозначительно кивнул на mademoiselle Савелову.
Евсей взмолился:
— Барыня-матушка! Уж не взыщите, что не в свое дело лезем! Не до ночи же нам тут выплясывать?
— А, «барыня-матушка», может, простите меня? — скромно потупив взор, виновник неудобств подхватил умоляющий тон простолюдина.
— Ну хорошо, хорошо! Так и быть, я вас прощаю. — Молли была вынуждена уступить. — Только, пожалуйста, встаньте скорее, пропустите же их.
— В знак примирения позвольте пригласить вас на прогулку…
— Вот еще, со всякими безобразниками разгуливать! — проворчала Глаша.
— Опять ты со своим резюме! — хозяйка так озадачила горничную незнакомым словом, что та тут же проглотила язык. — Я вовсе не собираюсь ни с кем «разгуливать». Слышите вы, господин правовед?! Ни в коем случае!
«Господин правовед» был вынужден подчиниться и покинуть савеловский особняк, но это было всего лишь тактическое отступление, к тому же на упроченные позиции.
IX
Пришла уже настоящая зима. Вступил в свои права постно-морозный декабрь, а Викентий Алексеевич все продолжал исправно присылать по заветному адресу живые цветы, ведь теперь он добился маленькой, но немаловажной победы: теперь Молли позволяла оставлять их в гостиной.
Пути Господни, как известно, неисповедимы, и чаще всего простым смертным не дано знать, к чему ниспосылаются им расставания с дорогими сердцу людьми или новые встречи, хотя ни одно, казалось бы самое незначительное событие в жизни, не происходит без Высшего Промысла. Вот так, в те же самые первые зимние дни в доме Савеловых нежданно-негаданно появился новый член семейства. Очередной дядюшка не претендовал на роль ближайшего родственника покойного отца Молли, он назвался единокровным братом ее матери.
— А я и не знал, что у меня племянница такая красавица! — произнес он едва ли не с порога и наклонился к изящной ручке новообретенной родственницы. — Статью в мать — такая же стройная и видная была покойница. Я ведь, милая, ее могилу проведать приехал, праху родному поклониться. Когда она умерла, был я молод — гусарство, знаешь ли, mon enfant,[18] женщины, карты. Чего там греха таить, не вспоминал тогда о сестрице. А теперь, видно, скоро сам предстану пред Господом. Прощаться пора с миром этим и со всем, что было родного! Эскулапы говорят, недолго мне уж осталось — и так зажился. Да я долго и не побеспокою, милая племянница. Погляжу на столицу, вспомню былые лета, друзей помяну — мне ведь только и осталось, что панихиды служить. А зять-то мой как поживать изволит? Все финансами занят? Прежде, помню, только биржевые дела его и занимали. Морганом стать мечтал!
Это было произнесено с таким простодушием, с такой искренней доброжелательностью, что Молли даже не рассердилась, а лишь удивленно спросила:
— Разве вам не известно, что случилось с papa?
— Что же, милая? Я ведь сюда прямо с вокзала. Захворал, пожалуй, зятек любезный? В наши годы немудрено — рушится храмина телесная.
Молли каким-то шестым чувством угадала в дядюшке человека необыкновенного, не просто умудренного жизненным опытом, но таившего в себе нечто большее, чему молодая женщина названия не знала. Во всяком случае, этот сгорбленный, измученный болезнями человек с проникновенным взглядом почему-то вызывал у нее безоговорочное доверие. Она поведала ему о гибели отца. Старик молча выслушал племянницу, гладя по голове, затем осенил себя широким крестом и с чувством произнес:
— Неисповедимы пути Господни! Помни, что батюшке твоему сейчас лучше — душа его свободна уже от всех земных тягот.
«Да не священник ли он? — подумалось Молли. — Так проповеди говорят».
Дядюшка словно прочитал ее мысли:
— Какой там священник! Грешник я, милая, великий грешник.
Молли казалось, что со смертью отца она утратила остаток и без того подточенной «передовыми» научными теориями веры в Бога. Однако теперь, слушая этого старого человека, она подумала, скорее даже почувствовала: «Нужно, чтобы дядюшка непременно оставался у нас… у меня в доме. От него исходит какое-то необъяснимое тепло».
С детства она любила сказки о домовых, добрых духах, охраняющих своим присутствием жилище. «Пусть он будет добрым духом, ангелом нашего старого дома, может быть, именно он вернет жизнь в эти остывающие стены».
Конечно, дядюшка был странен: то и дело уединялся в отведенной ему дальней, прежде годами пустовавшей комнате, часто заговаривался, что-то бормотал под нос — то ли молился, то ли вспоминал картины бурно прожитой жизни. Бывало, он часами не выходил из своего обиталища, а когда появлялся, всякий раз объяснял Молли, что пишет то ли мемуары, то ли какой-то бесконечный роман. Из его сбивчивой, взволнованной речи нельзя было точно понять характер произведения.
«Чудак! Старый добрый чудак», — решила племянница. В том, что он самый настоящий, а не мнимый дядюшка, она имела возможность убедиться в самый день приезда: старик сразу признал в древнего письма образе Иверской Божией Матери, темневшем в углу большого киота в гостиной, родительское благословение на брак покойной сестре. «Это родовая святыня семьи нашей, — сказал он Молли, не раз уже слышавшей историю старой иконы от отца. — Мне вот не досталась. Не думал я в молодые годы о женитьбе, да и потом как-то не устроилось. Матушку твою хранил образ, сей, он и тебя сохранит — ты только верь!»
Молли верила не столько в благословение свыше, сколько в силу слов дядюшки, но как могла она верить чему-либо или кому-либо еще? Из головы не выходил Думанский.
«Даже если допустить, что он и в самом деле осознал свою неправоту, как могу я теперь обратиться к человеку, который так страшно меня оскорбил? Забыть, простить, просить… Просить о помощи? Того, кто вот здесь, в моем же доме назвал меня фактически отцеубийцей?!» И в то же время Молли Савелова чувствовала, как в душе опять поднимается волна щемящей жалости к этому несчастному (она слышала о его семейной драме), в сущности, такому же одинокому, обманутому циничной реальностью существу, как и она сама.
Ей было страшно признаться себе в непреодолимой тяге к Викентию Алексеевичу. «Сатин погиб, а этот адвокат — единственный юрист, способный отстаивать мои интересы в суде», — пыталась она оправдать свою «заинтересованность» персоной Думанского. Подобное объяснение «силы тяготения» устраивало и отчасти успокаивало Молли. Помогало и постоянное присутствие рядом дядюшки, который день ото дня становился для привязчивой племянницы и ближе, и дороже. Она постепенно открывала ему свое сердце, все более убеждаясь — с мудрым простецом можно быть откровенной. Тот участливо выслушивал Машеньку, вздыхал и покачивал головой, а однажды стал вдруг куда-то собираться, наставительно бормоча:
— Ты уж потерпи, дитя мое, я скоро.
Дом он покинул в тот же вечер. Теряясь в догадках, Молли уже решила, что никогда не увидит ставшего ей родным человека, но по прошествии трех дней, к неописуемой радости молодой хозяйки, он вернулся — какой-то умиротворенный и просветленный. На нетерпеливые расспросы о том, куда он так спешно исчез и где был все это время, старик торжественно ответствовал:
— Признаюсь, я сейчас прямо из Кронштадта. Все устроил — теперь собирайся ты. Поговей, душенька, и поезжай с Богом!
Молли участливо смотрела на дядюшку: «Бедный! Верно, совсем повредился в уме, — зачем это мне ехать в Кронштадт?»
— Да ты, я смотрю, не поняла ничего? — воскликнул раздосадованный старик. — О tempora, о mores![19] Видно, и впрямь быть Петербургу пусту! Рядом денно и нощно такой светильник веры пылает, а им невдомек! Горькие мы сироты при живом Отце Небесном…
Молли догадалась, куда клонит старый чудак. Она, конечно, слыхала о священнике Иоанне Сергиеве, который многие годы был протоиереем в Андреевском соборе Кронштадта. По всей России шла о нем молва как о великом праведнике, помогающем православным в бедах и недугах. Ехали к нему страждущие из разных губерний, говорили, что врачевал и исцелял их кронштадтский батюшка, укреплял в вере даже Государей с Августейшим Семейством, будто бы чудеса творил своей доходчивой до небес молитвой.
Однако Молли как-то решила про себя, что все это не более чем красивая легенда.
— Что же вы, дядюшка, мне предлагаете? Верить рассказам о кронштадтском чудотворце? Это моей горничной простительно. Не смейтесь надо мной, дядюшка!
Старик взволнованно замахал руками — ему было бы больно слышать такое и от прохожего на улице, а тут родная племянница уколола его в самое сердце. Он хотел было затвориться у себя в комнате, но жажда правды требовала выхода:
— Эх, милая! И ты с отступниками! Откуда столько гордыни, где же вера твоя?
У старика перехватило дух, пошатываясь, он направился к двери. Молли едва успела подхватить инвалида под руку.
Несколько дней дядюшка пропадал в своей комнате, слег, молчал, есть отказывался.
Молли была обеспокоена. «Кто бы мог подумать, что он такой чувствительный? Наверное, я была непозволительно груба. Если с ним что-нибудь случится, никогда себе этого не прощу».
Она вдруг вспомнила о Думанском и почему-то подумала, что судьба их отношений теперь зависит от чудаковатого, телесно немощного старика. «Только бы дядюшка поправился! Пускай мои силы ничтожны, но его удивительная сила духа будет залогом моего счастья. Пусть у меня нет теперь веры в Бога, но я доверюсь человеку, чья вера никогда не иссякнет. Доверюсь, как своему духовному отцу, — он не должен предать меня». С такими вот мыслями молодая госпожа Савелова, «особа передовых взглядов», не прощающая Богу своего сиротства и одиночества, по ночам читающая модных философов, явилась к захворавшему, отрешившемуся от всего дядюшке. Она опустилась перед ним на колени и, целуя высохшую старческую руку, обещала поступить так, как ему будет угодно, только бы прекратились ее несчастья. Пораженный, инвалид, еле сдерживая слезы, благословил Машеньку ехать в Кронштадт и там открыть все свои печали великому праведнику. Племянница покорно согласилась.
В Кронштадте Молли без труда нашла Андреевский собор — ей не пришлось даже справляться у прохожих о храме, где служит отец Иоанн Сергиев. Небольшими группами и поодиночке люди стекались к святому месту. Пути Господни вели их сюда из самых дальних уголков необъятной Православной Империи через радости и скорби, через испытания веры, по обету, по откровению в духе словно бы здесь, а не в суетной столице билось горячее сердце Святой Руси. Молли не могла разделить сокровенных чувств богомольцев: она видела только множество людей, в основном простого звания, видела их лица, отмеченные печатью страданий, поражалась неземному свету, исходившему от этих лиц. Подобный свет после смерти papa в ее упрямом недоверии миру оставался только на ликах икон. И здесь она все же ловила себя на мысли, что эти люди — убогие, жалкие — чужды ей и даже неприятны.
«Зачем я ехала сюда? Разве мне это поможет?» — сокрушалась Молли.
В храме ее поразила торжественная тишина: с раннего утра отец Иоанн исповедовал. Длинная вереница жаждущих покаяния и Святого Причастия тянулась через весь храм, обрываясь в нескольких метрах от аналоя с крестом и Евангелием: здесь проходила граница между суетой мира сего и Таинством. Пожилая, сгорбленная жизненной ношей крестьянка и ждущая первенца молодуха, грузный, с заметным брюшком, купец, все время вытирающий платком капли пота со лба, и рыжебородый молодец в праздничной кумачовой косоворотке с вышитой подпояской, отставной офицер в поношенном мундире без погон, с георгиевской ленточкой в петлице и пышными усами а-ля Скобелев, скромный чиновник в пенсне, с бородкой клинышком, дряхлая барыня в чепце и кружевной шали, бережно поддерживаемая под руку верной рабой, — все смиренно стояли в этой безмолвной очереди за утешением, за добром, за истинным чудом освобождения души от разъедающего ее греха.
Молли, продолжавшую чувствовать себя неловко, особенно поразили две знакомые фигуры, слившиеся с вереницей других исповедующихся. В высокой стройной монашке, перебиравшей, склонив голову, четки, она неожиданно узнала княжну Ч. — юную красавицу, на которую еще недавно заглядывались все без исключения посетители петербургского Дворянского собрания. Молли слыхала, что Ч. набожна, много жертвует на богоугодные дела, но зачем было ей, прекрасно обеспеченной, лелеемой многочисленной родней, окруженной поклонниками молодой княжне отказываться от полной чаши земного счастья и принимать постриг? И другое не могла понять Молли: каким образом здесь оказался барон Л., немец, глава благополучного семейства, проживавший в одном из роскошнейших петербургских особняков? «Почему лощеный господин, одетый у лучших английских портных, образец безупречного вкуса и изысканных манер, истово крестится, открывая всем сокровенные глубины своей души? Какая неосторожная сентиментальность! Да он, кажется, даже плачет?»
Между тем близилась ее очередь: один за другим исповедующиеся, подходя к невидимой черте, оборачивались к миру с поклоном, просили прощения у присутствовавших и покорно шли к отцу Иоанну. Молли понимала, что уже совсем скоро наступит ее очередь открыться кронштадтскому батюшке, и с каждой минутой становилось все более не по себе, все тяжелее, все страшнее. В то же время ей показалось, что она… давно его знает, этого доброго пастыря. Она чувствовала, как существо ее разрывается на части, недоверие и опыт последних тягостных месяцев жизни нудили вырваться из этой пугающей тишины, прочь из душного полумрака храма, домой, в Петербург, но крупица надежды, остаток какой-то детской наивности, сохранившейся в дальних уголках ее души, все же одолевал и влек к аналою, к мерцающим перед образами огонькам лампад!
Молли вдруг пронизало чувство светлой обреченности, рассеявшее все сомнения: «Пусть будет то, что должно произойти. Так нужно какой-то высшей силе — я не могу ей противиться».
Она двигалась вперед, не чуя под собой ног, повинуясь этой силе и течению людского потока. Вот, уже просветленная, отошла прикладываться к иконам, славить всепрощение Господне юная монахиня — бывшая княжна Ч., вот исповедался барон Л., непрерывно крестясь на храмовый образ Андрея Первозванного, проковылял с верой в исцеление сухорукий калека в морской форме, и пришло время покаяния для самой Молли — теперь ничто не отделяло ее от места исповеди. Не помня себя, она приблизилась к аналою, накрытому золоченой парчой, колени сами подкосились, она увидела перед собой медное распятие старинного литья и склоненную к ее лицу голову кронштадтского праведника. Молли хотела открыть ему все свои беды, все, что так невыносимо тяготило душу, хотела рассказать о безвременной смерти отца, об убийстве Сатина, о нелепой любви — она уже вполне осознала свое чувство к Думанскому, — о том, как предмет любви незаслуженно оскорбил ее, и мыслимо ли после всего этого мечтать о нем, принимать его ухаживания. Молли как-то сразу решила ничего не утаивать от священника, но волнение было так велико, так билось сердце, что она смогла лишь выдохнуть:
— Согрешила, Господи… Каюсь, святой отец!
Воцарившееся молчание казалось ей бесконечным.
Чувствуя себя как бы на границе жизни и смерти, придавленная стыдом, Молли ждала, что же теперь будет. Сердце повисло где-то в пустоте. Она как будто увидела себя со стороны — удаленной от Спасителя мира своей волей, своими грехами. Сами собой полились слезы, плечи задрожали. Притихнув, девушка замерла в неведении, будет ли ей даровано прощение, достойна ли она вообще хотя бы приблизиться к счастью.
— Утешься, раба Божия! Не потакай бесу отчаянием своим. Иди, милая, за мужем праведным и верь: он тебе во спасение дан от Господа. Испытаний жди, да не бойся: я грешный, за вас с суженым молиться буду, приму часть ноши твоей на себя — вместе, паче же с верой в Спасителя нашего, Мария, всякую напасть легче вынести и одолеть.
С этими словами отец Иоанн накрыл исповедницу епитрахилью и, положив длань на ее голову, прочел молитву о разрешении от грехов рабы Божией Марии.
«Он все насквозь видит! Он способен помогать в испытаниях, как святой угодник!» — поразилась Молли. Чувство благоговения охватило молодую женщину. Поцеловав благословляющую руку пастыря, служащего ежедневно Божественную литургию, она ощутила необычайную легкость в душе. Ей вдруг вспомнилась первая исповедь, давние годы безоблачного детства, покойница матушка, державшая ее на руках, и старый-престарый приходской священник в их усадьбе, исповедовавший девочку, — его добрые глаза, окладистая серебряная борода. Молли вспомнились рассказы няни об этом священнике — отце Анемподисте: он еще матушку крестил, венчал бабку и деда. «Когда-то это было? И отец Анемподист давно уже покинул этот мир, но все сохраняется в памяти! И я когда-нибудь непременно расскажу об этом своим детям… Значит, ничто не канет в Лету. Выходит, жизнь действительно вечная?! — осенило Молли. — А матушка всегда называла меня Машенькой».
К причастию Молли шла с волнением, но теперь это было благостное волнение в ожидании очищения, а не трепет смущенного непонимания предстоящего. После свершения Таинства, когда она прикладывалась ко Святой Чаше, праведный пастырь снова напутствовал ее:
— Гряди с миром, Мария! Веруй, молись, помни, что тебе сказал, и все приложится!
А народ, который Молли в гордыне своей успела мысленно окрестить «темным царством», чинно поздравлял:
— Со Святым Причастием, барышня!
«Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите!» — торжественно звучало под сводами храма.
«Как давно я не была в церкви… Когда отпевали papa, я словно ничего не видела и не слышала, а сейчас… Легкость какая. Этот свет, идущий отовсюду — от икон, от людей — чудо! Неужели отец Иоанн действительно чудотворец?»
У Молли кружилась голова от вершащегося в ее присутствии, с ее участием священнодействия, но она решила непременно дождаться проповеди. Ей стало казаться, что в душе назревает важная перемена, рождается что-то новое. Проповедь была долгой: отец Иоанн говорил о долге христианина в земной жизни, о великой миссии России духовно просветить мир и о том, что всякий называющий себя православным должен всегда помнить об этой миссии и быть ее достойным, о пренебрежении к власти Самодержца, о разврате и богохульстве, насаждаемых в России иноверцами и безбожниками… Но более всего Молли запомнились слова, обращенные к «просвещенной» интеллигенции:
— Вы, интеллигенты, оставили небесную мудрость и ухватились за земную суету, ложь, мираж, мглу непроглядную и будете наказаны собственным безумием, своими страстями. Вы пренебрегли живою водою, светом животворным, солью земли и стяжаетесь в истлении своем вечном, не увидите во всем света Божия, но пребудете во тьме! Вы предпочли Христу — Льва Толстого, высших светских писателей, умноживших свое борзописание до бесконечности, так что некогда Христианину взяться за слово Божие… Воля греховная, воспринятая по неразумию, неосторожности и навыку в юности, остается в душе и в плотских удах[20] до зрелых лет, а иногда и до старости, и вообще во всю жизнь. Помни и берегись!
Марии Савеловой казалось, что старец не сводит взыскующего взгляда именно с нее.
Всю обратную дорогу она была под впечатлением от кронштадтского пастыря. Он стал для нее таким родным, что казалось, она знала его всю жизнь. И в то же время перед глазами стоял другой образ — Викентия Думанского. «Несомненно, отец Иоанн — святой, и молва, выходит, не всегда бывает пуста. Конечно, эти нелестные высказывания об интеллигенции… Но Викентий (она поймала себя на том, что впервые назвала Думанского по имени) ведь не такой, как другие — ведь это его батюшка назвал „мужем праведным“! Нет, он благородный, только может быть излишне горячим, ошибаться, но это из-за обостренного чувства справедливости, из-за стремления свершить правосудие… Он, возможно, даже любит меня…»
Дядюшка встретил свою Машеньку еще более добрым, чем обычно, и вполне оправившимся от меланхолического приступа.
С этого дня в доме Савеловых все стало чудесным образом меняться к лучшему. Старый инвалид как-то весь расправился, словно бы помолодел; он стал просто неугомонен, с утра до вечера семенил по квартире, весь в каких-то ему одному ведомых «важных» делах, то и дело напевал романс:
Я тебе ни о чем не скажу, И тебя не встревожу ничуть, И о том, что я молча твержу, Не решусь ни за что намекнуть…При этом еще как намекал на скорую радость, то и дело забавно подмигивая и заглядывая племяннице в самые глаза со словами: «И я слышу, как сердце цветет».[21]
Сама же Молли знала главного своего благодетеля. «Ведь ничего бы этого не было, если бы не праведный отец Иоанн. Он и дядюшку наставил отправить меня в Кронштадт, и мне открыл глаза: все вокруг, оказывается, совсем не дурно. И как много хороших людей — даже Глаша покладистее стала, по хозяйству все хлопочет. А может, это оттого, что батюшка Иоанн и сейчас за всех нас молится?»
X
В тот день Молли была дома одна — горничная еще накануне вечером отпросилась в гости к каким-то дальним родственникам. Дядюшка по своему обыкновению чуть свет отправился к обедне, а значит, его можно было ожидать не раньше часу пополудни. С утра Молли, как обычно, пребывала в туманных грезах — перед ней еще проплывали разрозненные образы сна, и она пыталась составить из них что-либо связное, хотя это почти никогда не удавалось, ибо сны, большей частью, мимолетны и фантастичны.
Ритмический перестук квартета подков за окном вернул Молли к действительности.
Она услышала, как распахнулись двери парадного, гулко отдались в регистрах лестничных пролетов чьи-то шаги. Не дожидаясь звонка, охваченная душевным порывом, Молли бросилась открывать. Все существо ее взывало: «Отче Иоанне, услышь мою молитву!» Думанский стоял на пороге в шубе, накинутой поверх строгого черного фрака. Галстук тонкого шелка был заколот булавкой с драгоценным камнем. В руках он, разумеется, держал вазу с розами.
Матового стекла ваза была будто прихвачена морозом, а гигантские оранжерейные розы, достающие Молли до самого лица, казались райскими кринами.[22] «Как все же хорошо, что я послушалась совета дядюшки и побывала в Кронштадте! Чем моя жизнь теперь была бы, не будь в ней встречи со святым прозорливцем!»
Глаза Думанского сияли, а весь облик являл благородство славных предков с портретов в гостиной его дома.
— Здравствуйте! — тихо и как-то по-особенному торжественно произнес Думанский.
Молли качнулась, точно «нечаянная» радость происходила во сне, и отступила в глубь квартиры.
Думанскому хотелось отставить букет, подхватить эту хрупкую живую ношу и внести в дом, как уникальное произведение искусства, как некий дивный сосуд, наполненный самыми нежными, тонко благоухающими дарами Флоры, но он сдержался, боясь обидеть юную даму.
— Мне кажется, вы больше не сердитесь на меня?
— Разве так уж заметно? — девушка зарделась. — Нет, больше не сержусь…
— Значит, сердитесь меньше, да? Я счастлив! В таком случае, в знак нашего примирения, может быть, смилостивитесь и согласитесь поехать со мной куда-нибудь, просто проветриться, полюбоваться нашим зимним Петербургом? Погода сегодня на славу выдалась. Вы только посмотрите — сама красавица русская зима!
День и вправду обещал быть изумительным, и Молли более не находила, да и не стремилась найти причин отказать Викентию Алексеевичу:
— Едемте сейчас же, господин правовед. Только…
Думанский приложил руку к сердцу:
— Обещаю вести себя примерно!
Спустя какие-нибудь четверть часа (mademoiselle Савелова, приводя себя в должный вид, не заставила поклонника долго ждать) щегольской возок с красивой парой, привлекающей взгляды прохожих, проскользил вдоль Английской набережной, мимо Николаевского моста, затем свернул к Исаакию, к сияющим в рассветных лучах на фоне розоватого, в легкой морозной дымке неба, куполам…
Остановились против известной кондитерской на Невском: здесь было уютно, к великолепно сваренному кофе подавали свежайшие крендельки в розовой глазури и воздушные меренги. К тому же через огромные — от пола почти до потолка — витрины-окна можно было без помех лицезреть пеструю, вечно куда-то спешащую толпу.
— Как-то странно даже, — заметила девушка, осторожно откусывая краешек белого, как снежок, хрупкого безе. — Все куда-то спешат, у всех дела, а мы с вами лакомимся, можно сказать, откровенно предаемся праздности. Я вот тут позволяю себе радоваться жизни, а papa там… — Она сделала неопределенный жест, имея в виду мир иной.
— Зачем вы продолжаете себя мучить, дражайшая Мария Сергеевна? — продолжал адвокат. — Разумеется, ваш отец был достойный человек, и его гибель — трагедия, но — увы! — факт непреложный. Поймите — его уже не вернешь! А эти люди, они ведь тоже когда-то отдыхают, как мы сейчас. И вообще, все относительно: у меня в конторе и дома в кабинете во-от такие кипы дел (серьезнейших, уверяю вас!) но ведь это же не значит, что я не могу себе позволить иногда от них оторваться. Тем более, ради общения с вами. Pourquoi pas?[23] вам и самой приятно за этим уютным столиком, в тепле, за чашечкой хорошего кофе. Ведь я прав? А расшатывать себе нервы — это самоубийство какое-то! Да, Кесарев на свободе, но он попадется обязательно, непременно попадется — поверьте моему опыту! Не сейчас, так в скором будущем. Подобные ему на свободе долго не задерживаются: сколько вор не ворует, а тюрьмы не минует.
— Вы действительно в это верите?! — в ее вопросе были надежда и мольба.
— Если бы не считал подобное аксиомой, никогда не выбрал бы для себя юридическое поприще, — уверенно изрек Думанский.
В подтверждение столь непоколебимой уверенности он рассказал анекдот из собственной практики:
— На последнем курсе училища мне довелось наблюдать за ходом одного процесса. Имело место дерзкое ограбление банка с отягчающими обстоятельствами, с применением оружия, правда, без жертв. Все улики определенно указывали на виновность одного человека, и он был без промедления осужден, но как вскоре выяснилось — невинно. Настоящий преступник тоже проходил по делу, и представьте — в качестве потерпевшего! Фигурировал как случайный посетитель банка, раненный при налете. Так вот: пары месяцев не прошло, как этот оборотень угодил в Акатуйские рудники пожизненно за убийство при очередном ограблении. А изобличили его знаете как? Ни за что не догадаетесь. По стойкому запаху одеколона «Наполеон» на месте преступления: убийца, видите ли, имел причуду не выходить из дому не умастившись им! По этой причине у него и кличка в блатном — в уголовном, простите, — мире была соответственная — «Бонапарт». Выходит, дурную службу ему сослужила — не избежал своей Святой Елены! Со словами вообще нужно обращаться очень аккуратно — они очень часто действительно определяют будущее.
Случай показался Молли и вправду забавным, так что даже рассмешил ее. Викентий Алексеевич рад был не меньше: хоть на время удалось отвлечь даму от печальных мыслей. Он вспомнил еще какую-то занятную историю, потом еще… Разговорившийся адвокат и симпатизировавшая ему молодая особа теперь чувствовали себя вполне непринужденно, так что окружающая обстановка постепенно отошла на второй план и перестала их занимать. Ни Викентий Алексеевич, ни Молли даже не заметили подозрительного субъекта, который пристально наблюдал за ними через стекло, стараясь не выделяться из многолюдного потока Невского. Когда после затянувшегося, продолжительного завтрака в кондитерской извозчик доставил господ назад — к подворотне дома банкира, Думанский, помогая даме выбраться из санок, осторожно сообщил о своем решительном намерении:
— Если позволите, я загляну к вам как-нибудь на днях. Это будет удобно?
— Удобно ли? Ведь вот запрещу, скажу, что нет, так вы нарочно явитесь и застынете в прихожей как изваяние. Знаете, вы тогда были похожи на сфинкса! Или на Эдипа… Ну что мне с вами делать, Викентий Алексеевич? — Молли выдержала мучительную для поклонника паузу. — Уж чем откладывать на потом, почему бы не заглянуть сейчас? Еще совсем не поздно. Считайте, что я сама пригласила вас на чашку чая — в награду за примерное поведение. И заметьте, Эдип, я не стану загадывать вам никаких загадок!
Думанский просиял:
— Прекрасно! Замечательно! Ведь вы даже не понимаете, что сами и есть та загадка, разгадывать которую для меня истинное удовольствие.
Он рассчитался с лихачом, тот, «премного» благодаря барина, от души вытянул кнутом лошадку и укатил в облаке снежной пыли, а хозяйка тут же увела гостя за собой, под арку. В самом конце глубокой подворотни из полумрака внезапно вынырнула фигура в длинном темном пальто с поднятым воротником, закрывавшим пол-лица и преградила адвокату путь к подъезду:
— Не торопись, голубь!
— Позвольте! Что вам угодно?!
— А сейчас узнаешь чего!
Сзади, со стороны Английской набережной, послышались частые шаги. Оглянувшись, Думанский увидел прямо за спиной рыжеволосого типа (шапки на нем не было) с изъеденным оспой лицом, на котором тускнели бесцветные, с застывшими как у трупа зрачками, глаза. В воздухе блеснуло лезвие финского ножа! Едва успев отклониться, адвокат перехватил занесенную над ним руку рыжего и ответил нападавшему профессиональным боксерским ударом левой в скулу. Выпустив нож из рук, рыжий отлетел к стене, и с лета развалил спиной поленницу дров.
— Ах ты… с…чара! — простонал он, еле двигая свернутой челюстью.
Молли улучила момент и попыталась выскользнуть из подворотни, но первый налетчик, в черном, схватив девушку за руку, притянул к себе:
— Куда?! Стой! И не дури.
— Оставьте меня! Оставьте же, слышите?! Викентий Алексеевич!!!
— А ну немедленно пусти ее, скотина! — Думанский кинулся на помощь, и угрюмый бандит, отпустив «пленницу» тоже достал из-за пазухи финку. Угрожающе ей поигрывая, он стал наступать на адвоката. «Черного» опередил пришедший в себя рыжий — подхватив полено потяжелее, с размаху огрел им Думанского по затылку. Викентий Алексеевич медленно осел на холодный булыжник, но с набережной уже слышался крик убежавшей Молли и обещающая спасение пронзительная трель полицейского свистка. В последнюю минуту Думанскому показалось, что в одном из нападавших он узнал Кесарева. Нет, не показалось — это был именно Кесарев, даже не удосужившийся сбрить свои мерзкие усики.
— Атас! Ходу! — крикнул в тот же момент кто-то из налетчиков, успев напоследок дважды выстрелить в уже лежавшего на земле адвоката, после чего оба растворились в проходных дворах.
За стеной несколько раз гулко, почти невыносимо для слуха, пробили часы. Викентий Думанский с усилием разомкнул веки: он лежал в чужой постели, затылок ломило, судя по ощущениям, голова была туго перевязана. Жестоко ныло плечо: его как будто упорно грызла целая стая мышей. Кроме того, плечо было так туго забинтовано, что казалось, оно омертвело и в нем прекратилось всякое движение, всякий ток крови. Голова же, напротив, как будто была обложена ватой, но при первой же попытке пошевелиться взорвалась нестерпимой болью. Чтобы не закричать, Викентий Алексеевич на несколько секунд задержал дыхание по новой европейской системе, которая только начала входить в моду. Только после этого он снова обрел способность ясно мыслить.
Все же оторвав больную голову от подушки, Думанский увидел справа от себя, в кресле, спящую Молли… и только теперь понял, что находится в доме Савеловых. Барышня, вероятно, заснула недавно и устроилась на своем «ложе», подогнув под себя ноги прямо в бархатных туфельках. Видение было столь трогательное, поза столь безыскусна, что адвокат невольно залюбовался этой красотой. Приподнявшись, он осторожно взял свисавшую с подлокотника девичью руку, губами нежно коснулся тонких, почти прозрачных, как у граций или муз, пальцев, запястья с синеватой, чуть заметно пульсирующей жилкой, но резкая боль опять заставила его откинуться назад. Знакомые сережки сверкали из-под свившихся непослушных локонов — изумрудные «капли», казалось, готовы вот-вот вытечь из бриллиантовых «соцветий». Вид их пробудил у Думанского воспоминания о недавно совершенном поступке — возможно, наихудшем в его жизни. Викентий Алексеевич едва сдержался, чтобы не застонать, а Молли уже открыла глаза, полные неподдельной тревоги, заботы о пострадавшем адвокате, ее защитнике в самом буквальном, героическом, смысле. Побледневшее лицо Думанского вмиг оживилось, чуть заметно порозовев:
— Мария Сергеевна…
— Тс-с!.. Вам нельзя разговаривать — доктор запретил! Закройте глаза и постарайтесь уснуть. Вы теперь должны меня слушаться как сестру-сиделку.
— Просто я хотел поблагодарить вас. Я ведь почти все вспомнил… Этот налет… Если бы не вы…
— На самом деле это я ваша должница: вы повели себя как настоящий рыцарь и джентльмен. А вам нужно Бога благодарить и того святого, что у вас на шейном образке — пуля угодила в него, а то бы прямо в грудь.
— Значит, мученик Викентий меня спас, ангел мой…
Молли решила, что последние слова обращены к ней и покраснела:
— Ну вот! Что это вы — опять бредите? Просила же молчать… Немедленно успокойтесь и спите, я приказываю! Иначе уйду сейчас же.
— Подождите, я хочу покаяться. Я так виноват перед вами. В тот раз, когда я… ворвался к вам как дикарь и наговорил безобразных дерзостей…
— Опять вы за свое! Я же простила, неужели вам недостаточно?
— Пожалуйста! Я бы хотел объяснить. Дело в ваших серьгах, почти такую же нашли на месте убийства Сатина. Только у вас крупный изумруд-капля в бриллиантовой оправе, а там — сапфир.
— Ах, серьги! — Молли несколько замялась и мгновенно покраснела, будто стыдно должно было быть ей. — Это был целый гарнитур: колье, браслет, кажется, еще кольцо. Колье лежало в сейфе, а после смерти papa исчезло. Так странно: оно ведь должно быть где-то в доме, но я всюду искала и не нашла. А серьги никуда не делись, потому что я давно уже ношу их не снимая. Не правда ли, странно?
— Да, что-то здесь не так… И опять этот Кесарев! Вся эта история с нападением, должно быть, наделала шуму? Расскажите же скорее, есть ли новые подробности, версии…
— Доктор запретил, вам нельзя волноваться.
— Поверьте, я буду еще больше волноваться, ежели останусь в неведении.
— Хорошо, но обещайте, что после этого вы непременно заснете.
Адвокат опустил веки в знак повиновения.
— Приходил следователь, назначенный по этому делу, Шведов Алексей Карлович. Сказал, что очень хочет с вами побеседовать, когда вам станет лучше. Успокойтесь же, в самом деле! Не забывайте: вы только что обещали.
Думанский сохранил спокойствие, хотя все-таки чуть-чуть слукавил — приоткрыл один глаз, наблюдая за девушкой (теперь Молли напомнила ему свернувшегося калачиком котенка), до тех пор пока та сама не уснула. Вот когда рыцарь-адвокат смог честно закрыть глаза и, блаженно улыбаясь, предался собственным мыслям.
XI
С рассветом — пока в доме никто не проснулся — Викентий Алексеевич, не желая компрометировать и смущать своим двусмысленным присутствием девичье уединение mademoiselle Савеловой, перебрался долечиваться к себе на Кирочную. Дома адвокат довольно быстро, за какие-нибудь три дня, встал на ноги, но, почувствовав себя здоровым, первым делом собрался отнюдь не на службу. Он был сам не свой — ставший в короткий срок дорогим женский образ безраздельно воцарился в его душе, и всем своим существом Викентий Алексеевич стремился по заветному адресу, который вспомнил бы и во сне, и однако же прежде следовало еще зайти на Фонтанку, 16 в Департамент полиции по делу о злополучном нападении.
Привычно взбодрившись чашечкой кофе с эклером, Думанский принял надлежащий для присутственного места строгий вид — крахмальная сорочка с черным муаровым галстуком, тройка цвета маренго[24] с золотым знаком правоведа — коронованной колонной — в петлице. Обулся, застегнул на все пуговицы ратиновое[25] пальто, окутав мягким кашемировым шарфом шею, и наконец, увенчавшись каракулевым с благородной «проседью» пирожком, выскочил на улицу.
Редкая для декабрьского Петербурга солнечная погода, небо в дымчато-белых облачках, порхающий на фоне импозантных фасадов рой искрящихся снежинок — признак легкого морозца — все, несмотря на предстоящее продолжение печального разговора, располагало Викентия Алексеевича прогуляться пешком. Он даже решил сделать порядочный крюк. Дойдя до шумного Литейного, устремился не на ближнюю Пантелеймоновскую, а совсем наоборот — направо, и быстро, проскочив еще пару людных перекрестков, свернул по Сергиевской, чтобы уже не спеша, все более погружаясь в не столь уж давнее «студенческое» прошлое, направиться в сторону Фонтанки.
Идя по улице, а потом по набережной — мимо классического, монотонного, желто-белого с зелеными куполами домовой Екатерининской церкви здания alma mater[26] с одной стороны и ажурного строя обнаженных лип Летнего сада за речной преградой — с другой, можно было со светлой ностальгией вспоминать закрытую от постороннего взора размеренную жизнь элитарного юридического пансиона: милую семью воспитанников и воспитателей, юношеские мечты и надежды, запойное чтение книг и впитывание всего того, что прививали на лекциях и во внеклассном общении мудрые менторы-профессора; белые дортуары,[27] белый огромный рояль в актовом зале, знаменитый тем, что на нем любил играть сам правовед Чайковский, игры в уютном дворовом садике, посещения училища попечителем, принцем Ольденбургским, и конечно, визиты Августейших Особ; сам Государь, не забывавший посещать своих будущих верноподданных, подрастающую надежду и опору, хранителей неколебимых устоев великой Православной Империи Российской… Теперь Викентий Алексеевич с горечью замечал, как все чаще, все наглее попирается Закон соотечественниками, представителями решительно всех сословий: то, что в юности выглядело идеальным, было священным и таковым, впрочем, осталось для принципиального Думанского, оказалось вдруг буквально ненавистным даже для многих бывших друзей, увлекшихся интеллигентской демагогией или откровенным приисканием выгодных мест, охочих до взяток и безудержного сибаритства. О начальнике сыскной полиции адвокат Думанский слышал как раз, наоборот, много отзывов в превосходной степени — как о достойном слуге Закона, безупречно честном, порядочном человеке, не жаловавшем модный либерализм и державшемся строго консервативных абсолютистских взглядов (говорили при этом, что у него доброе сердце, что он очень набожен и много занимается благотворительностью). «Дай Бог, чтобы это не были только слухи, которые обычно плодят льстивые подчиненные, — дорогой думал Викентий Алексеевич. — Если Шведов и вправду таков, можно надеяться на беспристрастно честное расследование дела несчастного Сатина. Дай-то Бог…»
Он и не заметил, как перешел Пантелеймоновскую, оставив позади Соляной городок и Цепной мост, и оказался возле фасада особняка без броских архитектурных деталей, который хорошо знал (Думанский слышал, что особняк был когда-то построен для графа Кочубея). Здесь, сколько он себя помнил, помещалось Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, в обиходе называвшееся жандармерией или тайной полицией, следившее за соблюдением государственного порядка по всей России, вызывавшее буквально страх, трепет и ненависть у политических преступников всех мастей и легиона им сочувствовавших. Здесь же помещалось и нужное теперь адвокату управление сыскной полиции. Вывеска над входом гордо гласила, а кого-то и строго предупреждала: «Департамент полиции Министерства внутренних дел». Викентий Алексеевич вошел под кованый, на чугунных столбах, навес, прошел в широкий парадный подъезд. Представившись дежурному офицеру, Думанский назвал фамилию начальника сыскной полиции, а также сообщил, что тот должен его ждать. Жандарм доложил о посетителе по телефону, утвердительно кивнув невидимому собеседнику, затем отдал честь адвокату:
— Прошу вас, господин Думанский, проходите! Кабинет тринадцатый.
Перед входом в кабинет Викентия Алексеевича снова охватило сомнение: «Сатин и политика? По-моему, все же нелепость…» Но тяжелые резные двери перед ним уже распахнулись. Шведов рад был наконец-то увидеть бывшего однокашника снова в добром здравии. Думанскому же стало неловко за высокомерие, которое он выказал при предыдущей встрече, да и на дознании, и он искренне старался загладить оставленное тогда неприятное впечатление.
К счастью, разговор не отдалялся от сути дела, приведшего Викентия Алексеевича в строгий кабинет самого начальника сыскной полиции. Последний оказался так озабочен порученным ему расследованием, что мог рассуждать только об обстоятельствах, с ним связанных.
— Вся коллегия адвокатов в страшном волнении, делу присвоена первоочередная степень важности! Коллегия даже выделила персонально на поимку Кесарева пятьдесят тысяч рублей золотом. Кроме того, поблизости от вашей квартиры будет расположен усиленный жандармский пост на случай непредвиденной опасности. Следовало бы, любезнейший Викентий Алексеевич, столицу просеять сквозь сито: сейчас как раз все въезды-выезды из Петербурга перекрыты. Экий шустрый субъект этот Кесарев — действительно хитер, стервец, а мы-то его недооценивали! Подумать только — утер нос всему департаменту полиции! Дали сбежать этакой каналье прямо из зала суда, позволили напасть на вас — непростительное и непостижимое головотяпство.
— Что-ж, недосмотрели. Случается всякое… Погодите, а почему пост жандармский? — Думанский удивленно поднял брови. Он никак не мог взять в толк, за что удостоен внимания не обычной полиции, а политической.
— Да-да, коллега, не удивляйтесь, ротмистр Семенов ведет расследование непосредственно по линии корпуса жандармов. Я же вас предупреждал, что мистическим символом место преступления просто так не метят, и в нашем случае все оказалось ве-е-сьма непросто! — вздохнув, напомнил Алексей Карлович. — Словом, речь идет не о заурядном налете: есть тревожные факты, говорящие о связи нападавших на вас налетчиков с террористами. Такой вот пируэт-с.
— Господи! Только политики здесь и не хватало — впервые с ней сталкиваюсь в своей практике. — Адвокат прикрыл глаза и устало откинулся на спинку кресла.
— Как это ни прискорбно, теперь придется столкнуться. — подтвердил Шведов. — Слава Богу, что во время процесса над Гуляевым, как положено, присутствовал фотограф. Он тогда «запечатлел» всех, кто давал показания. Среди фото, разумеется, нашлись и портреты Кесарева на любой вкус, так сказать. Это должно очень помочь сыску! По всему городу и предместьям уже расклеены розыскные листки: теперь злодею трудно будет скрыться, его теперь ни один дворник не пропустит, любая собака облает. Фотографические портреты, конечно же, имеются и у всех наших чинов от городового до квартального, даже и у филеров. Теперь они смогут успешно сличать всех подозрительных субъектов.
По агентурным данным выяснилось, что разыскиваемый не только известный в уголовном мире медвежатник, но и принадлежит к пресловутой банде «Святого Георгия». Отпетые канальи, скажу я вам! Хорошо организованы, а самое неприятное — это не просто уголовный элемент, обыкновенные «деловые люди». Тут-то, как вы справедливо заметили, любезнейший, самая грязная политика и замешана — добывают, видите ли, деньги на нужды своей партии и при этом не гнушаются ничем. Для «великой цели», коей они почитают свержение законной самодержавной власти, все средства хороши: вооруженный грабеж, разбой (это у них называется экспроприацией) и кое-чего похуже. О принципе Макиавелли, да и о нем самом, вряд ли что-либо слышали (ну разве что главари), а туда же — цель оправдывает средства! Одним словом, террор и все, что эти идейные упыри высокопарно именуют классовой борьбой.
Адвокат встрепенулся, взволнованный тон его голоса сочетался с убежденностью в правоте обвинения:
— Алексей Карлович, дружище! Окажите мне услугу исключительно для пользы дела: дайте мне сейчас хотя бы одно объявление о розыске Кесарева. Я сам закажу в типографии дополнительно несколько тысяч экземпляров и лично позабочусь, чтобы расклеили на каждом столбе, на каждой рекламной тумбе, да, в конце концов, на каждом доме! Я уверен — с Божьей помощью мы поймаем этого матерого медвежатника.
— Не сомневайтесь, Викентий Алексеевич, когда затеяна такая большая охота, рано или поздно непременно угодит в наш капкан. Не такие особи попадались! То есть я, конечно, хотел сказать, теперь это уже дело ближайших дней — серьезность положения обязывает.
— А кстати, — осторожно поинтересовался Думанский, — что там с расследованием убийства Сатина? Маниак еще не обнаружен?
Начальник сыскного отделения только развел руками:
— Боюсь, пока не смогу вас ничем порадовать. Ничего определенного — ищем-с! Я-то полагал, что вы сами подумали над моей версией, изучили досконально литературу по соответствующему вопросу. Или по-прежнему не рассматриваете гибель вашего сотрудника в конспирологическом ключе?
— Отчего же, я действительно много думал о предмете нашего предыдущего разговора. Между прочим, проштудировал труды по судебной психиатрии и вот к какому выводу пришел. Вам не кажется, что почерк убийства явно выказывает в преступнике душевнобольного? По-моему, так это определенный шизофреник, или параноик, одним словом, маниак, который одержим некой «сверхценной» идеей. Шизофреники весьма ловко маскируют свои действия дальней логикой, обладая на первый взгляд ясностью мысли, строго выстраивают их последовательность и очень часто, преследуемые таким систематизированным бредом, совершают самые жуткие преступления. Разве это не напоминает наш случай?
— Несомненно, вы в чем-то правы. У маниака-психопата своя логика, свой мир, своя мораль — там он царь и бог, сам карает и сам убивает (избавил Бог оказаться на пути у такого агрессивного безумца!). У нас, признаюсь, была сначала и такая версия, однако же… О! Смотрите-ка, самовар поспел! Очень даже ко времени.
И Шведов, отойдя к миниатюрному круглому столику в углу, на котором как раз умещался серебряный самовар в форме амфоры, проворно налил две чашки кипящего душистого напитка. Алексей Карлович хотел, чтобы адвокат хоть как-то успокоился, да и самому «главному сыщику» необходимо было настроиться, укрепить душевное равновесие: Думанского предстояло ввести в курс экстренной и совсем не легкой для изложения и восприятия информации (особенно принимая во внимание ослабленное состояние последнего и, прежде всего, его расшатанные нервы).
— Вот что, Викентий Алексеевич, у меня к вам, скажем так, приватный разговор, — вполголоса, будто у стен Департамента Министерства внутренних дел могли быть чужие, враждебные государственному порядку длинные уши, продолжил следователь, когда кобальтовые с золотым ободком чашки почти опустели. — Имейте в виду: то, что я вам сейчас открою, — сведения сугубо секретные. Строго для служебного пользования. Посему делюсь с вами исключительно конфиденциально, как правовед с правоведом — мы ведь римское право на кафедре у одних и тех же профессоров штудировали! Так вот, коллега. В ходе следствия по делу Сатина были подняты архивы Департамента за последние пять лет и обнаружились прелюбопытнейшие факты. Знаки, аналогичные обнаруженным на месте убийства вашего сотрудника, фигурируют не менее чем в двадцати делах: в одних случаях они были изображены кровью, в других краской, мелом или, как на том брандмауэре, углем, точнее печной сажей. Итак факты неумолимо свидетельствуют о том, что мы имеем преступления, безусловно связанные между собой. А именно, резонансные убийства, успевшие уже наделать много шуму. Посему мы теперь постарались заблокировать информацию: дабы случай с Сатиным не попал в газеты. Эти господа репортеры всегда приносят нашей работе столько вреда — и ничего удивительного: сколько вокруг продажной прессы, порой кажется, она заодно с преступниками. Увы, это недалеко от действительности! Что касается данной серии злодейств, все жертвы объединяет то, что карманные деньги и документы не тронуты, но однако же каждый из убитых имел большие долги, у каждого кредиторы буквально сидят на лестнице. Объединяет данные эпизоды и еще одна — иначе не скажешь — иезуитская деталь: лица убитых обезображены до полной неузнаваемости. Сожжены кислотой или размозжены, в буквальном смысле разнесены выстрелами в упор, сделанными уже по мертвому телу. Также находили трупы, лицевая поверхность которых выглядела так, будто ее обгрызли хищники, или, по крайней мере, одичавшие бездомные собаки. Но вот ведь какое qui pro quo[28] обнаруживается при детальном криминалистическом осмотре: эти хищные укусы, скажем прямо, не слишком походят на укус каких бы то ни было животных. Тогда возникает просто леденящая душу версия — понимаете, на что я намекаю? И всякий раз, повторюсь, рядом этот мистический рисунок — роза, распятая на кресте! Как я и предполагал, дело приобретает государственный масштаб. Сегодня эти убийства привели в трепет Петербург, а завтра всколыхнут целую Империю!
Думанский, сидевший vis-a-vis, не удержался и так близко придвинулся к сыщику, что тот почувствовал его жаркое дыхание и увидел расширенные страхом зрачки.
— Получается, совокупность фактов подводит к одному выводу — значит, все-таки пресловутые масоны? По-моему, тоже — очевидный их «автограф».
— Подождите, не торопитесь с выводами, хотя, говоря по совести, этих вольных каменщиков я перевешал бы на фонарях безо всякого снисхождения! И помяните мое слово, коллега; если наша Империя теперь устоит (сие и буди!), то лишь благодаря силе, проявленной властью! Она хоть и Богоспасаемая, но при необходимости должна защищать себя любыми методами и всеми мерами.
Для вас ведь не секрет, что целью решительно всех мистических братств, тайных обществ et cetera[29] является не что иное, как захват власти, власти во всех смыслах. По этому поводу уполномоченным представителем нашего ведомства был сделан персональный доклад Государю о принципах организации, местах расположения тайных гнезд смуты, подан подробный список их главарей. О-о-о, дорогой мой Викентий Алексеевич, — сии суть самые что ни на есть зловредные индивидуумы! Жандармский корпус, он, знаете ли, тоже не даром царский хлеб ест… Наше мнение таково: в кратчайший срок призвать к ответу, да что там — переловить всю тайную и явную революционную братию и устроить показательный процесс, а затем публично, для всеобщего назидания, развешать этих гуманистов-богоискателей, теософов-антропософов, рыцарей «тайной доктрины» на каждом перекрестке — sic![30] Это может послужить уроком загнивающей старушке Европе и амбициозным Северо-Американским Штатам.
— Резонно! — Видно было, что адвоката задело за живое. — Я не сомневаюсь, что жандармский корпус готов начать исполнение этого плана хоть завтра, но что же сам Государь? Приветствует внедрение полицейского способа правления? А как к этому относится Правительствующий Синод?
— Эк вы, батенька! Сколько вопросов-то разом накидали, умница вы наш. Святейший Синод не торопится высказать что-нибудь определенное. А вот Государь Император отнесся к докладу серьезнейшим образом: изволил заявить, что необходимо покончить наконец со всеми этими безобразиями «ввиду их особой опасности для верноподданных и самого благопроцветания Империи».
Так что, если понадобится для пресечения заразы, Он одним росчерком пера объявит боевую готовность в столичных гарнизонах, а возможно, прикажет ввести и другие воинские части в Петербург и Москву… Да-да! А вы чего ожидали? Я же говорю, любые методы допустимы… Россия может оказаться на краю гибели, в бездне, в хаосе. О масштабах подготавливаемой катастрофы честный обыватель и не догадывается! Даже мы, возможно, не вполне их представляем…
Адвокат всем своим видом выразил удивление, восхищение и вместе с тем священный ужас: «Неужто на самом деле все так далеко зашло, что наша Родина на грани военной диктатуры?!»
Шведов ненадолго умолк, вытирая батистовым платком испарину со лба — то ли от горячего чая, то ли сам не на шутку переволновался, но после этой процедуры вернулся к животрепещущей теме:
— Погодите-ка, я вам еще самого… э-э-э… интересного не рассказал. И самого жуткого. Только помните, о чем я вас уже предупреждал; рот держите на замке! Ответственность за разглашение строжайшая! Так вот: в лесу за Коломягами обнаружено свежее потаенное захоронение — более пятисот человек.
— Да-а… Это жутко слышать! Точно повеяло мрачным Средневековьем — XIV век, чума… Вроде бы никаких эпидемий ни в Петербурге, ни в окрестностях, слава Богу, давно не случалось… — Адвокат принялся было рассуждать вслух, но шеф сыскной полиции не дал ему опомниться:
— Какая эпидемия, любезнейший: яма вырыта в форме пятиконечной звезды, символа врага рода человеческого! Пентаграмма, понимаете?! И опять-таки — все трупы будто псами или волками объедены. Но следует, однако, заметить: волки в окрестностях столицы — уже явная редкость, количество бездомных собак регулируется и не превышает безопасного уровня. Вот вам тишь да благодать; это вам, драгоценнейший, не рядовая перестрелка с мелкотравчатыми боевиками-анархистами. Это уже вызов обществу куда серьезнее…
— Позвольте, тогда выходит невероятное, чудовищное преступление! Кому и для чего понадобилось убивать столько людей? Гекатомба какая-то! Жертво…
— …приношение, вот-вот! Наконец-то начинаете соображать. Но если бы только это. Совсем недавно подобная, с позволения сказать, могила была обнаружена на Выборгской стороне в районе Куликова поля, за римско-католическим кладбищем. Карманники намеревались закопать сотню рублей ассигнациями и золотые часы, похищенные у купца Семибратова. Начали яму рыть и… Подробности опускаю — вы сами уже догадались. А воришек даже простили ввиду особо важных обстоятельств, только это теперь без надобности: тронулись умом и пребывают в печально известном заведении на Пряжке, об их спокойствии теперь сам Николай Угодник заботится. И опять же — пятиконечная форма ямы! Под Первопрестольной на прошлой неделе — снова пятьсот жертв… Да вот — извольте полюбопытствовать! Идем, так сказать, в ногу с прогрессом: со всякой жертвы преступления срочно делается фотографический портрет. Тем более когда речь идет о событии из ряда вон выходящем, не имеющем аналогов в уголовной практике. Ну всмотритесь: разве по этим скальпированным черепам с пустыми глазницами, обнаженным сухожилиям, скулам, буквально обглоданным неведомыми тварями, по останкам того, что было человеческими лицами, можно кого-нибудь опознать… Дело, как вы сами совершенно справедливо заметили, чудовищное. Мы с вами давеча о ритуальных убийствах говорили. Теперь мной уже получены все необходимые полномочия. Принята, — добавил Шведов шепотом, — сверхсрочная, с грифом чрезвычайной секретности депеша непосредственно от его высокопревосходительства господина Председателя Совета Министров. Vous comprenez?[31]Ждут скорых результатов, считают то, с чем я вас сейчас ознакомил, покушением не только на жизнь верноподданных Империи, но в целом — на государственные устои Отечества! Нами уже сформирован Чрезвычайный штаб по выявлению и устранению особо опасных политических преступников. Отчитываться будем лично перед Его Императорским Величеством! Вот такой пируэт-с: не раскроем дела о массовых ритуальных убийствах — дослуживать мне приставом где-нибудь в дальнем околотке Нарвской части. — Тут он бережно поправил на груди скромную Анну третьей степени и не без гордости добавил: — А удастся распутать змеиный клубок, обещают тогда вашего покорного слугу представить ко Святому Владимиру с мечами на шею[32] — получается, приравняли мою гражданскую службу к боевым действиям. Вот, коллега, не все же потомственному русскому дворянину Ивану Шведову домушников да карманников на чистую воду выводить: выпало и мне личную преданность доказать Царю и Отечеству! Так сказать, за пользу — честь и слава.[33]
Он задумался, видимо, о значительности своей служебной миссии, незаметно для себя самого скрестив руки на груди, стоя так, задумчиво вопросил:
— А знаете, коллега, что самое омерзительное в этом и без того, мягко говоря, грязном деле о жертвенном убое людей?
Думанский пожал плечами. Ничего омерзительнее того, что он только что услышал и того, что предстало перед ним на фотографических карточках, даже не приходило ему на ум и никак не могло родиться в его воображении, а уж «любопытства», желания «всмотреться» точно не вызывало…
— То, что о пропаже стольких подданных величайшей в мире монархии нигде никем заявлено не было — личности не установлены! Выходит, в стране о них никто и не вспомнил! В рамки здоровой человеческой логики не укладывается… Это же одновременно и самое подозрительное. Посудите сами: разве может такое количество народа вдруг взять и бесследно исчезнуть, да так, чтобы ни о ком даже не побеспокоились? Жена, сослуживцы, дворник, ну, соседи на худой конец (вот именно, на худой!). Вы же представляете, как обычно бывает, когда речь идет о пропаже добропорядочного обывателя. Ну, к примеру, месяц назад как раз соседка известила квартального, что Игнатий Морвенко, дававший деньги под проценты, уже несколько дней не выходит из собственной квартиры, а его собака все время воет. Выломали дверь…
— И что же, оказался убит? Грабители, вероятно.
— Отчего ж. Умер в своей постели — сердце. А когда пропал студент Веселовский, первым делом забеспокоилась квартирная хозяйка, которой он задолжал за пять месяцев…
Думанский помрачнел. В который раз уже, встав, заходил по комнате.
— Вы правы, разумеется, это, по меньшей мере, странно. А уж пропажа отца семейства или сына-студента тем более не останется незамеченной… То, о чем вы сейчас рассказали, действительно может коснуться любого подданного Империи! Количество жертв грозит только нарастать, как снежный ком. Действительно необходима срочная масштабная операция по розыску убийц. Кто знает, что там у них еще на уме! Вооруженное выступление? Это уж, Алексей Карлович, как раз та ситуация, в борьбе с которой любые средства допустимы.
— Вот именно! Вот и вы уже буквально повторяете мои слова! Посему наш Государь и готов на самые чрезвычайные меры, если с этой ч…товщиной не сможем разобраться мы и жандармский корпус. Даже на введение военного положения. В общегосударственном масштабе. Ведь опять-таки заметим: все эти безобразия происходят не в Псковской или Тверской губернии, а в самой непосредственной близости от столиц… Кстати, как ваше плечо?
— Какое плечо? Ах да… Не стоит особого беспокойства. Заживает потихоньку, хотя полностью восстановится еще не скоро. Хирург из клиники Виллие сказал, мне еще повезло — ранение сквозное и кость не задета. И вообще, в сложившемся положении это пустяк. Сотни людей погибли и их уже не вернуть — вот где настоящая трагедия!
— В таком случае радуйтесь, милейший Викентий Алексеевич, что не попали в этот мартиролог, — утешил Шведов, расплываясь в глуповатой улыбке и подмигивая раненому адвокату. — В вас стреляли почти что в упор, а вы стоите тут живехонек. Да вы, батенька мой, между нами говоря, и вовсе везунчик! Я уж молчу о пуле, попавшей не куда-нибудь, а в самую середину шейного образка. Необъяснимый науке феномен! Наверное, в сорочке родились, признайтесь?
— По-моему, сейчас не до шуток! — Думанский поспешил охладить пыл не к месту и не ко времени развеселившегося коллеги. — Что же до моего спасения, так то, что для науки нонсенс, доступно лишь религиозному сознанию как проявление извечного Высшего Промысла. Просто меня мой святой спас: Господь заботится о тех, кто не забывает о Нем. А вы — наука, сорочка! «Суха теория, мой друг…»[34]
Алексей Карлович, не забывавший своих германских корней и Гёте противоречить не смевший, только развел руками:
— Против вашей горячей веры мне нечего возразить! Только, ради Бога, будьте осторожнее и не теряйте бдительности, а посему, милейший, настоятельно прошу и в дальнейшем вашей помощи по расследованию вышеуказанного дела и успешному исполнению сверхсекретного плана, в который я посвятил вас под свою ответственность. Я сам срочно уезжаю в Первопрестольную для координации действий с московскими подразделениями наших ведомств, но в случае поступления какой-либо новой чрезвычайной информации, связанной с Сатиным, или возникновения дельных предложений по плану смело обращайтесь к ротмистру Константину Викторовичу Семенову. Он, как я вам уже говорил, курирует вопрос подготовки операции по линии жандармского управления. Личность неординарная — из лейб-егерей, герой подавления боксерского бунта,[35] георгиевский кавалер за пекинский штурм. Человек, известный своим бесстрашием, но вполне доступный, не ханжа — в Департаменте его кабинет вам любой укажет. Ну-с, в таком случае, желаю здравствовать, коллега! Нам с вами, чувствую, еще придется вместе порадеть «за алтарь, за Русь Святую и за Белого Царя».[36]
XII
Скинув на пол прямо в прихожей тяжелую, на енотах, шубу, освобожденный от этих «зимних вериг», Думанский рванулся прямиком в савеловскую гостиную, уже не обращая никакого внимания на недовольство прислуги. Здесь, в зале, он поставил на ковер невиданную современной работы вазу, высокую, сужающуюся кверху, с неизменными, «в росе», розами. Молли вышла навстречу гостю. В облике молодой хозяйки безошибочно угадывалось одно: явление Викентия Алексеевича не было для нее неожиданностью, более того, она как раз ждала прихода этого человека, с каждым днем становившегося ей ближе даже на расстоянии. Сначала, точно зачарованная, девушка опустилась на пол рядом с вазой и стала перебирать длинные стебли, осторожно трогая шипы и шелковистые лепестки, задумчиво водила пальцами по фарфору, повторяя причудливый рельефный узор. Казалось, она не столько любуется пышными розанами и вазой, исполненной подлинным мастером на изысканный вкус, сколько неосознанно пытается оттянуть миг, который может изменить всю ее жизнь.
Наконец, решившись, Молли подняла глаза на Думанского и протянула ему обе руки:
— Да что же это я! Цветы дивные — не оторваться… Право же, извините… Ну как вы? Как вы чувствуете себя, Викентий Алексеевич? Ведь были совсем ослаблены и вдруг решили ретироваться! Хорошо еще, догадались сообщить куда. Иначе я просто… с ума сошла бы…
— Пустяки, даже не вспоминайте — сейчас я, как видите, цел и невредим. Здоров вполне! Право же, нет никакого повода для волнений, да и не было.
— Слава Богу! — вырвалось у Молли. — Только как же это не было повода — я все эти дни на улицу выглянуть боюсь, до сих пор не могу опомниться! Страшно подумать, что с нами могли сделать эти кесаревские… мерзавцы, если бы не полиция… Как тут не волноваться…
— Полно вам, Мария Сергеевна, дорогая! Просто не следует никуда выходить без меня, а я теперь, с вашего позволения, буду ежедневно наведываться, — адвокат ободряюще улыбнулся. — Пока вы со мной, ничего не случится — ручаюсь! Решительно не стоит бояться: все меры к розыску Кесарева сыскная полиция уже приняла.
— А мне почему-то тревожно. Нужно было еще тогда не отпускать полицию, добиться, чтобы их непременно поймали по горячим следам. И как это я не сообразила — непростительное легкомыслие!
— Опять вы сгущаете краски — ну к чему? Самое страшное, что могло произойти, уже позади. Даже я больше не беспокоюсь: теперь дело в надежных руках!
Молли растерянно пожала плечами:
— Но тогда: налетели, исчезли — как в дурном сне… Ну что же? Пожалуй, вы меня убедили и лучше совсем не вспоминать, а раз все обошлось, пойдемте-ка со спокойным сердцем пить чай. Вы любите с молоком?
— Англичане называют это five o’clock[37] — у них это возведено в принцип, в ритуал, — с видом знатока заметил Викентий Алексеевич. — Я только «за»! Сейчас, кстати, ровно пять — выходит, сам Бог велел. Теперь уж нам никто не помешает.
За столом Думанский сел так, чтобы лучше видеть лицо Молли, освещенное тихим, ровным и спокойным светом лампы.
— Знаете… — он первым нарушил молчание. — Знаете, бывает, что два человека проживают вместе одну жизнь, большую и счастливую. Они находят истинное счастье в том, чтобы жить друг для друга, жертвовать друг для друга чем угодно, не задумываясь. Они идут земным путем рука об руку, и у них даже не возникает тени сомнения, что когда-то, перейдя за грань этого мира, они и там останутся вместе — в вечности…
Молли, не отрывая взгляда от накрытого стола, сама разливала чай, сливки из молочника. Думанский зачарованно наблюдал за ее движениями, за тем, как философски покойно наполняются чашки — сначала красно-бурая струйка, потом кремовая. Образы семейной идиллии не покидали его воображение. Только бы она слушала, только бы не пренебрегала его откровением!
— …Ну почему подобное принято считать всего лишь сказкой? Да-да: они прожили долго и счастливо и умерли в один день… Именно так — вот высшая правда счастливой жизни двух любящих сердец! Когда есть любовь, она и сказку превращает в реальность и даже…
Ложечка, которой Молли размешивала сахар, тонко прозвенела о дорогой фарфор. И этот тишайший, фарфоровый благовест перевернул что-то в душе Думанского. Он запнулся. Умолк на полуфразе. Посмотрел Молли прямо в глаза.
«Что же со мной происходит? — подумал он. — И какая из жизней — реальная? Та, в которой осталась духовно совершенно отдалившаяся от меня женщина, названная мною однажды женой, или эта, с тихим светом лампы и тихим, сосредоточенным лицом — Молли? Господи, да кого же я вел к алтарю, кому говорил слова священной клятвы? Где вся та жизнь и была ли она вообще?»
Прежнее вдруг отступило, сделалось ничтожным, мелким. Он понял: существует лишь та жизнь, что происходит сегодня, сейчас. Эта жизнь была перед ним. И имя ей было — Мария, Машенька, Молли… Молли, которая ладонью машинально расправляла несуществующую складку на скатерти, молчала и теперь неотрывно смотрела в меняющееся каждую секунду, вдохновенное лицо Думанского.
— Вы знаете… Знаете, я ведь решил, что со мною уже никогда ничего подобного не будет. Я крест на себе поставил. — Нервничая, он стал немного задыхаться. — Думал, так и умру, больше не полюбив… — Он замолчал, опять вспомнив о своем несчастном браке, о долге, который стал давно мифическим и все же повелевал ему остановиться. Но остановиться Думанский уже не мог. — Вы мое спасение, Молли! Ты любовь моя… Ты моя жизнь вечная…
Викентий резко поднялся из-за стола и принялся взволнованно ходить по комнате, порой прикасаясь к каким-то вещицам.
Девушка, как завороженная, следила за ним, за каждым его движением, действием. Зачем-то предупредила:
— Здесь беспорядок. Со вчерашнего дня не убирали… — И тут же спохватилась, понимая ненужность этих слов.
Для Молли стало вдруг очевидным, что все тревоги, терзавшие ее со дня гибели отца, отступили, а сложные обстоятельства личной жизни Думанского не имеют никакого значения в сравнении с тем, что происходит здесь, сейчас, в этой комнате — с ней, вернее — с ними обоими.
Она почувствовала, что успокоилась, будто вернулась наконец домой из далекого мучительного странствия. И этим домом была любовь к ней Думанского. Молли подошла к нему. Доверчиво подняла глаза. И они стояли так, почти вплотную друг к другу, но не соприкасаясь.
Сквозь ткань фрака Викентий чувствовал тихое жаркое дыхание молодой женщины, проникавшее в самое его сердце, усиливавшее ток крови в теле и наполняющее душу щемящей нежностью.
Он обнял ее за плечи, усадил в кресло и сам опустился рядом на колени. Лицо Думанского светилось внутренним светом. Это был почти экстаз. То, что древние называли катарсисом, очищением.
Молли сделала слабый жест рукой: непонятно было, хочет ли она наконец остановить Думанского или, наоборот, просит говорить.
— Вот только что, сейчас, со мной это было! — голос Викентия стал глубоким и спокойным. — Я не знал раньше, что это так, или, может быть, забыл, как это бывает, зато вспомнил теперь. Господи, Ты снова дал мне испытать это! И все же прежде все было как-то слепо, приземленно, а теперь… Ведь любовь моя находится не во мне. — Думанский притронулся рукой к груди, и слезой небесной чистоты блеснул камень на булавке. — Она высоко, вне меня, — он указал вверх, — я чувствую источник ее! И еще новое — в мир я пришел именно для того, чтобы донести до тебя эту любовь… — Думанский сжал руки Молли в своих руках. Так они оставались долго, не обронив больше ни слова, пока неясный шум, донесшийся из кабинета, не заставил их вздрогнуть.
С трудом возвращаясь к действительности, Молли проговорила:
— Это дядюшка… Да ты же ведь еще не знаешь — он теперь живет у меня. Инвалид и со странностями, но душа у него золотая! Вы непременно подружитесь.
Молли хотела подняться, но пережитое душевное волнение лишило ее сил. Викентий Алексеевич, впервые услышав «ты» от возлюбленной, от неожиданности сам еле поднялся с колен:
— Я позову его. Ты позволишь? Укажи лишь, куда идти.
— Только не отвлекай, если он занят! В такие минуты старик совершенно погружается в себя и не терпит, когда ему мешают. Представь, он пишет какие-то мемуары!
Викентий Алексеевич тихо постучал в дверь бывшего кабинета покойного банкира — никто не отвечал. Взялся за ручку — дверь оказалась незапертой. За массивным письменным столом мореного дуба, спиной к вошедшему, в кожаном высоком кресле сидел старик. Думанскому была видна только блестящая, обрамленная редкими седыми волосами лысина… Инвалид, уйдя с головой в свои дела, не слышал стука и, не заметив, как в кабинет вошел посторонний, продолжал вести какие-то финансовые расчеты: на зеленом сукне стола перед ним лежали пачки кредитных билетов, отдельно были расставлены аккуратные стопки золотых империалов и червонцев, серебро — рубли и полтинники. Викентий Алексеевич, помня предупреждение Молли, удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.
— А дядюшка действительно занят, не стоит ему мешать.
Думанский оглянулся, словно впервые увидел комнату, где находился. Он вдруг заметил, что воздух в помещении пронзительно свеж, как после разряда молнии.
— Ты ведь музицируешь. — Викентий указал на роскошный белый беккеровский рояль. — Ты ведь непременно прекрасно играешь Шопена! Какое счастье, что мы можем чувствовать одно и то же.
В это время из коридора послышались шаркающие шаги, и инвалид сам явился в гостиную.
— А вот наконец и Викентий Думанский собственной персоной, к нашему удовольствию! — обрадованно произнес старик, словно признав в адвокате старинного знакомого. («Откуда ему знать меня, мою фамилию? Впрочем, я, наверное, где-то уже его видел…») — Приветствую вас, господин хороший!
Он тут же обратился к племяннице:
— Теперь видишь, Машенька, чем сердце успокоилось? Слушай старика! C’est la vie,[38] она меня многому научила. В мои лета уже смешно ошибаться и грешно обманывать.
Молли была несколько сконфужена, Викентий Алексеевич удивлен, но по всему было видно, что слова дядюшки приятны обоим.
— Вот вы и познакомились! — произнесла Молли, обрадованная тем, что знакомство произошло безо всяких церемоний. — Чаю, дядюшка?
Инвалид с достоинством пожилого человека кивнул:
— Охотно, милая! Только без молока! Да уж ты знаешь… А голуби не прилетали?
Привычная к подобным странностям, Молли сделала вид, что не обратила внимания на слова старика, подала ему чай, а тот, что-то недовольно ворча под нос о голубях, до которых почему-то никому нет дела, кроме него, удобно устроился за столом и, налив чай в блюдце, стал с удовольствием прихлебывать, закусывая аппетитными маковыми баранками и объясняя Думанскому:
— Я человек не светский и чай пью по-купечески, вернее сказать, по-московски — жизнь моя протекала все больше в Первопрестольной да в имении, с мужиками и бабами, как изволит выражаться моя любезная племянница. Такой уж я человек — люблю народ и скрывать этого, как у вас в Петербурге принято, не намерен! Не осмеивайте природной гордости великоросса — на ней да на Вере Святой Россия стоит, молодой человек!
— Я вовсе не собирался этого оспаривать. Мне, как и вам, неприятны люди, подвергающие сомнению очевидные истины. Я практикующий адвокат. Так вот признаюсь, что, если бы ко мне за помощью обратился кто-нибудь из этих болтунов-социалистов, я отказал бы не раздумывая.
Дядюшка просиял:
— Не сомневался в вашем благородстве, господин адвокат. Машенька, так ты не видела голубей?
Молли укоризненно произнесла:
— Дядюшка!
Старик махнул рукой, вспомнив, что уже спрашивал об этом:
— Ах да! «Уподобьтесь птицам небесным — они не сеют, не собирают в житницы…»[39]
Он поднялся, давая понять, что собирается выходить из-за стола. Викентий Алексеевич хотел было помочь инвалиду добраться до кабинета, но старик замахал руками:
— Не надо, не надо! Сидите! А я уже напился — много ли мне, старику, нужно? Спасибо, детка, за чай — меня ждут неотложные дела! Рад, очень рад очному знакомству, молодой человек! Вы уж меня не забывайте!
— Видишь, какой у меня дядюшка, — сказала Молли не без гордости, когда старик удалился к себе. — Независимый, хоть и странный. С принципами.
— Замечательный старик, — согласился Думанский. — Таких — увы! — все меньше становится… О чем же он пишет? Наверняка что-нибудь нравоучительное, в назидание потомкам.
Молли пожала плечами — выражение лица у нее было растерянное, как у ребенка, не выучившего урок.
— А я, честно говоря, и не знаю. Мне ничего до сих пор не показывал. Он очень ревностно относится к этим своим писаниям…
Однако говорить им сейчас хотелось совсем не о том, и они оба ощутили это по атмосфере в комнате, где опять начал накапливаться как бы грозовой разряд.
От волнения Молли стала часто-часто моргать.
— Но что же с нами будет? Я ведь знаю — у тебя есть семья!
Думанский подошел к ней, взял ее лицо в свои ладони. И форма его ладоней совпала с выпуклостями и впадинками ее лица так, словно некогда они были одним целым.
— Была. Там давно уже нет ничего настоящего — остались только ложь и мучения. Когда-то обманулся… Но теперь все будет иначе — верь мне! Ты спрашиваешь, что ждет нас впереди? Мы станем мужем и женой. Как сказано в Писании: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть».[40]
Лицо Молли горело в его ладонях, но взгляда она не опустила, готовая верить каждому сказанному им слову.
Викентий, осмелев, поцеловал ее в губы, подвел к столу, усадил, а сам сел напротив.
— И ты научишь наших детей словам первых молитв…
— Мы станем жить здесь, у меня? — Девушка продолжала моргать.
— Нет! В новой жизни все должно быть по-новому: новые стены, новый очаг. Переберемся куда-нибудь в Литейную часть — там жили мои отец и мать, там прошла моя юность, — на Фурштатскую, к примеру… У нас будет чудесная квартира: библиотека, кабинет — целая анфилада просторных, светлых комнат…
Молли встрепенулась, точно Думанский помог найти ей нужное слово.
— Да-да! Целая анфилада залитых солнцем комнат! Это как моя любовь к тебе — огромное пространство, кажется, больше уже ничего быть не может… И вдруг открывается новая дверь…
Было уже совсем поздно. Викентий начал прощаться. В прихожей он подхватил с пола шубу и, обернувшись к Молли, остановил ее:
— Не провожай меня. Не надо. Мы ведь увидимся завтра — я стану приезжать каждый день, как обещал…
Молли непроизвольно протянула руку, точно пытаясь удержать его, но Думанский уже спускался по лестнице и, спускаясь, полуобернувшись, успел еще раз охватить взглядом всю возлюбленную, застывшую в луче света, льющегося из прихожей.
На улице он сразу же взял извозчика. «В другое время пришлось бы искать, но сегодня у меня день удивительный! Чудесный день! И какая же она все-таки красавица!» Вскочив в сани, Викентий Алексеевич проворно запахнул меховой полог, тронув возницу за плечо, каким-то особенно доверительным, ласковым тоном объяснил, куда ехать.
XIII
В Петербурге готовились к встрече Рождества Христова. Весь город, от камергера Двора Его Императорского Величества до самого скромного мастерового, совершал приятные покупки: подарки, угощения к столу, разнообразную праздничную мишуру. Последние дни Филлипова поста были уже настоящим преддверием торжества: в воздухе чувствовалась особая атмосфера радости. Мужики, съехавшиеся из окрестных губерний на столичные базары, вовсю торговали елками, свининой, целые ряды на многочисленных рынках вдоль Садовой были увешаны розовыми поросятами и жирными гусями, в булочных готовились выпекать всевозможную сдобу, предлагали на заказ пироги: кондитеры встречали праздник во всеоружии — в витринах уже красовались образцы хитроумных тортов, прилавки ломились от шоколада и карамели. К удовольствию сладкоежек всех возрастов, здесь были мармелад и пастила, зефир и орехи, печенье на любой вкус. В винных магазинах ожидало торжественных застолий шампанское лучших французских сортов, искристое «Абрау-Дюрсо» из кавказских погребов и игристое цимлянское с донских просторов. Торговцы колониальными товарами закупали партиями мандарины и ананасы. Много работы было у Городской думы: центральные улицы иллюминировались, готовились места для праздничных гуляний, заливались катки в Юсуповском саду, на Марсовом поле, в Александровском парке у Народного дома. Театры готовили святочные постановки.
По невской глади, накрепко схваченной льдом, между Адмиралтейской и Мытнинской набережными курсировал юркий вагончик на электрической тяге — чудо техники. Он был разукрашен блестящей мишурой, гирляндами искусственных цветов; в вечерние часы светился разноцветными огнями, а впереди, над кабиной вагоновожатого, сияла Вифлеемская звезда. Жители Петербургской стороны могли в считанные минуты достичь «материкового» центра, чтобы поздравить родных и знакомых с великим праздником. В эти дни казалось, что сам механический прогресс нового века хочет польстить чувствам верующих.
Важные пары прогуливались по Гостиному, выбирая самые дорогие подарки. Господа интересовались парфюмерией и галантереей в Пассаже, цветами в магазинах Эйлерса, дамы требовали лучшую продукцию у «Буре». Роскошные экипажи подвозили сильных мира сего к салону Фаберже, откуда те возвращались довольные очередным редкостным приобретением. То и дело лощеный господин с прелестной бонбоньеркой «Жорж Борман» важно проплывал мимо рядового слесаря завода «Речкина»,[41] с достоинством несущего простенькую жестянку монпансье «Ландрин», и оба были одинаково довольны: первый — тем, что добавит очередную каплю удовольствия в полную чашу бытия дорогого семейства, второй тоже был счастлив порадовать сластями уставшую от домашних забот жену и детишек мал мала меньше, ждущих обязательного гостинца под Рождество.
В маленьком семействе Савеловых предпраздничными приготовлениями больше всего был занят дядюшка. Он наставлял Машеньку, куда послать прислугу за провизией для разговления, где нанять полотеров и гардинщика для приведения квартиры в самый благопристойный вид и даже — как нарядить рождественскую елку. Когда был жив отец, Христово Рождество справляли пышно, с размахом: приезжали расфранченные гости, слышались поздравления, Молли засыпали дорогими подарками. Так бывало каждый год, почти всю Святочную неделю, но теперь, когда дом остался без хозяина, Молли была в растерянности: кого приглашать, — может, и вовсе не нужно никакого приема? Горничная уловила нерешительность молодой хозяйки и осмелилась полюбопытствовать:
— Барыня, а на сколько персон в Рождество ужин-то готовить?
Молли замялась:
— Не знаю я, Глаша. Никого нарочно не приглашали, а кто помнит, сам придет.
Горничную такой ответ не удовлетворил — она ждала ясных указаний. На выручку растерянной племяннице пришел невозмутимый инвалид:
— Ты, Глафира, займись-ка своим делом — исполняй, купи все, что я приказывал, и не забудь про ягодное суфле, а гостя в святой день младенец Христос по нашим молитвам всегда пошлет!
Глаша загадочно улыбнулась и поспешила за покупками.
Накануне Рождества под руководством неугомонного дядюшки наряжали елку: развешивали стеклярусные бусы, «серебряных» херувимов, расписные шары, заворачивали в фольгу и привязывали к веткам оранжево-желтые мандарины. В сочельник, как положено, строго постились. Старик сам следил за приготовлением сочива и за тем, чтобы никто не притронулся к нему до навечерия праздника. Вечером же дядюшка направился в отдаленную, но любимую им Владимирскую церковь, за ним послушно последовали племянница и горничная. Приход был богатый, служба пышная. Собралось много важных господ в шитых золотом штатских мундирах, об руку с нарядными супругами, были здесь и генералы, и офицеры лейб-гвардии, множество купцов с Ямского рынка. Мещан поскромнее и простолюдинов почти совсем не было: они предпочитали посещать близлежащее небольшое, но уютное подворье Коневского монастыря, где служба шла по строгому уставу и, как говорили, «было больше благодати». В последние годы Молли редко ходила в церковь, даже в большие праздники, а если и бывала, то по настоянию отца. Но эта Рождественская служба впервые за много лет показалась ей торжественной и радостной и совсем не утомила. Она с особенным чувством, вспоминая паломничество в Кронштадт, боясь сфальшивить, вторила хрипловатому дядюшкиному баритону и низкому, с басовитыми нотками, голосу Глаши:
Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови свет разума: В нем бо звездам служащий, Звездою учахуся, Тебе кланятися. Солнцу правды, И Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе!На обратном пути незнакомые прохожие то и дело поздравляли: «С Рождеством Христовым!» Попадались компании славильщиков со звездой и вертепом, в основном дети под предводительством уже подгулявших взрослых, старательно выводившие духовные стихи. Певучий колокольный трезвон стоял над Петербургом. Праздничное настроение сократило приличное расстояние и скрасило путь до Английской набережной, причем пожилой инвалид нарочно даже не велел брать извозчика и сам с неподражаемой важностью шествовал впереди, с удовольствием раскланиваясь со встречными, несущими домой благую весть о рождении Богомладенца.
Ночью так и не удалось заснуть — то и дело заявлялись славильщики. Дядюшка приказал без того уставшей Глаше дежурить у дверей с большим графином водки и закуской.
— Сама должна знать! — сказал он. — Никого в эту ночь обидеть нельзя, спеши каждого уважить — не нами заведено, не нам и отменять.
Молли тоже не сомкнула глаз — до самого утра представляла, как придет единственный желанный гость, сомневалась, придет ли, молила праведного батюшку Иоанна не обмануть надежды.
Думанский явился часам к двенадцати. Розы на сей раз выбрал белые, лучшее шампанское, изящный браслет-змейку, духи «Лориган Коти» и огромную куклу — Молли, дядюшке — ореховую трость с серебряным набалдашником, и даже Глашу не забыл — подарил ей коробку шоколадных конфет «Эйнем». Сам Викентий Алексеевич был неотразим — во всем новом, с иголочки, от лучшего портного, и словно светился изнутри.
— Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите! — театрально возгласил он с порога, пытаясь изобразить диакона, а потом уже по-свойски, с неподдельной радостью, поздравил: — С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!
Расцеловались, как уже совершенно близкие, давным-давно знакомые люди. Все были растроганы: Думанский — тем, что его ждали (до самого последнего момента душу подтачивало болезненное сомнение на этот счет), Молли — красавицей куклой от Дойникова,[42] с фарфоровой головой и изящными, точеными из дерева ручками, чем-то похожей на саму молодую хозяйку и напомнившей ей наивные детские игры; дядюшка любовался дорогой тростью, то и дело поглаживая набалдашник с затейливой гравировкой и предвкушая удовольствие от праздничного обеда. Глаша заранее накрыла стол, не забыв слов старика о госте, которого Бог пошлет.
На белоснежной скатерти, расшитой по краю голубыми цветами, было изобилие всяческих яств — паштеты, ветчина, заливные, мясная кулебяка, соте из рябчиков, пикули, фрукты и пломбир к шампанскому, а в центре стола, на продолговатом блюде, венец всего пиршества — румяный, аппетитный поросенок, со всех сторон обложенный зеленью.
Трижды, как полагается, спели праздничный тропарь и приступили к трапезе. Душой праздника был дядюшка — тосты сыпались из него как из рога изобилия (он объяснял это тем, что в молодости служил на Военно-Грузинской дороге), при этом он еще успевал отвешивать комплименты племяннице, гостю и ловко прислуживавшей Глафире.
— Я поражен, — сказал он между прочим Думанскому, — вы, милейший, выглядите за этим столом так, будто вам свыше предопределено быть главой семейства и хозяином этого дома.
Викентий Алексеевич сконфуженно молчал — он думал о том, что рано или поздно наверняка придется подробнее рассказать Молли о своем неудавшемся браке, о безобразных выходках жены и ее порочных пристрастиях. Девушка с трудом сдерживалась, чтобы не показать, как ей приятны слова дядюшки, а тот, иронически улыбаясь, обратился теперь уже к ней:
— Что ж, Машенька, вот благороднейший человек, готовый, кажется, на все для твоего счастья, да и ты, я вижу, к нему неравнодушна. Я, грешник, не люблю притворяться и лицемерить: что вижу, о том и говорю. Браки совершаются на небесах — спору нет! Но я, если угодно, готов вас благословить, дети мои, и с радостью.
— Да, но… — Викентий Алексеевич хотел было поставить старика в известность, что уже женат и, прежде чем заключить новый брак, понадобится претерпеть массу формальностей, однако тот невозмутимо предупредил все объяснения новоиспеченного жениха:
— Я догадываюсь, что вы хотите сказать. Ошибки молодости — хотя какие ваши годы! — нужно исправлять решительно, одним махом! — И он сделал такое движение ладонью в воздухе, будто отсек голову назойливому бесу.
Молли дипломатично молчала, а инвалид тем временем уже заковылял к киоту за семейной святыней.
Так в самый день Рождества Христова в преддверии нового, 1905 года состоялась неожиданно скорая помолвка адвоката Думанского и mademoiselle Савеловой. Для обоих это радостное событие было безусловно главным рождественским чудом года уходящего.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Реинкарнация
Отправиться в преисподнюю собственным путем — неотъемлемое право каждого.
Р. ФростI
Святки выдались необычно холодные для Петербурга: печи и камины в огромной банкирской квартире приходилось протапливать дважды в день. Молли куталась в шерстяную шаль и все равно постоянно зябла, Глаша тихонько посмеивалась над барышней — в Олонецкой губернии, откуда она была родом, такую погоду за мороз не считали, а дядюшка то и дело ворчал:
— Вот у меня в имении так до самого Крещения, и еще считается тепло, зато уж после настоящая стужа хватит — редко кто нос на улицу высунет. Это столичный житель к холодам непривычен: здесь ведь не зима — слякоть и хмарь, инфлюэнца какая-то, словно и не Россия. Правда, в последние годы всюду что-то не то творится — ученые мужи предсказывают какое-то всемирное потепление, изменение климата. Французишки говорят: fin de siecle,[43] все меняется, а я больше нашим прозорливым старцам верю — в Оптиной да в Сарове давно конца света ждут. Все приметы налицо!
— Вам бы, дядюшка, все пугать, — иронизировала Молли. — Общество развивается, появляются новые нравы, вкусы — модой пренебрегать смешно, хотя молитву тоже забывать нельзя, я с вами согласна, но если только и думать об Апокалипсисе — зачем же тогда жить? Вы всё унываете, а может, иногда лучше коньячком себя порадовать?
Дядюшка вздохнул:
— Хватило мне этого зелья в прежние годы. Тебе-то унывать, конечно, не пристало — веруй, надейся и люби, а для меня нынешняя жизнь — сокрушение отчаянное. Прости, Господи!
В один из таких вечеров, когда Молли сидела в гостиной перед пылающим камином, читая любимое с детства «Холодное сердце» Гауфа, явился Викентий Алексеевич. Он был сильно возбужден, напуган. Взгляд его блуждал по комнате.
— Молли, розы погибли? — спросил он испуганно.
Девушка посмотрела на него встревоженно:
— Вчера ходили с дядюшкой на Смоленское… Я отнесла цветы отцу. Себе оставила одну розу — так и стоит, точно вчера с куста срезали, действительно не вянет! Люблю твои розы, я ведь живу ими, когда тебя нет, иногда с ними разговариваю, будто с тобой, но мороз губит все, как бы нам ни хотелось верить в чудесные истории о неувядающих цветах. Знаешь, не дари мне больше столько цветов — достаточно одного. Больно смотреть, как они гибнут. Обещай, что будешь теперь дарить мне только по одной розе! Ты ведь понимаешь меня, правда? Викентий, я должна показать тебе одну вещь, которая не дает мне покоя. К сожалению, после гибели папеньки я была совсем без сил — руки совершенно опустились, я ничего не могла делать. Но когда корреспонденции скопилось слишком много, мне пришлось сделать над собой усилие… Словом, разбирая бумаги, я наткнулась на очень странное письмо — вот оно. Обрати внимание на обратный адрес — Гороховая, пятьдесят шесть. Я сверила номер по «Всему Петербургу», правда, у papa в библиотеке оказался только выпуск трехлетней давности. Именно под этим адресом значился тогда доходный дом князя Мансурова, но он уж год как сгорел! Помнишь, об этом еще писали все газеты? Прошу тебя, прочти прямо сейчас — письмо короткое!
Думанский в смутной тревоге взял протянутый лист дорогой писчей бумаги и прочел вслух:
— «Некоторое время назад вы позволили себе приоткрыть завесу тайны, скрывающей деятельность нашего Братства. Вы злоупотребили нашим доверием, вследствие чего вам вынесен смертный приговор, который может быть отменен в том случае, если вы сами добровольно передадите Ордену все ваши банковские активы. Если же вы вздумаете проявить упрямство, приговор будет приведен в исполнение».
— Помилуй, да это же прямая угроза и шантаж! Прямо судебный вердикт какого-то мистического Ордена! — воскликнул правовед, сразу профессионально оценив красноречивые строки.
— Вовсе нет — какая угроза? — возразила Молли со свойственной ей наивностью. — Это похоже на нелепую, злую шутку. Взгляни на дату, письмо-то отправлено неделю спустя после гибели папеньки.
— Однако же все это весьма странно, — озадаченно произнес Думанский. — Это действительно было достаточно громкое дело. Неужели тот, кто писал письмо, не знал, что адресат уже не числится среди живых?
Теперь уже Молли выглядела растерянной:
— А этот странный значок вместо подписи. Что бы тогда он мог означать?
— Распространенные масонские символы: Всевидящее Око, пирамида и меч карающий. Позволь-ка, я разберусь с этим письмом: им непременно следует серьезно заняться…
— И все-таки, знаешь, мне эти мистические вещи малопонятны, и я не очень-то в них верю… Зря я сейчас об этом вспомнила, совсем не вовремя вырвалось, не давало покоя… Еще этот мрачный Гауф… Ведь Рождество Христово, Святые дни — грешно грустить! Вот что — верни мне лучше эту мерзость, потом делай с ней что угодно, а сейчас не стоит — прошу тебя, милый! — Глаза Молли умоляли не портить праздник.
Думанский грустно улыбнулся:
— Увы, моя госпожа, любую твою просьбу исполнил бы не задумываясь, если бы это касалось только нас двоих, но здесь случай особый. Боюсь, что за этим посланием стоят… м-м… люди, которые способны принести вред не только тебе, нам, — они опасны для всего государственного устройства. Так что прости, но я вынужден отправить «эту мерзость» по инстанции. Будь так добра: принеси мне лист бумаги, перо и чернила, а еще, если есть, почтовый конверт. По крайней мере ты не можешь запретить мне исполнить служебный долг, а я не могу проигнорировать такой тревожный документ, пойми…
— Я все поняла, мой верный рыцарь, — с покорным вздохом кивнула Молли и удалилась, чтобы через считанные минуты вернуться со всем, о чем ее просил Викентий. Он ловко примостился на краю обеденного стола, отогнув угол скатерти, и решительным почерком достойного, уверенного в своей правоте человека ясно изложил соображения по поводу угрожающего письма и стоящих за ним «братьев» из неведомого масонского Ордена с настоятельной просьбой принять все меры к их розыску и аресту. Сложив лист вдвое и присовокупив к нему сам «документ», адвокат аккуратно запечатал все в большой конверт, на котором со значением вывел: «Департамент государственной полиции. Их благородию ротмистру Константину Викторовичу Семенову лично в руки!».
Mademoiselle Савелова все это время молча стояла поодаль — у нее и в мыслях не было чуть подглядеть через плечо и узнать, что пишет Викентий. Воспитание не позволяло, а доверие к дорогому человеку подсказывало: «Значит, так действительно необходимо. Он несомненно знает, что делает».
Спрятав конверт, Викентий Алексеевич теперь уже покорно смотрел на ту, чьи покой и безопасность были для него так дороги, однако было видно, что и ему тоже необходимо выговориться…
— А теперь откровение за откровение — ради Бога, еще немного потерпи! Я тут уже подобрал квартиру и завтра же намерен ее снять, если не найду ничего лучшего и, разумеется, если тебе понравится. Придется — увы! — срочно покинуть мое насиженное гнездо, там дальше просто невозможно находиться… Если бы ты могла представить всю ситуацию… Впрочем, Бог с ней! Не об этом сейчас… Так вот, прихожу смотреть новое жилище (представь, где и хотел — как раз на Фурштатской!) — вижу, что квартира точь-в-точь такая, что привиделась нынче ночью… Будто просыпаюсь от света луны не у себя — все подробности интерьера просто отпечатались в памяти, они и сейчас перед глазами. В мертвяще-бледном, жутковатом сиянии декадентский торшер — бронзовая наяда с плафоном в виде лилии, на стене — «Остров мертвых» Бёклина, парижского издания «Les fleurs du mal»[44] и флакон гранатового стекла с неведомым содержимым на туалетном столике. Лампадка перед миниатюрным киотом в углу едва коптит и лики на иконке неразличимы. Чувствую, как откуда-то из глубины моего существа поднимается сковывающий холод. Куда все катится? Безвольно, неумолимо — в пропасть без дна! И словно откуда-то тянет разлагающимся трупом… Выхожу из дому: на улице пустынно, ни души… Иду проходными дворами. То тупики какие-то, то запертые ворота — и всё незнакомые места! Беспокойство все сильнее. Наконец, упираюсь в какую-то грязную канаву. Кругом помойки, мостовая разбита, фонари газовые коптят, поленницы и дома деревянные покосившиеся, а каменные стены — без окон, с обвалившейся штукатуркой, обнаженный щербатый кирпич цвета сырой говядины… Беспокойство мое перерастает в страх. Догоняю одинокую фигуру — оказалось, тень! Наконец меня охватывает дикий ужас. Открываю глаза и тут же понимаю, что я в собственной спальне: моя синяя лампада горит по-прежнему маленьким спасительным огоньком. Блаженно успокаиваюсь, но что-то не дает снова заснуть. Встал за снотворным — никак не найти. Одеваюсь, легко поворачиваю ключ в замке, выхожу. Воздух морозный, ветра, однако, совсем нет. Еще часа два, три — и рассветет. Решаю пойти к набережной. Иду бесшумно — не слышу звука собственных шагов. Молчаливые дома смотрят недоверчиво, но идти удивительно легко — за следующим поворотом должна быть набережная. Выхожу на пустырь — набережной нет! Иду обратно, но обратной дороги тоже нет: впереди пустырь, сзади глухие дворы. Через пустырь? Но пустырь бесконечен… Выхода нет! Кричу и просыпаюсь от звука собственного голоса. Лампада уже потухла. Успокоился кое-как, но после такого кошмара, с сердцебиением, уже и не хотелось засыпать. Только глаза прикрыл и… На улице тишина, прохожу немного вдоль Невы, сворачиваю через какой-то садик, а квартал опять незнакомый. Стучу в первое попавшееся окно. В другое — никакого ответа. С шага перехожу на бег — и тут просыпаюсь окончательно.
Викентий тоскливо, желая лишь одного — понимания, проговорил:
— Ты знаешь, как давно уже я не причащался? Мне всегда кажется, что я недостоин, плохо готовился, боюсь превратить для себя Высшее Таинство в привычку… Я не приобщаюсь Святых Тайн, не принимаю благодати Божией, отсюда и всякие напасти.
Он опустился на ковер, Молли — подле него, привлекла к себе, положила голову Думанского на колени и, шепча, стала гладить волосы:
— Ну успокойся! Ведь я же просила — оставим теперь о грустном. Ты устал и всюду видишь подвох? Бедный, ты запутался и отчаялся — тебе нужен покой. Я дам тебе покой! Моей веры хватит на двоих, мы всё преодолеем, всё!!! К тебе вернется радость жизни, и ты опять увидишь мир прежним, как в детстве. Это обязательно будет!
Думанский завороженно смотрел на свою воплощенную надежду — в глазах у него стояли слезы, но он улыбался.
— Я готова жить там, где ты сочтешь нужным, — добавила Молли, не отпуская от себя Викентия. — Скажи только, почему ты выбрал именно этот дом? Должно быть, он все-таки какой-то особенный, да?
— Вероятно. А как еще расценивать то, ночное? Понимаешь, мне же снилось, что я уже живу в этой самой квартире! — опять заволновался Думанский. — Я же видел уже все детали, та же планировка… Представляешь, что со мной было, когда я попал туда? В свой сон — наяву… Сама квартира находится в доме Варгунина. Он не так давно построен, может, лет семь назад. Современное здание, такое импозантное, в новомодном стиле. Хотя я в архитектуре профан, но даже меня впечатлило — безусловно, одаренный архитектор строил. Изысканно-красиво и — главное! — во всем чувствуется дух свободы, свежий ветер, что ли, — и снаружи и внутри. Утонченная, хрупкая гармония. Там, на Фурштатской, кстати, еще одно замечательное здание построили…
— Как-как? Здание, говорите, новое отстроили в Фурштатской? — это возвестил о своем прибытии в гостиную дядюшка. — Да, сейчас все строят, выдумывают новшества. «Такожде и якоже бысть во дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, здаху».[45] А потом помните, что было? Потом пролился огненный дождь с неба и погубил всех. А вы говорите «свобода», «хрупкая гармония»! То-то и оно, что хрупкая. Забыли, дражайший, на чем стояли и стоим пока что! «Свобода», «Земля и воля» — тьфу на все эти мерзости!
Викентий и Молли смутились, поднялись с ковра.
Думанский поспешил оправдаться:
— Да вы меня не так поняли! Я же не в социальном смысле о свободе, а в эстетическом.
— Всё одно! — стоял на своем старик, указывая пальцем вверх. — Там будет свобода, а здесь смирение и послушание.
В комнате воцарилась тишина. Наконец Молли неуверенно произнесла:
— Но, дядюшка, вам ведь понравились новые здания на Невском, на Большой Морской, когда мы гуляли вместе. Помните?
— Помню, милая, отчего же не помнить, — согласился было дядюшка. — Только я о другом. Мало ли что нам нравится — глаз-то нас частенько обманывает! Я о том, что люди похожи на здания, где они живут. Вот, к примеру, на фасаде дома узоры, орнаменты разные, но тот, кто в нем проживает, и не подозревает, что душа его подчинена этим знакам. Знаки эти тоже ведь живут своей неведомой жизнью, но тайны свои не открывают, а человек, к примеру, заболеет, потому что орнамент ему не подходит. Но может и разбогатеть. А то возьмет да и убьет кого-нибудь! Нужно внимать, «вникать» — внимайте себе и всему вокруг и поймете, что всё — символ. Человек относится к своему телу так, как его дом относится к нему самому. И то и другое — суть сосуды нашего бытия, как говорят разные там философы, — форма. Впрочем, милые, это я так, к слову, — всё прах и тлен, шуршание звуков и копошение вещей. Знаешь, племянница, мне ведь уже в дорогу пора, дома заждались, да и загостился я здесь. А собираться мне недолго — возьму с собой тряпьишко кое-какое, пару книг да рукописание… Этой ночью поезд; я уж и билет купил.
Молли мгновенно опечалилась — она была совсем не готова к очередному грустному известию.
— Ну почему же так неожиданно, так скоро, милый дядюшка? Чем вам не нравится мой дом? Да и разве вам к спеху — Святые дни вот-вот пройдут, а мы с Викентием собрались пригласить вас в Михайловский театр. Нет, я совсем не хочу, чтобы вы уезжали.
— И правда, будут давать французскую оперетту, — добавил Думанский. — Признаться, я уже абонировал отдельную ложу в бенуаре.
Инвалид был неумолим:
— Спасибо вам, детки, за все, и грех мне на что обижаться. Душно мне в столице, право, невмочь уже, так что не взыщите со старика и помолитесь иногда о спасении моей грешной души. А у тебя, Машенька, теперь совсем другая жизнь будет — все новое. Всему свое время: «Нам время тлеть, а вам цвести».[46]
Молли стало понятно, что дальше возражать бесполезно. Только Викентий Алексеевич с интересом спросил:
— Неужели вы так сразу и уедете — на такой печальной ноте, не приподняв таинственной завесы, скрывающей от всех ваше творчество, не рассказав нам ничего о своих мемуарах? Молли мне как-то говорила, что вы пишете.
— Да, я здесь и вправду немного потрудился. Накропал одну новеллу.
— Новеллу?! Подумать только! Наверняка и об архитектуре в ней не забыли? — не отставал любопытный Думанский.
— Предмет, безусловно, стоит сочинения о нем, да не о всем, любезный, можно писать: напишет что-нибудь иной сочинитель, а оно, это вот самое, глядишь, с ним и произойдет. Сочинительство — дело тонкое. Впрочем, я-то как раз написал бы и об архитектуре, но сейчас не о ней.
— А о чем же?
— О судьбе, милейший, о судьбе. Все, что пишут о судьбе, — в некотором роде мемуары. Есть большая история, а есть судьба человеческая. Вот не мог раньше писать о своих переживаниях — это для меня роскошь. Это удел очень сильных людей, а я духом нищ. Собирал чужие эмоции, как мозаику, а своих чувств раскрыть не мог — боялся: вдруг скажешь не то или сделаешь… Судьба-с! О ней пишу. Пришлось недавно современную войну воочию наблюдать, а теперь вспоминаю: дерзнул описать самое любопытное из того, чему был свидетелем… Не читал никому, потому что тогда еще ничего не закончил, и мысли были как необработанные минералы. Раньше времени читать никак нельзя: я не чужого сглаза боюсь — своего. Не надо детище свое показывать неготовым, беззащитным. Как вы думаете?
— Пожалуй. Хотя мне сложно рассуждать — я ничего не писал, кроме судебных речей, и никогда не задумывался, символичны ли они. Чаще — насколько содержательны… А стихи вы не сочиняете?
— Случается! — вздохнул дядюшка, и было видно, что ему приятно отвечать на заданный вопрос. — Иногда так ритмом увлекусь, что мир вокруг уже вроде и не существует. А то бывает, читаю стихи как прозу, и выходит такое, как если вылить воду из графина на стол: форма исчезает, содержание расплывается, становится плоским и пошлым… Есть грех — что скрывать!
— Так вы уж почитайте нам напоследок хоть что-нибудь, если не устали. Может быть, из новеллы? Ну пожалуйста! — оживилась заинтригованная Молли. — Ну, дядюшка!
Инвалид отрицательно покачал головой:
— И не проси, Машенька! Тяжко мне читать — душа сейчас не лежит, да и слабеть я стал что-то. Да и поторопиться бы нужно — домой пора.
— Вот и чудесно! — нашелся Думанский. — Я сам вас и отвезу на вокзал — меня ждет авто. В нужный час доставлю к поезду, будьте уверены. А пока проявите снисхождение к нашему любопытству — почитайте хоть что-нибудь.
Старик загадочно улыбнулся, задорно потеребил тремя пальцами кончик носа и… сдался:
— Ну уговорили, уговорили! Разве откажешь вам, детки? Это только часть начатой мной новеллы «Бессмертие ради любви». Вот какое название завернул — воистину седина в бороду…
Он взял рукопись, на минуту закрыл глаза, внутренне настраиваясь на неведомую никому душевную волну; глубокомысленно помолчав, приступил наконец к чтению. Даже голос у него изменился — стал какой-то молодой, звонкий.
Поручик Асанов, ротный командир, давно присматривался к этому крепкому солдату из вольноопределяющихся, с аккуратно подстриженной щеточкой черных усов над крупными, похожими на каленый миндаль зубами. С лица его никогда не сходила скептическая улыбка, а прическа всегда имела подчеркнуто аккуратный вид и нарочито выраженный косой пробор. В глазах таилась глубина мысли, и за всем обликом чувствовалась какая-то оригинальная, присущая только ему жизненная позиция. Будучи рядовым, он, однако, совсем не был похож на простого русского мужика, которого мобилизация вырядила в белую полевую косоворотку, налепила на широкие плечи алые погоны с набитыми через трафарет номерами части, туго перетянула свиной кожи ремнем заметный округлый живот и доставила сюда, на край света, вырвав из размеренной, привычной крестьянской жизни, состоящей из многочасовой работы да однообразного сумбурного отдыха по воскресеньям с положенным утренним посещением церкви и обязательным вечерним возлиянием, после которого у всей Богоносной России наутро болит голова и ноют ноги.
Петр Смирнов — так звали вольноопределяющегося — имел спортивное сложение, явно сформированное комплексом упражнений из новомодных руководств по какой-нибудь восточной борьбе или боксу. Ботинок с обмотками, как положено солдату, он не носил, предпочитая им щегольские сапоги офицерского покроя; в постоянную маньчжурскую жару умудрялся следить за собой так, что всегда был гладко выбрит и постоянно источал запах дорогого одеколона. Можно было подумать, что поблизости, в какой-нибудь фанзе,[47] его ожидает загадочная дама сердца. Асановскому воображению представлялась миниатюрная изящная китаянка с кожей цвета мандарина, обжигающим страстно-любопытным взглядом, закутанная в атласный халатик с причудливыми ориентальными узорами или искусно вышитыми пучеглазыми, извивающимися драконами.
Для себя Асанов придумал Смирнову прозвище — «замочек с секретом». «Ничего себе солдатик, — размышлял поручик. — Ему бы на Кавказ лет этак семьдесят назад, на Линию, на Валерик. Явно печоринский тип, хотя тогда скорее сказали бы — байронический. А все-таки печоринский — почвеннее, лучше. Как там, в романе? Кажется, что-то вроде: „Есть этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться необыкновенные вещи“. Ну, это понятно: раз вольноопределяющийся, значит, как минимум, образован и в то же время в армию угодил по каким-то особенным обстоятельствам. Независим и горд, это видно сразу, смел отчаянно. Начитался, наверное, модной зауми. В Бога не верует — это уж точно! Скорее в Его противоположность».
Однажды, когда полк был на марше — после очередной кровавой стычки с японцами, стоившей жизни не одному десятку хороших солдат, — оставшиеся в живых тащились, понуря головы, по знойной степи, и каждый думал о том, что, возможно, догоняет свою собственную гибель… Асанов услышал вдруг одинокий звонкий голос, запевающий народную песню:
То не ветер ветку клонит, Не дубравушка шумит, То мое, мое сердечко стонет, Как осенний лист дрожит.У самого поручика тяжело было на сердце, а тут еще кто-то бередил душу — да ладно бы себе одному, а то ведь всей роте: солдаты уверенно и даже с каким-то отчаянием людей обреченных подхватили вдруг хором. Звучала широко, по-русски, песня о невыносимой кручине, изводящей молодецкое сердце, тоскующее по оставленной где-то далеко милой, но вдруг, в конце второго куплета, оборвалось стройное пение, не выдержали напряжения мучимые тоской души, и только один, все тот же пронзительный, чувственный голос продолжал:
Знать, судил мне Бог с могилой Обвенчаться молодцу.«Как поет, стервец! Все ему нипочем!» — подумал поручик, а солдат довел песню до конца, да еще с какой-то издевкой, с дерзким вызовом року:
Расступись, земля сырая, Дай мне, молодцу, покой, Приюти меня, родная, В теплой келье гробовой!Так и спел — в «теплой», а не в «темной», как полагается: дескать, в подземной «келье» теплее и слаще ему, чем тяжкое земное существование без любви.
Асанов обернулся, выискивая в строю одинокого певца, и почти сразу столкнулся с огненным взором бесшабашно-дерзких глаз, устремленных прямо в палящее небо — глаз Смирнова. Будь на его месте другой солдат, Асанов примерно наказал бы того за пение без команды и падение морального духа, но теперь поручик смолчал, подумав: «Это не замочек с секретом, это просто какой-то черт в табакерке! А песню какую нашел, не жестокий романс — великорусская боль души. Вот уж чего не ожидал!»
В полку Смирнова недолюбливали: вроде свой брат солдат, хотя, конечно, вольноопределяющийся, и получалось — из другой глины слепленный, с барскими привычками и гонором. То шепчет себе что-то под нос, уединившись, нараспев, будто молитвы, да вроде не по-русски — может, стихи какие. То ходит из стороны в сторону, напряженно о чем-то думая, то вдруг рванется куда-то из мужской компании, услышав крепкую окопную брань. Но уж в атаке всякий знал: Смирнов всегда впереди, норовит угодить в самую гущу желтолицей саранчи. В азарте запоет (а он вместе с голосом — был весь одна неколебимая решимость, что не действовать на противника просто не могло), и японцы шарахаются от русского безумца как от прокаженного, но куда там — штык его настигает бегущих, безжалостно вонзаясь в спины.
Надо сказать, что, будучи аккуратистом, Смирнов и дня не мог провести без того, чтобы хоть раз не искупаться, — видимо, это в какой-то мере заменяло ему ванну. Неподалеку от полковых позиций протекала небольшая чистая речка. Вот там-то Смирнов обычно и совершал свои «ритуальные» омовения. Сначала все с иронией наблюдали, как этот нелюдимый упрямец каждое утро ходит к реке и методично выносит на берег камни. Потом сообразили: расчищает дно, чтобы сделать купальню. «Нет чтобы кого взять подмогнуть, а то все сам да сам. Как бы не надорвался, бирюк!» — вполголоса говорили в роте. Асанов тоже был невольным свидетелем его кропотливого труда и молчаливо ждал, чем же все закончится. Через несколько дней, когда купальня была готова, Смирнов сказал взводному фельдфебелю:
— Господин фельдфебель, здесь рядом на речке есть небольшая купальня. Я думаю, в такую жару она может быть кстати личному составу.
В результате весь взвод, а за ним и весь полк азартно, как дети малые, периодически плескался в воде, смывая степную пыль с тела и отмокая душой. С тех пор то и дело кто-нибудь да вспоминал «бирюка» добрым словом.
Вообще, нужно признать, что Смирнов в самом деле был необщителен — видно, думал, что общий язык с кем-либо найти ему будет трудно. Вот с книгами — другое дело. И он коротал свободные часы (их было достаточно из-за неопределенности положения на фронте и осторожных действий командования) за чтением. «Нужно все-таки как-нибудь покороче сойтись с ним, вызвать на разговор, а там посмотрим, что это за вещь в себе», — решил Асанов.
В тот день солдаты N-ского пехотного полка попали в отчаянное положение. На левом фланге группы войск стрелки не выдержали напора сил противника и бросали окопы. Фанатичные японцы, вдобавок накачанные рисовой водкой, наседали без устали, и переправа русских частей генерала 3. через реку Ялу становилась все менее вероятной, а это грозило срывом наступления и постыдным поражением. Командир полка, «слуга царю — отец солдатам»,[48] стоял перед суровым выбором — либо в штыковую прорваться через японскую пехоту на стратегически важную дорогу к Фын-Хуан-Чену, потерять в силе, но доблестно, в традициях русского воинства, добиться цели и не уронить знамени полка, либо сохранить личный состав, рискуя оказаться в позорном окружении.
Полк ждал своей участи. Ждал ее ротный Асанов, ждал и вольноопределяющийся Смирнов. Первый — в офицерском укрытии, второй — сидя неподалеку на бруствере окопа и бесшабашно, с показным, казалось бы, бесстрашием, листая под свист самурайских пуль очередной пухлый том записок философского семинария одного из немецких университетов. Как он умудрялся доставать подобную литературу в маньчжурской глуши, было никому невдомек — на позиции с трудом доходила пресса из столиц, да и то была доступна лишь офицерам, а тут у рядового в руках одно за другим сменяются многомудрые сочинения иноземных философов! «Не иначе чернокнижник!» — шептали солдаты, косясь на Смирнова.
Приближалось утро. В штабной палатке было нестерпимо душно, не спалось, и Асанов — тоже не робкого десятка человек — вышел подышать свежим воздухом, насколько это было возможно в духоту, несколько спадавшую только к ночи, а заодно и понаблюдать за действиями японцев. Перед тем как выйти под обстрел, он мысленно повторил «Живый в помощи Вышняго…»,[49] поцеловал образок святого равноапостольного князя Владимира, из Киева, из самых пещер, — так наказывала ему мать, православная русская женщина, так благословляли на брань мужчин дворянского рода Асановых во всех предыдущих поколениях матери, невесты, жены. Так учила святая вера: «Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него… Не при-идет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему: яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих…» Асанов веровал свято, и до сих пор чужая пуля не приближалась к его телу.
«Великий псалом, — думал он, прислушиваясь к писку разлетавшихся у ног камешков. — Сколько православных людей спас он от неминуемой смерти…» Еще безусым юнкером усвоил Володя дворянскую заповедь: «Душу — Господу, жизнь — Государю, сердце — Даме, честь — никому». Так и был верен ей, ни разу не усомнившись в непреложности рыцарского девиза.
«Эге, а вот и „феномен третьей роты“ — философ в солдатском мундире. Читает, шельма! И пуля его не берет, но тут уж явно что-нибудь от лукавого… Впрочем, вот подходящий повод познакомиться ближе». Здесь, tête-à-tête, когда все, от солдата до полковника, прячутся от смертельно жалящих свинцовых ос, поручик мог забыть о субординации и говорить с подчиненным по душам, как мужчина с мужчиной.
Пригибаясь, он подошел к Смирнову. Хотел было обратиться, как к простому солдату: «братец», да язык не повернулся, и вышло:
— Ну и дела! Здесь ведь постреливают, кажется. А вы, я вижу, в чтение углубились!
— Вольноопределяющийся Смирнов, — неохотно, едва повернув голову в сторону командира, отрапортовал солдат. — Вы что же, ваше благородие, с рядовыми заговариваете, решили поиграть в народность? Таков, кажется, один из непоколебимых столпов нашей государственной доктрины?
Асанов не оскорбился:
— Послушайте, вольноопределяющийся, мы с вами под одними пулями ходим, и ложная гордость здесь ни к чему. Вы мне интересны. Вам достаточно такой причины неуставного обращения? Так чем же это вы, господин Смирнов, так увлеклись, что вам и на пули наплевать? Я давненько за вами наблюдаю. По-моему, жизнь вам не дорога, я угадал? Кстати, меня Владимир Аскольдович зовут.
— Ну вот я уже и «господин»! — скептически улыбнулся Смирнов. Господин Смирнов Петр Станиславович, если вам так угодно. А жизнь — она, знаете ли, штука лукавая. Чья-то — бесценна, а чья-то — гроша ломаного не стоит. И потом, кого-то в первом же бою шальная пуля отрешит от дел земных, а от другого, глядишь, они как от стенки отлетают. Да, кроме того, вас ведь заинтересовал предмет моего чтения? Извольте-с. — И он протянул книгу Асанову. На счастье, Асанов владел немецким свободно. Его не удивило, что столь необычный солдат читает философическую статью об «Эликсирах сатаны» Гофмана.
— Я так и предполагал, что вы, братец, романтик. С душою, как говорил поэт, «прямо геттингенской». Вы поляк, мне кажется.
— Пожалуй, что так. Вернее, мой отец — шляхтич, сторонник польской свободы, был сослан в свое время. Мать — православная, русачка. Что вам еще угодно знать о моем происхождении? — нагловато спросил Смирнов.
— Да не ершитесь вы. Это, право, ни к чему — я уважаю польский гонор, — дружелюбно сказал Асанов. — Мне, откровенно говоря, вообще безразлично, сколько в вас той или иной крови. Скажите лучше: вы сатанист и германофил, а может быть, даже социалист. Слушали курс в одном из университетов, были зачинщиком какой-нибудь обструкции и угодили в солдаты. Так?
— Вовсе нет, — сказал Смирнов, саркастически улыбаясь. — А вы, Владимир Аскольдович, производите впечатление более догадливого человека. Хотя, конечно, если всякого, кто способен читать Гофмана в подлиннике, можно считать поклонником дьявола и германской культуры, то получается как раз то, что вы обо мне думаете.
Асанову было понятно: его ожидания оправдались — в солдате он нашел интересного, задиристого собеседника и, кажется, именно ч…та из табакерки.
— А знаете, господин Смирнов, я так и думал, что у нас с вами разные кредо, мое — от отцов и дедов, как и подобает великороссу, уж не обессудьте за высокопарность, а вот ваши убеждения — от противного, так сказать.
На сей раз Смирнов отвечал суровым молчанием.
— Да вы не обижайтесь! Ведь это я для поддержания разговора. Неприязни тут никакой нет. Моя натура тоже иногда требует чего-нибудь упадочного, мрачноватого, декаданса какого-нибудь. Но, прошу заметить, — иногда, в минуты черной меланхолии. А вы, кстати, кто по роду занятий? Как говорят ваши любимые немцы: «Was sind Sie?»[50]
— Ich bin Soldat![51] — в тон поручику ответил вольноопределяющийся.
Асанов притворился удовлетворенным:
— Ну вот видите: вы мне уже подыгрываете. Я думаю, наш разговор будет интересным. — Но тут же изменил тон на раздраженный: — Бросьте! Все мы здесь солдаты армии Его Величества. Все исполняем свой долг. А в вас я вижу человека, понимаете? Не подчиненную мне бессловесную боевую единицу! Мне интересно, чем вы живете, к чему неравнодушны. Как попали в армию, в конце концов. Я же не такой глупец, чтобы не видеть в вас образованного человека.
— Конечно, вы не дурак, поручик! — Смирнов с осторожной усмешкой посмотрел на офицера: допустим ли столь фамильярный тон?
Тот нетерпеливо кивнул и протянул руку:
— В личной беседе мы теперь на «ты».
— Мне трудно быть на «ты» с человеком, обладающим столь благородным отчеством, — с озадаченным видом медленно произнес вольноопределяющийся.
— Наш род сотни лет служит Царю и Отечеству. Я, не скрываю, горд принадлежностью к своему роду.
Смирнов молчал. Асанов решил, что тот действительно сконфужен и нужно как-то расположить нового знакомца к себе.
— Вы уж, наверное, решили, что я потомок самого легендарного Аскольда? Это не так — мой род значительно моложе, хоть и славен. Да право же, бросьте позерствовать, Петр Станиславович! Я же вижу, вы одиноки и вам нужно, как бы это сказать, исповедаться, что ли. Я, конечно, не священник, но…
— Хотите принять исповедь грешника? — во взгляде Смирнова был вызов.
«Вот так он глядел в небеса, когда пел ту песню в строю», — поймал себя на мысли Асанов.
На некоторое время воцарилась тишина, прерываемая лишь свистом пуль, сливающимся со стрекотом цикад. Офицер и солдат смотрели друг на друга, раздумывая, как себя вести дальше и стоит ли вообще продолжать разговор. Пауза затянулась до неприличия, Асанов хотел было уже вернуться в укрытие и попытаться заснуть хоть на пару часов — до побудки, но вдруг Смирнов заговорил, скрестив на груди руки, словно защищаясь таким образом:
— По материнской линии я ведь тоже из дворян, правда однодворцев, Воронежской губернии. Имение моим предкам пожаловал еще Алексей Михайлович, Тишайший. И предки по этой линии все были тишайшие люди — видимо, c легкой руки Государя. Воспитывала меня мать — святая была женщина. Ни одного дурного слова об отце — борце за польскую вольность, оставившем ее еще беременной существовать на скудный доход от хиреющего имения, — я никогда не слышал. И фамилия, как вы понимаете, у меня от матери. «Веруй в Господа и будь добрым, сынок. Ласковый теленок двух маток сосет», — всегда говорила мне она. — Смирнов ненадолго прервался, закашлявшись. — Не бойтесь, это не чахотка. Нервное. Всегда подкашливаю, когда волнуюсь. Ну так вот, детство прошло в поместье среди яблоневых садов, в окружении женщин — бабушки, теток, матери да няньки. Потом — Елецкая мужская гимназия. Там все и началось. Хотелось чего-то чудесного, волшебного. Зачитывался Новалисом, Байроном, Мюссе. Библиотека в гимназии была старая и мало пополнялась, так что в юности я прошел мимо Золя и Мопассана. Это было уже потом. Уехал в Петербург и сдал экзамены на историко-филологический факультет. Увлекся Шопенгауэром.
— «Мир как воля и представление»! — прервал его Асанов. — Как же! Знаком. Тоже пытался читать, еще юнкером. В нашей среде философов мало читают — и правильно. Ничего я в этой мудрости, признаться, тогда не понял, а жизнь научила, что вся философия — от искусительного человеческого желания приравнять себя к Творцу. Я убежден, что эпоха Возрождения привела Европу к окончательному моральному падению, к нравственному банкротству. Но вернемся к вашей студенческой юности. Наверняка Шопенгауэр сварил в вашей голове такую кашу, что вы ввязались в политику, университетский курс дослушать не пришлось, и вот вы здесь, дворянин в чине рядового?
Вольноопределяющийся Смирнов покраснел, но явно не от стыда. Левая щека его задергалась.
— Владимир Аскольдович, уж если вы хотите узнать меня покороче, прошу впредь меня не перебивать. Насчет исключения из университета вы ошиблись. Курс я закончил и даже диссертацию защитил: «Die Geburt der Tragodie aus der Geiste der Musik»[52] Ницше. Недурно защитил, надо сказать. Предполагали даже опубликовать.
«Вот и до злобного безумца добрались. Этот вообще Христа открыто поносил, — подумал поручик. — Скоро ч…тик из табакерки выскочит. Этакий мелкий бесенок, прости, Господи».
— От публикации я отказался, — продолжал Смирнов. — Тема для меня была исчерпана, так что больше к этому студенческому экзерсису я не возвращался. Вообще, знаете, долго терзался, не знал, как себя применить. Вам, офицерам, легче: закончили училище или там корпус — и служите верой и правдой, извините, до гробовой доски, а нас, гуманитариев, университет выпускает в мир с головой, распухшей от знаний, с уверенностью в своей исключительной талантливости, да только вот, как применить на практике знания и талант, наша alma mater, увы, не учит.
«А он трезво мыслит!» — заметил для себя Асанов.
— В общем, был поиск своего, особого места в жизни, споры и метания, а потом появилась Женщина.
«Это как водится, — подумал Асанов, снисходительно улыбаясь. — Тут-то ты и попался, голубчик. Выходит, все даже намного проще, чем я думал: „…Многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею: дом ея — пути в преисподнюю, нисходящия во внутренния жилища смерти“».[53]
Вольноопределяющийся сделал паузу, переводя дух и размышляя о том, что и как открыть офицеру, не сбившись с мысли:
— Понимаете, я, в сущности, далекий от армии человек. Да, я романтик, мне нравится азарт боя… Нет. Я о другом говорил. В моей жизни появилась Женщина, Первая и Единственная! Меня уж так воспитали: если любишь женщину, то это на всю жизнь — поклоняйся ей, боготвори ее, доходя, если угодно, до безумства, высокого безумства в своей любви. «Человек создан для любви» — так мне говорила покойница матушка. В детстве вся моя любовь была обращена к ней и пестовавшим меня женщинам, а потом… Нельзя сказать, что Она была красива, во всяком случае другим не казалась красавицей, но я готов был вызвать на дуэль любого, кто скажет что-то дурное о Ней.
Я видел в Ней ту подлинную женственность, которую не передать словами, но которая постоянно угадывается во взгляде, жестах, манере говорить, в этой, знаете, непредсказуемости поступков слабой половины человечества. Мне достаточно было обменяться с Ней парой фраз, увидеть Ее глаза, и я уже понял, что между нами возникла незримая, но нерасторжимая связь. Я оказался перед Ней на коленях, в самом буквальном смысле. Я стал влюбленным поэтом, поэтом-слугой… Поручик, вы слыхали о Бертране де Борне?
Асанов грустно улыбнулся — он всегда симпатизировал людям, удостоившимся пережить любовь:
— Бертран де Борн? Хм. Кажется, это какой-то старый французский поэт? Да не волнуйтесь вы так, Петр Станиславович, прошу вас!
Смирнов отрешенно смотрел в лицо року — туда, откуда то и дело вылетал смертоносный свинец, собеседника слушал краем уха.
— Да, в общем, верно. Только не французский, а провансальский. Прованс не принадлежал тогда французам. Там были так называемые трувэры, трубадуры, рыцари-поэты, посвящавшие стихи своей Даме сердца. Бертран де Борн — самый известный из них.
«Да, благородство не скроешь: „Сердце — Даме“. Все-таки дворянин», — заметил про себя Асанов.
— Я гордился своей любовью. Это была, уверяю вас, высокая трагедия… Но теперь я — философ. Я люблю Шеллинга, почитаю Владимира Соловьева. И Ницше, Ницше — как же я мог его забыть? Он по-прежнему мой кумир. Помните, в «Рождении трагедии» он вспоминает дюреровскую гравюру «Рыцарь, смерть и дьявол»? Ницше сравнивал рыцаря с Шопенгауэром. А я вижу себя на месте этого рыцаря, «закованного в броню… с твердым, стальным взглядом, уверенно, но без всякой надежды мчащегося по дороге ужасов…», сопровождаемого с одной стороны смертью, а с другой — дьяволом!
Асанов ужаснулся, он не мог дальше спокойно слушать собеседника:
— Да вы заговариваетесь. Минуту назад вы говорили о любви и вдруг о враге рода человеческого. Как это связано? Может быть, я вас неправильно понял?
Глаза солдата-философа горели.
«Угли какие-то, адские угли, а не глаза!» — подумал поручик, насторожившись.
— Владимир А-а-аскольдович… — Смирнов перешел на полушепот. — Я не заговариваюсь, нет! Я начинаю свою песнь о Любви, любви вечной, любви убийственной — между смертью и дьяволом! Вы думаете, я погибну от пули какого-нибудь ничтожного япошки? Ничуть не бывало. Если мне и суждено погибнуть, то лишь от любви… Я творил эту любовь, или она творила меня как поэта? Но я не погибну никогда. — Смирнов остановился, о чем-то задумавшись.
Асанов почувствовал, как неприятно заныло где-то под ложечкой. «Господи, спаси и сохрани! Точно, бесноватый. Зачем я только с ним связался?» Однако отступать было некуда — поручик не мог позволить себе спасовать. Оставалось только слушать, что же еще выдаст вольноопределяющийся Смирнов.
— Теперь я, кажется, действительно сбился, — удивленно произнес он. — Я обещал рассказать о своей любви. Для меня Она была прекрасна. Хрупкая, словно статуэтка из фарфора. Бывают такие хрупкие фарфоровые танцовщицы — мейсенский бисквит. Глаза Ее были печальны и глубоки, как небесная синева… Вот видите, во мне опять просыпается поэт. Я посвящал Ей сонеты, целые циклы, венки сонетов! Каждый миг нашей с Ней близости… Не улыбайтесь так цинично, поручик, — я не о том! Это была высшая, мистическая близость, и каждый ее миг я бережно выписывал в душе, я огранял его, как искусный ювелир ограняет алмаз или, скажем, изумруд. Я был убежден, что наша с Ней встреча — провидение. Понимаете, мне было явлено чудо Божие! Вы верующий человек, вы должны понять.
— Да, я верующий человек, и я понимаю, но…
Смирнов сделал жест, призывающий собеседника к молчанию:
— Ни слова, прошу вас! Не прерывайте меня — я опять собьюсь. Так вот, Она была очень гордая девушка. Давеча вы приняли меня за поляка и не совсем угадали, а вот Она была настоящая «гоноровая панна». Древнего шляхетского рода, не захудалого какого-нибудь — с сарматской родословной, ее отец был богат сказочно, родовой замок имел где-то в Мазовии. Звали Ее Гражина. Красиво, правда? Даже в имени чудится что-то средневековое, неприступная башня отцовского замка. Она никогда, ни разу не призналась мне в любви, и все же, я всегда буду в этом уверен, — любила меня со свойственной для женщин Ее нации страстностью: неистово, ревностно. Но как Она была горда! Я думаю, из гордости Гражина долго не открывала мне своих чувств. Но я, — Смирнов задыхался, и на лбу его выступила испарина, — я прозрел Ее существо насквозь, потому что мне дан великий дар…
«Бесноватый, маньяк и параноик», — прокомментировал про себя поручик, в душе уже потешаясь над солдатом.
— Я ведь, любезнейший, не только поэт в прямом смысле этого слова. Я прозаик и пишу романы. Читатель упивается моей прозой.
«О Господи! Он еще и графоман». Асанову казалось, что перед ним персонаж трагикомедии, которая вот-вот перерастет в трагифарс.
— Вы известный прозаик? Как интересно. Но я почему-то никогда не слыхал о ваших сочинениях. — Владимиру Аскольдовичу было страшно интересно, что же он услышит в ответ.
— Я бы попросил вас не обижаться, — чуть смутившись, отвечал вольноопределяющийся, — но ведь в военной среде мало читают — печально, но факт. Я нисколько не хочу обидеть вас. Вы несомненно читали мои романы, но дело в том, что печатаюсь я под псевдонимом и, уж простите, вам его не назову.
— Допустим, это так, — удовлетворился Асанов.
— Ничего удивительного в том, что вы мне не доверяете, — я ведь и это чувствую. Я и сам себе не вполне доверяю. Нет-нет да и заговорит во мне такое, что я сам себя не узнаю. Сам временами не понимаю, я это или кто-то другой на моем месте.
«Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!» — мысленно перекрестился обескураженный командир третьей роты, ограждая себя от нечистого в облике собственного подчиненного.
— Когда я написал свой первый роман, — продолжал Смирнов, не обращая внимания на реакцию собеседника, — то была довольно банальная история, скучный сюжет, да дело и не в содержании. Я вдруг заметил, что вымышленное мной — написанное на бумаге — начинает сбываться в реальной жизни. Не удивляйтесь — именно так. Я стал встречать свои персонажи, со мной происходили события, которые я сам придумал и описал! Люди вели себя так, будто они герои моего романа. Действовали, так сказать, по воле моего пера. И тогда я понял, что у меня великий дар. Я — Жизнетворец и Демиург! В общем, нетрудно догадаться, что я написал роман о своей Великой Любви, и героями его стали я и Гражина. Конечно же, Она доверилась мне и ответила взаимностью точно так, как должно было произойти по сюжету.
Асанов произнес в шутливом тоне:
— Петр Станиславович, только я вас попрошу не делать меня персонажем ваших произведений.
В душу поручика уже закралась мучительная тревога.
— А зачем мне это? Я вовсе не намерен писать об армейской жизни и кадровых офицерах: сюжет был бы слишком пресным и прямолинейным, — без тени смущения ответил вольноопределяющийся. Поручик смолчал.
— Так вот. Представьте Гражину, не знавшую до тех пор снисхождения ни к одному мужчине, а вы, конечно, понимаете, что за Ней волочилась вереница поклонников. И вдруг я стал для Нее предметом обожания, все, что я ни делал, казалось Ей совершенным. Каждое мое слово, каждую мысль Она считала чуть ли не гениальной. Таким образом, мои чувства передались Ей, но вот тут-то я, повинуясь моей противоречивой природе, захотел большего. Чувствуя безграничную власть над Гражиной, я стал упиваться этой властью, стал испытывать Ее терпение, доводить Ее чувства до пароксизма. Я стал изменять Ей со случайными женщинами, даже с продажными девками, вызывая приступы неудержимой ревности. Я оскорблял, унижал мою Гражину. Сделал Ее просто игрушкой в своих руках. Знаете, в Нидерландской Индии, на островах, существуют колдуны, обладающие таким даром внушения и властью над выбранными ими людьми, что те, несчастные, становятся марионетками в их руках и готовы, не рассуждая, исполнить любое желание хозяев, даже пойти на преступление. Лишая людей воли, эти властители душ делают их своими рабами.
— Вы хотите сказать, что подчинили себе волю Гражины? — немедленно спросил поручик, уже видя в Смирнове чудовище, но еще не желая в это поверить.
— Мне велела сделать это моя необузданная натура. Я получал от этого наслаждение. Подчинив своей воле Гражину, я стал проводить подобные опыты на других людях, делая их героями моих романов. Романы становились все авантюрнее, скандальнее — публике всегда это нравится. Следовательно, жизнь моя менялась, повинуясь сюжетам: я стал запойно пить, обманывал, пускался в авантюры, предавал близких, и, естественно, мне все сходило с рук. Таким образом, я превратился в вампира страсти, в величайшего злодея и циника.
— А что стало с ней? — вырвалось у Асанова.
— Унизив Ее до предела и насладившись властью над Ней, я вдруг потерял интерес к этой женщине. Она, как вы понимаете, оставить меня не могла, домогалась моего общества, умоляла быть с Ней, устраивала истерики, неистовствовала. И в результате… — Смирнов прервался на мгновение: пуля просвистела у самого его уха — на лице солдата появилась странная гримаса, в которой можно было прочитать одновременно восторг и ужас. — В результате Она лишилась рассудка. И бог, этот бог, в которого вы — о sancta simplicitas![54] — столь истово веруете, не покарал меня, не испепелил, а словно с интересом продолжал наблюдать за моими проделками!
Асанов перекрестился:
— Не испытывайте терпение Божие, безумец! Вам неведома Его безграничность, но вы не знаете также, какая кара может ожидать вас!
— Бросьте! Хватит об этом. Я давно уже не выношу сказок о боге! Они завораживали меня в детстве, но детство кануло в лету. Только Гражина… Знаете, что сделала Она, когда помешалась? Она взяла два обручальных кольца и пошла в православный храм, в Преображенский собор, там, в Петербурге. Но это не важно, что за собор, главное, Она отважилась сменить веру, а ведь тем самым Она запятнала позором свой древний католический род. Так вот, Она пришла к православному попу… (Асанова передернуло от этого слова, но он хотел знать финал истории и не остановил говорящего) и стала умолять того, чтобы он перекрестил Ее и обвенчал со мной. Вы внимательно слушаете? Она хотела, чтобы он обвенчал Ее со мной, когда я уже не желал Ее знать, да и вообще не присутствовал при этом! Поп готов был совершить обряд крещения, но от подобного венчания категорически отказался, как Она его ни умоляла. Не добившись своего, Гражина сама надела на палец кольцо, а второе прислала мне, умоляя носить не снимая, и хотя бы таким образом связать свою судьбу с моей. Я счел это бредом обезумевшей женщины. После моего категорического отказа Она угодила в сумасшедший дом. На этом, казалось бы, все и закончилось, но с некоторых пор меня терзает то ли чувство вины перед Ней, то ли… В общем, я даже не знаю, как это назвать. — Он замолчал, сделав глубокий выдох, словно груз, лежавший на его сердце, стал легче.
— И после этого вы смеете утверждать, что Бога нет? — почти закричал Асанов. — Да разве это чувство, назвать которое вы не хотите, слышите, — можете, но не хотите! — разве это не остаток вашей христианской совести? А те душевные муки, которые вы переживаете, разве это не кара свыше за вашу непомерную гордыню и необузданную страстность?
Поручик впился в Смирнова взглядом. Вольноопределяющийся, кажется, не ожидал, что разговор круто изменит русло, что он перестанет быть хозяином положения. Асанов знал, о чем думает стоящий напротив человек с истерзанной душой.
— Вы любите Ее до сих пор, разве я не прав?
— А что если и так? — вызывающе, сделав агрессивный жест, бросил Смирнов. — Конечно, я люблю Ее и буду любить вечно, но я не боюсь вашего бога и его наказания! «Бог умер»! Помните, чьи это слова?
«И так уже признался, что ницшеанец. Что же еще он хочет доказать?» — размышлял Асанов, а вольноопределяющийся продолжал вещать с каким-то особенным воодушевлением:
— Я уже говорил вам, что моя университетская диссертация была посвящена Ницше. Моего знания немецкого и страстности вполне достаточно, чтобы пропитаться насквозь огненной сладостью его поэзии! Именно поэзии! Немцы считают его поэтом прежде всего, и я счастлив, что стал вернейшим последователем великого провозвестника Заратустры. «Когда-нибудь вы должны будете любить дальше себя! Начните же учиться любить! И оттого вы должны испить горькую чашу вашей любви». Так учил любить Заратустра, и я научился любить дальше себя. «Любить и погибнуть — это согласуется от вечности. Хотеть любви — это значит хотеть также смерти!» Но я пошел дальше своего Великого Учителя — я постиг тайну бессмертия!
Поручик схватил Смирнова за руки и впился глазами в его покрытое капельками пота, истомленное лицо. Уже начинало светать, на востоке розовело зарево. Красивая фигура солдата четко выделялась на фоне предутреннего неба. Обычно тщательно убранные, волосы его были взъерошены, под глазами синели круги, губы запеклись от страсти и кривились в отчаянно-презрительной улыбке.
— Я читал Ницше, — взволнованно заговорил Асанов. — Оставьте вы это, Петр Станиславович! Учтите, эта смертельно ядовитая книга многих уже погубила, и не думайте, что вас минует чаша сия. Опомнитесь, пока не поздно, хотя бы ради вашей любви!
Не отстраняя рук поручика, Смирнов безумно захохотал:
— Ради моей любви! Ради ясновельможной панны Гражины! Да ради этого я и постигал науку жить вечно! Вам известно понятие «метемпсихоза»?[55]
— Что-то греческое, — раздраженно отвечал Асанов. — Не знаю, не вспомню. Да и зачем мне забивать голову всяким сором!
— Эх вы, поручик. — Смирнов был доволен, что хоть на чем-то поймал этого заносчивого офицера. — Вы не знаете, а вот они, желтолицые, — он указал в сторону японских позиций, — усваивают это с детства и поэтому без страха глядят в лицо смерти. Они знают — смерти нет! Я вам больше скажу, я до этого сам додумался, — Смирнов понизил тон, переходя почти на шепот, — души гениев тем более не погибают, они несут мировую мудрость через века…
Асанов распалился еще больше:
— Нет, вы извольте все же ответить без этого декадентского пафоса, ответить по существу — кто вы такой вообще?!
— Значит, еще не поняли… А если так: я — волю определивший и волей определяемый вольно определяющийся. С вас довольно?
— Это опять словесная эквилибристика, я же желаю знать, что за ней стоит! — наседал ротный командир.
Смирнов продолжал парировать:
— А известно ли вам, поручик, кто такой Великий Жрец — Иерофант?[56]
— Вы же сами говорите — жрец. Опять из античности — какой-нибудь греческий оракул, колдун.
— Колдун?! Ну пусть будет так, если вам угодно. Это тот Всесильный Жрец, который видит насквозь любого из нас, и, если его задобрить, расположить к себе, Он может, например, направить судьбу, указать единственно верный путь к намеченной ну, к примеру, вами цели. Повторюсь: Иерофант всесилен и всезнающ, Он читает самое сокровенное в книге души человеческой! Он укажет вам место и время, откуда вы должны начать движение к заветной цели. Возможно, для этого придется заново учиться, потратить на это многие годы, но, если Ему полностью довериться и приложить известные, чаще всего сверхчеловеческие, усилия, искомое будет найдено, вожделенное достигнуто… Конечно не верите? Попытаюсь объяснить доходчивее: допустим, вы жаждете стать министром финансов Империи. Иерофант для начала укажет вам место обучения, после вы снимете «некую», на самом же деле — совершенно определенную, квартиру, потом «случится», что хозяйка дома ни много ни мало «окажется» особой близкой ко Двору, у вас с ней «сами собой» завяжутся тесные отношения, и вы, опять-таки «случайно», попадете на придворный бал, где на вас «неожиданно» обратит внимание вдовая княгиня — статс-дама, она будет много старше Вас, но женитесь вы «отчего-то» непременно на ней, в свой срок сиятельная жена «вдруг» представит вас самой Императорской Чете, а там, в результате «стечения» всех этих «случайных обстоятельств», как вы уже, надеюсь, догадались, месяцем раньше — месяцем позже министерский портфель «сам» упадет к вам в руки. По-моему, выразительная иллюстрация? В моем случае все было еще ясней: любовь Гражины в Вечности к моменту встречи с Иерофантом стала уже не просто главной целью моего существования, но всепоглощающей манией, впиталась мне в кровь и плоть, поэтому Великому Жрецу, которого вы дерзнули назвать колдуном (замечу, Его могущество нисколько не убавится, как бы кто Его ни пытался умалить, и не прибавиться от осанн — он и так всемогущ) оставалось лишь благословить мой путь через войну, через любые преграды и тернии, путь, который я пройду невредимым, что Иерофант и преподал вашему визави, видя перед собой Достойного. И уж тут, простите великодушно, даже если завтра или в другом бою вас вместе со всей ротой вырежут, я в любом случае все же буду единственным, кто останется в живых. Так предначертано Великим Жрецом и Промыслом, ибо у меня особая Миссия Бессмертного — я должен вернуться и непременно вернусь к моей Единственной, моей госпоже Гражине. — Тут Смирнов снова перешел на шепот. — Знаете, Иерофант решительно правит линию судьбы — прямо на ладони… Ну теперь-то вы поняли, что всемогущий Иерофант может сделать вас кем угодно? Хоть английской королевой, хоть царем-батюшкой — у вас приличные шансы! В конце концов. Он просто выправит вашу карму.
— Да вы само исчадие ада! Жалкий «сверхчеловечишка»! Вам понятно? — эти слова вырвались у Асанова непроизвольно, он давно уже думал об этом, но сейчас словно бы сама совесть его произнесла их.
— Да! Нет у меня совести, и честь дворянскую я потерял, но зато я — Гений! Я выше всех, я сам себе суд. Вот мое кредо: «Быть голодным, сильным, одиноким и безбожным». Я истинный подлец, но я лев и поэтому не умру никогда. Так говорил Заратустра, и я в это верую. А в вас тоже чувствуется незаурядная личность — благородная, волевая, неколебимая. Вы только представьте себе, если бы у нас на Руси, где каждый второй — широкая натура, создать легион, когорту, дружину, в конце концов, состоящую из одних талантливых личностей, этаких львов, какая бы это была силища! Помните из истории, у Дария были «непобедимые», у Бонапарта — «старая гвардия», но даже им не всегда сопутствовал успех, потому что они все же были люди заурядные, только пешки в игре диктаторов. Летели как мотыльки на огонь и сгорали, а наша русская дружина гениев была бы вовсе непобедима. Мы подчинили бы себе весь мир, тела и души ничтожных человечков…
— Вы монстр! — бросил Асанов. — На цепь бы вас посадить, подальше от людей.
— И опять вы не угадали, дражайший! Я не монстр, я всего лишь шут, но гениальный. Думаете, я до сих пор стремлюсь ко всем тем безобразным выходкам, о которых вам только что поведал? — вольноопределяющийся уставился на Асанова, ожидая реакции, завораживая его, как талантливый артист публику.
Поручик стоял раскрыв рот, уже совершенно сбитый с толку. Происходившее вокруг, усилившаяся перестрелка — все это творилось словно бы в стороне от обоих. Сумбурный диалог целиком подчинил собеседников.
— Я приехал на позиции не затем, чтобы погибнуть, но чтобы очиститься и возвыситься. Я закалю душу в бою, и пускай сама смерть, которую я презираю, боится меня.
Поручику хотелось закрыть уши, чтобы не слышать этих слов, но какая-то сила сковала его.
— Сейчас я пишу новый роман, главным героем которого буду я сам и мое перерождение. Я стану здесь другим человеком. Столь же гениальным, но без греха, без всей той грязи, что накопилась в душе захудалого дворянина и распутника Петра Станиславовича Смирнова. Душа моя станет, как в детстве, tabula rasa,[57] и вот таким девственно-чистым я вернусь к моей Гражине, к Даме моего сердца, спасу Ее, и мы опять будем вместе!
Смирнов восторженно глядел в небо, как будто видел там свою возлюбленную. Вдруг он опять обжег взглядом Асанова:
— Послушайте, поручик, Владимир Аскольдович, ради всего святого, ради Бога, в которого вы веруете, возьмите револьвер и выпустите в меня пулю, нет, лучше несколько пуль — увидите, со мной ничего не произойдет.
Асанов потерял дар речи. Это был главный и самый страшный подвох, которого можно было ожидать от вольноопределяющегося философа. Поручику оставалось только твердить про себя: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его…»
Смирнов и так мало рассчитывал на удовлетворение своей, мягко говоря, необычной просьбы, теперь же понял, что ничего не добьется от стоящего перед ним человека с непоколебимой верой в Бога, которого сам Смирнов отверг.
— Вы слишком слабы, ваше благородие, чтобы исполнить мою просьбу. Увы. Я ошибся в вас, — в голосе его прозвучало презрительное раздражение. — Да закройте вы рот — пуля влетит.
Поручик почувствовал, что получил пощечину, и едва сдержался, чтобы не ответить на вызов. Он резко повернулся и зашагал обратно в палатку. Смирнов истерически хохотал вслед ему.
«Действительно, бес какой-то. Пропащий человек», — разочарованно думал Асанов, возвращаясь в укрытие в надежде уснуть хотя бы на пару часов. Он потерял всякий интерес к вольноопределяющемуся «студенту».
Отдохнуть ротному не удалось — с восходом солнца японцы бросились в атаку, славя Аматэрасу, великую сияющую богиню, властвующую на небе. Асанов поспешно обулся: он не хотел прибегать к помощи денщика даже в такой ситуации — зачем унижать человека, в общем-то, ради пустяка. Посмотрев на висевший в углу палатки образ Спасителя, скороговоркой, но стараясь проникнуться подлинно высшим смыслом, прочитал он молитву воина: «Спаситель мой! Ты положил за нас душу, дабы спасти нас. Ты заповедал и нам полагать души свои за други своя, за ближних наших. Радостно иду я исполнити святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи меня крепостию и мужеством на одоление врагов наших и даруй ми умрети с твердою верою и надеждою вечной блаженной жизни во Царствии Твоем! Сохрани мя покровом Твоим. Аминь».
Поручик был уверен, что всякий в его роте произносит в эти минуты подобную молитву, всякий, кроме безумного вольноопределяющегося, с которым еще какой-то час назад он беседовал.
«А может, мне это приснилось? — подумалось Асанову, но уже нужно было торопиться на позиции, ко вверенной ему роте. — Это сейчас самое главное — солдаты в атаке должны видеть своего командира впереди».
Рота, сидя в окопах, готовилась достойно встретить противника. Надо сказать, подразделение Асанову досталось образцовое: ражие мужики, с детства привыкшие к тяжелому труду и лишениям. Были здесь крестьяне из-под Гдова — «скобари», как добродушно называли их в роте, — медлительные и с виду туповатые, в деле они были всегда расчетливы и обладали недюжинной силой; было отделение, состоящее из рабочих Верхотурья, — уральцы отличались грамотностью, смекалкой и при этом какой-то особенной богобоязненностью; сибиряков в роте тоже оказалось немало, в основном забайкальцы — их достоинством считалась выносливость, выработанная суровыми зимовками на таежных заимках, были среди них и природные охотники — меткие стрелки, бившие когда-то по кедровникам в глаз белку и соболя, а теперь не жалеющие пуль на неприятеля.
Даже несколько казанских татар было в асановской роте: первое время они держались кучкой, а православные с недоверчивым любопытством наблюдали, как мусульмане совершают ежедневные намазы, склоняясь в земном поклоне в ту сторону, где, по их мнению, должна была находиться Мекка. Их и звали-то поначалу не иначе как «басурманами» — сильна нелюбовь православного человека к поклонникам Магомета. Но в первом же бою татары показали себя отчаянно дерзкими воинами, а потом кто-то из особенно любопытствующих ревнителей веры выяснил у них, что молятся они Аллаху за Великого Царя и за победу Русского воинства. «Мы ведь тоже, считай, русские, бачка!» — говорили они, улыбаясь и показывая ослепительно белые зубы.
Командира роты любили, почитали за своего: никогда солдата не обидит, зря не накажет, не заносится, как другие офицеры. Асанов слышал даже, как один уралец, старый воин, объяснял новобранцу: «Ротный наш — мужик справедливый, совесть християнская у него. Понимает, значить, все под одним Богом и царем ходим — что барин, что мужик. Правильный, значить, ахвицер».
Солдаты ждали командира, а тот, на ходу оправляя амуницию, уже перебежками передвигался по окопу, покрикивая:
— Что приуныли, братцы? Саранчи этой испугались? Не стыдно, солдаты? Вперед, постоим за Царя и Веру! Загоним их за Желтое море, а там и домой!
Асанов уже видел, что рота в замешательстве.
— Так ить, может, ближе подпустим, ваше благородие? А зачнем стрелять, они и сами откатются? — осторожно спросил какой-то рядовой из последнего пополнения.
Другие молча сидели понуря головы, прячась от пуль за бруствером.
Поручик знал, что нужна решительная атака, что разъяренных японцев можно отбросить только в штыковую, и вдруг гулко застучало сердце. «Я должен поднять их в атаку, иначе все пропало. Неужели трушу?» Он почувствовал, что руки и ноги словно свинцом налились, что тело и воля парализованы. «Офицер русской армии, голубая кровь, трус! Чем я лучше этого истерика Смирнова? Не сметь, поручик Асанов!» — злился он на себя.
— Рота, вперед! За Веру, Царя и Отечество! — истошно закричал поручик, но страх приковал его к земле. Солдаты застыли, не отваживаясь покидать окоп. Асанов решил пустить в ход последний аргумент: — В атаку, молодцы! Крест тому, кто первым поднимется и поведет роту!
Рота хмуро молчала. Бесстрашного командира было не узнать. «Почему он сам не хочет вести нас в бой? Что с ним стряслось?» — недоумевали солдаты.
Японцы были уже так близко, что их фанатичный клич «Тэнно банзай!» отчетливо слышался из русских окопов. Холодный пот выступил на лбу Асанова, ноги предательски подкашивались. «Господи, прости меня, грешного! Остается только пулю в лоб, нажму курок, а там…» Рука уже потянулась к кобуре.
То-о-о не ве-е-тер Ве-е-етку клонит! —раздался отчаянный запев, кто-то из солдат, вскочив на бруствер, поднялся в полный рост и побежал вперед с трехлинейкой наперевес. Словно взрывной волной выбросило Асанова из окопа; выдернув шашку из ножен и взметнув ее над головой, он заорал во всю глотку:
— Постоим за Русь Святую, ребята!
А солдаты и так уже подхватили песню. Запевалы очертя голову бросились в атаку, отчаянно горланя, примыкая на ходу штыки к винтовкам. Только теперь, когда самообладание вернулось, Асанов понял, кто поднял роту.
«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Придется представить к Георгию этого безбожника. Ведь надо же — утер мне нос!» — мелькало в мозгу бегущего поручика. Пронзительный голос Смирнова выделялся в общем хоре. Японцы опешили от такого неожиданного, остервенелого сопротивления, сопровождаемого незнакомой им воинственной песней вместо уже привычного русского «ура!». Стороны сошлись, и началась безжалостная резня. В атаку уже поднялся весь полк, но можно было определить на глаз, что противника гораздо больше. Как саранча, заполнили они собой желтую маньчжурскую степь. Казалось, что все пространство, вплоть до дальних сопок, усеяно голубовато-зелеными мундирами. На одного солдата асановской роты приходилось чуть не по десятку желтолицых бестий. Бойцы еле успевали колоть штыком, освобождая пространство вокруг себя, но на смену первым смертникам волной накатывались вторые, не менее дерзкие и тоже жаждавшие умереть во славу своего микадо. Заваривалось страшное месиво.
Асанов боковым зрением едва улавливал происходящее вокруг. Вот слева рухнул с раскроенным ударом офицерского меча черепом старший унтер Завалишин — на сей раз не повезло ему, охотнику на соболя откуда-то из-под Читы, успевшему немало японцев насадить на свой, как он утверждал, заговоренный штык.
«Не помог тебе, унтер, штык!» — подумал поручик, еле успев подставить шашку под меч того же самурая. Над ухом Асанова зазвенело:
— До-о-горю с то-бой и я!
Смирнов с размаху вонзил штык в самую грудь разъяренного японского офицера. Кровь брызнула на Асанова.
— Петр, как вас там… — закричал он. — Вы бы почище работали!
Асанов удивился своему черному юмору — раньше он такого за собой не замечал. Вольноопределяющийся тем временем уложил другого японца, намерившегося было поразить ротного справа, и опять затянул:
— То-о не ве-етер ве-е-етку клонит!
— Да вы что, других песен не знаете? — переводя дух и вытирая катившийся по лицу пот, поинтересовался поручик.
— Когда я в азарте, мне другие на ум нейдут! — откликнулся Смирнов и продолжал петь, усердно отбиваясь от наседавших отовсюду солдат императорской японской пехоты.
Асанов поразился: «Вот уж действительно — ни штык, ни пуля не берут. Всё ему как об стенку горох! Броня у него, что ли, под гимнастеркой? Видно, врагу рода человеческого он действительно зачем-то понадобился».
Тем временем полк редел, а противника все не становилось меньше. Бойцов у Асанова почти не осталось, а те, что еще были живы, — израненные, в гимнастерках, ставших из белых кроваво-бурыми, — сопротивлялись бесчисленным японцам из последних сил.
— Царствие тебе Небесное, третья рота! Прибыло сегодня полку архангельского! — закусывая в кровь губы, простонал ротный командир.
Один Смирнов умудрился до сих пор не получить и царапины — его алые погоны по-прежнему контрастировали с белоснежной, выстиранной накануне форменной косовороткой и такими же идеально чистыми шароварами-галифе.
«Ни единого пятнышка! Крылья бы ему еще — совсем ангел Божий!» — залюбовался солдатом Асанов и тут же поймал себя на безумной, но спасительной мысли. В отчаянные минуты, когда уже не остается никакой реальной надежды на лучшее и человек готов ухватиться за малую тростинку, протянутую ему неведомой силой, он может поверить в самое невероятное. «А что, если, — думал Асанов, — Господь являет мне чудо? Что, если этот, с виду порочный, человек и есть мой ангел-хранитель?»
Теперь поручику казалось Божиим чудом то, что Смирнов, всюду следуя за ним, прикрывает его своим телом, хотя всякому стороннему наблюдателю, будь он свой брат русский или японец, было видно, как поручик Асанов сам старается укрыться за спиной отчаянного красавца солдата. Такова уж природа человеческая — выдавать желаемое за действительное, к тому же так часто реальность оказывается чудеснее самой невероятной окопной байки!
Уверовав в то, что Сам Господь послал ему заступника, командир уже практически не существовавшей третьей роты N-ского пехотного полка вместе со своим певучим «небесным» покровителем героически сдерживал натиск целой роты японцев. Впрочем, сопротивление противник встретил достойное, так что в его рядах бойцов тоже сильно поубавилось.
Прикрытый Смирновым от очередного удара, Асанов увидел вдруг прямо перед собой искаженное воинственной гримасой благородное лицо вражеского офицера.
«Судя по всему, тоже командует у них ротой», — только и успел подумать поручик, как вольноопределяющийся с воплем «Не-е су-удьба мне-е жи-и-ить без ми-лой!» бросился прямо на самурайский меч и, разрубленный смертоносной сталью, рассекающей и волосок в воздухе, захрипев, упал прямо к ногам своего командира. Без сомнения, Смирнов был мертв. Асанов не желал верить случившемуся: «Можно убить меня, но разве ангела Божия можно убить?»
Перед каждым боем Асанов был готов к тому, что на сей раз выбор падет на него. Смерти не страшился — он веровал, что окажется в лучшем мире, потому что на этом свете больше всего боялся сотворить зло — оскорбить кого-нибудь ненароком, сделать другому больно; ему становилось не по себе, когда в сердце его просыпалась ненависть, даже к человеку дурному, но при этом убить врага поручик считал своим долгом — зло должно быть раздавлено, когда сделать это в твоих силах.
Русский офицер Асанов презирал смерть, но в миг, когда сам ангел-хранитель отвернулся от раба Божия Владимира и безносая готова была обрушить на него молниеносный удар самурайского меча, ротный испугался — испугался посмотреть ей в лицо. Он зажмурился, представив, как холодный, бездушный металл единым махом повергнет во прах «кости смиренныя», как его, Асанова, обезображенное тело упадет на труп вольноопределяющегося Смирнова… «И взгремели на павшем доспехи…» — неожиданно всплыла в мозгу таившаяся там с детства ужасная Гомерова строка, но тут же завещанная Богу душа вытеснила ее спасительным: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!» — и страх исчез, сменившись покорностью воле Всевышнего.
Асанов заставил себя сделать шаг вперед, открыть глаза и пошатнулся, но не от смертоносного удара. То, что увидел поручик, было невероятно: японский ротный, который, по всем законам логики и военного искусства, должен был сразить его, повернулся к Асанову спиной и с каким-то остервенением бросился крошить направо и налево своих боевых товарищей! Самурай делал это поистине виртуозно (другое слово недостаточно характеризовало бы его воинскую выучку), приковывая к себя взгляд, и в какой-то краткий миг, когда он поменял положение рук на рукояти и его правая ладонь приоткрылась, русский офицер ощутил несвойственный ему мистический ужас — через всю ладонь, там, где у всякого смертного проходит линия жизни, синел идеально прямой и четкий глубокий шрам!
Внезапно вместо привычного «банзай!» самурай мерзким высоким голосом, почти фальцетом, запел. Русский ротный от неожиданности и из-за жуткого японского акцента не сразу сообразил, что это за воинственный гимн, но когда разобрал слова родной речи, понял: «Песня Смирнова!» Впрочем, приди в этот момент поручику любая другая, самая нелепая, мысль, она потонула бы во всеобъемлющем сознании того, что он спасен, что смерть прошла стороной и в этом бою ему опять повезло. Состояние Асанова было подобно опьянению — он с безумной улыбкой наблюдал за тем, как опешившие японские солдаты в панике бегут от своего командира.
Он не слышал топота копыт, наполнившего воздух, устрашающего гиканья и свиста, победного «ура!» казачьей сотни, в последний момент посланной командованием на выручку истекающему кровью N-скому полку. Поручик пришел в себя, уже когда казаки, упиваясь местью, расправлялись с обескураженными японцами. Он видел, как разгоряченный рысак подмял под себя того самого неистового офицера, который убил Смирнова и чуть было не расправился с самим Асановым, как лихой сотник взмахнул шашкой, и та, чиркнув в воздухе, отправила самурайскую душу в обиталище ее доблестных предшественниц или в тело какого-нибудь только что родившегося японского героя.
Снова раздалась песня Смирнова — на этот раз из уст казака, оборвавшего жизнь японского офицера. Во взгляде и в повадке его проявилось что-то новое, нехарактерное для человека из народа. А может быть, Асанову это лишь привиделось.
«Интересно, что сказал бы об этой смерти вольноопределяющийся Смирнов? — подумалось поручику. — А ведь именно ему я обязан тем, что сейчас думаю, дышу. Какой неуравновешенный, изверившийся был человек, ницшеанец, а погиб, как полагается православному — „живот положив за други своя“. Воистину неисповедимы пути Господни! Царствие Небесное новопреставленному рабу Божию Петру!»
В тот же миг Асанов почувствовал невероятной силы огненно-жгучий толчок в бедро, голова закружилась, перед глазами все поплыло и наконец потонуло в непроницаемом мраке.
Ангел-хранитель не оставил Асанова. Ранен он был легко — пуля прошла через мягкие ткани, не задев кости. Тонкие натуры, даже закаленные многими испытаниями, норой теряют власть над собой в самых непредсказуемых ситуациях, так что сознание покинуло поручика в большей степени из-за психического потрясения. Придя в себя на койке походного лазарета, он, впрочем, довольно скоро обнаружил, что может ходить без посторонней помощи, лишь слегка приволакивая забинтованную, мучительно ноющую правую ногу. Восстанавливая в памяти ход боя, поручик понял, что происходившее помнит смутно. Только одно для него было совершенно ясно, и это одно доставляло Асанову страдания несравнимо большие, чем физическая боль, — третья рота N-ского пехотного полка, честно исполнив свой долг, осталась лежать в маньчжурской степи, обеспечив остаткам части прорыв на дорогу к Фын-Хуан-Чену.
«Господин полковник, наверное, уже отправил победные реляции командующему. Наши уже форсировали Ялу, и генерал 3. теперь готовится телеграфировать о геройских действиях вверенных ему воинских соединений командующему, генералу К., а тот самому Его Императорскому Величеству. Вспомнит ли он при этом моих героев, доложит ли Государю о том, как храбро шли на смерть простые солдаты роты поручика Асанова, как беззаветно оставались верны Богу, Трону и Отчизне? — размышлял Владимир Аскольдович. — Конечно, Император не узнает о том, как погиб за него простой сибирский мужик Завалишин, даже генерал Я. вряд ли узнает. Да что тут говорить, если я сам не помню, как его звали? Но, Господи, имя же его Ты веси! В праведной битве никто не погибает зря! Вспомнят о вас, братцы солдатушки, родные ваши, вспомнят иереи в ектенье, вспомнит вся Русь Святая в своих молитвах. Даже язычники римляне и те говорили: „Deus conservat omnia“,[58] а здесь — всякая жертва во Славу Божию».
От специфического ли запаха йодоформа и непереносимой лазаретной духоты, а может быть, от избытка чувств, клокотавших в душе, но так или иначе поручик выбрался на свет Божий и, рванув ворот мундира, вдохнул полной грудью. Жаркий во всех отношениях день клонился к вечеру, наконец-то повеяло прохладой. Асанов, привыкший к сырой погоде и свежим ветрам невской столицы, всегда плохо переносивший жару, здесь с самого утра только и ждал, когда же зайдет нестерпимо палящее солнце. Почувствовав облегчение, он кое-как доковылял до костра, заманчиво пылавшего в полумраке. Возле огня отдыхали казаки. По усталым, суровым лицам можно было понять, каким нелегким был для них очередной день боевой страды. Асанов молча сел рядом. Из памяти медленно выплывали подробности боя. «А ведь это они окончательно смяли японцев. Вот природные воины! Как всегда, выручили нас… Впрочем, какое там… Меня одного! Что бы им со своей удалью да мощью пораньше вступить в дело…» — Поручик испытал смешанное чувство досады за позднюю помощь и благодарности казакам за собственное спасение. Между тем станичники еще жили сегодняшним боем.
— Эх, дяденьки, ну и досталось же от нас жару этим япошкам! Я сам нонче, вот ей-богу, дюжину зарубил! — хвастался, походя осеняя себя крестным знамением, совсем еще молоденький казачок.
— Однако врать ты, Ваньша, горазд! — крякнул седоусый ветеран. — Мало тебя тятька драл. Тебя послушай, так, почитай, ты сенни всех японцев, будь они неладны, своей шашкой погладил. Куды б нам без Ваньши!
Старик прислушался: кто-то из сотни издевательски хмыкнул, остальным было не до смеха. Бывалый казак сурово добавил:
— И неча почем зря Бога поминать! Сказано: «Не поминай имя Господа Твоего всуе».
После долгой паузы подал голос урядник:
— Тяжко на душе, станишники! Нам-то одна потеха с седла эту мелюзгу лупить, а пехоты сколько сегодня полегло, видали? Вот на кого первый удар-то пришелся. Потом уж, после дела-то, уж на что я бывалый, а и мне ажно смотреть страшно стало: лежат наши братцы православные, кто штыком проколот, кто пулями насквозь прошит, а один солдатик без головы лежал, и все ить вперемешку с желтозадыми этими, тьфу! И как, к примеру, скажите, того болезного отпевать, ежели головы нету? Так, выходит, на том свете душа християнская маяться будет.
— Брось ты, Лохов, нести околесицу! — резко оборвал говорившего рубака-сотник, сидевший тут же, возле своих подчиненных. — Все это бабьи бредни. Не смущай моих молодцов! Вон как славно сегодня поработали! Помни, Лохов, — смелого пуля боится, от него сама смерть бежит, на коне он или в пешем строю — все равно. Отчаянного бойца никакому самураю не убить — он от рождения своей удалью заговоренный. Верно я говорю, орлы?
Казаки одобрительно наперебой забасили:
— Верно, вашбродь!
— Истинная правда!
— Как есть так, господин сотник!
Асанов слушал казачьего офицера, а в его воображении рисовался образ совсем другого человека. «Не может быть!» — сказал себе поручик и стал протирать глаза, отгоняя наваждение.
— Ваше благородие, — опять заговорил неугомонный Лохов, — а как же с солдатиками убитыми, где их-то похоронят?
— Ну и дотошный же ты человек! — раздраженно произнес самоуверенный сотник. — Похоронная команда трупы уже собрала. Я лично за этим наблюдал. Голова, кстати, тоже отыскалась, и ее приставили на место. Так что, как говорят французы, полный ажур, отпоют и похоронят как полагается. — И офицер мерзко рассмеялся, рассчитывая, что станичники поймут его «шутку», но те угрюмо молчали, кто-то даже перекрестился, словно отгоняя беса.
Цинизм сотника задел и Асанова — его невероятная догадка получала все больше доказательств, она в буквальном смысле обрела плоть и кровь. Дрожащим от волнения голосом поручик спросил циника:
— Послушайте, сотник, если вы, как вы выразились, «лично наблюдали» за сбором тел усопших, то должны были обратить внимание — среди них находился один в форме вольноопределяющегося.
— Допустим, что я видел такого, — ответствовал сотник, принял независимую позу, скрестив на груди руки, и обратился к казакам: — Запомните, молодцы, этого пехотного, хм, офицера! Я сегодня своими глазами видел, как этот, с позволения сказать, поручик постыдно бежал от ничтожных япошек, после того как ничего не осталось от его роты. Непростительная для воина слабость воли и духа — позор! Перед вами пример труса, которого пуля, в виде исключения, пощадила.
Русский дворянин Владимир Аскольдович Асанов, никогда не праздновавший труса, был ранен вторично — теперь уже в самое сердце. Усилием воли он сделал шаг к сотнику и бросил ему в лицо:
— Вы не просто лжец, вы законченный подлец!
На мгновенье воцарилась тишина, нарушенная звонкой пощечиной.
Сотник, не ожидавший, что дело примет такой оборот, грязно ругаясь, схватил поручика за горло и, возможно, задушил бы, не вмешайся в дело станичники, молча разнявшие дерущихся офицеров.
Казаки держали своего командира за руки, а тот, вырываясь, кричал истошным голосом:
— Да я вас за это, станичники, мать вашу… Я вас в бараний рог…
Владимира Аскольдовича же обжег презрительным взглядом гордеца-ницшеанца:
— А вы, поручик, потрудитесь набраться смелости и примите мой вызов! Завтра оговорим условия поединка: пуля рассудит, кто из нас истинный подлец, а кто — бессмертный лев.
Дворянин Асанов не верил своим ушам, и хотя он с резким кивком ответил: «Честь имею!» — мозг с трудом воспринимал происходящее, а голова опять поплыла: «Этот гонор, безумный горящий взгляд, это презрение к смерти… Фантом, наваждение или на самом деле… Какова дерзость: конечно, офицерский кодекс обязывает, но ведь, с другой стороны, выходит — казак, простолюдин, почти мужик, вызвал меня на дуэль! А если не совсем казак… Неужели он?!»
Урядник Лохов довел ослабевшего Асанова до лазарета, сказав напоследок:
— Зря вы это, ваше благородие. Не видно, што ль, по нему — дрянь человек, зря связывались. А дерьмо — оно и взаправду не тонет. Вы уж нас, казаков, звиняйте, что так вышло.
Той ночью поручик долго не мог заснуть — чудовищные догадки терзали его, а когда он проваливался в забытье — его мучили кошмары: то за ним, воинственно размахивая самурайским мечом и вопя «Тэнно банзай! Бог умер!», гонялся на поджарой лошадке вольноопределяющийся Смирнов в форме японского офицера, то вдруг всадник превращался в казачьего сотника, с лицом, впрочем, все того же Смирнова, на сей раз украшенным рогами и козлиной бороденкой, — взмыленная лошадь попирала копытами трупы солдат асановской роты, а сотник с шашкой наголо, как испорченная граммофонная пластинка, повторял одну и ту же фразу: «Расступись, земля сырая, дай мне, молодцу, покой!»
Проснулся Асанов лишь к обеденному часу. Голова шла кругом, болела не только раненая нога — страшно ныло все тело, ломило кости. Сердце бедного поручика колотилось, мысли неслись в беспорядке: «Оборотень, бес… Свят, свят, свят еси, Господи… Этого не может быть… исполнь небо и земля славы Твоея… А я ведь обещал крест тому, кто поведет в атаку… слово офицера — закон… Свят, свят, свят еси. Господи… надо подать прошение о посмертном награждении Смирнова… как можно наградить Георгиевским крестом оборотня… Свят, свят, свят… рота погибла, а мне теперь наверняка дадут орден Святого Георгия… Свят, свят, свят еси, Господи… какой стыд и ужас!»
Противоречивый поток сознания поручика был нарушен внезапным появлением урядника Лохова, гаркнувшего с порога:
— Так что, вашбродь, считаю-с долгом доложить! Пошли наши станишники на речку эту, как ее, шут знает как зовется, пошли вот, значить, скупаться — купальня там, на речке-то, ну и нырнул первым сотник наш, обидел што вас вчерась… Ну и нырнул, значить, разбежамшись, а тут как рванет, из воды хвонтан выше собору, што у нас в станице, круги по воде долго шли, и ухи нам позакладывало. Таков взрыв — ужасть! Так что, бають, мина туда приплыла навроде али другой какой снаряд. А откудова там ей взяться — на што япошкам речку ту минировать? Я вот што смекаю, вашбродь, Господь-то — Он все видит! Трупа-то, тела мертвого то ись, не нашли! Всю воду баграми исколобродили — ни хрена, извиняюсь. Был герой, да весь вышел!
Асанову опять стало нехорошо, но теперь он знал — и это пройдет, и рана вскоре затянется. Владимир Аскольдович приподнялся на койке, слабой еще рукой похлопал урядника по плечу, облегченно вздохнул:
— Молись, братец, за убиенного раба Божия Петра!
— Так точно, вашбродь! — козырнул казак и, развернувшись по уставу, мигом выскочил из палатки.
Лохов решил, что поручик повредился в уме — сотника звали Егором.
Закончив чтение, старик, со значением оглядев слушателей, назидательно произнес:
— Sic! А ведь уже совсем поздно, дети мои, — двенадцатый час.
Он удовлетворенно наблюдал за впечатлением, которое произвела новелла на Думанского и Молли. Однако все возможные оценки своего творения решительно пресек:
— Что уж теперь-то рассуждать об этом… Еже писах — писах.[59]
Думанский спохватился:
— Конечно, конечно! Я заслушался и чуть не забыл о вашем отъезде. Не волнуйтесь, подвезу вас, как и обещал. Пойду распоряжусь, чтобы шофер был готов.
На улице правовед опустил в ближайший почтовый ящик письмо жандармскому ротмистру и поспешил вернуться назад.
Вместе с Молли они помогли инвалиду дойти до кабинета, тот не позволил им дотронуться до саквояжа, уже собранного в дорогу, сам бережно уложил в него рукопись.
— Ну теперь и я готов. Совершенно готов!
Думанский и Молли недоуменно переглянулись: произнесено это было с таким облегчением, будто старик все время своего пребывания в доме племянницы только и ждал момента отъезда. Дальше инвалид вел себя тоже по меньшей мере странно: поцеловав Машеньку в лоб, как полагается, благословил ее на прощание, но тут же заговорил о «скором свидании», которое их ожидает.
— Храни вас Бог, дядюшка! — сказала Молли, глядя при этом почему-то на Викентия Алексеевича.
II
Поддерживаемый с одной стороны Думанским, правой рукой опираясь на трость — его подарок, инвалид спустился вниз. Увидев новенькое авто у подъезда, язвительно произнес:
— Вот он — плод развращенного ума! Полюбуйтесь на него! Не чаял я на закате дней своих прокатиться на моторе. Но все же новые впечатления. А сколько же в нем лошадиных сил?
Викентий Алексеевич пожал плечами:
— Я в этом абсолютно ничего не смыслю. Достижениями «технического прогресса» пользуюсь только для удобства, но, вообще-то, не очень им доверяю: на извозчике как-то привычнее, уютнее, что ли.
Он помог старику устроиться на заднем сиденье, бережно укутал пледом его больные ноги.
— Да вы не беспокойтесь так, молодой человек, как-нибудь довезете старую развалину, — мрачно иронизировал дядюшка. — Я ведь люблю выходить заранее, как говорится, с запасом: до моего поезда еще чуть не три часа, так что времени у нас предостаточно.
Думанский отдал распоряжение шоферу: ехать как можно тише, чтобы не беспокоить инвалида быстрой ездой.
Когда отъехали, Думанский задал вопрос, весь вечер не выходивший у него из головы:
— Позвольте все же полюбопытствовать: то, что мы сегодня слышали, эта новелла, — она о вас? Мне кажется, что Асанов — это вы.
Старик сочинитель лукаво улыбнулся:
— Хотите сказать, что некоторую разницу в возрасте между мной и моим героем вы не заметили? Возможно, это был бы деликатный комплимент, будь на моем месте дама, а так… Между прочим, война-то еще идет, а я уж далеко не молод. Ха-ха-ха! Да ведь некий «подлинный», конкретный прототип героя — пустяк, батенька! Важно не быть лишним человеком в этой жизни. Есть такие лишние люди — живая бутафория бытия. Каждого из них в отдельности могло бы и не быть. Они снуют туда-сюда все больше на заднем плане, хотя частенько выбиваются и на передний, конечно не меняя при этом своей сути. Вы, милейший, возможно, и не представляете, как много их вокруг.
— Отчего же. Я над этим задумывался и во многом согласен с вами, — отвечал Думанский. — Только уж вы мне тогда втолкуйте — как определить, лишний вы, то есть я… Словом, лишний человек или нет?
Старик отвечал, продолжая с хитринкой посматривать на собеседника:
— Ничего не нужно определять — нужно взять и изменить… Дом, к примеру, поменять. Обычно мы подбираем и обустраиваем жилище по себе. Я вам больше скажу — и дом выбирает жильца по себе: почувствует не своего и прогонит. Бывают и исключения: если личность не боится себя ломать, даже желает измениться, то и дом себе выберет в соответствии с намерениями. Отшельник — шалаш, а не эрмитаж[60] с разными там удобствами-излишествами. Понимаете? Конечно, это не означает, что во дворце жить просто: представьте себя наедине с огромным пространством. Множество дверей, анфилады зал, высокие своды, множество художественных вещей, непомерно огромные зеркала — и ваши маленькие отражения в них. Голова не кружится? Посему правитель должен быть в своем роде великаном. Высоким и твердым во всех смыслах. Сильнее дома. Вы понимаете, да? И относиться к нему должен всегда как к временному пристанищу. Вот в Японии есть традиция — старший сын дарит отцу гроб на день рождения. Кстати, у нас в нашем просторечии гроб до сих пор называют «домовина». Разве не мудро? Старик должен признать своим новым домом гроб, а отцовский дом признает сына своим хозяином. Тогда человек победил, посмел и сумел себя изменить. Возьмем вашего подзащитного Гуляева, к примеру…
Думанский насторожился.
— Гуляев — кармическая личность. Ведь настоящий авантюрист. Подлинный гений авантюризма! Я читал тогда, во время процесса, вашу речь в газетах — согласен, недругов у него предостаточно. Но ему же все нипочем! А впрочем, одному Богу ведомо, как дальше сложится: гении ведь не умирают.
«Кажется, старик слишком вжился в свои „писания“. О чем это он?» — подумал Викентий Алексеевич, но решил не перечить престарелому философу: пусть себе резонерствует.
— …Конечно, любая личность способна и даже обязана сама себя сформировать, но есть вещи, которые даны нам изначально: год и место рождения, так называемые природные данные… Надо развивать эти задатки и, таким образом, изменяться, оставаясь в главном неизменным. Хотя это, разумеется, вечный философский спор, онтология…[61] В красивом городе живете, — заметил вдруг инвалид, смотря по сторонам, — но красота — одна из самых коварных вещей на этом свете.
Впрочем, позволив себе подобное отступление от темы, он тут же к ней и вернулся:
— Хотите, я приведу конкретный пример, во что способна превратить себя персона, не желающая долго и тягостно мучиться над развитием «природных данных»? Вот человек вырезает линии таланта и жизни на своей руке, создает из себя личность и уже не может умереть… Был один архитектор… Даже не был, а и сейчас жив. Личность всем известная. Человек, я бы сказал, завистливый. Таланта, или как вы, Викентий Алексеевич, изволили выразиться, «природных данных», у него не было, но дар, так сказать, изобразительства ему хотелось получить во что бы то ни стало — не долго думая, он взял бритву и в два счета, без колебаний и сантиментов выправил линию таланта по своему произволению.
— То есть как? Прямо взял и разрезал себе ладонь?! — ужаснулся Думанский.
— Не просто разрезал, а лезвием «нарисовал» на длани другой узор. Художником, правда, так и не стал, зато приобрел способности мошенника.
— Но разве хитростью создают проекты зданий, рисуют, чертят? — не мог взять в толк добропорядочный адвокат. — О, сколько бы тогда было художников на свете!
— Их и так больше, чем вы предполагаете, — тех, кто выдает себя за художников, — грустно заметил старик. — Вот и этот Р. тоже сам не рисовал и не чертил — за него все делали другие… Взгляните-ка, кстати, как раз один из его опусов! — Инвалид тростью указал на какое-то здание, стоявшее по Гороховой перед мостом через Фонтанку. — Обратите внимание, какой занятный доходный дом, а внутри — и вовсе уникальный.
Викентий Алексеевич был заинтригован: впереди высился особняк с образцово-строгим классическим фасадом, конечно, архитектурный памятник, но вполне типичный для Петербурга, а что же внутри?
— И это «строил» Р.?! Да неужели? Так вы говорите — доходный дом? Для доходного все же довольно камерное строение… Я ведь как раз собираюсь снять квартиру, одну даже присмотрел, но не окончательно — еще не дал согласия. А отсюда как раз моя контора недалеко — было бы очень удобно, мог бы и пешком иногда прогуляться. Заманчиво! Хотелось бы зайти внутрь, приглядеться, может быть, полюбопытствуем, раз мы уже здесь?
— Ну что вы, любезный Викентий Алексеевич, времени-то уж скоро полночь, все спят давно.
— А зачем кого-то будить? Совсем не обязательно. Разговор с дворником иногда может дать самую исчерпывающую информацию. Дворник уж точно не спит. По крайней мере, спрошу, есть ли свободные квартиры, какие там удобства и что это может стоить. Мы ведь не опаздываем пока?
— Об этом не беспокойтесь — я еще не забыл, что уезжаю. Если уж такая надобность, можно, пожалуй, и зайти. — Неожиданно старик сам попросил шофера остановиться около здания. — Помогите-ка тогда мне выбраться, батюшка!
Оказавшись на мостовой, инвалид стал оглядываться по сторонам:
— Ночь сегодня просто редкостная: снег, луна, фонари и ни души. Есть в этом что-то жутковатое, не правда ли? Мистика ночи меня всегда привлекала, возбуждала… Смотрите-ка — ворота настежь! Но, впрочем, глупости все это, фантазмы — просто нервишки у меня совсем никуда стали. Вход в дом, помнится, где-то во дворе, а я тут не бывал давненько — боюсь, сразу и не найду. Сделайте одолжение, идите впереди: вы на свежий глаз скорее меня сориентируетесь! Ну как вам здесь — нравится? Что скажете об архитектуре?
— Издали показалось любопытно, а вблизи ничего особенного не нахожу — окна явно узковаты, должно быть, даже днем света недостаточно, и вообще не очень-то приятное здание. И дворника отчего-то не видно… Хотя, честно говоря, в чем-то вы правы — есть в этом стиле нечто интригующее.
— Да уж… Должен признаться, стиль модерн люблю и дышу им как воздухом швейцарских Альп! — дядюшка-графоман снова пустился в разглагольствования. — Но, несмотря на свою изысканную прелесть, причудливость и манерную утонченность, он таит в себе известную опасность для неподготовленных нервов. За примером далеко ходить не надо. Р. сам не избежал его коварного прикровенного воздействия. Погрузившись в новомодный модерн с головой, некоторое время спустя он начал ощущать сильнейшее, просто маниакальное желание свести счеты с жизнью. Причем желание, совершенно ни на чем не основанное! Дела архитектора шли прекрасно, в женщинах, готовых одарить его своей любовью, недостатка не было.
— Может быть, безответная любовь? — осторожно предположил адвокат. — На вершине славы подобное переживается особенно болезненно.
— Полноте! — небрежно перебил его инвалид. — На такие пустяки он бы не стал тратить драгоценное время и силы своей души. Так на чем я остановился? Ах, да: мысли о самоубийстве преследовали его днем и ночью. Он даже видел себя во сне то лежащим в мраморной ванне с перерезанными венами, подобно римскому патрицию, то восседающим на троне с кубком цикуты. А однажды, бесцельно вертя в руках чулок одной из своих пассий, он с ужасом обнаружил, что почти завязал на нем смертельный узел… И все же Р., представьте, изыскал способ избавиться от наваждения.
— Подумать только! Изыскал! Каким же образом? — спросил Думанский, которому этот рассказ в сочетании с видом безлюдной улицы и заброшенного дома уже порядком действовал на нервы.
— А вы не иронизируйте. Одновременно и простым, и сложным — все зависит от того, как посмотреть, — загадочно ответствовал дядюшка. — Я уже говорил, что он разрезал себе ладонь, заодно кардинально изменив линию жизни. После же, когда его стали одолевать мысли о самоубийстве, по совету одного английского месмериста он заказал у одного немца — замечательного скульптора-декоратора — куклу, представляющую собой точную копию его самого. Особенно хорошо удалось лицо: в белой керамике была «вылеплена» даже тонкая ироничная усмешка Р. Куклу архитектор нарядил в свой костюм и повесил в мастерской. Нет, не на стене, в качестве украшения, а на потолочном крюке, как если бы повесился он сам. С того дня мысли о том, как приятно было бы свести счеты с жизнью, оставили его навсегда.
— Вы, кажется, сказали: разрезал ладонь? Не иначе он общался с самим Иерофантом из вашей новеллы… Да-а-с… Представляю себе, что сказал немец, узнав, какое употребление нашли для изготовленной им куклы! — саркастически заметил адвокат.
— Нет, любезнейший, не представляете, — спокойно возразил старик-рассказчик. — Он ничего не узнал: сразу же после того как Р. забрал свой заказ, немец выбросился из окна своей комнаты, с пятого этажа. При этом, вопреки обычной пунктуальности, свойственной германской нации, он не оставил ни завещания, ни даже ценных бумаг… И знаете, Викентий Алексеевич, для нас самое пикантное обстоятельство состоит в том, что дело происходило именно здесь — в доме, у ворот которого мы стоим.
— Не ожидал! По-моему, это замечательно! У нас есть возможность прямо сейчас осмотреть место, где произошло это мистически инспирированное преступление! — воскликнул Думанский, чувствуя, как в нем просыпается некий иррациональный азарт, способный подвигнуть как на взятие в одиночку вражеской батареи, так и на глупую детскую шалость, вроде чайного ситечка, подложенного в бальные туфельки кузины.
— Полно, перестаньте, — попытался урезонить его умудренный опытом старик. — Неподходящее место для прогулок. Напрасно я поддался на ваше предложение остановиться здесь. Вы же видите, там никто давно не живет. Владелец дома разорился от невозможности сдать хотя бы одну квартиру! Самые здоровые люди, стоит там пожить хоть немного, начинают болеть и вскорости умирают. Те же, кто избежал этой участи, гибнут от самых нелепых несчастных случаев. Когда хозяин, пытаясь спасти положение, начал брать минимальную плату, вышло еще хуже: студенты, отставные офицеры и мелкие чиновники мерли как мухи. Будь у нас побольше времени, я привел бы множество поучительных примеров, а так — думал вы сами убедитесь в нелепости ваших планов снять тут жилье, когда окажетесь рядом и почувствуете гибельную атмосферу. Ваша реакция на мой рассказ выглядит просто мальчишеством, Викентий Алексеевич, право же…
— Да бросьте вы! Всё в руце Божией. Вы же христианин, отчего такая приверженность суевериям? А мне вот, например, очень хочется взглянуть, каков дом изнутри. Вдруг стиль таинственного Р. мне понравится.
— Прекратите, не надо, — произнес дядя почти умоляющим тоном. — Поверьте, это вовсе не предмет для шуток. Я уже жалею, что вообще рассказал вам эту историю.
— Вы меня заинтриговали, — продолжал куражиться Думанский. — А что: возьму да и найму его весь целиком! Уж очень удобно для меня — служба в двух шагах, да и район хорош.
— Что верно, то верно, — вынужден был согласиться дядя. — Район просто замечательный. А еще, если посмотреть местоположение этого дома на карте, можно увидеть, что он находится в центральной точке города.
— Вот видите, а вы хотите лишить меня такого зрелища.
С какой-то гусарской лихостью Викентий Алексеевич крикнул из-под арки растерянному шоферу:
— Эй, братец! Ты подожди нас тут еще малость. Когда вернемся, получишь хорошие чаевые. — И устремился во двор.
— Нет, вы туда не пойдете! — воскликнул дядюшка, протестующе замахав руками, и в голосе его послышались драматические нотки. — Ради всего, что вам дорого, ради любви к Машеньке… Я прошу вас не входить в этот дом.
— Да что вы меня удерживаете, как младенца! Можно подумать, вы скрываете там нечто недозволенное, — рассмеялся Думанский, в то же время с удивлением слушая свой собственный голос, отдававшийся эхом в длинной неприветливой подворотне, и спрашивая себя, что такое на него нашло, но ощущение, подобное тому, какое испытываешь, несясь на санках с горы, уже захлестнуло его с головой. — Ну вы как хотите, а я пойду!
— Да ведь теперь ночь, вы ничего не разглядите, и потом — мало ли что там можно встретить. Вдруг в заброшенном здании поселились какие-нибудь бродяги или бешеная собака? Нет, говорю вам, вы туда не пойдете! — Инвалид попытался преградить путь азартному адвокату.
Куда там! Не слушая старика, Думанский широким шагом направился ко внутренним деревянным воротам, которые под действием сквозняка сами распахнулись перед ним, визжа петлями, напомнив крик вспугнутой совы. Дядя, жалобно причитая и тщетно стараясь удержать Викентия Алексеевича от безумной затеи, засеменил следом.
— Ну раз уж вы так хотите, зайдем внутрь: тогда удостоверитесь, что я еще в здравом уме и нисколько не приукрашиваю! А пока дорасскажу-ка я вам историю Р. Ну-с вот, когда объявили конкурс на лучший проект нового Императорского театра, Р. всеми мыслимыми и немыслимыми способами — где подкупом, где лестью, где откровенным обманом, у кого-то пробуждая «чувства добрые» патриотизма, товарищества, дружеское желание помочь, порой же просто играя на низменных страстях, сталкивая людей между собой (психолог был тонкий: знал, какую струнку у кого задеть), — добился наконец, что впечатляющий, можно сказать, гениальный проект создали за него другие. Работало на одного ловкача ни много ни мало, а около пятидесяти архитекторов и конструкторов! Кто создавал образ, кто разрабатывал тектонику, а кто — функцию помещений. Готовые чертежи Р. отнес на конкурс и выиграл! Прославился в мгновение ока, сразу же был пожалован высоким чином и званием придворного архитектора (завидная карьера, не правда ли?), и потом у него, понятно, от заказов отбоя не было.
Энтузиазм, захлестывающий Викентия Алексеевича, немного подутих после такой авантюрной истории, но виду адвокат не подал:
— Веселая шутка. Правда, довольно циничная… Наверное, фельетон очередного бульварного писаки? Ведь вы сами в это не верите, не так ли? А то здание, что вы ищете, во дворе, — его тоже строили разные люди, но авторство, конечно, приписали одному?
Старик обиженно посмотрел на Думанского:
— Шутка?! Да что вы, любезнейший, это все истинная правда, не приукрашенная историками. Р. это засвидетельствовал собственной рукой! Я сам его рукопись читал. Жаль, что книгу он издать не успел, — публичного покаяния не получилось.
Адвокат, резонно решив, что лучше не спорить, так как спором некоторый крен в душевном состоянии старого человека все равно не поправить, тотчас замолчал. Он только пытался все еще разглядеть где-нибудь дворника, но тщетно. Инвалид же все никак не мог оставить волновавшую его тему:
— А двое талантливых москвичей, которые как раз и спланировали здесь внутреннее пространство двора, придумали, как сделать плагиат гениальных творений прошлого, чтобы при этом никто не понял, что перед ним плагиат. Собственно, никакой сложности здесь нет: берется архитектурный шедевр прежних веков, скажем, венецианский Дворец дожей или «Ротонда» Палладио, меняются формы, преображаются детали, а основная ИДЕЯ остается. Согласитесь, что в результате получается нечто новое, даже оригинальное!
Думанский продолжал молчать.
— Так и образовалось новейшее течение в архитектуре — современный стиль, или «модерн», — и получило широкое распространение по всему миру.
Инвалид задумался, потом, как бы очнувшись, произнес:
— Так о чем это я? Ах да! Вы утверждали, что внешний, уличный фасад этого здания ничем не примечателен. Возможно. Но как раз доходный дом, тот, что во дворе, напротив, — очень даже необыкновенный. Он-то как раз и заслуживает самого пристального внимания! Вот, к примеру, снаружи кажется, что у него нет купола…
Думанский заторопился. Архитектурные байки дядюшки-графомана утомили его, да и вся эта затея с ночной прогулкой по заброшенному дому перестала казаться ему забавной:
— Давайте уж наконец осмотрим двор, а то вы все-таки опоздаете на поезд! Посмотрим быстро, да и поедем.
В лунном свете и двор, и внутренний фасад предстали во всем волнующем многообразии таинственного, изысканно чувственного стиля.
— Ну вот, вы видите купол? Ничегошеньки вы не видите, и неудивительно — он не виден ни с одной точки двора, вообще ни с какой точки, а между тем — внутри целая зала с куполом! Занятно? И это как раз яркий образчик современного стиля, уникальный образчик уникального стиля. Здание строили — вы угадали! — разные люди, как и в случае с театром: отсюда такая на первый взгляд несогласованность. На самом деле — сложность, я бы сказал гармоническая, цветущая сложность! Стиль этот и есть символизм, о котором сейчас столько споров в художественных салонах, — его гармония во всем, что сейчас творится в музыке, литературе. Люблю его за свежесть, порывистость, люблю его гибкость, текучесть, загадочность. Чувствую его искусительные чары, подобные наркотическому опьянению, и хотел бы их преодолеть, да не властен — прости, Господи! Но какая фантастическая свобода пластики! Какое все же многоплановое течение, живое. Как простота сочетается в нем с изяществом, скромность — с утонченной изысканностью. Не то что крикливое барокко, которое еще за версту спешит выставить напоказ все свои прелести — как неумная и вульгарная женщина надевает на себя все украшения, какие имеет. Утонченно-гармоничный модерн так теперь распространился с легкой руки Р., что многие строения все еще выходят под его именем! Стиль этот, несомненно, лучше, чем эклектика — совсем никакого стиля, отсутствие всякой стройности. Эклектика — как бездарная мозаика: собрали фрагменты всевозможные, разобрали, опять собрали, да не то — атланты, кариатиды, грифоны какие-то, мавританские орнаменты, безвкусные флюгера и еще ч…т, пардон, Бог знает что! Вот откуда обломки судеб! Впрочем, и у этого дома (а построен он, если мне не изменяет память, лет десять назад) сменилось уже с десяток хозяев — никто здесь не прижился, зато каждый привносил что-то свое! Вездесущий Р. сам сочинял орнаменты в доме, в зале с куполом. Пытался объединить цвет и графику в решении пространства залы, но рисунок с интерьером совсем не сочетался, никакой эстетики! Потом каждый хозяин все пытался закрасить эти узоры, да куда там: стоило только перекрасить стены, как рисунок снова проступал. Так было уже много раз — печать этого пройдохи неизгладима, нестираема! Надеюсь, вы не будете снова настаивать, чтобы осмотреть все самолично?
Викентий Алексеевич, словно одержимый бесом противоречия, вопреки ожиданиям, вновь почувствовал кураж:
— Нет уж, в самом деле, раз хозяев нет, пойдемте посмотрим, что за орнамент такой чудной! Может, еще и сторожа встретим какого-никакого? Ему, кстати, положено фонарь иметь. А нет, так мы и при лунном свете что-нибудь да увидим. И не вздумайте меня больше удерживать, все равно не уговорите!
Куда только не заводит человека любопытство в совокупности с упрямством…
Темно и пусто было в круглой зале, в которую инвалида с адвокатом привел запутанный ход, скрытый за дверью в углу двора. У Викентия Алексеевича возникло ощущение, что он находится в глухом склепе и что мир, оставшийся за его стенами, перестал существовать. Тем неожиданнее был голос дядюшки, гулко прозвучавший под высокими сводами:
— Да-а-а-с! Ни души! Ни звука!
— Такое ощущение, что тут вообще никто не живет, — с плохо скрываемой дрожью в голосе произнес Думанский, застыв на месте. Мысль о том, что дядюшка был прав и все же не стоило сюда заходить, билась в голове подобно осенней мухе о стекло. — Мрак и запустение… Нет, к сожалению, мы здесь ничего не увидим.
Однако, говоря так, Викентий Алексеевич пытался разглядеть помещение — на своде все же бликовал едва заметный млечный свет, так что можно было заметить силуэты двух высоких колонн, поддерживающих свод; обвиваясь вокруг них, наверх вели две лестницы — там, на уровне второго этажа, под потолком, вокруг всей залы непонятно для чего была устроена терраса с баллюстрадой. Взгляд Думанского достиг наконец довольно высокого свода, украшенного орнаментом из каких-то едва различимых снизу символов. «Может быть, когда взгляд привыкнет к темноте, удастся разобраться в этих знаках», — думал адвокат, не отрывая глаз от купола.
В то же время инвалид ковылял по зале, постукивая тростью о камень, пытаясь таким образом ориентироваться в пространстве, и ворчал:
— Ну, что вы видите, любезный? Я-то совсем никуда стал не годен — копошусь, как престарелый крот… За вами, молодыми, не угнаться. Да здесь какое-то…
Внезапно старик издал ужасающий вопль, и тут же Думанский, еще ничего не соображая, услышал стук падающего тела и звуки возни, доносившиеся из центра залы и словно бы откуда-то снизу. Викентий Алексеевич инстинктивно рванулся вперед и только теперь увидел, что в самой середине помещения устроено некое подобие ямы с безупречными очертаниями круга — из нее-то и струился свет, отражаясь в куполе! «Яма» была глубока, и для того, чтобы понять, что же там творится, нужно было подойти к самому ее краю.
Страх сковывал бедного адвоката, и все же он стал медленно приближаться к роковому краю, но вдруг чьи-то пальцы схватили его за шею! Думанский был не настолько тщедушным человеком, чтобы сдаться без сопротивления, — он попытался вырваться из цепких объятий, однако противник не уступал ему в силе. Викентий Алексеевич даже не мог повернуть голову и вдруг не к месту подумал, что все это напоминает игру, когда старый знакомый кладет кому-нибудь на глаза ладони, желая, чтобы тот вспомнил проказника, хотя в данном случае было не до шуток: кто-то явно вознамерился задушить беднягу адвоката. Лишь отчаянным рывком он освободился от рук злодея и сам схватил его, что называется, «за грудки», стараясь заглянуть в лицо.
Даже в царившем полумраке Викентий Алексеевич узнал в нападавшем… Кесарева! Гнев, какого Думанский не испытывал еще никогда в жизни, охватил его: себя он не помнил — все мысли его были проникнуты агрессивной неприязнью к этому отродью, несвежее дыхание и утробный хрип которого казались просто невыносимыми. «До чего же мерзок! Эти крючковатые пальцы, словно когти хищника, — на них кровь Савелова и несчастного Сатина, и Бог знает чья еще! И старика инвалида, несомненно, он свел на дно злополучной „ямы“… Со мной-то ему не удастся так легко справиться! Ведь должен же кто-то покарать этого посланца зла!»
Небывалую уверенность в своих силах почувствовал Викентий — такую уверенность внушает человеку только сознание собственной праведности — и, в тот же миг очутившись в центре залы, со словами «Убирайся туда, откуда пришел!» толкнул Кесарева прямо в зияющий провал. Потеряв равновесие, убийца сорвался вниз, но не ослабил мертвой хватки: Думанский едва успел зацепиться за край «ямы», а Кесарев, вися в воздухе, силился утянуть адвоката за собой.
Викентий Алексеевич поднял голову, надеясь только на чудо свыше, но лишь увидел множество людей в черных балахонах, заполнивших обе лестницы и террасу под куполом. Взгляды их были устремлены вниз и исполнены какой-то холодной торжественности. Их стройный хор бесстрастно-отрешенно выводил на латыни малопонятный причудливый псалом: возбужденное сознание Викентия Алексеевича выхватывало отдельные фразы, славящие Аполлона и Диониса, Орфея, что-то о слиянии Солнца и Луны, Жизни и Смерти, о Кресте и Небесных Розах. Вся эта гремучая смесь символов неожиданно взорвалась экстатическим «Amen!». Тотчас истошный, безумный вопль взвился из жерла «ямы» и беспомощно повис под куполом.
В этот самый миг Кесарев, разжав наконец пальцы, низринулся, как думалось адвокату, в самую преисподнюю. Думанский заставил себя посмотреть вниз: на самом дне провала лежал несчастный инвалид, вернее, это было уже сплошное кровавое месиво, ибо черная толпа человекоподобных тварей упоенно терзала тело старика, еще живого, но уже затихающего и не способного ни к какому сопротивлению. Новоявленные каннибалы, словно голодные стервятники, разрывали страдальца на куски и тут же, с отвратительным чавканьем и хрустом, сопровождающим работу челюстей, пожирали кому что досталось. Последнее, что запомнил ошарашенный Думанский, были обезумевшие, стекленеющие в безответной мольбе глаза и искривленный мукой провал старческого рта.
…Он очнулся на холодном полу «ямы», покрытом уложенной в шахматном порядке черной и белой керамической плиткой. В стороне от середины зала, возле стены, высился массивный семисвечник; свечи уже догорали, так что пол вокруг был в застывших пятнах воска, всюду темнели лужицы еще не успевшей высохнуть крови. Викентий Алексеевич с трудом поднялся — тело ломило.
«Куда бежать? — подумал он. — Как выбраться из этой ловушки?» Оглядевшись, он увидел черный проем в стене. «Потайной ход?» Но из неведомого мрака потянуло таким загробным холодом, что Викентий Алексеевич понял: если он и выйдет отсюда, то только через верх. Думанский побежал вдоль стены, ища какое-нибудь углубление, выбоину, которой можно было бы воспользоваться как опорой, чтобы встать и в конце концов как-то выбраться на край «ямы». Страх подгонял адвоката — он не находил никаких уступов, голова болела и кружилась, а ему казалось, что это купол вращается вокруг своей оси. Думанский стал хвататься за едва выступавшие на поверхности стены ребра кирпичей, пытаясь уцепиться, подтянуться, но только ломал холеные ногти, опять оказываясь на шахматном полу, а высоко над головой, в недосягаемом круге, продолжал вертеться проклятый купол.
Неизвестно, сколько раз повторялись эти отчаянные попытки вырваться из капкана. Викентию Алексеевичу уже слышались минорные звуки колыбельной, перерастающие в дьявольскую какофонию, сознание его переполняли бессвязные стихотворные строки, рой воспоминаний проносился перед ним в бешеном темпе синематографической ленты. Казалось, рассудок вот-вот покинет адвоката. Последним усилием воли он заставил себя перекреститься, и в то же мгновение неукротимый порыв, словно толчок невидимой пружины, вышвырнул его из «ямы»! Вскочив на ноги, Думанский мгновенно сориентировался и бросился в запутанный коридор, которым инвалид привел его в злополучную залу. Вскоре он был уже на свободе — ужас гнал его прочь от проклятого места.
III
Очередной кошмар продолжал мучить Думанского: то перед ним корчилась в отвратительных гримасах обезьяноподобная физиономия Кесарева, то на смену ей являлось обезображенное смертельным испугом лицо престарелого инвалида. Викентий Алексеевич явственно видел Кесарева и дядюшку Молли в заснеженном Юсуповом саду, игравших в футбол чем-то ослепительно светящимся, — адвокат мучительно пытался разобрать, чем именно. При этом, кое-как переваливаясь с ноги на ногу, вспотевший от напряжения дядюшка-инвалид то и дело поддевал непонятный предмет, заменявший мяч, уродливым старым костылем — такого адвокат прежде не видел у старика. Футбол, в свою очередь, сменился сумбурным хороводом видений: в бешеном темпе мозг Думанского осаждали различные изображения Аполлона, рубенсовский Вакх в окружении похотливых вакханок и сатиров, оживающих и хохочущих на все лады, дивноголосый античный юноша-красавец, Орфей, перебирающий струны кифары, — в дьявольском хохоте слышалось произносимое на разные голоса со всевозможными иноязычными акцентами слово «Орфея»; затем вдруг появился масонский идол Бафомет, восседавший на троне, — его Викентий Алексеевич видел однажды на иллюстрации в редкой французской книге; из ниоткуда возник символический орнамент, украшавший купол в таинственной зале, теперь его детали отчетливо просматривались: виньетка состояла из звезд — пятиконечные, нагло смотревшие вверх двумя рожками, переплетались с шестиконечными — в узор были вписаны буквы «А», развернутые циркули, скрещенные отвесы и молоты, перевитые плющом флейты Пана и лиры, а вдоль всей окружности шла непонятная надпись — судя по алфавиту, на древнееврейском языке. Викентий Алексеевич почувствовал, что бесконечный водоворот символов и знаков властно затягивает его в зияющую бездну и он не может сопротивляться этой нечеловеческой силе…
Пробудил Викентия Алексеевича тяжелый дух немытых тел и перегара. Он с трудом поднял отяжелевшие веки — над ним, под закопченным потолком, в табачном дыму висел этот животный смрад и казался почти осязаемым. Убежденный гигиенист, правовед лежал на грязном топчане в каком-то убогом помещении, рядом валялась засаленная, расплющенная подушка без наволочки, в бурых пятнах от раздавленных клопов! Охваченный отвращением, с нарастающим чувством тошноты, Думанский уселся на своем «аскетическом» ложе, обхватив руками голову, которая точно росла и вот-вот готова была лопнуть. «Господи, Господи, как меня занесло в этот вертеп? Неисповедимы пути Твои. Никогда бы не подумал, что окажусь в ночлежке… Сейчас ведь стошнит, чего доброго… Тьфу! Не подцепить бы какую-нибудь гадость… Но какое же убожество! Эти люди вокруг — немытые, нечесаные, нетрезвые… И ведь не тюремный барак — никто их насильно сюда не гнал, спят безмятежным сном… Выходит, им большего в жизни не нужно?! Не понимаю, ничего не понимаю!» Его блуждающий, ищущий хоть какого-то объяснения этому кошмару полубезумный взгляд различил наконец огонек лампадки перед небольшой иконой, почти под самым потолком. Спаситель сострадательно взирал на «человеков», безмолвно благословляя их сон. Викентий Алексеевич поспешил перекреститься — страх Божий охватил его.
Он выбрался на улицу в надежде вдохнуть свежего воздуха, но и здесь пришлось зажать нос — даже ветер был полон миазмами. «Значит, где-то рядом Горячее поле. Ничего не скажешь — места „заповедные“!» — Думанский сориентировался в бескрайнем петербургском пространстве. Ему вспомнились слова покойного инвалида о том, как душно в «столице». Думанскому захотелось помолиться об «убиенном», но вдруг он понял, что даже не знает имени новопреставленного раба Божия. Стало еще тяжелее на сердце — хотелось только скорее умчаться отсюда, очиститься, стряхнуть с себя морок ужасной ночи и найти хоть какое-то успокоение, хотелось забвения…
На счастье, Думанский увидел извозчичьи сани, остановил их отчаянным окриком:
— Эй! Ради Бога, гони в город! В город, да побыстрее. Проклятая вонь!
Внимательно оглядев клиента, охочий до бесед «ванька» попытался поддержать разговор и не спешил:
— Это ишо ничаво! Вот у нас в дяревне…
Викентий Алексеевич нетерпеливо забрался в сани, угрюмо оборвал:
— Молчи, деревня! Тобой пахнет! Гони давай, рубль получишь.
Думанский был доведен до скотства — в другое время он не стал бы грубить извозчику. Возница смотрел на него недоверчиво, но без обиды. Адвокат порылся в карманах, не глядя протянул тому первую попавшуюся кредитку. Ловко спрятав деньги за пазуху, извозчик весело воскликнул:
— Да разве ж я против? Целковый! Эва! За целковый я мигом! — И тронул так, словно у него выросли крылья. Викентий Алексеевич сам почувствовал облегчение, когда сани понесли в сторону Обводного и, подобно пламени свечи, вспыхнула впереди золоченая луковка белоснежной колокольни Новодевичьего монастыря.
Отпустив извозчика возле своего дома, уверенный, что самое страшное позади, Думанский направился к подворотне.
«Приведу себя в надлежащий вид, и тотчас — к Молли. Я должен сообщить о несчастье!» — решил адвокат. Увидев дворника в картузе и фартуке с привычным с детства номером дома на бляхе, Викентий Алексеевич обрадовался старому знакомцу, собрался было пройти во двор, но полновластный хозяин прилегающей к дому территории, подозрительно глядя на адвоката, преградил путь:
— Вы к кому же, господин хороший?
Думанский никак не ожидал такой встречи:
— Как это «к кому»? Что это ты, Василий? Напился, что ли, с утра и своих не узнаешь?!
Дворник обиженно насупился:
— Вы, ваше благородие, господин хороший, может, и барин, и вам с нашим братом можно по всей строгости, но хоть вы культурные, а ни за что ни про что и простого человека обижать не позволено. Я здесь уже сорок годов верой и правдой…
Лоб адвоката покрылся испариной.
— Да ты… Василий, голубчик, ведь я — Викентий Думанский!
— Я Викентия Алексеевича очень даже хорошо знаю, родителей его покойных поминаю. Добрый барин, зря ругаться не станет. Живет у нас, в последнем этаже, верно. Да и дома они сейчас. А вас, сударь, уж извините, не имею чести знать.
Думанский попятился, растерянно разводя руками и шепча:
— Как же это, Василий?
Он остановился в стороне от подворотни, в полнейшем отчаянии: «Да что же такое творится? Уму непостижимо! Всю ночь какой-то бес крутил, а теперь уже и в собственном доме не узнают! Дворник вроде действительно трезв как стеклышко…»
В этот момент Василий проворно распахнул ворота, и на улицу выехал служебный «бенц» Думанского. На заднем сиденье машины сидела супруга адвоката, в меховом капоре, рука об руку с мужем, одетым в то самое пальто и каракулевый «пирожок», что были на Думанском, когда он отправился к Молли.
Викентий Алексеевич кинулся было к автомобилю, пытаясь его остановить, но какое там: оставив на память о себе облачко бензиновых паров, «чудо техники» исчезло за углом. Хватаясь за стены, измученный адвокат побрел вдоль автомобильной колеи. Он глядел себе под ноги, следя за геометрическим узором шин, заметаемым снегом.
Вспомнился другой узор: звезды, циркули… В памяти Думанского оживилась жуткая картина гибели инвалида, поединок на краю провала. Правовед остановился, шатаясь, уставился на свое отражение в витрине какого-то магазина и обомлел: зеркальное стекло отражало растрепанного и запыхавшегося, с безумным блеском в глазах, профессионального вора и убийцу Кесарева!
«А где же я? — подумал Думанский, коченея от ужаса. — Что за дичь? Неужели… Нет, это безумие! Подобная метаморфоза невозможна… Метемпсихозис?! Неужели моя душа теперь обречена жить в теле этого мерзкого субъекта?! Конец! Конец!! Жизни конец!!! Господи, разве так бывает?!» И раб Божий Викентий начал твердить «Верую» — он не желал знать, не хотел верить, что превратился в изгоя Кесарева.
Молитва закончилась, и опять в мозгу всплыло: «Я не Кесарев, но это — не я! Это некое существо, потерявшее человеческий облик. Сейчас бы спасительное омовение, очищение святой водой». Думанский в изнеможении осел на тротуар — его трясло. Викентий Алексеевич поднял к глазам ладони, долго разглядывал пальцы, каждую складочку кожи — это были какие-то неприлично крупные ладони, какие-то лапищи, неухоженные, грубые, пальцы мясистые. Думанский вспомнил хищные когти, вцепившиеся ему в шею: «Руки закоренелого убийцы, а под ногтями еще, возможно, моя кровь! Но ведь это мои руки, раз я их ощущаю? Выходит, я все-таки стал Кесаревым?!» Он отважился опять взглянуть на витрину: лицо в зеркальном отражении было одутловатым, нездорового желтого цвета, правый глаз мутный — Думанский сам чувствовал, что стал хуже видеть: губы были бледные, даже синюшные, во рту какие-то вульгарные коронки желтого металла. Вспомнив о чем-то необыкновенно важном, Викентий Алексеевич стал судорожно ощупывать шею — на нем не было нательного креста!
Ему хотелось плакать. «Креста на мне нет! Какое-то дьявольское наваждение!» Думанский понял, что враг не только отнял у него тело, но посягнул и на самую душу!
Он миновал квартал за кварталом, перекресток за перекрестком, не замечая прохожих, не слыша пронзительных автомобильных клаксонов. Странному прохожему, шепчущему под нос покаянные молитвы, всюду уступали дорогу, извозчики останавливались, почтительно снимали шапки и крестились, как на юродивого.
IV
«Да, у меня теперь мерзкая, грубая харя, но душу-то не отняли, душа-то осталась… Господи, она должна узнать! Непременно должна! Что же тогда за любовь, если ОНА не узнает?! Все сейчас решится, все исправится!» — стучало в голове у несчастного Думанского, когда тот настойчиво звонил в дверь квартиры Савеловых. Минуты ожидания тянулись как часы: «С ней тоже что-то стряслось?! Почему не открывают?»
Стоя по другую сторону двери, Молли в раздумье долго разглядывала медную ручку: стоит ли открывать? Кто там еще может быть? «Для Викентия рановато: дядюшкин поезд должен был отойти, кажется, заполночь, значит, он вернулся домой поздно. У него и так нет привычки вставать рано, а сегодня тем более — конечно же, еще спит. Глаша на рынке, но у нее свой ключ… И звонок-то какой странный — нервический звонок! Ничего не понимаю… А вдруг все же он? Вдруг так и не смог больше оставаться дома?!»
Дверь приоткрылась, и Думанский наконец увидел Молли. Выражение лица девушки являло одновременно панический испуг и праведный гнев. Подобную муку он видел прежде только на трагических античных масках. Убийственная мысль обожгла мозг: «Не узнает!»
— Молли! Моя единственная, мое счастье! Постой, я тебе все объясню!
Не надеясь на действенность своих просьб, Викентий очертя голову бросился в квартиру и заметался, не зная, что делать дальше. «Слава Богу, прислуги дома нет! Эта уже побежала бы за городовым».
Увидев ворвавшегося в дом безумца, Молли мгновенно оцепенела — в одетом с крикливой безвкусицей, свойственной, по ее представлениям, посетителям дешевых рестораций и даже трактиров, взъерошенном субъекте она узнала того самого негодяя, который, обхаживая ее покойного papa, набивался к нему в компаньоны, который, видимо, охотился и на Викентия. Несомненно, это был вор и убийца отца — Кесарев! Такой поворот событий был уже выше ее сил: не произнеся ни единого звука, она упала без чувств.
— Молли!!! — вырвалось у Думанского. Казалось, от его душераздирающего крика, эхом разнесшегося по всем уголкам дома, содрогнулись каменные стены. Несколько ошалевших голубей, громко хлопая крыльями, сорвались с карниза огромного окна гостиной.
Викентий бережно подхватил возлюбленную, отнес ее в спальню, осторожно положил на кровать. «Господи! Где же здесь может быть нашатырь?» — пытался сообразить он, однако вовремя понял, что если приведет бедняжку в чувства, будет только хуже: он теперь для нее Кесарев и никто другой. Внезапно хлопнула входная дверь.
— Барышня! Это я! — раздался голос Глаши. — Чегой-то у нас все настежь?
«Ну вот и прислуга…» Адвокат замер, прислушался. Слышно было, как горничная прошла на кухню, что-то тяжело опустилось на пол, вероятно, хозяйственная корзина:
— Ау! Марь Сергевна, где вы?
Улучив момент, Думанский, незамеченный, стрелой вылетел в прихожую, оттуда на лестницу и только в подъезде перевел дух, стараясь умерить бег, чтобы со двора выйти спокойным шагом.
«Господи, Господи, изыми мя из объятий диавольских!» — умолял Викентий Алексеевич, скованный кесаревской плотью. Душа его рвалась в храм. Непременно в Преображенский собор, который Думанский считал своим приходом, хоть в суете и бывал там нечасто, к тому же теперь это имело для него особое мистическое значение.
«Господь предстал на Фаворе перед учениками в Своем подлинном, Божественном обличье. Может быть, Он и меня сделает прежним, подлинным? Избавит от безобразной личины? Ведь Он всемогущ!» — втайне надеялся Думанский. Влекомый надеждой на спасение, он и сам не заметил, как оказался на площади перед белоснежным, классических пропорций собором, окруженным причудливой оградой из позеленевших от времени пушечных стволов, увенчанных золочеными имперскими орлами.
Литургию уже отслужили, и около храма почти никого не было, только хромой нищий медленно пробирался от паперти к воротам да девочка лет шести, в светлой беличьей шубке и капоре, осторожно ступала на те места, где снег был не затоптан, а потом внимательно разглядывала миниатюрные следы, оставленные ее маленькими ботиками. Викентию Алексеевичу почему-то было интересно наблюдать за этой забавной девчушкой. Девочка что-то искала, комически семеня кукольными ножками, и наконец, подобрав веточку, принялась старательно рисовать на чистом снегу.
Викентий Алексеевич подошел поближе, распознал в изображении упрощенные контуры собора: стены, вход, большой округлый купол и малые главки по углам.
«Детский рисунок обычно не так-то просто понять. Значит, я еще не совсем спятил», — подумал Думанский, и ему стало легче. Девочку что-то беспокоило: она пыталась дотянуться палочкой до верхнего края рисунка, но рост не позволял, а испортить свое «творение», наступив на него, она не хотела. По сторонам же снег для нее был слишком глубок. Заметив рядом взрослого дядю, она вопросительно посмотрела на него, а когда тот улыбнулся в ответ, доверчиво протянула ему свою веточку. Викентий Алексеевич дрожащей рукой начертал над куполом восьмиконечный православный крест.
«Я же без креста! — тотчас вспомнил он. — Нужно непременно купить крест!»
— Спасибо, дяденька! — бойко произнесла девчушка, а после осторожно спросила: — А почему у вас ручки дрожат?
— Холодно! — прошептал Думанский, но тут же устыдился своего вранья. — Что-то мне не по себе, деточка… А как тебя зовут?
Маленькая барышня взяла назад «перо», крупными печатными буквами аккуратно вывела по белоснежной поверхности: «Ира». Потом застенчиво протянула палочку Думанскому:
— А теперь ваша очередь!
Он повиновался и написал рядом: «Викентий». «Отчего буквы выглядят так непривычно? Ах да, их сейчас выводит чужая рука… Даже почерк этой сволочи — и тот мне передался!»
Девочка прочитала вслух по слогам и вся просияла:
— А я знаю! Был такой мученик. Мне мама житие читала! Святая Ирина тоже мученица, ее имя значит «мир»… А когда день вашего ангела?
Викентий Алексеевич еще больше заволновался — голова его кружилась.
— Осенью мои именины.
— Пойдемте с нами, дядя! — совсем осмелела девочка. — Вон моя мама с сестрицей гуляют. Мы ее сегодня хотим покрестить!
Возле входа в храм стояла скромно одетая дама с укутанным младенцем на руках и внимательно читала какие-то объявления по приходу, вывешенные на соборных дверях.
— Зачем же я с вами пойду? — грустно спросил Думанский бойкую девчушку, а та, кокетливо чертя по снегу своей маленькой ножкой, выговорила:
— Ну-у, вот я стану больша-а-я… И ты женишься на мне!
«Святая простота!» — поразился Викентий Алексеевич.
— Когда ты станешь большая, я буду совсем старый и совсем противный.
— Она же этого не поймет… — так, словно разговаривал сам с собой, пробурчал под нос ковылявший мимо нищий.
— А вот и нет! — капризно произнесла девочка, топнув ножкой на противного старика. — Дядя всегда будет такой!
Хромой шарахнулся в сторону, а Думанский испуганно переспросил:
— Какой?!
— Красивый и умный! — не задумываясь, выпалила девчушка.
Несчастный адвокат был так растроган, что хотел погладить дитя по головке, но услышал недовольный женский голос:
— Ты что же это, Ирочка? Я сколько раз тебе наказывала — нельзя с чужими разговаривать! Пойдем сейчас же!
Ирочка надула губки, но повиновалась матери. Та властно взяла дочку за руку и повела ее в собор, мимоходом бросив на оборванного старика нищего и заросшего щетиной помятого субъекта сердитый взгляд.
Думанский инстинктивно рванулся за ними в храм. Сотворив три земных поклона у входа, он устремился к свечной лавке. «Сейчас я наконец куплю крестик, поставлю свечу празднику, и, может быть, наваждение пройдет»?!
Надев святой крест, с зажатой в руке самой дорогой свечой, Викентий Алексеевич направился к праздничному аналою. Сильно билось сердце. Приложившись к иконе Преображения, он с отчаянной надеждой глянул в зеркальную поверхность киота. Из стекла на него пялилась ненавистная кесаревская физиономия!
— Да что же это за че…вщина! — невольно вслух вырвалось у несчастного. Он спешно перекрестился, в страхе посмотрел по сторонам — не слышал ли кто? В это время из распахнувшейся алтарной двери медленно выплывал грузный, с копной серебристых курчавых волос батюшка. Важно поправляя на мощной переносице пенсне в золотой оправе, и, как-то нехорошо, самодовольно улыбаясь, он не спеша направился в северный придел. Священник явно слышал восклицание Думанского и, задержавшись возле него, иронически произнес:
— Ну что уставился, голубчик? Не можешь понять, куда попал? Храм это, дом молитвы, и никакой че…вщины здесь нету — нечего тут бояться, батенька!
От такого «пастырского утешения» Викентия Алексеевича передернуло. «Господи, может, мне все это снится»? Едва передвигая отяжелевшие ноги, он направился за священником, игриво — именно так показалось Думанскому — напевавшему рождественский тропарь.
«Батенька», как про себя назвал его адвокат, подошел к матери шустрой девочки и деловито осведомился:
— Ну что, мамаша, младенца-то как будем крестить?
Женщина несколько оробела:
— Да собрались было Фотинией, если благословите, батюшка…
Иерей тяжело вздохнул:
— Нетерпеливая какая! Уж и благослови ее сразу… Не о том речь. Как окунать будем — пяточной или целиком?
— Как благословите… Как положено, батюшка, — повторила женщина. В глазах ее читалось недоумение.
«Первый раз слышу, чтобы крестили неполным погружением. Это у католиков, что ли, такой обряд?» — подумалось Думанскому.
«Батенька» едва сдерживал раздражение, но ответил нарочито спокойно, лишь стекла очков грозно блеснули:
— За первое — пять целковых положено, за второе — полсотни. Ясно, непонятливая моя?
Лицо бедной женщины залил густой румянец.
— Как же так, батюшка? Это же невозможно! Пятьдесят рублей — месячное жалование моего супруга… Простите, у нас сейчас нет таких денег…
Она растерялась, хотела было уйти ни с чем, но Ирочка заплакала, что-то зашептала, держась за материнский подол. Тогда женщина смиренно обратилась к священнику, склонив голову и сложив ладони, как следует:
— Благословите, батюшка, в обратный путь.
Священник, не глядя на прихожанку, спешно помахал перстами в воздухе, брезгливо протянул руку для поцелуя, уже всецело занятый своими мыслями.
К нему подвели тучную барыню в дорогом салопе, толстые пальцы ее были унизаны дорогими перстнями. «Батенька» сразу переменился в лице, заулыбался, посторонился, уступая место важной особе, участливо спросил:
— Что стряслось, моя милая?
С трудом переводя дух, барыня начала исповедоваться:
— Я вот, отец мой, больно уж чревоугодлива. Покушать люблю не в меру. Уж так грешна, в Великий пост все мясцо вкушаю, даже на Страстной. И в Филиппов… В пост-то оно ведь дешевле. И все тучнею и тучнею… Что делать-то, отец мой? Уж освободите от греха, я не поскуплюсь.
«Отец» осклабился:
— Ну, с кем не бывает, все мы люди грешные. Пост-то он, конечно, от Бога, но вот говорят ученые люди, у каждого свой пост — каждый организм сам чувствует, когда ему голодать, когда насыщаться. Правду сказать, в нашем сословии многие тоже греху такому ох как подвержены! Я и сам слаб. Свининка-то, она и в пост сладкая, хе-хе…
А ты иди, милая, с миром и не слушай никого — отпускаю и разрешаю! Святки ж на дворе — разговляйся себе в удовольствие…
Довольная барыня протянула слуге Божию красненькую, он проворно спрятал ее в бездонные недра подрясника.
Внутри у Думанского все кипело. «Что делается. В Божьем-то храме! Какой позор на Святой Руси! До чего дошло!».
Тем временем к иерею за советом спешил уже другой страждущий, по виду — простой мастеровой, но аккуратный, в чистой белой косоворотке.
— Вы вот объясните мне, батюшка, недостойному, какой я великий грех совершил? Прихожу намедни на Пустой рынок, а там такая ситуяция: стоит торговец (басурманской веры-то, сразу видно!), торгует мандаринами — к Рождеству Христову самый фрухт! Вижу, подходит к нему земляк, что ли, какой, такой же чернявый. Покричали чего-то они по-своему — они ведь всегда громко так говорят, будто и народу вокруг нет, — ударили по рукам, обнялись, и, смотрю, торговец-то своему, почитай, полпуда мандаринов то ли за красивые глаза, то ли за медяки какие отсыпал. Вдругорядь такой же абрек подошел к нему, и опять он ему все, почитай, задаром. Дай, думаю, посмотрю, что дальше будет. Подошла к нему баба наша русская, статная; он на нее так и зыркает, огонь в глазах. Та говорит, мол, дай, милок, фрухтов своих с фунт, а он ей и отвечает: «Мандарины сладкие, сочные, дорогая! Я по вашему плохо понимай. За пять рублев ради вашего праздника бери!» Тут меня злость взяла. Ах ты, думаю, нехристь такой! Пять целковых за фунт фрухтов?! Зря, что ли, мой дед с Ермоловым вас усмирял? Ну, не сдержался я — и прямо в харю, простите, батюшка, в физиогномию типу этому. Он как начал ругаться по-своему. Я ему — еще на орехи.
«Батенька», краснея и пыхтя, с трудом слушал «грешника» и наконец оборвал его:
— Скверно ты поступил. Грех-то какой большой! Человека по лицу, по образу, можно сказать, Божию! Господь всех велел любить, невзирая на нацию, — все для него равны, и плохие, и хорошие, и черненькие, и беленькие. Вот вы… — он замялся, поправился, — мы, русские, большой грех имеем — нет у нас братской любви к евреям. А за что? Всюду их, несчастных, гонят, презирают, а они ведь никого никогда не обидят… — Он вдруг обратился к Думанскому: — Вот ты видел, чтобы еврей когда-нибудь муху обидел?
Викентий Алексеевич молчал: он был не склонен спорить, да и на самом деле ему не приходилось видеть еврея, обижающего муху.
— Ответствуй! — рыкнул иерей.
— Не видел, — тихо прошептал Викентий Алексеевич.
— Вот и я говорю, не бывало такого! — довольно констатировал «батенька». — И вообще, сам Христос кто был? Правильно, еврей! Так что иди-ка ты, братец, — «батенька» обратился опять к мастеровому, — и подумай о своей заблудшей душе. Мерзок ты мне — отлучаю от причастия на полгода.
— Где ж это видано! — вырвалось вполголоса у кого-то из прихожан.
Отчитанный мастеровой, озадаченно почесывая затылок, отошел к образам:
— Не пойму я чего-то…
В это время внезапно широко распахнулись соборные двери, так, что с улицы в притвор ворвался холодный январский ветер, а вместе с ним ватага одетых во что попало настоящих босяков. От них шел невыносимый дух, и вели себя «случайные» прихожане безо всяких церемоний — ругались, хохотали, кто-то даже шапку не снял.
«Батенька» вдруг со всех ног бросился к ним. «Ну, этих-то он должен приструнить», — понадеялся Думанский.
— Мир вам! — возопил священник. — Ну что, решили? Снимаете помещение на ночлег? Места всем хватит — платили бы исправно… Да смотрите, ничего не утащите, знаю я вашего брата, греха с вами не оберешься! — И он погрозил всей честной компании пальцем.
«О чем это он?» — насторожился адвокат.
Тем временем оборванцы окружили священника и загалдели на разные голоса:
— Щас шляпу по кругу пустим, и порядок!
— Плевое дело!
— А вы нас, отче, часом не надуете?
— Какое там, этот батька свой в доску! Будем теперича со святыми спать! Ха-ха!
— Ну, отец Давид, гляди не подведи!
Викентий Алексеевич не желал верить своим ушам. Кто-то из прихожан, невольных свидетелей сделки, осторожно спросил:
— Это как же, батюшка, храм Божий бродягам под ночлежку сдаете?
Отец Давид ничтоже сумняшеся ответствовал:
— Истинно так! А что здесь дурного? Сам Спаситель велел призирать убогих, с прокаженными возлежал и вкушал, а Он был без греха. Устыдитесь!
«А ведь действительно, ночлежный дом — заведение богоугодное», — подумалось вдруг Викентию Алексеевичу, и он со страхом почувствовал, что в голове опять неразбериха. Перед глазами все поплыло: образа, лампады, неструганые нары ночлежки на Забалканском, узоры под куполом ротонды… Сквозь какую-то пелену он услышал голос отца Давида:
— Уведите этого! Стоит тут уже полчаса как помешанный, еще припадок его хватит — хлопот не оберемся… А вернее всего, пьян как свинья. Выпроводите его, говорю же!
Какой-то шустрый мужичонка с хищным ястребиным носом и буйной черной растительностью по всему лицу схватил приват-доцента юриспруденции за шиворот и насильно потащил за церковную ограду.
На воздухе Викентию Алексеевичу сразу стало лучше. Он почувствовал себя увереннее, хотя сердце бешено колотилось и ни о каком успокоении речи быть не могло. Думанский оттолкнул от себя наглого босяка и стал рассматривать афишу, приклеенную прямо на стену соборной часовни, видимо, с благословения настоятеля. Огромный лист бумаги пестрел крупными стилизованными буквами:
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЗРЕЛИЩЕ В НОВЕЙШЕМ СТИЛЕ!
ШЕДЕВР СИНЕМАТОГРАФА
6 января
В саду «Аквариум» проводится ЕДИНСТВЕННЫЙ в Петербурге сеанс новой американской фильмы
ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА
Увлекательнейший сюжет с пикантными сценами из земной жизни Иисуса Христа покорил публику Старого и Нового Света.
Продажа билетов в кассах сада.
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
Разгневанный правовед бросился срывать мерзкую афишку, но бумага, тщательно приклеенная, словно вросла в штукатурку, и теперь ее можно было разве только отскоблить.
От сознания собственной беспомощности перелицованный Думанский заплакал. Раньше он находился как бы над жизнью, а теперь она засосала его в свою грубую гущу. Викентий Алексеевич почти не сомневался: тот, кому продал душу Кесарев, свободно разгуливающий по столичным улицам и убивающий всякого, кто стоит у него на пути, — сам враг рода человеческого! И посягает он теперь на душу раба Божия Викентия, и уже завладел его телом.
«Лучше бы я умер, лучше бы Господь взял меня к Себе, чем терпеть здесь такие муки!» — думал, содрогаясь, обезличенный приват-доцент.
Весь день в смертной тоске, не помня себя и не понимая, где находится, он бродил по холодному, безразличному к его несчастью городу. Только в сумерках присел на скамью в каком-то садике. От усталости его охватила дремота.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Чистилище
Число людей, которые себя погубили, намного больше, нежели число погубленных другими.
Дж. ЛеббокI
Нас посещают ангелы, но мы узнаем их лишь после того, как они отлетают прочь.
Дж. ЭлиотДуманский открыл глаза, чувствуя, что замерзает. Над ним стояли два усача в шинелях. «Наверное, кто-то вызвал полицию!» Сил подняться не было. Он, едва шевеля губами, прошептал:
— Простите, вы полицейские?
— Хо-орош, голубчик! — ответил один. — Власти законной не признаешь? Ну что, нажрался? Вот мы тебя, морда свинячья, сей же час в кутузку!
— Как вы смеете… Выбирайте выражения, любезный!
Городовой пнул, а потом рывком поднял Думанского на ноги, другой стал шарить по карманам. Викентий Алексеевич почувствовал тошнотворный водочно-махорочный дух. Почти не надеясь на помощь, с трудом выговорил:
— Господа, я попал в беду…
— Эт точно! Не тревожил бы приличных господ, не попал бы… Документы при себе имеются? — строго произнес пожилой урядник.
В одежде Кесарева ничего, что удостоверяло бы личность, не нашлось.
— Слушай, Семен Игнатьич, давай отведем его в участок и дело с концом? — предложил городовой помоложе.
— Заверяю вас, я адвокат! — встрепенулся Викентий Алексеевич. — Адвокат Думанский. Я практикую… Что за произвол и самоуправство?!
Урядник смотрел недоверчиво, исподлобья, но видно было, что он в замешательстве.
— Адвокат, говоришь? Тогда извольте заложить руки за спину — вы арестованы! Иж ты, неприятность какая… Погодь, сейчас разберемся. — Он обратился к подчиненному: — Может, и вправду адвокат? А мы его за шиворот — непорядок…
Молодой прыснул со смеху:
— Да посмотри на него — какой еще адвокат! Рожа кирпича просит, сам словно под забором валялся. Адвокат! Х-ха!
Оглядевшись по сторонам, молодой подошел к соседнему дому и сорвал со стены какой-то лист. При виде знакомого объявления о розыске с ненавистной образиной Думанский едва не застонал в полном отчаянии.
— Экой наглец! Да ты погляди, Семен Игнатьич, какую мы птицу поймали! Разбогатеем теперь. Слыханное ли дело: пятьдесят тыщ золотишком! Это по скольку ж на брата получается?
— Ты себя со мной не равняй, — наставительно ответствовал урядник. — Мне поболе будет, как старшему по чину, тебе, стало быть, помене. Урезонь-ка лучше буяна!
Думанский понял, насколько сам теперь беззащитен во власти той отлаженной полицейской машины, работу которой всю сознательную жизнь наблюдал лишь со стороны.
Внезапный душераздирающий кошачий визг привел городовых в некоторое замешательство. Этого было достаточно — почувствовав мгновенный прилив сил, адвокат рванулся в ближайшую подворотню, уповая на то, что двор окажется проходным.
Думанский не помнил, сколько продолжался этот гон, в котором он чувствовал себя беззащитным зайцем: впереди и по сторонам мелькали стены — с окнами и без, оштукатуренные и кирпичные, высокие и низкие, — они то сдвигались, образуя узкий проход, то распахивались вереницей дворов. Сзади заливались полицейские свистки, слышался топот кованых сапог и заборная ругань.
Вдруг Викентий Алексеевич услышал у себя за спиной характерные щелчки. «Выстрелы! — мгновенно сообразил адвокат. — Неужели решили меня застрелить при попытке к бегству?!». Он оглянулся: несколько подозрительных типов, выскочив, судя по всему, из какой-то подворотни, затеяли перестрелку с полицейскими. Когда, в изнеможении, хватая ртом воздух, Викентий Алексеевич остановился, слуги Государевы уже лежали на мостовой без признаков жизни. Незнакомцы, не дожидаясь, пока Думанский переведет дух, повели его через двор в соседний проулок. Тут он увидел мрачного вида карету; один из «спасателей» открыл дверцу, жестом приглашая «спасенного» внутрь. Внутри тоже был неприятный, какой-то «конспиративный» полумрак, но Викентию Алексеевичу ничего не оставалось, как войти. Он едва успел сесть, забиться поглубже, ничего еще не соображая, и карета буквально рванулась с места. «Господи, спаси и сохрани!» — взмолился про себя приват-доцент.
— Ну, здорово, братан! Здорово, родная душа! — неизвестный верзила сграбастал его, чуть не задушив в объятиях. — С избавленьицем! Не поспей мы, фараоны тебя бы уже в участок справили, а там и на… Подфартило — факт! Да тебя никак трясет всего — ух аспиды! Все б им манковать… Решил небось — совсем товарищи запропали, а мы, вишь, тут как тут. Тоже испугались, обыскались уж — думали, мало ли чего. Всяко бывает! Как говорится, Питер бока повытер. И точно, конфуз с тобой… А у нас-то… Знал бы ты, какая у нас лажа вышла! Погоди, приедем в трактир, расскажу.
— Наше почтение, свет Андрей Степанович! — послышалось из полумрака странной кареты дружески-вальяжное, почти ироническое приветствие. Этот голос с характерной интонацией заставил и без того напуганного Думанского подскочить на месте.
— Ну-у! Чувствовал — веришь? что найду тебя в конце концов! Легок ты на помине, Андрюша. Что ты, что ты, друг мой родной! — обладатель знакомого голоса предупредительно положил ладони адвокату на плечи и бережно усадил его. — Нервы дело тонкое, беречь их надо, а ты — распускаться. Совсем это не годится. Еще кулаками махать начни. Кто мог подумать, что так выйдет? Я тоже ведь не полицейский архив — ну вышла неувязка, не разобрался как следует с этим Кесаревым, что ж ты теперь будешь на меня «ножи точить»? Невелика трагедия — исправим!
— Сатин?! Алексей Иванович? — пытаясь унять дрожь, сипло выдохнул Думанский. Он только теперь поймал себя на том, что совсем не узнает своего голоса, но это было неудивительно.
— Ошибаешься, Андрюша. Я теперь такой же Алексей Иванович, как ты Василий Всеволодович. Все выслеживаешь своего адвокатишку и ничего не знаешь! Позвольте представиться: Казимир Петрович Панченко.
— Казими-и-ир Петро-о-вич! — передразнил его неизвестный. — Для братца ты клиента так не просеивал, паленого мокрушника выбрал… А сам-то, слышь, братуха? В Париж отваливает!
— Не хватит ли, а? Сколько можно попрекать! Я понятия не имел, что Кесарев замешан в мокрых делах — вроде все у него было чисто. Еще Думанский этот, будь он неладен, начал копаться, как свинья в помоях… А я и не предполагал, что ты такой щепетильный — тоже мне барышня из благородного пансиона. Подумал бы лучше, какие за тобой самим делишки водятся! Да и вообще — велика ль разница? Вася Челбогашев ничего не потерял, став Андреем Кесаревым. Был вор с ходкой, стал вором без ходки. Вору всё в пору — лишь бы не попался! В Париж, кстати, я не сразу уезжаю — для начала следует в Златоглавую визит нанести, и тебе это, между прочим, хорошо известно. Так что без толку суетиться — думай лучше о деле.
От страха и изумления «Кесарев» сидел ни жив, ни мертв. Он весь превратился в слух, но сквозь барабанную дробь сердца никак не мог вникнуть в суть разговора, да и вообще не понимал, как это может быть: «Кого же я тогда видел убитым, если не Сатина? А если он все-таки жив и говорит сейчас со мной, что у него общего с этой швалью? Нет, наверное, это кто-то другой, просто похож. Может действительно Казимир… как бишь его? Да сам-то я на кого теперь похож… А разве у Кесарева есть брат? И кто такой Вася Челбогашев, в конце концов?! Он же по документам следствия Дмитрий… О Господи! Угораздило меня попасть в этот кошмар! За что, Господи? В чем провинился я перед Тобой?»
Мрачная карета остановилась неожиданно. Викентию Алексеевичу пришлось напрячь последние внутренние силы, чтобы хоть как-то сосредоточиться и следить за обстановкой. Первыми на свет вышли верзила и Сатин-Панченко. Еле держась на неверных, неслушающихся ногах, выбрался наружу и Думанский, который, как ни старался, по-прежнему не понимал ничего. Они прошли незнакомым темным переулком на довольно широкую, но малолюдную улицу. Адвокат огляделся и сообразил-таки: «Вроде бы это Греческий… Да, несомненно Греческий! Значит, мы на Песках». Впереди виднелась крупная, но без претензий и особых примет трактирная вывеска: «Углич». То, что его «освободители» направились прямиком в трактир, Думанского совсем не удивило: в подобных непрезентабельных заведениях, каких немало попадается в кварталах между центром столицы и окраинами, «фартовая» публика частенько назначает встречи (в случае полицейской проверки в лабиринте окрестных дворов можно легко затеряться и уйти от любого преследования). Действительно, в отдельном помещении за накрытым столом честную компанию уже поджидали рыжеволосый тип с изъеденным оспой лицом и молодая женщина, милое личико которой портили довольно вульгарный макияж и чересчур завитые кудри. Одета она была слишком ярко для порядочной дамы и вызывающе дорого для посетительницы заурядного трактира. Парень сидел насупившись. Запустив в буйную шевелюру пальцы одной руки, а другой подперев подбородок, погруженный в угрюмое молчание, словно хотел отгородиться от кабацкой пьяной болтовни и завыванья граммофона, доносившихся из главного «зала», однако все это не помешало Думанскому опознать в рыжем да рябом налетчика, оглушившего его в подворотне савеловского дома. «А Молли-то была права — это не был случайный налет. За Викентием Думанским охотились, мерзавцы!» Приятель «Казимира» Сатина, тот, что называл перелицованного Викентия Алексеевича братом, гривуазно ущипнул «даму» за локоток, в то время как первый, изображая джентльмена, галантно склонил голову:
— Мадемуазель Шерри, рад вас видеть.
— Полноте-с, Казимир Петрович! Все-то вы норовите с комплиментами, — засмеялась Шерри, а затем жеманно посмотрела на Думанского. — Неужто Андрей Степанович наконец объявился? Долго жить будете! Я уж грешным делом подумала, может, не увидимся никогда. Вы ж теперь такой знаменитый и недоступный: афиши висят по всему городу, на каждом углу. О такой славе бедной шансонетке можно только мечтать…
Сев за стол, «Сатин» с напарником без лишних церемоний принялись за еду — снедь была самая простая, но сытная, а они, по всей видимости, уже успели проголодаться. Думанский сначала лишь наблюдал, с каким азартом воры выпили по первой, как аппетитно хрустели квашеной капустной и солеными огурцами, но когда по красноречивому жесту Казимира услужливый половой с намасленным прямым пробором принес горячее — жирные щи, в которых плавали куски свинины, адвокат больше не мог оставаться равнодушным к трапезе. Само обжигающее варево подействовало на него опьяняюще, так что на водку, разлитую расторопным трактирным служкой в граненые стопки, Викентий Алексеевич даже не обратил внимания, зато ложка так и мелькала в воздухе. Деловые люди сочувственно переглянулись: дескать, сколько ж ты-то не ел, бедняга? Достаточно было одного взгляда «Казимира» Сатина, чтобы половой «испарился», плотно затворив за собой дверь.
— Сеня, расскажи-ка Андрею, что у нас случилось с почтой! — Казимир тотчас в повелительном тоне обратился к рыжему уркагану.
— Ну, чего рассказывать? Вишь, фараона мы это… того, а чиновник-то с почты живой, вишь, гнида! Вроде все — чего ж еще-то?
— Заладил «чаво, чаво» — двух слов связать не можешь! — прервал его верзила.
— Лопухнулись мы, брат Васюха! Меня ищут! Ты понимаешь, о чем я говорю? Меня ищут как и тебя! Ну что вылупился, рак вареный? — прикрикнул он на «Кесарева», который молча, округлившимися глазами смотрел на происходящее. («Этот бандит принимает меня за брата Васю… Что-о?!») — Собирались, понимаешь, сработать по-крупному. По наводке Яхонта узнали, на почте мол будет крупная наличность, а чиновник один. Покамест ты кантовался хрен знает где последние две недели, мы это дело без тебя спроворили. Я туда Тарана взял и еще пару ребят на шухер. Бабки-то забрали, но архангел там на беду оказался. Его я, само собой, успокоил, да почтарь, падло, жив остался. Срисовал он меня, как пить дать узнает, ежели чего! Выходит, оба мы с тобой сейчас у сыскарей на нюху — смекаешь? Тебе полегче еще, а на мне свежий жмур — отягчающие! Вот, читай. — И «брат» протянул «Васюхе» газетный листок, где в разделе криминальной хроники сообщалось, что «совершено дерзкое разбойное нападение на отделение почтового ведомства в 1-й Василеостровской части, что в Тучковой переулке. С особой жестокостью убит чин полицейской охраны, сопровождавший обоз с почтой. Чудом спасшийся почтмейстер сообщил следствию точные приметы одного из нападавших. На основании указанных примет в совершении разбоя подозревается некто Челбогашев Дмитрий Михайлович, 36 лет, неоднократно состоявший под судом и следствием и отбывавший наказание в каторжных тюрьмах. Ведется розыск». — Дошло теперь? Полицейского мне никто не простит. Так что пора мне ксиву менять — нужно срочно оформить дело со Свистуновым!
«Боже! Да это ж Челбогашев собственной персоной! — осенило Думанского. — На фотографии в новгородском деле у него усы, борода — ни за что не узнал бы. Вычислили-таки — ай да молодцы! Стоп… Получается, по кесаревским документам давно живет братец этого громилы и по убийству Савелова показания давал именно он, а не… То есть я стал Кесаревым только по паспорту, а по плоти… Вася!!!» Еще мгновение, и адвоката охватил бы приступ безумного смеха, но на его счастье раньше заговорил Алексей Иванович Сатин:
— Не надо было с Яхонтом связываться, а то, что перестрелка была, так теперь эти — из «Святого Георгия» — будут думать, что мы на дно легли.
— Как там у тебя со Свистуновым? — спросил он у Шерри, интригующе подмигивая мнимому Кесареву. — Андрей, представляешь, он ей уже предложил в Париж поехать! Все идет нам на руку. У вас ведь состоится вояж?
— Еще бы! Он просто умоляет меня ехать. Всяческими посулами соблазняет. Я, конечно, сама невинность, для приличия отказываюсь. Провожать себя не разрешаю, подарки не принимаю (уговор же был — помучишь его для верности), только цветы. Ты бы видел, как он по мне сохнет, ухаживает как — прямо первая любовь! Он в Крестовском саду всякий раз, когда я выступаю, сидит в первом ряду, горланит «Браво! Бис!».
Сатин цинично усмехнулся:
— У меня тоже отличные новости. Мне тут одна его бывшая обже[62] рассказала, как он с ней в Вену ездил: написал писем бывшей жене на месяц вперед будто из Москвы, как он там живет-поживает, над новой симфонией чахнет, о ней вздыхает и слезы льет, конверты надписал, а человек его каждые три дня исправно эти письма отправлял. И так он делает в каждую свою поездку. Это нам на руку — искать его долго никто не будет, а когда хватятся, то безусловно станут искать в Москве.
— А коли так, то нечего и тянуть! — Челбогашев хлопнул ладонью по столу. — Теперь, Шерри, все зависит от тебя! На Париж срочно соглашайся. Казимир говорит, что разок видал Свистуна этого, когда был у него с Думанским-то, в июле еще. (Сатин утвердительно кивнул.) Ну вот. Персона его, конечно, известная в разных там кругах, но с виду не того — не слишком выдающаяся. Подойдет. В день отъезда уговоришь заехать к нему на квартиру. Найдешь любой предлог: забыла что-нибудь или «скоротать время» до поезда. Я вас там ждать буду, спрячусь на кухне в рундуке или в кладовке, шнурок захвачу. Сделаю дело, сразу одеваюсь в свистуновскую одежду, беру документы, ухожу, хату поджигаю, труп сгорает. Потом ты опознаешь, что там останется, как своего мужа, то есть меня. Значит, такой вот план. Чего не ясно, сразу спрашивай.
— Да с этим все ясно. Только ко мне, между прочим, полиция уже третий раз приходила по твою душу, хотели даже засаду оставить. Я им сказала, что уже полгода с тобой не живу, сама тебя ищу, чтобы получить разрешение на развод и второй брак, а ты будто уехал куда-то в Курскую губернию. — Шерри с аппетитом поглощала пирожные, продолжая с набитым ртом: — Ладно, хватит мандражировать — отвела ж я их, говорю тебе! Вы лучше еще о моем композиторе послушайте. Он ведь мне не только на содержание к себе идти предложил. Апартаменты, говорит, в Париже сниму на бульварах специально для тебя, какие сама пожелаешь. Щедрый мужчина, неотразимый!
— А жениться на тебе он не обещал? — опять нехорошо засмеялся «Сатин».
Дамочка обиженно надулась:
— Вот-вот, если б вы не придумали его жизни лишить, я бы свое семейное счастье устроила: совсем бы обворожила-охмурила, да замуж бы за него пошла. Говорит, будет ждать и надеяться, даже если не соглашусь с ним ехать. С таким одно удовольствие пожить, понежиться: счета у него в банках, тонкий вкус, романсы мне посвящает, такие комплименты говорит, аж дух захватывает: «бриллиантовая моя, у вас весь ваш репертуар в таком ароматическом миноре, что я блаженствую на небесах»! Не то, что ты, Митька, — грубый мужлан…
Тут она артистично зарыдала.
— Лучше в омут, чем с такими безумцами счастье свое сквозь пальцы пропустить! Хватит мне куклой тряпичной, которую вы друг у друга рвете, туда-сюда болтаться. Жалко, жизни своей молодой: талант и красота ни за что пропадают! Свистунов, тот прямо говорил: мне бы резон к вам в женихи пожаловать, я бы со всей моей охотой. Вот вам, дескать, самое деликатное предложение руки и сердца, над словом моим подумайте, оно твердое. А я и думаю, и вижу — хороший он человек, и это мне сам Бог такой шанс посылает… Ради Христа прошу я вас — отпустите вы меня! — взмолилась она сквозь слезы. — Откажитесь лучше от этой каверзы: кроме зла ничего из нее не выйдет. Или вы уж и не люди совсем? Музыкант по-настоящему меня любит. Тесно ему в Петербурге, лучше, говорит, в Париже жить или в Европе — там нравы свободные. Обещал театр подарить. Роли, говорит, будете сами выбирать, какие только захотите, а денег у него на все хватит… Пропаду я с вами, выйду в тираж…
Челбогашев поднес взбунтовавшейся жене кулак к носу:
— Но, но! Ты не вздумай сейчас всерьез задурить, певичка хренова! Сделаешь дело, и катись куда хочешь, стервоза!
— Да, ты не представляешь, из какого он общества: на скачках завсегдатай, в салонах, в лучших ресторанах — гость дорогой. Это ж фигура! Богема! — Шерри продолжала бунтовать, делая вид, что обиделась.
— Успокойся, детка! — Грозный муж вынужденно изменил тон на мягкий, даже ласковый. — Будешь делать так, как я говорю, получишь за «меня» страховку — поедешь и на скачки, и в рестораны, и куда хочешь. Мне, Шерри, из этой страховки ничего не нужно, ни гроша, только документы. Гадом буду, коль обману — все здесь свидетели!
— План у тебя, Митя, незрелый, — свысока процедил Сатин. — Примитивно, скажу я тебе, — ни то, ни се. Несерьезно. Я бы все сделал по-другому, но сейчас ни о чем думать не могу. Сами теперь выкручивайтесь — незачем было этого полицейского убивать! Андрюша ведь задание твое выполнил, деньги все, сколько причиталось, передал Спичке. Только, получив такие деньжищи, тот заодно с адвокатом готов взорвать и его раскрасавицу, да хоть весь дом…
— То есть как это взорвать?!! — Думанский, он же Андрей Кесарев, а также «Васюха», решил было, что ослышался.
— Да как ты сам приказал — просто, без церемоний! Завтра, по уговору, возле Михайловского театра. Там вечером какие-то французские «Колокола» дают, а у них уже целая ложа взята… ну и… Очень уж Спичке эта «революционная» затея понравилась.
В ужасе адвокат поспешил оценить обстановку: «Как он сказал — заодно с красавицей?! Господи, этому монстру уже и о моей Молли известно! А ведь и ее, и того „Думанского“, что пока в авто разъезжает, они точно убьют и глазом не моргнут! Тогда уже ничего не изменишь, не исправишь — тогда все будет кончено… Ну уж нет!»
— Вот что. Адвоката этого я решил до времени оставить — он и так не в себе, жалкий человек, — выпалил новоявленный «Кесарев», точно его осенило. — Хватит сейчас за нами дел. Но следить за ним надо: потом — перед отъездом все равно уберу его.
Неожиданно Сатин заявил совершенно спокойно:
— Так я ведь после суда тебе и сказал: документы по савеловскому делу он отдал мне перед «моим» убийством, на тебя там ничего серьезного не было. А ты перестраховываться вздумал, охотишься за ним… Думанский не вовсе пропащий, даже полезный для нашего дела индивидуум. Ну что, думаете, заигрался я? Викентий меня многому научил… И, братья, сказать вам честно: жалко мне было с той жизнью расставаться. Давайте-ка лучше выпьем не чокаясь!
«Ах, вот оно что! Ну и подлец же ты, Алексей Иванович! Значит, ничего мне не кажется: и нашим, и вашим служишь, иуда-лицедей…» Кровь прилила к лицу адвоката, он был просто оглушен услышанным, а внутри точно что-то оборвалось.
— Да вы чего это — задний ход, што ли, врубить хотите? Менжуетесь?! Такие деньги заплачены — Спичка сделает все в лучшем виде; чай, не царя взорвет — адвокатишку. Я-то думал, доперла до тебя, «Васька», умная мысля. Даром, что два языка знаешь, а то вобьешь себе в голову чушь какую-нибудь… Решено, и баста; рвать так рвать! — вскипел Челбогашев-старший и, заметив, что «братан» перестал есть, добавил: — Молчишь теперь, будто воды в рот набрал? Ох, не люблю я такие фортели…
— Я не молчу. Что-то не по себе мне — захворал совсем. Может, инфлюэнца, да и городовые тоже постарались — до сих пор в глазах круги, — выдавил из себя Викентий.
— Вот-вот. Именно отдых тебе сейчас необходим, а то ты совсем какой-то вялый сегодня — не узнать тебя прямо! Ну, тогда пора. Поехали к Никаноровне на «малину», там отлежишься.
Сатин-Панченко, встав из-за стола, засунул Думанскому во внутренний карман сюртука целую запечатанную пачку четвертных билетов:
— За Сатина я в Париже страховку получу. Там же и свидимся. Сегодня уезжаю, мне здесь оставаться нельзя. Иначе провалим все дело.
Из трактира «отчалили» втроем, как приехали. Уже вечерело. Карета неслась, то и дело сворачивая с улицы на улицу, точно запутывая следы. «Везут Бог знает куда! — нервничал Думанский. — В какой-то притон». Челбогашев, взявшийся опекать «хворого» братца, придвинулся к нему с озабоченным, участливым видом:
— Ну, чего смотришь волком? Ты бы с этой тоской зеленой завязал, слышь? Как там в песне-то поется: «Пей — тоска пройдет!»[63] Давай лучше раскулдырим! — Он протянул Думанскому зеркальце с дорожкой белого порошка и свернутой в трубочку купюрой, но тот брезгливо отодвинулся. — Стареем, брат… А ствол-то твой где? Потерял?! Хоро-ош!.. Да ну и хрен с ним! Завтра-послезавтра я тебе новую «игрушку» принесу — «чистую», прямо с Сестры-реки.[64]
— Да ерунда все это, Андрей! — неожиданно вмешался Сатин. — Я же тут тебе подарок затеял, чуть не забыл, да вот братец твой напомнил… Вот тебе отличная игрушка, считай, что презент от твоего заклятого врага — Викентия Думанского. Будешь помнить его, адвокатишку въедливого!
Тут Викентий Алексеевич еле сдержал возглас удивления: в его в руках оказался «именной» гуляевский дар — двенадцатизарядный смит-вессон с жестяной коробкой патронов. «Это положительно мистика: я от него отказался, так он вернулся сам!»
Челбогашев взял диковинный револьвер и подержал его на ладони, точно на весах:
— Ты смотри — тяжелая дура! Офицерская игрушка для дуэлей. Да с ней же на медведей ходить! В карман не положишь — спалишься чего доброго, фараоны отберут… Я от своих обещаний не отказываюсь: привезу с Сестры то, что надо!
А этот тоже пригодится — ты с двух рук можешь палить, как еврей на рояле.
II
Наконец лошади стали. «Казимир» Сатин сошел на тротуар и помог сойти измученному «Кесареву», напоследок же не преминул напомнить:
— В общем, Андрюша, для вас теперь главное — вопрос со Свистуновым, чтобы Дмитрия поскорее сняли с розыска и дело за его смертью прекратили, а я, как только подберу в Ницце новые документы вам обоим, сразу сюда переправлю — можете не беспокоиться. Надеюсь на удачное стечение обстоятельств: мы тогда получим все деньги с композиторских счетов и разделим их, к нашему удовольствию. Вы смотрите не особо-то задерживайтесь здесь, но поезжайте строго через Москву! Ты французский неплохо знаешь, так что на границе никаких приключений у вас быть не должно. Ну, прощай! Дальше уж сам доберешься — Никаноровне поклон. Все вроде бы как удачно; красиво от Яхонта ушли. Во Франции я для вас теплое местечко подготовлю где-нибудь на Ривьере, там и отдохнем от трудов праведных. Мы обязательно отдохнем, мы еще увидим небо Ниццы в алмазах!
Не задерживаясь более, Сатин вернулся к задремавшему Челбогашеву, и возок умчал их в неизвестном направлении. Викентий Алексеевич, который из сказанного понял лишь, что Свистунова тоже хотят убить, остался один перед невзрачным зданием.
Переведя дух и немного приглядевшись, Думанский безошибочно определил, где находится.
Это был тот самый злополучный дом, почти на углу Гороховой и Загородного, куда вошел и откуда уже не вышел отец Молли! Парадные двери здания были опечатаны, и к ним приколочена вывеска, возвещающая о продаже. Выцветшая надпись свидетельствовала о том, что вывеска здесь давно и без толку: дурная репутация сбываемой невесть кем недвижимости отпугивала возможных покупателей. Адвокат, и без того постоянно пребывавший в шоке, вглубь двора пройти не решался. Внушить себе, что ничего страшного с ним не произойдет, окажись он в этом доме, Викентий Алексеевич никак не мог — в душе его, возможно навсегда, поселился страх перед заброшенными зданиями. Медленно и неуверенно преодолев низкую длинную подворотню, насквозь пропитанную запахом сырости и кошачьего царства, он попал в маленький двор непонятной конфигурации, по периметру которого располагались заколоченные двери и пустые дверные проемы, ведущие во мрак и холод черных лестниц.
В сумерках адвокат разглядел на брусчатке черно-белую линеечку, какие фотографы-криминалисты используют, дабы показать масштабы предмета, и мгновенно осознал мистически ужасающую сущность своего положения: находясь в теле убийцы, он стоял совсем недалеко от места, где и произошло убийство несчастного Савелова!
Каменные стены оглушали Думанского безмолвием, а страх себя нового, незнакомого, страх перед отвратительным ему телом — бесповоротно чужим или навсегда уже теперь своим?! — становился все сильнее, все невыносимее. Одно было ясно: идти больше некуда.
«Как некуда? Да ведь нужно же срочно предупредить Свистунова!» — тревожно вспыхнуло в мозгу адвоката и он тут же развернулся на сто восемьдесят градусов.
На бегу вспомнилось, что не связанный семьей композитор, старый приятель Викентия Алексеевича, имел сомнительную репутацию человека беспутного, хоть и богатого, а кроме того — слыл одним из первых столичных ловеласов. Он любил посещать самые дорогие рестораны и позволял себе спускать там немалые деньги, в том числе и на женщин. Снимал отдельный кабинет, куда заказывал то цыганский хор, который пел только для него, то целый оркестр музыкантов, а бывало, приглашал в свое уединение и какую-нибудь певичку-шансонетку. «Аркадий, зачем ты так усердствуешь в тратах?» — недоумевая, спрашивал Думанский. «Не могу, это сильнее меня! Мой гений требует разгула, размаха, широты… Мне не хватает женской ласки… Впрочем, тебе, законнику-моралисту и примерному семьянину, этого понять нельзя». Не довольствуясь кратковременными любовными похождениями, Свистунов время от времени брал на содержание то одну, то другую сладкоголосую диву, которых, по его собственному выражению, «открывал» в опере или даже в варьете.
В своем нынешнем жалком положении приват-доцент права и сам надеялся на помощь Свистунова. Только последний смог бы предупредить об опасности Молли, да к тому же поднять на ноги и вывести на кесаревский след полицию.
Минут двадцать продолжался бег по заснеженным улицам, пока запыхавшийся Викентий Алексеевич не услышал оглушительные звуки нещадно терзаемого фортепиано, доносившиеся откуда-то сверху, прямо из открытого окна. Он остановился у дома маэстро, которого в иных кругах почитали за гениального новатора, в других считали помешанным чудаком. Для Думанского же он был просто Аркадием. «Аркадий меня узнает и поверит мне: как человек творческий, уж он-то все поймет! С ним и не такое происходило». Адвокат несколько раз настойчиво позвонил в дверь, но в ответ слышались только оглушающие звуки рояля. «Опять с головой ушел в свои опусы. Разве что-нибудь услышишь сквозь такую какофонию!» — волновался Викентий Алексеевич. Наконец за дверью раздались порывистые, нервные шаги. Открыл сам Свистунов, пребывавший, видимо, на самом пике творческих мук: лицо осунулось, в глазах ад кромешный, волосы в беспорядке разметались, огромный лоб — в каплях пота, халат, надетый прямо на голое тело, наскоро запахнут.
Думанский шагнул было в прихожую.
— Кто вы такой??! Что вам угодно? Позвольте, какое вы имеете право вот так бесцеремонно врываться в мой мир? — завопил композитор. — Я занят, я работаю, я никого не принимаю! Здесь рождается Музыка! Вы понимаете?! Му-зы-ка!!! — Свистунов многозначительно поднял вверх указательный палец, давая понять, что он целиком отдался общению с высшими сферами.
Думанский подскочил к нему, схватил за отвороты халата и потянул на себя, пытаясь докричаться до друга сквозь плотную ауру вдохновения:
— Аркадий! Тебя хотят убить! Слышишь? Ты, конечно, не узнаешь меня, но я должен тебя предупредить о страшной опасности!
Композитор вырвался:
— Ну что вы там мелете? Как смеете тыкать мне?! Мне — Аркадию Свистунову!!! Вон отсюда, грубый хам! Разве я непонятно изъясняюсь? Впрочем, меня никто не в состоянии понять! Это просто невыносимо — музыканту не дают творить! Я хочу, чтобы меня все оставили в по-ко-е! Всё!!! Подите прочь, в конце концов!!!
Пока «демиург» продолжал бесноваться, из прихожей выполз сонный слуга. Оскорбленный Свистунов, опершись о дверной косяк своим тщедушным телом и хватаясь за сердце, прошипел:
— Выведи немедля отсюда этого… этого господина. Быстро, дармоед!
Леонтий одним движением вытолкнул незваного гостя за порог и захлопнул дверь перед самым его носом. Думанский забился в истерике, бешено заколотил в дверь, крича:
— Свистунов! Открой, Свистунов! Во имя всего святого!!! Это же я, Викентий! Я все сейчас объясню! Я должен тебя предостеречь. — И, сползая вниз по двери, заплакал от сознания собственной беспомощности. — Мне некуда идти, открой, это я! Пожалуйста! Я дам денег… Мне страшно!!! Они замышляют, тебя убить! Твоя очередная пассия… Она же шельма настоящая! Да пойми ты, Аркадий, все это очень серьезно…
Уже в каком-то трансе, Думанский стал стучать в другие двери, прося только одного — выслушать его! Никто не открывал. Так он, шатаясь от стены к стене, кое-как добрался до первого этажа, машинально открыл дверь парадного и вывалился на улицу. Он хотел было тут же направиться к Молли, но, не пройдя и шагу, наткнулся на полицейский разъезд. Выходить в город, да еще в другую часть, «Кесареву» было опасно — ему хватило одной встречи с блюстителями порядка.
«Нужно, чтобы хоть кто-нибудь МЕНЯ узнал, а если никто не узнает, я забуду сам себя, забуду, кто я на самом деле… Тьфу ты! Сгинь! А может быть, со мной вообще ничего страшного не произошло и все это было только наваждение? Что если мне все это снится? Просто очередной кошмар. Утром проснусь и окажусь у себя дома».
Однако куда было деваться сейчас? Пробиравший до костей холод был вполне реальным, на сновидение никак не походил. В тупом отчаянии адвокат все же умудрился незамеченным вернуться обратно — к роковому дому на Гороховой, туда, где прошедшим вечером его охватил невообразимый страх. Исподлобья оглядел двор. Взгляд бессмысленно блуждал по стенам, не пытаясь вырваться за пределы каменного мешка, в высоту, где, зажатый со всех сторон карнизами, виднелся маленький кусочек неба, впрочем столь же безотрадно серого, как и стены. Случайно в поле зрения Думанского оказалось окно третьего этажа, излучавшее свет! Думанский поднялся смрадной, закопченной лестницей наверх к будто ободранной каким-то зубастым чудовищем двери.
После его настойчивого стука — Викентий Алексеевич так боялся лишиться последней надежды! — одна створка приоткрылась на цепочку, и в образовавшейся щели показалась старуха в очках, с потрескивающей лучиной в руке.
«Наверное, это и есть Никаноровна. Сущее привидение. Еще эта нелепая лучина! Откуда? Что за достоевщина!» — волновался адвокат.
Высунув нос, старушенция все это время смотрела на гостя с подозрительным любопытством, будто видела Кесарева впервые. Наконец тоном требовательным, готовая, видимо, к любому, пусть даже абсолютно нелепому, ответу, вопросила:
— А ты кто будешь?
— Кесарев, — тихо, боясь признать эту ужасающую реальность, все же произнес Викентий и тут же, переведя взгляд со старушки на свою телесную оболочку, с горькой иронией повторил: — Кесарев Андрей, кто же еще? Неужто не узнаете?
Упрямая Никаноровна продолжала делать вид, что не верит:
— Погодь. Я сейчас посмотрю, у меня это… записано там… — И она закрыла дверь.
Через несколько минут Никаноровна вернулась и, невзирая на полумрак, спокойно открыла, сняв очки, теперь она держала их вместо лучины в руке.
— А… Это ты? Я-то всегда в очках хуже вижу. Узнала теперь: никакой ты не Кесарев! Знаю я тебя, варнака! Каторга по тебе плачет.
Тут же опешивший Думанский почувствовал сильный удар в плечо и услышал старухин истошный вопль:
— Голодная я! Ждала тебя целый день! Есть хочу, дай денег, падло!
Думанский не мог опомниться от подобной выходки, а Никаноровна как ни в чем не бывало прошла в комнату и, усевшись на стул, начала раскачиваться, задумчиво глядя в пол. Викентий Алексеевич молча последовал за ней и тоже уставился в одну точку, уже понимая, что обречен провести ночь наедине с сумасшедшей: во всем доме, кроме нее, по-видимому, никого не было. Присев на краешек кресла, он принялся исподволь осматривать комнату и краем глаза саму старуху. На груди у Никаноровны болталась на засаленной бечевке драгоценная серьга — сапфир в россыпи мелких бриллиантиков — точь-в-точь как та, с места убийства «Сатина»! Викентий почувствовал, вдруг, что ему не хватает воздуха. Ноги подкосились и он чуть не рухнул в прихожую, однако старуха с неожиданной ловкостью подхватила его:
— Ты чего это? Перебрал, наверное, вчера. Бывает! Давай-ка, присаживайся!
— Да я и так уже сижу, — стараясь сдержать дрожь в голосе, произнес Думанский, завороженно разглядывавший драгоценность. — А… А… А откуда у вас это украшение?
— Ахти, живой какой! Сидит он, понимаешь, — посодют еще, успеется! Ходишь туда-сюда с тайными поползновениями, а я тут беспросветно прозябаю. И вообще, малахольный ты чегой-то… Какое украшение? Эта вот сережка, что ли? — Никаноровна повертела ее, оглаживая пальцами и озадаченно разглядывая. — Видать, у тебя точно сотрясение мозгов, поди ушиб-контузия? Ты же мне сам их подарил!
— Может быть… Очень может быть… Только я в самом деле ничего не помню — меня в полиции избили. Саданули по голове, да так, что я все мигом забыл. Вот уж точно, как отшибло.
— Ишь ты, сердяга! А я правду говорю — цацки эти ты подарил, давно уже. Одну-то я потеряла месяца три назад — не уберегла! Ты уж не серчай…
Старуха помолчала. Потом, достав откуда-то зубочистку, поковыряла в зубах. Поморгав, прищурилась, посмотрела на Викентия Алексеевича:
— Андрей! Или нет, погоди… Васенька, почему тебя так долго не было? А я ведь все ждала, ждала… Я так переживала, что переживание закончилось алкогольным отравлением. А этот пакостник — твой братан, когда вы второго дня в картишки резались… Если бы ты только знал, как он, змей, мать свою обидел, матушку то ись вашу единокровную…
Она всхлипнула и, скорчив затем ужасную мину, невообразимо изменив голос и выпучив воспаленные белки, передразнила:
— «Если ты проиграешь, в качестве утешительного приза — Никаноровна».
Старуха подошла к столу, налила водки из орленой бутылки в граненый стакан, другой рукой взяла графин, стоявший рядом. Отхлебнув из стакана, она немедленно припала прямо к горлышку графина, жадно глотнула и тут же поперхнулась. Страшно покраснев, хватая ртом воздух, Никаноровна часто замахала руками, метнулась к роялю, схватила еще один графин — в комнате их была целая «коллекция».
— В последнее время — ух-х! — стала забывать… — мучительно выдавила из себя старуха. — У меня… у меня ж по всем графам и графиням спиритус розлит медицинский, рабалаторный — неразбавленный сиречь!
Она принялась беспокойно копаться в мешке, громоздившемся посредине комнаты. Достав оттуда исписанный замусоленный листок бумаги, стала внимательно изучать его содержание, а затем порвала, спрятала клочки в мешок и погрозила гостю пальцем:
— Смотри, Вась, в мешок не лазь! Не суй свой нос куда не надо. А то ходят всякие, а потом провизия пропадает. Куда ж это годится? У меня тут такая история однажды приключилась — повадился злыдень какой-то спиртуоз мой выпивать. И все мои продукты тоже съедал, а я потом по неделям голодала, — она подозрительно, с горькой укоризной посмотрела на «Кесарева-Челбогашева». — Все выдует и сожрет, ну чисто прорва какая! Взяла я да и насыпала в графины мышьяк. Так отравилось восемь человек — насмерть! Вот они меня таперича и разыскивают — посадить хочут. За убивство, ясное дело, осудют и повесят, и никто не вступится за бедную Никаноровну, голодную и холодную! Вестимо — курица не птица… Ты уж точно не вступишься, изменщик коварный!
— Отчего же! Разве Закон Империи не защищает женщину? — в Думанском заговорил правовед. — За непреднамеренное убийство вас никто не осудит. Если вы не стали бы утверждать, что действовали с намерением лишить жизни этих восьмерых, то у вас нет никаких оснований опасаться за собственную свободу, а тем более за жизнь. Закон же не обязывает вас давать показания против себя самой, не так ли? Целиком положитесь на Закон, сударыня!
Никаноровна повертела у виска крючковатым подагрическим пальчиком:
— Ты че эт, Вась? Спятил? «Положитесь на Закон, сударыня»! Мадам я те, што ль, какая? Вот говоришь складно, вроде как по писаному, аж на «вы» величаешь, а вдуматься, так фуфло натуральное выходит, свинячья петрушка! За восьмерых, слышь ты, меня оправдают! А за Сатина тогда, может, и вовсе Владимира дадут? С мечами аль без?
— Да кто вы такая, в конце концов? — Думанский набрался храбрости и пошел ва-банк.
Она захохотала раскатистым хохотом, вскочила, в эйфорическом возбуждении закружилась по комнате.
— Кто мы в конце? Читай, сердешный, на лице!!! Ах, если бы ты знал, как я смеялась раньше — голосок у меня был точно колокольчик! Вот послушай! — И Никаноровна по-старушечьи захихикала. — Подводчица я. Усек? Обеспечиваю специальные фатеры — вычисляю и нанимаю, стряпаю подложные ксивы, сиречь пачпорты, барахлишко сплавляю награбленное. Я ж экспроприатор и пьяница. А еще я ясновидящая и могу рассказать прошлое, все как было и как оно есть!
— Ну, тогда скажите, кто по-вашему я.
— Чтобы твое прошлое рассказать, и без моих исключительных способностей обойтись можно! Шнифер[65] ты первостатейный, Васятка. Ловко работаешь: до сих пор ни разу не попадался, а дальше — кто ж знает, как карта лягет? Вот братишка твой — тот горлопан и бунтарь, все по тюрьмам, да по острогам — покидало его с кичи на кичу.
— А Сатин тогда кто? — насторожился перелицованный адвокат.
— Сатин-то? Хе-хе! Сатин… а он, думаешь, сам помнит, как его зовут? Кем он только не был… Хрен его разберет? Ведет себя как гайменник,[66] а на киче никогда не чалился — склизкой, уходил, видать. Вот, нашел тебе этого Кесарева, ты его убил (такой грех на душу взял!), ходишь теперь с евонным паспортом, да всплыло, что был он бандит похлеще тебя. Связались с этой дурой Нинкой Екимовой, оторвой, — она ж убиенного тобой Кесарева полюбовница была! Порешила с ним в Новгороде купчину-бедолагу. Так что, когда вы подельника-то ее прикокнули, она ни словечка не заявила. Вам бы сразу бы про Кесарева этого получше разведать, да только вы знай мотаетесь с одного города в другой — чирьи у вас, что ли, на мягком месте? Задним умом кумекаете… Тьфу! Да ты ж ведь сам-то не лучше Сатина, клюквенник несчастный, церквы святыя грабишь, позор с тобой за одним столом сидеть! — Никаноровна с досады плюнула в его сторону. — Ведь он тебя чуть не из помойки вытащил! Как Митька, ч…тово отродье, с Нерчинской каторги бежал и к тебе по-родственному прибился, впору вам тогда было на паперть идти, милостыню просить. Ну да ничего, не зря ты когда-то с медвежатниками якшался, ремесло у их перенял, дело свое знаешь. Ежели б ты еще у Сатина поучился штукам разным, цены б тебе и вовсе не было как деловому человеку!
— Мне у него учиться?! Он ведь… А чем это он умнее меня?
— Чем? Да ты по сравнению с ним — сявка, пацан на стреме! Хоть бей меня, тебя с ним и сравнивать нельзя! Он вообще не нам чета: вон как в законах поднаторел — намастрячился, смог аж в адвокатскую контору устроиться! Екимову горничной к Гуляеву определил, тебя, неуча, — к Савелову в банк. Да он так пришить может, что ни один прозектор-патологоанатом смертельную причину не выпотрошит. — Никаноровна понизила голос до шепота, выпучила глаза и склонилась к уху Викентия: — Я даже побаиваюсь, как бы он меня жизни драгоценной не лишил, душегуб! А какую историю со страховками придумал! Находит, вишь, себе двойника — сиротинушку себе в прислужники берет. Жизнь свою застрахует, да так хитро подстроит, падло, что премию страховую, какую за него должен прислужник получить, сам получает. Он, вишь, слугу-то ентого убьет, изуродует по чем зря в свое удовольствие, а убиенному свои документы-то и подкинет, так что выходит по документам ентим, будто бы его убили, а сам он живет по пачпорту прислужника, упокой, Господи, душу его болезную! Сколько уж убивец окаянный этих страховок за себя выцыганил! Натурально — гений душегубов! Эх, сколько было у него этих Сатиных да Панченко — он и имя то свое, отцом с матерью даденное, наверняка позабыл давно… А уродует ведь не в простоте — точно художник какой, разными способами, непременно, чтоб до неузнаваемости! Рисует всякие заковыристые знаки и символы — все под ритуальное убийство подгоняет, тем и дурит полицию, от себя отвлекает… Так что страшно мне, милок.
— Он уже уехал, и бояться вам нечего.
«Вот тебе и Сатин! А ведь я его всем тонкостям юриспруденции обучил — фактически я соучастник его дел… Знал бы я, что такого „ассистента“ на своей груди пригрел, сам бы его своими руками… Да уж! В тихом омуте ч…ти водятся», — ужаснулся адвокат.
— Только зачем мы убили Савелова?
— Видали? Он еще меня спрашивает! Это тебе лучше знать, склероз ходячий. Убить-то ты его убил, а долговые расписки, что тебе заказали, чего ж не забрал-то? Как будешь с заказчиками рассчитываться за свой аванс? Ась? Во-от! Говорила я тебе, сердешный! Надо было Сатина во всем слушаться.
— Что ж его слушаться, если ему нельзя доверять?
— А кто ж вас, болванов, еще научит? Вот это голова! Мозг! Хомо сапус, как ученые люди говорят! Тихой сапой получил доступ на форт в Кронштадте и там из этой — как ее? — таксо… тоски… тьфу ты! токсикологической банки набрал пробирки с холерой, чумой, сибирской язвой! Вона как, понял? Пробирки он с собой во Францию увезет, там найдет кого-нибудь подходящего… так и достанет тебе с Митькой чистенькие французские документики, и мне тоже пачпорт обещал, только он мне не нужон. Мне во Франции делать нечего. Я, вишь ты, давненько в Японию хочу, только вот бы мне язык ихний подучить, а тогда и уеду. Гейша, пожалуй, там стану: красивая, говорят, жизнь у гейшей — церемонии всяки, стихи, романсы-финансы, ну и это… Сам понимаешь, кобель этакий… Хи-хи-хи!
Думанский не мог надивиться на колоритнейшую особу, прозванную Никаноровной:
— Станете непременно — какие могут быть сомнения? При ваших-то данных! Только… А как же вы узнали обо всех подробностях сатинских проделок?
— Я узнала об этом тайным мистическим образом, который тебе с твоими мозговыми трамвами нипочем недоступен. — Никаноровна помолчала, плеснула себе пятьдесят грамм из графинчика. — А все равно, будь он хоть семи пядей во лбу — ненавижу я его. — Она погрозила в пустое пространство кулаком. — Сам себе на уме, еще подведет нас всех под монастырь, и баста! Нет в нем истовости, правды нетути! Злой он, Сатин, нравный. Похож на политического, не замечал? А я чую! Что угодно, но не блатной, нет. Да ты не дергайся, никто тебя здесь не найдет: у меня как в пучине мирового окияна, во впадине Мариянской. Не слыхал небось про такую? Чухлома!
— А вы не подскажете, кто такой Спичка и где мне его найти?
— А-а-а… Спичка-то? Актер-минер, р-революционер-боевик со стажем. Работал в Михайловском театре сухвлером, пока не выгнали за его подрывные реплики. Давно по нем казенная петля плачет, а он все в бой рвется — не угомонится никак.
— Слушайте, а может быть, вы тогда знаете и кто такой Яхонт?
— Ну ты совсем уж, Васюган! Пропил, видать, мозги-то. Это же твой самый что ни на есть непосредственный начальник, социалист-террорист, страшный человек! Вот найдет он тебя — кишки выпустит за все ваши проделки! Он одержим желанием маниакальной ненависти к строю государства при полном безразличии к человеческой жизни. Вот он каков!
Бойкая старушенция подлетела к роялю и завращалась на табурете, а когда тот остановился, решительно взмахнув руками, точно желая проткнуть пальцами клавиши, вдруг ударила по ним так, что Викентий едва не упал со стула. Звуковой шквал по мощи равнялся разве что одуряющему отсутствию в нем ритма, гармонии и какой-либо мелодии вообще. У Викентия волосы на голове встали дыбом. «Апофеоз безумия!» Мучительно морщась, он вытер рукой пот со лба и кашлянул, но Никаноровна, охваченная «вдохновением» и ничего не слыша, кроме своей «музыки», возопила:
— Спой же! Спой что-нибудь! Не хочешь? Ну и ч…т с тобой! Попомни мое слово, я еще открою в Петербурге модный гадательный салон, — орала она сквозь свою какофонию, — использую все тайные силы, все достижения каббалы, хиромантии, магии и оккультизма и стану… сивиллою! Ага! Я ведь знаю заговоры жрецов Вавилона, древних авгуров, друидов и волхвов. Волхвы, сердешный, вестимо не боятся могучих владык!
«Вот тебе и полуграмотная старуха-„подводчица“! Прямо ребус какой-то во плоти — и откуда такая взялась? Слышал бы покойный Федор Михайлович, что она вещает. Может, она меня действительно насквозь видит?! Не дай Бог, еще выдаст своей шайке…»
Викентий подошел к окну и глянул вниз — ночная пустота заброшенного двора-колодца, затягивающая в бездну небытия воронка душного каменного мешка! Викентий Алексеевич тут же отшатнулся, чувствуя, что уже может — может! — прыгнуть.
«Нет, нет! Этим ничего не изменишь — только хуже себе сделаешь. За такой грех не то что мельничный жернов на шею на том свете — даже ведь не похоронят по-христиански… Впрочем, это опять о теле… — в очередной раз Думанский содрогнулся от своих мыслей. — Господи, удержи от искушения мою грешную душу, ведь ей же тогда муки вечные!» Его качнуло, он наткнулся спиной на мешок Никаноровны, схватил в яростном отчаянии (с виду куль тянул пудов на пять!). Однако Думанский приподнял его с удивительной легкостью и выбросил в открытое окно. В доме даже стекла зазвенели — куль тяжко ударился о землю, как раз соответственно своим размерам — и немедленно раздался вопль Никаноровны:
— Ах ты, разбойник! Разоритель! Что учинил, а?! Уничтожил! Убил без ножа! Мои запасы!
Викентий Алексеевич пожалел пострадавшую старушенцию:
— Сколько стоил ваш мешок, матушка?
Никаноровна насторожилась, приутихла:
— А вы что, матерьяльный ущерб желаете возместить, батюшка? — Впрочем после некоторой паузы неуверенно, но дерзко добавила: — За все про все двадцать. Двадцать целковых гони, фраер!
«Фраер», не задумываясь, вытащил из кармана новенький четвертной билет, который Никаноровна тут же выхватила у него и принялась так и сяк вертеть в руках, с пристрастием изучая при свете керосиновой лампы.
Наконец, оглядевшись по сторонам, хозяйка малины спрятала деньги в какую-то прореху своей многослойной хламиды и обрадовано заявила:
— Ну, раз ты со мной по справедливости и с походом, то ладно уж. Митрию, брательнику твоему, я не скажу, что ты мешок с продуктами, который он мне подарил, выбросил.
Помяв в руках купюру, продолжала:
— Ну, уважил, голубь, можешь взять свои вещи. Я ж старая волчица, понятия знаю: со мной по закону, и я без мошенства. Забирай, Василий, не тушуйся!
Она отперла кладовку в стенном проеме, вытащив оттуда целый ворох каких-то подозрительных предметов, вывалила их на пол перед Думанским.
— Э-э-эх! Не слы-ы-шна шуму городско-ова за не-ев-скай башней тишина, и на-а штыке у чисаво-ова гари-ит палночная лу-на… Пора мне спать ложиться, уже третий час. — Она взглянула на настенные часы, напрочь лишенные стрелок. — Сегодня я на твоей кровати посплю. У меня-то клопы-кровососы хищныя весь тюфяк изгрызли, а твой одер исторический: я считала — пятьдесят шесть человек за последние три года на нем померло. Только уж в опочивальню-то я тебя все равно не пущу и не проси, баловник, — спи где хочешь.
При последних словах «подводчица», осклабившись во весь беззубый рот, игриво погрозила гостю сухим пальчиком.
Разозленный Думанский стал было дергать дверь на себя, но жилистая старуха упиралась с такой силой, что он скорее оторвал бы дверную ручку, чем проник в «спальню». В конце концов Викентий сообразил: «Да что это я, совсем уж не в своем уме? Разве мне хочется спать в одной комнате, на одной кровати с этой омерзительной бабой?! Гадость какая!»
Он обреченно поплелся назад в «гостиную» и принялся разбирать кучу барахла из кладовки, оберегаемого Никаноровной в «его» отсутствие. «Барахлом» оказались набор отмычек и фомок, всевозможные вариации дверных ключей, газовый аппарат для резки металла, герметичная цинковая коробка, в ячейки которой ровными рядами были уложены баночки с ядами, два академических медицинских учебника — по анатомии и токсикологии, альбом в коленкоре с французскими порнографическими открытками, куда были также вложены несколько художественных фотографий из ателье: почти юные, безусые Кесарев с Челбогашевым, старший брат с какой-то женщиной, он же один в тройке при бабочке с надписью на обороте: «Дорогому братцу Васе от Димитрия». Здесь же Викентий Алексеевич нашел книгу «Знаки и символы» на французском языке с вырванными страницами.
Тем временем луна ушла за стену, тень на двери изменила контуры и стала теперь похожей на горбатую старуху.
Думанский, точно опомнившись, выскочил прочь из квартиры. Он не помнил, как оказался на другом этаже, как миновал несколько лестничных маршей. Переводя дух, опустился на холодные каменные ступени. Потом нашел в себе силы встать и спускаться дальше, но поскользнулся и грянул вниз. Очнувшись у выхода из подъезда, адвокат ощутил вдруг полное безразличие к происходящему, и это «открытие» в свою очередь не вызвало у него практически никаких особенных эмоций.
«Неужели я умираю? — Викентия Алексеевича подбросило от одной этой мысли. — Не хочу, не желаю!!! Я еще молод!!! — Вмиг он оказался на ногах, и тут же вернулось отвращение ко всему. — А может, лучше все-таки умереть? Я ничего не буду чувствовать, не буду жить чужой жизнью… Лучше забвение!»
Ощупывая воздух, перелицованный адвокат, как сомнамбула, вышел во двор. Но не успел сделать пару шагов, как наткнулся на какую-то преграду — это был мешок Никаноровны. От падения швы лопнули. Думанский переступил через него и замер, представив на миг, что это чье-то безжизненное тело. Вцепившись в углы мешка, он тут же принялся оттаскивать его от прохода. Посыпалась соль, но Думанский упрямо тянул куль в угол двора, оставляя на булыжнике белый след. «Если бы я выбросился из окна, сейчас за мной тянулись бы следы крови, но не моей крови — тело-то чужое! Ужасно! Как это все ужасно!»
Тут внимание Думанского привлекло нечто, вывалившееся из разорванного мешка и пребольно ударившее его по ноге. Дедовских времен шкатулка из потемневшего мореного дуба с массивным висячим стальным замком. «Странности какие, — подумал фальшивый Кесарев, — „пиратская“ шкатулка, а замок как на москательном лабазе или бакалейной лавке. Интересно — что там, внутри? Не может быть, чтобы старуха хранила там мыло, колотый сахар или монпансье. А тяжелая-то какая!»
Любопытство пересилило все прочие чувства, разрывавшие Викентия Алексеевича; он подобрал с земли камень и, усевшись прямо на землю, принялся методично сбивать замок со шкатулки. Его поразило, с какой легкостью исполняли руки Кесарева эту работу — видно, она была им привычна едва ли не с самого детства.
Наконец, злобно клацнув, замок полетел прочь. Крышка от удара откинулась. Первое, что увидел Думанский, был пухлый клеенчатый сверток, перехваченный шпагатом. Он развязал бечевку…
На обозрение открылась целая «коллекция» драгоценностей. Сережки в виде малахитовых серебряных змеек, инкрустированных бирюзой, колье из голубоватых кристаллов, какой-то жемчужный убор… «Вот так сокровищница! Все трофеи господина Кесарева».
Старинное колье, ювелирный шедевр неведомого мастера-искусника, пожалуй, ренессансной эпохи — виртуозно ограненные изумруды величиной с самый крупный крыжовник, скомпонованные в три ряда, — показалось ему смутно знакомым, точнее напомнило похожие драгоценности, с изумрудами той же воды, будто из одного гарнитура… Ну конечно же, серьги Молли Савеловой! Если мысленно положить их рядом с этим колье, они безупречно подойдут друг к другу. И она как раз вспоминала о целом гарнитуре. «Надо срочно вернуть Молли подарок покойного отца… Но что же тогда она подумает, увидев Кесарева, принесшего ее колье? Нет уж, нужно все это спрятать до лучших времен».
Шум, раздавшийся из подворотни со стороны улицы, заставил Викентия Алексеевича поторопиться — колье пришлось спешно положить назад, в шкатулку, а вот чьи-то золотые часы он успел оттуда забрать. У самых ног адвоката валялся ситцевый мешочек с пшеном фунта на три. Викентий Алексеевич, не раздумывая, подобрал его, к радости голубей и воробьев высыпал крупу на землю, а в освободившуюся ткань завернул свою драгоценную находку.
С обоих сторон двора стояли две пожарные бочки, заполненные водой, покрывшейся льдом. Оглядевшись — не следит ли кто за ним? — Думанский быстро подошел к одной из бочек, камнем разбил лед и с осторожностью заговорщика опустил тяжелый ларец в воду.
Тем временем уже светало. Настораживающий шум, бранные крики (возможно, какая-то свалка возле дома на улице) по-прежнему не стихали, и шарахающийся теперь от каждого шороха бедняга адвокат предпочел укрыться «на хазе» — в знакомом уже, хотя и отвратительном, обиталище «подводчицы». Заброшенная лестница скрыла его от неведомой опасности.
«А что было бы, попади моя душа в женское тело?! — продолжал размышлять наедине с самим собой Викентий Алексеевич, вспомнив отчаянную старуху, и его тут же внутренне передернуло до тошнотворного привкуса во рту: — Нет! Только не это — избави Боже… — Но должен же в конце концов быть какой-то выход из этого изощренного капкана?! Попал ведь Иона во чрево кита и выбрался — спас Господь…»
III
Без труда открыв незапертую дверь «малинника», Думанский проследовал в «гостиную» и осел в кресло.
Под доносившийся из-за стены монотонный бред Никаноровны, не пытаясь уже обнаружить в нем какой-либо смысл, совершенно расслабленный Викентий уносился в проход, неожиданно открывшийся в стене и уводящий в кромешный мрак.
— Ой, святые угодники! Ох, сдохну сейчас! За что муки принимаю?! — Мученические вопли Никаноровны донеслись из ее каморки. — Ой, подыхаю! Ну, ангелы небесные, встречайте же меня! Вот я — невеста Господня! Не признали?! Где же вы? Где? Душе моя прегрешная!
Судороги внезапно прекратились, и Викентий Алексеевич помог несчастной вскарабкаться на диван.
— Благодарю покорно, касатик. Вовремя-таки спохватился! Спас-таки! А я уж было подыхать собралась, дурища неприкаянная. Ой, умора!
Никаноровна завизжала, словно кто-то невидимый щекотал ее, и опять скатилась на пол, при этом ее вставные челюсти выпали и заскакали по полу, устрашающе клацая. Она, вставив челюсти и потирая ушибленные бока, пояснила:
— Просыпаюсь я от чувства, будто лицо мое ктой-то обыскивает, этак овевает с пристрастием, а глазки прямо-таки нежно целует. Кто ж такие? — думаю себе. Гляжу, а это ангелочки подлетели ко мне, натуральные херувимчики! Крылышками помавають, гляделки на меня выкатили и берут меня прямо на ручки, яко младенца годовалого. Я и далась — а чего бы не даться? — приятно ж побыть дитем неразумным! Ангелочки те стали меня нежно баюкать и раскачивать — все как полагается. Иные ангелочки, тута же возникшие, хороводы вокруг водют да припевают… Воздух весь исполнился цветочным дымом-фимиамом. Лепота и здоровье вокруг пышут! А самый-то толстый херувимчик (еще в тельняшке морской был и на ручках меня держал) рот как разинет, как гаркнет, точно труба иерихонская, — перепонки ушные чуть не лопнули! — а потом шепчет: «Здравствуйте, моя красавица! Здравствуй, милая княгиня! Приятных тебе сновидений!» А другой-то ангелочек, что в пуху и в перьях сновал, как ему и полагается, завозражал: «И никакая она не княгиня! Валерия она! Я наверное знаю!» Слышу я это, и смущение меня взяло: открыть им, думаю, доподлинно-натуральное мое имя-прозвание, все одно ведь в голубиной книге своей прочитают.
Так они между собой и спорили, а я меж тем, не будь дурой, заметила, что у того, который в тельняшке и за княгиню меня приял, глаза такие уставшие. Много, знать, повидал, болезный! А у второго лукавые глазенки, живые да дерзкие, — молодой еще, наверное, все знать хочет, а того не ведает, что скоро состарится! Хе-хе! Этот ангелочек, молодой да зеленый, ближе всех ко мне стоял. Прижался он к моему ушку и спрашивает: «Как ваше фамилие?» А я ему без затей ответствовала: «Никаноровна я, так-то, брат!» Тогда словно подменили ангелочка моего. Он будто бы оступился, вздрогнул вдруг, а после говорит: «Не хотел, мол, вас обидеть и прошу прощения!» Стали они тут друг дружке меня перекидывать, точно мяч какой, а толстый-то возьми да и урони меня на пол: «Нет! Не канает Никаноровна! Не канает!» Жуть!
Думанский предупредительно заметил:
— Послушайте, а может, вам не стоит забираться на столь высокое ложе? Ведь, того и гляди, опять упадете!
Но Никаноровна, похоже, больше прислушивалась к голосам, звучавшим в ее голове.
— Мне нравится, когда страшно! — заявила она, глядя куда-то в потолок.
Викентий Алексеевич, оставив Никаноровну наедине с ее видениями, поспешил удалиться в отведенную ему комнату, где опять попытался забыться сном.
Слух Кесарева-Думанского внезапно «обласкал» надрывный вой Никаноровны:
— Отпустите! Отвяжитесь от меня! Говорю же вам, аспиды, фараоны, не Гликерия я!
За окном, по всей вероятности, была уже вторая половина дня. Адвокат тотчас очнулся от кошмарного сна-наваждения: «Господи! Как же это — я тут все сплю, а там…» Его точно мощной пружиной выкинуло из кресла, и через минуту он был уже внизу — во дворе. Заключенный в тело хама и убийцы с большой дороги, подгоняемый каким-то поистине мистическим ужасом и природной брезгливостью к грубо животному началу в человеке, Викентий Алексеевич торопился изо всех сил. Вот бы только успеть, только бы не погубить душу свою в этой омерзительной, грязной плоти! В любой момент тот, кто «квартирует» в его «узурпированном» теле, может нарваться на пулю или нож, и тогда ему уже не бывать в полном смысле самим собой — Викентием Думанским, известным обществу адвокатом… Но он буквально с физической болью постоянно ощущал и другое, то, что было страшнее собственной дикой метаморфозы, страшнее небытия — смертельная опасность нависла над Молли, угрожала самому дорогому для него и совершенно беззащитному существу! «Неужели она раньше никогда не слушала эти злосчастные „Корневильские колокола“?[67] Откуда только у нее возникла эта мысль — пригласить дядюшку на оперетку? И я тоже хорош — готов сейчас же исполнить любое ее желание, а ведь и у любимых бывают желания роковые… Да кто ж мог подумать, что произойдет эта „метемпсихоза“ и билеты достанутся хищному хаму, дорвавшемуся до роскоши? Легкая музыка, французские певички, ложи красного бархата — наверняка обрадовался, что я выбрал самые дорогие места… Bête, sal boucher!»[68] — Несчастный адвокат испытал тошнотворное ощущение, вспомнив опять, в какой грязи растворено его благородное ego.[69]
«Господи Всемогущий! Помоги мне встретить рабу Твою Марию и убедить, что ей нельзя сегодня быть в Михайловском. Пусть она примет меня за настоящего Кесарева, пусть даже осыплет проклятиями, пусть прогонит, но поверит — это единственный способ спасти ее. Если на то воля Твоя, не открывай ей сейчас всей истины, Боже Милосердный, хотя бы на этот вечер приоткрой ее внутренний взор!» — усердно молился Викентий Алексеевич перед скромным олеографическим образом Спаса Вседержителя в незнакомой часовне, в тишине безлюдного переулка. Он решил во что бы то ни стало попасть в особняк Савеловых и добиться встречи с Молли. Думанский был готов ко всему: глубокий боковой карман пальто оттягивал тяжелый гуляевский пистолет, в нагрудном отсчитывал драгоценное время золотой брегет, «позаимствованный» у Никаноровны. Прежде щепетильный, адвокат, несомненно, посетовал бы, что опустился до уровня авантюриста из бульварного романа, сейчас же ему было решительно не до того — цель, как никогда, оправдывала средства. Буквально на ходу он подготовил и записку, предостерегающую от посещения театра (на тот крайний случай, если ему самому не удастся попасть в апартаменты), чтобы спрятать ее в букет.
Выйдя на большую улицу, Викентий, однако, сразу понял, что добиться поставленной цели будет значительно сложнее, чем ему до этого казалось. До савеловского дома пришлось добираться почти через весь центр Петербурга — выйдя из Московской части, он каким-то чудом миновал Спасскую и теперь уже кружил в Казанской, но чем меньше оставалось пути до заветного дома в Адмиралтейской, тем — Думанский определенно не мог этого не замечать — все больше становилось кругом полицейских. Квартальные и околоточные, как им и полагалось, несли свою обычную службу на перекрестках, площадях, но помимо них улицы патрулировались казачьими и даже жандармскими разъездами, что явно указывало на усиленный режим службы. Последний факт был неоспорим: со всех афишных тумб, даже с фонарных столбов в самых людных местах — возле храмов и рынков, пялились на прохожего фотографические портреты Кесарева анфас, «украшенные» внушительной суммой с несколькими нулями, обещанной, как недвусмысленно следовало из сопроводительной подписи, всякому, кто поспособствует розыску и аресту «особо опасного государственного преступника». «Редкая персона удостаивается чести быть так щедро растиражированной по всем столичным углам, — с горькой иронией подумал Викентий Алексеевич. — Кесареву, значит, досталась уже слава Герострата,[70] только вот мне она совсем не к ли… — ни к чему. Да-с! Не помню, на кого бы еще так серьезно охотились коллеги из полицейского ведомства. Браво, господа!»
То тут то там наметанный глаз правоведа выхватывал из уличной толпы переодетых в штатское юрких филеров. Даже дворники возле каждой подворотни держали метлы и лопаты «штыком» вверх, готовые вонзить его вместе с бдительным взором острых как бритва татарских глаз во всякого подозрительного обывателя, пересекающего вверенное им для наведения внешнего порядка и внутреннего спокойствия пространство двора. Через такие кордоны и мышь не проскочит!
Загнанный внутрь предельно ненадежного телесного убежища, бедняга Думанский, несмотря на все ухищрения, предпринятые им, чтобы сделать облик «Кесарева» не столь отталкивающим и наименее похожим на объявленный в розыск «оригинал», не мог отделаться от ощущения, что внимание всех петербуржцев, оказавшихся в этот час на улице, сосредоточено именно на его личности. Казалось бы, он предусмотрел все: в неприметной рыночной парикмахерской с «преступной» физиономии навсегда исчезли омерзительные усики и эспаньолка пошлого хлыща-донжуана, да и одет «Кесарев» был теперь, разумеется, без дешевого шика, но, находясь в тесном окружении бесконечных чиновников и военных, прогуливающихся господ и вечно спешащих мастеровых, каких-то загадочных элегантных дам, институток и горничных, пожилых богомолок в штапельных платочках, вежливых гимназистов с золочеными и серебряными дубовыми веточками на форменном картузе, юрких уличных мальчишек-сорвиголов, наконец, среди действительно подозрительных субъектов-золоторотцев откуда-нибудь из Вяземской лавры,[71] перелицованный адвокат едва сдерживался от безумного желания устремиться вперед очертя голову, бегом сквозь всю эту пестроту столичных типов, то и дело приседая и петляя, запутывая след, как заяц, преследуемый прилежно науськанными борзыми и легавыми.
«Легавыми? Ч…т!» — поймал вдруг себя на презрительном словце из блатного жаргона Викентий Думанский, испугано представив, что, никогда раньше не задумывавшийся об этом, теперь еще, не дай Бог, вместе с телом приобрел пока что не проявляющиеся воровские повадки и уголовный образ мышления, будь он неладен. «Этого еще не хватало — избави, Господи!» Тщетно он внушал себе, что с «благонамеренной» толпой нужно лишь хорошенько слиться, дабы не вызывать раздражительных подозрений — и раньше-то родовому дворянину с «лица необщим выраженьем» претило подобное, словно бы нарушалась юридическая презумпция невиновности, а теперь, когда вдруг особенно остро ощутил душой и телом не возвышенное «соборное» начало, как в храме, а низкий, «статистический» инстинкт стада, к горлу подкатил ком удушающей гадливости. В какой-то момент Викентий Алексеевич буквально физически не смог заставить себя двинуться дальше — словно окоченел! Неизвестно, сколько бы продолжался этот ступор, всеохватный «паралич», только навстречу «зазевавшемуся» субъекту, словно прочитав его мысли, уверенно шагнул почти до глаз закутанный в форменный башлык жандармский чин. Из-под плотного шерстяного сукна отчетливо прозвучало:
— Кто таков? Что тут мнешься поперек дороги? Язык проглотил?! А ну, малый, предъяви-ка документы!
Вот тут-то подгоняющий панический страх взял верх над капитулировавшим измученным рассудком Думанского: очнулся адвокат только в соседнем квартале на задворках магазина готового платья. В памяти беспорядочно мельтешили полицейские свистки, перебивавший их трели бешеный стук собственного (кесаревского?!) сердца и оглушительный шум крови в ушах, да брошенная кем-то из блюстителей порядка жалкая оправдательная фраза, мол, идет серьезная операция, а посему нечего на всяких «мазуриков отвлекаться». «Мазурик» с некоторым облегчением перекрестился, но внутренний голос продолжал подгонять его, не позволяя успокоиться и на минуту: «Нет, так дело не пойдет! Разве я хоть чего-то добился? Не сметь расслабляться и опускать руки! Необходимо срочно предпринять что-то действенное. Господи, настави и вразуми, ну пошли мне хоть крохотный шанс».
Шанс воплотился в извозчика, стоявшего в ожидании клиента у Красного моста, там, где Гороховая пересекает Мойку. Это был какой-то странный извозчик: не лихач, не обыкновенный «ванька», чьими услугами адвокат недавно побрезговал бы (впрочем, сейчас и «ванька» устроил бы его).
По виду вроде бы вчерашний крестьянин с веселой мохнатой лошадкой в упряжи, возница был рыжеват и розовощек, одет опрятно и тепло, как раз по крещенскому морозцу, но в то же время «наособь»: в заячьем треухе и таких же рукавицах, в нагольном тулупчике-куртке все с той же серенькой меховой оторочкой, поверх ворота топорщился широкий шарф домашней вязки. «Чухонец, кажется. Откуда-нибудь из-под Гатчины или Райволова.[72] Не по сезону явление — до Масленицы еще больше месяца, а он уже в городе». Среди обычных извозчиков петербуржец Думанский впервые встречал чухонца. «Стоило подумать о „ваньке“, а вейка[73] тут как тут! Казус».
— Харос-сый пар-рин, кут-та прикас-сете атвести? — добродушно, характерно налегая на «с» и растягивая слова, осведомился невский абориген, приметивший, с каким любопытством и тоской в глазах разглядывает его дрожащий, видимо от холода, прохожий. — Тсем смак-ку па-мак-ку. Сто-сс не памот-ть? Меня Тойва сват-т.
— Поможешь? Скажи, Тойво, почем нынче такая упряжка?
Извозчик решил, что его спрашивают о плате за проезд.
— Да ты, братец, вижу, не понял. Я хочу купить сани твои и лошадку!
Финн закрутил головой с видом оскорбленного достоинства:
— Не-ет! Не пратаетса, пар-рин. Эта-та хлеп-п мой.
Потом рассказал, что у него на мызе шесть ртов, пять детей и жена на сносях, а летом сгорела мельница, кормиться теперь нечем, вот он и «присол ран-на ф исвос, стоп-пы сарапоттать, а лошадка — трук, трук-ка расве прот-тают?»
Плохой игрок, к тому же лишенный возможности выбора, Думанский пошел ва-банк. Он вынул из кармана часы и протянул извозчику, подбрасывая на ладони, чтобы тот мог ощутить вес роскошной «луковицы».[74]
— Смотри, Тойво. Вот этот золотой швейцарский брегет с драгоценными камнями на крышке стоит не меньше, чем полтысячи целковых. За эти деньги ты купишь целую конюшню, потом откроешь собственный извоз…
— О-ля-ля! — глаза бывшего мельника загорелись. — Са полтыс-си руп-плей — ты-сся плакотарностей! Харос-сае тел-ло, вык-котное…
«Сейчас ты и друга продашь», — без радости подумал Викентий Алексеевич. Тойво предположил, что «пар-ри-ну» нужно последить за женой.
— Исфес-сное тел-ло…
Адвокат услышал в последней фразе каламбур. «Если бы тебе было известно, чье у меня тело, плохи были бы мои дела!»
— А вить я, каспат-тин Ке-ессареф, осчень таше вас приснал. — Чухонец точно прочитал мысли адвоката и тот, ошарашенный, застыл, не зная, куда бежать, но, вспомнив про револьвер, решительно наставил его на хитрого извозчика.
— Уп-перите пистолет-тик-та, та-аварись, Тойво не фытаст!
Из дальнейших его слов следовало, что у него сам брат был «поллитисеский», «соссиалист-рефлюссанер» и его повесили не так давно в «Слюссельпуркке».
— Моссет, слыс-сал, трук-к? Тел-ло Перкелляйнен… Та-а-а… Снат-тит я толл-сен вам памакать, та-а-варись!
Он снял с себя теплые вещи — ушанку, куртку, даже шарф, всучил «Кесареву» впридачу к упряжке и, не побрезговав пальтишком «товарища» на рыбьем меху, на прощанье пробасил, улыбаясь:
— Пери, пери! Я не ме-ерсну. Я тос-сэ са сфапот-ту на-рот-та. Я фински патриот! Я фыппь-ю секотня са пратта, а ты тос-се фыппей са наро-отт. Ну, ехай с поо-кам мимма сантармы!
«Не-ет! Чухна ты неблагодарная, а не „сфапо-отный патриот“!» — кипятился дворянин-законник Думанский, немилосердно нахлестывая мохнатую савраску. — «Разве не Белый Царь освободил их, дал им автономию?! Чернь!»
Наконец, уняв гнев, он остановил возок, вспомнив бдительного жандарма, подтянул вязаный шарф к глазам на манер башлыка, и направился к цветочному магазину Эйлерса.[75]
Бог знает, за кого приняли его лощеные продавцы, но безропотно упаковали щедрому покупателю громадный букет роз в изящную плетеную корзину. «Ну теперь-то можно встретиться с Молли без лишних подозрений, без препятствий. И предупредить ее! — подумал он, надежно спрятав тревожную записку среди бутонов. — Найдет, догадается — я же всегда вкладывал так визитки».
Через какие-нибудь четверть часа возок стоял у дома на Английской набережной, вот только хитрость, которой Думанский уже было внутренне гордился, оказалась, увы, бесполезной.
— Мил человек, барыня Савелова, пожалуй, дома будет? — обратился он к дворнику, старательно пряча лицо в шарф и пытаясь имитировать «простонародный» выговор. Страж ворот был не менее бдителен и строг, чем те, которых Викентий Алексеевич уже имел удовольствие наблюдать сегодня на других петербургских улицах. Надвинув на лоб казенный картуз и важно поблескивая начищенной номерной бляхой, точно это была медаль, дворник заслонил всей своей массой и без того прикрытые ворота. Держа наперевес широкую лопату, он угрюмо процедил из-под закрученных усов:
— Я тебе, паря, не «мил», а лицо при государственной службе! Где хозяйка, не велено говорить.
Пришлось незваному гостю предъявить в качестве документа-аргумента серебряный рубль. Полновесный императорский рубль возымел некоторое действие.
— Барыня Марья Сергевна не дома теперь… Ну в обчем, я, сказать правду, сам не знаю, где их носить — не наше дело-с, вот, — с показной неохотцей сообщил «страж». — Только точно знаю: теперь допоздна их не будет — даже прислугу отпустили. А букет… Оно, конечно, можно бы и в дворницкой оставить, ежели бы…
Он недвусмысленно уставился на карман Думанского, откуда тот доставал портмоне. Пришлось раскошелиться еще на полтинник, хотя адвокату стало понятно, что букет «с секретом» теперь значит едва ли больше, чем просто галантный знак внимания — предупредить возлюбленную об опасности он опоздал (записку же на всякий случай незаметно вытащил из корзины). Зато дворник был совершенно удовольствован:
— Премного благодарны-с! Присмотрим в лучшем виде-с!
«Не распускаться! Это еще не конец, у меня еще есть время», — подбодрил себя готовый ко всему правовед. Оказавшаяся на ближайшей тумбе помпезная афиша Императорского театра с разрекламированной «кесаревской» образиной внахлест услужливо напоминала о начале вечернего спектакля замаскированному теперь уже вдвойне правоведу Думанскому. Оставалось только подъехать к театру, дождаться Молли в компании с ее ненавистным спутником и собственными силами предотвратить готовящееся злодеяние. Героическое решение Викентий Алексеевич принял в одночасье и без колебаний, но как его было осуществить? Адвокат умел многое, вот только даром чудотворца не обладал. Уже за час до спектакля легкие санки с чухонцем-возницей стояли на Итальянской за боковым фасадом Европейской гостиницы, откуда открывался прекрасный обзор собственных выездов, пышных карет и экипажей, троек с лихачами и респектабельных автоландо, выстроившихся блестящей дугой возле освещенного электрическими лампионами театрального подъезда. Вообще вся площадь, в том числе и большой сквер в центре, была залита золотистым светом множества фонарей и еще к Святкам богато иллюминирована россыпью разноцветных огоньков, к тому же в этом ярком искусственном свете волшебно искрились аккуратные сугробы, снег под ногами, несметный рой ажурных снежинок над головой. Словом, несмотря на вечерний час, видно было как днем, и даже те, кто не хотел бы попасться на глаза кому-либо из знакомых, кто желал оставаться инкогнито, были лишены такой возможности. Думанскому, ставшему в этот роковой вечер одним большим оптическим устройством, к сожалению, не биноклем, хотя бы театральным, или лорнетом, а лишь обладавшему природной зоркостью и обостренным профессиональным чутьем, такое подлинно столичное освещение играло на руку, однако только сейчас он понял важность слов Никаноровны, со свойственным ей, пусть мрачным и инфернальным, но сермяжным юмором «окрестившей» Спичку «актером-минером» и поведавшей, что сей изобретательный террорист способен менять облик и может представить кого угодно («Просто какой-то современный Протей!» — удивился тогда правовед) — дородного купца, или благообразного батюшку, или даже деревенскую бабу-молодуху, на руках у которой оказывается бережно завернутая в лоскутное одеяльце взрывчатка.
«Неужели он решится на это жуткое преступление в столь людном месте, на одной из центральных площадей, где полицейские на каждом шагу? C’est impossible![76] Какая безумная, бессмысленная дерзость! Кругом женщины, дети… Да чему я, собственно, удивляюсь? Имел же возможность убедиться, что эти боевики — форменные маньяки, что для них нет решительно ничего святого! Революционная целесообразность, самопожертвование во имя народной свободы?! Да будь проклята подобная свобода!»
Простояв так несколько минут, выискивая «опасный объект» возле подъездов Михайловского театра, Викентий Алексеевич подумал, что Спичка, так же как и он сам, может расположиться вдоль Итальянской или вообще напротив — с другой стороны сквера, и спокойно «выцеливать» свою жертву. Таким образом, ничего не стоит упустить его из виду! Тогда новоявленный извозчик медленно покатил вдоль ограды круглого сквера, чтобы осмотреть всю площадь, оглядеть по возможности каждого подозрительного возницу и самому, соответственно, определиться с местом стоянки. Рядом с многоколонным фасадом Дворянского собрания, к примеру, было не меньшее столпотворение, чем против театра, который отсюда тоже просматривался — непредсказуемый Спичка вполне мог бы занять исходную позицию и здесь. С трудом преодолевающему тревожные смятения адвокату «бомбист» чудился теперь чуть ли не в каждом кучере и его ездоках, не говоря уже о разных прохожих с баулами и свертками.
«Со своим-то даром Спичка может быть и лакеем на запятках вон той кареты с княжескими коронами на дверцах, или, например, тем вон англоманом на холеном жеребце, в кожаном шлеме и со щегольским хлыстиком, да что там — а вдруг этот чахоточного вида студент с портфелем под мышкой, прислонившийся к ограде и то и дело посматривающий на авто, являющиеся со стороны Невского, и есть „актер-минер“ собственной персоной? Каждому в душу не заглянешь, а надо бы, ох, как надо бы… Настави мя, Господи! Владычице, спаси и сохрани Молли от вражьих козней, „от стрелы, летящия во дни“!»[77]
С такими мыслями Викентий Алексеевич на чухонских санях обогнул сквер и убедился, что с этой стороны опасность вряд ли может исходить — ни одного возка, прохожих почти никого. Музей Императора Александра III[78] был уже закрыт, так что вдоль его ампирной решетки Думанский тоже проехал со спокойным сердцем, вернувшись наконец к фасаду Михайловского театра, только теперь уже с другого края сквера — с Инженерной улицы.
Ничего не оставалось, как проследовать мимо ряда аристократических выездов и авто в черном лаке и никеле, косясь в их сторону пристальным взглядом, — вдруг злоумышленник затесался среди знати, ведь он непревзойденный лицедей.
Публика тем временем продолжала прибывать. Вот тут-то Викентий Алексеевич и заметил явно подозрительный объект. В слишком скромном для светского окружения обычном извозчичьем возке «скучала» одинокая ширококостная дама с грубыми чертами маскообразного лица, по виду спутница жизни какого-нибудь армейского обер-офицера или чиновника не выше 10-го ранга,[79] с младенцем, запеленутым в простенькое одеяльце с узкой кружевной полоской наискосок. Бесцветная дама держала дитя так, будто это была кукла или вообще полено, причем, вопреки логике, сверток не проявлял никаких признаков жизни — ни младенческого плача, ни малейшего шевеления.
«Ну наконец-то! — Думанский насторожился. — Вот это роль! То ли жена гренадера, то ли сам переодетый гренадер, а что в руках — и подумать страшно. Если это не он, то я настоящий Кесарев! Революционный привет, товарищ Спичка! Теперь главное не упустить тебя из виду».
Викентий Алексеевич огляделся вокруг, пытаясь оценить обстановку, а точнее, подсознательно ища хоть какой-то поддержки. По Итальянской фланировал разъезд конной полиции. Первое движение души дворянина-правоведа, искренне благородное и профессиональное, было броситься к стражам порядка за помощью, указав им на субъект общественной опасности, и отдать соответствующие распоряжения. Бедняга на мгновение утратил чувство реальности, ведь самой вожделенной добычей для всего полицейского корпуса Петербурга был как раз он — вор и убийца «Кесарев». Этот конный патруль именно затем и находится здесь с самого утра, продуваемый немилосердным морозным ветром, чтобы задержать его или уничтожить, а вовсе не для совместных с ним, «государственным преступником», действий.
Очнувшись, Думанский-«Кесарев» с ужасом заметил, как от патрульной группы отделился верховой и, по-видимому, все-таки сочтя подозрительным раннего вейку, да еще с пустыми санками, направился в его сторону. Втянув голову в плечи, Викентий Алексеевич уже привычно поправил широкий шарф, прикрывающий нижнюю часть лица, делая вид, что кутается от мороза.
«Господи, пронеси!» Тут же поблизости затарахтел мотор. Авто притормозило совсем рядом, обдав жалкого вейку снегом из-под колес и трижды вызывающе квакнув клаксоном. Внутри удобно расположилась госпожа Савелова — его единственная, несравненная Молли — в элегантной меховой шапочке с темной вуалеткой, спускавшейся на лицо, и тот, кто против всех Божьих заповедей и законов мира сего ныне занимал, казалось бы, неотъемлемую собственность Викентия Алексеевича Думанского — его тело. Думанский испытал нестерпимое желание вцепиться в этого убийцу-авантюриста зубами, ногтями — словом, всем, чем только возможно… До чего же омерзительно созерцать на своем лице, знакомом до мельчайшей родинки, до каждой черточки, предающей неповторимость образу, чужую, самодовольную до гнусности улыбку! И разве есть необходимость издавать гудки, когда место для стоянки совершенно свободно?
Возок с «женщиной»-бомбистом выдвинулся из общего ряда навстречу адвокатскому авто-кабриолету, будто только его и дожидался. Теперь сомнений не было: Думанский безошибочно вычислил источник смертельной угрозы. В голове его будто защелкал хронометр, четко отчитывающий секунды до непоправимой трагедии. Сознание приобрело исключительную ясность, как это иногда случалось с ним перед защитой на особо важных процессах. Викентию Алексеевичу даже удалось беспрекословно подчинить себе неподатливые, неуклюжие в другие минуты мускулистые бандитские члены: ни мало не колеблясь, он изо всех кесаревских сил хлестанул лошадь и, точно управляя древней боевой колесницей, на полном ходу врезался во вражеский возок. Воцарился полнейший хаос, все завертелось перед глазами. Думанский видел, как сани с «женщиной» из-за мощного удара с хрустом и скрежетом резко накренились на сторону. Авто, к счастью, успело затормозить, не попав в общую свалку, но разгоряченный адвокат каким-то боковым зрением успел заметить ставшее белым как мел и теперь просвечивающее даже под вуалью, искаженное гримасой почти до неузнаваемости женское лицо. «Бедняжка Молли — вот что делает страх! В другой ситуации, пожалуй и не поверил бы, что эта она».
Тотчас, не обращая внимания ни на испуганное ржание лошадей, ни на площадную, подлинно извозчичью ругань Спичкиного кучера, ни на терзающие слух гудки клаксона, Думанский со своего облучка прыгнул прямо на «переодетого гренадера» и выхватил у него смертоносный сверток. После второй атаки возок уже буквально рухнул на бок, чудом не задев вдруг обнаружившего в себе акробатические способности адвоката с прижатой к груди добычей. И вот тут-то, к полнейшему своему изумлению и ужасу лишенный права на ошибку в схватке с актером-минером, Викентий Алексеевич услышал пронзительный плач младенца, усиленный беспомощным женским визгом. «Нет, это абсолютно невозможно! Тогда что же получается? Кто же тогда…»
Подняв голову и теперь еще бережнее прижимая к себе ни в чем не повинное дитя, Думанский почувствовал, как внутри все холодеет: конный жандарм, поравнявшись с «кесаревским» авто, поднял над головой какой-то шипящий предмет. «О ужас!» Обеими руками он держал бомбу с дымящимся фитилем! «Еще секунда — и этот фанатик уничтожит мое подлинное тело, погибнет Молли, и тогда всё…»
Викентий Алексеевич успел только перекреститься, зато «полицейский»-Спичка не успел толком и размахнуться, как мохнатая финская лошадка, окончательно высвободившись из упряжи, шарахнулась в сторону, с силой ударив жеребца ряженого полицейского. Тот поднялся на дыбы, ошалело заржав, заметался, едва не опрокинув всадника на землю. От неожиданности Спичка не только потерял равновесие, но при этом разжал руки, уронив страшный снаряд прямо себе за спину. Тут же прогремел взрыв, навсегда положивший конец кровавым «выступлениям» актера-минера, но, к счастью, пощадивший окружающих — они, казалось, были лишь оглушены и ошарашены… Или не все?! Что с авто… Что с Молли?!!
Для Думанского мир на некоторое время утратил целостность и вместо единой картины распался на множество фрагментов, как в детском калейдоскопе, вот только их сочетание являло невероятный, душераздирающий абсурд. Дама — «мать» спасенного младенца — лепечет несвязные благодарности, порываясь целовать руку «спасителя», само дитя продолжает безутешно, надрывая связки, реветь только уже в материнских объятиях; вот вырванная взрывом дверца автомотора, а рядом с ней — не может быть! — УБИТАЯ, застывшая на снегу в болезненно-вычурной, с невообразимо изогнутыми, точно стебли фантастических растений в мертвенном стиле модерн, руками, с ногой, то ли сломанной, то ли все так же неестественно подогнутой к талии… но только не Молли, нет — не мадемуазель Савелова, не Возлюбленная, а… навсегда покинутая мадам ДУ-МАН-СКА-Я!!!
«Ну слава Богу… Нет, Господи! Что это я… как же это?! За что… Несчастная Элен… Зачем? Неужели для этого она жила, мучилась… А может, давно была мертва — de ргоfundis?![80] Да-да — в глубине существа, в душе… Это фатум!.. И все же не Молли — спасибо, Господи!!!»
И снова крики брани и радости, мельтешение прохожих, зевак, резкий, какой-то химико-лабораторный запах взрывчатки… Рядом изуродованные, точно разделанные в татарской мясной лавке трупы лошадей; какое-то месиво из крови и шинельного сукна — то, что еще несколько секунд назад было человеком с нелепой, пожароопасной то ли фамилией, то ли кличкой… Наконец, животный, как на скотобойне, пар, идущий от мгновенно оттаявших колод-торцов мостовой в свежих красно-черных лужах — лужах крови, с запахом крови!!!
И тут все заслонило собой мертвенно-бесстрастное лицо, которое Викентий Алексеевич всю жизнь привык видеть только в благородной раме зеркала.
Уцелевший незаконный и вызывающе неуместный спутник «Молли», едва заметно покачиваясь, вышел из присвоенного покореженного взрывом авто-ландо, снисходительно наклонился над… собственным телом и, протянув ему холодную как лед холеную руку, помог подняться из грязно-кровавого снега! Неожиданно подлинный Кесарев прошипел на ухо подлинному Думанскому: «Непокорнейше благодарю, господин извозчик… без усов и бороды».
«А я еще поражался несколько минут назад, — рефлексировал рафинированный мозг правоведа, — как террорист-актер смог перевоплотиться в стража порядка — переоделся, и готово. Вот перевоплотиться из профессионального вора-мокрушника в служителя закона — буквально из плоти в плоть — такая метаморфоза достойна пера Овидия!» Постепенно отходя от шока, извозчик Думанский вовремя увидел, что к месту происшествия спешат уже другие, не ряженые полицейские. Несмотря на мороз, пришлось расстаться с теплым чухонским тулупчиком: сбросив его на бегу, пряча за пазуху вессон, разыскиваемый «преступник» нырнул в ближайший проходной двор, чтобы слиться с всепоглощающей стихией Невского, раствориться в ней, забыться…
А к ночи подлинный Думанский впервые за последние дни вдруг почувствовал себя… СЧАСТЛИВЫМ! В нем самом еще теплилась надежда однажды вернуться в свое родное, чудом не загубленное мелким бесом тело — значит, Всемогущему Творцу угоден их будущий союз с Молли!
Прочие козни мира сего, даже страшная, но давно предчувствуемая предсказуемая гибель Элен, на этом фоне, в сущности, пока не имели значения. Страх метафизической ловушки был преодолен действием. Следующий зимний день клонился к вечеру, а Викентий Алексеевич Думанский, разбуженный косыми лучами заходящего солнца, только проснулся, с трудом вспоминая, что же с ним произошло за последние сутки: отчаянный бросок на помощь Молли под самым носом у полиции, преображение в чухонца-вейку, взрыв, покаравший «минера» Спичку, и никак не предполагаемая ужасная гибель Элен, а затем очередное вынужденное возвращение в ненавистный «малинник»… Открыв глаза, адвокат с отвращением обнаружил в неопрятной, но просторной постели сбоку от себя женский затылок, прикрытый прозрачной газовой фатой. Не успел он отпрянуть в сторону и хорошенько рассмотреть, кого же это ему «сосватали», как «невеста» сама повернулась лицом к нему, и покрытый холодным потом узник бандитской плоти увидел сморщенную, словно прошлогоднее яблоко, старушечью физиономию. Потягиваясь, Никаноровна прошамкала сквозь дрему:
— Не каждый может достичь трагической красоты… А ты не обманешь? Денег мне заплатишь? — Но тут же встрепенулась и, стряхнув с себя остатки сна, смущенно заворковала: — Ах, Васенька, миленький, это ты! А может тебе охота, чтоб Андрюшей звала? Только скажи, я на все согласная… Вот дура-то я — и не заметила, как заснула. Ну да не беда, одну девку два раза не испортишь… А ты без усов — ну просто студент-правовед, ни дать ни взять. Касатик ты мой ненаглядный, давай поженимся, глупенькой, вот что! Ведь я не женщина…
Думанский замер с раскрытым ртом, а Никаноровна, плотоядно облизнувшись, продолжала:
— Я зверь! Пьяница я запьянцовская и русская амазонка! А ты чего такой квелый? Может, хоть поцелуемся, а? Знаю, по закону до свадьбы целоваться — стыд и страм, а я страсть как люблю, когда стыдно!
Думанский отпрянул было на самый край ложа, но Никаноровна ничуть не смутилась:
— Шучу я! Больно ты мне нужон! Порезвиться охота, смекаешь? Это ведь я так — искушаю, испытание тебе творю.
Старая безобразница изобразила смущение:
— Пардон!
Думанского перекосило. «А все-таки какое отвратительное существо!» И тут же откровенное злорадство охватило его.
— Послушайте, мадам, а у вас, оказывается, и имени-то нет! Просто Никаноровна?! Как же прикажете понимать такой нонсенс? Может быть, у вас громкая фамилия?
— А ты что, сомневаешься? — удивилась старуха. — Еще какая громкая и весьма известная! Не в пример твоему папаше. Хотя ты ведь на слово все равно не поверишь… — Она сняла с шеи медальон — камею с ликом самой Екатерины Великой.
«Удивительно! И даже чем-то похожа в профиль на Императрицу! Такой раритет Государыня могла пожаловать только своей фаворитке, и тогда передо мной знатная особа… — рассудил озадаченный адвокат. — Абсурд полнейший! Купила у какого-нибудь антиквара, впрочем, скорее украла».
— Мое любимое имя — Галя, — мечтательно, нараспев произнесла Никаноровна.
— Вы хотите, чтобы вас называли Галиной? С вашего позволения, теперь буду величать вас Галиной Никаноровной.
— Да хоть горшком назови, сердешный! — А затем попросила жалобно: — Пойдем вместе в уборную? А то опять эти ангелочки разлетались… Боюсь я одна. Ведь сердечко не воробей, вылетит — не поймаешь.
— Ну уж это, знаете ли! — взорвался от возмущения адвокат. — Это уже слишком! Хватит, говорю вам!
Бабка покорно встала и, понуря голову, послушно засеменила в комнату. Думанский слышал, как, мурлыча под нос что-то печальное, она плюхнулась в кресло-качалку.
«Теперь должна угомониться!» — понадеялся он, но тут же из комнаты донесся душераздирающий крик. Несчастная старуха силилась сообщить, что, зевая, вывихнула челюсть. «Шут с ней — опять, наверное, ангелочки привиделись».
IV
Вскоре в квартиру тихонько постучали. Стук был явно конспиративный. Думанский, неслышно ступая, выбрался в прихожую и, буквально прильнув к замочной скважине, с замиранием сердца попытался рассмотреть, кто это там еще явился. За дверью стоял Челбогашев! Адвокат долго возился в полумраке, наконец, снял цепочку, откинул крюк и отодвинул щеколду.
— Чего сразу не открываете? Хорош ухо давить. Я же «своим» стуком стучу, как условлено — пора бы уж запомнить! — прикрикнул на «братуху» вошедший Димитрий, наощупь запер за собой дверь и, по-хозяйски пройдя в гостиную, затеплил свечной огарок. — Темнотищу развели как у негра в животе… Вот, держи — как обещал! Волына что надо и маслята[81] к ней — он протянул «Кесареву» сверток. — Готов, Васюха? Они завтра ночью отчаливают. Ты и Таран прикроете меня всяко, подстрахуете, чтобы без сюрпризов прокатило, а то еще чего доброго этот… решит раньше времени уйти.
— Ты не горячись, Митя… Я тут подумал — зачем нам квартиру-то поджигать? Во-первых, весь дом сгорит, и это вызовет слишком много шуму, а шум нам совсем ни к чему, — набрался смелости Думанский. Было понятно, что речь идет о Свистунове, но Викентий Алексеевич боялся лишний раз переспросить и перепутать чьи-нибудь имена или затронуть обстоятельства, о которых он как «Кесарев», разумеется, должен был бы знать, но как Думанский мог лишь догадываться. — Во-вторых, соседи могут запомнить, кто куда входил-выходил. Дадут показания, что до Свистуна в квартире уже были люди, затем он сам входил туда с кем-то, затем все «гости» вышли, а хозяин, следовательно, остался один. Не дай Бог еще услышат крики. Или почувствуют, что пахнет дымом: пожар вовремя потушат и из-за этого труп, ну «музыканта», точно опознают! Лучше, чтобы Шерри попросила Свистуна забрать ее на поезд не из дома, а встретиться где-нибудь в месте поглуше, недалеко от воды, где нет ни прислуги, ни собак, ни дворов, ни дворников. Будто бы для того, чтобы у людей бдительность усыпить и поклонников заодно отвлечь. Будьте покойны: там мы его без постороннего глаза задушим, обменяем одежду и труп бросим в Неву — концы в воду, так сказать. Когда он разбухнет и рыбы объедят лицо, кто ж станет сомневаться, что это Дмитрий Челбогашев? Уж прости, братец, что так о тебе говорить приходится. Ну а в карман ему, разумеется, положим твои настоящие документы. По-моему, есть резон в таком плане — я все тщательно продумал.
— Любишь ты, Вася, словечки французские — «резон»! — занервничал Челбогашев. — Пожалуй, толково, да не совсем. Январь на дворе, морозы гляди какие — трудно сейчас на Неве полынью найти… Может, предложишь еще Крещенья дождаться и в иордани[82] жмура утопить?! К тому ж вдруг его возьмут, да и выудят раньше времени? Его ж ни червь тронуть не успеет, ни уклейка паршивая! Так что, братан, недокумекал ты — не по погоде твой план.
«Кесарев» продолжал гнуть свою линию:
— Да послушай лучше: лицо изуродуем — три выстрела, и весь фокус, родная мать не узнает! Полынью отыскать — да нет ничего проще! — у любого канализационного стока. В паспорте, кроме имени и даты рождения, можно сказать, никаких данных… Нет, Дмитрий, не советовал бы я тебе убивать «музыканта» у него в доме. А вдруг полиции что-нибудь известно, вдруг там полицейский пост? Маскарад устраивать бесполезно. Даже если оденешься мастеровым или бороду приклеишь, тебя все равно узнают и задержат, а то и меня — оба ведь в розыске!
Челбогашев смотрел на брата в хмуром безмолвии. Теперь он явно был озадачен. Наконец, тяжело вздохнув, ухмыльнулся:
— А молодец, братуха, — усики и бородку петушью, вижу, сбрил. Я ж тогда сразу сказал: ни к чему этот понт, спалишься в два счета, — а ты, мол, дай пофорсить, успею! Как только умудрился тут — пером, что-ли? Осторожный ты стал, однако… За это можешь баринка нашего, Сатина, благодарить! Может, оно и на пользу? Ну ладно, раз такой коленкор, давай сообща решать, где работать будем, «Андрей», мать его кесареву.
Поразмыслив, подобрали все же подходящее место, условились обо всех деталях. Желая поскорее спровадить бандита, Думанский поспешил напомнить:
— Поторопись, Митя! Тебе еще нужно Шерри предупредить.
После его ухода Викентий Алексеевич постучался к Никаноровне:
— У вас тут случайно не найдется чистого листа бумаги?
— Что-о? У нас? Бумаги?! Тебе еще соску сосать… Выдумаешь тоже — бумаги! Тоже мне, канцелярию нашел, — не открывая, сердито ответила она.
Думанский, не рассчитывая более на помощь хозяйки, махнул рукой, разгладил оберточную бумагу, (слава Богу, не промасленную), в которой Челбогашев принес ему «волыну», и аккуратно оторвал с краю небольшой ровный кусок. После тщательного «обыска» полузаброшенного жилья нашелся и огрызок карандаша. Написание простой, в сущности, записки, которое занимает у обычного человека считанные минуты, оказалось для перелицованного адвоката целой эпопеей. Кесаревские пальцы, что называется, буквально закоснели во зле и были совершенно не привычны к письменным упражнениям. После долгих стараний из-под грифеля, корчась, поползли каракули, о которых говорят: «Писала курица лапой». Между прочим, адвокат заметил вдруг все это время валявшиеся под столом разлинованные листы, выдранные из ученической тетради: «Ну вот, с бумагой, по крайней мере, уже лучше!» Викентию Алексеевичу пришлось вспомнить, как он еще гимназистом-«приготовишкой» старательно выводил алфавит, азбучные слоги и целые слова в прописях. Оказалось, что на четвертом десятке у него значительно больше усидчивости, старания, а главное — способностей к чистописанию, чем в детстве, когда его буквально нельзя было удержать на месте дольше нескольких минут. Для начала он поразминал кисть правой руки, помассировал пальцы до хруста в фалангах, перекрестился, затем взял, как положено, теми же тремя пальцами карандаш и осторожно вывел по памяти: «Душа; Книга; Благодать; Могила; Нива; Святыня…» Пальцы начинали вспоминать извечную науку постижения грамоты и были уже гораздо послушнее. Адвокат неожиданно улыбнулся, припомнив свой любимый когда-то стишок из тех, что помещались в азбуке для запоминания слов с корнями на «ять»:
Встарь нерѣдко печенеги На Русь дѣлали набѣги, Побеждали христiанъ, Гнали плѣнныхъ въ вражiй стань, Было в Новгороде вѣче, С татарвой бывали сѣчи Всех тѣх дѣл бывалых лѣт Нынѣ ужъ на свѣте нѣт.На этот раз упражнение удалось уже на твердое «посредственно с плюсом».
Поупражнявшись, таким образом около часа, Думанский, к своему радостному удивлению, понял, что снова свободно пишет прежним своим каллиграфическим почерком.
Он в очередной раз убедился: что бы там ни говорили позитивисты и материалисты, искра Божия, индивидуальность, память обитают в бессмертной душе, а не в бренном теле и препарируемом анатомами мозге. Когда уже Викентий Алексеевич собрался ставить подпись, рука его в нерешительности застыла над бумагой, а губы скривила горькая усмешка… «Как теперь подписываться, Бог весть — не Кесаревым же? А если, невзирая ни на что, — собственной фамилией?! Тогда обратятся к этому оборотню в моем обличье, а он, конечно, заявит, что ничего подобного не писал, что даже почерк не его, а откровенный подлог… А Молли ему не поверит! Так что мы еще повоюем: почерк ко мне уже вернулся, а там, Бог даст, глядишь и… Что в имени тебе моем, Молли, — ведь не пустой же звук? Даже личное факсимиле на визитке чего-нибудь да стоит, а тем более полное имя, написанное мной, моим почерком! Рано, рано опускать руки… Господи, не лишай меня надежды, прииди в помощь рабу Твоему!» И, отбросив унизительные сомнения, узник чужой обманной плоти подписался привычно: «Адвокатъ Викентiй Думанскiй».
Глубоко вздохнув, стойкий защитник права, ухватившийся за единственную, как ему показалось, свыше протянутую соломинку, не медля ни минуты устремился на улицу. Там уже стемнело, что было как раз ему на руку. Подняв ворот чьей-то бекеши,[83] висевшей в коридоре — то ли кесаревской, то ли «васюхиной» (не столько от ветра, сколько — чтобы укрыться от посторонних взглядов), он сунулся в какую-то бедную, малоприметную лавчонку. В ответ на просьбу хозяин изучающее-подозрительно воззрился на взъерошенного, с мольбой в глазах незнакомца, но предложенный рубль вызвал у коммерсанта правильную, деловую реакцию. Он тотчас кликнул сына, и тот стремглав помчался исполнять поручение, а Думанский, заодно обрадовав лавочника покупкой провизии, уже на улице облегченно перекрестился и, вспоминая на ходу девяностый псалом, побрел назад в свое постылое новое пристанище.
Прежде чем Никаноровна соизволила подойти и отомкнуть, стучать ему пришлось довольно долго.
— А ты хто ш такой будешь? — грозно вопросила она, оставив дверь на цепочке.
«Старая конспираторша! Опять за свое!»
— Да я это, Андрей!
— Какой такой Андрей? Андрюша, ты?! Так Андрея нетути, дома его нет. А вы заходите, все равно заходите. — При этом старуха попыталась запереться, но мнимый «Андрей-Василий» успел поставить ногу на порог, в образовавшуюся щель, и тогда озорница Никаноровна, наоборот, резко распахнула тяжелую дверь, норовя попасть гостю по лбу. Тот еле успел увернуться.
— Так это и вправду ты? Ты это вправду сказал аль нет? — Тут она увидела продукты в пергаменте и торчащую из кармана «Кесарева» бутылку водки. — Ахти — харчами разжился! Гляди, что тебе приготовила, — продолжила она, указывая на стоявший в глубине комнаты кальян. — Прямо как ангелы мне нашептали, что ты нынче припожалуешь. Я и раскурить успела — ну-тка, затянись!
— Что-о?! Этим?!! Нет уж, увольте — не увлекаюсь и не стану, даже не настаивайте, — отшатнулся в сторону перелицованный адвокат.
— Да брось ты кобениться-то! Твой же любимый, — продолжила старуха, глядя прямо в глаза пришедшему. — Если ты Кесарев натуральный — станешь и получишь гамму новых впечатлений. А ежели ты незнамо кто, да за Кесарева себя выдаешь, кожу его напялил, тогда не обессудь, милок-голубок.
— Вы меня простите, сударыня, но я питаю страсть к сигарам, — дипломатично начал адвокат, с отвращением подумав: «Что за скверная старуха! Неужели и в самом деле придется!» — И потом, какой же я Кесарев — Вася я, Челбогашев Василий, а Кесарев был, да весь вышел — кожа одна, это вы правильно заметили.
— Ну ладно-ть — учить старуху вздумал! Память-то у меня девичья, но вполне выдающая. А я люблю покурить, а потом пойду мазурку скакать — не остановишь, и ты не модничай — не к адмиралу на блины прибыл. Давай-ка воспарим вместе, Васятка! Подразнил судьбу-злодейку, ась?
Бедняга Думанский, убедившись, что Никаноровна иначе от него не отвяжется, решил затянуться для вида… Потом приложились еще и еще… Когда укурились вконец, жилистая Никаноровна оттолкнула осоловевшего гостя в сторону:
— Ступай дрыхнуть, нечего мне здесь заботу изображать. Там у тебя чегой-то понажористее было — бумагу-то разворачивай, не жмись и не крысятничай. Ить это другое дело! Кавалер ты или кто? Даме угощение причитается.
С этими словами «экспроприатор и пьяница» отобрала у Викентия Алексеевича «шамовку» и беленькую и заперлась в спальне. Через полчаса оттуда снова уже доносилось умиротворенное похрапывание.
«Удастся ли и мне сегодня спокойно поспать?» — Он, давясь, пил большими глотками дрянное вино, вообще-то купленное в расчете на «невзыскательный» вкус Никаноровны, но решительно отвергнутое любительницей чего покрепче. Прикончив пару стаканов, несчастный адвокат устроился на продавленной оттоманке в комнате, которую с большой натяжкой можно было бы назвать гостиной. «Викентий! Викентий!» — завопил вдруг кто-то за стеной. «Какой еще Викентий?! Кто может об этом знать?» — Думанский впервые в жизни испугался своего имени и бросился в спальню, захлопнув за собой дверь. У него даже не хватило сил дойти до кровати. Он рухнул прямо в кресло, где и погрузился в цепкие объятия морфея…
— Свистунов! Открой, Свистунов! Во имя всего святого!!! Это же я, Викентий! Я все сейчас объясню! — настойчивые требования сменились глухими рыданиями: — Мне некуда идти, открой… Пожалуйста! Я денег дам… Мне страшно! Всё отдам, только верните тело!
В ужасе, ничего не понимая, Думанский, очнулся от того, что закрытая дверь с шумом распахнулась. На пороге снова оказалась испуганная Никаноровна. Ее бесцветные глазки были навыкате, губы тряслись.
— Страсти-то какие! Ну-ка, идем! Опять братец твой в дверь колотит.
V
— Ты только взгляни, — воскликнул «Митрий», — какую я красоту несказанную привел! А ты барышень ждать заставляешь. За своими вещами пришли: заведение-то легавые прикрыли после того, как банкира этого тут грохнули.
В прихожую, распространяя вокруг себя запах дешевых духов и жеманно хихикая, вошли три особы женского пола. При первом же взгляде на «барышень» можно было безошибочно сделать вывод об их малопочтенном ремесле.
Первой важно вплыла статная высокая обладательница роскошных светло-русых волос, уложенных на голове «короной». Ее можно было назвать даже красивой — серые, чуть навыкате, глаза, брови, которые в народе называют соболиными, — если бы лицо не портили неумеренно и безвкусно наложенные косметические средства — два пятна ярких румян и рот, размалеванный карминной помадой. Сбросив на руки Челбогашеву лисий салоп, она осталась в платье сливового цвета, которое, казалось, все состояло из кружевных воланов, фестончиков и вышивки искусственным жемчугом.
— Мамзель Гликерия! — отрекомендовал ее Челбогашев. — Не женщина, а просто жемчужина.
— Так уж она вам и жемчужина, — перебил визгливый, прокуренный голос. — Ты лучше на меня погляди, неужто я хуже! Я и деву невинную могу изобразить — не отличишь. Да хоть гимназистку.
Переведя взгляд на вошедшую следом, Думанский с ужасом увидел худосочную брюнетку, на которой и в самом деле красовалось форменное коричневое платьице с белым передником. Правда, безбожно короткое и с непомерно глубоким декольте, в котором виднелось нечто, напоминающее скорее стиральную доску, чем женские прелести. Черные волосы были собраны в девическую прическу, на которой пестро теснились всевозможные бантики, заколочки и тряпичные цветочки. Бесстыдным жестом «девственница» задрала подол и продемонстрировала белые атласные панталончики.
— Мамзель Валерия! — словно новоявленный Вергилий, «Митрий» продолжил путешествие по второму кругу ада, представляя очередное воплощение плотского греха. — Прошу любить и жаловать.
— Как вы все вульгарны! — подала наконец голос третья гостья, выходя из темного угла, где стояла до сих пор. — Это же невыносимо, наконец!
В противоположность двум предыдущим, эта «сладострастница» выглядела так, будто собралась на бал. Правда, вряд ли бы ее пустили в приличный дом в донельзя вытертом лоснящемся шелковом платье некогда персикового цвета и шляпке с перчатками по локоть того же вида. В ушах, на шее и пальцах этой зеленоглазой шатенки сверкали бриллианты, слишком крупные, чтобы быть настоящими. Картину довершал веер из зеленых страусовых перьев, такой же линялый и потрепанный. Только приглядевшись, Думанский заметил, что гостье на вид не больше сорока и в профиль она напоминает древнегреческую камею.
— А вот мадам Ариадна, — завершил представление «девочек» Челбогашев. — Самая яркая драгоценность этого вертепа — для любителей изысков! Божится, что княгиня, — поди проверь!
— Мой муж был князь — именно-с! Я, между прочим, потомственная дворянка и только из крайней нужды и одиночества вынуждена терпеть ваше кошмарное общество, — заявила Ариадна, протянув Думанскому руку для поцелуя.
Тот и сам поначалу хотел было это сделать (в силу привычки и воспитания), но, увидев перед собой нечто далекое от чистоты и свежести, да еще со следами вчерашней трапезы, внутренне содрогнулся и отступил на пару шагов.
— Видали мы энтих аристократок! — заявила Гликерия, демонстративно сплевывая на пол. — Муж тебя ж бросил, а перед тем все состояние в карты спустил. Работать — так руки не тем концом приставлены, в гувернантки — так нет, энто мы гордые, дворянки-с! А голод-то он не тетка, в девки пошла как миленькая. Так что нечего форс давить, ничем ты не лучше нас!
— Разговаривать с такими пошлыми созданиями из низов ниже моего достоинства! — заявила оппонентка. — Да меня с вами рядом и поставить невозможно. Вот и мужчина то же самое скажет. Правда, кавалер прекрасный?
— Ну, завела шарманку, роза из навоза! — капризно протянула Валерия, старательно надувая губки. — Что ж ты тогда тут стоишь?
— Девочки, не ссорьтесь! — воззвал Челбогашев, видя, что продажные создания готовы сцепиться между собой как помойные кошки. — Давайте-ка по стаканчику красненького на мировую. Вы бы лучше себя показали да нас потешили. А то ведь все равно без дела простаиваете.
— Ох, и правда! — отозвалась Гликерия, уставившись на Думанского огненным взором казачки. — Закрыли наше приличное заведение, негде стало работящей девушке голову приклонить. Одна-одинешенька, как березка во чистом поле! И всякий тебя ободрать норовит. Некого любовью да лаской одарить, — закончила она, подойдя к перелицованному адвокату почти вплотную.
От неожиданности тот отступил и плюхнулся на стоявшее у стены старое продавленное кресло. На колени ему тут же взгромоздилась Валерия, продолжая изображать из себя «пай — девочку».
— Папочка, а ты мне конфетку купишь? Сказочку на ночь расскажешь? Ну пожалуйста! Я буду хорошей и послушной.
С этими словами перезрелая «барышня» принялась деловито расстегивать ему брючный ремень.
Не успел вконец опешивший Викентий Алексеевич спихнуть бесстыжее создание, как сзади на плечи ему легли руки в уже знакомых грязноватых перчатках.
— «Мой любимый, мой князь, мой жених, ты печален в цветистом лугу…»[84] — провыла ему прямо на ухо «аристократка».
Думанский вскочил с кресла, едва не уронив завизжавшую Валерию. Вся компания разразилась отвратительным вульгарным смехом.
— Как тебя бабы-то любят, братан, — произнес Челбогашев, утирая выступившие от смеха слезы. — А то давай сообразим компанию на пятерых. Чего мнешься, как целка-недотрога? Думаешь, я о твоих художествах не прослышал? Или ты теперь, как эти… новомодные — по мальчикам больше?
— Я?! Как вы могли такое подумать? — вырвалось у Думанского. Челбогашев промолчал, удивленный этим «вы».
Проститутки, одобренные таким поворотом дела, тут же заключили «Кесарева» в объятия, прижимаясь к нему самыми деликатными частями тела.
— Не могу я! — с отчаянием почти выкрикнул перелицованный адвокат, стряхивая их с себя, как медведь свору собак. — Фараоны в участке все начисто отбили, видит око да зуб неймет… Да оставьте вы меня, в конце концов! Ну пошли. Пшли вон, говорю!
«Жрицы» любви наконец отстали — упорхнули стайкой, цинично хихикая и поругиваясь. Вслед им Челбогашев успел запустить:
— Валите отсюда, фоски![85] Кыш!!! Ищите новую фазу.[86] Не до вас, видите. Дела у нас фартовые, серьезные — некогда тут кувыркаться. Будут деньги, кураж будет, сами вас найдем. Адье-оревуар, мамзели! Внизу вас авто ожидает.
У подворотни девиц ждал какой-то потрепанный возок…
— Ну чего, подлечился, как я вижу? — заметил «Митрий». Ухмыляясь и подмигнув «братану», почти в том же тоне осведомился: — Взял, что нужно? Тогда поехали, «Андрей Сте…» Э, нет уж! Пускай тебя Сатин по батьке величает. Значит работаем, братуха, по твоему плану, как договорились!
Санями правил рыжий Таран.
Перед «работой» возница, между прочим, тоже заглянул наверх и потребовал у Никаноровны всю оставшуюся кислоту.
— А зачем тебе столько, касатик? Никак собрался пуститься в кругосветное плавание на пароходной трубе со свистком и женскими панталонами заместо паруса?
— Так ведь последнее ж наше дело, чего беречь? — ответствовал тот, не обращая внимания на дичь, которую по обыкновению несла сварливая «малинщица».
— Погоди, — обратился он уже к «Кесареву», — тут где-то книга была с заковыристыми картинками.
— Там она, на окошке, под граммофонной пластинкой, — отвечал Думанский, внутренне содрогаясь при виде грязной пятерни налетчика с ногтями, как будто обшитыми черным бархатом.
Сбросив на пол пластинку, осколки которой тут же разлетелись по углам наподобие разрывной пули «дум-дум», Таран принялся торопливо перелистывать книгу.
— Ну и наверчено — чего только не умыслили, мудрилы вавилонские! Нам бы попроще закорючку какую, чтобы быстренько юшкой-то на снегу намалевать… Ага! Вот эта вроде сгодится.
Небрежно вырвав страницу, он зашвырнул книгу на буфет темного дерева с фарфоровыми вставками. Вид мебели рококо основательно портили непристойные картинки, намалеванные губной помадой и румянами поверх пасторальных пейзажей, да грубо вывороченная дверца.
Наконец «братья» сели внутрь возка и лошади помчали на самый край Васильевского, в Гавань, и даже севернее — на городской выгон, к Голодаю. Думанский страшно волновался: «А что, если полиция не успеет? Или не сориентируется — чего доброго еще спутает место? А вдруг вообще никто не придет? Или они успеют, а я бежать не смогу? Задержат вместе с Челбогашевым и этим налетчиком? Как я тогда оправдаюсь? Свистунов, вне всякого сомнения, отдаст меня в руки правосудия и покажет, что именно я-то и хотел его убить. Если же сейчас откажусь идти с этими, будет еще хуже: его убьют на месте, и я даже ничем не смогу воспрепятствовать!.. Ну все, хватит дергаться, Викентий. Alea jacta est![87] Впрочем, если взглянуть с другой стороны, — адвокат вернулся к уже полюбившейся мысли, — эти как раз могут оказаться весьма полезны. Надо лишь каким-то образом натравить их на лже-Думанского. Похитить его, отвезти на какую-нибудь потайную „хату“, о которой даже полиция понятия не имеет, и расспросить хорошенько, выколотить из него, в конце концов, кто он на самом деле такой и для чего завладел моим телом. А потом заставить поменяться обратно — должен же он знать, как это делается!.. Да, с такими, как мои нынешние „соратники“, не забалуешь, у них свои методы убеждения: примитивные, но невероятно действенные. Хотя, однако ж, — в правоведе снова взяла верх привычка рассматривать все грани обсуждаемого вопроса, — им придется так или иначе причинить вред телу, в котором находится этот проходимец сейчас. Повредят что-нибудь, коновалы, а мне потом в изуродованной плоти доживать в муках… Дичь какая-то, так и рассудка лишиться недолго! И о чем это я вообще думаю?! — одернул себя Викентий Алексеевич. — Каков я, однако, эгоист! Прежде всего мой долг — защитить Свистунова, на жизнь которого вознамерились посягнуть, моего друга, просто несчастного наконец, а я… Подлая душонка!»
Думанского передернуло. Даже сейчас, в абсолютно безвыходной ситуации, сама мысль об убийстве вызывала у него величайшее отвращение. «И эти… они все же люди, хоть и закоренелые преступники, а человек создан по образу и подобию Божьему! Не я дал им жизнь и не мне ее отнимать… Постой, Викентий, снова ты не о том беспокоишься! Если не остановить этих злодеев, они, не задумываясь, убьют Свистунова, и ты точно никогда не простишь себе, если не воспротивишься этому. Верно сказано: не мир несу, но меч, а поднявший меч от меча и погибнет! Их трое против меня одного — ничего, справлюсь с Божьей помощью. Раздавлю как клопов! — скрипнул зубами Викентий Алексеевич с удивившей его самого яростью. — И не только этих троих: пусть против меня будет хоть десяток, хоть целый полк!!! Никому не дам и пальцем до него дотронуться! А мерзавца, который подло завладел моим телом, разыщу и без их помощи».
…Проехали мимо знакомого дома, видение которого частенько посещало Думанского в страшных снах. Викентий Алексеевич ощутил сильнейшее желание заглянуть внутрь, как если бы там его ожидало нечто важное, могущее пролить свет на его нынешнее состояние.
— Постойте, — обратился «Кесарев» к своим спутникам. — Посмотреть хочу, что там за контора такая. Давненько к этому дому приглядываюсь: для нас, деловые люди, очень полезным местом может оказаться…
— Сиди уж! — остановил подельника Таран. — Сейчас сам схожу. Одна нога здесь — другая там! А то какой-то ты стал малахольный, как в полиции башку отбили.
Вернулся он минут через пять, скверно ругаясь:
— Там же ч…т ногу сломит! Тьма во дворе кромешная — хоть бы свечка в окне где горела, а то ни окон, ни дверей вообще не видать. Наощупь еле выбрался… И тишина там гробовая, холод, точно с-под земли — даже мураши по коже забегали. Ни души вокруг… Тьфу! Не двор — склеп кладбищенский! В таких местах точно упыри да шкелеты водятся… Что тебе там, Васька, приглянулось, внутри-то?
— Я тебе не Васька, а Кесарев, Андрей Степаныч, — конспирацию соблюдай! — строго напомнил несчастный Думанский, который сам-то не мог, да и не желал, привыкать к чужим именам и образам. — Привык ты по дворам шнырять, а фасада и не заметил, конечно?
— Фаса-ад! Слышь, братва? Натурально кесарем заделался. Да видал я дом и с улицы, и с Фонтанки — зенки у меня на месте! Парадное, оно, верно, шикарное, барское: кандилябры горят, экипажи богатые, авто лакированные. Фраера всякие важные с дамами: амбре от них, парфюм — Франсе, как его там…
— То-то и оно! — оборвал на полуфразе «Кесарев». — Забыл ты, видно, как настоящие деньги пахнут. Вот это-то нам и надо — верное дело, фартовое. Не зря, значит, присматривался я. Это дом игорный — рулетка, картинки и прочее. Всякие вертопрахи-финансисты ночи там проводят, тысячи большие на ветер пускают, а что бы нам их не подмести? Говорю же — здесь золотое дно! Нужно надежную слежку организовать и в удобный момент сорвать весь банк.
— Откуда про такую делянку узнал? — удивился Челбогашев.
— Да я ж от Думанского ни на шаг не отрывался, а он сюда только и ходит. Тут такие тузы с девочками отдыхают! Номера, марафет — все развлечения по высшему разряду. Ну, убедились теперь? И Таран вон подтвердил.
— Хрен знает! Недавно появилось — не слыхал я раньше такой конторы, — огрызнулся обиженный Таран.
«Значит, я не ошибся — этот роковой дом и есть мансуровское владение! — Викентий Алексеевич содрогнулся. — Только бы письмо дошло до Семенова! Что-то он медлит…»
Где-то возле Сенной в оживленной городской сутолоке возок попал «в плен» к газетным разносчикам. Каждый такой шустрый мальчуган во что бы то ни стало хотел всучить всякому прохожему и проезжему свой «бойкий» товар. Чтобы не тратить драгоценное время попусту, раздраженному вознице Тарану пришлось с руганью придержать лошадей, чтобы «Кесарев»-Думанский смог выхватить у самого шустрого маленького торговца первую попавшуюся газету. Брошенный гривенник тот умудрился поймать на лету. Теперь дорога была свободна, а Викентий Алексеевич нежданно получил возможность ознакомиться с последними столичными новостями.
Думанский развернул газету — в руках у него оказался свежий номер «Петербургских новостей». На первой странице красовался жирный, лоснящийся от типографской краски заголовок: «Ошеломительная сенсация в Цирке Чинизелли». Движимый любопытством, Думанский принялся читать.
Подлинная сенсация, которая произошла в известнейшем столичном цирке, волнует умы всех жителей Петербурга. Обезьяна, участвующая в комических номерах, вдруг начала осенять себя крестным знамением, причем совершенно правильно — в полном соответствии с церковной традицией. Данный феномен сперва объяснили талантом обезьян к подражательству, так как недавно имело место освящение цирка согласно всем православным канонам, и умные животные получили возможность наблюдать Богослужение во всех подробностях. Но на этом дело не закончилось. Один из служителей цирка шутки ради дал обезьяне Евангелие. Та же, дотоле находящая удовольствие только в раздирании книг, бережно открыла и принялась читать Святое Благовествование, старательно шевеля губами и крестясь именно тогда, когда это требуется по православому уставу. Посмотреть на такое «чудо» приходят целые толпы обывателей всех сословий. Ни у кого из очевидцев сего не остается сомнений — обезьяна понимает все до последнего слова и произнести священный текст, как положено, ей мешает лишь то, что она лишена дара речи.
Но это далеко не все «чудеса в решете». Попугаи вдруг начали истово, нараспев читать молитвы. Все до единого служители цирка клянутся, что птиц никто этому не учил! Факт, однако, остается фактом — цирковые попугаи, до недавнего времени произносившие лишь скудный набор слов, читают наизусть «Отче наш» и, что всех приводит в изумление, даже никео-цареградский «Символ веры».
Что-то будет дальше? Остается лишь ожидать в скором будущем Апокалипсиса, раз даже бессловесные твари обратились к глаголу Святого Писания и Божественному покровительству. Не исключено, что мы станем еще свидетелями и других явлений, свидетельствующих о грядущем скором конце света.
— Это уж вовсе ни на что не похоже! — в сердцах воскликнул Думанский, переворачивая газетную страницу. — Такого и помыслить невозможно — священную книгу в грязные обезьяньи лапы! Да я бы за такое в Сибирь без промедления! Хотя кто я нынче такой, чтобы судить других? Бандит Кесарев, водящий дружбу с крамольниками… Не судите, да не судимы будете.
Он принялся было просматривать газетные заголовки дальше, желая вернуть себе присутствие духа. Очередной заголовок, бросившийся ему в глаза, сообщал: «Германское грузовое судно „Святой Валентин“ с благотворительным грузом Армии спасения, скованный русскими льдами, остался зимовать на Фонтанке». Викентий Алексеевич перевернул без интереса еще несколько листов и хотел было уже совсем забросить газету, но едва наткнулся на знакомое имя, как у него перед глазами будто разорвалась бомба. Это было не что иное, как некролог Элен Думанской.
Супруга известного адвоката Викентия Думанского погибла в результате покушения. Сам адвокат Думанский остался жив благодаря вмешательству Провидения, а также потому, что мадам Думанская закрыла его собой, явив подлинный пример героизма и супружеского самопожертвования.
Покушение имело место на прошлой неделе возле Михайловского театра, объектом злонамеренного нападения был сам господин Думанский. Как он сообщил нашему корреспонденту, это далеко не первое нападение на него. Такова цена его кристальной честности и неподкупности адвоката. На вопрос о дальнейших планах известный адвокат ответил, что, покончив с неотложными делами, отправляется за границу для поправки здоровья. Впрочем, он глубоко скорбит о потере любимой супруги и так потрясен, что намерен остаться за границей навсегда.
«Здесь все напоминает мне о любимой жене, — признался сам Думанский. — Петербург без нее стал невыносим для меня».
Согласно непроверенным слухам, господин Думанский заказал в Англии специальную карету-сейф, из тех, которые используются исключительно для перевозки крупных сумм денег…
Между тем опознан и труп нападавшего: им оказался суфлер и костюмер, некогда служивший в Александрийском театре, Спиридон Тюльпанов, уволенный за пьянство и крамольные высказывания. Также его неоднократно видели в обществе социалистов-революционеров, многие из которых разыскиваются полицией. Но подлинным организатором сего злодеяния является некий Кесарев, против которого господин Думанский выступал на последнем судебном процессе. Все, кто видел преступника в последние дни или располагает сведениями о его местоположении, должны сообщить в полицейское управление.
Думанский взглянул на фотографический снимок разыскиваемого, занимавший собой едва ли не четверть страницы. На Викентия Алексеевича смотрело его нынешнее лицо.
«О Господи, за что ты посылаешь мне такие испытания! — мысленно возопил он. — Если бы я мог содрать с себя эту богомерзкую харю, сделал бы это без промедления. А тут и мое тело еще собирается сбежать за границу. Ищи его потом!»
— Ого! Это ж никак ты, братан, — послышался из-за плеча невеселый голос заглянувшего в газету «Митрия». — Да, не фартит тебе что-то — теперь еще глубже на дно залечь придется. Спичке Царствие Небесное — он хоть и не нашего поля ягода был, все с политикой знался, но ведь жизни не пожалел человек. Мог бы по блатному закону уйти: «Умри ты сегодня, а я завтра», так не вышло… А законник-то этот, адвокат твой, живучий оказался, гнида.
…Наконец остановились саженях в ста от назначенного места.
— Рановато приехали! — заметил кто-то. — Ждать теперь не меньше часа. Эх! Знать бы — картишки с собой захватили бы… И чего теперь делать — в кулак свистеть да ногами притопывать?
Вместо ответа Таран вытащил из кармана пистолет и принялся палить по чайкам и воронам. Воздух наполнился грохотом, пороховой гарью, летящими отовсюду птичьими перьями. Несколько окровавленных тушек свалилось на землю, одна птица пыталась спастись, ковыляя по земле и волоча за собой перебитое крыло. Рыжий добил ее двумя выстрелами, следующим сбив с самой верхушки дерева птичье гнездо. Омерзительнее всего Думанскому показалась его идиотически-торжествующая физиономия с бессмысленными глазами и ртом, растянутым от уха до уха. Но бандиту этой «охотничьей» забавы было недостаточно. Он принялся преследовать оставшихся птиц с громким смехом, более напоминающим конское ржание.
— Да прекратите же, наконец! Что за дешевый балаган? — не выдержал Думанский. — Спугнешь жертву и провалишь всю операцию.
— Верно, скор ты чересчур на руку, — поддержал его Дмитрий. — Да и маслята денег стоят. Они нам на дело дадены, а не на забаву.
— А вы что — девки, барышни кисейные, кровянки испугались?! Уж больно нежно себя несете — боитесь расплескать. Медвежья болезнь со страху, што ль, напала?! «Я никого не ем»? Отвали, не замай! Гимназеры хилые — не мешайте душе радоваться!!! Да вам не на дело ходить, а в перине на клопов охотиться! В штаны уже наложили, маменькины сынки? Налет — дело фартовое, а фарт, он кислых не любит. Весело ж надо, на кураже!
— Что вы все декаденствуете, глупости какие-то выдумываете! Перестаньте, прикусите язык, оставьте ваше краснобайство для присяжных, — с брезгливостью аристократа-правоведа, неожиданно даже для себя самого перебил ухаря «Кесарев». — Подобные высказывания с головой выдают ваше происхождение из самых низов общества… — Но тут же опамятовал, поспешил хоть как-то оговориться, исправить вырвавшееся: — Впрочем, извините за наставления… А вы, Таран, правы: надо жить разом, одним порывом! — И, виновато оглянувшись на «слушателей», продолжал: — Но я ведь пекусь о нашей безопасности. Вы человек вспыльчивый, вам следует взять себя в руки…
Все замолчали, с изумлением глядя на лже-Кесарева, будто у того вдруг отросли рога или он запел оперную арию, аккомпанируя себе на «фортепианах». Даже сам стрелок по воронам угомонился и задумчиво почесал пистолетом пониже спины.
— Ты эт чего?? — произнес он наконец. — Совсем ума решился? Д-даешь, Кесарь!!!
— Да-а, чегой-то ты, брат, не того. Знатно тебя архаровцы отделали. И ведь докторам не сдать — выдать всех можешь! Так что не обессудь — сам понимаешь, ежели чего, для пользы нашего дела… Видать, удавочка, а не веревочка казенная по тебе плачет.
Взглянув на собеседника, Викентий Алексеевич понял, что Челбогашев старший вовсе не шутит, и он теперь, может быть как никогда, находится в шаге от смертельной опасности. Множество, казалось бы, совершенно посторонних мыслей пронеслось в его голове. Под конец ни с того ни с сего вспомнился профессор Федоров, рекомендовавший будущим правоведам брать уроки актерского мастерства.
Думанский глубоко вдохнул, а затем на одном дыхании выдал длинную нецензурную фразу, которую слышал второго дня от какого-то мужика, чудом не попавшего под карету скорой помощи. Затем застонал, схватившись за голову и подергивая то одним, то другим плечом, после чего открыл глаза и обвел всех полубессмысленным взглядом очнувшегося наконец человека:
— Не пузырьтесь! Что за мания-психоз… Фараоны треклятые, псы цепные — ну попадись они мне, устрою им тридцать три египетских казни! Ох, пропасть! Нечистая сила! Что же я такого натворил, а? Никого из вас не задел, братва?
В этот момент вдали показался щегольской экипаж Свистунова, избавив остальных от необходимости отвечать. Все принялись готовиться к предстоящему делу.
— Слушайте меня! Работаем так: ты, Васюха, его по затылку тюкнешь, оглушишь, к воде вместе подтащим, — распорядился Дмитрий. — Таран свое дело уже знает — подойдет с другой стороны и займется «ванькой».
Троица двинулась в сторону композитора, который, оставив лихача, уже вышагивал важным гусаком к месту ожидаемого свидания с молодой красоткой. Там он принялся бродить взад-вперед вдоль газового фонаря, нервно поигрывая тросточкой. «Что за причуды такие?! Перед самым отъездом встречаться на забытой Богом окраине! Разве не лучше было бы сразу, без церемоний отбросить все условности, атавизмы морали, и уже не понадобилась бы никакая конспирация? Quelle en tête femme![88] — вздыхал влюбленный, пытаясь прикрыть от ветра роскошный букет. Как бы шубу не сняли! Гавань все же — шпана на шпане…» — испуганно подумал он, увидев, что в мутном свете отдаленного фонаря показался какой-то субъект и неторопливой походкой, вразвалочку, направляется в его сторону.
Думанский в это время тоже весь был как на иголках.
— Хорош гармонить, кто-то едет. Фараоны! Я их по запаху чую — наобум произнес он, преградив Челбогашеву дорогу.
— Да ты чо, братан, никак менжуешься? Померещилось тебе! Откуда бы им взяться — или навел кто? Шагай, не дури, никого там нет. — Здоровяк Дмитрий «отодвинул» с дороги Думанского и, перехватив мертвой хваткой его левую руку, потащил за собой. — Там же Таран, ты что ж, хочешь его одного оставить работать? Такое западло корешку, а? Не ожидал я от тебя, Васюха! Ну сявка, в натуре.
Косясь на «братца», возбужденный Викентий Алексеевич нащупал в кармане дуло револьвера: «Ну погоди — поближе подойдем! Только замахнись на Аркадия, я тебя самого без труда оглушу».
Вдали действительно послышался шум мотора. «Неужели и вправду полиция? Значит, они поверили моей записке! Может, Семенов даже оборотня арестовал?!» — Думанский ликовал. Авто пронеслось мимо двух «прохожих», обдав их фонтаном снега, и затормозило как раз рядом со Свистуновым. Таран, уже подходивший к извозчику, обернулся на характерный рокочущий звук. «Кесарев» и Челбогашев спешили из темноты к своей жертве. Рыжий Таран, не выпуская из рук бутыли с кислотой, едва ли не в упор застрелил несчастного «ваньку» — без единого звука кучер завалился назад. Лошади захрапели, забили копытами, но остались на месте. Из автомобиля точно выпорхнули четверо в одинаковых длинных облачениях аспидно-черного цвета и невиданного покроя — то ли шинелях с башлыками, то ли плащах с капюшонами, будто капуцины или нетопыри. Приглядевшись, Думанский увидел, что их необычные одеяния были пошиты из кожи, как специальный костюм шофера или авиатора. «Может, особый корпус жандармерии?» — предположил адвокат. Двое из незнакомцев схватили композитора и затащили его в авто.
— Что за хреновина такая?! Откуда эти грачи прилетели? — вполголоса произнес озадаченный Челбогашев и, пока доставал пистолет, странная четверка, почти герои Дюма-пэра, уже открыла пальбу.
Кто-то в общей свалке попал в убитого извозчика, кто-то — в Тарана (тот, едва прозвучали первые выстрелы, успел, как ему показалось, занять удобную позицию, поставив рядом лабораторную бутыль).
Рыжему даже удалось свалить одного из ряженых. Ответный выстрел вдребезги разнес громоздкую стеклянную посудину. Едкая, насквозь прожигающая любую ткань и плоть жидкость брызнула во все стороны, буквально размыв, уничтожив лицо Тарана. Тот принялся кататься, будто охваченный огнем, оглашая окрестности диким воем.
Челбогашев огрызался ответными выстрелами. «Боже мой! Они же по нам стреляют!» — пронеслось в мозгу у Думанского. От страха он упал на снег, зажмурился. Рядом по-животному заскулил Челбогашев. «Господи, помилуй!» — залепетал перепуганный адвокат. Свистунов на какое-то мгновение замер от ужаса, а потом бросился было бежать, но резкий толчок и его сбил с ног. Затем двое снова подхватили композитора под мышки и силой усадили обратно в авто, сами же сели по бокам. Вскоре, когда Викентий Алексеевич, не переставая повторять про себя молитву, рискнул открыть глаза, то увидел, что над ним стоит человек в черном с револьвером, ствол которого направлен ему прямо в лицо. Но самое страшное заключалось в том, что из-под капюшона, как еще совсем недавно из зеркала, выглядывало собственное лицо ДУМАНСКОГО! Лже-Думанский, встретившись глазами с настоящим, выпустил три пули одну за другой, но почему-то не в ненавистного законника, а рядом, в снег, как нарочно вокруг его головы. Выстрелы прогремели так близко, что у адвоката заложило уши.
— Зачем пожаловал, ямщик без усов и бороды? Скверно… Лежи тихо!
Второй «грач», добив все же Тарана, подскочил было к Челбогашеву, но лже-Думанский подал отрицательный знак рукой, после чего оба «нетопыря» заскочили в авто на переднее сиденье. Мотор, затарахтев, тут же рванулся с места и исчез в неизвестном направлении, оставив после себя лишь желтоватый шлейф зловонного дыма. «А ведь перед этими людьми и я, и вся банда „Святого Георгия“, по выражению Никаноровны, сущие младенцы! — рассуждал Викентий Алексеевич. — Да полноте — люди ли они вообще? Неподвижные лица, на которых не отражается никаких чувств, движения, как у механических кукол, и в то же время действуют эти создания гораздо быстрее и точнее обычных людей. Каждый вызывает ощущение силы и непреклонности, совсем как паровоз, на пути которого лучше не становиться. Нет! Силой завлечь куда-нибудь одного из этих непонятных индивидуумов и заставить вернуть мне отнятое совершенно невозможно. Неужели так и придется до самой смерти оставаться под мерзостной кесаревской личиной?!» Но обстоятельства не позволили Думанскому долго предаваться печальным размышлениям.
Он затащил раненого Челбогашева в сани. О Таране даже не подумал, впрочем, тому теперь если и мог кто помочь, то только добросовестный могильщик. Править, таким образом, пришлось самому. Встретил их все тот же заброшенный дом, опустелый двор, темная загаженная лестница — всюду мертвая тишина. Оставив возок посреди двора, Викентий Алексеевич взвалил на себя обмякшего тяжелого «братца» и поволок по лестнице. Опустив наконец его на оттоманку в «гостиной», переводя дух на ходу, Думанский побежал на кухню за водой. Обессиленный бандит стонал и ругался:
— Не знал, что жидок ты на расправу. Телок, баба! Архангелов испугался!? Сеньку бросили, как фраера последние… Ты ж даже шпалера не достал! Всегда из пистолей с обеих рук садил, как жид на рояле, а тут ни разу не шмальнул.
— Да помолчи лучше! — Думанский и сам разозлился. — С архангелами ты бы, может, и сам справился, а тут боевики какие-то ряженые… Я-то ведь подумал сначала, что это жандармы! Но почему они начали вдруг стрелять в нас? Мы же еще, по большому счету, тронуть никого не успели. Неслыханное флибустьерство…
— Все дуркуешь, малахольный! По большому — по малому… Ты еще следствие разведи — сыскарь нашелся… Нет, ты подумай — и не рыпнулся даже, чистоплюй хренов! Давай назад ствол, слышишь?! Он тебе, слюнтяю, без надобности!
Викентий Алексеевич дрожащей рукой достал из бекеши гуляевский револьвер. Машинально спрятав «волыну», Дмитрий прохрипел:
— Обойдешься пока, перышком поработаешь… — И тут же поток сознания понес его дальше: — А музыкантишка этот измену кишкой почуял. Людишек с собой прихватил. Вот она интеллигенция-то — с виду агнец божий, а ковырнешь ногтем — волчара! Всеми ч…ми клянусь: найду его и весь род разом прекращу. Ты, Васюха, сам эту кашу заварил, придумал историю со страховкой. Из-за тебя я женился на этой стерве, шансонетке кабацкой… Шерри с ним уже полгода шашни крутит, а ей, шалаве, тоже надо платить! Теперь вот ищи-свищи Свистуна этого. У нас козырный план был, а через тебя все накрылось! И ксиву его не добыли! Все тебе поверили — на фарт твой прежний положились…
— Погоди, а для чего тебе его документы? Все равно по ним ты не смог бы жить, композитор Свистунов — персона известная, его многие в лицо знают.
— А про счета в Лион-банке забыл, что ли? Вот для того и нужны, чтобы денежки снять! У Шерри все номера счетов в записную книжицу переписаны, сам видел. — Челбогашев не мог остановиться — нес «братца» последними словами.
— Успокойся, говорю: тебе бы сейчас лежать тихо, а ты…
— Пожалел! Все успокоимся… Мы Тарана потеряли! Кроме рыжего, больше работать по этой теме некому было. С Выборгской братва по-мокрому не работают, и не вздумай трепаться им про наше дело. Ты ж теперь должник мой! Ищи фраера сам. Любого прохожего, хоть первого встречного. Хоть из могилы выкапывай, лишь бы моих годов… В общем, пеняй на себя, Васька: не пришьешь — сам будешь на его месте! Где хочешь, но мертвяка мне найди.
— А ты хоть знаешь, кто были эти… ну в авто?
— Да мне до лампады, кто они, да что! Один день тебе даю, Василий. Доставай жмура где хочешь. Мне новая ксива нужна, чтобы меня не искали! Понял?
— Тебе врач срочно нужен! Как бы сюда его вызвать…
— Рехнулся?! Ни в коем разе… — Челбогашев заметно ослабел и уже с трудом ворочал языком: — Медицина сразу капнет…
«Да! Эскулапы тут, по-моему, уже бессильны… А с этим экземпляром, который ходит в моем теле, гораздо сложнее справиться, чем поначалу казалось, — вновь мелькнуло в голове у Думанского. — Непонятно, что там за субъекты, с которыми он связан, но уж куда серьезнее всей этой шайки-лейки „Святого Георгия“!»
VI
Всю ночь, не смыкая глаз, Викентий Алексеевич просидел на кухне. Иногда он посматривал в угол — казалось бы, самое подходящее место для Святого Лика — но там холодным лунным светом поблескивал бесформенный, облупившийся по краям осколок зеркала, и, лишенный привычного образа и подобия Божия, точно обжегшись, бедняга мгновенно отворачивался, натыкаясь на постылое мурло. «А все ж таки не убил… Еще бы! Кто бы на его месте выстрелил? Но даже если и… кто бы попал?! Ведь в собственное тело, да что говорить — в себя самого, фактически!» К утру в голове адвоката мучительно созрел план, как можно замести следы Челбогашева и поправить «накрывшееся» дело (махнуть на все рукой было бы для Думанского-«Кесарева»-«Васюхи» убийственным безрассудством).
«Придется — увы! — нарушить закон и рискнуть свободой. Мало того — мне же никак не обойтись без этих проклятых воровских денег!» — выходя из дома, он брезгливо ощупал уже распечатанную пачку, которую «с барского плеча» всучил ему Сатин.
В солидной парикмахерской изрядно «запущенному» клиенту помыли голову, даже по петербургским меркам, недурно подстригли, спрыснув хорошим одеколоном, сбрили заново пробившуюся поросль под носом и на щеках, а вдобавок сделали маникюр, приведя в порядок заскорузлые ногти. Пробравшись задворками на Апраксин рынок, Викентий Алексеевич купил теплое фасонное пальто на вате, с облегчением всучив там же старьевщику-«халату»[89] замызганную бекешу с чужого плеча. В сапожной будке за грош почистили штиблеты. Думанский прошелся по многочисленным рыночным лавкам и магазинам, приобрел новую смушковую шапку пирожком и несколько приличных аксессуаров: приятной расцветки кашне, лайковые, на шерсти, перчатки, серебряные часы, дорогую самопишущую ручку. Здесь же он купил тисненую папку — бювар, в придачу десть[90] писчей бумаги хорошего качества, пару конвертов и несколько свежих газет. В кондитерской на Садовой, где Викентий Алексеевич позволил себе выпить чашечку горячего кофе с розанчиком, немец-буфетчик был подчеркнуто любезен и обходителен. «Разумеется, теперь я более-менее похож на приличного человека, — с горькой иронией заметил заметно приободрившийся, в некотором роде оживший адвокат. — Если бы так же просто можно было избавиться от самой кесаревской личины!» Он торопливо, с явным нетерпением достал из папки чистый лист и прямо за столиком сочинил короткое пронзительное послание, на этот раз, правда, по-французски. Запечатав и перекрестив, на улице отдал конверт первому же всегда готовому к услугам опытному рассыльному, судя по выправке и возрасту — отставному денщику.
По-прежнему стараясь избегать самых людных мест и обходя стороной городовых, Викентий Алексеевич добрался по Фонтанке до ближайшего странноприимного заведения — Александровской больницы.
— Позвольте представиться, мадам, — репортер «Санкт-Петербургских ведомостей» Голубев Петр Иванович, — кивнув, отрекомендовался он старшей сестре милосердия и, торжественно раскрыв роскошный кожаный бювар, извлек оттуда золотое перо: — Я, собственно, готовлю злободневную публикацию о неопознанных трупах для раздела городской хроники. Суть моего обзора будет заключаться в том, что город хоронит подобных покойников за свой счет, и, хоть дело это, разумеется, весьма благородное, однако влечет за собой большие расходы. Не исключено, что, прочитав об этом, какой-нибудь благотворитель поможет решить эту деликатную проблему. К тому же если в статье будут помещены приметы таких лиц, найдется, возможно, хоть кто-нибудь из родных. Понимаете, как это важно?
— Имеются у нас сейчас два таких безродных-беспризорных, сутки всего как поступили… да что толку писать про них? — Со вздохом махнул рукой санитар, охранявший покойницкую, куда Думанского по поручению прозектора провела сестра. — Если и есть у них кто, так газеты таковские навряд читают, да и не откликнутся: у нас ведь здесь только старичок бездомный — замерз ночью на улице прямо, да младенца новорожденного вчера выловили под мостом — упокой, Господи, души горемычные! Вот какие мамаши, с позволения сказать, бывают: родила да душку ангельскую и сгубила, извергиня! Страшно и подумать.
Спускаясь все ниже по Фонтанке, «репортер» посетил с «благородными» намерениями поочередно Кауфмановскую, Крестовоздвиженскую, Калинкинскую больницы… Весь день обходил он больничные морги, но подходящий «материал для статьи» нигде не попадался.
«Вот почти так же Чичиков гонялся за мертвыми душами: он для заклада, я из-за страховки — какая, в сущности, разница? Все из-за тех же пресловутых денег!» — мысленно сравнивал Думанский и от этих сравнений, а также от бесплодности поиска готов был впасть в отчаяние.
Только за Невой, в далекой Петропавловской больнице, ему наконец повезло. Мужчина лет сорока, прилично одетый: цвет волос, рост, комплекция — решительно все подходило!
— По всему видно-с, серьезный господин. Даже удивительно — третий день уж здесь, и никто не спохватился. Приезжий, верно, и документов при нем не имеется — печально-с, — участливо «докладывала» дежурная сестра. — Пишите-пишите, сударь: попал под конку, когда та съезжала с Троицкого моста. Наверное, новой столичной достопримечательностью полюбоваться хотел, зазевался, а тут его и… Умер у нас, не приходя в сознание. Операцию и не начинали-с, куда там — поздно уж было с операцией!
Важному «репортеру» позволили осмотреть труп, что он проделал очень тщательно, объясняя присутствующим, что для одной газетной статьи всегда требуется материала в три раза больше, чем сама статья. На самом же деле адвокату важно было изучить все приметы трупа.
Вечером, измотанный, но довольный своими «розысканиями», «Кесарев» вернулся к Никаноровне. Раненый, как положено бледный, по-прежнему лежал на диване. Хмуро, не здороваясь, спросил:
— Ну, достал? Где жмур?
— На Петербургской стороне. В больничном морге.
— КА-АК??? В каком морге???
Утром следующего дня эффектная молодая брюнетка в строгом темно-сером платье, откинув с припудренного личика дорогую вуаль, полупрозрачную и в частых мушках, буквально терзала главного врача Петропавловской больницы.
— Я уже просто не знаю что и делать — повсюду разыскиваю своего мужа. Он пропал без вести! Как зовут? Челбогашев, Дмитрий Алексеевич Челбогашев. Вы понимаете, это ужасно… Мы живем отсюда неподалеку — на Введенской. Три… Нет, уже четыре! Четыре дня как он уехал из дома, сказал, куда-то по делам службы, и вот — до сих пор не вернулся! Что мне делать? Я обошла уже все больницы. Может, он попал к вам без памяти и не назвал себя? С ним такое случается. Скажите же, доктор! Я уже вся извелась…
Под электризующим взглядом не в меру возбужденной посетительницы даже в стенах собственного рабочего кабинета почтенный профессор чувствовал себя неуютно:
— Ради Бога, сударыня, не волнуйтесь так! Положим, четыре дня — еще не такой большой срок. Быть может, он уехал… э-э-э… куда-нибудь в другое место? Ну, скажем, загулял где-нибудь. Или подобное с ним не случается? Вы не допускаете… Хм… Постойте-ка! Тут к нам действительно попал один неизвестный господин и, кажется, как раз четыре дня назад, только вот… Хм… Даст Бог, это не ваш супруг, сударыня.
Профессор поспешил направить даму на хирургическое отделение, и та тут же упорхнула, оставив его в покое, причем ему показалось, что по лицу сбившейся с ног любящей супруги пробежала едва заметная тень ехидства.
Строгий хирург, поблескивая стеклами пенсне, осведомился:
— У вашего мужа имелись какие-то особые приметы?
— Приметы? — печальное личико картинно удлинилось.
— А что вас так удивляет? Я не оговорился — приметы… Чтобы вам зря не смотреть… Всякое, знаете, бывает — некоторые зрелища не для слабонервных дам.
— Нет, нет, я уверена, это не тот случай! — В глазах «потрясенной» госпожи «Челбогашевой» стояли слезы. — Но уж если так необходимо, то пожалуйста: ему тридцать девять лет, каштановые волосы, глаза серые… На левой голени у него шрам, собака укусила. Ах, простите — на правой конечно же! Такое расстройство, в голове все путается… Во-от. На правом плече — родинка. На шее серебряный крест и эмалевый образок ангела-хранителя. Чего ж вам еще?
— Судя по всему, больше ничего — и так предостаточно… Видите ли, господин, похожий по описанию на вашего мужа… К сожалению, он находится у нас, — смущенно произнес доктор.
— Ну слава Богу! Наконец-то! Где он? Что с ним? Как он себя чувствует? И почему «к сожалению»? Значит, что-то опасное? Что же вы молчите?! Могу я сейчас пройти к нему? — вскочила со стула взволнованная «Челбогашева». — Скорее же проведите меня в палату!
Эскулап понуро отвел взгляд в сторону:
— Крепитесь, мадам. Он, увы, в морге. Скончался уже в больнице, не приходя в сознание… Впрочем, может, это все-таки не ваш муж: возможно сходство. Всегда есть надежда, право же.
Посетительница пронзительно вскрикнула, «потеряв самообладание», схватилась за сердце и «упала в обморок». Врач бросился приводить ее в чувства, крикнул на помощь фельдшера. Совместными усилиями несчастную вдову бережно усадили на стул, дали понюхать нашатырь, фельдшерица принесла графин с водой. «Челбогашева» залилась слезами и водой из стакана.
Однако всего через пару минут, прекратив рыдания, она слово в слово, теперь уже без запинки, повторила описание примет и спокойно дала необходимые показания приглашенным полицейскому дознавателю и судебному эксперту.
Наконец ее повели опознавать покойника. Сразу узнав своего благоверного, «вдовушка» в рыданиях распростерлась прямо на полу перед цинковым столом, затем прижала неподвижно свисающую холодную руку мертвеца к своей щеке (вернее, к вуалетке) не переставая убиваться: «Митя, Митенька, родной мой!» Дознаватель и главный врач через силу увели ее, пытаясь утешить и выразить соболезнования.
Следующим утром «Кесарев» опять оставил малину для исполнения блатного плана, мысленно, однако, просчитывая путь к своему долгожданному вызволению из плена. На сей раз он отправился к Шерри наставить ее, как следует действовать, чтобы беспрепятственно получить за подложного покойника мужа страховку. Добираться пришлось довольно далеко: жительствовала она на Выборгской стороне в одном из тех домов, которым какой-то городской остряк дал меткое прозвище Ноева ковчега. Поднявшись на четвертый этаж по крутой черной лестнице (парадные здесь вообще отсутствовали), пропитанной невыносимым кошачьим духом и парами несвежих щей, он позвонил в дверь квартиры, где в одной из комнат обитала кафешантанная дива.
— Войдите, не заперто! — раздалось откуда-то из глубины.
Войдя и взглянув на Шерри, Думанский на мгновение почувствовал сильнейшее желание извиниться и немедленно броситься вон. Не ведающая стыда хозяюшка стояла перед ним совершенно обнаженная, точнее, из всей одежды на ней были лишь шелковые бальные туфельки и чулки из черного кружева с пунцовыми подвязками в виде бантов.
— Ну как? — спросила она, любуясь предполагаемым эффектом, проверенным на бесчисленном множестве посетителей противоположного пола. — Перед тобой раскрылась вся земная красота, воплощенная в форме одной-единственной и неповторимой женщины! Иди же ко мне — океан любви с мистическим обаянием! Вот моя рука, с тобой хоть в преисподнюю!
— Сударыня, недосуг мне в преисподнюю! И вообще — все это совсем лишнее…
Думанский инстинктивно отшатнулся. «Интересно, в какой скверной пьесе она позаимствовала эти „колдовские“ перлы? — подумал он с отвращением. — Или сама сочинила? А уж надушилась-то! Этой копеечной дрянью не брезгуют разве что белошвейки из какого-нибудь подвального ателье».
Ему вспомнилось, как еще студентом первого курса он поддался однажды на уговоры приятелей и посетил «веселый дом» мадам Остренковой. Услышав имя, которым представилась ему «жрица любви», Викентий тогда долго не мог разогнуться от смеха. Вчерашняя полуграмотная крестьянка, успевшая зато усвоить уроки «галантной словесности» на столичной панели, окрестила себя… Гангреной! «Вот такими путями и распространяется просвещение, то самое — „разумное, доброе, вечное“, которое, вероятно, посеял некий почитатель господина Некрасова из разночинцев в одно из ночных посещений окрестностей Сенной», — подумал уже тогда юный правовед.
— В чем дело, дусик? — спросила очаровательница и нетерпеливо топнула ножкой. — Так и будешь стоять?
— Веди себя благоразумно. Ты меня с моим братцем не перепутала?
— Раньше тебя это не беспокоило. Не смею требовать любви, мой ангел, быть может, за грехи мои любви я и не стою, — продолжила она тоном трагической актрисы старой школы, сопроводив свои слова соответствующими жестами: как будто кто-то невидимый дергает за ниточки дурно сработанную марионетку.
«Не хватало только еще продолжения этой мелодекламации!» — Викентий Алексеевич, все более ощущал, что ему становится смертельно скучно в обществе этой «роковой» женщины.
— Ну пошутили, и хватит! Давайте же к делу, — справившись наконец с волной брезгливости, ровным тоном произнес он, будто находился у себя в конторе и разговаривал с самой обычной клиенткой, — у нас мало времени. Итак, вам нужно явиться в Страховое общество «Россия». Я для вас записал адрес, все документы, что необходимо иметь с собой, — вот здесь. Нужно сказать, что вам назначен прием у господина Козлевского. Вы запомнили? Козлевский Кирилл Владимирович! Дадите ему вместе с документами двести рублей. Говорить ничего не нужно, он сам прекрасно знает, что следует делать. Устроит все в тот же день без привлечения третьих лиц. Прощайте же, оставляю ваше неподражаемое общество. A propos,[91] чуть не забыл! Как следует в подобных случаях, приношу глубочайшие соболезнования, безутешная вы наша. И еще полезный совет — на вашем месте я бы все-таки оделся. Климат в Петербурге отличен от южного, так и до насморка недалеко.
Он уже спустился на два этажа, когда разъяренная «дива» выскочила из квартиры. Так и не удосужившись набросить на себя хотя бы пеньюар, она свесилась вниз и огласила лестницу истошным криком:
— Никогда не познаешь жестокого наслаждения больших любовных разочарований! Вали к своей тяпуле![92] Я подожду, пока у тебя блажь пройдет. Но в этот раз с огнем играешь: цыганка зубищи огромные имеет, ты ей ни к чему. У нее другой интерес — денежный. Она для тебя самое подходящее общество! А вот еще погоди — как начнет выродков плодить каждый год, посмотрю, что тогда запоешь!
Когда Думанский достиг наконец выхода, сверху еще доносилась нескончаемая ругательная тирада, изобилующая самыми извилистыми коленцами и сделавшая бы честь любой базарной торговке или девке из третьеразрядного заведения.
— Ступай-ступай, как я рада, что рухнул ваш прожэкт со Свистуновым! Я немедля помчусь к нему и буду счастлива и любима! Пошел к чертям весь ваш бедлам и ты с ним тоже!
— Ну это уж как вам угодно, — последовал равнодушный ответ, а затем оглушительно хлопнула дверь в подъезде.
Обиженная «кесаревским» невниманием, даже безразличием к ее, как казалось ей, весьма соблазнительной доступности, Шерри Колдовская все же исполнила деловую инструкцию точь-в-точь: не раздумывая, она предложила судебному эксперту определенную сумму, «чтобы тело незабвенного супруга предать земле без тягостных проволочек». Эксперт Козлевский действительно оказался сговорчивым и выдал безутешной вдове необходимое свидетельство не только без волокиты, но и без опознания третьим лицом, что позволило Шерри в тот же день отнести в общество «Россия» сей «скорбный» документ вместе с заявлением о получении очень солидной страховой премии. Не прошло и недели, как «вдове Челбогашевой» выплатили полагающееся «утешительное» денежное возмещение — двадцать пять тысяч рублей! Все до копейки!!! Такого богатства Шерри никогда не держала в руках, а главное — все это теперь могло принадлежать ей одной, безраздельно…
VIII
Викентий Алексеевич, добравшись до опостылевшей старухиной «хазы», совершенно разбитый и почти ничего не соображая, отдался на волю волн. Никаноровна уставилась на него взглядом зловещей сивиллы:
— Все скитаешься по стогнам, шатаешься по кабакам? Спать небось пришел, странничек? А ты погодь — глазенки-то не закрывай, голубь, иди и смотри!
Адвокат, ни слова ни говоря, без единой мысли подчинился, и они, проследовав из комнаты, оказались на огромном рынке. Запахи свежеразделанных туш обрушивались здесь отовсюду и душили чувствительное обоняние Викентия. Во всем отвратительном натурализме протянулись бесконечные мясные ряды. Ища выход, он заметался, хватаясь за прилавки, но всюду были только свиные туши с бирками: «Княгиня Ариадна — 1000 руб.», «Гликерия — 300 руб. оптом», «Амалия — оптом и в розницу, 3 руб. за фунт». Подобным образом был маркирован и остальной «товар».
— Тело тебе? Или не слыхал уже? Иди и смотри! Выбирай любое.
Викентий Алексеевич закричал, дрожа от омерзения:
— Отдай МОЕ тело!!!
— Что ж ты так разволновался-то, милок? Заплатишь — и будет твое, — промурлыкала Никаноровна. — Ну? Любое выбирай! Какие деньги, такое и тело. Вон их сколько — на любой вкус! А он, вишь, раскричался! Чай не в институте благородных девиц. Тело ему подавай! Плати и обладай… Чем выше стоимость, тем слаще наслажденье. Свининка слатенькая, самая свежеющая — прислушайся, еще хрюкает! Свининки не желаете ли? У нас товар — у вас купец!
Чувства Викентия Алексеевича были доведены до пароксизма: мощная судорога свела в железные тиски ненавистное кесаревское тело. Думанский увидел его откуда-то со стороны медленно оседающим на каменный пол, в кошмарное месиво из уличной грязи и мясного крошева…
Очнулся он весь в испарине. В проклятой, смердящей от несвежести постели. По-видимому, было далеко за полдень. С кухни тянуло ужасным чадом: Никаноровна, напевая какой-то странный военный марш, пыталась приготовить нечто из продуктов, принесенных «Кесаревым» накануне. Тот настороженно прислушался к пению и стало ясно, в чем нелепость: бравурная мелодия диссонировала с отчаянно декадентским текстом.
Живешь и не знаешь, где кончишь; Не знаешь, поверить кому. Все рвешься мучительно к свету И снова приходишь во тьму, —бодрым голосом горланила неуемная «певица».
И боязно снова и грустно! Так часто бывает во сне: Идешь по таинственным залам В зловещей, немой тишине! Идешь от порога к порогу, От темных ворот до ворот И чувствуешь: кто-то незримый Вослед за тобою идет. Не видишь конца лабиринту Волшебных дверей и аркад, Идешь и томишься тоскою, Боясь оглянуться назад. И с каждой минутой страшнее Предчувствием сердце болит, От страха уйдешь без оглядки — Как ужас в погоню бежит! Стремишься по лестницам темным. Стучишься в замкнутую дверь, А кто-то, как демон хохочет: «Не скрыться, не скрыться теперь!» Дрожишь и не можешь проснуться, Готов погибать без надежд, Пока не откроешь в испуге Для жизни ослабленных вежд… А как же от жизни проснуться Изнывшему в трудной борьбе. Где смерть, точно демон, хохочет: «Не скрыться, не скрыться тебе!..»[93]«Издевается она, что ли?! Какая „муза“ надиктовала ей это? — вознегодовал адвокат. — На Тебя, Господи, уповаю: освободи душу от унизительных мытарств! Ничего чужого не прошу, только верни ТО, ЧТО МОЕ ПО ПРАВУ, ЧТО ТЫ ДАЛ МНЕ ПРИ РОЖДЕНИИ!»
Очнувшись наконец, он обнаружил, что бессмысленно вертит в руках какую-то книгу. «Ах да, сатинская книжонка „Знаки и символы“ — французская стряпня!» Вспомнилось о раненом Челбогашеве, и «Кесарев-Васюха» поспешил проведать — как он там?
— Не дай Бог, если тебя найдет Колька-Яхонт, — послышался сиплый голос «брата». — Ах, эта стерва Шерри! Я так и знал, что она заберет все деньги со страховки, а нас не при делах оставит. Сбежала, стерва! Семя Иудино! Не иначе как со своим Свистуновым. Прощевай, братка! На все воля Божья… Так мне и надо, что меня Господь покаяния лишил. Надоело, видать, терпеть Ему Митьку Челбогашева!
Думанский почувствовал простую человеческую, христианскую жалость к умирающему:
— Ты что это такое говоришь, а? Нужно немедленно, сейчас же искать врача! Я заплачу, Митя, — хороший хирург поможет…
— Не поможет, брат, ни доктор, ни чудотворец — не жилец я уже… И если бы сразу позвали, тоже хана! Что здесь загнуться, что на этапе — один хрен… — хрипел умирающий. — Слышь, Вась! У Яхонта общак, передай ему, что я свою долю тебе завещаю.
Думанский тяжело, невесело вздохнул: «Мне бы со своей долей справиться!»
— Эх, Дмитрий, что уж говорить… А может, вы… ты исповедаться хочешь? Скажи. Пока не поздно скажи — ведь будет легче, да и… Нельзя же без этого, не по-русски, не по-человечески это!
Челбогашев, метавшийся в жару по постели, замер и удивленно посмотрел на «брата».
— Что?! Попа звать? Поздно! Теперь уж поздно каяться. Раньше бы… — Он повернулся к стене и закрыл глаза. — Отвези меня в Коломяги, Васюха! Ради Бога…
Вечер спустился на Петербург. За северной окраиной столицы, в Коломягах, уже царила сонная тишина. Окна опустевших дач были заколочены на зиму, а в домах немногочисленных обывателей предместья едва теплились огни керосиновых ламп — хозяева уже отходили ко сну. На улицах, погруженных в полумрак, не было ни души. В лунном свете одиноко желтел крест местной часовни да играли блики на ее стеклянной пристройке. Вот по стене красного кирпича поползла бесформенная тень. Выгляни из дома любопытный абориген, он вряд ли различил бы в этом черном пятне две мужские фигуры: одну — сгорбленную под тяжестью ноши, и другую — собственно ношу.
Санный возок с кобылкой Думанский оставил еще у края обширного Удельного парка (в «кесаревской шкуре» приходилось опасаться «хвоста» и играть по правилам воровской стаи, а кровавый след на объездной дороге указал бы «фараонам» путь к конспиративной даче — хазе), поэтому Челбогашева, терявшего сознание, адвокату пришлось тащить на себе напрямик, можно сказать, через лес. Если бы бандит время от времени, едва ворочая языком, не указывал дорогу, Викентий Алексеевич наверняка бы заблудился среди вековых деревьев. Еще из разговоров в притоне Никаноровны Думанский понял, что в Коломягах есть какая-то «блатхата», но, пробираясь закоулками, между сараями и деревянными заборами, он и понятия не имел, в каком именно доме бандиты свили себе гнездо. Наконец возле заброшенной деревянной дачи с покосившейся островерхой башенкой и пестро остекленной верандой раненый прохрипел:
— Шабаш! Приехали…
После настойчивого стука в окно за дверью послышались шаги. Чей-то зоркий глаз долго разглядывал в щель поздних гостей. Наконец дверь открыл белобрысый парнишка лет пятнадцати.
— Три раза стучать условлено, а то откуда мне знать, кого несет. Тут по вашу душу Яхонт уже несколько раз со своими жиганами заходил, про вас выспрашивал всякое. Злющий, как волчина. Все здесь перевернул, искал деньги. Били меня скопом, но я вас не сдал, не-е.
— Нишкни, ушан,[94] не до конспирации! Наших всех завалили, и Шерри, кошка драная, нас кинула, — прорычал Челбогашев сквозь зубы и застонал. — Воды бы лучше принес…
Он дождался, когда парень исчезнет в мрачной пустоте дома, потом заговорил, то и дело прерываясь, чтобы перевести дыхание:
— Андрей… Столько дел с тобой своротили. Всякие были дела — славные… А иное вспомнишь — паскудство одно… Помнишь, как ризы с икон обдирали? А еще вот… Прости, я тебе не верил, думал, не ты ли та крыса… А теперь… ты ж мне брат все же! Ухожу я, чую, кончаюсь… Никаноровна, бывало, затянет:
Хорошо поют синички — Здесь мы больше не жилички. Хорошо поют скворцы — Здесь мы больше не жильцы!Лицо Думанского мучительно скривилось. Челбогашев закашлялся, сплюнул на снег кровью:
— Хотел я тебя, Андрюха, через плешь… Думал все деньги себе… Знал, что ты с Шерри путаешься и сбежать с ней хочешь… Даже в мыслях сколько раз тебя кончал и фараонам сдавал за пятьдесят косых… Вот меня Господь за такие мысли и… Послушай, — тяжело дыша он продолжал, — я тут для себя понял, но уже поздно… Богат не тот, у кого все есть, а тот, кому ничего не нужно.
Вернулся «связной» со стаканом воды. Руки парня заметно дрожали. Викентий Алексеевич отобрал у него стакан, осторожно разжал «брату» зубы, попытался напоить, но тот закашлялся и забрызгал «Васюхе» руки черной кровью… Вдвоем все же кое-как занесли Челбогашева в дом.
— Где здесь можно помыться? — спросил «Кесарев», чувствуя, что его вот-вот стошнит.
Подручный «отрок» уныло заканючил:
— Хозяин, мне деньги нужны. Раз не удалось прикончить Думанского вашего, может, мне продолжать ходить за ним?
— Пожалуй, ты прав. — Адвокат не смог сдержать горькую улыбку, как-то обреченно кивнул головой. — Да, продолжай… Следи…
С веранды неожиданно донеслась затейливая дробь, словно в дверь долбила обученная птица: три удара в быстром темпе, потом еще пробарабанили пальцами «фразу» из «Чижика-пыжика», а вдобавок последовало два коротких удара с перерывом в секунду.
— Это свои, хозяин, — успокоил ушан резко встрепенувшегося «Кесарева». — Нешто по стуку не признали? — И побежал открывать.
С улицы бешеным вихрем влетела молодая цыганка, которую, впрочем, при всем желании нельзя было назвать даже миловидной. Развевающиеся, черные как смоль волосы и хищный, как птичий клюв, продолговатый нос, делали смуглую незнакомку похожей не то на ворону, не то на галку. Приглядевшись, Викентий Алексеевич заметил, что таборная «красотка» к тому же еще и в интересном положении. Живот, который она и не думала скрывать, колыхался в такт ее движениям, норовя выпрыгнуть из цветных юбок.
— Ай ты, сокол ты мой ясный! Васенька мой! Алмаз драгоценный! — выкрикнула она, заключая оторопевшего Думанского в цепкие объятия. — Живой, золотой мой, бриллиантовый! А мама-то моя нагадала, что умер ты. Знал бы, как извелась я, все глаза выплакала. А мне в таком положении вить как? Расстраиваться никак невозможно, а то ребеночек печальным родится — ой, би-ида будет! Ты ж не хочешь, чтобы сынок наш все время слезы лил? Говори, милый, говори, золотой… Что молчишь, а? Не хочешь ведь…
— Ну что так смотришь, будто не признаешь? — продолжала она. — Я ж это, Зара! Жена твоя перед Богом и людьми… хоть и невенчанная. Да не пугай же меня так, яхонтовый ты мой…
Думанский неловко попытался освободиться от чересчур темпераментной, неугомонной собеседницы. Ворот рубашки чуть раскрылся и крестик на тонкой серебряной цепочке выскользнул наружу. Увидев его, цыганка так и расцвела в радостном удивлении:
— Ай! Слава тебе, Господи. Такой подарок ты мне сделал — крестик святой носишь!
— Видишь, послушался тебя, — ответил Викентий Алексеевич наугад, подобно человеку, с завязанными глазами передвигающемуся по тонкому льду. — Он-то и спас наверняка. Вот теперь, когда умру, так и отпоешь меня по православному обычаю, с соблюдением всех канонов.
«Значит, у меня „жестокий романс“ с девкой из табора — да-а-а… Интересно, какие еще сюрпризы мне приготовлены? — размышлял про себя Думанский. — Сводная сестра в приюте для умалишенных, тетушка-миллионерша или крестник, отбывающий срок в каторжной тюрьме?..»
— Что ты, что ты, драгоценный мой? Вон вить о чем вздумал — помирать! Ай, ты смотри ж! Зачем об этом думать? — Зара запрещающим властным жестом приложила ладонь к губам «Кесарева». — А жить теперь долго будем — сыночке отец, мама нужны. Грех о смерти думать, судьбу дразнить! Раз на тебя гадать не получается, так, стало быть, и нет у тебя судьбы, сокол мой ясный…
Но тут взгляд зорких цыганских глаз упал на Челбогашева, лежащего в отдалении на кушетке возле жарко натопленной печки-голландки. Оставив «Кесарева», Зара преодолела это расстояние каким-то кошачьим прыжком и принялась хлопотать над смертельно раненным бандитом. Она терла ему руки, приглаживала волосы, извивалась над беднягой черной тенью, чертила над ним в воздухе непонятные знаки, то беспрестанно что-то бормоча, то внезапно вскрикивая. Наконец обреченный слабым жестом пальцев отстранил от себя знахарку. Та, измученная бесполезной борьбой со смертью, отошла и остановилась в двух шагах от постели, обхватив голову руками и все еще покачиваясь, но уже молча.
На минуту бандит приумолк. Думанский видел, что все вот-вот кончится: лицо синело на глазах, и только коченеющие губы шептали из последних сил, однако твердо:
— Забирай теперь всю казну… Я сказал, всю казну забирай! Богат не тот, у кого все есть, а тот, кому ничего не нужно. Поверь брату: это закон! Деньги должны принадлежать тому, кто может толком ими распорядиться. Ты один остался… Ребят жалко — ничего им там теперь не нужно… Я-то хоть погулял здесь… Ты меня, Андрюха, лихом не поминай! У Никаноровны, в мешке с провизией… — Дмитрий захрипел, — там всё… Я ж тебя обманул в прошлый раз: сказал, будто Яхонт отобрал… А теперь уходи — один я хочу побыть… Да, свечку поставь за упокой — может, простит Господь душегуба? — он поднял на «Кесарева» глаза, в которых был только этот последний вопрос и холод смерти.
Викентий Алексеевич подумал: «Как знать? Ведь сказал же Господь покаявшемуся разбойнику: „Ныне же будешь со Мною в раю!“».
Не дождавшись ответа, Челбогашев упрямо вытвердил:
— Уходи, говорю…
Но Думанский присел на корточки и осторожно поднял «брата» на руки:
— Я панихиду закажу, Дмитрий, а Господь все прощает.
Еще держа Челбогашева на руках, он ощутил, что брючный карман того оттягивает что-то увесистое, и тут же вспомнил про гуляевский смит-вессон. Это действительно был отобранный пистолет. Блеснула в полумраке серебряная табличка с гравировкой: «Адвокату Думанскому от благодарного негоцианта…» «Да. Мне-то он принадлежит по праву, а тебе, Дмитрий… — Викентий Алексеевич подумал и заменил смит-вессон на промасленную „игрушку“ с „Сестры-реки“, из которой так и не было сделано ни одного выстрела. — Это тебе от братана Андрюхи на вечную память». Умирающий удивленно взглянул на «Васюху-Андрюху», и тут же блеск в глазах его потух, а голова беспомощно повисла. Адвокат подумал: «Отошел». Бездыханное тело Думанский завернул в простыню — до савана ли тут? Причитающая по-цыгански Зара старалась помочь, но у нее тряслись руки и, в конце концов, оставив эти нервные попытки, она уселась на стул в углу, продолжая что-то тихо приговаривать навзрыд.
Адвокат-«Кесарев», позвав за собой мальчишку-связного, вышел во двор. Вдохнув свежего морозного воздуха и растерев снегом лицо, он спросил притихшего парнишку:
— Тебя как звать-то?
— А вам для чего? — испуганно ответил тот. — До сих пор не требовалось. Я же всегда все справно исправляю, если за кем последить, узнать, сказать кому чего или при-несть. Так-то Гаврошем меня кличут, или забыли? А до имени-то у вас никогда интереса не было…
— Значит, теперь есть. — Чтобы ближе расположить к себе, Думанскому необходимо было по имени обращаться к этому маленькому, но все же человеку, а не бессловесной «твари дрожащей».
«Отрок», казалось, даже вытянулся и расправил плечики:
— Ну, Петька я. Петром крестили.
— Тогда слушай меня внимательно, Петя. Хочу тебе не мелочевку какую, а серьезное, козырное дело поручить. Вот тебе деньги…
Ушан увидел две четвертных кредитки и в его светлых голубых глазах мгновенно загорелся порочный огонек. «Жаль, — с разочарованием подумал Думанский, — почти ребенок, а уже испорчен», — однако продолжал:
— …Утром постригись, приоденься как следует. Завтра же явишься в новый дворец князя Мансурова, что на углу Фонтанки и Гороховой (сам увидишь красивый дом). Вот тебе, Петя, задание от фартовых людей: устройся там на службу. Кем угодно — хоть двери открывать, хоть кучерам помогать. Не получится к Мансурову — не беда: напротив есть пекарня, всегда можно в ученики пойти или вразнос торговать по округе. В общем, как удастся. Угождай начальству всячески, всюду пролезь. Главная твоя задача — постараться узнать, что в мансуровском доме происходит, и даже около него. Кто там живет, кто бывает, кто приходит, кто уходит. Кто остается. Соображаешь? В доверие, конечно, не войдешь — не по силам, но, по возможности, смотри во все глаза и ухо держи востро! Но самое важное — должен ты, брат, вычислить, приезжает ли туда и в какое время все тот же известный тебе адвокат Думанский. Этот господин, видишь ли, намылился от меня за границу убежать. Понимаешь, Петруша, изловить я его жажду, уж очень много этот жук конторский мне насолил… Удастся его поймать, золотом потом с тобой рассчитаюсь. А с этим вражиной у нас свои особые счеты имеются… Хотим мы, Петруша, бо-ольшое дело провернуть, банк огромный сорвем — на всю Россию-матушку прогремим! И ты в нем свою долю получишь, не сомневайся — я слов на ветер не бросаю. Значит, как только появится там господин Думанский, мигом на хазу (ты знаешь куда) — отыщешь меня и лично сообщишь! Только смотри — об этом базаре никому, и все новости мне лично на словах! А что — сослужишь службу, пожалуй, станешь великим, Петр…
Мальчишка расплылся в улыбке.
— Ну? Все уяснил?
Он услужливо кивнул, но продолжал стоять на месте, все с тем же порочным блеском в глазах поглядывая на хозяина.
— Пока хватит, — понял «Кесарев». — С первым же сообщением еще получишь… А сейчас у нас, Петруша, дела скорбные на очереди.
— Вестимо, хозяин. Все сполнять буду, как приказано.
Викентий Алексеевич вместе с мальчишкой-связным вернулись в дом, вынесли покойника и уложили в сани (умная лошадка сама привезла их домой — туда, где ей обычно задавали корм, и сутки простояла в небольшом сарайчике), а к ночи, под покровом мрака, Думанский в полном безмолвии и безлюдье отвез печальный груз Комендантским полем, минуя стороной Коломяжский ипподром, на полузаброшенное Новодеревенское кладбище. Что было делать попавшему в невиданную переделку адвокату с чужим, бандитским лицом? Самому похоронить тело в мерзлой земле, да еще под толстым слоем слежавшегося снега, не было никакой возможности. Кладбищенский сторож, увидев такую ночную «процессию», застучал было спросонья в свою колотушку, но Думанский предупредительно бросился к нему, размахивая тремя красненькими: [95]
— Постойте, постойте!
— Ну, чего тебе? Ходят тут среди ночи невесть кто, покой усопших останков нарушают.
— Вы не волнуйтесь так, милейший! Вот вам прибавка к жалованию, да в придачу лошадка с санями.
Деньги для «милейшего» старика были очень солидные, в хозяйстве совсем не лишние. Ошарашенный неожиданным кушем, он без пререканий согласился договориться с могильщиками и, как положено православным обычаем, предать тело усопшего грешника, раба Божия Димитрия, земле.
Единственной радостью, согревавшей душу Викентия Алексеевича, единственным дорогим существом, недосягаемым для тех ужасов, которые затянули в дьявольский водоворот самого адвоката, была Мария Сергеевна Савелова — его Молли. Несколько дней подряд вечерами приходил он под окна квартиры на Фурштатской, которую умудрился все-таки снять, представившись «доверенным лицом известного адвоката Думанского» (а в респектабельном обличье репортера почтенной городской газеты его без сомнения принимали за такового). Подолгу стоял возле нового дома, воображая, что сейчас делает любимая женщина, пытаясь угадать, чем заняты ее мысли. Впрочем, в столь поздние часы она, конечно, должна была уже спать. «Господи, не остави заступлением своим рабу Твою Марию! Матерь Божия, не отведи от нея дивно спасительного Твоего Покрова! Святый Ангеле Хранителю, сохрани ее во дни и в нощи кровом невещественных крыл твоих!» — бормотал Викентий Алексеевич запекшимися «кесаревскими» губами, веря, что из мутных «кесаревских» глаз текут сейчас его собственные чистые слезы.
IX
Внезапный отъезд дядюшки поверг Молли в уныние — она привязалась к старому чудаку всем сердцем и не находила себе места в опустевшей вдруг квартире, а неожиданное исчезновение в безвестность Викентия и вовсе доводило ее до отчаяния и делало одиночество невыносимым. Наконец вместо с таким нетерпением ожидаемого Думанского явился пожилой рассыльный со странной запиской на хорошем французском: «Вам угрожает смертельная опасность. Думанский — не тот человек, за кого себя выдает. Срочно переезжайте на квартиру по известному адресу. В полицию, похоже, обращаться бесполезно — не поверят. Как можно скорее оставьте этот дом! Вы не представляете, какая беда стряслась со мной и какая вам угрожает опасность! Викентий Думанский».
«Если Думанский и в самом деле не Думанский… то кто же он тогда?! И почему эта „головоломка“ подписана его именем?» — недоумевала сбитая с толку молодая женщина. Само послание производило нелепое впечатление — в нем была какая-то нарочитая искусственность. Буквы написаны не обычным бытовым почерком Викентия, а напряженно выведены какой-то «прописью» прилежного гимназиста. Пожалуй, это был почерк Думанского, но «образцовость» его внушала Молли тревогу. Зачем Викентию понадобилось это нелепое чистописание — так пишут люди на грани помешательства, боящиеся «потерять» себя. Не дай Бог, он повредился рассудком… А что, если он несвободен, его заставили, истязали?! И еще так пишут искусные каллиграфы, когда хотят подделать чей-то почерк явно не из «любви к искусству»… Так КТО же все-таки автор письма?! От подобных вопросов, фантазий-догадок (одна другой страшнее) тоска Молли стала еще более безысходной.
Конечно, надо было дождаться Викентия, рассказать ему о приходе Кесарева и спросить, что все это значит. Со времени визита бессловесного рассыльного прошли уже сутки, а рядом не было никого, с кем можно было бы не то что посоветоваться, как все это понимать, но просто словом перемолвиться — даже Глафиры, навещавшей какую-то родню в губернии, что ей не возбранялось в выходные дни и по праздникам.
«Какая невыносимая тишина! Не хватало еще заговорить с собой, как это делал дядюшка: задаст, бывало, вслух какой-нибудь вопрос в пустоту, а ответ так и повисает в воздухе. Жутко! Меня будто бы и рядом нет, — терзалась Молли. — И куда Викентий пропал? Ведь не приснился же мне тот вечер, отъезд на вокзал. Он не может оставить меня! И как же предсказания отца Иоанна? Господи, Ты милосерд, не оставь меня без Твоей помощи!»
Незаметно для себя Молли все чаще стала обращаться с молитвой к Богу, заглядывать в духовные сочинения и философские тома. Не так давно ей попался свежий перевод трактата новомодного датского философа, и одна фраза особенно запала в душу: «Откровение обнаруживается тайной, счастье — страданием, определенность веры — неопределенностью, непринужденность религиозной жизни — ее трудностями». Протестант-мистик, сам того не подозревая, проник в святая святых православного сознания, и это понимание веры стало близким заблудившейся в мирском хаосе Молли.
Разумеется, когда в прихожей прозвучал такой долгожданный, сулящий избавление от неизвестности и одиночества звонок, она бросилась к дверям, ни секунды не сомневаясь, что увидит того, кто ей сейчас так необходим, кому мысленно она уже отдала в безраздельное владение всю себя.
И это действительно был Викентий! Викентий, которого про себя еще недавно она называла не иначе как «адвокат Думанский», а теперь самый близкий, самый дорогой человек на свете. Однако перемена, происшедшая с Думанским, заставила Молли оцепенеть. С первого взгляда было ясно — это не тот Викентий, в чьих глазах видела она слезы откровения, и не тот, прежний Викентий Думанский, в чьем облике читалось благородство его предков. И не тот Викентий, не тот мужчина, что совсем недавно объяснялся ей в любви!
«Господи, что же это такое?! Что с ним?!!» — содрогнулась Молли. От прежнего достоинства, даже франтовства, Думанского не осталось и следа — дорогой костюм был измят и засален, крахмальная сорочка чернела ободом стоячего воротничка, из-под рукавов пальто выглядывали несвежие манжеты, и единственная запонка с дорогим камнем выглядела каким-то абсурдным аксессуаром этого видавшего виды облачения. Галстук же тончайшего шелка был повязан невесть как и вызывающе пестрел неизвестного происхождения пятнами. Само выражение глаз Викентия стало чужим, нисколько ему не свойственным. Лицо лоснилось так, словно не знало ухода по меньшей мере трое суток, и расплывалось в постыдно самодовольной улыбке не чуждого сразу всем порокам буржуа.
— Господи! Как это возможно?! Да что с тобой стряслось?! — вырвалось у испуганной до полусмерти Молли.
Грубо отстранив женщину, «Думанский» оказался в прихожей и тоном провинциального актера, поднаторевшего в амплуа героев-любовников, произнес (причем было заметно, что язык его заплетается):
— Я в полном аж-журе, мадемуазель, и соответствую-с… — Затем он без приглашения молча прошел в гостиную.
Сердце Молли оборвалось, она поняла: случилось что-то страшное.
— На улице совсем скверно — факт! Но ведь это не помешает нам приятно провести вечерок? Развлечемся, а? — бесцеремонно осведомился гость. Покачиваясь, он потянулся влажными губами к руке Молли.
Девушка отшатнулась:
— Quelle honte! Votre conduite est insupportable![96]
«Да он совсем пьян! Или может, мне все-таки чудится?»
— Викентий! Ради Бога, объяснитесь. Я должна знать, что с вами произошло… Чем я могу тебе помочь? — она пыталась заглянуть ему в глаза.
Думанский раздраженно отмахнулся:
— Все эти чувствия ни к чему! Подумаешь! Ну, может, и перебрал накануне, а теперь… — Он издал неприличный звук, выпустив воздух через выпяченные сжатые губы, как бы иллюстрируя происшедший с ним конфуз. — В общем, устал малость… А ты не задавай вопросов! Не ж-желаю-с! И зачем этот твой французский? Н-не люблю!
С этими словами отяжелевший «Думанский» плюхнулся в то самое кресло, возле которого еще так недавно, так вдохновенно говорил Молли о своей любви.
Молли начинала терять самообладание. «Не его слова, не его жесты! Откуда эта отвратительная развязность?»
— Милый, тебе плохо, я понимаю, но главное сейчас — отдохнуть и успокоиться…
Однако казалось, слова ее не доходят до сознания Викентия.
— Да ты сама успокойся! — оборвал «Думанский», грубо обхватив растерявшуюся Молли за плечи и пожирая ее мутным, плотоядным взглядом.
«Боже! Он обращается со мной как с кокоткой!» Молли дрожала от негодования и отвращения: на глазах у нее «Думанский» самым необъяснимым образом все более превращался не в повесу даже — в банального уличного хама.
— Ну что, развлечемся? Водочки, икорки, а может, фруктов, шампанского? Я-то всю эту ерунду, конфеты и прочее, терпеть не могу, а ты, наверное, предпочитаешь с шиком?
Молли молчала, с ужасом ожидая продолжения — то ли еще будет?
— Никак у тебя чего-то с нервами, киска? Врачи в таких случаях порошки прописывают, а по мне, от нервов одно лекарство: выпей хорошенько — и все как рукой снимет. Вернее средства нету, это я тебе говорю… — он запнулся, — Викентий Думанский!
«Нет! Он не такой! — упрямо твердила про себя Молли, едва сдерживая слезы. — Он благородный человек. Он чистый, чистый…»
— Прошу тебя, Викентий, не надо так… Тебе совсем не идет… Глупость какая! Абсурд! Я не узнаю, не узнаю тебя, не пугай меня! Это жестоко, в конце концов! Как ты груб… И откуда эта бульварная пошлость — «киска»?! Quelle honte!
Она опять невольно перешла на французский. Но мольбы ее не трогали Викентия! Он всем своим видом выражал полное непонимание и, казалось, даже презрение к подобной реакции Молли. Отчаявшись, она наконец зарыдала, закрывая ладонями лицо.
— Ну вот еще! — поморщился гость. — Я же сказал, не надо сцен. Тоже мне недотрога! Терпеть не могу бабью сырость… И надоело мне это французское сюсюканье — я не голубь ворковать тут! Принеси-ка лучше чего поесть или прикажи кому-нибудь — я голоден как волк. — Он с бесстыдной улыбкой заглянул в самые глаза Молли. — Какой с меня толк, с голодного? А? И не упрямься, киска, уж я-то прекрасно знаю, чего тебе хочется!
Думанский бесцеремонно взял Молли за подбородок, она инстинктивно отпрянула, ударив его по руке.
— Не прикасайтесь ко мне!!!
— Да ты что, совсем уже того?! Я тебя живо вылечу от всех хворей разом. А ну пошли! — распалился «Викентий».
— Оставьте меня! — все с тем же отвращением повторила Молли, уклоняясь от назойливых объятий. — Я прошу — не надо! Мне плохо!!! Я хочу остаться одна! Вам лучше прийти в другой раз… завтра.
На лице гостя застыла гнуснейшая ухмылка. Столь решительный отпор обескуражил его. И теперь он не знал, что предпринять дальше.
«А вдруг это действительно не Викентий? Возможно ли? — мелькнуло у Молли чудовищное предположение. — Даже если не Думанский, однако как внешне похож… Но тогда КТО же это?» Успокаивая скорее себя, нежели гостя, Молли как можно равнодушнее и тверже произнесла:
— Знаешь, нам действительно следовало бы увидеться завтра, а сейчас уходи. Так будет лучше для нас обоих. Мне нужно с тобой о многом поговорить, но не теперь.
Однако гость не унимался, хотя его уже порядочно развезло. Он, подобно трактирному буяну, уже готов был рвануть рубаху на груди.
— Что же ты ломаешься-то? Я ведь тоже ч-человек! У меня, может, горе, а ты мне от ворот поворот… Ну скажи, может у меня быть горе? А? — Он перешел на крик: — Да если б ты знала, что я сделал! Что я сделал!!! Да меня… Все вы такие! Под тарантаску меня подвести хотите, твари?! Жилы из меня тянете, на палку наматываете! Смерти моей хотите?!
«Думанский» зарыдал, пьяно размазывая слезы по лицу, однако вид его не вызвал у Молли ни капли сострадания, зато убедил ее, что этому странному типу ни в коем случае нельзя ни напоминать о «его» записке, ни рассказывать о приходе Кесарева, ни вообще о чем бы то ни было…
— Возьму и повешусь сейчас! Прямо здесь! — ревел он. — Не веришь? Вот сейчас, извольте-с, к вашему у-до-воль-ствию, на галстуке. Погоди… Не развязывается, ч-ч…т! А-а-а! Не хочешь?! Нервишки хилые?
Собравшись с силами, «Думанский» ногой распахнул дверь в прихожую и стал пробираться к выходу из квартиры. Увидев перед собой зеркало, он отпрянул, словно не узнал себя в отражении. Грязно выругавшись, с грохотом захлопнул за собой дверь.
Оставшись в одиночестве, Молли никак не могла успокоиться — ее охватила нервная дрожь, ползучий, отвратительный страх сковал сознание. Бессмысленно бродя по комнате, она то заглядывала в прихожую, то возвращалась к столу, наливала воду из графина в стакан и, машинально отпив, неосторожно ставила его обратно на стол: вода расплескивалась, оставляя пятна на платье. Молли равнодушно смотрела, как струйки стекают со стола на ковер, и уже забывала о том, что делала мгновение назад.
«Что происходит?! Если это все же Викентий, то он, вне всякого сомнения, сошел с ума. Сам не ведает, что творит! Должно быть, письмо все-таки было написано им в момент просветления. Говорят у больных психически это случается. Отсюда и такое необычное, механистическое „чистописание“. Да нет, это даже не помешательство… Он НИКОГДА бы не позволил себе такого… Эта пошлость… Будто человека подменили! Но это же он! Каждая черточка… Не двойник же, в конце концов? Кошмар какой-то! И ведь я же не сплю? А может, это со мной… это я с ума схожу?!» Молли опустилась в кресло, но, инстинктивно вздрогнув при мысли о том, что здесь только что сидел странный некто, вскочила и опять принялась бродить по квартире. И все же это хаотичное, безостановочное движение не могло в полной мере отразить того, что творилось в ее истерзанной сомнениями душе, тем более не могло ее успокоить.
Наконец решение было принято: Молли собрала казавшиеся необходимыми вещи и покинула квартиру.
X
Лже-Думанский с некоторой опаской вошел во двор богатого претенциозного особняка, огляделся по сторонам, увидел важного дворника, со знанием дела очищающего от снега и наледи булыжник возле подъезда. Оборотень осторожно спросил:
— А хозяин-то дома?
— Как же-с, господин хороший, с утра были дома и никуда выходить не изволили!
В подъезде, у широкой, покрытой дорогим ковром лестницы посетителя встретил швейцар в ливрее — благообразный старик с седыми баками:
— Что вам угодно-с, ваше благородие?
Лже-Думанский отвечал неохотно — он не терпел препятствий на своем пути и не любил перед кем-либо отчитываться:
— Мне угодно Ивана Демидыча повидать. Ясно?
Швейцар несколько оторопел (сам-то хозяин был с ним ласков, да и многочисленным гостям не позволял неуважительно обращаться со старым слугой):
— Я, ваше благородие, не просто так здесь стою, а для приличия и порядку! Мне приказано пускать тех, кого ожидают-с, а сегодня господин Гуляев визитеров принимать не велели-с: у них меланхолия.
Лже-Думанский поморщился, достал портмоне и брезгливо протянул строгому швейцару десятирублевый кредитный билет. Старик как бы нехотя выказал готовность услужить:
— Ну-с извольте! Попрошу пальто ваше. К Иван Демидычу я сам вас провожу.
Новоиспеченный «адвокат» отстранил слугу:
— Отвали! Как-нибудь сам разберусь, без провожатых!
Он рванулся вверх по лестнице, швейцар же, не на шутку озадаченный, остался внизу сетовать на порчу нравов в благородном сословии: «Совсем невоспитанный господин и запущенный какой-то. Чтобы в прежние времена да такая некультурность! Разве ж это барин? И на купца-то приличного не похож. Никаких понятий! Может, и деньги-то у него фальшивые!» — Он стал с пристрастием разглядывать ассигнацию.
Лже-Думанский долго блуждал по просторным апартаментам в поисках хозяина, поражаясь пышности, которой отличались гуляевские покои: потолки каждой залы были обильно украшены лепниной, казалось, что все эти виноградные гроздья, ветки оливы и прочая алебастровая роскошь вот-вот посыплются на голову входящего. Это ощущение усиливала живопись плафонов, расписанных на манер необузданных фламандских натюрмортов — с изобилием всяческой снеди. Почти в каждой комнате был камин, отделанный дорогим камнем, полы повсеместно устилали звериные шкуры. Из убитых по прихоти, а то и с участием толстосума животных можно было бы составить целый зоосад. Всюду высились бронзовые канделябры, громоздкие статуи обнаженных нимф и афродит; стены, обитые золоченым штофом, подходящим скорее для архиерейских облачений, нежели для украшения жилья, были завешаны натуралистической живописью, воспевающей все удовольствия, когда-либо придуманные человечеством, и обрамленными позолоченным багетом дагерротипами — в основном, эффектных женщин: приковывали взгляд предметы холодного оружия — внушительная коллекция, подобранная случайно, но обширная. То тут, то там попадались и разного рода экзотические предметы — кальяны, изображения китайских божков, а также такие, о предназначении которых гость мог только догадываться. Порочная душа рвалась вон из благородного тела, снедаемая желанием обладать всей этой роскошью да еще и финансовыми возможностями хозяина особняка.
«Сволочь! Мешок с деньгами! — кипятился незваный гость. — Медведь архангельский! Устроил себе берлогу, Демидов сын… Да мне б такие капиталы, такой сказочный фарт, я бы и самой Расее-матушке подол задрал!»
Наконец перед лже-Думанским возникла добротная дубовая дверь, и он, в запале рванув на себя причудливо изогнутую медную ручку, чуть не рухнул на ковровую дорожку: дверь была не заперта, просто открывалась внутрь. Сообразив что к чему, «адвокат», ч…тыхнувшись, толкнул деревянную преграду, и ему тут же пришлось вздрогнуть от неожиданности: за столом посреди небольшой комнаты восседал Гуляев, который сначала издал низкий протяжный звук, имитируя скрип плохо смазанных дверных петель, а после громоподобно захохотал:
— Ох-ха-ха! Неужто испуг взял такого героя? Да вы не обижайтесь на меня, скомороха, люблю пошутить! Уж как рад видеть Вас, батюшка, представить не можете, спаситель вы мой!
«Знал бы кто перед ним, лететь бы мне отсюда кубарем», — подумал «Думанский».
По причине нетрезвости Гуляев поднялся к гостю значительно позднее своей собаки, здоровенного лохматого пса неведомой породы. А тот, издавая злобное рычание и ощетинившись, стал медленно подходить к лже-Думанскому и, когда тот сделал шаг по направлению к Ивану Демидычу, ухватил его за палец. «Адвокат» резко отдернул руку, потрясая кистью в воздухе.
«У зверюги-то мозгов, пожалуй, больше, чем у ее хозяина!» — обозлился лже-Думанский, а хозяин, ухватив за шкирку многопудового сторожа, потащил его к противоположной от выхода двери (там, судя по всему, был чулан, служивший собаке конурой), приговаривая:
— Ну смотри-ка ты, оглянуться не успел, а он цап за палец, разбойник! Ах ты, морда противная!
Водворив животное на место, купец плотно запер дверь, но собака еще долго скреблась и поскуливала.
Пока Гуляев наводил порядок, укушенный разглядывал комнату. Она совсем не была похожа на другие апартаменты особняка и напоминала собой прибежище какого-то «дикого» барина. Правда, на полу лежала шкура, но не суматранского тигра или ягуара с верховьев Ориноко, а потрепанная шкура, когда-то принадлежавшая огромному бурому медведю — видимо, охотничий трофей самого хозяина. На стенах красовались ружья — прекрасные образцы тульской работы, отделанные гравированным черненым серебром. В красном углу был устроен иконостас из потемневших от времени и копоти икон. Случайному посетителю их ценность была неведома, но знаток сразу распознал бы в них черты подлинного строгановского письма. Множество лампад висело перед образами, и все пылали так, что в комнате было не просто душно — жарко.
«Грешков, видно, много — есть что замаливать!» — позлорадствовал «Думанский» и перевел взгляд на приземистый, массивный стол с двумя тяжелыми, обитыми кожей креслами. На нем красовался прямо-таки натюрморт в русском купеческом стиле: графины-лафитнички и штофы с разноцветной водкой, граненые рюмки, большие блюда с жирными ломтями мяса и белого хлеба, соленые огурцы в духовитом рассоле и рыжики в желе в глубоких фаянсовых мисках, зернистая, «с сединой», икра в серебряной лохани, а посреди стола, совсем уж неизвестно к чему, огромный фарфоровый чайник, расписанный розанами, с чашкой и блюдцем из дорогого сервиза.
— Так вот и живу, раздрагоценный вы мой! — подал голос купец. — Осуждаете? А я и сам себя казню, да что ж делать, коли такой путаник родился! Мы, Гуляевы, все такие: гулять, так на всю Расею, а коли каяться, так чтобы по всем монастырям помин был!
Лже-Думанский уселся в кресло рядом с Гуляевым, положил локти на стол и, подперев ладонями подбородок, уставился на хозяина.
— Чтой-то грустный вы какой-то нынче, Викентий Лексеич? — заботливо спросил тот. — Слыхал я, намедни супруга ваша погибла — видать, и вправду беда, утрата горькая. Злые языки говорят, будто неладно жили вы с ней, так мало ли, что собаки брешут, — гоните всех в шею, пустобрехов… Соболезную от души: Царствие Небесное новопреставленной (имени-то не имел чести знать, но Господу ведомо), вечная память и вечный покой! — Гость «скорбно» вздохнул, отвел глаза. — А ежели помощь требуется, я всегда рад выручить хорошего человека! Как ваше здоровьице будет? Что служба ваша, юр-риспруденция? — купец продолжал, не дожидаясь ответа, довольный, как все пьяные, что представилась возможность выговориться. — Да-а-а! Вижу, тяжело поминать-то покойницу… Я вот тоже сегодня весь такой одинокий — тоска душу гложет, измучился совсем! Отчего бы? Суд этот, язви его, кончился, веселиться бы да гулять… Эх, Викентий Лексеич, дорогуша, скитался б я по тюрьмам, коли бы не вы! — На глазах Гуляева показались слезы. — Ну что, брат, может, выпьем по единой за успехи ваши да во спасение души моей пропащей? Я ведь от всего сердца: единая не сокрушит, ибо хорошее винцо красит лицо, душу мягчит, карманы легчит. Затейно? Так у нас, рыбинских-ярославских, заведено — пить с прибаутками!
С этими словами хозяин налил дорогому гостю из графинчика в рюмку:
— Померанцевая — услада! Залейте горе-кручину, подсластите — глядишь, полегчает… P-рекомендую! (А себе… целую чашку из чайника). Мадерцей люблю побаловаться, она для меня вроде чаю. Выпьешь чашку залпом — сразу в пот кинет, тепло на душе! Хор-рошо!
Лже-Викентий, ухмыльнувшись про себя купеческим причудам, одним махом опрокинул рюмку водки и, крякнув, вкусно хрупнул огурчиком.
Гуляев восхищенно произнес:
— Ну вот, так-то оно, Викентий Лексеич, всяко лучше! Дивлюсь я — вы и в этом толк знаете! Не видал я сроду таких интеллигентов — во всем дока…
— А все-таки первая колом, — поморщился «интеллигент», чтобы не хвалить гуляевские разносолы.
— Ничего, ничего! — подбодрил Гуляев. — Выпей, брат, еще стопку, и расслабишься, вторая-то она, вестимо, соколом. А коли не выпьешь — муки адские!
На этот раз он тоже налил себе в рюмку водки и махом опрокинул содержимое в рот, но, видя, что гость медлит со второй, добавил:
— Да не сумневайся — водка, она штука пользительная, ежели, конечно, не переусердствовать. Я-то, чего греха таить, бывает, и переусердствую… Вы уж не примите в тягость наше общество, а если на то ваше непременное желание, то я не обижусь — не хотите, так и не пейте… И из-за пальчика не огорчайтесь.
Он вскочил, достал из горки чистое полотенце, оторвал от него кусок так легко, будто это был не крахмальный холст, а бумага, и проворно, справившись, не больно ли, перемотал «Думанскому» палец. Тот, впрочем, не возражал и, только удивившись про себя, мол, какой услужливый купчишка, произнес:
— Пустяк — царапина. Не бери в голову, Иван Демидыч, собака — она на то и есть, чтобы своего хозяина охранять. Откуда ей знать, может, я зла тебе желаю?
Гуляев заулыбался:
— Шутишь, дорогуша. Дай-ка я тебя расцелую! — И он уже потянулся к лже-Викентию, чтобы доказать ему искренность своих дружеских чувств, но в этот момент приумолкнувший было пес грозно зарычал.
«Думанский» вздрогнул, косясь на дверь чулана-конуры. Гуляев только обернулся к двери и, погрозив пальцем, рявкнул:
— Но-но, не перечь, а то осержусь! Не умножай скорби на земле. Это друг, друг. Понял, Дроня?!
Дроня хоть и не видел угрожающего жеста хозяина, но рычать перестал, а только как-то обиженно тявкнул.
— Вот, говорят, тварь неразумная, а он у меня необыкновенный, — спешил объяснить гостю Гуляев. — Его мать была породистая сука — борзая чистых кровей. Жила в доме у моей матушки. А из дома ее, Эльзу эту, никуда не отпускали — гулять прямо на балкон ходила. Балкон у нас был огромный, галерея с баллюстрадой, матушка там даже цветник насадила, кустов всяких развела — так в кадках и росли. И вот выходит как-то мать моя на цветы полюбоваться, а Эльзы нету нигде. Глядит, а та валяется прямо под балконом, на клумбе. Ну, матушка, все конечно, в крик сразу: как де так, кто туда ее любимицу отпустил, не углядел… А никто и не отпускал — сама вниз сиганула, борзая ведь! Так и лежала без сознания… Ну, послали людей, подобрали, в дом принесли. Матушка сама помыла ее, обогрела, а через три недельки глядь — она брюхата! Щенков всех утопить хотели, я насилу уговорил одного оставить — самого толстого и сильного. Помню, как ни положишь их, а этот всегда наверху окажется, на братьях своих, — выползет и морду вверх тянет. Потеха! Вот и вырос — Дроня. Кто отец, так и не узнали, но, видно, здоровый зверюга был. А на мать совсем не похож получился. Такой и вышел, пар-ве-ню.
— Не пробовали дрессировать? — поинтересовался лже-Думанский, обгладывая поросячье ребро.
— А чего его дрессировать-то? Он и так умный. Я ить и сам особого образования не имею, однако капитал дай Бог каждому заработал — вот этими самыми руками, а больше мозгами своими. — Купец звонко хлопнул себя ладонью по лбу: лоб действительно был крепок и велик. — И Дроня весь в меня, просто копия! Я родился-то как? Отец у меня был… Веселый, добрейшей души и характером сильный. А как мать с похмелья под юбку хватит, так, бывало, приговаривает: «Вот мой алмаз-брильянт, вот мой клад».
Пока «Думанский» соображал, какая связь между умным псом и «кладом», принадлежавшим гуляевскому отцу, хозяин продолжал:
— Ежели бы Дроня человеком был, он обязательно стал бы настоящим разбойником, атаманом стал бы. Знаешь, он на улицу выйдет, а вокруг тут же стая собак собирается, и Дроня мой — во главе. Как я прямо!
Гость ухмыльнулся:
— Да уж, за вами тоже все кому не лень увязываются. Когда личность видная, всегда так. Выпить-то не хотите больше?
— А и правда! — не раздумывая согласился Гуляев. — За хорошего гостя я море выпил бы, коли б мог.
Он сам налил себе до краев чайную чашку померанцевой и тут же присовокупил ее к тому, что уже плескалось в его бездонном чреве. Затем продолжил исповедоваться:
— Я, вообще, человек честный, хоть и грешен много. Вы не смотрите, что меня несколько государств к смерти приговорили, — это все от их иноверного недоразумения… Не хотят, подлецы, понять православного человека. Куда им, немцам-англичанам, русскую душу понять! Они и друг дружку-то не понимают: боятся нутро свое открыть. Моя душа, как реки наши, как Волга-матушка, Двина: в узком месте — восемнадцать верст в ширину, а уж в широ-о-о-ком… — Он развел ручищи и чуть не смел со стола один из графинов, опрокинув все же рюмку. — В широком — шире моря! А еще Дроня-то, дружок мой, чего учудил… Он ведь, паршивец, послушный какой! Оставил я тут как-то на полу коробку наилучшейших конфект, а сам ушел. Вернулся под утро, а он сидит над конфектами голодный! Веришь ли, ни одной не съел, зато вся коробка слюнями до краев. Вот это преданность, это верность! А я все, значит, о себе да о своем? Не взыщите, пожалуй. Я ж, отец вы мой, должник ваш вовеки! Уж пришел, уважил — не погнушайся, брат, спасибо мое принять.
С этими словами он достал пухлый бумажник, сунул прямо в карман своему «спасителю», капризно замахал руками, когда тот сделал вид, якобы не хочет брать деньги:
— Не сочтите за мзду — от души это, люблю я вас, Викентий Лексеич! Слезами горю не поможешь, а деньги порой лучше лекарства. И не вздумайте отказываться, не обижайте Гуляева!
К некоторому его удивлению, «Думанского» больше не пришлось уговаривать.
— Ну спасибо, Иван Демидыч! Душевный вы человек. По правде-то, мне это сейчас очень даже кстати.
Они выпили еще по рюмке на брудершафт, и тут «Думанский», достав из бумажника деньги, стал их деловито пересчитывать, слюнявя тонкие пальцы. Купец оторопело глядел, но лже-Викентий не угомонился, пока все не пересчитал, затем преспокойно засунул бумажник во внутренний карман сюртука и, заметив недоумение Гуляева, пояснил:
— Чем больше считаешь, тем их больше, — вот ведь какая хитрая штука!
На уме у него было другое: «Мог бы и больше дать, однако хорошо хоть наличными».
Гуляев, который остановиться был уже не в силах и к тому же хотел оправиться от удивления, налил себе еще.
— У меня утраченное ощущение жизни… Всё как во сне вижу: кто-то что-то говорит, мельтешит перед глазами, все кругом чем-то заняты, а я смотрю жизнь, как фильму в си-нема: и чудно, и жутко — вроде все ненастоящее… Глаз синева, любовь и очи, я не хотел тебя порочить…
«Хватит! Его уже ч…т знает куда понесло!» Лже-Думанский засобирался:
— Ну, Иван Демидыч, пора мне и честь знать! У меня дел еще невпроворот — боюсь, засиделся, но рад был вас повидать и чувствительно за все благодарен.
Получив деньги, «адвокат» будто бы достиг основной цели визита и готов был удалиться, но хозяин, приложив немало усилий, поднялся из-за стола и решительно запротестовал:
— Куда это вы уже? Ну-ка сядь, подожди. Уходить собрался! Уж я так рад, что пришел, не забыл… И слышать ничего не хочу!
— Да я же не в последний раз, обязательно еще навещу вас… — Гость с неудовольствием поймал себя на том, что его тоже занесло в область рифмоплетения.
— Нет, нет, нет, ни в коем случае! То ись, конечно, всегда запросто заходи, а сейчас мы с тобой дальше гулять будем! Загулял Гуляев, чуешь, Викентий Лексеич?! То-то! В игорный дом поедем! Вот оно — душа воспарить готова! Чудеса творить хочется! Слушай, любезный друг, а давай умыкнем эту чашечку? Я люблю воровать по мелочам… — последние слова он произнес как-то заговорщически, чуть тише своей обычной раскатистой речи, и даже слегка наклонился к «Думанскому», будто действительно хотел украсть со стола чайную чашку из-под мадеры.
— Не шутите так, Иван Демидыч, — осторожно заметил мнимый Думанский. — Успокойтесь, ведь это ваша чашка.
— И верно, не стоит ее брать! — Гуляев своей могучей ручищей хлопнул гостя по плечу. — Немытая она! Играл оркестр, трубы выли, меня зачем-то бабы мыли… Э-э, к чему это я? Так на рулетку давай? Я п-плачу! И вам на игру сколько хотите. Станешь богатеющим человеком на Руси! Точно выиграешь — мне верь! Весь капиталище — тебе! Поехали, а?
— Ладно уж, уговорили! Из уважения к вам куда угодно поеду, а дела подождут, — опять услышав про деньги, сообразил алчный гость.
— Вот это по мне! Да мы теперь с тобой, Викентий Лексеич, такой канкан-ля-кордебалет учудим!
Растроганный Гуляев пытался подняться, но сделать это ему было совсем не просто. И его опять понесло:
— Я ем и смотрю на женщин, а когда выпью, к ногам крокодилы начинают прилипать. Они потом драться друг с дружкой принимаются, и мне нелегко уйти. — Купец совсем размяк, зарыдал.
«Ну уж нет! — уперся теперь лже-Думанский. — Поедем-ка в игорный клуб — я тебя сам теперь не отпущу!» Он поднапрягся, помог хозяину подняться на ноги.
— Медведь ты ярославский, Иван Демидыч! Авто бы нам сейчас!
В чулане тоскливо завыл Дроня.
XI
«Слава Богу, Молли успела переехать! По крайней мере, она теперь в безопасности». До тонкого слуха Викентия Алексеевича долетели аккорды такого знакомого, «уютного» шопеновского вальса, звуки милого детства и родного очага, которые, впрочем, очень скоро оборвались.
Обезличенный адвокат в смятении уходил прочь из Литейной части, от дома, где теперь теплилась надежда на конец кошмара и счастье любви. «Думает ли она обо мне, тревожится ли? Нет, не нужно, избави Бог думать о моих злоключениях — это не под силу вынести любящей женщине! Потом, потом все как-нибудь устроится, но не теперь…» Он до темноты бродил по улицам, пытаясь то ли забыться, то ли, наоборот, обрести ясность восприятия. Четкое определение искомого состояния сформулировать было невозможно. Так он блуждал, влекомый причудливыми извивами мысли, и неожиданно для себя самого оказался возле рокового «шедевра» модерна на Фонтанке. Поначалу Викентий Алексеевич не узнал его. Конечно, это был тот же самый дом, но как он изменился внешне с той кошмарной ночи, да и за последние дни! Вместо обветшалой развалины Думанский увидел совершенно преображенное здание в новейшем стиле. Нижний этаж был отделан серым, каким-то диким, с виду необработанным камнем, стены, испещренные таинственными знаками, ощерились пугающими полу-человеческими харями, козлиными черепами, окна приняли вид асимметричных шестиугольников и стали похожи на бойницы средневекового замка, въездную арку теперь охраняли гранитные стражи — мрачные совы. За фасадом, во дворе, виднелся цилиндрический эркер с единственным окном и барельефом во всю стену — уносящейся ввысь квадригой Аполлона. Новоявленный особняк принимал богатых гостей, под пристальным наблюдением строгой охраны поочередно въезжавших в экипажах и автомобилях во двор. Охрана-прислуга церемонно открывала и закрывала ажурные кованые ворота, точно это был подъемный мост средневекового замка. Викентий почувствовал холод каменной громады: «Так вот что значит „мой дом — моя крепость“!»
— А ты чего здесь ползаешь, червь газетный, прощелыга?! — рявкнул хмурый городовой, таким образом выведший Думанского из созерцания архитектурного шедевра.
Думанский вспомнил о своем нынешнем положении: «Самое благоразумное — ретироваться». Его первый, безотчетный порыв был опять мчаться к Молли, но, ощущая мизерабельность своей «ползучей» персоны, он вынужден был в который раз влачиться к Никаноровне. Усталость и безысходность измотали адвоката вконец и уже отчаяние грехом из грехов вот-вот готово было обвиться вокруг его шеи.
«Что же делать дальше? Как открыться самым близким людям? Кто я для них сейчас?!» Хуже всего он переносил одиночество. Во всей чудовищности перед ним развертывалась череда последних событий. Непризнание его Молли под кесаревской личиной — до обморока! Шальная смерть Челбогашева… «Неужели и меня ждет то же? Даже могилы не найдут, а если и найдут, опознают… не меня!!! Каким образом достучаться до Молли, чтобы она по крайней мере меня не боялась и выслушала? Избавиться от внешности убийцы ее отца… Но как же?.. Как?!»
В подворотне бандитской хазы Викентий Алексеевич в первый миг был напуган, а после откровенно обрадован тенью-видением, метнувшейся ему наперерез. «Видение» состояло из живой плоти и крови — им был долгожданный ушан-связной, Петя из Коломяг.
— Мое почтеньице, хозяин. С новостями я.
— Ну наконец-то! Рассказывай, Петруша, что узнал. Только все по порядку, не торопись.
— Так это. Взяли меня, значит, учеником к швейцару, ну заодно и для всякой оказии — на подхват. Я ить шустрый, где чего подать-принести — мигом, не впервой мне!
— Ну что, у князя там игорный дом?
Паренек озабоченно возразил:
— Вовсе даже и не игорный. Не для ерунды-забавы какой заведение, а самый серьезный дом. Заседают там все, да еще не всякого на порог пускают — меня-то взяли, потому как я простачком прикинуться умею. А публика там, посетители значит, гости, как раз совсем непростая: самых высоких чинов и званий господа. В мундирах с золотым шитьем — придворные, министры, слышь, царские, камергеры там разные и советники. Генералов много и господ офицеров — тоже в золоте, при эполетах, а от орденов — звезд и крестов всяких, у меня с непривычки-то даже в глазах рябило. С ними и барыни бывают настоящие, как в синематографе — все в перьях, в цацках дорогущих… Думанский этот, за которым вы особо следить велели, тоже у князя появляется. Даже чаще других. По всему видать, очень серьезный барин, в большом авторитете у них — в железной карете разъезжает, при охране! Вежливый такой, щедрый — на чай не скупится, только это все для виду…
— Почему вдруг ты так решил? — «Кесарев» изобразил на лице удивление.
— Да я и по глазам сказать могу — взгляд у него злой. Меня бабушка, покойница, так учила — какие глаза, такая и душа. Вон у вас, хозяин, свет в глазах, как посмотрите, будто тепло сразу, значит — сердце Божье, а у этого адвоката — не глаза, муть сплошная, в душе лукавство одно. Ч…ту он душу продал, верный признак! Не знаю, где он вам нагадил — не мое это дело, но плохой он человек, эт точно.
«Хозяин» задумался, будто что-то прикидывал про себя, но бойкий Петруша не дал затянуться паузе:
— Так что, значит, не игорный дом никакой, но что там за контора такая, мне по малограмотности не понять. Чудно все как-то и богато — это вижу. Такая знать! Я вот все мечтаю: столица никак, вот бы он сам разок приехал, ну Государь то ись! Я бы хоть одним глазком посмотрел — Августейшая Персона никак…
— Чего захотел! Фантазер ты, как я погляжу, — перебил «Кесарев». — И то, что узнал, уже хорошо, а понимать тебе еще рано. Та-ак… Ну ладно, дальше рассказывай, Петруша. Или ты больше ничего интересного там не заметил?
— Как же, хозяин! Разные еще странные штуки заметил. Съезжаются всегда по пятницам и к ночи, ну как наши — блатные, на сходняки, и это вроде как в тайне большой от всех, кто не свой, со стороны то есть. Нехорошее это место, хозяин, я так думаю — логово какое нечистое. Вот ей-богу! Я нечистую за версту чую… Да в этом дворце ни одной иконки, ни одного образа Святого! Здороваются тоже не по-человечески. Как завидят друг друга, нет чтоб раскланяться, как порядочные господа, или руку попросту пожать, так нет — они торопятся ладонь друг дружке показать, правую ладонь, а ладонь-то у них — вот ей-богу, хозяин! — перерезана крест-накрест. По этому шраму-рубцу они, похоже, своих распознают. Что за люди такие… С меня даже расписку потребовали, когда на службу брали, чтоб рта нигде о службе своей не раскрывал. Ну я им фамилию нацарапал, так отстали и с того дня не беспокоют. Откуда ж им знать, что вы мой хозяин настоящий и у нас свой уговор!
Мальчишка ухмыльнулся, обнажив белые, как рафинад, зубы и даже подмигнул, откровенно поглядывая на тот карман пиджака «Кесарева», где, как подсказывал ему некоторый «профессиональный» опыт, лежал «портмонет». Адвокат, худшие подозрения которого подтверждались, строго подстегнул:
— Что это тебе так весело, а? Не отвлекайся! Твое дело — ценные наблюдения излагать, а уговор я прекрасно помню.
— Так ведь я ничего. Я и говорю — странного там уж больно много. Вот, к примеру, господ-то наших там полно, но еще больше иностранцев. Я ж питерский — своих немцев, чухну или поляков там каких от заграничных запросто отличу. А эти ходят важные как тузы, и всё молчком! Когда заговорят, то всё по-своему. По-нашему и слова от них не слыхать — верно, они русского совсем не знают. Даже стороной их часто обхожу — страх какой-то берет, но следить все-равно слежу, как вы наказывали, хозяин.
— А скажи-ка, как там с охраной? Жандармы или пост полицейский?
— Не-е! — уверенно протянул кесаревский связной. — Какие жандармы? Там простой полиции и то нету! В общем, фараонов нет, но не без охраны. Есть охрана особая, тоже из иностранцев. Швейцар мне по секрету сказал, будто германцы. Все в черной коже, здоровые дядьки! Ни с кем не говорят. Я один раз время у них спросил, они между собой каркают, а меня будто не поняли — пальцами показывают, как на дурачка, ржут, жеребцы нерусские. Так что говорить с ними без толку. Но глаза у меня на месте, хозяин, будьте покойны: видел я, как они поздненько вечером карету принимают, в заклепках вся, окошки махонькие, с решетками, прямо фургон тюремный — шестерка лошадей тащит.
— Во что бы то ни стало нужно взять самого Думанского, достать его хоть из-под земли…
Викентий Алексеевич подумал: «Пока Кесарев не уехал за границу, я должен его вычислить, прижать к стенке и вытащить, выбить, вытрясти из него душу! Это последний шанс водворить на место, вернуть то, что по праву принадлежит только мне — мою бессмертную душу!!!»
— Ты, Петруша, не узнал случайно, когда ж теперь нам ожидать адвокатишку этого в своем пуленепробиваемом фургоне?
Петруша кивнул:
— Как же! Знаю точно: как и прочие они — приезжают каждую пятницу в одно и то же время к шести часам и ровно в двенадцать ночи покидают особняк. Охрана при этом всегда наготове. Выходят на улицу и охраняют. Начальство мое, привратник из солдат-инвалидов, так он говорит: «на зимних квартирах, братцы». А какие они ему братцы, не пойму — немчура! Живут скрытно, в потайном месте. По дому-то расхаживают, кожей поскрипывают, зыркают кругом, точно подозревают тебя в чем. Оружия у них — до зубов, пистолеты большущие в деревянных кобурах — не подступишься, и никак мне не высмотреть, где, значит, у них «казарма» — может, в подвале, а может, и еще где. Такие же и при карете адвоката будут. Эту дуру железную охраняют две пары верховых — сзади и спереди.
— Выходит, всего четыре человека?
— Да точно, не сомневайтесь, хозяин! Я только четыре видел, а других там нету — впереди два и сзади двое.
— Да верю я, что ты до четырех считать умеешь. Ты, я смотрю, парень смекалистый! — пошутил «Кесарев»-Думанский. — А насчет охраны я что-нибудь придумаю. Это наша забота — справимся! — заверил он, еще раз уточнив: — Так, значит, в пятницу?
— А то! Как всегда, после двенадцати. Я ж говорил, они всегда по…
— Вот и лады. Вот и хорошо… — «Кесарев»-Думанский имел теперь точные сведения о том, когда можно готовить «встречу», и с трудом сдерживал волнение. — Молодчина ты. Большую службу сослужил — сколько узнал, проверил. Теперь и дело серьезное можно затевать. Получай за работу.
Адвокат отсчитал ушану три сотни. Новые банкноты хрустели, как квашеная капуста на зубах. И этот хруст, и сам вид «больших» денег (пятнадцатилетнему связному впервые платили так щедро) подействовали на паренька завораживающе. У него пересохло во рту:
— A-а… а что теперь делать, хозяин? Я для вас на все готовый!
— Голова у тебя что надо. Береги себя, а я тебя найду, когда понадобишься, — тогда всерьез рассчитаемся. Если твоя наводка верная я о тебе, Петруша, лично позабочусь.
Обрадованный паренек улетел как на крыльях, а Викентий Алексеевич направился «на хазу», озабоченно повторяя про себя: «Следующая пятница, в полночь… Ближайшая пятница…»
Поднявшись по лестнице то ли «малины», то ли дома терпимости, где куролесит отвратительная безумная старуха да «отлеживаются» ее отпетые клиенты-подельники, Думанский встретил у проклятых дверей очередного из них — субъекта мужицкого вида. Тот хмуро кивнул:
— Здорово! Чего-то старуха-то не открывает? Битый час уж тут околачиваюсь… Жаль, жаль Митьку, да что тут поделаешь… Ну ты и осмолился! Физия гладкая — почти студент-губошлеп. Га! Ты ж так своими усами гордился — девочки же теперь замечать перестанут.
Думанский оглядел визитера с головы до ног. «Колька-Яхонт, что ли? Тогда я как „Кесарев“ должен его узнать».
— Здорово, здорово! А за кукол этих ты не беспокойся, да и не до них мне теперь. Зато меньше похож на розыскные листовки, — ответил Думанский и прогромыхал по двери кесаревским кулачищем.
Яхонт ухмыльнулся:
— Да уж, преобразился! На их картинках ты не фраер.
— Ну чего барабаните? Мертвую тишину нарушаете, — проворчала Никаноровна, наконец открыв дверь.
Яхонт прошел мимо нее в «гостиную», поискал глазами по комнате.
— Не бунтуй, старая, и не хнычь! Водка-то есть? Наливай! Выпьем за упокой делового человека, помянем товарища как водится.
Адвокат молчал, боясь сказать что-то лишнее.
— А ты никак язык проглотил? Не ожидал, что найду? Я не уголовка — мне раз плюнуть. — Яхонт нашарил в полумраке графин со спиртом, налил сам — себе и «Кесареву». — Ну, давай по полной! Пусть земля ему будет пухом!
Думанский послушно хватанул спирту, попытался запить водой, но поперхнулся и закашлялся, а лицо его исказила мучительная гримаса. Яхонт хорошенько треснул «товарища» по спине, от неожиданности тот просипел:
— Благодарю вас, не стоит беспокоиться!
Яхонт сел в кресло и, внимательно наблюдая за «Кесаревым», решил, что ему одновременно привиделось и послышалось.
— Родная душа, где же ты видел, чтоб спирт водой запивали? Были бы у печени руки, они бы глотку задушили!
Думанский налил еще стакан медицинского, пододвинул бандиту. Яхонт выпил залпом, ни слова не говоря. Ни одна черточка на его «протокольной» физиономии не дрогнула. Он не спеша отошел к окну, встал к нему спиной, постоял так с минуту, затем произнес медленно, четко выговаривая каждое слово и глядя куда-то в угол комнаты:
— А знаешь, Андрей, есть вещи красивые и некрасивые…
— Хорошо. То есть очень жаль… Но я что-то ничего не понимаю, — пожал плечами «Кесарев», чувствуя тепло, разлившееся по телу, и тупую тяжесть в затылке.
Яхонт недовольно повел головой и тут только посмотрел Думанскому прямо в глаза:
— Не знаю уж, как по-твоему — может оно и хорошо, только придется тебе, милок, платить за своего дружка. Я матерьялист и так считаю — всякое деяние должно быть оплачено, у всего есть цена. Ну что ж ты, друг ситный, кого ты на мякине провести хотел? Что же вы с Сатиным бабу-то в дело взяли, если меня хотели обставить? Кудесники! Это ж какая история получается — я добываю для всей вашей братвы работу, ксивы «чистые», чтобы жили вы безмятежно, а вы мне — вот тебе, Яхонт, наша щедрая благодарность?! За сявку-болвана держали? За что ж так немилосердно? Обидно — серье-езные люди, а обращаетесь со мной как с фраером.
— Я не понимаю, о чем вы говорите. — Викентий Алексеевич выпучил покрасневшие глаза. — Вы думаете…
— Пусть слон думает, у него голова большая!
Яхонт тут же распорядительно крикнул:
— Косой, Туркмен, Егор — пора!
Из «малинных» недр возникло трое мрачного вида верзил и, не говоря худого слова, да и вообще звука не проронив, стали профессионально обрабатывать Думанского здоровенными кулачищами (английскому боксу до такой внушительности воздействия было далеко). Толстяк с плохо зажившим шрамом-порезом во всю щеку в той же невозмутимой манере обследовал его карманы, изъяв все содержимое — документы, пухлое портмоне, смятые билеты конной железной дороги и даже батистовый носовой платок. Фальшивого Кесарева буквально передернуло от запаха грязной одежды и давно не мытого тела, источаемого «меченым» блатарем.
— Ну что, петух артынский? — приговаривал Яхонт. — Как тебе мои жиганы? Все твое и ваше — всегда было мое и наше!
— Я не понимаю, о чем идет речь, — повторял уже изрядно помятый «Кесарев».
— Слушай, Андрюша, не надо из себя фофана[97] строить! — взорвался наконец Яхонт. — Шерри получила страховку за Челбогашева и не захотела с вами делиться — знаем уж! — а все ваши авантюры подробненько нам обсказала. Б…ди и вору долго оправдываться. До такого никто не мог докумекать, только вы с Сатиным. И у нас к вашей группе сразу же возник живой интерес. Вы натурально имели серьезный резон с такого-то затейного иллюзиона!
— Все что угодно говорите, я все равно ничего не понимаю, — упорно твердил уже совершенно отрезвевший Думанский.
— Ну что, аноха вертож…ый? Дед был казак, отец — сын казачий, а сам — хвост собачий! Сейчас поймешь, что эти фокусы не для нас. А дело было так. Сатин, имея роковую неосторожность получить юридическое образование, затеял вместе с тобой крупную аферу. Один из эпизодов разъясняю на пальцах: однажды он, лисья душа, придумал открыть юридическую контору «с секретом». Подается объявление, мол, юрист ищет секретаря-помощника. Из множества кандидатов опытный законник, Сатин бишь, выбирает человечка, у которого нет родственников. Чтобы хотя бы сложением был похож на него самого ну и, понятно, никаких там особых примет вроде шрамов или наколок. А суть аферы такова: начальник страхует свою драгоценную жизнь в крупном банке, на нового помощника, чтобы в случае смерти страховую премию получил бы именно помощник-секретарь. Кроме того, наш Ералаш-Сатин не гнушается тем, что по службе занимает мелкие суммы у всех, кого знает. Мелкие — это чтобы в случае его смерти никто и не подумал бы обратиться в суд. И что дальше: с помощью твоей Никаноровны убивает ничего не подозревающего пичугу-секретаря, переодетого в одежду начальника с его же документами в кармане. Такие аферы проделывались не единожды, и всякий раз несчастных двойников-секретарей обезображивали до неузнаваемости: лицо то резали, то сжигали кислотой, а для верности, как всегда, переодевали в одежку шефа и подкладывали его документы. Он вообще личность творческая: для разнообразия раздобыл как-то в Кронштадте, на фортах, в токсикологическом банке, пробирки с бациллами со всякой заразой, а потом заражал своих жертв, чтобы совсем перелицевать еще до убийства… Интересно, сколько раз Сатин ходил на «свои» похороны? А сколько страховых компаний он обманул… Гениально: чтобы самому жить, надо других давить. И все вы здесь мастрячили под ритуальные убийства. — Яхонт махнул перед носом Думанского книжкой, которую перед ним положили подельники. — А вот и книжица! Халтурно работали, наскоро лабали — кто вас научил так обращаться с вещественными доказательствами? Страницы выдираем, рисунки рисуем! Кто из вас Репин-то? А? Тайна? Я, конечно, в ваши блатные расклады не совался бы тыщу лет, но ведь есть же наша доля — законная, оговоренная часть кассы. Кстати, в бога давно не верю — я ведь идейный атеист и религия для меня — предрассудок, удел слабых и глупых, но ты-то, кажется, веруешь, а творишь что? Мы ж про братца твоего Митьку знаем уже — и его, значит, к праотцам? Не пожалел, выходит? Чудны дела твои, господи! А братоубийство-то — смертный грех, верно Вася?
«Васю» от таких параллелей-догадок передернуло.
— И в самом деле: сдать тебя, может, к ч…вой матери фараонам, заработать кучу денег на дела идейные, а? Ладно, ладно — кокаинчик-то, смотрю, совсем нервишки расшатал… Пройдемся-ка мы дальше по вашей волчьей схеме. Ну вот, затем «выясняется», что погиб Сатин, — продолжал Яхонт, — а Сатин-то живехонек и с документами своего секретаря идет в банк, и получает страховку за покойного «хозяина», то бишь за самого себя, и, выходит в дальнейшем, живет себе шеф поживает под именем покойного помощника, у которого родственников нет и сироту никто не ищет. Траур и скорбь стихают, он опять же открывает дело, убивает секретаря, выдает его за себя и так по кругу. Только вы не на того нарвались! С тобой лично и с Сатиным был договор: мы убиваем Савелова, а ты вскрываешь сейф для заказчиков и мы отдаем им долговые расписки. И вы тоже аванс получили, а ты, известный шнифер, не смог открыть сейф, как мне сказал Сатин. Швейцарский тебе вроде как не по зубам. После этого Сатин скоропостижно скончался якобы. Я вот поверил, откровенно тебе скажу, и даже пожалел его, простил долги. Даже денег на похороны передал. А Шерри подтвердила, что сейф-то все же был вскрыт. Много интересного и ценного было вынесено. А расписки, о которых мы договаривались, спокойно остались лежать на своем месте, так? Послушай, Кесарев, Челбогашев или как там тебя на самом деле звать! — продолжал Яхонт, постепенно распаляясь. — Сейф ты на самом деле вскрыл и просто вытащил оттуда гораздо более ценные вещи, чем расписки. А я остался треплом гороховым перед клиентами. Это тебе как? Воровское благородство и честь?
— Полный бред все, что вы говорите! И Дмитрия не я… Уж коли на то пошло… Где урва?[98]
— Да хватит тут прохожего изображать: я — не я! Жук ты навозный! Шерри, которая получила деньги за подложный труп, она же не захотела с тобой делиться! Пришла к моим людям и все рассказала, всю вашу схему в надежде, что я вас прикончу. И сейчас Панченко-Сатин в Париже, ждет тебя, гаврика. У Шерри бабская логика: подумала, что я с тобой расправлюсь и не надо ни с кем будет делиться. Ну что, шкура продажная, придется теперь заново договариваться! Скажи, сколько ты можешь заплатить за свою лживую жизнь? На этом свете у всего есть цена. Особенно у лжи и подлости. А в тот свет я не верю! Решили со мной шутки шутить? Так что смеется тот, кто сильнее…
— Нет уж погодите: девяносто девять плачут, а один смеется! — пошел ва-банк адвокат. — Я могу кое-что добавить к вашей драматической истории — чего вам Шерри не сказала. Сатин-то прихватил заодно и мои камушки и сейчас преспокойно дожидается Шерри в Париже, тем самым облапошив всех нас.
В этот момент «соратники» Яхонта принесли ящик с инструментами, где лежали пачка денег, револьвер, финка и опасная бритва.
— Никаких камушков там нет, только гроши, — произнес один из них.
— Что ж, поздравляю, друг ситный! Вот она ваша воровская «слава»! Вы мне положительно нравитесь, — продолжал Яхонт, рассовывая деньги по карманам. — Считайте, что за жизнь свою вы уже заплатили. Во сколько вы теперь оцените свою жалкую свободу?
Думанский, уставившись в пол, бросил:
— Мне нечего вам сказать. За свою свободу и рад бы заплатить, но вы понимаете, что нечем. А на слово вы не поверите…
Яхонт, не выдержав, со всех сил саданул ладонью по столу:
— Не поверю!!! Раз заплатить ты не можешь — напрашивается один резонный вывод — надо отрабатывать.
— Эх, влепить бы ему свинцовую пломбу в затылок и свалить в выгребную яму! — предложил самый отчаянный из подручных, но «идейный вождь» властным жестом опломбировал ему рот и продолжил деловой разговор с «воровским авторитетом».
— О таких, как ты, шниферах среди ваших легенды складывают, почему ты и жив до сих пор. Деньги нам большие нужны для дела наших товарищей. Как я посмотрю, разъяснять тебе программу нашей партии — дело лишнее, не пристало тут бисер метать… Вот что. Мы завтра едем в университет, ты с нами. Твоя задача привычная: будешь сейфы вскрывать. А чтобы не сбежал ты, друг ситный, бродяги сейчас с тобой останутся. Да не менжуйся — невелик риск! Фартовых людей в «Святом Георгии» у меня достаточно и все — жиганы куражистые. На все руки мастаки! Есть и фачи[99] — авантюристы, гайменники[100] есть — профессионалы отменные, а жехи[101] такие — целый Александровский рынок оприходуют, никто и не заметит. Четыре бригады подо мной, каждая для особого случая. Скобари — стрелки что надо, мордвины имеются — даром, что по-русски через пень колода понимают, но крепкие бойцы и товарища в беде не оставят. Есть две питерских компании: с Лиговки братва — серьезные люди, кого хошь зажмурят, с Выборгской — ребята тоже бедовые, но эти больше по воровской части, без мокрухи. Шнифер ты хоть и единственный, но я тебе на дело лиговских бойцов дам — с ними можно хоть казармы гвардейские брать.
Адвокат молчал, продолжая разглядывать грязные половицы.
— Верные люди уже на стреме будут, — добавил Яхонт, вынимая из кармана золотые часы с искусной эмалевой отделкой, более приличествующие какому-нибудь крупному заводчику или купцу первой гильдии, и картинно сверяя время.
— Эй, вы что, без меня на дело собрались? — вмешалась Никаноровна, неизвестно когда появившаяся в комнате. На старухе было сильно декольтированное платье с блестками и юбкой, состоящей из несшитых лент, спускающихся с корсажа. Когда она шагнула и ленты разошлись, Викентию Алексеевичу бросилось в глаза, что ноги у Никаноровны мускулистые, как у циркового атлета. «Пожалуй, такой ножкой, и в самом деле, можно кого угодно забить насмерть» — промелькнуло у него в голове.
— Но меня сам японский микада-император приглашал! И то не пошла, потому как совестью и невинностью своей не торгую, а вы, скворцы помойные, без меня веселиться собрались?!
— Отзынь, карга! — досадливо отмахнулся Яхонт. — Мы ж в первый университет России идем. Кто тебя туда пустит с эдаким-то личиком?
Думанский тоже возвысил свой голос:
— Мне в этом деле участвовать никак нельзя — я же в розыске! Меня везде ищут, вы попадетесь со мной. Зачем вам это надо? Касса университетская — не банк.
— Да ты посмотри на себя! Твою бритую-мытую витрину и не узнать! А денег там много. Не боись: мы-то по-честному поделимся.
— Да почему именно я вам нужен? Заберете ключи у главного кассира или возьмете деньги до того, как их положат в сейф. Не понимаю, зачем это…
— Сказано, поедешь. Всё! — Яхонт повысил голос. — Это тебе без надобности, — бросил он, убирая в карман револьвер, — а инструменты завтра пригодятся.
В гостиную с кухни вернулась Никаноровна, поставила тарелку с ломтями ржаного хлеба, миску с кислой капустой и, к удивлению адвоката, вступилась за него:
— Чего это ты, Яхонтовый, к нему привязался, а? Андрюха в законе — забыл? Когда он на киче сидел, ты, сявка, еще пешком под стол бегал!
— Тебя, бабка, вообще тут не спрашивают — не при делах, и не суйся.
— Чертова бабушка тебе бабка, а дел моих тебе не пересчитать! — Никаноровна обиженно хлопнула дверью в спальню.
— А кто же убил Панченко-то нашего? — сказал Яхонт вдогонку. — И студентов ты, душегубица… и Панченко тоже твоя работа.
— Я не душегубица, я непальская разведчица, эрудированная и эмансипированная. Такая суфражуткая, что вы по сравнению со мной сущие младенцы будете…
Яхонт уехал, оставив охрану, чем окончательно «повергнул в прах»[102] надежды Думанского каким-либо образом избежать готовящейся ему участи. Вести торг с «идейным» бандитом-социалистом об «операции века» с мансуровской каретой сейчас тем более было бессмысленно, да и невозможно. Чуть позже так же безжалостно были разрушены надежды и на спокойный сон. Бандиты и не собирались ложиться. Вначале они лениво перекидывались в карты прямо среди грязной посуды, копившейся, судя по виду, не один день, и отвратительно пахнущих объедков. Потом попытались скоротать время за «приятной беседой», которая чуть не закончилась всеобщей поножовщиной. Наконец неистощимая на выдумки Никаноровна азартно предложила:
— А давайте, фартовые, сыграем в «шатун пришел, шатун ушел». Ась? Кесарев, чего сидишь в углу как неродной — твоя ж любимая!
Из нелепого страха быть разоблаченным и вдобавок потому, что деваться все равно было некуда, Думанский, внутренне содрогаясь, присоединился к забаве.
Откуда-то из кучи разнообразных предметов неистовая старуха извлекла видавший виды котелок. Точнее, это было помятое серебряное ведерко, в котором подают шампанское во льду. Ведерко она сама наполнила дешевым пивом, опустошив несколько бутылок, затем каждый отпил из него по глотку, передавая импровизированную братину по кругу. Содержимое ведра дополнили водкой и так повторили несколько раз, пока жидкость не стала совсем прозрачной.
Думанский поднялся, качаясь и рассчитывая прикорнуть в укромном углу.
— Куда! Семь раз отпей, один раз отлей, — придержал его страховидный бандит, которого все называли Егорушкой.
— Господа, нет времени для глупостей. Я пойду спать. Завтра на дело!
— Сколько медведю не наливай — синим не будет. Теперь понятно, кто проиграл и кому под столом козлом реветь. Полезай-ка, Вася, под стол! — не унимался «распорядитель».
— Андрей он давно, а не Вася! И отчепись от него, ему работу работать завтра, — одернул собутыльника Туркмен. — Пускай идет.
С этими словами он стал заливать водку пивом. «Чаша» снова пошла по кругу.
«Так вот почему „шатун“ приходит и уходит, — сообразил наконец Думанский, отчаянно сопротивляясь желанию погрузиться в мешанину слов, образов и хотя бы таким способом уйти от омерзительной действительности. — Медведь — это пиво… по-своему, даже остроумно… Медведь уходит и приходит, а в тюрьме моей темно…»
До самого утра лихая охрана с завидной методичностью предавалась пьянству, «замкнув» несколько «шатуньих кругов».
— Картошку ешь, а царя не ругай! — с этим мудрым фельдфебельским назиданием Никаноровна плюхнула прямо на середину стола, покрытого скатертью, когда-то, видимо, белой, закопченный котелок картошки.
За завтраком все, кроме Думанского, опрокинули по стакану водки, после чего почувствовали себя полными сил и готовыми к новым «подвигам».
«Кесарев», которому «медвежье» состояние было в новинку, ощущал, что его голова стала величиной с земной шар, сотня цирковых слонов отплясывает чечетку прямо у него на макушке, а в каждом ухе расположилось по военному оркестру. Впрочем, проснулся он от совершенно другого, поразившего его до глубины души ощущения. Невыносимо ныло плечо, то самое, которое Кесарев прострелил Думанскому. «Но я же теперь в теле Кесарева — как же у меня может болеть плечо, которое он прострелил мне, когда я еще был Думанским? Интересно, а у того, кто живет теперь в моем теле, у него плечо болит? Или кесаревское тело ломит сейчас от кулаков этих висельников? Ну вот, вошел в образ — я уже думаю о Думанском почти как о другом человеке! А кто я в таком случае?! Не Кесарев, это точно… — туго размышлял сам с собой Викентий Алексеевич. — Нет, надо прекратить это бессмысленное занятие, так ведь и рассудка лишиться недолго… а возможно, и жизни. Вот было бы недурно сговориться с нынешними „товарищами“, да выкрасть этого лже-Думанского, который устроился в моем теле, как у себя дома. А потом взять да и порасспросить с пристрастием, кто он такой и откуда взялся…» — в который раз уже посетила его безоглядно шальная мысль.
Сейчас он готов был даже присоединиться к «трапезе», чтобы обуздать этот опасный поток сознания, но от водки, к общему удивлению, отказался.
— Выпей — и расслабишься! — втолковывал шниферу Федька Косой, точно угадал, как тому не по себе. — А не выпьешь — муки адские. Руки будут трястись. Чем же ты тогда эту дуру бронированную откроешь?
Думанский потянулся к картошке, смирившись с мыслью, что есть придется прямо руками, а заодно и с тем, что сейф придется открывать, как ни крути.
— А кишки набивать тебе не советую, — сказала Никаноровна, отодвигая от него котелок. — В случае ранения в брюшную полость хуже не бывает. Я ить одна здесь фельдшерица — хоть и престарелая, а милосердная сестра. Слушай меня, болезный!
Вернулся наконец Яхонт, все сели в «рено».
— Тема есть фартовая, — неожиданно произнес Думанский.
Все утро Викентий Алексеевич размышлял, как бы побудить бандитов напасть на карету, чтобы взять в плен самозванца, который поселился в его теле. Взяв его в плен, Думанский выколотил бы из него никчемную душу и во что бы то ни стало заставил вернуть назад свою плоть, по крайней мере выяснил бы у монстра, зачем тому понадобилось его родное тело.
Нужен был какой либо веский довод, материальный соблазн, перед которым бандиты не смогли бы устоять и согласились бы участвовать в операции по захвату лже-Думанского. Какую наживку они охотней бы всего заглотили? Это было, разумеется, опасно, но перед заветным желанием вернуть свое тело меркло все остальное, и вот теперь Викентий Алексеевич решился, наконец, подкинуть «идею».
— Дельце одно еще с Челбогашевым хотели сработать, — продолжал он, все воодушевляясь. — Казначейскую карету-сейф остановить да взломать. Мне это раз плюнуть.
— Да ты что, вконец рехнулся! — яростно прошипел побелевший от злости Яхонт. — Ты что творишь, петух артынский! Мы на новое дело только едем, еще его не провернули, а ты уже с другим прешь. Нет хуже приметы, забыл, что ли, дурья твоя башка!
Когда проезжали мимо Харламовской аптеки, Думанский решил одним выстрелом убить двух зайцев.
— Мне бы на минуту заглянуть туда после вчерашнего «шатуна», куплю что-нибудь от мигре… э-э, от головной боли? Можно, а? — попросил он своих стражей. — Ну какой из меня сейчас взломщик без пилюли?
— Вот же стервоза! Старуха совсем распоясалась: напоила народ перед делом. Убью старую, если дело прогорит… — резко бросил Яхонт. — Давай, только одна нога здесь, другая там.
Думанский буквально ворвался в аптеку, попросил срочно телефонировать в полицию. Дремавший дежурный провизор — какой-то студент-фармацевт, видимо, подрабатывающий или практикант, вздрогнув от неожиданности, пожал плечами: «В полицию?! Форс мажор… Телефонируйте, что ж… Только недолго — хозяин строгий».
Фальшивый Кесарев уже направлялся к аппарату, как вдруг взгляд его упал на огромное окно в травленных по стеклу узорах. Прямо у окна тарахтел мотор с Яхонтом и другими подельниками. Они в упор, выжидательно смотрели на «хворого взломщика». Облокотившись на витрину с лекарствами, он отвернулся от окна и, закрыв спиной обзор, огрызком карандаша на оказавшемся под рукой листе бумаги торопливо нацарапал отчаянное послание, досадуя, разумеется, на еще сказывавшуюся неловкость кесаревских пальцев. Впрочем, такой способ «каллиграфии» показался ему теперь более комфортным, чем прежде, и по-своему даже оригинальным. Тревожное донесение ротмистру Семенову явно где-то застряло, иначе тот со своей жандармерией уже начал бы осуществление секретного плана Государевых карательных служб по наведению порядка, зато другой, лично знакомый правоведу адресат, по всем расчетам, должен был уже вернуться из Москвы.
Судорожно-«готический» шрифт вопиял: «Господину Алексею Карловичу Шведову лично! Я предупреждал полицию о готовящемся оборотнем Панченко убийстве Свистунова, однако, мне не поверили, пренебрегли точными сведениями. В итоге погибли два человека! Убедительно прошу Вас, примите необходимые меры на этот раз: сегодня готовится нападение на кассу Императорского университета!!! Malum consilium consultori pessimum».
Вспомнив неудачный опыт «собственноручной» подписи, на сей раз он, Думанский, ограничился единственным словом — «правовед».
Пошарив в кармане, он незаметно протянул сложенную вдвое депешу с четвертным билетом внутри молодому провизору, которому более всего пошел бы не белый халат, а студенческая тужурка.
— Ради всего святого, передайте полиции сразу, как только я уйду! Сведения чрезвычайной важности.
Проглядев наскоро содержание «чрезвычайной депеши», для чего ему пришлось оторваться от чтения нелегального издания партии социалистов-революционеров, передовой юноша неприязненно оглядел странного посетителя. По всей вероятности, он принял его за обыкновенного филера.
XII
В университет добрались, когда «верные люди», которые должны были сделать самую грязную работу, обеспечив все условия для «чистого искусства» такого виртуоза, как Кесарев, уже завершили свою отвратительную миссию. В одной из обширных аудиторий под охраной двух субъектов в надвинутых низко, почти до самых глаз кепи, судя по неумолкающему протестному ропоту, были заперты заложники — преподаватели и те, кто имел несчастье оказаться в тот момент рядом с ними. В воздухе витал кислый, ни с чем не сравнимый запах пороха. Шахматный узор керамической плитки пола, затоптанного грязной уличной обувью, был нагло нарушен. Адвоката покоробило при мысли, что он будет сейчас грабить главную альма-матер Империи, в том числе и своих коллег-юристов.
— Давай туда, поскорее! — едва налетчики ворвались в узкий коридор университетской бухгалтерии, «Кесарева» толкнули в сторону кассы. — Вот твой инструмент, открывай скорее, некогда миндальничать.
Шагнув в полуоткрытую дверь, Викентий Алексеевич чуть было не споткнулся о тело кассира, беспомощно завалившееся между комнатами, рискуя удариться головой о сейф. Сжав зубы и буквально заставив себя перешагнуть через убитого, фальшивый Кесарев оказался таким образом в главной кассовой камере прямо перед массивным несгораемым шкафом. Кто-то быстро сунул ему в руки саквояж с инструментами.
— Ишь, нежный какой! В натуре барышня, — проворчал кто-то вслед. — Нет чтобы прямо по жмуру пройти, укусит он, что ли?
— А Яхонт-то каков фрухт! — донеслось до тонкого слуха дворянина Думанского. — Никогда не в деле — все-то в стороне, все-то он на стреме, будто малец или особый какой. Издаля наблюдаеть — антилигенция!
— Нашел чему удивляться! Он и есть особый фрухт политический, сознательный шибко. Таких, как мы, за людей не считает, гонит, будто скотину на убой, — заметил, кажется, Егорушка, зло сплюнув.
Оказавшись в относительном покое, Думанский для вида вытащил из кожаного баула несколько крючковатых железок в смазке, о назначении которых мог лишь догадываться, и принялся для вида ковыряться в замке. «Что будет, когда они поймут, что я не в состоянии открыть его? Если скажу, что в участке меня ударили головой об стенку и теперь у меня амнезия — неужели их удовлетворит такое объяснение? Тут бессмысленно придумывать оправдания».
В этот момент с улицы раздались выстрелы и донесся отчетливый топот множества ног. Находящиеся внутри здания налетчики принялись стрелять в ответ. Судя по всему, их оказалось гораздо больше, чем можно было вначале предположить. Стреляли из окна рядом с кассой и из аудитории — оттуда, где содержались заложники. Однако число бандитов все же сокращалось, а оставшиеся перебегали от окна к окну, изо всех сил создавая впечатление плотной, хоть и беспорядочной, стрельбы.
— Давай же, падло, открывай! — послышался над самым ухом Викентия-«Кесарева» яростный крик. — Нечего, в натуре, рассусоливать! А то самого завалим, раз от тебя толку никакого. Так Яхонту и доложим: был фартовый шнифер да весь вышел.
В это же время кто-то из стоявших у окна закричал, невольно оттягивая бесславный конец «взломщика»:
— Ша, братва! Фараоны как саранча прут! — и продолжил беспорядочную стрельбу.
В суматохе возобновившейся перестрелки Думанский огляделся, ища путь к спасению. На глаза неожиданно попался труп несчастного кассира. Хватаясь за соломинку, адвокат начал судорожно его обыскивать. В одном из карманов обнаружилась связка ключей.
«На Тя уповаю, Господи!» — воззвал Викентий Алексеевич из глубины существа…
Мысленно прочитав эту короткую молитву, он вставил первый попавшийся ключ в замочную скважину сейфа. В замке что-то щелкнуло, раздался мелодичный звон и тяжелая дверца точно сама собой отскочила в сторону. За ней было несколько полок, сплошь заваленных пачками ассигнаций, перетянутых крест-накрест аккуратно склеенными орлеными полосками. На нижней полке сиротливо белела приличная стопка мелко исписанных бумаг.
Адвокат незаметно спрятал ключи в карман и быстро вставил в замок одну из отмычек — для виду.
— Гляди-кось ты — открыл, холера! Ложь давай сюда! — Кто-то из налетчиков сунул Думанскому нечто вроде холщового почтового мешка. — А мы уж думали: не то скис Кесарев, не то скурвился.
Когда мешок оказался наполнен доверху, усатый налетчик в гороховом пальто вырвал его из рук лже-шнифера, крепко завязал, и, подойдя к окну, в котором вместо стекла торчали жалкие осколки, метким броском отправил по направлению к мотору, где рядом с шофером восседал Яхонт собственной персоной.
В следующее мгновение раздался выстрел, усатый перевернулся через подоконник и замер, повиснув наподобие омерзительной окровавленной тряпки, однако Яхонт, успевший поймать мешок с деньгами, поспешно удалился с «театра военных действий», преследуемый жандармами. Из переулков как раз новым потоком хлынули серые шинели и бескозырки с голубым околышем.
Вскоре мотор оказался в положении зайца, преследуемого сворой борзых. Последнее, что можно было разглядеть, пока авто не скрылось за углом, оказались безвольно мотающаяся из стороны в сторону голова шофера, гуттаперчевый Яхонт, который, перегнувшись через сиденье и дотянувшись до руля, пытается управлять мотором, да «архаровцы», уже отовсюду наседавшие на лакированную авто-таксу.
Думанский недолго тешил себя надеждой, что после того, как он оказал требуемую услугу, про него наконец-то все забудут. В помещение кассы стремительно ворвались два запыхавшихся налетчика, как раз те, которых Викентий Алексеевич в начале дела видел возле дверей вестибюля.
— Рвать когти надо! — отчаянно прокричал первый бандит — Федька Косой. — Сматываемся! Яхонта повязали.
— Давай, чего ждешь? — подхватил другой. — По каторге соскучился?
«В самом деле, — подумал адвокат. — Теперь для всех я Кесарев, тот самый, фото которого моими же стараниями расклеены на каждом столбе и каждой афишной тумбе. Ничего не остается, как бежать вместе с этими».
Свистки полицейских заливались уже в соседнем коридоре. Неожиданно очень кстати распахнулись двери аудитории, в которой томились заложники, толпа перепуганных преподавателей и студентов хлынула на свободу. В самой гуще универсантов были и те, кто стерег их: один, на вид деревенский парнишка лет не более восемнадцати, поверх русской рубашки надел сюртук, отнятый у старичка-профессора с седой бородкой, которого он удерживал под руку, тыча в бок револьвером. Другой даже не прибегнул к переодеванию, согнулся в три погибели и, накрыв голову собственным гимназическим пальто, уподобился Одиссею, спасающемуся из пещеры циклопа.
— Ишь, что придумали! — хлопнув себя ладонями по бокам воскликнул кто-то из налетчиков. — Ума палата — что значит в гимназии учился. Айда с ними!
— Нет, это слишком рискованно, — задумчиво произнес Думанский. — И сам так не поступлю, и вам не советую. Они бегут прямехонько к главному коридору, где перед поворотом есть одно узкое место — я его дорогой запомнил. Полиция просто обязана устроить засаду именно там. В это «бутылочное горлышко» можно просочиться лишь по одному, максимум по двое. А уж жандармы, я вас уверяю, отделят тем временем агнцев от козлищ.
Подельники с изумлением уставились на «Кесарева», как будто из его горла вместо человеческой речи раздалось птичье щебетание.
— Это, конечно, умственно, только как ты сам отсюда думаешь выбираться? Через окошко, что твой чижик-пыжик?
— Нешто других способов мало? — ответил Думанский, удивившись, как в нем подсознательно признали правоведа, хоть он забыл, когда в последний раз надевал форменную зеленую шинель и училищную фуражку с желтым околышем, и, сообразив, что немного вышел из роли, скомандовал:
— За мной, братва!
Недоуменно пожав плечами, подельники согласились. Выбора все равно не было: толпа преследователей медленно, но верно сжималась, отрезая все пути к отступлению.
Ни минуты не колеблясь, Думанский выскочил из кассы и пробежал шагов десять по внутреннему коридору, казалось, прямиком в объятия жандармов, на самом же деле гонимый каким-то инстинктом юриста, чувствуя себя почти в родных стенах — и в университете тоже ведь готовили «законников».
Ворвавшись в одну из аудиторий, он мгновенно пролетел ее насквозь, наугад распахнув неприметную дверцу рядом со шкафом с номерами «Российского правоведения» за последние двадцать лет! «Кто бы мог подумать, Господи? Разные пути ведут все же к одному — к Закону и Благодати! — Викентий Алексеевич даже перекрестился. — Неисповедимы пути ко спасению».
За дверцей оказалось крохотное помещение, битком набитое разнообразным хламом: стопками журналов, рулонами пожелтевшей бумаги, ломаными стульями.
— В кладовке, что ли, предлагаешь отсидеться? Так ведь все одно найдут.
Не отвечая, Думанский забрался на колченогий стол, который впервые видел, вооружился сломанной шваброй и, точно кто-то незримый направлял его руку, одним ударом выбил стекло подслеповатого окна, располагавшегося где-то под самым потолком.
Из образовавшейся дыры ощутимо потянуло холодом улицы. Думанский поспешно вылез наружу и, заглянув в комнату, ведомый, очевидно, все тем же благородным «лунатическим» духом Правоведения и Юриспруденции, поманил за собой остальных:
— Скорее за мной, здесь крыша факультетского флигеля! А перебираясь с крыши на крышу, можно оказаться очень далеко отсюда.
Около четверти часа они бежали, поскальзывались на ржавом железе, падали и поднимались вновь. Один раз Думанский едва не сорвался, зацепившись штанами за какой-то торчащий выступ, потом чуть не пробежали над самым жандармским постом. Но в конце концов, преодолев множество преград и расселин, местами продвигаясь едва ли не на четвереньках, они смогли спуститься на землю в нескольких кварталах от университета, уже в другой части огромного Васильевского острова.
— Голова у тебя варит что надо! — одобрительно произнес один из подельников. — Ты будто и сам из этих, из законников. Не тут часом учился сейфы вскрывать? Ха-ха-ха!
— Ту-ут?! Нет, что вы, — поспешил ответить Думанский. — Хотел когда-то одно дельце здесь провернуть, да не выгорело.
— Уж это точно! Никогда не знаешь, что тебе пригодится и где выгорит.
XIII
Вечером в «странноприимную обитель» Никаноровны откуда ни возьмись примчался Яхонт. «Вождь» был сам не свой, его трясло крупной дрожью от злости и от страха. Для Думанского, который надеялся, что задержали всех, это был, мягко сказать, весьма неприятный сюрприз. Отдышавшись, Яхонт рявкнул, схватив беднягу Кесарева «за грудки»:
— Ты как сбежал?!
Думанский без церемоний ударил его по рукам:
— Тише. Угомонись!
— Да всё!! Конец «Святому Георгию»! Хана, понимаешь? «Крыса» завелась в нашем «братстве». В университете облава половину братвы на месте уложила, половину живьем забрали. Федька Косой да Егор с Туркменом еле ноги унесли: эти шавки нам в спины палили.
— А ты-то как умудрился уйти? Я видел твой героический «отъезд», — вырвалось у адвоката.
Он был убежден, что Яхонта и всех, кто оставался с ним, «обезвредили» или арестовали.
Бандит качался на стуле, не находя равновесия ни в прямом ни в переносном смысле:
— А ты и рад был бы, чтоб меня ухлопали? Проскочил я — фарт, видно… Да ладно, о другом душа болит! Ребят сейчас надо как-то выручать! Может, кому удастся срок скостить, а кому хоть посылку передать. Да и оставшимся провиант нужен, лекарства.
Не в силах сидеть от потрясения, он встал и заходил по комнате, медленно повторяя:
— Нужны деньги, казна нужна…
Наконец он остановился, злой как сыч навис над подельником:
— Угомонись, значит? Думаешь, Кесарев, я тебе это так и оставлю? Собирайся-ка на новое дело: будем брать ссудную кассу завода Нобеля на Выборгской. Доказал свои таланты — способен, а раз уж ты от Бога шнифер, то должен работать! Законно?
«Что уж тут может быть законного? „Социалист“, а в рабочую кассу тоже руку засунуть норовит! — возмутился Викентий Алексеевич. — Теперь или никогда! — воскликнул про себя Думанский. — Вот он, тот единственный шанс, который вернет все на свои места. Мне бы только схватить этого мерзавца, который разгуливает в моем теле, будто разбойник в украденной шубе! Я бы из него душу вытряс, я бы вытряхнул его подлую душонку из моего тела, — подумал адвокат с несвойственными ему жестокостью и запальчивостью. — Яхонт с его шайкой послужат отличным инструментом для осуществления моего замысла».
Думанский прекрасно понимал, что идет ва-банк, что подвергает себя смертельному риску, но его это совершенно не пугало, даже придавало вдохновения. Что ждало его, смирись он с пребыванием в отвратительном теле Кесарева? Короткая бесславная жизнь и гибель в какой-нибудь из бандитских разборок. А в это время некто будет по-прежнему выдавать себя за Викентия Думанского и порочить его доброе имя. Единственное, чего он боялся, — опоздать. Его тело в любое время может бесследно исчезнуть за границей.
«Нет, этому нужно положить конец, раз и навсегда! — решился перелицованный адвокат. — Отступать некуда, Рубикон перейден».
Ему было совершенно ясно одно: настал тот самый час, может быть, единственный подходящий момент, когда нужно предложить Яхонту якобы беспроигрышное «фартовое» дело. «Кесарев» сознавал, на какой, наверняка смертельный, риск идет, но спутать масонские карты, указать полиции на это змеиное гнездо самим фактом налета, а возможно, даже и ликвидировать своими или чужими руками архиопасного «адвоката» было для верноподданного Думанского превыше всего, собственной жизни в том числе. «Сейчас или никогда!» Он был готов пойти на это даже ценой гибели своего подлинного тела, выпытать у мерзкой кесаревской душонки, у вора и убийцы, зачем именно его, Думанского, реинкарнировали.
— Раз уж ты, Яхонт, справедливый такой, зачем крутишь-вертишь? Закон что дышло, и ты его по-своему повернул, а про мой резон будто и забыл. Вот что я тебе скажу. Работать вместе с вами буду, само собой, потому как мы одной веревочкой повязаны и, между прочим, вы то без меня, шнифера, буквально как без рук, сам признал, но кассу Нобеля и отложить можно…
Яхонт встрепенулся:
— Что-о?! Ты правда мозгами повредился… А может, имеешь что пожирнее предложить?
— Может, и имею, да ты ж за меня уже все решил. — «Кесарев» почувствовал, что бандит, кажется, уже попался на крючок и решил поводить для верности. — У тебя же свой интерес… Кстати, Яхонт, ты там о казне говорил, денег мол нету — а весь банк, который в университете сообща взяли, не у тебя ли? Я о своей доле считай забыл, а что ж на святое дело спасения товарищей ими же добытых денег мало? Может, ты их для своей надобности использовать решил, так это вовсе не по воровскому закону. Нехорошо, брат…
— Вон ты как… Предъяву мне… — От неожиданности и злости Яхонт покраснел как рак. — За это не беспокойся — всё до последнего гроша тем, кто на киче и раненый! Я-то подумал, у тебя деловое предложение.
«Теперь он готов — подсекай. С Богом, Викентий!» — шепнул адвокату внутренний голос.
— Знал, что ты угадаешь — одна у нас дорожка, а ворон ворону глаз не выклюет! Есть всем делам дело, и главное — фарт гарантирован. Старая задумка: мы еще с Митрием, Царство ему Небесное, вместе готовили, а теперь в память о нем грех не провернуть. Такие деньжищи мимо нас, можно сказать, туда-сюда катаются! Значит, расклад такой: на Фонтанке есть один новый игорный дом высшего разряда, ночное заведение для о-очень богатой публики — насос, который с вечера до утра золотишко качает. Играют там одни князья и прочие аристократишки, крутятся там тыщи громадные, а золота так вообще как грязи. И раз в неделю приезжает специальная карета-сейф английской работы, авто-броневик. В эту пятницу в двенадцать ночи как раз ее приезд ожидается. Карета с конным эскортом. «Кавалерия» эта при оружии, конечно, но всего по два верховых — спереди и сзади. Четыре фраера всего-то, смекаешь? Для твоих орлов — позабавиться только, что ворон заклевать!
— Интересно, чего только не придумают! Никогда не слышал, чтобы сейф, как карета, ездил. Это сколько же лошадей нужно? Он же… она ж тяжелая — броня как никак!
— Верно, шесть лошадей и повезут. Охрана будет всего ничего: двое верховых спереди, двое сзади.
— И где вы с братом хотели все это провернуть?
— Прямо там, на Фонтанке!
— Да ты с ума сошел! В самой середке городской! Лихие вы ребята, конечно. Да только твой братец, мутень лесной, долбороб степной, еще тот был вор, вот и лежит сейчас в могиле. Алчешь смертушки нашей, вожделеешь кровушки! Я же тебе не собака блохастая, на такое вестись. Я еще свое не отгулял. Тьфу ты! Нет уж, Кесарь…
— Ты погоди, послушай!
— Ну ладно, послухаю чуток, что за план такой, — произнес Яхонт, наливая себе кипятка. — Не боись, не украду твою идею.
— План у нас с братом был такой. Карета въезжает на Семеновский мост, спереди уже засада должна ждать — четверо стрелков на санях и сзади, на другой стороне Фонтанки — еще двое. Только учти, времени у нас на все про все будет мало, поэтому мне не абы кто нужен, не шваль какая, а стрелки первостатейные.
— Так ведь те сразу поймут, что это по их душу. Да и легавые заинтересуются, почему сани у самого моста встали.
— Стой, не перебивай! Мысль была такая: чтоб было неприметно и городовые не заподозрили, мы их монашками переоденем. Будут сидеть там с иконами. У Никаноровны в борделе всякого тряпья целый гардероб — переоденутся в «невест Господних». Я тоже буду в санях. В санях должен быть ямщик, я и четыре бойца — этого хватит. На другой стороне Фонтанки, как я уже сказал, чтоб не было подозрений, еще двое курят: вроде как мастеровые, а на самом деле тыл пусть прикрывают. Посередине моста ряженный нянькой боец дитя в санках выгуливает. А там вместо ребенка «подарочек» — тротил: у Никаноровны этого добра, как у дурака махорки. Только карета окажется на середине моста — он поджигает фитиль, толкает санки под задние колеса (сразу и колеса отхватит и двух верховых угробит), а сам сигает через перила. Взрыв будет для нас сигналом. Мы на санях встаем поперек моста, перегораживаем дорогу, палим с обеих рук — и в охрану, и в лошадей. Те, что мастеровыми наряжены, в это время добьют охрану, которая сзади. Одежку им подобрать — плевое дело! Смотри, — Думанский взял лист оберточной бумаги, карандаш и принялся чертить, стараясь, чтобы собеседник понял все как можно лучше. — Вот мост, здесь карета, вот тут, посередине моста, будет наш человек с взрывчаткой.
— Ну ты, петух артынский, это же бессмыслица! Там же все наши деньги погорят от вашей взрывчатки!
— Нет, только всех, кого надо, оглушит и карету вскроет, — улыбнулся Думанский. — Слушай дальше! Для тебя повторяю еще раз: тут вот, на набережной, со стороны Московских казарм, будут ждать сани с монахинями, за мостом — еще двое наших. Понял теперь? Охрану положат, карету взорвут, после подбегаем, забираем все мешки в сани, и восвояси…
Яхонт внимательно слушал его, продолжая безостановочно мешать в своем стакане давно растворившийся сахар с давно остывшим чаем.
— Ну, если окажется пустышка или, не дай Бог, ты нас кинешь со своим «восвояси»… Тогда учти, я тебя до смерти форшманить[103] буду и твое «восвояси» на рыло натяну. И ж… твою на свежевыструганной ели против ворса насажу. Я тебе еще не поверил, петлюкан ты волжский, понял?
— Давай сперва дело сделаем, потом уж скажешь, веришь мне или нет… А самое-то главное в чем, смекаешь?
— Не гони лошадей! Откуда сказ такой, про дом?
— Кто фусан?[104] Кто тухтарит?[105]
— Есть у меня там свой ушан — мальчик у швейцара на подхвате. Информация свежая, парень проверенный. И что еще хорошо — игорный дом этот незаконный, и деньги тоже неправедные. Нигде они не числятся, ни за каким ведомством. Поэтому содержателям этого «монте-карло» в полицию заявлять не будет ровным счетом никакого резона — его ж опечатают враз! Вот и весь план — партия в два хода. Сам теперь видишь — работы на пять минут, за то каков куш!
Яхонт оценивающе прищурился:
— Много денег говоришь? Ну что, фуксом[106] пойдем?
«Кесарев»-Думанский понятия не имел, что значит «пойти фуксом», но тему денег подхватил:
— Да как грязи — в натуре, их там не считают! Я ж повторяю: игорный дом для козырных тузов. Банк делим пополам. — Он улыбался своей «легенде».
— Ну теперь, Кесарь, слушай, как я меркую. Ты будто на веселую гулянку приглашаешь, а я так думаю: дело рисковое и людей мне своих придется выставлять. Я даю скобских — стрелки они первостатейные. Лиговским отлежаться надо — больно уж в университете засветились. Значит, последнее слово за мной: тридцать процентов твои, остальные наши, и всё — без базара! Что сам на скок идти вызвался — за это ценю, но я бы тебе и так отсидеться не дал, не мысли. Заодно еще раз проверил — это в нашем деле никогда не лишнее. И учти — обещанного жирного куша не будет, пеняй на себя! Суд у нас честный, но суровый: ежели что — кранты тебе, Кесарь! Кипятком ошпарю, варом оболью и собакам псковским скормлю. Ну, а так-то лады! — хлебнув чая, произнес Яхонт. — Только имей в виду: и ямщиком и операцией руководить тоже я буду. А санки с взрывчаткой под «телегу» железную как раз твой информатор и толкнет. А то разглавнелся тут! И вот еще что — за деньги мне головой отвечаешь. Информатора мне завтра приведешь.
Думанский ощутил вдохновение, которое частенько посещало его на процессах, оканчивающихся его блистательной победой. Он прекрасно понимал, что идет ва-банк, но это знание лишь добавляло ему куража. Главное для него было достичь своей цели, все прочее не имело ровным счетом никакого значения.
Что-то толкало вперед, подсказывало, что поступок этот непременно нужно совершить. Викентия Алексеевича не волновали никакие последствия. Он полностью положился на волю Господню, понял, что просто обязан для достижения цели воспользоваться кратковременной и эфемерной властью, пусть даже над бандитами.
XIV
Истекал петербургский день начала января 1905 года. Одна из пятниц. Погрузившийся в усталое отупение конца Святок огромный город был неприветливо мрачен и почти безлюден. Рождественские морозы напоминали скорее промозглое начало Великого поста. Дул пронизывающий до костей, сырой ветер с Ладоги. Только тусклый свет фонарей в мельтешении непрерывного мокрого снегопада освещал путь все еще празднующим редким одиноким гулякам, да кое-где встречавшимся парочкам, спутавшим в страстном угаре ночь и день.
Вся Фонтанка вдоль берегов была заполнена разнообразным речным транспортом — от рыбных садков до внушительных барж с лесом и прочими грузами, до весны превратившимися в сугробы.
Некая припозднившаяся особа, любительница часа, когда сутки неумолимо истекают, с детскими саночками и закутанным в стеганный ватный кокон «младенцем» в них медленно, то и дело поглядывая по сторонам, посматривая на часы, прогуливалась взад-вперед по Семеновскому мосту. Это был Петруша, согласно плану наряженный нянькой: в тулупе и с головой, замотанной ковровым платком. Мальчик волновался, несмотря на то, что роль его в предстоящей операции была несложной. Всего-то запалить фитиль и толкнуть саночки под проезжающую карету, а потом, не медля ни секунды, сигануть с моста. Накануне они с Думанским накатали под этим мостом целый сугроб — почти в рост мальчика. Это для того, чтобы ему не разбиться, падая на лед, и чтобы рыхлый снег защитил его от осколков.
Даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять — все существо «Кесарева» сопротивляется тому, чтобы отправить мальчика на верный риск, что нужно как-то обезопасить, спасти ребенка. Объяснив, что делает «большое государственное дело», не вдаваясь при этом в подробности, «хозяин» отвел Петрушу в храм, долго молился вместе с ним, напоминая мальчику те простые молитвы, которым в детстве учила его бабка, после чьей смерти он и попал к «добрым людям». Вспомнили и «Отче Наш», и «Богородицу», и даже «Символ Веры» — молитву большую, но когда-то тоже наизусть затверженную и понимаемую пока только сердцем. Думанский-«Кесарев» проникся к сироте почти отцовскими чувствами, в то же время именно теперь — в необразимой ситуации, в беде, которая застала врасплох адвоката и засасывала мальчика, они оба были нужны друг другу: «Кесареву» — преданный союзник, не вызывавший бы подозрения у бандитов, мальчику — старший товарищ, честный наставник, который помог бы выкарабкаться из воровской трясины. Правовед как мог объяснил Петруше, как следует вести себя с Яхонтом и его людьми, как не выдать «хозяина» и не погубить себя, а «заодно» — выманить негодяя «Думанского». «Во всем уповай на Бога! Потом ты поймешь, что только на Него и на самого себя вся надежда, и что я был прав, когда учил тебя этому», — наставлял жигана «хозяин» Думанский. В тот день он еще неоднократно повторял Петруше, что нужно говорить «вождю», как сберечь себя в этой паутине. Ради упражнения и для верности «хозяин» заставил мальчика несколько раз почти что перевалиться через перила моста. Думанский и в самом деле переживал за доверившееся ему сбитое с пути юное создание. Но иного выхода и в самом деле не было — так решил Яхонт, а Яхонт, хочешь не хочешь — вождь…
Вот со стороны Загородного послышался мерный цокот копыт запряженной лошадки и скрип полозьев санного возка. Проехав полукруглую желтую площадь Московских казарм, сани встали как вкопанные поперек съезда с моста. Все было готово к «горячей встрече». Теперь «братья» непременно должны были оказаться в заранее приготовленной ловушке.
Часы показывали без трех минут полночь. Нянька-Петруша уже замерзал на мосту со своим маленьким «бомбовозом». «Монастырские» сани ждали уже около часа, но ожидаемая карета-сейф все не появлялась. Викентий Алексеевич был весь как одна натянутая струна, сама воплощенная тревога. У бойцов непривычно мерзли бритые физиономии — приказу Яхонта все были вынуждены беспрекословно подчиниться… Кто-то из «монахинь» принялся вполголоса материться.
— Ну, кто там блеет из стада? — прервал его Яхонт грозным окриком. — Прохор, Аркашка, как вам в образе шлюх московских, потаскух тверских? Ну что, потаскухи? Ха-ха-ха! Какая фурта?[107]
Вблизи верхом проехал околоточный, покосился в сторону фальшивых монашек. Ряженые тут же принялись актерствовать по мере сил. Кто-то закрыл лицо Евангелием, кто-то принялся шептать молитвы. Но околоточный не стал приближаться к ним. На его усатой красной физиономии ясно читалось брезгливое: «Нет уж, увольте! Замучают проповедями, овечки Господни».
Ожидание стало и вовсе невыносимым, когда в створе Гороховой на фоне Адмиралтейства показалась зловещая кавалькада. При виде нее в тусклом просвете прямой, как нацеленная на налетчиков стрела, улицы даже у Думанского вырвался вздох изумления. Темневшая каким-то нелепым кованым буфетом, обрамленная мрачными апокалиптическими силуэтами всадников, черная громадина выехала из-за мансуровского особняка. Вокруг царило совершенное безлюдие. Так прошло еще несколько бесконечных минут. Вот за Фонтанкой началось какое-то шевеленье, зазвучала лающая немецкая речь. Наконец Думанский одновременно услышал и увидел, как кавалькада начала движение. Теперь главное было не пропустить момент, когда карета поднимется до середины узкого Семеновского моста, а там уж действовать — решительно и хладнокровно. «Держись, Петруша!» — Викентий Алексеевич мысленно перекрестил мальчишку. Впереди показалась шестерка грозных верховых в черных кожаных плащах-шинелях, точно таких же, как у спутников лже-Думанского, похитивших в Гавани несчастного Свистунова и отправивших на тот свет Тарана с Челбогашевым. Лошади под охранниками были им под стать — не иначе, московские тяжеловозы. Из-за кареты виднелись еще три пары монструозных созданий (лица у всех были серо-каменные, как у пушкинского командора, с выражением полнейшего презрения к смерти, будто у средневековых ландскнехтов). Адвокат, в напряжении сжимавший револьвер, впервые в жизни невольно поймал себя на отсутствии жалости к людям: «Такие чудовища вряд ли способны вызвать у кого-нибудь сентиментальные чувства». Но по-настоящему скверным сюрпризом было другое: охранников оказалось не «по два спереди и сзади», как он сам сказал Яхонту и как доложил ему «сильный» в арифметике Петруша, а целая дюжина!
Сама карета имела даже более ужасающий вид, чем ее конный эскорт — здоровенная крутобокая «фурия»-фура клепаного бронированного железа, с крохотными люкарнами вместо окон, которые напоминали то ли корабельные кингстоны, то ли тюремные оконца, а впрочем, походили и на бойницы, готовые вот-вот огрызнуться свинцом или картечью, и на отверстия в литейных формах, брызжущие раскаленным, клокочущим металлом, неотвратимо надвигалась на притихших было «монашек». Это форменное чудовище, последний ублюдок «технического прогресса», мгновенно напомнило впечатлительному Думанскому и адские образы с полотен Босха, и жуткого медного быка капрейского кесаря-затворника Тиверия, в котором кровожадный безумец живьем зажаривал своих врагов, быка, детально описанного Плутархом… Закономерным завершением галереи кошмарных образов, сменивших друг друга в сознании Викентия Алексеевича, был грядущий Зверь из Откровения патмосского апостола Иоанна Богослова. Снег под колесами этого движущегося «сейфа» хрустел так, как если бы это был беспощадный каток, давящий и готовый давить все живое, что попадется на его пути.
— Что за телега печенега? — поразился кто-то из ряженых монашек, видимо бывший гимназист, а то и студент.
— Это тебе не телега, это, в натуре, колесница адова! И ч…ти тут как тут…
— Да вы чего, братва, их же тут тьма-тьмущая! — жалобно выкрикнул боец по кличке Сапог.
— Стоять, говно бурундучье, моча индюшья! — прошипел ему Яхонт. — Перестреляю, собак недорезанных! Хорошо, что гранаты с собой взяли. Приготовьтесь, сейчас начнется.
Верховые, следовавшие за каретой, развернулись и метко, как в тире, сбили выстрелами бойцов, одетых мастеровыми. Те рухнули, едва успев вытащить револьверы.
У бедняги мальчика, «выгуливающего дитя в санках», не выдержали нервы. Карета еще не успела достигнуть середины моста, когда он торопливо поджег запальный шнур и, вместо того чтобы ногой толкнуть саночки под телегу, зачем-то начал их поднимать. Но те оказались слишком тяжелыми для него; более того — соскользнувшее одеялко выставило дымящийся конец веревки на всеобщее обозрение.
Охрана действовала с молниеносной быстротой. Прогремел выстрел и мальчик, оставив свой груз, раненный, откинулся назад — прямо в свои санки. Думанский схватился за голову, при этом правая рука его не выпускала вороненый смит-вессон. «Господи, сохрани этого мальчика! Да что же это… Спокойно, Викентий, иди! Иди вперед!» Пока «Кесарев» собирался с силами, Яхонт слез с передка и вплотную подошел к нему, сунул в руки бомбу с горящим фитилем.
— Ты эту кашу заварил, ты и расхлебывай. Пошел!
Думанский сунул револьвер в карман, послушно взял теплый металлический предмет и двинулся на мост. Пули свистели, отскакивали от кованых перил, впивались в живую и мертвую плоть, лошади истошно ржали, безуспешно пытаясь освободиться из своих пут. Но Думанский чувствовал, что некая высшая сила оберегает его и не испытывал ни малейшего страха. В несколько невообразимых бросков он оказался на линии огня, но этот порыв, увы, не принес никакой пользы: меткие пули охраны были быстрее любого смельчака — они молниеносно добили несчастного, так что его легкое мальчишеское тело откинуло на перила, и, не успев издать и звука, мертвый Петруша упал на лед Фонтанки.
Сани с Яхонтом и фальшивыми монахинями перегородили спуск с моста, и там разверзся кромешный ад. Боевики палили с обеих рук, пули поражали лошадей, звонко ударялись о стенки кареты, рикошетом попадая и в тех, и в других. Охранникам в кожаных плащах, казалось, были неведомы ни страх, ни присущий всякому живому созданию инстинкт самосохранения. Хладнокровно, как бездушные смертноносные машины, они стреляли в нападавших. Те же напрочь забыли о приготовленных гранатах, и это определяло их незавидную участь.
Думанский едва сдерживал слезы, но на рефлексию уже не оставалось ни секунды — карета задержалась как раз посередине моста. Изо всех сил он метнул бомбу прямо в санки и неожиданно для себя самого удачно попал между каретой и задней шестеркой «ландскнехтов», чтобы сдетонировал главный заряд, а сам, обхватив голову, метнулся в снежное месиво, подальше от наезженной колеи…
Оглушительно грохнуло, вспышка была такая, будто солнце упало на землю. Карета внезапно остановилась, точно налетела на невидимое препятствие, а затем встала на дыбы, как норовистый конь, и снова грузно осела на место. Крики, отчаянное лошадиное ржание, грохот — все слилось в единой адской какофонии.
На несколько мгновений весь мир перестал существовать.
От грохота Викентий Алексеевич на время лишился слуха — взрыв был такой силы, что центральную мостовую арку буквально разорвало пополам! Перила, балки и деревянный настил задрались вверх и в стороны — к разным берегам, точно скромный переезд через речку Фонтанку в створе Гороховой был огромным разводным мостом через Неву. На одном «крыле» практически не оставалось никого и ничего живого — люди и лошади превратились в какую-то жуткую кучу-малу истерзанного, перемешанного с осколками костей, обрывками одежды и сбруи остывающего кровавого мяса. С другой стороны моста продолжалась беспощадная бойня: оставшиеся в живых коварные вороны-«монашки» с готовой позиции лежа, прямо из саней, прицельными выстрелами приноровились сбивать с обезумевших жеребцов залетных черных воронов, соображавших на ходу, что угодили в ловушку, и теперь почти лишенных возможности сопротивляться.
«Адская колесница» — громоздкая карета с вожделенным грузом — зацепилась передком с лошадиной упряжкой за обрывки мостовых конструкций со стороны нападавших, причем раскуроченная задняя часть, уже без колес и запяток, попавшая как раз в образовавшуюся между пролетами дыру, зависла в пустоте над неприветливо темневшей, не схваченной льдом полосой воды посередине реки. Дверца была полуоткрыта.
Контуженный адвокат не без труда выбрался из-под туши лошади, которая, возможно, спасла его от гибели, шатаясь, заспешил к карете, где должен был находиться «Думанский», распахнул дверцу настежь и тут же получил резкий удар в лицо от вывалившегося из «телеги печенега» красномордого охранника. Со звериным хрипом, не обращая внимания на текущую из ушей кровь, оглушенный телохранитель из последних сил кинулся на Думанского, выхватив из ножен кривой кинжал. Падая, адвокат машинально, ни секунды не рассуждая, достал наконец смит-вессон и в упор выстрелил в не успевшего ничего понять врага. Лошадь дернулась и выбросила «ландскнехта» из седла на мост. «Кесарев» умудрился удержаться на ногах, в то время как тяжелая карета осела еще сильнее.
Примерившись к качавшемуся в каком-нибудь метре от него клепаному корпусу, Думанский обеими руками оперся на заднюю рессору, чтобы, подтянувшись, изловчиться и снова проникнуть внутрь. В состоянии шока бедняга не мог даже правильно оценить расстояние — не то что надежность положения державшейся на честном слове кареты, поэтому, повиснув на ней, он тут же нарушил шаткое равновесие, и черная громада рухнула прямо в воду, утягивая за собой и несчастных, отчаянно ржавших лошадок, и мнимого атлета. Благодаря оставшимся на льду полумертвым, отчаянно сражавшимся за свою жизнь лошадям, карета держалась «на плаву» у самого края полыньи.
Викентий Алексеевич наверняка утонул бы, упусти он из рук рессору — ушел бы под воду перед экипажем. Забыв о всяком риске, адвокат вновь рванул на себя дверь и бросился в полумрак заполняемого ледяной водой пространства. Внутри «налетчик» увидел чудом уцелевшего при взрыве «пассажира», который затаился в глубине, у самого края сиденья, и несмотря на свое критическое положение, на половину в воде, хлеставшей из-за всех щелей и вдребезги разбитых взрывом оконец-люкарн, прижимая к груди опечатанный свинцом, запертый на замок железный сундучок размером с приличный саквояж, другой рукой направил на Викентия Алексеевича миниатюрный браунинг.
Мгновенно узнав в господине со взглядом загнанного зверька, зарывшемся в складки просторной бобровой шубы, самого петербургского обер-прокурора, Думанский едва не произнес «здравствуйте, ваша честь». Перед ним вместо завладевшего его телом проходимца был главный законник столицы, с которым они неоднократно встречались на процессах.
Контуженный прокурор вместо того, чтобы в упор застрелить нападающего, теперь обхватил свое «сокровище» обеими руками, соответственно выронив дамскую «игрушку» на пол, уже скрытый водой, а дальше она и вовсе покатилась по наклонной и через распахнутую дверцу камнем канула в Фонтанку.
Опомнившись, Викентий Алексееич закричал, надрывая связки:
— Где Думанский?! Что это? Отдай!
Прокурор не желал добровольно расставаться со своим сокровищем.
— Без глупостей — баул сюда! Живо!!!
Высокопоставленный законник что-то беспрерывно вопил, но оглушенный Викентий Алексеевич, который с трудом слышал даже свой крик, мог лишь различить, что тот вопит по-немецки, и сообразить, что по-русски прокурор не понимает (или с некоторых пор перестал понимать?!). Улучив удобный момент, перелицованный адвокат кинулся на растерянного коллегу и мертвой хваткой вцепился в сундучок со своей стороны. Результат короткой борьбы был в пользу кесаревской мускулатуры. Выкинув вожделенную добычу на лед, «Кесарев» выбрался из кареты и выкарабкался из полыньи, однако увидел, что несколько неизвестно откуда взявшихся мощных ротозеев, затаив дыхание, наблюдают и, видимо, все это время наблюдали за ним сверху, как в римском цирке, облокотившись на перила.
Никто из Яхонтовой шайки не пришел ему на помощь. «Не слишком-то высоко они меня ценят…» — подумалось Викентию Алексеевичу, но он не ощутил никакой обиды: эти «друзья» поневоле были ему безразличны, если не сказать отвратительны. Он двинулся к «их» берегу, спотыкаясь, слава Богу, не слыша, как трещит под ним лед, и вздымая опечатанный сундучок над собой.
Едва он сделал несколько шагов, как за спиной раздался ужасающий треск, от которого кровь, казалось, застыла в жилах. Оглянувшись, перелицованный адвокат с ужасом увидел, как темная окованная железом махина медленно погружается под лед. Тела лошадей, служившие своего рода противовесом, плюхались рядом с ней. Мертвые, падающие с отвратительным шлепком, и живые, отчаянно ржущие, из последних сил старающиеся освободиться из своих пут, — все они медленно и неотвратимо скользили к стремительно растущей полынье. Множество все увеличивающихся трещин разбегалось от черной дыры, куда не без некоторой торжественности погружалась карета-сейф.
Внезапно оттуда раздался отчаянный умоляющий визг прокурора:
— Hilfe! Hilfe! Retten Sie mich… Ich flehe, flehe an… Oh, Mein Gott! Heilige Ewigkeit… O-o-oh! T-teufel… Medizinhilfe… ich brauche![108]
Почти беспорядочный набор немецких слов сменился бессмысленными восклицаниями и междометиями, в которых не оставалось уже почти ничего человеческого.
Поставив шкатулку на лед, Думанский смело нырнул в полынью. Обезумевшее создание, еще недавно бывшее обер-прокурором столицы, вцепилось в него руками и ногами, препятствуя собственному спасению. Думанскому ничего не оставалось, как оглушить его тяжелым ударом по лбу.
Обхватив бесчувственное тело прокурора, он с трудом вытащил его на лед. Непонятно что больше руководило его поступком — человеколюбие или любопытство. Встретить главного прокурора в этой ситуации было так же неестественно, как мужика в лаптях в Венской опере. Внезапно взгляд Викентия Алексеевича упал на жалкую, мокрую разжатую ладонь спасенного — глубокий отчетливый шрам синел там, где когда-то была линия жизни. «Еще один оборотень! Господи, неужто они все там такие? Где же Кесарев?! Где же этот проклятый плотокрад…»
Хладнокровно, как будто кто-то другой действовал внутри него, дергая за ниточки, как уличный кукловод марионетку, Думанский нацепил свой смит-вессон. Ни секунды не раздумывая, он выстрелил в упор прямо в лицо оборотня, поселившегося в теле прокурора. В глазах того мелькнуло недоумение, и тотчас же голова его разлетелась на множество отвратительных в своей натуралистичности осколков, склизких ошметков мозга и кровавых брызг. Но Думанский, будто во сне, продолжал нажимать и нажимать курок, пока барабан не опустел.
Наконец, взяв свою добычу под мышку, Думанский с трудом заковылял к берегу. Одежда его насквозь промокла и медленно покрывалась ледяной коркой, кровь стекала по лицу, но он шел, не чувствуя ни холода, ни боли. Его не волновало происходящее вокруг и только одна мысль сверлила мозг — бессмысленная гибель мальчика.
Оглядевшись, он понял, что все это время пребывал будто на театральной сцене. Несмотря на поздний час, остатки моста и оба берега теперь были усеяны людьми, которые живо переживали происходящее, но ничего не делали, чтобы как-то помочь. Зато откуда-то уже слышались свистки городовых.
На льду вокруг полыньи, поглотившей карету и лошадей, подобно изломанным, выброшенным на свалку куклам, с синеющими на глазах лицами лежали трупы охранников и боевиков, на которых под изорванными и задравшимися монашескими одеяниями виднелись мужские штаны и фуфайки. Непонятно откуда уже слетелась целая туча голодных ворон, которые с остервенением и оглушительным карканьем принялись клевать еще не остывшие трупы и пропитанный кровью снег. Тело мальчика, разорванное на две части, послужило окончательным штрихом в этом омерзительном кровавом натюрморте. Казалось, что это картина наступившего Апокалипсиса…
«Все эти люди… Люди?! Разве эти налетчики, эти хладнокровные убийцы в коже, этот дремучий, безжалостный Яхонт, в конце концов, — жалкий прокуроришка, разве все они не потеряли право называться людьми? Чего стоит их мерзкая жизнь, да и смерть… Но этот мальчик, Господи! За что растерзан этот мальчик?! Очередная жертва молоху… Как там у Достоевского? Никакая революция не стоит и одной капли крови ребенка! И ведь я в этом виноват — разве не я задумывал всю эту бойню?! Неважно, ради чего… Никакие приказы Яхонта не могут мне быть оправданием! Боже, какой грех, какой на мне грех! Бедный, бедный Петруша…»
Вдруг с моста загремели выстрелы, причем у Думанского волосы на голове зашевелились, когда он расслышал свист пуль около себя и разглядел ствол, направленный в его сторону. Это раненный адвокатом «кожаный» очнулся и выцеливал жертву. «Сейчас ведь меня не станет… Господи, упаси от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия!»[109] Он хотел было спрятаться под мост или еще как-то прикрыться, но чей-то меткий выстрел уже угомонил охранника. Пальба стихла. Любопытство заставило «Кесарева»-Думанского оглянуться и тут он увидел следующую картину: карета пока возвышалась над полыньей, погрузившись в воду только до середины, бедные лошади тщетно пытались выбраться на обламывающийся лед и душераздирающе ржали. Фактически обезглавленный, потомок крестоносцев скатился назад в полынью, окрасив воду густой черной кровью, и, обремененный промокшей тяжелой шубой, ушел под лед, во тьму, на самое дно…
В глубине души немного удивившись, с какой бесчувственностью он воспринял всю эту ужасающую кровавую картину и как был сам жесток, адвокат добрел до гранитного спуска и по скользким обледенелым ступеням поднялся на берег. Его волновала лишь бессмысленная смерть мальчика. Стоявшие зеваки расступались перед ним, отодвигаясь с боязливым любопытством. Подняв голову, Думанский увидел сани и Яхонта на месте кучера.
— Ты что, до второго пришествия тут стоять собрался? Петух артынский, пупок лебяжий, чего встал-то… — поторопил тот. — Я думал, для тебя небо с овчинку покажется, а ты вон оно что… Не только шнифер первостатейный. Я уж думал, скурвился Кесарь, а ты вот какой — лютый! Только на кой хрен тебе надо было его из-подо льда вытаскивать, чтобы затем застрелить? Изверг ты шанхайский! Ты бы лучше мешки с деньгами вытащил, а не свои удовольствия справлял…
В глазах Викентия Алексеевича была такая бездна презрения, скорби, такое определенное желание и решимость стереть в порошок, смести со своего пути любого, кто посмеет лезть ему в душу, что даже бандитский «вождь» испугался и почувствовал, что «Кесарева» сейчас лучше не трогать. Протянув руку, Яхонт буквально втащил его в сани и посадил рядом с собой. Ни одного из налетчиков-«монашек» с ним не было.
— Надеюсь, твоя добыча и вправду того стоила, — зловеще произнес тот, трогаясь с места. — Столько наших ребят положили.
Контуженный Думанский искусанными в кровь губами без конца повторял только одно слово:
— Пе-тру-ша…
— Да Гаврош твой от такой прорвы взрывчатки все равно не жилец был! — рявкнул Яхонт, сплюнув. — Жалость человека к человеку унижает блатного… Сегодня они умерли, а завтра мы!
Тронулись, не дожидаясь, пока карета и тело прокурора окончательно исчезнут в темной воде, уйдя в речной ил.
До старухиной «малины» по Гороховой было совсем недалеко, но возница Яхонт знай нахлестывал бедную лошадку, вслух рассуждая, какая же важная «касса» может быть так серьезно опечатана. Думанский же думал лишь об одном: какие бы «бумаги государственной важности» там ни таились, обидно будет погибнуть от бандитских рук, сохранив жизнь во всех перипетиях и метемпсихозах последней недели.
Не успел Яхонт ввалиться «на хазу», Никаноровна тотчас выскочила навстречу, как та любопытная Варвара:
— Ну что, касатик, с добычей? Ух какую коробчонку исхитили! Вижу, вижу — золотишка в ней с полпуда будет. На замочике, на крючочике… Люди гибнут за металл, Сатана там…
— Типун тебе на язык, ведьма старая! Ты тут, наверно, всю дорогу каркала, пока мы там… — прикрикнул на «вещую» притоносодержательницу одинокий «вождь». — Сегодня всех потеряли! Сколько ты, дура, тротила в коляску-то всобачила, весь Петербург, что ли, думала взорвать?!! Трепаная рогожа!
Он даже замахнулся на Никаноровну, которая проворно отскочила.
— Едрит твою в качалку, неужели я всех взорвала, — заорала она, оказавшись на безопасном расстоянии. — Я случайно, как я уже говорила, я никогда не повторюсь.
— Хорош петь лазаря! Тащи-ка лучше отмычку какую — у тебя же их на любой манер и размер!
И он посмотрел на незадачливую подрывницу таким же взглядом, каким напугал его четверть часа назад «Кесарев». Никаноровна почувствовала, как сердце уходит в пятки и мороз пупырышками высыпает на коже, ее редкие седые волосы встали дыбом. Трясясь, она завопила:
— Не молчите на меня!!! Слышишь?! Не молчи на меня так!!! — и скрылась в кладовке.
«Идейный вождь» потряс баул. Прислушался. Осторожно предположил:
— Не звенит. Видно, там купюр по самую крышку!
«Кесарев»-Думанский молчал — сведения мальчишки-жигана начинали подтверждаться. Тут и Никаноровна прискакала со здоровой фомкой наперевес. Яхонт ухмыльнулся, поддел инструментом аккуратный замочек с кодом, и тот, лязгнув, отлетел вместе с металлической крышкой: вожделенное содержимое «ларца с сокровищами» открылось на всеобщее обозрение. Никаноровна разочарованно ахнула, а Яхонт завернул длинную непечатную тираду. Только один адвокат, казалось, не был удивлен — хорошо, что на фоне общего глубокого потрясения его реакции никто не заметил. Сундучок был заполнен канцелярскими папками, которые украшали дурацкие бантики педантично завязанных тесемок. «Вождь», оставшийся без «племени», со всего размаху грохнул «ларец» об пол, некоторые из папок раскрылись, в воздухе закружились какие-то бумаги:
— Что за…?! Жук ты навозный, где деньги?!! Это и есть твой «жирный куш», это банк игорного дома или только бухгалтерия?!! Я чего-то не догоняю… Ты совсем оглох, Кесарь — где золото?!!
— Были там еще мешки, кто знал, что так выйдет, что твоих архаровцев положат всех? А ты вместо того, чтобы с берега пялиться, лучше бы тогда помог. А теперь что толку глотку-то драть? Плесни-ка мне лучше водки, а ты, Никаноровна, метнись мне за сухой одежонкой. Не видишь, я насквозь измок и обледенел, замерз я как ледышка — принеси что-нибудь потеплее.
— Ах ты проход поросячий, тоннель лежачий, кал сучий, это все из-за твоего пацана! Повезло ему, что убили, а то бы я сам… Хоть бы одна облигация какая оказалась. Да я тебя за это сам сейчас легавым сдам, всю жизнь у меня отрабатывать будешь! Говори, что за бумаги, чего там написано. Забыл, что ли?! Я ж читать толком не умею!
«Кесарев», втянув голову в плечи, подобрал с пола две папки, на одной из которых значилось «Первопрестольная», а на другой «Санкт-Петербург». Там оказалось множество неподшитых пронумерованных листов, но большая часть их была испорчена водой. Чернила в некоторых местах были полностью смыты, делая невозможным что-либо разобрать. Думанский взял один из уцелевших листов дорогой веленевой бумаги. На нем были выведены витиеватым канцелярским почерком два столбца — списка. С одной стороны гражданским шрифтом перечислялись известные всему Петербургу, а то и всей России, преимущественно дворянские родовые фамилии, гордость отечественной истории и культуры, против каждой из них в другом столбце стояли написанные готической латиницей фамилии инородческие: немецкие или еврейские, польские, чухонские, исковерканные английские (видимо, граждан Северо-Американских Штатов), даже латышские… Адвокат уже начинал догадываться, что за документация попала в его руки, а полуграмотный Яхонт, державший в руках целую раскрытую папку и тоже пытавшийся что-то прочесть (разумеется, безуспешно), вопил, багровея:
— Ну и удружил ты товарищам! «Фартовое дело» с братцем-покойником сварганил?! Да на хрен кому-то это чистописание, туфта архивная?! Ни бельмеса не разберешь, что к чему — справа вон не то цифры, не то шифры какие… Ты ж, сволочь, всех нас подставил, сам фраернулся и братву облажал, усекаешь? Вернись из них кто живой оттуда — на куски бы тебя покромсали, мыша вонючего! Деловых людей с канцелярскими крысами перепутал — на кого ты нас вывел, а?! Была б хоть цена этой «канцелярии», а то она ведь даже для сортира не годная — жесткая, склизкая… Тьфу, мать твою! А откуда столько конвоя — ты ж божился, что всего четверо будет? Бойцы мои опытные — все полегли!!! Я тебе, Кесарев, обещал — не будет банка, пеняй на себя…
— А ты, Яхонт, погоди, охолони маленько — я не сявка зеленая, чтоб меня сволочить! Память честных воров не мусоль, — «Кесарев»-Думанский перебил «вождя», призывая на помощь свой скудный блатной лексикон, который, между прочим, прилично пополнился за последние дни, и вооруженный принципом шахматиста: лучшая защита — нападение. — Я и сам не знал, что этих «кожаных» такая орава окажется, мне одному сколько досталось… А твои бойцы на санках разлеглись — знай пали, как на охоте. Так что свидетелей не оставили — уже хорошо! Ты мне лучше вот что скажи: какой студент-сапер такой здоровущий фугас под мост подложил? Если у тебя тротила целый склад, это не значит, что в дело нужно было целую прорву пустить! Заставь дурака Богу молиться… Еще чудо, что так обошлось, а то и нас вместе с мостом «развело» бы! Я вон до сих пор едва слышу… И еще скажи-ка ты мне, Яхонт, без балды, как на духу: наверняка решил со своими «идейными» прямо на скачке от Кесарева избавиться? Зачем с кем-то делиться, если можно всю кассу себе взять…
— Че несешь, какую кассу?! Там же ни гроша! — опешил Яхонт.
— Это ты теперь знаешь, вернее, думаешь, а тогда сколько сорвать хотел… Ни одна твоя «монашка» меня не подстраховала, в карету тонущую не сунулась, зато когда я с поживой выбрался, чудом не пристрелили.
— Да ты совесть-то поимей, Андрюха! Это ж я тебя от черного отбил! — вырвалось у обалдевшего бандита.
— Кто там разберет — палили в мою сторону… Да ладно, я не злопамятный. А если и вправду ты выручил, спасибо, братан! Вот денег жалко.
— Че-е-во?!!
— Того! Золота жалко, говорю. Я-то первый попавшийся баул взял и наружу — кто ж мог знать, что в нем бесполезные бумаги! А там еще другие оставались, не иначе с казной, еще слитки золотые…
— Как?!! — Яхонт выпучил глаза. — Выходит, банк там все таки-там был?!!! А ты молчал…
— Да был, был! Он и сейчас там — в Фонтанке… Умен ты, как я погляжу, — разве я один мог больше взять? В этой «иордани» и так вдоволь набарахтался… Ты в детстве книжку про Ледяной дом, конечно, не читал. «Грамотей»! Так вот там хохла одного на морозе водичкой поливали — он в ледяную скульптуру превратился. Хочешь попробовать?! С меня-то хватило. Честно нужно было работать, пока карета не утонула! А если очень припрет — собери еще товарищей, прикажи за золотишком на дно нырять — ради идеи! — «Кесарев» с прищуром поглядел на осиротевшего «вожака». — Думаешь, найдутся добровольцы? Правеж сейчас кончишь, и вперед! Мне уже до столба будет.
Неожиданно оживилась Никаноровна:
— Яхонтовый, душа родная, не тронь Андрюху, а? За ним столько дел славных, а коли вышел кикс, так с кем не бывает… Ты ж знаешь, Яхонтовый, это ж я во всем виноватая! Андрюша, разлюбезный — и ты прости за ради Христа! Мартышка к старости слаба глазами стала… Я во время оно — в бестужевках, химию на ять знала, особенно что до взрывчатых веществ касаемо! На глаз тротил сыпала и бомбы что надо выходили, а тут фугас-то готовила, да и переборщила сослепу, да сдуру еще всю пропорцию нарушила, ну и как было прилепила с твоими жиганами — с них-то взятки гладки! — под перила, под самую середку… Эх, фраернулась я, растеряла всю профессиональную квалификацию: была Никаноровна бомбистка-террористка, а стала бестолковка слабоумная. Суди меня по всей строгости блатного закона! А Андрея в покое оставьте. Не виноватый он, как есть не виноватый!
Яхонт стукнул по столу кулаком:
— Засохни, мозганутая!
«Лик» его был ужасен настолько, что даже видавшая виды «подводчица и наводчица», завопив, со всех ног бросилась на лестницу, прыгая сразу через несколько ступенек, как юная серна.
— Ангелы впереди — ч…ти позади! Етитская сила, спасай заблудшую Никаноровну!!!
Разъяренный «вождь» бросился вдогонку, размахивая тяжелой отмычкой, да куда там — неуловимая старуха хохотала уже где-то в самом низу лестницы, понимая насколько она недосягаемая для преследования. — Если есть на свети рай, не греши, не попадай.
— Убью, ведьма старая! — Яхонт изрыгнул из себя последнее, что оставалось в арсенале его проклятий и тут очередная скользкая ступенька прервала эту бессмысленную погоню и он растянулся на камне, как подстреленный секач:
— Всех скобарей моих, стрелков проверенных, всех моих братишек положили! Из-за этой бомбистки, мать ее… Ни денег ни бойцов.
— А как насчет жалости человека к человеку, которая унижает блатного? — хлестко бросил Думанский-«Кесарев». Матерый вожак, покачав головой, ухмыльнулся:
— Слышь, Кесарев, бабу благодари! А ты теперь должник мой за моих ребятишек: будешь строго по специальности работать — толку от тебя, кроме как от шнифера, с гулькин хрен. Да, коли ты такой «фартовый» скок организовал, забирай себе всю поживу — этак по-честному будет! — И он развел руками в стороны, указывая на разбросанные кругом бумаги.
XV
Когда Яхонтовы люди уснули, Викентий Алексеевич исползал всю комнату, собирая листок за листком, документ за документом. «Знали бы эти пигмеи, микроцефалы, это хамье, какой взрывной силы архив попал мне сегодня в руки! Здесь же весь Петербург и Москва! А может, и данные по губерниям… Ну, господа вольные каменщики, слуги Адонирама,[110] теперь у меня есть сведения по каждой вашей метемпсихозе в России — все вы у меня здесь, голубчики!» В этот момент правоведа осенило: он дрожащими руками стал искать первые листы списка, те, на которых, по его расчетам, должна была быть картотека на букву «Д». Довольно скоро он нашел на полуразмытой, мокрой странице то, что нужно, но тут же подумал, что лучше этого было не делать: в списке напротив фамилии «Думанский» стояло нечто неожиданное, совершенно незнакомое — «Kaufmann»! Бедный Викентий Алексеевич сначала решил, что ему померещилось, внимательно, чуть не вплотную к глазам поднеся листок, всмотрелся — все так, абсолютно чужая фамилия то ли какого-то германского банкира, то ли еврейского гешефтмахера…[111] Мысли в голове Думанского взвились спутанным роем — что ему было думать, чего ожидать? «Значит, в моем теле бродит некий Кауфман?! А что же тогда Кесарев, Васюха — они то куда делись?? Исчезли, испарились??? Где-то у мистиков я читал, что душа может испаряться… Бред! Ересь какая! Остановись, Викентий, ради всего Святого, ради Господа, ради Молли, в конце концов!!! Господи, Боже мой, не введи мя во искушение, но избави мя от лукавого!»
Молитва несколько успокоила Думанского, помогла ему собраться, отогнать предположения и догадки, которые проверить было, наверное, невозможно. Он сел прямо на пол, потер ладонями виски и, побыв какое-то время в состоянии полного внутреннего опустошения, взял в руки первую попавшуюся завязанную папку, рассчитывая, что ее содержимое хоть как-нибудь отвлечет его. Открыв картонный футляр, адвокат сразу увидел заглавие, написанное все тем же готическим шрифтом:
«Император Николай II. Родовое проклятие трех поколений как способ достижения цели». Ниже, в скобках шрифтом помельче значилось: «Программный доклад на Высшем Совете объединенных российских лож, посвященный 160-летию основания первой ложи Вольных Каменщиков в Российской Империи, произнесенный Великим Магистром ложи „Орфея“ досточтимым господином Кауфманом». Разумеется, заинтригованный столь многозначительным, таинственным названием доклада и его авторством, Думанский не смог отказать себе в том, чтобы не проникнуть в суть такого важного масонского документа, и погрузился в чтение.
Высокочтимые братья, верные слуги Верховного Строителя Храма и Архитектора Вселенной!
С глубоким благоговением перед Всевидящим Оком Демиурга, в память о многих поколениях наших мудрых предшественников спешу поздравить вас со 160-летием основания первой российской ложи «Строгого чина» по германскому образцу. Как всем вам, надеюсь, известно, наши предшественники, масоны разных толков и обрядов, преследовали своей деятельностью в этой стране одну главную, архиважную цель — сосредоточение всей власти, как политической, так экономической и духовной, в своих руках. Любые действия вольных каменщиков, слуг Верховного Строителя Храма, всегда рано или поздно сталкивались с единственным трудно преодолимым препятствием — августейшей персоной самого монарха, именуемого в Своде Законов Империи «державным хозяином России». Слава Высшему Творцу, мы никогда не признавали и не признаем царя хозяином над собой, да и той фигурой, которой, якобы по праву, принадлежит здесь вся власть, все богатства и судьбы миллионов так называемых «подданных». Человек, в чем мы убеждены, свободен в рамках собственной воли (чем более она развита, тем более он свободен) и в тех границах, которые определил каждому Верховный Разум — сам Демиург. Мы всегда знали способ приобретения любой власти, передававшийся братьями из поколения в поколение с древнейших времен первого Великого Жреца-Иерофанта, и способ этот — РЕИНКАРНАЦИЯ, иными словами метемпсихоза, а еще проще, по-русски, переселение души. Этот способ, начиная с века восемнадцатого, не раз планировался к применению российскими масонами в отношении российских монархов. Екатерина II только по причине своей женской природы не могла рассматриваться как объект реинкарнации первыми поколениями наших предшественников. Хотя она и обладала поистине мужской волей и величием, но душа достойного мужа масона физиологически не смогла бы существовать в ее теле. Впервые братья попытались реинкарнировать полубезумного Павла, которого, кстати, некоторые христиане сейчас признают святым, но он точно предчувствовал ритуал и в самый последний момент оказал сопротивление, пытаясь бежать, причем, едва не был спасен караулом, из-за чего пришлось пойти на цареубийство, объявив официально о скоропостижной смерти от удара. Когда готовился подобный же ритуал над его сыном Александром, предавшим идеалы своего реформаторского правления и масонское братство, последний переиграл всех, тайно оставив престол, хотя многие до сих пор уверены, что «благословленный» царь почиет в Петропавловской усыпальнице. Следующего — Николая I, утопившего в крови начатый лучшими представителями военных лож и обществ декабрьский переворот двадцать пятого года, пытались покарать тем же путем переселения души, но его регулярное участие в христианской литургии с обязательным причащением опять же привело к неудаче: оказавшийся в теле Николая брат шевалье Шумер был обречен на гибель от так называемых «святых даров», которых причастился в тот день царь, но нашел достойный выход — прилюдно принять яд, чтобы русского Императора сочли отчаявшимся самоубийцей, осуждаемым Церковью распятого и потерпевшим полное моральное поражение. Мы никогда не забудем этот подвиг самопожертвования одного из лучших наших братьев! Христиане, в особенности римо-католики, как известно, убеждены, что за грехи отцов платят дети и, в частности, три поколения в роду самоубийцы бывают прокляты — несут крест за этот смертный грех. Так под бременем родового проклятья, несомненно предопределив грядущее исполнение наших сокровенных чаяний, оказались и Романовы. Правда, Александр II (первый, на кого пало проклятье) причащался за каждой воскресной службой и поэтому не был доступен для наших людей, из которых почти целиком состояло его окружение. Поэтому нам пришлось перейти к тактике террора, и Император, за неимением выбора, был взорван бомбой, хотя это повлекло за собой и казнь наших героев из «Народной воли», и очередной погром всего прогрессивного движения. «Миротворный» Александр III, представлявший второе проклятое поколение рода после Николая-самоубийцы, тем не менее казался для нас неуязвим, так как панически боялся реинкарнации, предсказанной ему, и его тоже охраняло причастие, однако и он все-таки был казнен — постепенно отравлен, хоть и без искомой пользы для нашего общего дела. Да, как вы все знаете и видите, ложи снова активно действуют, даже куда полезнее, чем прежде: мы день ото дня укрепляем свои позиции, кооптируя в наши ряды новых членов и постоянно реинкарнируя важнейших государственных чиновников, но всей вожделенной власти у вольных каменщиков в России как не было, так и нет, а все потому, что Самодержец Николай II по-прежнему находится во главе самой консервативной и монолитной Империи в мире.
Главный вывод, братья, который следует из более чем полуторастолетней нашей деятельности в этой стране: нам удалось провести лишь одну реинкарнацию на самом высоком властном уровне, и та оказалась практически бесполезной. Христианский уклад жизни, Православная Церковь с ее губительными для нас таинствами мешают осуществлению заветных масонских чаяний о полной, безраздельной и бескомпромиссной власти. За последнее время мы значительно отдалили общество от веры в распятого, морально и физически разложили образованные сословия и успешно реинкарнируем их представителей, да и низы уже не отличаются прежним «благочестием». Сам же царь и его семья (если игнорировать замусоленный церковными фанатиками факт о пристрастии Николая и Александры к курению табака) по-прежнему являют собой редкостный пример чуть ли не живой православной иконы — этого нельзя дальше терпеть, и нужно во чтобы то ни стало подменить Николая путем все того же ритуального внедрения в его плоть души достойнейшего из наших братьев или управляемого, слабовольного человека, чтобы подмененный царь стал абсолютной марионеткой в наших руках. Для этого мы должны организовать слежку за каждым царским шагом, стараясь, конечно, при этом максимально отдалить Николая от Церкви (a propos, нельзя пренебрегать и тем вышеупомянутым обнадеживающим фактом, что Николай II — внук фактического самоубийцы и что, как уже говорилось, страшное родовое проклятие ложится как раз на три поколения прямых потомков самоубийцы, которые особенно уязвимы для так называемых «бесовских сил»), и, улучив момент, когда он продолжительное время не будет причащаться (слава Творцу, мы добились-таки только одного обязательного для «доброго христианина» причащения в году!) провести срочную обреченную на успех реинкарнацию!
Чтобы оснавательно подготовить операцию, сопоставить все pro et contra,[112] подменить ближайшее окружение Николая, наконец, подобрать наиболее подходящую для транспортирования в тело царя личность и выверить до деталей всю операцию — от внедрения в ближний круг до самого ритуала, по моим расчетам, нам понадобиться не более пяти лет.
Таким образом, используя фактор родового проклятия, мы исполним заветы своих предшественников, сокровенные чаяния многих поколений братьев в буквальном смысле обретут плоть, а власть в России упадет к нам в руки как созревший плод, чтобы уже никогда не быть упущенной, на радость нашим врагам.
С.-Петербург. 13 января 1900 г.
Закончив чтение, Викентий Алексеевич Думанский, никогда не ставивший под сомнение государственных основ своей великой Родины, даже не допускавший мысли, как можно желать ей зла под видом добра, и с кровью славных предков, с молоком матери впитавший беззаветную Русскую преданность Богу, Царю и Отечеству, наверное, впервые по-настоящему глубоко, до физической боли ощутил, какая страшная беда нависает и нависала все эти столетия над его многострадальной Россией и какая грандиозная ответственность легла на его плечи в тот момент, когда он волею судеб стал обладателем этого тайного архива бого- и человеконенавистников. Перекрестившись так, будто с каждым касанием в него впивались терзавшие Спасителя гвозди, дворянин Думанский туго перевязал все папки одним кожаным ремнем и, погрузив их обратно в масонский баул, крепко прихлопнул крышкой…
Думанский размышлял, как ему поступить с масонскими списками. Бумаги были такой разрушительной силы, перед которой все на свете бомбы выглядели безобидными новогодними хлопушками.
Сначала он решил послать все содержимое обер-прокурорского сундучка по почте Шведову, но тут же отказался от этой мысли. Ведь на некоторое время бесценный предмет окажется в руках служащих почтового ведомства и одному Богу ведомо, сколько там масонов, обитающих в телах скромных неприметных тружеников.
Следующей его мыслью было разделить драгоценные бумаги на две части, отправив одну часть Шведову, а другую — ротмистру Семенову, курирующему дело. Но, проведя некоторое время в напряженном размышлении, Викентий Алексеевич в результате поступил следующим образом.
Московский список он старательно завернул в кусок брезентовой ткани и упрятал в холщовый дровяной мешок (чего только не хранилось «для оказии» в кладовой Никаноровны), который поместил в северо-западном углу чердака возле лаза на крышу.
Со страницами, где значились списки петербургских инкарнированных, он поступил куда более изощренно. Изобретательный правовед спустился вниз к подъезду, где по обе стороны стояли пожарные бочки с водой. В правой уже хранилась шкатулка с драгоценностями. Руководствуясь то ли осторожностью, то ли врожденным чувством симметрии (а может быть, тем и другим одновременно), Думанский камнем разбил лед на той бочке, которая располагалась слева. Затем свернул страницы в плотную трубку наподобие древнего свитка, туго перетянул бархатной женской подвязкой, поместив в черный шелковый чулок вместо футляра, и не без труда, через узкое горлышко, протолкнул в приготовленную заранее четвертную бутыль. «Никаноровна раздобудет еще не одну для своего любимого спирта».
Вначале он предполагал герметически запечатать эту бутыль сургучом и утопить в пожарной бочке во дворе, но потом вспомнил, что, полная воздуха, она будет упорно всплывать на поверхность. Порывшись среди «продовольственных запасов» Никаноровны, он нашел увесистый мешок с солью. «То, что требуется!» Аккуратно досыпав солью бутылку, Думанский, за неимением сургуча, запечатал стеклянное вместилище бесценных сведений при помощи обыкновенной хозяйственной свечи, так что предварительно заткнутое пробкой горлышко стало напоминать шляпку крупного шампиньона, и осторожно погрузил его в воду, на самое дно пожарной бочки.
Тем же вечером Думанский написал Шведову обстоятельное письмо. Как можно более просто и понятно он изложил, что является подлинным адвокатом Думанским, а тот, кто обладает его внешностью, — не более чем преступный самозванец. Адвокат сообщил также о местонахождении московского списка, умолчав, впрочем, о второй, самой важной части масонских бумаг, спрятанной в пожарной бочке. В качестве доказательства «своей подлинности» он просил коллегу лишь об одном — явиться к нему в контору, найти какую-либо из бумаг, бесспорно написанную адвокатом Думанским, и сравнить почерк с тем, которым написано данное письмо. Лучше, если это будет какой-нибудь из документов по делу Сатина, к которому они оба имели непосредственное отношение и в буквальном смысле приложили руку.
«Если письмо дойдет до адресата и последуют какие-либо действия, — размышлял сам с собой Думанский, — я свяжусь со Шведовым и расскажу о втором списке. Если же нет… тогда на все воля Твоя, Господи!»
XVI
Прошло три долгих дня. Думанский все это время «отлеживался» на «малине», не рискуя выглянуть даже во двор. Сон не приходил к нему: то перед глазами немым упреком возникал растерзанный Петруша, то казалось, что все вокруг бессмысленно и ему никогда уже не найти того, кто присвоил его тело и имя, не вынуть и не отослать на Суд Божий мерзкую душу этого проклятого «магистра», то его вдруг охватывал страх — а вдруг Яхонт передумает и прирежет его здесь, и тогда уже точно конец всей этой земной муке — неразберихе… «Экспроприатор» Яхонт грубо разбудил «Кесарева» на рассвете четвертого дня:
— Эй! Хозяин «ценных» бумаг, вставай — работа ждет! Долг платежом красен! Ты еще про кассу Нобеля не забыл?
— Как-кую… — продирая спросонья глаза, прошептал «должник».
— А такую, что намечено было брать! Короткая ж у тебя память — как у девки… Так вот: все остается в силе. Товарищам на киче без червонцев не уютно — ты ж обещал большой банк и облажался! В общем, готовься на дело, шниферок. Всё — ша! Ты еще полвека за моих бойцов будешь отрабатывать!
Думанский на всякий случай попробовал возразить, хотя и понимал, что это вряд ли «прокатит»:
— Как?! И ты это всерьез? Какой еще завод Нобеля?! Я думал, ты от этой идеи отказался… По всему городу нас ищут! Сейчас надо на дно лечь. Хорошенькое дело: из ссудной кассы прямиком в зал суда!
— А когда карету брать надумал, ты не беспокоился, что нас уже обыскались?! Никшни! Хочешь залечь, ну тогда поговоришь с моим «дружком», он тебе все объяснит, ежели что. — И Яхонт похлопал себя по длинному ножу, спрятанному за пазухой под распахнутым тулупом. — А может, тебя правда фараонам сдать? За тебя такой гонорар сладкий предлагают, что можно до конца жизни в Ницце шиковать.
— Ты бы, Яхонт, лучше подумал. Я-то все сделаю, как скажешь… А если, как ты говоришь, «крыса» нас застучит?
— А кроме тебя и меня никто не знает, куда мы идем, на какое дело. Вот так, друг ситный! Даже Христос, и тот ведь чему учил: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Слыхал, разумеется? Смекай тогда, кто твои ближние: понятное дело, товарищи, соратники, те, что «во узах», по-вашему, блатному значит, на киче чалятся, за общее дело, ждут, пока им тузы присяжные срока или галстуки пеньковые навесят. Вот оно как, друг ситный, получается!
Тут отчаянный Яхонт сгоряча извлек из недр все того же нагольного тулупа револьвер и приставил к голове Думанского. Холодный ствол обжег висок, рука идейного «борца за справедливость» впилась в горло оказавшегося самым «ближним».
— Как ты думаешь, смогу ли я тебя, такого бесценного, взять да враз и обесценить?
— Ты это брось, паря… Хор-рош верховодить — не до куражу, не до ш-шуток… Где ты щас шнифера найдешь? — довольно уверенно прохрипел-прошипел «Кесарев», боясь, однако, шевельнуться.
В ответ «народный палач», продолжая куражиться, взвел курок и еще сильнее сдавил кадык Викентия Алексеевича:
— Так смогу казнить или нет?
Адвокат чудом вывернулся из цепких объятий и, глотнув воздуха, отрицательно покачал головой.
— Не сможешь — нет тебе резону меня жизни даром лишать, — добавил «с душой». — Да и не такой ты волк, больше изображаешь.
— Правильно — не волк, — Яхонт немного оттаял. — И не стану, потому что я твой друг и себе не враг. А другие — они смогут! Запросто. Обезумели люди, брат. Икру мечут, все хотят чего-то… Я за народ мщу, а эти… сволочь, сами не знают, чего им надо.
— Ты думаешь, мне товарищей не жалко? — голос «Кесарева» патетически звенел, хотя душа Думанского не испытывала абсолютно никакой лжехристианской жалости к «товарищам во узах».
— Товарищей жалко… Да что теперь поделаешь! Придется на дело собрать ваших — человек пять-шесть. Завтра же прямо с утреца и пойдем! Народу маловато, верно… — «Вождь» подошел к дверям спальни, где большую часть времени отсиживалась бабка: — Эй, Никаноровна! Слышишь? Я те говорил, что ты пригодишься! Хочешь деньжат заработать? Денег порядочно будет: думаю, каждому по полтыщи выйдет!
— Э, Коля, яхонтовый мой, — другой разговор! — высунулась та. — Куда? Да я хоть сейчас под полными парусами.
Яхонт помялся, будто боялся сглазить:
— Кассу завтра берем на Выборгской стороне.
Никаноровна помчалась на кухню за спиртом.
— Э-эх! Помянем-ка… — вернулась она с полным графином, прижав к груди стаканы, — …всех погибших в морской пучине!
Яхонт и Никаноровна молча выпили по полному стакану, Думанский сморщившись, пригубил.
— А теперь за успех дела! — раздухарился «вождь». — А у тебя чего полный? Что это ты не пьешь, Кесарев, а? Обижаешь!
— Ему нельзя много: он, как фараоны его избили, на это дело слаб. — Никаноровна схватила стакан Думанского и отлила половину себе. — Ну, давайте за успех — святое дело! — только так, чтобы утречком встать как огурчики. А то ить я завтра адмиральский смотр учиню.
— Довольно бред слушать, — опомнился Думанский. — Куда ты ее собираешься тащить — пожилую женщину, больную?
— Это я пожилая?! — оскорбилась Никаноровна. — Сам ты инвалид, чума забубонная! Да какая я тебе пожилая? Я ведь разведчица — резидентша!
— Разведчица?! Я так сразу и догадался! — рассмеялся адвокат. — Турецкая, наверное?
— Да какие, к аллаху, турки? С туркой я и рядом не сяду! Японская я разведчица.
Вообще-то, я просила, чтоб меня в Африку направили, к бурам, но для этого надо быть негрой или хоть бы мулаткой. Э-эх! Трансваль, Трансваль, страна ма-а-я…[113]
— Поздно шарманку крутить: Трансвааль, видишь, и так сгорел — без твоей пороховой натуры!
— А зачем ты вообще стала разведчицей, Никаноровна?
— Ну как «зачем»? Вот ты — бандит, можно сказать, а я — разведчица. Каждому своя слава! Правда, на этом много не заработаешь. Наоборот, одни убытки. Я вот попала в школу гардемаринов, так в этом, в Порт-Артуре проклятущем, свои же матросики меня и снасиловали. За те муки-то я этот порт-форт китаезный потом с чистым сердцем сдала. А ты думал? Такие страстотерпицы, как я, сразу в святую еврархию зачисляются. И, значит, ежели я немного погрешу, то ничего страшного.
— Слышишь, что несет? И шпионка-то она, и Порт-Артур сдала. Ну это же невозможно — брать такую «сказительницу» с собой! Кто знает, что она там «нашпионит»? — предостерег «Кесарев» Яхонта.
— Да эта малохольная в деле не хуже тебя! Любого мужика уложит…
Пьяная Никаноровна меж тем продолжала вдохновенно бредить:
— Наша, расейская то есть, пехота раз поспорила с японской, кто за время на зимних квартирах быстрее похудеет на полтора пуда. Канониры, артиллеристы по-морскому, назначались секундантами и должны были набрать по полтора пуда… А чего, водки больше нет? Ну-ка салаги, живо наливайте, а то на камбуз — макароны продувать! — скомандовала она.
— Мне хватит. — Яхонт, отмахнувшись, встал из-за стола. — Пойду-ка я готовиться… Никаноровна, и тебе тоже довольно! Нужно еще челбогашевских собирать — кто остался.
Стоило Яхонту уйти «трубить общий сбор», Думанский заторопился, придумывая наиболее быстрый и наименее безопасный способ передать в полицию сведения о готовящемся нападении. С профессиональным педантизмом и лаконичностью он «нарисовал» послание чрезвычайной важности для соответствующей государственной службы. К своей депеше, в которой лапидарно изложил все, что узнал о Сатине и его жутком «рабочем конвейере», Викентий Алексеевич присовокупил французский трактат «Знаки и символы», видавший виды и изрядно прореженный. Он не забыл добавить к посланию постскриптум о назначенном на завтра ограблении ссудно-сберегательной кассы, указав для вящей действенности донесения, что в числе налетчиков ожидается Кесарев «собственной персоной». Все вместе спешным, но аккуратнейшим образом он завернул в прочную бумагу из-под какой-то бакалеи, туго перетянул бечевкой и на получившемся небольшом пакете, как мог, вывел адрес: «Его высокоблагородию Алексею Карловичу Шведову. Лично в руки!»
«Через местный участок не передать. И соваться нечего: не то что не поверят, арестуют без разговоров как Кесарева — приметы налицо! Еще и оприходуют по всем негласным правилам — им бы только усердие проявить, а там, пока суд да дело, бандиты всерьез заподозрят неладное и действительно расползутся — в Петербурге тогда их искать будет бесполезно, а Россия велика… Яхонт и так на меня волком смотрит, пронизывает рентгеновскими лучами. Этот социалист особо опасен! И на свободе… Как быть? Ну не сидеть же мне здесь сложа руки и ждать, когда станет уже совсем поздно».
Бедняга правовед думал и о том, как ему, «Кесареву» поневоле — Думанскому под «личиной», избежать участия в ограблении нобелевской кассы, но этому мешало подступившее чувство голода, который, как известно, не тетка, и тем более не бабка-балаболка, готовая поделиться последним куском.
После всех этих оценочных рассуждений по поводу сложившегося status quo,[114] закутавшись шарфом чуть не до носа, натянув поглубже — до самых глаз — чей-то старый чухонский треух, подняв воротник пальто как можно выше и положившись на Божью помощь, «конспиратор» вознамерился все-же во что бы то ни стало добраться неузнанным до… ближайшей лавки.
В мелочной лавке Думанский купил два фунта хлеба, по фунту колбасы и сыра да, уважив просьбу Никаноровны, бутылку «белоголовки» в соседней казенке, главное же — адвокату удалось всучить заветный пакет «ответственному» лицу — сидельцу и взять с него слово под страхом уголовной ответственности как можно скорее доставить пакет в Департамент сыскной полиции.
Водка пришлась даже очень кстати: старушенция еще не спала, что-то перекладывала в своем мешке, а когда увидела вожделенную «воду жизни», еще больше взбодрилась, предвкушая «сугрев» души и плоти.
— Никаноровна, ну зачем тебе ехать с нами на дело? С утра-то пораньше, затемно? — полюбопытствовал Викентий Алексеевич.
— А как же! Я же тоже при делах и жажду взглянуть, как блещет в деле гений твой чудесный. Думаешь, темноты боюсь? Да у меня окуляры, как у совы, Карл Цейсс позавидует! Я еще в этой тьме до утра людей Митрия наскребу — кто живой…
— Да тут… Понимаешь, какой конфуз, я ведь сейф открыть не смогу. После того как меня приласкали полицейские, стал забывать свое мастерство.
Притоносодержательницу это признание не смутило нисколько, а вкупе с горячительным лишь придало жару ее «суфражуткому» бреду:
— Не менжуйся, я твоя до гроба, да будем счастливы мы оба. Мой воинственный нрав возьмет на дело много динамита, молока и рогаликов. В наше время надо быть предусмотрительным во всем. Что? Сегодня опять не смогу очей сомкнуть: изнывая страстью, обречена бредить твоей красотой, Кесарев.
Неожиданно перед носом «шнифера» дверь захлопнулась. Привычный к выходкам старой Никаноровны, Думанский собрался отдохнуть, но перед тем, как прилечь на драный диван, он заинтересовался валявшимися на полу газетами, куда в лавке завернули провизию.
Первым Викентий Алексеевич поднял и расправил на столе выпуск «Петербургского листка» трехдневной давности. В глаза бросился огромный, жирный заголовок передовицы:
БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА СТОЛИЧНОЙ ЖАНДАРМЕРИИ И ПОЛИЦИИ. Сегодня совместными усилиями петербургской сыскной полиции и жандармерии обезврежена особо опасная банда государственных преступников. Грабители совершили дерзкое, сопровождавшееся убийствами и иными отягчающими обстоятельствами нападение на кассовых служащих, доставлявших в Императорский университет крупную денежную сумму для выплаты жалования профессорам, пенсионных рент и иных пособий членам семей преподавателей. Почтенные слуги храма науки едва не лишились не только хлеба насущного, но даже и своих премиальных выплат. Преступники были вооружены и оказали активное сопротивление, из-за чего при их задержании полицией были применены самые крайние меры. Как среди убитых, так и среди задержанных уголовных элементов оказались члены известной банды, святотатственно присвоившей себе громкое название «Святой Георгий». Уголовное дело по розыску пресловутой преступной организации состояло на особом контроле в Министерстве внутренних дел и Департаменте тайной полиции. Руководители операции, в результате которой в столице были предотвращены непредсказуемые действия, планируемые уверовавшими в свою безнаказанность криминальными элементами, высшие должностные лица жандармерии, сыскной полиции и отличившиеся низшие чины представлены к наградам.
«Ох уж эта извечная привычка трубить в фанфары на всю Империю, стремление повергнуть к высочайшим стопам реляции об успехе проведенной операции, тогда как на самом деле она не доведена и до половины! Уже и цацки… (Господи, я перерождаюсь в профессионального вора!)… награды раздали, а ведь по сути дела, ликвидация банды сорвалась! Да что там — я сам был вынужден подыграть этим… „Блестящая“ работа?! И ведь еще ничего не было известно о нападении на карету!!! Кесарев-Челбогашев на воле, неугомонный Яхонт наверняка сейчас уже спланировал новый налет, а это чудовище — Панченко-Сатин — вероятно, уже делает ставки где-нибудь в Монте-Карло! Только бы мое письмо теперь же беспрепятственно достигло адресата… Ангел-хранитель Божий, помоги моему заблудшему курьеру, дай ему крылья свои и неотступную свою защиту!»
Еще одна газета оказалась листком из вчерашнего, можно сказать, почти свежего номера «Ведомостей». Как нарочно, именно на этой странице была статья — сообщение о дерзком налете на карету петербургского обер-прокурора. Репортер излагал официальные версии нападения:
Следственные органы выдвигают в качестве основной версии спланированное одной из радикальных группировок социал-демократического толка и, к сожалению, удавшееся убийство обер-прокурора. Печально известно, что подобные террористические акты то и дело нарушают общественное спокойствие и подрывают сами основы государственности. Покушаясь на высших чиновников Империи и верных слуг Государя, некоторые так называемые революционные партии смеют не только заочно судить этих достойнейших, часто известных всей России лиц, выносят смертные приговоры, но порой — увы! — приводят их в исполнение и даже цинично называют эти кровавые преступления «казнями»! Посему можно быть почти уверенным, что покойный стал жертвой подобных политических убийц, выступающих от имени народа, и в ближайшее время следует ждать, что какая-либо из таких вот партий сама возложит на себя ответственность за это ужасающее злодеяние, повлекшее также гибель и всей охраны прокурорской кареты. Впрочем, следствие рассматривает и еще две «запасные» версии преступления, возникшие из-за того, что одинаковых новейших бронированных карет-сейфов до произведенного на Семеновском мосту взрыва в Петербурге имелось всего три. Одна из них фактически уничтожена чудовищным взрывом. Другая принадлежит известному в обеих столицах успешному адвокату В. А. Думанскому, с покушением на личность коего связана вторая предварительная версия следствия. Господин Думанский, вне всякого сомнения, заслуживает восхищения как представитель Закона, отстоявший честь не одного достойного подзащитного и оказавший неоценимую помощь в изобличении истинных виновников громких преступлений, но сфера его деятельности — уголовное право, подоплека же данного дела по масштабу преступной операции и демонстративно террористическому характеру явно политическая. Вряд ли адвокат уголовной практики мог быть объектом «мщения» социалистов-революционеров, да к тому же обычная серьезность намерений и педантичность действий этой братии практически исключает возможность перепутать жертву. Последний предполагаемый вариант объекта нападения и вовсе представляется нам нелепым. Третья карета — собственность крупнейшего мецената и сибарита князя Мансурова графа Сорокова-Лестмана. Вот уж кто одинаково далек как от политических кругов, так и от уголовного мира! Этот милейший, преданный чистому искусству и опекающий представителей творческого цеха светский человек, хоть новый дом его и находится возле самого Семеновского моста, по мнению общественности, несомненно должен оставаться в стороне от происшедшего, ибо — «жена Цезаря вне подозрения».
Между прочим, интересно отметить, что все три сверхсовременные бронированные конструкции были недавно практически одновременно заказаны знаменитому французскому инженеру-изобретателю господину Эйфелю. В Европе и Северо-Американских Штатах имеется всего несколько экземпляров подобных «броневиков», предназначенных для перевозки особо ценных персон или грузов, причем фирма Эйфеля предоставляет на них «вечную» гарантию и бессрочную страховку. Бедный обер-прокурор нашей столицы уже пал жертвой доверчивости «последнему слову техники»: его «вечная» карета не выдержала испытания взрывным устройством. Читатель вполне вправе спросить: кто же следующий на очереди, собирается ли господин Эйфель оплачивать страховку и не грозит ли фиаско его нового изобретения международным скандалом?
«Ну вот! — Думанский не знал, плакать ему или смеяться. — Какой-то бред во вкусе бульварной публики — опять намеки на деньги, на международный скандал! Хорошо, конечно, что никому и в голову не пришло, что это очередной привет от „Святого Георгия“, и я лично еще на свободе, но неужели у всей петербургской полиции и жандармского корпуса не хватило ни ума, ни воли, ни смелости всерьез заняться Думанским и Мансуровым? Решительно не понимаю — мало того что они не видят дальше своего носа, так выходит еще, что ни одно мое письмо не дошло!»
Тут приоткрылась дверь и из соседней комнаты показалось сморщенное, как сушеное яблоко, личико притоносодержательницы. Увидев «Кесарева» читающим газеты, старушенция выдала неожиданный комментарий:
— Никогда не могу пройти мимо безобразия — так и хочется поучаствовать в ужасном! Вот тебе и трепаная бумажка-рогожка! Видишь, Андрюша, теперь, наверно, все газеты пишут о твоем «подвиге» с прокурором. Заработал ты себе каторгу до Второго Пришествия! Не можешь угомониться — славы хочется?
Теперь уже Викентий Алексеевич рассерженно хлопнул дверью перед носом Никаноровны: «Еще и вправду каторгу напророчит, сивилла дельфийская! Накроют здесь, и кто будет выслушивать мои откровения о реинкарнациях-метемпсихозах. Попал как кур в ощип!»
С этими невеселыми мыслями адвокат устало прикрыл глаза и откинулся на диванную спинку. Изнемогшая «кесаревская» рука выронила изрядно помятый газетный листок и тот упорхнул назад — под стол, как и душа Думанского, подхваченная волной волшебно-торжественного, упоительного сна…
Викентий Алексеевич шел по старому монастырскому кладбищу. Беломраморные изваяния на могилах сиятельных особ, каменные саркофаги и колонны, чугунные кресты и слева, поодаль, в окружении вековых кленов, древний собор Донского образа. Вот впереди между деревьями склеп-часовня. Викентий осторожно заглянул внутрь. Все пространство внутри было заполнено высохшими букетами роз — целое поле усопших роз, роскошный гербарий. Лампада перед иконой, кажется Иверской, горела так ярко, что в часовне было светло, как в соборном храме.
«Неугасимая лампада!» — невольно подумалось вошедшему. Он осторожно раздвинул цветы — розы зашуршали — и пробрался к надгробию.
Это было новое, дорогое надгробие: на траурной урне черного мрамора белел рельефный профиль прекрасной женщины, изваянный на античный манер. Волосы красавицы были собраны на затылке, отдельные вьющиеся локоны спускались от висков к щекам, линия лба гармонично перетекала в очертания носа. У покойной были тонкие чувственные губы и чуть припухлые веки. Прямо на каменном полу, у подножия урны, лежала книга в дорогом сафьяновом переплете, с сияющими украшениями и застежкой из желтого металла, какие бывают у старинных фолиантов.
Думанский с трепетом раскрыл заветный том и стал читать. Он нетерпеливо перелистывал страницу за страницей, целиком уйдя в чтение: душа его была подхвачена вихрем предчувствий и предсказаний, горестных и сладостных, великие тайны мирового устройства и человеческой природы открывались ему. В старинном склепе при чистом сиянии лампады он постигал историю взлетов и падений сынов Адамовых.
Что за книга лежала у подножия урны, оставалось неведомым Думанскому, он лишь чувствовал, как смысл ее растворяется у него в крови, оставляя сознание причастности Великому Замыслу Мироздания.
Наконец Викентий дошел до последних страниц: они оставались нетронутыми, девственно-чистыми. Думанский прежде ощутил, чем увидел, гусиное перо в правой руке. Радостное предчувствие охватило его, и рука сама потянулась к бумаге: перед внутренним взором Думанского торжественной чередой проходили светлые видения — он едва успевал их описывать…
…Могучий, непрекращающийся перезвон колоколов плыл над Петербургом, со всех концов столицы, ото всех приходов к Марсову полю нескончаемым самоцветным потоком стекались крестные ходы. Впереди несли шитые золотом хоругви, почитаемые образа. Викентий Алексеевич узнал богато украшенный образ Спаса Нерукотворного из домика Петра Великого на Петербургской стороне, куда он сам не раз приходил с надеждой и сокровенными просьбами. Затем несли драгоценную чудотворную Казанскую икону, серебряную раку с мощами Благоверного Князя Александра Невского, огромный образ Всех Святых древнего письма… За сонмом архиереев в золоченых ризах следовала процессия мальчиков в белоснежных стихарях с православными крестами из серебристого позумента на спине, с зажженными свечами в руках. «Белая сотня!» — шепотом пронеслось по людскому морю. Далее бесконечными потоками двигался столичный люд: все сословия смешались здесь, благоухающий сиятельный князь стоял плечом к плечу с подвыпившим простолюдином, вицмундиры соседствовали с простыми сатиновыми косоворотками, многие несли иконы на вышитых полотенцах, у празднично одетых женщин на руках были младенцы, юные гимназисты выделялись полувоенной формой, сияющей медью пуговиц и дубовыми веточками кокард на картузах. Народное море ликовало — хором пели «Спаси Господи люди Твоя…». То тут, то там мощной волной нарастало «Боже, Царя храни…», дородные диаконы возглашали многолетие «Самодержавнейшему Государю Императору и Святейшему Правительствующему Синоду».
На Марсовом поле были устроены длинные столы с угощением для всего честного люда: дымящиеся самовары с чаем, со сбитнем, увешанные связками баранок, окруженные аппетитными румяными кренделями, белесыми, в мучке, калачами и ароматными сластями; для любителей хмельного зелья особо — казенное вино и такое разнообразие закусок, от соленых рыжиков до кусковой, на антрацит похожей, паюсной икры, что глаза разбегались. То тут, то там кто-нибудь вкусно крякал, усмехаясь, утирая степенные купеческие усы и бороду, похрустывая знатным коркуновским огурчиком: «Э-эх, хор-рошо»! Вдоль столов чинно ходили городовые в белоснежной парадной форме — кому же, как не им, следить за порядком, чтобы все было честь по чести!
Вот перед Думанским возникла другая торжественная картина: на Дворцовой, возле Александрийского столпа, окруженного караулом почтенных ветеранов, сам Его Императорское Величество Государь Николай Александрович готовился к встрече со своим верноподданным народом, с доблестной своей лейб-гвардией. На помосте для августейших особ, украшенном гербами в хвойных венках и муаровых романовских лентах, восседала красавица Императрица с младенцем Цесаревичем на руках, в окружении Великих Княжон. Напротив застыл парадный строй преображенцев и казачьего императорского конвоя, готовый в едином порыве выдохнуть громовое «ура», взяв «на караул». Напряглись и «золоченые» капельмейстеры — грудь колесом! Дворцовая вот-вот загремит ликующей духовой медью государственный народный гимн. Небо над Петербургом, над Кронштадтом было совершенно ясное, ни единого облачка — такого неба в январе Викентий Алексеевич не видел еще никогда в своей жизни! Солнце ИМПЕРИИ стояло в зените. Казалось — так повсюду и навсегда: от Лодзи до Курил, от Мурмана до Кушки, от столицы до самой малой веси — такое величие и «благорастворение воздухов»…
«Чудо Господне! — подумалось с замиранием сердца. — Великий праздник придет на Русскую землю — Соборное торжество!»
Кто-то грубо толкнул грезящего в бок. Очарованный адвокат обреченно открыл глаза. Над ним неумолимым «командором» стоял Яхонт:
— Не готов? Хватит дрыхнуть! На том свете выспишься. Того и гляди, светать начнет… Собирайся живо, будешь вскрывать несгораемый шкаф. Орудия производства не забудь.
Внизу в полумраке ждал извозчик с уставившимся в одну точку перед собой безмолвным Туркменом.
Таким образом, в крытый возок сели втроем, не считая кучера.
Для адвоката как гром прогремел среди ясного неба, когда подъехали почему-то к ломбарду, который находился в двух кварталах от Нобелевского городка и намеченного объекта нападения — ссудной кассы, где бандитов, по всем расчетам, уже должны были поджидать предупрежденные полицейские. Вместо жандармов возле ломбарда троицу главарей уже ждала Никаноровна и несколько незнакомых боевиков, которые поприветствовали «Кесарева». Он сообразил, что это остатки банды Челбогашева. Присмотревшись, «шнифер» с удивлением заметил среди них молодых женщин.
— Я решил все переиграть, — пояснил Яхонт Кесареву. — Будем брать ломбард. За этим евреем-барыгой солидный должок. Тем более возле кассы Нобеля полно фараонов. Кто-то определенно скурвился — опять стуканул. Пораньше бы выследить крысу и удавить! Сейчас не скакали бы мы с места на место… Вот сыскные таксы среди своих давно унюхали бы.
Как только вблизи ломбарда появился Яхонт, будто по какому-то тайному знаку тут же с разных концов улицы, из подворотен, подъездов к дверям означенного залогового учреждения стеклось еще с дюжину деловых людей.
Яхонт кивком головы подал условный знак к началу действий. Четверо его «товарищей» тут же встали «на шухер», остальные зашли в помещение. Яхонт толкнул «Кесарева», идущего впереди, под локоть:
— Где маска?! Почему все еще без маски?
«Если бы этот моральный пигмей знал, что я всегда в маске, как тот несчастный французский дофин — узник собственного братца!» — горько усмехнулся правовед, не раскрыв и рта.
Все происходило очень быстро; бандиты действовали слаженно, организованно, четко зная свое дело: входя, моментально надели черные маски и достали внушительных калибров «стволы». Яхонт коротко скомандовал:
— Все на пол! Лежать тихо. Не будет ора — никого не тронем.
Бедняги, в основном клиенты, заохали, но стали ложиться. Часть налетчиков держала их под прицелом; кто-то принялся быстро шарить по шкафам и полкам, доставал заложенное серебро и золото. Яхонт пошел к кассе, «барышни» со знанием дела обходили лежащих и доставали из сумок и карманов деньги, завернутые в платочки, худенькие кошельки и солидные пухлые портмоне.
— Чего встал как пень? Займись сейфом, — вполголоса приказал Яхонт «Кесареву».
Когда «экспроприаторши» подошли к какому-то бледному человечку в запотевших круглых очках, в форме трамвайного кондуктора, тот начал орать, срываясь на кашель:
— Ничего я вам не отдам! Кругом мерзавцы! Я пальто покупал за двадцать пять целковых-кх-кх… а получил всего четырнадцать с полтиной и жалкую копейку в придачу — издеваются как хотят над трудовым челове… кх-кх-м! Почти новое пальто! Ни Бо-кх, ни царь вам всем не указ, а мы, видать, сами себе защита-кх! — сказав это, он вскочил, рванул за ножки скамью.
Один из боевиков выстрелил в упор. Чахоточный затих, и миловидная грабительница без тени замешательства достала у мертвого деньги.
Занятые несчастным протестантом «георгиевские кавалеры» не заметили, как сам управляющий ломбардом проломил-таки своим грузным телом окошко дальней кладовой, и выскочил во двор:
— Вей! Ггабят! Полиция!
Один из стоявших «на стреме» уложил его наповал.
Однако и крики, и выстрел услышали — выше первого этажа дом был жилой. Кто-то в ужасе выглядывал в форточки, зажигал свет. Бдительный «ахмет» выбежал из своей дворницкой через подворотню на улицу:
— Ой, полиция! Человек убивают! Грабят тута! На помочь, бачка!
Он добросовестно, что было сил, свистел в свисток. Теперь уже сам Яхонт угомонил его метким выстрелом через стекло. Началась непредвиденная суматоха и в ломбарде…
XVII
«Кесарев» в сопровождении Никаноровны и еще несколько «чеболгашевских» вошли в комнату, находящуюся за основным помещением ломбарда. Никаноровна прямиком направилась к шкафоподобному, в каких-то чугунных завитках на «львиных» лапах, почти как избушка на курьих ножках, занимавшему здесь главенствующее положение сейфу. Не удостоив своим вниманием рычажки и колесики с выгравированными на них цифрами и латинскими буквами, не произнося никаких заклинаний Бабы-яги, вполне современная бабка просто достала ком столярной замазки и прилепила ко дну взрывчатку.
Отойдя на шаг, она остановилась перед венецианским зеркалом, занимавшим все пространство от пола до потолка. Повертевшись перед ним, принимая разные позы вроде тех, в которых изображают на парадных портретах государственных мужей, она с самым серьезным видом заявила:
— Во мне такой неустрашимый вид и в теле чудится красота и сила! Водчонки тут просто хряпнула, чтоб поддержать торжественность момента, и надо ж — на глазах мужаю!
Не слушая откровений престарелой амазонки, бандиты направились к стоявшему здесь же широченному бездонному несгораемому шкафу с закладами. Створки его были полуоткрыты, а ключ все еще торчал в замочной скважине. Должно быть, хозяин не успел его закрыть или надеялся вернуться сюда через минуту. Содержимое шкафа вызвало у них самый живейший интерес: еще бы, столько ценного барахла!
— Гляди-ка, салоп лисий! — воскликнул один из бандитов, вытаскивая нечто необъятное, насквозь пропахшее шариками от моли. — А вон горжетка, или ч…т знает что.
— Ох, мать честная, на соболях шуба! — поддержал его другой.
— Эй, Никаноровна! Глянь-ка, что за шмотка такая, накидка-обдергушка? — все еще не мог разобраться первый.
«Дама» укоризненно покачала головой.
— Эх ты, скобарь скобарем! Небось в твоей деревне манто из чернобурки и в глаза не видывали. Вот, помню, у меня роскошная ротонда была из выхухоли…
Редкозубый громила скорчился в приступе жеребячьего смеха:
— Хо! Ох-хо-хо! Вы слыхали, братва, а? Как там? Ху… вы… Сама-то тых-х-хухоль старая… Ох-хо!
Никаноровна прижгла ему язык ведьминым взглядом.
Вскоре на полу образовалась изрядная куча самых разнообразных предметов одежды. Рядом с шелковыми платьями пылились адмиральский мундир времен балканской войны с бронзовой медалью, украшенной самоотверженным девизом «Не нам, не нам, а Имени Твоему», и старомодная соломенная шляпка, украшенная искусственными цветами и райскими птичками. Кто-то напялил по самые уши цилиндр-шапокляк, поверх одежды — невообразимого лягушачьего цвета шелковый фрак и любовался на себя в зеркале, не в силах оторваться от столь чудесного зрелища.
К этому времени в помещение для «закладов» заглянули Яхонт с Туркменом, но остановились на пороге. Произошедшее вслед за этим повергло Думанского в ужас. Туркмен с неожиданным коварством, ничуть не смущаясь, принялся стрелять не сходя с места — прямо по скоплению «своих».
«Там же почти никого, кроме налетчиков, а заложники вообще ведут себя как кроткие агнцы — головы не поднимут! — Викентий Алексеевич просто глазам своим не верил. — Не может же быть такого цинизма, чтобы боевики Яхонта стреляли по „челбогашевским“».
Последние бандиты «Кесарева-Челбогашева», опомнившись от неожиданного удара в спину, принялись отстреливаться, но их «диспозиция» была заведомо проигрышная, проще говоря, они были как на ладони у боевиков Яхонта и Туркмена.
Пользуясь этим и внезапностью нападения, «идейные вожди» хладнокровно перестреляли «честных» деловых людей, так и не успевших до конца вытряхнуть содержимое шкафа. Последним выстрелом Яхонт буквально разворотил голову налетчику в цилиндре, созерцавшему свое отражение в зеркале.
Оставаясь стоять на пороге, главный организатор «скачка» на ломбард с револьверами в обеих руках держал под прицелом «Кесарева» и Никаноровну одновременно.
— Против тебя я лично ничего не имею. Ты, Кесарев, интересен мне только как «товарный залог», — Яхонт заговорил в абсолютно спокойном тоне, будто бы речь шла о какой-то обыденной, давно просчитанной коммерческой сделке. — Из университета нас отпустили с одним небольшим условьицем: сдадим, мол, тебя во время дела. Нам за тебя еще выкуп заплатят — пятьдесят тысяч ассигнациями. Осуждаешь? Зря, друг ситный. Пути-дороги у нас разные, сам понимаешь: наше дело политика, борьба за великую идею мировой справедливости, не то что ваши — кураж и фарт бандитский. Я ради идеи готов пожертвовать любым блатным. Пусть и «в законе», любым знатным шнифером вроде тебя. Даже такой вот виртуоз отмычки, гений криминала, — ничто перед торжеством свободы, равенства и братства всех людей, ради которого я и свою жизнь отдам, не то что… чью-то еще. Против этого великого дела всё — пыль под колесами авто, прах, чтобы тебе было понятнее. Знаю, что хочешь мне возразить, в чем упрекнешь: да, верно, я использую таких, как ты, и наши вожди даже учат, что вы, уголовные, социально близкий трудящимся элемент, но я все равно презираю вас, мелких воров, и блатных тузов тоже, и всякую золотую роту всеми силами души… В революции от вас пользы, как от навоза!
Тут наконец-то, уж непонятно, на радость ли проданному и преданному «Кесареву»-Думанскому, тишину скромного квартала между Сампсониевским мостом и Сампсониевским проспектом одновременно нарушили десятки пронзительных трелей полицейских свистков, поддержанных дворницкими — не менее настойчивыми и тревожными. Вокруг моментально поднялась всеобщая паника. А во двор уже ворвались самые быстрые и усердные из полицейских чинов.
Думанский, изо всех сил выжимая усталый мозг, пытался сообразить, какими увещеваниями можно убедить мерзавца отказаться от его гнусного намерения или же хотя бы повременить со сделкой-сдачей. «В конце концов, быть арестованным и даже невинно сосланным на каторгу все же лучше, чем погибнуть на эшафоте. Может быть, затеять с этим борцом за „справедливость“ политическую дискуссию? Бесполезно — его идейность цинично просчитана, а значит — все мои доводы будут пустыми…»
— Ах ты, брандахлыст, крыса сухопутная, — вдруг важно заявила «товарищу» Яхонту неотразимо-непредсказуемая Никаноровна, выходя на середину комнаты. — Сейчас ты погибнешь от моей неописуемой красоты.
Безо всякого стеснения она выставила вперед жилистую, в сеточках лопнувших вен ногу и принялась медленно поднимать край юбки.
— Ты чего это? — с брезгливым смущением пробормотал Яхонт. — Вы это… Вот несознательная женщина. Я про идеи, а она тут бесстыдничать! Дура баба!
— К ногам привязали ему колосник, газетою труп обернули, сам кок наш прощальное слово сказал,[115] прорыдала престарелая соблазнительница, немилосердно фальшивя. — Сам ты хам фабричный, и все вы…
Не докончив фразы, Никаноровна во мгновение ока выхватила спрятанную за чулком финку и ловко швырнула ее в продолжавшего стрелять Туркмена, завопив при этом во всю силу легких:
— Иисус Христос впереди, Дева Мария позади, ангелы по бокам, нет доступа врагам! Ну что, мои ангелочки, покажем им?
«Вот еще фольклорный артефакт! Еще один народный заговор — неужели в словаре Даля такое отыщешь?» — адвокат чуть не прыснул со смеху, почти рефлекторно, но вовремя подавил совсем неуместно и несвоевременно проснувшееся в душе чувство юмора.
А неистовая воительница, издав свой абордажный клич, уже бросилась на Туркмена сзади подобно дикой туркестанской кошке. Обернувшись, тот мгновенно выстрелил наугад. Воспользовавшись моментом, Думанский тут же атаковал Яхонта. Не успел тот толком ничего сообразить, как правая рука «Кесарева», точно сама, нанесла ему приличный удар из английского бокса, а левая каким-то замысловатым движением выбила сразу оба нацеленных револьвера.
Однако, едва лишь Викентий Алексеевич почувствовал, что даже от бандитской личины может быть какая-то польза, как верх в нем снова взял принципиальный адвокат, которому даже сама мысль о насилии была глубоко омерзительна. И хотя через несколько мгновений он снова смог взять себя в руки, было уже безнадежно поздно. Он был прижат к полу, Яхонт душил его, сидя прямо на широкой «кесаревской» груди. Напрасно Викентий Алексеевич старался оторвать руки врага от «своего» горла, извивался и старался вдохнуть хоть немного воздуха: в глазах неумолимо темнело, в ушах нарастал шум крови, становясь уже похожим на шум набирающего ход паровоза.
Бедный Думанский уже было окончательно распростился с жизнью, как вдруг перед его затуманенным взором предстал Федька Косой.
— Егорушка преставился, — печально, точно жалуясь, произнес он, не понимая, как это могло произойти. Его огромные жилистые ручищи как плети свисали вдоль мощного бурлацко-босяцкого торса.
Яхонт повернул голову к вошедшему, немного ослабив хватку. «Кесарев» мигом напрягся, собираясь рывком освободиться, как раздался оглушительный грохот, подобный тому, что бывает при взрыве, вздрогнули стены, и помещение заполнилось удушливым дымом. Идейный экспроприатор внезапно обмяк, давя теперь уже мертвым грузом на потерявшего сознание Думанского.
В чувства его привел, как всегда, невозмутимый голос Никаноровны:
— Ядрена мать, снизошла благодать! Не зря на шканцах стояли и весь день «уру» кричали.
С трудом спихнув с себя неподвижного Яхонта, Думанский смог наконец повернуть голову. Изогнутая, как крышка консервной банки, дверь бронированного шкафа-сейфа была наполовину открыта, и оттуда — из развороченного металлического чрева, победно озираясь, выкарабкалась Никаноровна. Правый рукав ее платья был иссечен в кисею, весь пропитан кровью, левую ногу подрывница странно подволакивала, но, тем не менее, вид у нее был торжествующий: волосы воинственно всклокочены, глаза сверкали героическим безумием, взгляд блуждал.
— Поверьте, мое сердце трепещет от радости, что я могу снова увидеть вас, — проворковала блатная Валькирия, обращаясь к лежащим на полу мертвым налетчикам.
Не глядя на «Кесарева» и напевая по-немецки что-то бравурное, отдаленно напоминающее то ли марш из «Вольного стрелка» Вебера, то ли вступление к третьему действию «Лоэнгрина», Никаноровна подошла к сейфу и, подобрав с пола розовую шелковую наволочку, принялась скидывать в нее с полок бумаги, разложенные там аккуратными стопочками.
Приподнявшись на локте, все еще толком не соображающий, что же сейчас произошло, Думанский посмотрел на своего «оппонента» (вернее на то, что им еще недавно было). Тот лежал человекоподобной кучей окровавленных тряпок. Отовсюду — из спины, рук и ног — из этого жуткого месива торчали длинные осколки зеркала. От самого зеркала оставалась одна рама — массивная дубовая, и та — закопченная и изрядно покореженная. Туркмен лежал там же, у двери и, судя по всему, тоже был мертв. Наверняка мертв: вряд ли кому-нибудь удавалось остаться живым с наполовину оторванной головой и вывороченными внутренностями.
— Уходите по одному! — скомандовал «Кесарев» «останкам» челбогашевской «конторы». Родившимся во второй раз уже ничего не нужно было объяснять: они буквально растворились в воздухе, как мрачные призраки. Только контуженная Никаноровна замешкалась:
— Оставь сейф, бабуся, беги!
«Кесарев» оглянулся, на секунду замерев у выхода из «закладной» камеры. Это секундное промедление отрезало ему возможность к побегу: двор ломбарда уже кишел блюстителями образцового столичного порядка.
В это время Яхонт, который, казалось, был всего лишь бесформенным трупом, поднял изуродованную голову, каким-то чудом дотянулся до одного из своих «стволов» и прицелился в старушенцию. Думанский с хладнокровием, поразившим его самого, среагировал молниеносно — выхватил из-за пазухи смит-вессон, дождавшийся своего часа, и всадил пулю за пулей в скальпированный череп ненавистного Яхонта. Дернувшись, недобитый социалист оскалился по-волчьи и затих уже навсегда.
«Подписанный» благодарным Гуляевым подарок, о которым адвокат почти забыл, опять, как в бою на Семеновском мосту, сослужил-таки службу новому законному владельцу. «Чудны дела твои, Господи, и непостижима мудрость твоя! — пронеслось у него в голове. — Дар, сделанный от чистого сердца, спас меня…» Впрочем, предаваться рефлексии по этому поводу было совсем не ко времени: городовые уже доламывали входные двери, налегая снаружи целым взводом, остальные перекрыли обе подворотни. Осмелевшие заложники изловчились и заперли своих мучителей-лиходеев на крепкий засов в глухой «камере хранения» заложенных вещей. Так Думанский, Никаноровна и три незадачливых челбогашевских молодца сами попали в настоящую ловушку.
XVIII
Бандиты, успевшие «с благословления» «Кесарева» выскользнуть из ломбарда, уходили — кто по Саратовской улице, кто проходными дворами, стреляя в «фараонов» и случайных прохожих, прокладывая себе дорогу огнем. Стрельба и погоня растянулись на несколько кварталов. Кого-то полиция ликвидировала точным попаданием. Кого-то задержали живьем.
— Ну что? Есть там кто-нибудь? — подчеркнуто спокойно осведомился в это время важный тип, видимо, руководивший операцией, входя в ломбард следом за дюжиной городовых и рядовых жандармов. Он был в штатском: высокие, до середины икры, ботинки со шнуровкой, шерстяные гетры, твидовые, в клетку, бриджи с манжетами под коленом, утепленный френч горохового цвета с отложным воротником и накладными карманами, на голове — того же цвета фланелевая кепка с ушами, завязанными наверху аккуратным бантиком. Одним словом, внешне его можно было вполне принять за жителя туманного Альбиона.
— Кто-то, видать, еще остался, ваше благородие! — шепотом отвечал нижний чин.
— При малейшем сопротивлении стрелять без предупреждения. Можно не церемониться, есть специальное распоряжение на этот счет, — напомнил старший франт, деловито оглядывая помещение.
Клиенты ломбарда, сгруппировавшиеся на всякий случай у входа-выхода, все как один с опаской указали на дальнюю зарешеченную дверцу. Кто-то кинул блюстителям порядка ключи.
— Ни с места! Руки вверх! Бросить оружие! — крикнул уверенный в себе и в своих подчиненных англоман, встав спиной к стене у самой дверцы. Его помощник сделал несколько выстрелов прямо сквозь нее наугад, надеясь попасть в кого-нибудь из затаившихся в камере налетчиков.
— Здесь тяжелораненый. Не стреляйте — проявите сострадание! — умоляюще донеслось оттуда.
— Это что еще за толстовец?! — удивился сыщик. — Творящий зло сам получает по заслугам! — И на всякий случай выпалил на сей раз в воздух.
Думанского осенило: «Ну, слава Тебе, Господи! Кажется, на этот раз удалось — это же сам Шведов!!! Верный шанс!»
— Ради… Ради всего святого, послушайте! Я — Викентий Думанский… Меня взяли в заложники! Со мной случилось… — горло схватывал нервический спазм. — Я все потом объясню… «Malum consilium…»
Следователь мгновенно вспомнил своеобразный «пароль»:
— На пол оружие! Оставьте адвоката на месте, если хотите остаться в живых! Это вы, Викентий Алексеевич? — крикнул он сквозь дверь, уже отпирая замок.
«Вот оно что значит — ботать по-иностранному!» — с уважением прошептал кто-то из бандитов. Размышлять времени не было, он тут же оценил ситуацию:
— Эй, сыскари, если вы нас не пропустите, я его завалю! — грозно выкрикнул бандит. — А пропустите — мы вашему языковеду на память еще клифт почистим и манишку накрахмалим…
— Господа! Выполните их условия: они меня пальцем не тронули! — с ожившей надеждой у Викентия Алексеевича прорезался родимый голос.
— Добро! Вы не стреляете — я гарантирую всем жизнь. Но смотрите, если хоть волос с его головы упадет! — окончательно распознав коллегу, среагировал дознаватель-правовед. — Прекратить огонь! — скомандовал он уже своим подчиненным.
— Пропустить, никому не стрелять! — передали команду полицейским во дворе.
Думанский и остальные быстро выскочили из ломбарда, побежали.
Полиция, спасая адвоката, сразу же ворвалась в заднюю комнату. В ней, укрывшись под холщовым мешком, сидел человек.
— Викентий Алексеевич! Вы не ранены? — сыщик бросился к «живому» мешку, обеспокоенный молчанием своего знаменитого коллеги.
Из-под мешка выглянула простоволосая старушенция. Полицейские, включая самого Шведова, оторопели.
— Ну что смотрите, архаровцы? Не узнали? Я что, на адвоката не похожа? — Никаноровна издевательски подмигнула. — Совсем не похожа? Ни капельки? Ну хоть наполовину? Снизу?
В соседнем дворе путь Думанскому и остальным преградил молоденький жандарм.
— Приказа не слышал? Адвоката не трогать! — гаркнул на него подоспевший бравый вахмистр.
— Адвокат остался в помещ… — договорить младший чин не успел: один из бандитов уже выстрелил в упор и побежал дальше.
Обозленный вахмистр больно заломил Думанскому руки и, держа под прицелом, уложил на землю:
— Ну что попался, душегуб? От меня еще никто не уходил!
Подельник оглянулся, бросился к «своему» на выручку, выстрелом уложил старшего жандарма, рывком поднял на ноги «шнифера» и увлек за собой. Метров через сорок раздался еще выстрел, теперь уже за спиной. Громила застонал и согнулся, махнул «Кесареву» рукой:
— Через этот подъезд попадешь в соседний двор-колодец, там из правой парадной есть ход в подвал, а из него лаз на соседнюю улицу, и тогда…
Думанский, не дав окончить, легко подхватил его и уже тащил на себе, в очередной раз про себя удивляясь, как Кесарев-Васюха нарастил себе такую атлетическую мускулатуру.
— Откуда знаешь дворы?
— Как не знать… Родная сторонка, Выборгская! Я здешний — слесарем на «Лесснере», с мальцов еще… Да брось ты меня, беги, говорю! — прошипел тот сквозь боль.
Викентий Алексеевич приоткрыл дверь в подъезд и, не смея бросить уже терявшего сознание товарища, с ним на плече юркнул внутрь. Здесь он перевел дух и со словами: «Молчи! Тебе, брат, нельзя сейчас говорить, кровь теряешь. Врача бы тебе сейчас. Потерпи еще немного — я приведу кого-нибудь, фельдшера хотя бы», — уложил раненого на подоконник, а сам рванулся в проходной двор. Вот и правая парадная — двери закрыты изнутри! «Теперь уж до подвала не добраться… Неужто „мышеловка“?!» — подумал адвокат и, еще не успев сообразить, как быть дальше, услышал совсем близко полицейские свистки и голос за спиной:
— Ого! Смотрите, ваш бродь, кого споймали-то: никак сам Кесарев…
Крепкая рука схватила беглеца за шиворот, развернула:
— Ну как есть он, по всем приметам! — осклабился рябой городовой, обдав Думанского резким запахом лука. — Глядите-с, не нравится ему.
— Давай-ка его в наручники! — приказал пышноусый пристав в пенсне. — Этого голубчика сейчас в лучшем виде прямо в Управление доставим — на Фонтанку…
Это было последнее, что слышал Викентий Алексеевич: от нервного потрясения и всего перенесенного в кесаревском обличии он тут же потерял сознание.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Искупление
Единственная разница между святым и грешником в том, что у святого есть прошлое, а у грешника — будущее.
О. УайльдI
— Интересно, что это вы, князь, так рано нас собрали? «Не война ли с турками?» — вспомнил Гоголя один из приглашенных на срочное совещание к князю Мансурову графу Сорокову-Лестману известный на всю Империю, а то и за ее пределами, сахарозаводчик Решетников. Парадная зала во дворце князя уже несколько часов была полна личностей известных или мечтавших стать таковыми. Политические деятели, финансовые магнаты, профессиональные авантюристы высокого полета, «гении» от искусства — все они были объединены «благородной» целью вольных каменщиков — спасением «любезного Отечества» России «от наследия мрачного средневекового прошлого», наставлением ее на путь социального прогресса и гуманистических идеалов нового общемирового устройства.
— Для начала, высокочтимые братья, попрошу тишины и строгого внимания! — с озабоченным видом произнес сам хозяин, брат одной из высочайших степеней и член Городской думы Мансуров-Сороков-Лестман, стройный розовощекий блондин в полном расцвете сил, джентльмен с тонкими, почти женскими чертами лица. — Прежде чем сделать порученное мне сообщение, почтим минутой молчания нашего безвременно ушедшего брата, шевалье Гесса Краутера. Некоторое время назад он был успешно инкарнирован в тело главного прокурора столицы, но недавно погиб от рук грабителей, должно быть, решивших, что в его карете везут деньги. Братья, я убежден, что это прискорбное событие произошло далеко не случайно. Мы не должны попусту терять время, почивая на лаврах. Увы, все мы смертны, даже те, кто достиг достаточно высоких степеней посвящения. Трагическая, нелепая гибель незабвенного шевалье де Шумера при неудачной реинкарнации Николая «Палкина» ни в коей мере не должна послужить препятствием нашим грандиозным планам. Наоборот, мы должны активизировать свои действия, в течение ближайшего времени мы должны изнутри завладеть «помазанником божиим»! Поклянемся же не отступать, не сворачивать с избранного пути. Клянемся! Amen! — произнес он, поднимая правую руку и обращая к слушателям раскрытую ладонь. На ней сразу бросались в глаза два косых разреза, перечеркивающих линию жизни.
— Amen! Клянемся! — отдалось зловещим, потусторонним эхом под сводами зала. Посвященные все как один повторили за князем-графом эти звучащие вызовом и угрозой слова, точно так же, как и Мансуров, вытянув вперед ладони. У каждого высокопоставленного брата имелся тот же отличительный знак — линия жизни, перечеркнутая одинаковым у всех, точно перевернутым, далеко не православным крестом.
— Господа, на наших ладонях символ нашей общей цели, наше credo, то, что объединяет нас, делая наш Орден сильнее власти распятого и любой власти человеческой, — напоминание всем нам о том! Мы никогда не должны забывать о своем могуществе и всегда стремиться к еще большему! Я как праправнук достопамятного члена военной ложи «Орфея», полковника лейб-гвардии Измайловского полка, который имел честь входить в команду посвященных, специально избранную для не состоявшейся, к сожалению, реинкарнации Императора Павла, и лично принимал участие в физическом устранении последнего, уполномочен Высшим Российским Капитулом лож сделать важное сообщение с весьма тревожной информацией, касающейся, полагаю, всех здесь присутствующих и дальнейшей судьбы нашего благородного дела в России.
Спешу ознакомить вас с весьма серьезными сведениями, требующими от всех, кому дорого наше дело, неотложных действий. Вы знаете, что в царствование Николая «Палкина» нашими предшественниками был обнаружен и устранен некий монах — провидец Авель, целых полвека вещавший августейшим особам о том, что угрожает им в будущем, и тем самым, теперь уже ясно, сознательно путавший все наши карты и срывавший важнейшие планы. Известно и то, что более ста лет назад у «вещего» Авеля была аудиенция с Павлом I, на которой удалось предупредить царя о его скорой гибели от рук заговорщиков — наших братьев, которые должны были завладеть его телом, но в последние месяцы неожиданно открылась тайна века, что может кардинальнейшим образом изменить наше нынешнее, вполне благоприятное положение в России и разрушить приближающийся к завершению наш тактический план, готовившийся нами фактически с самого момента восшествия Николая на престол, но, как известно, наиболее целенаправленно последние пять лет.
Так вот, господа, в ту роковую встречу с Павлом хитрый монах открыл ему историю Российской Империи на сто лет вперед, до самого ее конца. Я не оговорился, братья, — до конца Империи! Авель точно изложил царю все, что произойдет с Романовыми и Россией в девятнадцатом и даже в двадцатом веке, включая перипетии правления его праправнука, то есть основные события нашего времени. Наивно было бы думать, что старец, что-либо сочинил — все напророченное им в прошлом сбылось со зловещей точностью. В минувшем веке историки считали, что возмущенный и напуганный царь-мистик заточил дерзкого монаха-прозорливца в Петропавловскую крепость, и весь остаток жизни последний так и провел: от пророчества очередному монарху до очередного заточения в тюрьму или дальнюю обитель. Лишь некоторые из его откровений передавались шепотом из уст в уста, а письменно задокументировано вообще ничего не было, поэтому мнение просвещенных кругов об Авеле было таково: раздутый мелкий исторический факт, проверке не поддающийся, а возможно, и всего лишь мрачная легенда, одна из тех, которыми пестрят хроники правящих династий. Но уж слишком навязчивая была «легенда», и Романовы почему-то из поколения в поколение проявляли к ней подозрительно молчаливое равнодушие: не было высочайших подтверждений подобных слухов, но и категорических указов — опровержений тоже не было. А ведь, надо сказать, удивительное «житие» своими же руками обеспечили этому Авелю «наши» августейшие персоны. Такое возможно только в христианнейшей Российской Империи с ее слащавой «любовью к ближнему». Появись тот же Авель в старой доброй Европе, по указанию Святейшей инквизиции, с которой у наших предшественников, как вам известно, традиционно были тесные связи, его просто объявили бы злостным еретиком и сожгли бы после первого же «пророчества». Словом, нашим братьям долгие годы пришлось бы искать доступ к секретным архивам Царствующего Дома и Охранного отделения, но тайна так и оставалась за семью печатями, пока не прошло столетие со дня гибели Императора-Магистра. Вот когда одному из ближайших к престолу наших братьев стало известно, что в составе ограниченного круга придворных он приглашен самим Императором на неофициальную «келейную» панихиду по «убиенному венценосному прапрадеду» в домовую церковь Гатчинского дворца. В назначенный день Николай в сопровождении министра двора барона Фредерикса и избранных лиц свиты прибыл в Гатчину. После пышной панихиды Государь почти без свидетелей (наш брат, к счастью, оказался рядом) вскрыл некий секретный ларец, в котором хранилось письмо, составленное, оказывается, в присутствии Павла со слов Авеля. На конверте Павел собственноручно начертал: «Вскрыть Потомку Нашему в столетний день моей кончины». После прочтения царем письмо было тут же сожжено, но вот ведь какой поистине бесценный подарок судьбы: нашему брату удалось исхитриться и спрятать его обгоревшие обрывки! А теперь я оглашаю их содержание перед вами, высокочтимые братья:
«…Царю, Иову Многострадальному подобному. На венец терновый сменит он корону царскую, когда звери, обезумевшие от голода, перейдут реки, большая часть поля битвы будет… Великая война, Мировая… серою зловонной друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться… зверь и съест души в телах светлых князей русских, займет их место и будет править миром для своей цели… Россия не будет знать закона… Накануне победы рухнет Трон Царский. Кровь и слезы… Утащит зверь предводителя в железные клетки. Мужик с топором возьмет в безумии власть, и наступит поистине казнь египетская… будет жид скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить Святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей… Но свершатся надежды русские. На Софии в Царьграде воссияет Крест Православный… Святая Русь… процветет, аки крин небесный…»
Мне кажется, братья, что даже в этом обрывочном виде подобное послание совершенно ясно и не требует комментариев. Вам понятно, какая угроза нависла над нами? Убежден, что эта информация не оставляет нам времени на какие-либо дальнейшие рефлексии и пустые философствования о прогнившем самодержавии, которое якобы вот-вот рухнет само, и нам только останется ждать, когда Великий Архитектор Вселенной соблаговолит вручить нам, своим самоуверенным слугам, царские регалии, а заодно еще и Магический Кристалл вместе с Чашей Грааля. Не произойдет это само собой НИКОГДА! Да вы, господа, откройте глаза — реакция не дремлет, охранители-обскурантисты уже создают у нас под носом в Петербурге откровенно верноподданническое Русское Собрание, Общество Русских Патриотов в Москве, Русское братство в Киеве, а в провинциальном Иваново-Вознесенске по достоверным сведениям появилась даже некая Самодержавно-монархическая партия! Пока мы, братья-масоны, будем прекраснодушествовать, отвлекаться на спиритические сеансы и теософские диспуты, чуждые сантиментов братья-патриоты из того же Русского Собрания призовут под свои хоругви набожную черную кость и, может статься, от нас и мокрого места не останется! Если бы вы слышали, к чему призывают с церковных амвонов некоторые протоиереи, у вас волосы на голове встали бы дыбом — предсказания Авеля в сравнении с этими проповедями кажутся уже детскими страшилками! Да, призрак этого вещего узника уже заново воплощается, бродит по Империи!!! Вы возьмите хотя бы особо приближенного ко Двору так называемого «всероссийского пастыря» Иоанна Сергиева: он закрыл глаза отравленному нами русопятому царю Александру, но он же вот-вот откроет глаза на все наши планы его сыну! Этого Иоанна толпа буквально на руках носит! Вспомните-ка, кстати, прошлогодний лицемерный спектакль с прославлением пресловутого батюшки Серафима в Сарове с участием почти всей царской фамилии и сотен тысяч оголтелых религиозных фанатиков. Преступно нам забывать, что этот самый преподобный Серафим в свое время предал анафеме все масонство… вас нужно еще в чем-то убеждать, досточтимые братья?! Только елико возможно скорая, безотлагательная РЕ-ИН-КАР-НА-ЦИ-Я Николая — sic!
Мансуров сделал глубокий выдох и промокнул украшенным монограммой кружевным платком вспотевший лоб. В зале послышался ропот. Воздух заколебался. Оценка выступления была от безоговорочно одобрительной до скептически иронической. Какой-то совершенно седой сухощавый старик в шитом золотом камергерском мундире с голубой лентой через плечо и звездой Андрея Первозванного, уставившись на князя-графа в лорнет, произнес с прононсом и слегка грассируя:
— Князь, mon enfant, а не кажется ли вам, что вы сгущаете кгаски? От ваших слов меня, стагика, сейчас, пгаво, удаг хватит — стоит ли так волноваться? Вы бы лучше гас-сказали, что там стгяслось с нашим пгедседателем. Что за нелепый ход? Самого Давида Кауфмана, досточтимого Магистра нашей ложи, геинкагнигуют в какого-то, пусть даже успешного, адвокатишку? Явное несоответствие масштабу такой фигугы, как наш Пгедседатель! И зачем было подвег-гать его такому гиску? Магистгу подобало бы занять место Помазанника Божия, а тут некий югист, котогый и ко Двогу-то не имеет никакого отношения, никакого доступа к августейшей пегсоне! А вообгазите, если он еще и пгичащается? Вы пгекгасно помните, что Николай I был из-за этого геинкагнигован только с четвегтой попытки, а трое первых наших братьев погибли, да и четвегтый-то был отгавлен пгичащенным телом царя! Объяснитесь.
Молодой хозяин изменился в лице, уставившись на сановного старика гневным взглядом:
— А вы, милейший, можно подумать, ничего не знаете о его судьбе?! Что ж, если здесь хотят обсуждать разного рода скандалы, извольте. Я готов удовлетворить любопытство присутствующих — в конце концов, всё к одному…
Сахарозаводчик Решетников без малейшей нотки тревоги в голосе произнес:
— Поставьте новых членов Высшего Совета в курс дела. Объясните же им, что на самом деле произошло с его первым секретарем, с братом Ландау?
Князь повысил тон:
— Жадность, милейший! Неуемная жадность и казнокрадство, из-за которых может погибнуть все наше Великое Дело! Арестовали нашего «достойнейшего» первого секретаря за постыдное ВОРОВСТВО!!! И это, братья, не минует никого из вас, если вы будете вести себя в том же скаредном духе! Чем вы все занимаетесь, позвольте уж вас спросить? Риторический вопрос, сами знаете… Немыслимо! Позор для всего нашего братства!!! Но к делу. При обыске случайно была найдена часть протоколов наших собраний. Нужно было что-то предпринимать в срочном порядке, и тогда сам Председатель предложил себя для инкарнации в вышеупомянутого, как вы выразились, «адвокатишку». У Магистра было два веских повода для этой реинкарнации. Как нам объяснил сам господин Кауфман, Думанский был неплохо знаком с настоящим Ландау (до проведения над ним ритуала), и более того — его адвокатское бюро оказывало Ландау юридические услуги, тот был одним из его главных клиентов. Ко второй причине я вернусь позже. Давайте лучше сейчас разберемся с Ландау и ему подобными…
В зале послышались недовольные выкрики:
— На кого это вы намекаете?
— Мы не верим, что первый секретарь был способен на такое!
— Вы бы уж лучше вступительный взнос поменьше сделали!
— Вот именно, именно! Я лично оказался в теле банкира, а у того, оказывается, все средства то ли за границу переведены, то ли еще невесть куда. Теперь с меня требуют взносы, а где я, спрашивается, деньги возьму…
— Между прочим, Ландау давал очень приличные взносы в общий фонд, а реинкарнация, знаете ли, весьма дорогое удовольствие.
— Что говорить — тут поневоле запустишь руку в казну!
— Да, против Ландау просто плетутся интриги! Странно, если бы у него не было врагов и они…
— Я бы на вашем месте не давал воли чувствам, господа! Право же, остыньте-ка и послушайте одну прелюбопытнейшую статейку. Полагаю, еще не все осведомлены. — Мансуров взял с блюда для визитных карточек лежавший там номер «Биржевых ведомостей» от тринадцатого декабря. — …Так! «Мздоимство в столичной Городской думе». Лирическое вступление можно опустить… Вот: «…к двухсотлетию основания Петербурга при участии общественности проводился конкурс на строительство Троицкого моста. Несмотря на то что Коломенский завод Московской губернии предложил наиболее выгодные условия, конкурс выиграла французская фирма „Батиньоль“. После того как смета на строительство была утверждена, представители фирмы „Батиньоль“ потребовали дополнительно восемьсот тысяч рублей. Требования были заведомо безосновательны, их легко можно было бы отклонить. Однако сумма эта была выплачена из бюджета города, который, к слову, составляет в год всего два миллиона двести тысяч рублей. Руководство Коломенского завода направило письмо на Высочайшее Имя, в котором были досконально изложены указанные обстоятельства. В ходе возбужденного на основе данного письма дознания полицией были произведены досмотр помещений фирмы „Батиньоль“ и ревизия бухгалтерских документов. В расходной книге фирмы была обнаружена запись, перевод которой с французского звучит не иначе как „Расходы на взятки“; в соответствующих графах значилось: статскому советнику Ландау передано пятьдесят тысяч рублей единовременно и по тысяче пятьсот рублей — ежемесячно».
При этих словах братья возмущенно зашептались между собой: кто-то проклинал наглость французской фирмы, письменно фиксирующей столь деликатные сведения, кто-то вовсе удивлялся ушлости шевалье Гольдберга в теле Ландау, который недостаточно поделился «доходом» с ложей. Мансуров продолжил:
— «…В ходе допроса представитель фирмы „Батиньоль“ подтвердил задокументированные сведения. Кроме того, общественность еще не забыла прошлый скандал, когда под давлением Ландау Городская управа заказала дорогостоящие фильтры для очистки воды, которые были установлены в очистные сооружения водоканала, а фильтры-то оказались весьма скверного качества. Печально известно, что вода б нашей столице — самая грязная в Европе, из-за чего сотни людей умирают от холеры и тифа. Заметим и то, что здравоохранение в Петербурге уступает даже Белграду и Бухаресту. Данное дело по расследованию казнокрадства выделено в специальное производство. Общественность вправе в очередной раз озвучить болезненный вопрос: придет ли конец чиновничьему мздоимству?» И чем, скажите, после такой статьи можно помочь Гольдбергу-Ландау? Не зарвался ли этот господин, все еще продолжающий быть нашим братом, более того — первым секретарем!
— Конечно, беднягу Гольдберга, реинкарнированного в тело Ландау, очень жаль, но надеюсь, что последствия этой истории не коснутся остальных членов ложи, ваше сиятельство, — уже в менее уверенном тоне предположил Решетников.
— Напрасно надеетесь, — оборвал его князь и граф в одном лице. — Ревизионной комиссией самого высшего уровня изъяты уже все документы по делу нашего своекорыстного секретаря, которыми располагала столичная прокуратура и Городская управа Петербурга. Чиновники Министерства внутренних дел начали изъятие документов и из Городской думы! В частности, теперь они осведомлены, что наш городской голова, известный всем наш брат господин Белямов, который, увы, сегодня даже не счел возможным присутствовать на нашем собрании, купил себе «домишко» на углу Екатерининского канала и Невского, якобы за триста тысяч рублей. А домик-то стоит по самым скромным подсчетам два миллиона! Что из этого вытекает? Совершенно верно — налоги в казну не доплачены!
— Надо же! Кто бы мог подумать! — удивился владелец модного в среде московского бомонда кафешантана моложавый подтянутый брюнет. — И это, когда бгатство так нуждается в сгедствах!
— Чему вы так удивляетесь, Натан Самуилович? Сами могли бы и побольше в ложу отчислять. Вы, небось, неплохие сливки снимаете с вашего роскошного «Амона» в Первопрестольной? — усмехнулся Сороков-Лестман. — Моднейшее место, эстрадные звезды. Высокий доход, и вы бы вполне могли поделиться. По братски, разумеется…
— Судагь, выбигайте выгажения! — обиделся Натан «Мудрый». — Бгатство и так нуждается во мне в самых газных сфегах, и я, между пгочим, позволяю себя использовать. Я незаменимый человек! Я обслуживаю сильных мига сего! Я интимно знаком с мигом закулисья. Я посвящен в тайные погоки людей и власти, в скгытые механизмы действия капиталов и газвития пгомышленности!
— Да вам-то чего бояться, monsieur Мансуров? — поддержал Натана доселе молчавший представительный тип, широколицый бородач с украшенным замысловатым вензелем-монограммой массивным перстнем-печаткой на указательном пальце, развалившийся в кресле нога на ногу, попыхивая дорогой гаванской сигарой. — Все, что с вами могут сделать, — это отстранить от государственной службы на три года. А если в результате скандала с Ландау Городскую думу разгонят, то в новой думе мы получим то же влияние, как без его, так и без вашего участия — не сомневайтесь.
— А на вашем бы месте, Зиновий Петрович, — принял сторону родовитого, вдвойне сиятельного князя-графа видный банкир, — я таки бы вообще помолчал и ни о чем не беспокоился. У вас огромные имения, десять миллионов банковского капитала, и следствие вам ни с какой стороны не грозит — вы вовремя ушли на покой, у вас же железное алиби, батенька!
— Ну разумеется! Конечно, конечно! — язвительно произнес бородач, якобы впервые услышавший о том, что его баснословное состояние ни для кого из собравшихся не секрет. — Вам ли, Аркадий Вениаминович, как директору Учетного ссудного банка не знать, сколько у меня средств на счетах!
— Кстати говоря, не желаете ли, милейший Зиновий Петрович, воспользоваться услугами Банковского дома Вавельберга? — предложил еще один брюнет, упитанный, с моноклем. — Или Московского международного торгового банка? Директор его — тоже наш брат высокой степени посвящения. Это очень почтенное кредитное учреждение с безупречной репутацией, и проценты по вкладам высокие. Впрочем, не вам рассказывать — там открывают корреспондентские счета многие из братьев. Вот и перевели бы туда хотя часть своих активов.
— Да знаю я этого директора как облупленного! Ему же ж директором-то пришлось стать, потому что половину своего капитала из «прошлой жизни» он проиграл в рулетку! Надеюсь, председатель московской ложи сможет на него повлиять в нужном направлении, — не вынимая изо рта сигару, процедил Зиновий Петрович.
— Вы, брат, лучше бы на-а-а себя посмотрели: вкладываете деньги в особняки, в-в-в бриллиантовые колье, покупаете своим… не буду говорить, кому, шиншилла и горностаевые м-манто, прож-жигаете жизнь в Ницце… А д-дела не делаете! У нас у всех одна цель, и надо работать на ее достижение, а-а потом можно будет п-подумать и о женщинах, и о б-брилльянтах! — посмел возразить важному Зиновию товарищ прокурора.
Взволнованный, тот встал и положил недокуренную сигару на блюдечко.
Ситуацию разрядил доселе молчавший один из братьев высокой степени посвящения, господин Шкаров, являвшийся членом ревизионной комиссии:
— Да что с вами, братья?! О том ли вы говорите? Все, что я пока здесь услышал, детский лепет и не по существу. Надо обсудить главное, архиважное, то, для чего мы здесь собственно собрались! А склоками и ссорами сейчас не время заниматься, — властно прервал он спорящих. Все слушали, затаив дыхание. — У Ландау при обыске была изъята часть наших протоколов! И сейчас их уже перевели и они находятся у самого Государя. Вы понимаете?! Это же полный крах!!! И как вы только можете спокойно нести подобный бред? Если до дешифровки протоколов Думанский еще мог что-то сделать, уладить ситуацию, то теперь наш «достойнейший» Ландау находится неизвестно где. Его упрятали в казематы Тайной полиции, ясно, конечно, но куда именно — информация, закрытая от «мира», строго секретная. Благо, что списки этот… первый секретарь, со слов его сиятельства, оставил у нас и за них можно не беспокоиться.
(О последнем Мансуров откровенно слукавил, чтобы не вызывать паники среди присутствующих.)
— Пгостите, ваше сиятельство… — в волнении, срываясь со сдавленного шепота на крик, со своего места привстал взопревший владелец московского кабаре. — Быть такого не может! Там же есть сведения обо всем: кто в кого «попал» и кто сколько получил!!
Высокий чин продолжал:
— Вчера рано утром сам министр внутренних дел разослал членам комиссии срочный приказ явиться на совещание в номера «Баярд».[116] Задание государственной важности. Вам известно о моей пунктуальности: я явился минута в минуту. Возглавляет расследование сам ротмистр Семенов. Фигура вам всем хорошо известная. Так вот, этот человек — как абсолютно неподкупный, очень жесткий, даже жестокий — самый квалифицированный ревизор по всей России, можете не сомневаться. Кроме него в ревизионную комиссию входят высшие чины жандармерии, сыскной полиции, государственного контроля, бухгалтеры Ассигнационного банка. Давид Кауфман пытается решить эту проблему, но пока безуспешно. Если бы все это можно было замять и как-то выкупить наши документы! Я даже наших новых братьев — Великих Князей просил, чтобы они как-нибудь повлияли на расследование, но оказалось, что это, увы, невозможно. Вот Его Высочество, Рюрик Михайлович, подтвердит. — Взгляды обратились в сторону Великого Князя, который в подтверждение кивнул.
— А что сам Ландау, то есть Гольдберг, говорит следствию? — озабоченно спросил Мансуров-Лестман.
— Хотя факт взятки — увы! — доказан, этот хитрован несет всякий бред: денег не вымогал, взяток не брал, а давал платные советы, так как он, видите ли, изучил специфические особенности города, а также как юрист искушен в вопросах гражданского и государственного права Российской Империи. Представляете что он заявил? Его дело теперь уже определенно будут слушать в Особом присутствии Санкт-Петербургской судебной палаты. Хуже того, Ландау намекнул мне и нашему Магистру, а по сути — своему адвокату Думанскому, что если братья, то есть все мы, все вы, милостивые государи, и ваш покорный слуга в том числе, не вытащат его оттуда, то он нас раскроет без колебаний. В этом случае всей ложей займутся вплотную и каждым из членов персонально. Мне кажется, вы так и не поняли, что произошло!
— Ну и чего же теперь ожидать?! Что же делать… Надо что-то немедленно предпринимать! Или подкупать этого Семенова «без страха и упрека» (знаем мы их, «неподкупных»!), или убить Ландау, если нет иного выхода. Вот и задача для его «личного адвоката», согласитесь?
— Вы поразительно сообразительны! — съязвил раздраженный князь-граф. — Когда был проведен ритуал подмены Думанского Кауфманом, наш Магистр как раз и должен был либо вытащить Ландау из жандармского застенка, либо физически устранить. Уверяю вас, все так и произошло бы, но из-за усложнившейся ситуации с протоколами о местонахождении нашего первого секретаря знает теперь только он сам, да, разумеется, «могущественный» ротмистр Семенов, а царь держит эту ситуацию на строгом контроле.
— Ах вот как! — раздался отчаянный вопль новоявленного банкира, который жаловался на непомерные взносы. — Гольдберг в свое время столько сделал для ложи, так материально подпитывал ее. Сколько братьев прошли ритуал реинкарнации благодаря его финансовой помощи, а вы, оказывается, собирались его убить! Слышите, братья?!
Но на сей раз возмущенного уже никто не поддержал, и даже наоборот — одернули. Мансуров же продолжил:
— Николай до сих пор не верил докладам, а теперь есть прямые доказательства! И он будет принимать тайные меры в отношении нашего общества, о которых я пока ничего не знаю. Да что там я — никто не знает, какие это могут быть меры! Возможно, он уже отдал распоряжение жандармерии всех нас арестовать! Я лишь определенно знаю, что кое-кто вообще требовал всех нас повесить! Voila, ожидать можно чего угодно, медлить нельзя. Я хочу, чтобы каждый из здесь присутствующих осознал: все это может случиться с нами хоть завтра, в одночасье!
— Князь, вы напрасно полагаете, что мы не понимаем, как все далеко зашло. Объясните лучше, когда же Магистр сможет воплотить нашу сокровенную цель и заменить собой Помазанника Божия.
— Вот в этом то и кроется вторая причина реинкарнации в Думанского! Эта причина — добрые отношения адвоката с небезызвестным купцом Гуляевым. Законник недавно спас последнего от правосудия. Это был так называемый план «В» Магистра, поскольку Гуляев, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к самому царю. Теперь это единственный выход форс-мажор к нашей заветной цели. Если план по инкарнации Гуляева, который я вам настойчиво предлагаю, реализуется без эксцессов, то мы получим искомый доступ. Повторяю: только через Давида Кауфмана, нашего Магистра.
— Значит, у Гуляева есть-таки доступ ко Двогу?
— Да, Натан Самуилович, и здесь ваша помощь братству будет неоценима! Сам Государь оказывает ему честь. Принимает как члена семьи, считает что через него он общается с народом, а вы должны будете привлечь его в наш круг: вы же знаете его слабости, вот и действуйте через них, через страстишки. У вас есть, чем его привлечь…
Натан кивнул:
— Мой знаменитый «Амон» еще никого из подобных огигиналов не оставил гавнодушным! Видел я этого «пгедставителя нагода»! Такие кутежи закатывал! Таких кокоток пгиводил! Самый настоящий богомолец-земледелец! Ха-ха-ха!
Посовещавшись еще пару часов, братья масоны приняли резолюцию, которую озвучил сам Шкаров: срочно, пригласив цвет общества на бал во дворец к Мансурову, инкарнировать Гуляева, получив через него доступ к Семенову и царю, принять меры к ликвидации главы ревизионной комиссии Семенова, и — в качестве конечной архиважной цели — необходима реинкарнация самого Николая Второго.
Член Ордена, инкарнированный в тело видного чиновника Ландау, не смог справиться с природной тягой к всевозможному воровству и казнокрадству и, несмотря на неоднократные предупреждения, проворовался, что и выяснилось при ревизии. Пришлось основательно потрудиться, чтобы выручить заблудшего брата, но Ландау оказался еще хитрее, а главное — наглее, чем виделось сначала. Не дожидаясь вызволения из той щекотливой ситуации, в которую угодил, он стал шантажировать посвященных, заявляя, что провалит всю конспиративную систему лож, выдаст списки братьев (на самом деле о списках он имел весьма примерное представление, скорее, слышал о них, помнил кого-то по имени и в лицо, но самим перечнем реинкарнаций, конечно же, не обладал), и тогда конец всему великому делу, всем планам, составлявшимся и воплощавшимся столетия! Мансуров, с одной стороны, видел, что деятельность таких ушлых, гребущих под себя братьев, особенно в дни идущей к поражению войны, выгодна общему делу: они подрывали поставки на фронт, затягивали подвоз боеприпасов, обмундирования, провианта, и Государь был вынужден отвлекаться на военные неудачи, всей душой быть там, на позициях, со своей истекающей кровью армией, а в тылу, в столицах, тем временем беспрепятственно шла «скрытая интервенция», массовое перемещение «нужных» душ в «нужные» тела, шла полным ходом реинкарнация, приближавшая захват всей власти посвященными. С другой стороны, на примере того же Ландау Мансуров, вольный каменщик во многих поколениях, видел, как вырождается, мельчает масонство. Некогда это были верные своей идее, надежные, благородные в достижении великой цели Архитектора Вселенной братья. Теперь же князь-граф видел вокруг подлую шваль и быдло, не говоря уже о «хамском» происхождении многих так называемых братьев. Стоило такому, как Ландау, усилить шантаж, и это непременно обратилось бы паникой в ложах: братья, спасая собственную шкуру, пустились бы кто куда, наутек, попутно гребя под себя, решая исключительно свои личные дела, идя по головам друг друга, а Великое Общее Дело, великая цель реинкарнации царя была бы забыта и затоптана в грязь. Узнав о шантаже Ландау, Мансуров сначала просто хотел уничтожить списки, но вовремя понял, что без документов и сам может запутаться в сложной системе перемещенных в чужие тела душ. Только три человека, только трое — Мансуров, Кауфман и обер-прокурор Гесс Краутер знали о местонахождении тайных списков. Скрытно от остальных «посвященных» их нужно было немедленно отправить в Германию. Отъезд был тщательно подготовлен и продуман. Прокурор готов был в одну из ночей после пятничных Советов в бронированной карете перевезти их через границу: таким образом была бы заранее предотвращена паника среди братьев и массовые репрессии в случае полного предательства Ландау. Великое дело можно было бы отложить, а после возобновить, как уже бывало неоднократно в прежние царствования. Нападение на карету, да еще с убийством верного и мудрого Гесса Краутера, было полной неожиданностью для Мансурова. Никто из братьев (кроме Магистра Кауфмана) так и не был поставлен в известность об исчезновении списков при налете. Сам князь-граф ломал голову: «Как это могло произойти? Могли ли эти неизвестные ставить своей целью устранение лично меня? Вероятность предельно мала — я научился жить, не имея врагов. Возможно, что какие-то уголовные, воры и бандиты мстили прокурору за его непосредственную профессиональную деятельность, тогда они, возможно, утопили списки вместе с каретой, ведь они убили Краутера, а в этом и была их единственная цель. Если это было спланированное нападение на Думанского таких же бандитов, но уже по адвокатсткому счету, их тоже не заинтересовали бы бумаги, даже если на них и наткнулись бы. А что, если это банальная попытка ограбления: решили налетчики, что карета казначейская, а в ней золото, ну и напали… Но для них бумаги все так же не имеют никакой ценности! Лучше бы они все же утонули, сгорели, чем попали бы в любые чужие руки — мало ли кто выйдет на них со временем… Впрочем, если сейчас поторопиться, принять все меры и успеть, то все эти списки не будут уже иметь никакого значения. Только бы достичь Священной Цели!» Больше всего князь-граф боялся, что наглый налет — мастерски спланированная ротмистром Семеновым операция жандармерии. «Если списки и вся информация у них, всем нам не избежать виселицы, как тем пяти — в 1825-м, в декабре!» Но была, была и грела холодное сердце Мансурова одна заветная, спасительная надежда: магистр Давид Кауфман не раз обещал ему, что «обработает» ротмистра. «Если устраним ротмистра, тогда путь к реинкарнации самого Николая открыт!»
Мансуров все эти дни был осторожен, как лис, реинкарнированный Думанский-Кауфман затворился в своем особняке на Каменном, уложенный в постель пневмонией, так что ожидать его участия в ближайших заседаниях Высшего Совета не приходилось. По прибытии во дворец и при отъезде гости с удивлением созерцали высокий забор, неожиданно выросший с обеих сторон Семеновского моста, подход к которому был перекрыт усиленным полицейским оцеплением. По непрекращающемуся шуму и ругани, доносившимся из-за забора, можно было догадаться, что мост закрыт на срочный ремонт.
Князь-граф молча ходил по этажам своего нового владения, то и дело подозрительно вглядываясь в лица еще несколько дней назад надежной прислуги — единственной категории людей, не покидавшей дворец круглыми сутками. «Кто знает, что они могли видеть в ту злополучную ночь? Нужно срочно избавляться от всех, как можно скорее набрать новых! Списки тоже — если лежат себе в карете, и хорошо, ее не станут сейчас поднимать… но вдруг взбредет в голову какому-нибудь ретивому подрядчику?! Да нет: холод, зима — раньше Пасхи никак не соберутся, не должны, а уж там-то все решительно изменится… Кауфман не может отказаться от нашей Великой Цели и своего обещания! Только бы не сорвалось, только бы не сорвалось! О, Magna Veritas, о, Magnum Incognitum!»[117]
II
От сильной боли в затылке и жгучего, приводящего в чувства ощущения ледяной воды на лице, волосах, воды, стекающей по плечам и шее на спину, он окончательно очнулся. Над ним был невысокий, неоштукатуренный кирпичный свод — судя по всему, это было подвальное помещение с одним маленьким зарешеченным окошком, но отсутствие естественного света в избытке заменял бьющий из-под потолка электрический — там, под маленьким казенным абажуром, точнее — плоским металлическим «блюдцем», болталась (по крайней мере, так казалось Думанскому, потому что в глазах плыли красные круги) электрическая лампочка высокой мощности, которая ослепляла его. Измученный адвокат сидел в Управлении полиции на стуле венской конструкции, только металлическом и выкрашенном в аспидно-черный цвет. Он был в одном нижнем белье, руки завернуты за спинку и схвачены наручниками. Все тело ныло, особенно плечи и шея, тупо болела голова и саднило лицо.
Привыкнув к яркому свету, Викентий Алексеевич увидел перед собой обер-офицера полиции, сидевшего в кожаном кресле за тяжелым, без эстетических излишеств письменным столом. На столе — только казенная чернильница, дело в грязно-рыжей картонной папке да стакан темного, крепчайшего чая в серебряном подстаканнике с чернью.
Арестованный, как только вернулось сознание, вспомнил тут же, что полицейские собирались доставить его в Управление. «Значит, это полицейский департамент и где-то здесь должен быть Шведов. Ну слава Богу! Только почему такой „радушный“ прием? Неужели никто ни о чем не предупрежден…»
Офицер взял в руки стакан и, с удовольствием прихлебнув чаю, продолжил смотреть Думанскому прямо в глаза. «Какой неприветливый сверлящий взгляд!» Викентию Алексеевичу было холодно, страшно хотелось пить и согреться. Прищурившись, с трудом шевеля губами, он попросил:
— Господин… Простите, звания не разберу… Рас… распорядитесь принести… принести чаю, будьте любез…
— Чаю??? — удивленно перебил офицер. — А шустовского коньячку не желаете-с?!
Думанский услышал издевательский смех за спиной: «Ха-арош гусь! Чаю ему!!! Х-ха!» — и только теперь увидел крепкого детину в форменной гимнастерке-косоворотке с погонами урядника, расстегнутой и без пояса, в кровавых пятнах (его, Викентия Думанского, крови?!), разминавшего кулаки-кувалды.
Офицер возмущенно продолжил:
— Нет, ты только посмотри, Дубов, какая редкостная скотина, а? Давно ты такого голубчика видел, а? Только очнулся, и опять за свое! Утомил ты нас, Кесарев… Будешь ты, наконец, отвечать на вопросы?! Говори, где твоя банда!!!
— Вы не смеете… — адвокат задыхался от горькой обиды и сознания невозможности расположить к себе этих слуг Государевых, убедить их в том, что он именно тот, за кого себя выдает, а не тот, чья личина скрыла его подлинный образ. — Прошу вас, господа, верить мне… Я адвокат Викентий Думанский, и это истинная правда. У меня сведения государст… ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ!
Офицер, вытирая платком взопревший лоб, расстегнул верхние пуговицы на кителе:
— Нет, это невыносимо… Кого ты здесь уже битый час за нос водишь, а?! Правду говори, мерзавец! Нам доподлинно известно, что ты особо опасный государственный преступник — на тебе же клейма негде ставить, Кесарев!!! Ох, лет двести назад я бы всю твою подноготную клещами из тебя вытянул, уж я бы тебя, вора, лично каленым железом заклеймил… Ну-ка, Дубов, поучи его еще уму-разуму — он нам все расскажет… Дай ты ему за упрямство!
Не успел Думанский что-либо возразить, как у него от мощного удара зазвенело в ушах, в глазах заискрило, и вместе со стулом он грохнулся на каменный пол, но на сей раз сознания не потерял, а лишь подумал, выплевывая с кровью зуб: «Это еще не Страшный суд, Викентий, суета земная… Одним кесаревским клыком меньше… Укрепи, Господи!» Усердный скуловорот-урядник щедро окатил его ледяной водой, и это в какой-то степени исполнило просьбу о… чае — не чай, так душ! Дубов рывком возвратил подследственного в прежнее, вертикальное положение.
— Ну-сс, что-то теперь скажете, а? — осведомился следователь.
Что мог сказать допрашиваемый правовед, дворянин, презиравший неправду?
— Я… уже сказал… Я адвокат. Имею ч-ч-чрезвычайные сведения… Выслушайте меня, р-ради всего с-святого…
Офицер опять встрепенулся:
— Ах, ты о святом заговорил! А тем, кого убивал, ты что же, Заповеди Божии цитировал?! Если ты и адвокат, то только своей жалкой, продажной душонки. Еще о каких-то сведениях смеешь говорить… Ты собираешься отвечать на мои вопросы, помогать следствию?!
— Если… Если бы вы могли знать, с кем… Я имел честь закончить Импператорское Училище правоведения… За мои сведения вас еще в звании повысят — с-слово дворянина!
— Да, Кесарев-то, оказывается, правовед и столбовой дворянин! — офицер истерически хохотал. — За такую шельму, как ты, нас и вправду в звании повысят, вот только поскорее бы… Может, тебе даже известно, кто повысит?
— В-ваш непос-средственный начальник, шеф сыскной полиции…
Допрашивающий с некоторым любопытством кивнул головой — ври, мол, дальше.
— … господин Шведов, А-Алексей Карлович. Верно?
Офицер озадаченно хмыкнул, вполголоса произнес куда-то в воздух:
— Шведов… Станет он принимать этого хама… — А после свысока посмотрел на «хама». — А не велика ли честь?
Думанский еще увереннее продолжил, пропустив оскорбления мимо ушей:
— Р-распорядитесь, чтобы мне принесли перо и бумагу. Я должен отправить срочное сообщение господину Шведову. Слышите?!
— C’est incroyable![118] — вырвалось у следователя. — Эй, Дубов, он сказал: Шведов! Ты тоже это слышал?
— Так точно-с и сказал…
— М-м-м… Ладно, вот бумага и карандаш, пиши… те. Но если… ты нас за нос водишь, считай, что тебе уже ничто не поможет!
Дрожащей рукой Думанский написал всего две фразы: одну латинскую, другую по-русски.
— Вот! Прошу, пусть это передадут Шведову. Только ему — лично!
Офицер повертел в руках записку, почесал в затылке и… отдал необходимое распоряжение.
Через четверть часа под кирпичные своды, пригибаясь, чтобы не разбить голову, явился Алексей Карлович Шведов собственной персоной. На сей раз глава петербургской сыскной полиции был в полковничьем мундире, с уже знакомым красно-золотым нагрудным крестиком — Анной третьей степени. Он часто дышал, видимо, спешил посмотреть на неуловимого «особо опасного преступника», из-за которого буквально сбилась с ног вся петербургская полиция, а может, и еще по какой важной причине.
Увидев коллегу, свою единственную надежду на избавление из создавшейся ситуации, своего единомышленника и однокашника, Викентий Алексеевич выдохнул:
— Господи, наконец-то! Чижик-пыжик, где ты был… Борис Иванович Кохно сказал бы, вероятно: «Склонность к убийству — это врожденный порок…»
Проводящий допрос офицер вскочил, засуетился, красноречивым жестом указал Дубову, дабы тот угомонил арестанта, сам же мгновенно застегнул китель на все пуговицы и крючки, и, молодцевато шаркнув, отрапортовал шефу:
— Разрешите доложить, ваше высокоблагородие, — подследственный Кесарев! Крепкий орешек, скажу я вам, господин полковник. На заданные вопросы отвечать не желает, несет нечто несусветное…
— Сядьте, поручик. — Шведов взволнованно махнул рукой. — Я уж и так вижу, что здесь особый случай. Хитрый зверь попался!
— Так, может, будут какие-нибудь особые указания? Усилить воздействие, так сказать. У меня вон Дубов мастер этой методы — допросим с сугубым пристрастием! Думаю, господин полковник, в данном случае гуманность даже вредна будет.
Шведов помрачнел лицом, на щеках заиграли желваки:
— Возможно, вы правы… — Он резко повернулся к «Кесареву», резко бросил: — Ну и что?! Я перед вами, как видите, но ей-богу не пойму, почему вы решили, что лично я непременно должен вас выслушивать?! Что вы хотели сказать этой странной запиской, арестованный? Даже если вы откуда-то знакомы с профессором Кохно, я в Училище правоведения вас никогда не видел! Скажу больше, Кесарев, — впервые вижу тебя живьем, но предпочел бы видеть твой труп!
— Я не… — Викентий Алексеевич с трудом превозмогал головную боль, не хотел верить своим ушам, но не сдавался. — У меня дело государственной важности, наше общее дело… Прикажите снять наручники… Буду говорить только с вами… Наедине…
Начальник сыска почувствовал наконец, что здесь все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мгновенно оценив всю исключительность ситуации, распорядился:
— Поручик, сделайте все, как он просит, и прошу, потрудитесь оставить нас вдвоем.
— Но ваше высокоблагородие, вы риску… — следователь не успел договорить фразу, как Шведов прикрикнул теперь уже на него:
— Под мою личную ответственность — извольте исполнять!
Когда в кабинете следователя (или специальной камере для ведения допроса?) осталось только два человека — арестованный, принятый за особо опасного преступника, в теле которого оказался волею не столько трагического стечения обстоятельств, сколько в итоге хитро спланированных вражьих козней милосердный слуга закона, высокопрофессиональный адвокат и глава петербургского корпуса сыскной полиции, суровый блюститель порядка, гроза уголовного мира, оба птенцы одной alma mater, — вокруг воцарилась двусмысленная тишина, в которой состоялся напряженный поединок взглядов, глаза в глаза: открытого, вопиющего о помощи и понимании и настороженного, недоверчивого, оценивающего крепость своего визави.
«Чего же он медлит, разве из записки не ясно, что я на самом деле тот, с кем он совсем еще недавно делился секретной информацией и предлагал выработать общий план экстренных действий?» — недоумевал в нетерпении Викентий Алексеевич Думанский.
«Что там на уме у этого мерзавца? — Алексей Карлович Шведов тщился заглянуть в душу подследственного. — Откуда он может знать эти цитаты?! Уму непостижимо! Вот гадина! Расчетливый, циничный — хочет шантажировать меня каким-нибудь компроматом… Дудки — я перед Богом и Государем чист! Хочет продать каких-нибудь гуляющих на свободе головорезов вроде себя? Нельзя ему верить — под страхом виселицы такой оговорит кого угодно! Так что же все-таки он задумал…»
Ставшую уже гулкой тишину первым прервал Думанский — он кричал бы во весь голос, но сил хватало лишь на упрямый, взволнованно-сбивчивый полушепот-хрип:
— Господин… господин Шведов, я должен довести до вашего… У меня срочная информация гос-сударственной важности.
— Это я уже слышал! — полицейский полковник вскипел. — Что именно?! Что же такое ценное, неотложное можете сообщить государству вы, вор и убийца? Полагаете, Империи могут быть интересны откровения очередного Ваньки-Каина?! Что может вас сейчас волновать, кроме спасения собственной никчемной шкуры, низкой душонки?! Меня вот по-настоящему беспокоит вопрос, когда же ты, Кесарев, будешь вполне заслуженно болтаться в петле!!!
— Ну что ж, пусть так… А я готов объяснить суть моих волнений: например, вспомнить вместе с вами, почтеннейший… вспомнить о том, что мой ассистент Сатин не стеснялся брать взаймы у клиентов нашей адвокатской конторы — промышленника Быстрова, например, у купчихи Сегодняевой… Он даже посмел брать ссуду у самого банкира Савелова — у вас имеются неопровержимые доказательства этого…
— Разумеется! Как и того, что убил Сергея Александровича Савелова именно ты, скотина!!! — Буквально завопив, Шведов вскочил и сокрушительным боксерским хуком послал наглеца в нокдаун.
Через несколько секунд тот поднялся. Сплюнув чужие выбитые зубы на каменный пол, вытер кровь тыльной стороной ладони. Пошатываясь, но не теряя самообладания, произнес:
— Браво! Хо-ороший удар… Кесарев заслужил и большего. Не знаю, как сам бы повел себя на вашем месте — наверное, своротил бы этому негодяю скулу… Поймите, мне не жалко ни его зубов, ни этого… мерзкого тела — оно только тяготит меня! Всего печальнее, что судьба Кесарева неизвестна, может быть, он убит, а я, Викентий Думанский, доказавший как раз его виновность… должен сейчас доказывать вам подлинность своей личности. Я, в отличие от вас, Алексей Карлович, не забывал нашего конфиден… циального разговора об операции государственной важности, о личной озабоченности Государя известными вам событиями и даже возможного введения чрезвычайного положения в стране. Как видите, ваши усердные подчиненные не до конца отбили мне память! Вы, кстати, разве не получили мое письмо о Сатине-Панченко и его «карнавальном» методе смены масок?
— Ну допустим… — Шведов даже изменился в лице, он был просто обескуражен. Полковник сам поднял арестанта с пола, сам усадил на место и даже поднес ему стакан воды. Шефу сыскного отделения казалось, что он сходит с ума: — Стоп! Погоди… Что за ч…щина, в конце концов!!! Ты Кесарев или все же… Та-а-ак… Так-с! Потрудитесь-ка тогда объяснить: если вы… ты… Если вы — Думанский, где и когда мы с вами могли познакомиться? Ну же, быстрее! Или я…
— В Императорском Училище правоведения, разумеется. Вы старше меня на два выпуска, — адвокат не терял самообладания. — Не припоминаете? А я вот отлично помню вашу обже. Вы волочились тогда за смолянкой Китти Усольцевой — все училище тогда, затаив дыхание, следило за вашими романтическими отношениями, вам сочувствовали. Ведь ваши родители, простите, отказались благословить вас из-за мезальянса… Впрочем, давно это было и я, pardon, возможно, что-то напутал.
Викентий Алексеевич ничего не «напутал» — молчание остолбеневшего полковника было тому подтверждением.
— А недавно, Рождественским постом, вы были у меня в кабинете с обыском как раз по делу Сатина — у нас с ним был общий рабочий стол. Вижу, припоминаете.
— Н-ну был… А вы были здесь, в Управлении сыска, в Департаменте? Скажите тогда — в каком кабинете я работаю.
Арестованный без размышлений назвал правильный номер: тринадцать.
— Ну да, может быть, это существенно…
— Прежде чем я скажу вам что-либо, Алексей Карлович, попрошу вас об одной вещи — покажите вашу ладонь.
— Ладонь? — удивленно переспросил Шведов. — Что за бред, зачем вам это? Но, будучи заинтригованным, ладони все же продемонстрировал. — Вот, смотрите. И что теперь?
— Все в порядке.
Убедившись, что на правой ладони давнего коллеги и друга нет разрезов, Викентий Алексеевич отбросил мелькнувшее подозрение.
— Если вы задумали разыграть передо мной умалишенного, то не тратьте мое время, вам это не поможет…
— Все еще не можете мне поверить? Вот что существенно: мне известно о готовящейся сверхсекретной операции, но я уже говорил об этом… Это невыносимо… Дело, о котором пойдет речь, ведет жандармский ротмистр Константин Викторович Семенов!!! Как вы думаете, откуда я все это знаю? Может быть, уже хватит меня проверять? — Думанский склонил голову, плечи его дрожали. — Господи! Укрепи меня, окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся,[119] открой сердце мое этому человеку…
В углу, под низким кирпичным сводом висел небольшой, запыленный образ. Лик Спасителя потемнел от копоти и регулярного излияния перед Ним самых страшных нечистот души человеческой. Шведов привстал, как-то неуверенно перекрестился и беспомощно развел руками:
— Я был готов к любым неожиданностям, но чтобы такое… Спаси и сохрани! Ничего не понимаю… Боже мой, вы хотите мне доказать, что вы Думанский??! А может, вы его пытали, выяснили все эти подробности и теперь морочите мне ими голову?! А может быть, вы еще и телепат или колдун?
— Да, да, да — можете мне не верить, но я действительно адвокат Думанский, Викентий Алексеевич! Здесь не метаморфоза — здесь метемпсихоза, переселение души. Жуткий оккультный эксперимент! И вот у вас перед глазами бандитская личина, а настоящий… если вам угодно, Кесарев сейчас где-то разгуливает в другом теле, может, вообще убит давно. А в моем благоденствует некий Давид Кауфман! Знаю, что это звучит как полный бред, но я не помешан, клянусь вам! Впрочем, все гораздо страшнее… В качестве доказательства возьмите мою записку с цитатами Кохно, которую вам сейчас передали и сверьте, к примеру, с моими старыми письменными показаниями по делу об убийстве Сатина. Поверьте, мой почерк сложно подделать. Сверьте еще с бумагами из моей конторы… Я вам еще письма писал…
Начальник петербургского сыска снова встрепенулся — он не мог так просто позволить, чтобы этот некто изощренно водил его, самого полковника Шведова, за нос:
— Вы хотите сказать, что сначала за ваш счет обклеили розыскными листовками с кесаревской образиной и обещанием пятидесяти тысяч за его голову весь Петербург, раздали их всем околоточным и дворникам, а потом в ходе какого-то «эксперимента» вы сами вселились в тело этого убийцы и головореза? И какова же была ваша цель — ради остроты ощущений, что ли?! Вы сами отдаете себе отчет в том, что несете? Околесица! Богохульный бред!!!
— Когда понадобится, я дам отчет в каждом моем слове перед Богом и Его Помазанником! То, что вам, коллега, кажется бредом, — неумолимая насущная реальность, — голос адвоката звучал твердо, и по этому уверенному тону можно было понять, что он нисколько не интригует, тем более не шутит. — Я помню ваше откровение о многотысячных тайных захоронениях, господин Шведов, так вот — это только леденящая душу загадка, ключ к ней как раз и представляют собой мои сведения. Российской Империи давно уже — по меньшей мере, полтора столетия назад — объявлена скрытая война, которая в нынешнее царствование становится все более наглой и жестокой, сейчас уже дает зримые результаты, а может принять явные формы и привести историю нашего Отечества к гибельному финалу! Братья масоны, служители всякого рода оккультных сил, опираясь на наших врагов с политической карты мира, уже не первый год проводят и сейчас близятся к завершению планомерной реинкарнации правящего слоя нашей России: почти все фигуры, занимающие высшие посты в Государственном совете, министерствах, «подменены», этой же процедуры не избежало и большинство чиновничьего аппарата — от коллежского до действительного тайного советника. Идет реинкарнация генералитета, гвардии и даже архиереев! Враги проникли в придворные круги — под видом камергеров Двора Его Императорского Величества сплошь и рядом действуют никому не известные проходимцы!!! Я понимаю, это звучит как маниакальный бред, но попробуйте представить себе подобную ситуацию, скажем так, в уголовном ключе: есть, к примеру, крупный преуспевающий банкир, у него положение в обществе, красавица жена, обеспеченная жизнь — дворцы, загородные виллы, роскошное авто, деньги — да! — деньги, в конце концов, и для того, чтобы стать обладателем всего этого сразу, его не нужно шантажировать или грабить — достаточно просто осуществить реинкарнацию, поменять в теле душу. Провести мистический обряд, известный еще предшественникам вольных каменщиков из глубины веков, а последними используемый для своей сокровенной цели — стяжания все большей и большей власти с перспективой всемирного господства. Это, разумеется, бред для нас с вами, людей с принципами, воспитанных с младых ногтей в верности христианским и монархическим идеалам, а вот приезжает к нам иностранец, человек, развращенный в духе современных общественных, точнее — антиобщественных, идей, с одной лишь целью — прибрать к рукам чужое и наслаждаться, жать, где не сеял, присвоить, чего не достоин, не заслужил. Он, этот «заморский гость», масон или социалист (что, впрочем, почти одно и то же), в общем, враг традиционного общества, спокойно реинкарнируется в тело вышеупомянутого банкира. Скажите мне как правовед правоведу: в Своде Законов Российской Империи предусмотрена уголовная ответственность за реинкарнацию? Вопрос, разумеется, риторический, выражаясь вашим языком — бредовый. А раз такого закона нет, значит, наш иностранец может беспрепятственно действовать, и вот банкир уже он, а настоящего банкира словно и не бывало! Впрочем, никто, кроме посвященных, и знать не знает, что его уже нет — ходит себе по-прежнему банкир N… — в душу-то ему не заглянешь! Еще не догадались, где труп иностранца? Вы найдете их массу в пресловутых захоронениях! А души, поверьте мне, с большим комфортом устроились на стогнах, так сказать, русских столиц и фланируют среди нас, ничего подобного не подозревающих, пока не дойдет очередь до нового несчастного, каждого в отдельности, нашего с вами достойного соотечественника. Вот до вас, например, не приведи Господь! Этот «бред» происходит в самом центре Петербурга, Москвы, у нас под носом, еще и до провинции доберется, а поверить в него трудно, почти невозможно… Да что говорить, если даже вы, умудренный опытом практик сыска, не видите всех масштабов разворачивающейся катастрофы и изощренной, тайной доктрины злодеев!
Строго логический ум Шведова продолжал требовать определенности:
— У вас всё инфернальные фантазии! А доказательства, батенька? Юридически неопровержимые доказательства — где они?! Ну, допустим, я вам поверил, только как вы себе представляете передачу подобной информации Семенову? Не говоря уже о докладе самому Государю Императору!
— Не знаю. Вы мне не верите. Но я вас очень прошу: возьмите старые письма из моей конторы и сравните почерк с сегодняшней запиской. Да что там почерк — я вам по каждому делу могу рассказать такие подробности, которые известны только настоящему Думанскому. Если угодно, проэкзаменуйте меня! А ротмистра Семенова я, между прочим, письменно предупреждал о масонских угрозах Савелову еще до несчастья, которое со мной стряслось, но, видимо, нельзя надеяться на нашу почту… Я подписался «правоведом».
— Чего захотели! Вы еще рисковали — строго конфиденциальную информацию простым письмом! Ну да, были письма…
С этими словами Шведов вызвал охранника и удалился. Через четверть часа он вернулся с самым озабоченным видом, держа в руках бумаги, имевшие отношение у Думанскому.
— Вот здесь, среди прочих документов, есть объяснительная записка адвоката Думанского по делу Сатина, — заявил Алексей Карлович, вынув из папки исписанный каллиграфическим почерком листок. — Извольте писать под диктовку.
«Кесарев» с готовностью взял перо и бумагу, а Шведов, стоя сзади и глядя пишущему через плечо, отчетливо диктовал:
— «Мой ассистент Алексей Иванович Сатин за время службы в адвокатском бюро вел следующие дела: промышленника господина О. В. Быстрова, купчихи Первой гильдии Н. X. Сегодняевой, графа фон Бауэра…»
Соответствие почерков было на лицо.
— Но как же, как это возможно — эта внешность… Такая чудовищная метаморфоза! Нет, не понимаю… Я взял бумаги с вашими письменными показаниями, которые вы давали по делу Сатина, и сравнил их с запиской, которой вы вызвали меня сюда. И, кстати, последнее письмо я получил только сегодня, несколько минут назад… Что за фокусы?! Всё один к одному. Не надо быть светилом графологии, чтобы прийти к окончательному выводу: все четыре образца написаны одной рукой, то есть вами. Все это, конечно, немыслимо, но тем не менее все мои сомнения относительно вас окончательно развеяны.
— Будет лучше всего, если вы сейчас же лично поедете и лично заберете попавшие ко мне секретные документы масонов…
— Я распорядился: вас осмотрит врач, вам вернут ваши вещи, принесут другую одежду и покормят. А кстати, что вы имели в виду, когда говорили мне тогда о пресловутых захоронениях?
— Итак! — вернулся к своей мысли Думанский. — В отношении доказательств — здесь же простейшая арифметика! Имеем тысячи неопознанных трупов, не объявленных в розыск ни у нас в Петербурге, ни в губерниях, а уж тем более за границей, но вы не поленитесь, сделайте простой запрос в Таможенное ведомство, в Штаб пограничной стражи — кто там еще этим занимается? — выясните, сколько иностранных подданных ежегодно пересекает рубежи Империи в обоих направлениях. Вы тут же убедитесь, что разница оставшихся в России и выехавших назад как раз и составит, с определенной погрешностью разумеется, искомое число, совпадающее с количеством невостребованных, неопознанных трупов!
Шведов захлопал глазами:
— Хм… Вообще-то резонное, но… по-моему, слишком смелое предположение.
— А нам уже некогда бояться — права не имеем, дорогой вы мой Алексей Карлович, время не позволяет бояться, время не ждет! Нужны неопровержимые доказательства, я вас правильно понял? В таком случае откройте письмо, которое только что вам подали и которое вы еще не соизволили распечатать. Там я подробно расписал, где лежат бумаги, о коих до сих пор шла речь. Это скандальные, изобличающие документы. Убедитесь сами: отправьтесь с нарядом в дом терпимости на Гороховой, тот самый, где убили Савелова. Там на чердаке, возле выхода на крышу, в северо-западном углу, я спрятал мешок с частью масонского архива, происходящий из нового дворца князя Мансурова графа Сорокова-Лестмана. В этой папке подробнейшие списки всех несчастных государственных лиц, кого заговорщики уже подменили, и тех, кто предназначен ими для этой «кары» — реинкарнации, там есть и информация о далеко идущих масонских планах и о прямой опасности, угрожающей власти на са-амом верху — в лице Государя! Речь идет об угрозе его жизни…
Со словами «О, Боже! Что вы говорите, коллега? Неужели все обстоит так серьезно?!» Шведов, покрасневший от услышанного до кончиков ушей, точно это была его личная недоработка, распечатал конверт, и на глазах у Викентия Алексеевича быстро, но с видимым интересом и заметным волнением прочел письмо. Реакция была такова, что начальник петербургского сыска решительно поднялся, точно внутри у него распрямилась какая-то сжатая до тех пор пружина: он наконец поверил, почувствовал, что перед ним настоящий Думанский и нужно немедленно действовать, принимая во внимание все, что говорит перелицованный бедняга-адвокат.
— Понимаю, Алексей Карлович, что мне сейчас трудно верить, особенно… в таком виде, но я ведь и сам до сих пор не могу окончательно осознать, что со мной произошло. Мало того, что меня заманили в свое логово эти «мясники» и подвергли своему сатанинскому ритуалу, так ведь я недавно выяснил еще другое: Кесарев, банально мстивший мне за то, что я вывел его на чистую воду, оправдав Гуляева, следуя за мной по пятам, сам угодил в эту масонскую ловушку, наверняка был в суматохе убит, и я по ошибке оказался в его теле, а тот, кто был изначально предназначен для реинкарнации (кажется, какой-то германский подданный), добился своего и до сих пор как ни в чем не бывало разгуливает в моем теле, возможно, даже вынашивает антигосударственные планы… За это мне, наверно, Кесарева благодарить надо, не будь его там, я бы сейчас с вами не разговаривал. У меня при аресте отобрали оружие… Эх, если бы я мог, сам расправился бы с этим оборотнем… Нет, я не могу спокойно об этом говорить: вы сами все поймете из документов… — У Викентия Алексеевича перехватило горло, и он почти прошептал: — Умоляю вас, примите неотложные меры!
Шведов почувствовал вдруг, как душно под давящими подвальными сводами, и поторопился к двери:
— Ох, как здесь, однако, жарко… Простите, господин Думанский, все это так неожиданно, так чудовищно… Сейчас нелепо было бы извиняться за то, что вы перенесли из-за нашего головотяп… из-за нерасторопности нашего ведомства — нужно спешить! Вы пока приходите в себя, а я сейчас должен отдать все необходимые распоряжения в соответствии с вашим нынешним положением и вашими чрезвычайно тревожными сведениями. Держитесь, голубчик, у нас еще есть время!
Полковник снова перекрестился на одинокий образ, теперь уже широко, решительно, с земным поклоном — «Господи, сим знамением победиши!» — и вышел из камеры.
Через несколько минут адвокату предоставили новую одежду, вернули и конфискованные вещи, и деньги, после чего, принеся теперь уже официальные извинения и закрыв начатое было дело, объяснили, как следует вести себя в ожидании шефа.
— Господин Думанский, вам пока необходимо оставаться у нас — теперь уже в качестве соратника. Полковник Шведов велел передать лично, что в город вам сейчас категорически опасно выходить и необходимо дождаться его в одиночной камере для дальнейших совместных действий по известному делу. Всё, что вы пожелаете, вам будет доставлено, — сообщил правоведу поручик, еще недавно «с пристрастием» допрашивавший его. — Сожалею, что так произошло, — неизбежные издержки нашей службы-с. А пока, прошу вас, пройдите осмотр у врача — вас проведут. Честь имею! — напоследок откозырял офицер, когда нижний чин, бережно помогая Думанскому, выходил с ним в коридор.
Адвокат ответил сухо — кивком головы.
За окнами известного любому петербуржцу здания у Пантелеймоновского моста уже начинало темнеть, когда шеф сыскной полиции вернулся в Департамент, и, открыв дверь камеры, первым делом увидел Думанского, которого сморило на узкой казенной койке, поверх суконного солдатского одеяла. Он осторожно коснулся плеча спящего коллеги, но и этого было вполне достаточно для того, чтобы поднять Думанского, который давно уже не спал, а в состоянии тревожной полудремы ожидал прихода полковника с указаниями о дальнейших действиях.
Сказать, что Шведов был до крайности расстроен, значило бы не сказать ничего. Так, наверное, мог бы выглядеть человек, нечаянно заглянувший в бездну ада.
— Надеюсь, Викентий Алексеевич, вам удалось соснуть хотя бы пару часов. К сожалению, больше времени на отдых предоставить не могу. Необходимо немедленно вернуться к делам! — с ходу скороговоркой выпалил Шведов. — Ваши сведения оказались еще более серьезными, чем я представлял себе из разговора. Добытая вами документация носит столь угрожающий характер и действительно свидетельствует о политической катастрофе такого масштаба, что мы должны просить личной аудиенции у Государя Императора! Видите ли, я не могу предпринимать какие-либо действия самостоятельно, это слишком большая ответственность, да и не в моих полномочиях. Поэтому мне для начала необходима срочная встреча с ротмистром Семеновым. Вы хоть сами понимаете, что нашли? Настоящая бомба! Эх, если бы эти бумаги попали к нам хотя бы несколько лет назад, мы смогли бы задушить эту скверну в самом зародыше… Теперь-то мне все понятно! — заметил Алексей Карлович, натягивая лайковые перчатки и при этом аккуратно расправляя каждый пальчик. — Чудовищный взрыв, точнее разрыв пополам Семеновского моста, с кровавым месивом и убийством прокурора города — я предполагаю, тоже ваших рук дело, Викентий Алексеич?
— А что мне оставалось, коллега? Я ведь заранее узнал о странных сборищах в доме Мансуровых, и у меня не было времени для рефлексии. В первую очередь я ставил перед собой задачу любым способом выкрасть свое тело — выкрасть самозванца, этого оборотня, и вернуть мое тело.
— А вам не приходило в голову, что от такого взрыва погибнет масса людей, в конце концов, вы сами и ваше подлинное тело тоже?
— В таком положении трудно все точно взвесить. Я определенно знал, что мне нужно, но почти не представлял, как этого добиться, каков будет итог нападения. А убитые боевики… Пребывание в шкуре закоренелого бандита ожесточает, Алексей Карлович! Признаться, я испытывал большую жалость к невинным лошадкам, чем к этим слугам врага рода человеческого.
— Звучит патетически, точно слова самого Дениса Давыдова…
— Мне бы еще его неистовых гусар, тогда бы хватило сил без чьей-либо помощи раздавить это осиное гнездо мистиков-русоненавистников! — Думанский распалился не на шутку.
— А между тем, — резонно заметил шеф сыскной полиции, — вокруг вас были не менее отъявленные мерзавцы, чем эти масоны. Трудно представить, дражайший Викентий Алексеич, как вы сохраняли самообладание в подобном, прямо скажем, дурном обществе, — преклоняюсь! Кстати, если подумать, стоило бы вашему — простите, конечно же, кесаревскому — «послужному списку» дать ход, то за все его преступления вас в течение года пришлось бы на эшафот водить.
Думанский усмехнулся:
— С вашим черным юмором писать бы новеллы в духе Эдгара Поэ! Только не забывайте, что для полного исполнения приговора нужно было бы, чтобы у меня всякий день отрастала бы новая голова, как у Змея Горыныча, или, если вам угодно, Лернейской гидры.[120] Смотрите-ка, почти эпический сюжет получается!
— Да вы не волнуйтесь так, коллега, добытый вами сверхважной информации достаточно для оправдания преступлений любого Емельки Пугачева. Даже если вы останетесь «Кесаревым» (чего я вам искренне не желаю), я лично гарантирую вам, бесценный вы наш, полное оправдание за все «содеянное» и всяческую сатисфакцию за то, что вам пришлось перенести в последнее время! Я ведь уже ознакомился с перехваченными вами документами, а мои люди успели навести необходимые статистические справки. — Шведов бросил выразительный взгляд на заднее сиденье, где покоился мешок с масонскими папками, обнаруженными в точности с указаниями адвоката на чердаке дома на Гороховой. — И знаете, что выяснилось? Положение-то еще более ужасающее, чем вы мне обрисовали: «без вести» осевших в Российской Империи иностранных подданных оказалось куда больше, чем пересекших границу в обратном направлении, вскоре нас наверняка ждут новые находки чудовищных тайных могильников не только в столицах, но и в провинции. Что же касается списков реинкарнированных (слово-то какое — русский язык едва с ним справляется!) и прочих документов, которые я успел просмотреть, это, батенька, такая информационная бомба под святая святых нашего Богоспасаемого Отечества, что их возможно передать только самому Государю, предварительно, конечно, поставив в известность ротмистра Семенова, коль уж он назначен курировать всю операцию.
Шведов умолк с выражением озабоченности на лице: во избежание непредвиденных промедлений и проволочек он готов был хоть сейчас везти масонский архив в Зимний дворец или в Царское, но нарушить установленную свыше субординацию, даже из самых благих соображений, никак не смел.
— Тут ведь что, в сущности, получается, коллега, — продолжил он в раздумье, — если действовать в строгом соответствии с духом и буквой Закона (а мы с вами как правоведы иначе действовать не можем!), то весь цвет Российской Империи, всю политическую и культурную элиту, всех, казалось бы, достойных представителей общества, на которых в здоровой обстановке опирается государство, в нашем случае следует, простите… перевешать на фонарях! Ведь так выходит, согласитесь? Задачка-с!
— А что же вы прикажете делать?! Не беспокойтесь, — решительно кивнул адвокат, — фонарей в Империи на всех хватит. Ситуация чрезвычайная и меры в таком случае должны быть применены только исключительные! Да что я вам объясняю, Алексей Карлович, или не вы мне говорили, что секретный план предусматривает всё?
— Разумеется, я. Просто поражаюсь вашему хладнокровию… А! Кстати… — полковник Шведов откуда-то из-за полы шинели извлек «гуляевский» вессон. — Вот, извольте получить — ваш именной с уже початой упаковкой патронов! Настроению вашему вполне соответствует, да и насущная необходимость. — Шведов ухмыльнулся, прочитав надпись: «Адвокату от благодарного негоцианта» на серебряной пластинке.
— Покорнейше благодарю, Алексей Карлович! Я ведь о нем забыл — от радости, когда вы распорядились закрыть дело. Благодарю, что вы не забыли…
— Я на самом деле, дражайший Викентий Алексеич, помню и знаю больше, чем вы думаете. Письмо ваше о Панченке за подписью «правовед» я ведь получил, принял срочные меры: связался с французскими коллегами, отправил им не только исчерпывающую информацию об этом чудовище, но мой сыскной отдел выслал в Париж также специальную группу сотрудников для расследования его криминальных «фокусов»… А вы вот что лучше мне скажите: под каким, так сказать, юридическим соусом мы сможем арестовать «Думанского»? Он вообще чист перед Законами Империи! Вы же сами с жаром объясняли мне, что статья «за реинкарнацию» выглядела бы абсурдно. Вот задачка-то какая выходит на самом деле: чрезвычайные меры должны иметь веские основания. Конечно, у нас есть московские списки, составленные самими масонами… Да уж, что бы мы сейчас делали, не окажись вы в чужой шкуре! Вы сами, подумается, единственное воплощенное доказательство всех подобных эпизодов, имя коим легион…
«Как он точно определил всех их одним черным именем — легион! — поразился Викентий Алексеевич. — В каждом из тех несчастных — бес. От сущих ч…тей до мелких бесов. В моей плоти тоже вот… И только самому Господу или Архистратигу Михаилу под силу такой экзорцизм[121] — всех их изгнать. Как бы собственное-то тело очистить хоть от одного, зато какого матерого — магистра ложи…»
В глубине души Думанский опасался, что если оставшиеся списки будут искать дотошные полицейские, то непременно проверят обе бочки, а ему совсем не хотелось, чтобы они нашли шкатулку с фамильными драгоценностями Молли, было бы неприятно, чтобы личных вещей возлюбленной в очередной раз касались чужие руки, и уж совсем недопустимым казалось впутывать в это грязное дело ее чистое, святое для него имя.
— Да, это так, — сказал наконец Думанский. — Не смею скрывать, у меня есть еще и столичный список. Он надежно спрятан в другом месте. Где именно — вы уж не обессудьте! — сказать не могу, покажу сам, лично.
— Надеюсь, он спрятан в надежном месте — у меня нет оснований вам не доверять, коллега. Пусть он пока что там и остается. Это будет наш главный козырь!
Пустим пока что в ход сведения по Первопрестольной, а уж если что-то с ними случится, мы с вами тогда найдем способ добраться с петербуржскими до самого Государя.
— А может быть, лучше будет опубликовать их в газете? — предложил Думанский.
— Неплохая идея! — воскликнул Алексей Карлович. — Но сперва надо доказать, что эти бумаги — не фальшивка.
— А я в качестве доказательства не подхожу? — бесхитростно спросил адвокат.
— Я ведь уже сказал, Викентий Алексеич, вы-то и есть самое настоящее неопровержимое доказательство, поэтому мы вас будем беречь! Только одно остается все же не совсем понятным для меня — зачем этим алчущим власти монстрам понадобилось реинкарнировать именно вас? Возможно, вы вели какие-то серьезные дела, связанные с политикой, с доступом в самые высокие сферы влияния?
— Нет! — Думанский даже брезгливо поморщился. — Никаких особых дел я не веду и в тайны мадридского двора не посвящен. Я вообще, до тех пор пока не оказался в этом положении, старался быть подальше от политики. В основном практика была уголовная, а последний процесс — дело Савелова, как вы помните…
Шведов не удовольствовался подобным объяснением:
— Нет, вы сами посудите: какой-то незнакомец, иностранец занял ваше место в обществе. Вы же понимаете — это серьезнейшая операция, сложный ритуал! Им нужно было время, чтобы как-то выйти на вас, подготовить все доскональнейшим образом. Спрашивается: для чего столько хлопот? Какая им была выгода заполучить именно ваше положение, ваше тело? Нам просто необходимо это выяснить, иначе можно упустить очень важную нить заговора.
Адвокат озадаченно молчал: он по-прежнему не видел в своей персоне ничего значительного.
— Ну да ладно, к этому мы еще непременно вернемся. — Полковник сам торопился сообщить Викентию Алексеевичу другую важную информацию. — Я только что получил данные статистики по Уголовному департаменту относительно количества неопознанных тел из найденных захоронений. Кроме того, я запросил сведения в Штабе пограничной стражи по количеству иностранных подданных, въезжавших из-за рубежа и покидавших пределы Российской Империи. Разница цифр полностью подтверждает сказанное вами и мои собственные предположения. Как же мы до этого раньше не додумались! Как же можно быть такими наивными простаками! По сути дела, у нас уже давно имеет место скрытая интервенция! Выехало примерно в десять раз меньше, чем въехало. Никто никогда и не думал заниматься этой статистикой — преступное прекраснодушие! И притом еще два года назад такого не было. В Штабе пограничной стражи довольно наивно полагают, что за последние годы жизнь в России стала настолько привлекательной, что все въезжающие остаются у нас насовсем.
Должен сразу предупредить вас, Викентий Алексеевич: несмотря на мое полное к вам доверие и единодушие во взглядах на ситуацию, вам, тем не менее, некоторое время все же придется провести в камере под замком. Думаю, не стоит убеждать, что в городе вам появляться опасно, особенно после недавнего «шума» на Семеновском мосту, за что разыскивают Кесарева, то есть, простите, вас. Вы ведь, увы, в облике того человека, на которого в том числе «повешены» все нераскрытые убийства; вас ищут и жандармерия, и бандиты, и масоны. Да, положение ваше, прямо скажу, незавидное! Не хотелось бы оказаться в вашей, простите, шкуре… Посему для всех вы должны оставаться арестованным. Так что, Викентий Алексеевич, уж не обижайтесь, но я вас отсюда никуда не отпущу. Для вашей же безопасности! Здесь вас никто не будет искать. Согласно документам, которые я только что подписал, Кесарев «передан» в жандармское ведомство. Им же я направил бумагу, что вы будете нужны мне еще в течение трех суток для оказания медицинской помощи и дачи дополнительных показаний уголовной полиции. В моих полномочиях задержать вас максимум на три дня, но уверяю вас — за этот срок мы успеем сделать все необходимое!
— Получается, я как Фигаро, тут и там одновременно, а по сути — совсем наоборот, — невесело усмехнулся Викентий Алексеевич.
— Не будет ли еще какой-нибудь просьбы, коллега? — поинтересовался перед уходом Шведов.
— Да, я хотел попросить об одной деликатной вещи. Здесь, к сожалению, почему-то нет иконы. Какое же может быть жилище человеческое без образа Божия? Пусть это даже камера, но…
— Конечно, я вас отлично понимаю и это досадное недоразумение исправлю. Все, что скажете. Я, кстати, уже распорядился: сейчас вам доставят горячий обед из ресторана гвардейского Офицерского собрания.
Некоторое время спустя в камеру внесли образ Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в серебряном окладе с жемчугом — с потемневшим, принявшим много людских бед и скорбей ликом старинного письма. В углу под ним поместили и неугасимую лампадку: это наполнило душу адвоката давно не испытанным покоем и надеждой на то, что промысел Божий, несмотря ни на что, осуществится и утешенные агнцы будут отделены от козлищ, которые понесут неминуемую кару…
Прошли сутки, но Шведов так и не появлялся. Сначала Думанский ждал его, вскакивая при каждом звуке шагов в коридоре, затем принялся молиться, положившись на Божественное Провидение. Ночью ему приснился невероятно странный и на редкость неприятный, неутешительный сон-фантасмагория.
Некоторое время он не мог прийти в себя, но потом решил, что все это — следствие сильного утомления и переживаний последних дней.
Прошли еще сутки. Почетному «арестанту» приносили еду из ресторана, даже без просьбы предоставили свежие газеты. Но это уже не радовало. Время тянулось мучительно долго, в голове постоянно прокручивались события последних дней. Мысли постоянно возвращались к странному сну: неужели все так и было? Нет, это чересчур ужасно! Но интуиция вкупе с неумолимой логикой твердили Думанскому, что из всех возможных вариантов развития событий этот — самый вероятный. Две вещи более всего занимали Викентия Алексеевича в его «спасительном заточении» — поиск причины его собственной реинкарнации и глубокая, возможно, впервые в жизни столь проникновенная и откровенная молитва. «Чем я, один из множества русских законников, честно исполняющих свой долг на не столь уж видном и уж совсем не спокойном, теплом месте, мог привлечь внимание этих стяжателей власти, денег и славы?!» Чем больше он погружался в молитву, тем яснее понимал одно: в последние годы он медленно, почти незаметно для самого себя, не то что для окружающих, отдалялся от Бога, и вера его, по мере этого отдаления, начинала охладевать. В храм ходил нечасто, оправдывая это небрежение служебной занятостью, утренним и вечерним правилом часто пренебрегал как «формальностью». Думанский попробовал вспомнить, когда в последний раз причащался, выходило, что не менее полугода назад. «Чему я еще удивляюсь! Там, откуда уходит Бог, где нет подлинного мира и почтения к ангелу-хранителю, освобождается место для всякой нечисти, для бесов с их кознями. Тот человек, каким я стал за эти годы, и сделался легкой добычей для ловцов душ человеческих! Еще хорошо, что отняли тело, но если и дальше удаляться от исконной веры отцов, в которой всё для русского человека, во что бы то ни стало заполучат и душу. Избави Господи! Владычице усердная, укрепи меня на камне Веры, не выдай вечной души моей на поругание клевретам сатанинским!» Однажды Думанский попробовал занять себя чисткой «именного» смит-вессона, разобрал его было и ужаснулся: «Разве я, сугубо штатский, призванный не убивать и калечить людей, а наставлять на путь истинный и спасать, мог еще недавно помыслить, что не то что лишу кого-нибудь жизни — пусть даже отпетого негодяя, хотя бы и масонского цепного пса, как там, на мосту, — но вообще буду иметь дело с оружием, пускать его в ход! Викентий, что же дальше-то будет?!» И он опять вернулся к дающей утешение и надежду молитве.
Все более непонятным и подозрительным казалось Думанскому отсутствие Шведова. В ответ на свои настойчивые вопросы он слышал лишь уставное «не могу знать» или казенное «занят по службе, велено отвечать, что прибудет в положенный срок»! И по-прежнему успокоение и мир нисходили на него лишь от намоленной поколениями иконы Божией Матери. От темного лика и от теплившейся лампады подлинно исходил «свете незаходимый», жемчужно-нежно озаряя камеру, чудесным образом подтверждая, что молитвы услышаны и с рабом Божиим Викентием пребудет «сило беспомощных» и «надеждо ненадежных».
Думанский вконец извелся. Наотрез отказавшись от обеда, он безостановочно ходил из угла в угол камеры подобно зверю в клетке.
Наконец к вечеру следующего дня Шведов вошел к нему в камеру. Вид у полковника был на редкость утомленным, будто тот все это время ни на минуту не сомкнул глаз. Запыленный, потрепанный мундир болтался на нем, будто Шведов враз похудел, — таким измученным Думанскому его еще не приходилось видеть. Впрочем, волнения и бессонная ночь изменят кого угодно…
— Собирайтесь! Все оставшиеся документы надо срочно доставить ротмистру Семенову, — выпалил Шведов, протопав через всю камеру и плюхаясь на табуретку. — Вы, надеюсь, помните, куда спрятали остальное?
— Разумеется! Я могу показать. Это во дворе на Гороховой. Где же столько времени вы были? Я уже начал беспокоиться.
— Все потом. Промедление смерти подобно. А в нашем случае еще хуже, чем смерти! Едем прямо на квартиру к ротмистру, он нас уже ждет у себя дома. Сами понимаете, по такому поводу мы можем побеспокоить его и на квартире. Собирайтесь, собирайтесь, голубчик, едем прямо сейчас, без промедлений! Мотор уже ждет.
— Какие могут быть разговоры! Я готов.
— Ну-с, тогда с Богом!
Без лишних формальностей Думанского освободили из-под стражи.
Шведов вполголоса, но так, что было четко различимо каждое слово, назвал шоферу в кожаном шлеме, с топорщившимися из-под черных очков подвитыми гренадерскими усами адрес, и лаковый бенц, стоявший «на взводе», выпустив едва заметное из-за искристой поземки облачко бензинового дыма, мгновенно сорвался с места.
По дороге остановились у мрачного дома на Гороховой вблизи Загородного. Думанский, не тратя времени даром, через длинную сырую подворотню быстро провел Шведова во двор, где был свален самый разнообразный хлам. Шофер пошел с ними, освещая путь фонарем «летучая мышь». Подведя «сыскных» к стоявшей возле одной из черных ходов пожарной бочке, Думанский сказал:
— Они там — на самом дне, в герметически запечатанной бутыли. Согласитесь, не зная, заранее догадаться просто невозможно!
Шведов опустил руку в бочку, но вода сверху успела покрыться приличным слоем льда (подступали крещенские морозы). Схватив найденный в мусоре тяжелый лом, он принялся методично разбивать ледяную преграду, стараясь в то же время не повредить бутылку. После, опустив в воду ладонь, полковник мгновенно выдернул ее и стал растирать, досадливо морщась и едва сдерживаясь, чтобы не выругаться. В этот момент шофер простодушно заявил:
— Эх, ваш благородие, да разве ж можно так, с непривычки! Позвольте я — мигом-с! После бани-то всякий раз в прорубь ныряю, а тут Святое Крещение на носу — сам Бог велел, можно скать…
— Ну, голубчик, в этом я вам не приказчик! — Шведов развел руками. — Можно ведь и околоточного позвать или дворника… Впрочем, что ж, извольте, раз вам охота. Исполняйте.
К полнейшему изумлению Думанского, «гренадер» тут же сбросил кожаную куртку, тонкий свитерок и ситцевую нижнюю рубаху. Оставшись с голым торсом, он с удовольствием крякнул:
— Хор-рошо: не после парной, зато, считай, в иордань — Господи благослови! — Широко, по-мужицки перекрестился и бросился «исполнять». Погрузив в черную ледяную воду руки, голову а потом и всю верхнюю часть туловища, шофер не меньше минуты старательно шарил по дну, пока не извлек громадную запечатанную воском бутыль зеленого стекла из тех, в каких вся усадебная Россия настаивает домашние наливки и в каких держат горячительное по всем трактирам и малороссийским шинкам.
Сосульки моментально повисли на потерявших всякий фасон усах шофера. Его колотила крупная дрожь, лицо приобрело «синюшний» цвет, и торс покрылся гусиной кожей, зато крепкие, как рафинад, ослепительно белые зубы обнажились в добродушной улыбке, а глаза озорно светились. «Вот этому молодцу никакая реинкарнация не страшна — сам кого хочешь в бараний рог согнет! На таких Русь-матушка и держится, — восхитился было Думанский, но тут же опомнился. — Да ведь он насмерть простудится! Списки — это, конечно, важнее всего, но губить еще одну человеческую жизнь?»
— Вы бы, любезный, растерлись чем-нибудь да оделись побыстрей — ведь насквозь прохватит!
Водитель уже как ни в чем не бывало накручивал усы и всем своим видом выражал удовольствие.
— Да что вы, право, так тревожитесь, Викентий Алексеич? Вы лучше приглядитесь: это ж природный великоросс, Илья Муромец, — ему никакой мороз, никакая преграда нипочем! Его прадед, пожалуй, брал с Суворовым Сен-Готард. Да такие чудо богатыри — опора нашего Богоспасаемого Отечества! В огонь и в воду пойдут за Царя, за Русь Святую, как в песне поется! Один душу положит за други своя, бабы еще тысячи, миллионы наплодят. Рано Империи отходную заказывать, пока у нее есть такие сыны! Одно слово — орел!
Шведов широким жестом вынул из кармана сотенную купюру и небрежно сунул ее шоферу. После чего, отвернувшись, уже забыл о существовании своего помощника.
Чуть отойдя, он изо всей силы ударил по бутыли рукоятью пистолета. Стеклянная посудина разлетелась вдребезги. Посреди груды осколков виднелось нечто вроде древнего свитка — несколько свернутых трубочкой страниц в фильдеперсовой оболочке, перетянутых женской подвязкой от чулка с пряжкой в виде целующихся амуров.
При виде документов глаза Шведова буквально вспыхнули от радости.
— Все в порядке. Наконец-то! Теперь-то уж точно можно ехать к ротмистру, тот подаст рапорт Государю, и тогда он лично решит, кому именно возглавлять операцию по поимке этих мерзавцев. Никто из них не уйдет от справедливой кары!
— Верно, теперь мы очистим мир от этой мерзости! — подхватил вдохновленный Думанский.
III
Дорога от Гороховой до Театральной площади показалась Думанскому бесконечной. Единственная мысль которая утешала его, грела душу — скоро все закончится. Ротмистр Семенов явится как избавитель и наведет порядок, мощной дланью выметет всю скверну за пределы Российской Империи, выгонит всю эту новомодную заразу туда, откуда она явилась. А сам Викентий Алексеевич с его помощью наконец-то вновь обретет свое данное Богом тело и заживет прежней жизнью, забыв все недавние приключения как кошмарный сон.
Ехали молча, Думанский неслышно молился. Авто остановилось возле серого дома. Шведову, сидевшему впереди, не было видно, как широко, истово перекрестился адвокат.
— Вы понимаете, что это за списки? — заговорил Думанский. — Не удивлюсь, если узнаю, что и вы фигурируете в планах этих господ. Вот только не пойму, для чего им понадобился я? Ведь я не государственный человек и не финансовый воротила.
— Ничего, мы обязательно разберемся с этой нечистью, — отозвался бледный донельзя, уставший Шведов. — Ведь теперь уже все решено. Предупредить Государя — главное! И не нужно впадать в уныние, батенька… — продолжил, не оборачиваясь. — А между прочим, мы уже приехали! Вот здесь и живет ротмистр Семенов. Шофер заглушил мотор возле дома на Офицерской поблизости от Литовского замка.[122]
«Жандармский офицер, занимающий ответственную должность, живет рядом с политической тюрьмой! Редкий пример верности служебному долгу — быть всегда на своем месте, в любой час, даже не в присутствии, — поразился Викентий Алексеевич. — Всюду блюсти старый девиз — „Слово и дело Государево“.[123] Неудивительно, что именно Семенов курирует столь секретный план — такому слуге Его Величества, слуге без страха и упрека, можно доверить все».
Они вышли из автомобиля, и Шведов обратился к шоферу, продолжавшему, несмотря на более чем жалкое состояние, исполнять свои обязанности.
— А вы, голубчик, немедленно домой, не то совсем простудитесь. Переоденьтесь в сухое и непременно выпейте водки. Три дня на службу можете не ходить, лечитесь.
— Слушаю, ваше высокоблагородие! — с готовностью ответил шофер.
Швейцар в расшитой галуном ливрее, знавший начальника сыскного отделения в лицо, завидев Шведова, с поклоном распахнул двери парадного:
— Мое почтенье-с, ваше высокобла-ародие!
По устланной мягким ковром лестнице с ажурными перилами коллеги-правоведы поспешили подняться на второй этаж, где и находилась роскошная квартира ответственного чина Тайной полиции. Шведов дернул шелковый шнурок, и колокольчик мелодичным звоном огласил прихожую — гости пожаловали. Тяжелую резную дверь бесшумно открыл седой лакей в белых перчатках, манишке и строгом черном смокинге.
Коротко отрекомендовавшись: «Дело государственной важности, любезный! Вижу, вас уже предупредили», Шведов, увлекая за собой растерянного адвоката, не раздеваясь, беспрепятственно направился в известный ему кабинет хозяина, минуя одну за другой целую анфиладу комнат (старый слуга едва успевал открывать белые дверные створки с бронзовыми ручками в виде львиных голов с кольцами в пасти). Викентий Алексеевич из профессионального любопытства попутно отмечал детали благородного интерьера: на стенах было много портретов старого европейского письма, с которых на посетителя грозно взирали изображенные в полный рост рыцари в шлемах с пышными плюмажами, с ног до головы закованные в латы (трудно, да и некогда, было разбирать средневековые готические подписи на продолговатых, заостренных кверху рамах), порой попадались картуши с эклектическими гербами сложной символики, но больше всего по дорогому штофу стен было развешено оружия всех народов и эпох. «Холодное оружие — страсть ротмистра», — шепотом прокомментировал Алексей Карлович. Здесь висели древние ахейские и троянские мечи из раскопок Шлимана,[124] оружие персидских воинов Дария и македонской пехоты Александра Великого, скифские акинаки, гладиусы римских легионеров времен Траяна, гордо поименованные длинные и прямые мечи крестоносцев — тамплиеров,[125] одноручные и двуручные — эспадоны, кривые сарацинские сабли и турецкие ятаганы, клинки из Толедо и дамасский булат, даги и стилеты, алебарды и секиры, русские бердыши и чеканы, шпаги и палаши, наконец, Златоустовские шашки и кубачинские кинжалы, поражавшие изысканностью ювелирной отделки… Чего только не было в этом не имевшем цены арсенале!
Пройдя через эту обагренную кровью веков экспозицию, анфиладу из доброго десятка разной величины и отделки комнат, полицейский полковник и адвокат частной практики оказались в просторном кабинете, доступном лишь избранным коллегам из полицейского ведомства, которым было поручено разработать и привести в действие чрезвычайный план по выявлению и обезвреживанию всех антигосударственных сил, дерзко посягающих на общественные устои Российской Империи и творящих невиданные гекатомбы, да нескольким сверхсекретным сотрудникам-филерам, поставщикам свежей информации, ротмистра Тайного Его Императорского Величества корпуса жандармов Семенова.
Хозяин сидел за массивным письменным столом, казалось бы, вросшим в наборный паркет своими четырьмя точеными ножками-колоннами, одновременно посасывая мундштук ароматного кальяна, перелистывая какой-то фолиант в тисненом переплете черной кожи и то и дело поглядывая, как звонко играют голубовато-алые угли в жарко натопленном камине. Это был господин лет сорока (впрочем, можно было бы сказать и иначе — выглядевший лет на сорок) с пышными холеными усами, выдававшими в нем бывшего бравого лейб-егеря, одетый, однако, сугубо по-домашнему — в стеганый шлафрок,[126] просторные шелковые панталоны и мягкие пантофли.[127]
Глава петербургского сыска сразу взял с места в карьер:
— Константин Викторович, я, знаете, без дежурных формальностей — прямо к сути дела. У меня, как вам уже известно, наконец-то появились важнейшие документы, имеющие прямое отношение к курируемой вами операции. Просто клад! Сенсационные документы, доказывающие ритуальную подоплеку пресловутых массовых захоронений и изобличающие тайную антигосударственную деятельность масонских лож в поистине катастрофических масштабах и…
— Так вот вы о чем, господин Шведов, — жандармский куратор довольно небрежно перебил старшего по званию, который, впрочем, был назначен ему в подчинение высшей властью, и пользуясь традиционной куда большей фактической значимостью званий в жандармерии над чинами в обычной полиции. — Да-да-да… Ох уж эти мне вольные каменщики! Вы не поверите, Алекс… — он запнулся, щелкая пальцами в воздухе, словно из пустоты можно было добыть позабытое имя собеседника.
В это время камердинер успел внести в кабинет парадный мундир ротмистра и тут же удалился.
— Алексей Карлович, — напомнил полковник не без обиды в тоне.
— Да, да! Конечно — Алексей Карлович. Видите, как занят, даже не мог вспомнить, как вас звать-величать. И поверьте — голова идет кругом все из-за того же вопроса. Через мои каналы я за последнее время уже не мало узнал об их деятельности против священных, незыблемых устоев Империи, и тоже напал на след… А что это, простите, за господин с вами — разве он введен в курс нашего секретного плана и с ним можно быть откровенным?
— Безусловно, — решительно кивнул Шведов. — Имею честь представить: господин Думанский, известный адвокат. Я давно счел нужным посвятить его в наши дела, и, знаете, нисколько не прогадал, ведь получение в наши руки части масонского архива, о коей идет речь, — его единоличная заслуга.
Семенов внимательно посмотрел на Викентия Алексеевича и, как показалось последнему, с некоторым удивлением переспросил:
— Вы Думанский? — Семенов встал, причем на лице его изобразилась мучительная гримаса недоверия. — Честно говоря, то, что мне про вас рассказал Алексей Карлович, не укладывается ни в какие разумные рамки… Такое может только в сказках происходить! Не знай я давно господина Шведова, ни за что бы в это не поверил, но если вы действительно тот самый адвокат Думанский, то, признаюсь, я наслышан о выигранных вами процессах, вот только не было времени лично засвидетельствовать свое почтение.
— Зато теперь мы знакомы лично, — заметил адвокат, добавив: — Я очень рад, что наконец-то могу вас видеть, Константин Викторович! Я ведь в конце декабря отправлял вам письмо, в котором уже была тревожная информация о масонских происках. После не смог наладить с вами связь из-за непредвиденных обстоятельств, в которые попал, а письмо, вероятно, затерялось в дороге.
— Отнюдь нет, — ротмистр улыбнулся. — Мы, знаете, любим поругать почтовое ведомство за недобросовестность и нерасторопность, а выходит, что зря. Я получил ваш сигнал в срок и принял к сведению. Тайная полиция Его Императорского Величества всегда начеку!
— Значит, я ошибался, полагая, что вы ничего не знаете?! — с радостью воскликнул Викентий Алексеевич. — Вы тоже наверняка вышли на след князя Мансурова?
— Само собой разумеется. Я сразу отдал соответствующие указания, и была установлена слежка по сообщенному вами адресу. С самим Мансуровым лично не знаком, но с того момента, когда выяснилось, что речь идет о его новом особняке, мы с этой подозрительной персоны не спускаем глаз, хотя мало что выяснили…
Тут оживился Шведов:
— Как же, Константин Викторович! Ведь там, ну совсем рядом — на Семеновском мосту! — несколько дней назад был жестокий налет на карету. С масштабными последствиями и гибелью обер-прокурора…
— Ничего странного, господин Шведов. По одной версии, террористический акт анархистов, а по другой, между прочим, — дело по вашей части, банальная уголовщина, организованный разбой. Мансуров — этот то ли князь, то ли граф — конечно, фигура подозрительная, но право же: ночной налет случайно произошел рядом с его домом и к масонской или какой-либо другой антигосударственной деятельности не имеет никакого отношения. Тем более что здесь как-никак убит сам обер-прокурор столицы, Государь в негодовании требует срочно поймать преступников…
Думанский удивленно покосился на Шведова. Ротмистр захлопнул книгу, которой был так увлечен до прихода гостей, и, раздраженно бросив ее на стол, скрестив на груди руки, заходил по своему роскошному кабинету.
— Мы продолжаем следить за Мансуровым, скажу вам больше: он у нас почти на крючке, но это дело тонкое, боимся спугнуть… Была б моя воля! Я, господа, патриот, как вам известно, в прошлом боевой офицер, мне до сих пор трудно привыкнуть к миндальничанью со всякой сволочью, посмевшей замахнуться на вековые устои православия и самодержавия. По мне, так к какому знатному роду ни принадлежи этот Мансуров-Лестман, хоть сейчас и его, и братьев его масонов… — Семенов сделал выразительный жест, демонстрирующий, как веревка палача обвивается вокруг шеи и затягивается петлей. — Но я даже в данной ситуации по закону обязан соблюсти все юридические формальности, найти непосредственный предлог, чтобы провести обыск. К тому же для обыска частного жилища необходим ордер, а для ордера веские основания, серьезные обвинения, доказательства, в конце концов…
— Господи, так мы же за этим и приехали! Это и пытаемся вам объяснить, господин Семенов, — вот они, доказательства, сведения ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВАЖНОСТИ! По этим столичным спискам можно арестовать всех оборотней во всех наших ведомствах. Все подтверждено статистикой! — Шведов достал из мешка «взрывоопасные» бумаги и выложил их на зеленое сукно стола. — Извольте ознакомиться — вы тут же поймете, что нужно немедленно ставить в известность Государя и принимать самые решительные, экстренные меры. Часть документов утрачена, многие к величайшему сожалению, прочесть невозможно, так как чернила смыты водой. Обстоятельства, при которых были добыты эти бумаги, весьма драматичны.
В разговор решительно вмешался Думанский:
— Осмелюсь предложить следующее. Необходимо внимательно просмотреть списки инкарнированных на предмет выявления чинов вашего ведомства. Нужно немедленно их арестовать и с пристрастием допросить, попытаться выяснить подробности их жизни. Если потребуется, не остановиться и перед усиленным физическим воздействием. Наличие инкарнированных в высших слоях общества послужит для Государя наилучшим доказательством нашего тезиса. Не говоря уже о том, что посторонние личности в телах наших служащих вряд ли профессионально соответствуют должностям, на которые дерзнули претендовать.
— Что ж, посмотрим, чем вы хотели удивить Государя и что там у вас за статистика! — ротмистр Семенов, как человек, принимающий в азарте рискованное решение, хлопнул обеими ладонями по столу. — Только поймите меня правильно, господа: если эти документы окажутся фальшивкой, я не завидую нам всем. Мы даже не представляем масштабов скандала, который тогда разразится!
«Меня уже ничем не испугаешь», — обреченно подумал перелицованный, свыкшийся с двусмысленностью своего положения Викентий Думанский. Пока жандармский куратор в напряженном молчании просматривал содержимое масонских папок, адвокат невольно принялся изучать интерьер его кабинета. Будучи, как всякий толковый юрист, неплохим психологом, Думанский по обстановке, окружающей человека, мог почти безошибочно угадать не только отдельные черты личности, но и мысленно нарисовать целостный портрет души. Представление об агрессивном, воинственном характере хозяина дала еще до непосредственной встречи с ним его «оружейная палата», но только личный кабинет позволил узнать о Константине Викторовиче Семенове самое сокровенное, настораживающее опытный глаз. На отделанном черным мрамором, казалось, готовом поглотить своим огромным огнедышащим зевом любого зазевавшегося простачка-посетителя камине возвышался классический бюст Бонапарта — в треуголке, с выдающимся лбом мудреца и вызывающе волевым взглядом отверженного гения-мизантропа. «Типичный кумир для тех, кто готов идти к своей цели по трупам. Ну что ж, карьерист несимпатичен по сути, но еще не самый худший из человеческих типов». По сторонам камина висели два парадных, в полный рост, портрета. Справа, в дежурном золоченом багете, — одна из бесчисленных копий строго академического портрета царствующего Государя Императора, зато довольно хорошего письма (у верноподданного Думанского только отсутствие ее здесь могло бы вызвать неприятное удивление). С другой стороны — в какой-то «расплывчатой», с искусственной зеленоватой патиной и едва намеченными лепными лилиями или ирисами декадентской раме, написанный смелым, крупным мазком, тонко прорисованный, хотя несколько холодный портрет самого хозяина кабинета. Ротмистр был изображен художником в парадном голубоватом, с серебряными эполетами и аксельбантом, галуном по воротнику и обшлагам рукавов, двумя рядами серебряных же пуговиц, с небольшим белым крестиком на георгиевской ленточке и золотисто «лучащимся» пажеским мальтийским крестом на груди, в щегольских кавалерийских ботфортах выше колена. В целом портрет был замечательный, и Викентий Алексеевич даже залюбовался им, но странный антураж и отдельные атрибуты выглядели не то что неуместно — откровенно подозрительно. Сверху на китель волей живописца был накинут белый плащ с пятиконечными звездами, смотревшими двумя лучами вверх, и не менее странными полумесяцами, рожками тоже вверх. В руках гордый офицер держал огромный рыцарский меч, некое подобие четырехконечного латинского креста, образуемого двуручной рукоятью, широкой перекладиной и длинным обнаженным клинком. «Такими мечами рыцари Святого Престола, не рассуждая, крестили когда-то греческих и славянских схизматиков», — вспомнил Викентий Алексеевич. Вглядываясь в живописный фон и не веря своим глазам, он находил там возвышающиеся пирамиды, семитические зиккураты,[128] Вавилонскую башню, словно списанную с полотен Брейгеля. В верхних углах картины расположились блиноподобные антропоморфные Луна и Солнце, совсем такие, как в известной фильме француза-фантаста Мельеса.[129] Под картиной стояла подпись входившего в моду талантливого портретиста: «Валерий Сернов».
«Нет! Не может быть, чтобы это написал Сернов». Думанский украдкой посмотрел на Семенова, все еще перебирающего столичные списки ложи «Орфея», и его красовавшийся на вешалке-стойке, точно с иголочки, мундир, сравнил на всякий случай портрет и модель. «Это он. Мне ничего не кажется — полнейшее сходство!»
Адвокату хотелось закрыть глаза, но любопытный взгляд побежал теперь по золоченым корешкам в книжном шкафу: вот стоит такой знакомый, привычный еще со времен, когда он носил форму правоведа, многотомный «Свод Законов Российской Империи», рядом — «Римское право», тома историков от Геродота и Плутарха до Карамзина и Соловьева. «А это что такое?! Издания одиозного „Библейского общества“,[130] печально известная откомментированная лопухинская Библия, какие-то сомнительные альманахи — „Полярная звезда“. Господи, герценовский „Колокол“! Разве он не запрещен до сих пор? Какие-то немецкие издания, мне не известные, — опять эта неразборчивая готика на корешках…» Думанский покосился на Шведова, поймал его недоуменный взгляд: «И он тоже ничего не понимает!»
Викентий Алексеевич в который раз уставился на портрет блестящего жандармского офицера и наконец-то натужно выдавил из себя первое, что пришло на ум, только бы не молчать:
— Какой все же замечательный портрет! Угадывается манера Сернова, его кисть. Неужели это подлинник?
Адвоката точно морозом прихватило от прицельного взгляда застывших, как у мертвеца, нечеловеческих зрачков. Некто в шлафроке, тот, кому они теперь принадлежали, патетически воскликнул:
— В моем доме только оригиналы и мой портрет, разумеется, тоже. А вот это, — сграбастав папки с документами, он театральным жестом потряс ими в воздухе, — ФАЛЬ-ШИВ-КА!!!
Преувеличенно укоризненно покачав головой, он внимательно посмотрел в сторону Думанского.
— Вы так не думаете?! В конце концов, вы находитесь здесь только по одной причине. Меня интересует исключительно ответ на вопрос: кому это в масонских кругах понадобилось перевоплощать вас в Кесарева, человека из абсолютно другой среды. Не вижу мотива — к чему эта нелепая метаморфоза? А скажите-ка, каким это образом в списках среди сильных мира сего, титулованных особ, оказался какой-то адвокат, пусть и такой успешный, как вы? Кому все могло быть выгодно? Может, ты это сам придумал, Кесарев, чтобы избежать кары за все свои злодеяния, за убийство обер-прокурора?! Все, что мне хотелось сегодня сделать, — устроить вашу очную ставку с адвокатом Думанским. Но вот ведь какая незадача — после убийства прокурора адвокат исчез! Его нет уже неделю, нигде нет!!! Может, ты и его тоже убил, скотина?!
Думанский ни на секунду не сомневался в подлинности добытых сведений, но не понимал или отказывался понимать происходящее и от волнения рта не мог раскрыть. Взгляд его опять стал блуждать в пространстве, скользнул по столу, остановился на черном кожаном переплете, пробежал глазами заглавие: «Символы и Емблемата». Библиофил-адвокат мгновенно сообразил: «Опять эта мистика, опять она — восемнадцатый век, знаем, как же!» И тут же вспомнилось: «Умножающий познание умножает скорбь…»[131] Решительно все указывало на то, что перед ним оборотень.
Внезапно открылась дверь и вошедший в кабинет старик-камердинер озабоченным тоном прервал гнетущую тишину:
— Ваше благородие, смею доложить! Вы, позволю себе заметить, pardon, еще даже не одеты-с, а авто от его сиятельства князя Мансурова графа Сорокова-Лестмана уже у подъезда-с ожидает. Сегодня пятница-с, его сиятельство изволили-с за вами прислать — они срочно вызывают вас на доклад и просили не опаздывать…
Ротмистр Тайной полиции Его Величества Константин Викторович Семенов за какие-то секунды несколько раз переменился в лице — гамма красок от багрово-красного до абсолютно безжизненного белого отразилась на нем. Едва сохраняя самообладание, жандарм гаркнул:
— Сколько раз предупреждал — без стука не входить! Поди прочь, болван!!!
Он выхватил из верхнего ящика стола револьвер и, нимало не раздумывая, в упор выстрелил в слугу. Черты хозяина кабинета исказились от ярости, отчего его благообразное лицо на мгновение приобрело сходство с мордой дикого зверя! Какая же из этих двух физиономий была истинной?!
Ответом на последний хрип верного слуги: «Виноват-с…» — было циничное господское: «Дурак!»
— Teufel auch! Aber warum habeh diese Russen solche schlechte Gesinde?![132] — неожиданно произнес на берлинском диалекте этот «господин».
Он навел еще дымящийся пистолет на Думанского, но тот оказался проворнее. Дуло гуляевского подарка уже смотрело прямо в лоб того, кто завладел телом доблестного ротмистра Семенова.
— Wo hat ег eine Pistole her?[133] — отчего-то спросил он тоже по-немецки у Шведова.
— Jch weiss das nicht, — невозмутимо ответил однокашник Думанского на том же языке, но с тюрингским акцентом. — Jch habe ihn nur aus der Zelle auf Jhrige Befehl genommen. Er konnte die Pistole nirgends bekommen, denn er stets mitmirwar.[134]
Неожиданно в немецкий диалог вмешался адвокат:
— Eine kleine Unstimmigkeit, meine Herren! Herr Oberst Schwedow hat mir gestern eine Pistole gegeben ueber. Und wer sind Sie eigentlich? Sie sind mir bekannt ganz nicht![135]
Точку в этой едкой реплике поставил смит-вессон — грянул выстрел. По всему кабинету разлетелись страницы бесценных документов. «Ротмистр» на мгновение завис над огнем в состоянии неустойчивого равновесия, как распластавший крылья нетопырь, а затем тяжело рухнул в дышавшую жаром пасть камина, подняв целый рой огненных искр. Пламя вспыхнуло с такой силой, словно в него плеснули керосину.
Думанский повернулся к Шведову, отказываясь верить тому, о чем просто вопиял его разум, молясь в душе, чтобы весь этот дьявольский «карнавал» оказался ошибкой, несчастной случайностью. Но он не мог не верить своим ушам, глазам, а главное — колотившемуся сердцу. Викентий Алексеевич очень скоро окончательно очнулся от наваждения, и даже успел наставить теперь уже на «Шведова» возвращенный ему гуляевский подарок.
Лицо подложного Алексея Карловича изобразило полнейшую растерянность. Он пытался что-то беспомощно бормотать по-немецки — вряд ли слова оправдания, скорее — проклятия. Коллега-правовед, теперь уже нисколько не сомневавшийся в том, что вокруг сплошной фарс, с едким, почти театральным, сарказом произнес:
— Не могли бы вы, милостивый государь, продолжить излюбленную фразу нашего преподавателя Бориса Ивановича Кохно? Ну же: Malum consilium… Да, впрочем, куда вам — вы наверняка о таком и слыхом не слыхивали! Снимите перчатки, сударь, и покажите руки, — крикнул он очередному самозванцу, взведя курок и направив вессон прямо ему в грудь. — Руки, я сказал! Покажите руки!!! — продолжил адвокат, оказавшийся теперь в роли исполнителя смертного приговора, окончательно теряя терпение.
Дальнейшее промелькнуло со скоростью синематографической ленты. Неожиданно в этот момент из камина восстал тот, кто коварно присвоил личность ротмистра Семенова. Спина его уже вся была охвачена пламенем. Оглушительно завывая, подобно дикому зверю, в которого он почти окончательно обратился, «офицер» набросился на Думанского сзади. Викентий Алексеевич, мгновенно развернувшись, теперь уже навсегда угомонил его тремя выстрелами в упор. Нападавший снова упал в огнедышащую пасть, более не подавая признаков жизни.
Тем временем пламя из камина охватило разбросанные по полу документы.
Опомнившийся «Шведов», ахнув, выхватил из топки раскаленную кочергу и выбил пистолет из руки Думанского. «Однокашники» живым клубком покатились по пропитавшемуся кровью, местами уже полыхавшему ковру, пытаясь сомкнуть пальцы или зубы на горле противника. В этой жестокой схватке поначалу физическая сила была на стороне тренированного офицера, но, подтверждая пословицу «Бог не в силе, а в правде», спасение все-таки пришло к ослабевшему адвокату.
Думанскому удалось наконец применить один из тех безжалостных, неотразимых приемов, которыми, как выяснилось, в совершенстве владело тело Кесарева. Приемов, которые уместны в грязной уличной потасовке или кабацкой драке, а скорее — в бандитской схватке не на жизнь, а насмерть. Шея противника отвратительно хрустнула и осталась вывернутой под неестественным углом. Тело бедного Шведова, совершив несколько конвульсивных движений, замерло посреди разгромленного горящего кабинета.
Викентий Алексеевич освободился из объятий трупа, теперь уже, между прочим, заметив свежий, еще кровоточащий шрам на правой ладони «Шведова», после чего не оставалось уже ни малейшего сомнения в реинкарнации этого важного полицейского чина. «Зато низкая душонка угодит теперь туда, где ей давно положено быть! Malum consilium consultori pessimum… Semper!»[136] Думанский заметался по комнате, не понимая как ему теперь быть, что делать: кругом трупы, кровь, пепел, еще недавно бывший ценнейшими уликами в деле о масонском заговоре, горящий ковер… Ни малейшего доказательства заговора у адвоката теперь не было, да и тела-то собственного по-прежнему не было — теперь уже, наверное, навсегда…
Единственное решение, отчаянно рискованное, но дающее зыбкий шанс на спасение хотя бы самого себя, пришло в некоем молниеносном озарении, стоило лишь выхватить взглядом в жуткой картине бойни, в окружении трех мертвецов, среди луж крови, парадный серебристо-офицерский голубой мундир, поистине чудом оставшийся чистым. «Славный мундир убитого врагами Веры, Государя и России георгиевского кавалера не может быть запятнан никакими масонскими ритуалами и кознями того, кто впоследствии его носил!» Викентий Алексеевич переоделся в жандармскую форму, как в современную «воинскую броню», предварительно приложившись к эмалевому белому крестику, словно к путеводной святыне и спрятав в карман кителя несколько патронов к вессону; натянул тугие кавалерийские сапоги со шпорами. Огонь коварно вырвался из каминной пасти, точно из самого адова жерла, и теперь уже прожорливо карабкался на стены, на огромные портреты. «Сим знамением победиши!» — стучало в висках у адвоката, как у православного витязя, возложившего все свои упования на помощь Святого Креста и победоносного всадника, поражающего копием лукавого змия, несущего в себе душетленное зло.
С молитвой Святому Кресту преобразившийся Думанский пробежал через ощерившуюся клинками анфиладу, закутался в прихожей офицерским башлыком так, что одни горящие глаза смотрели на Божий свет из шерстяного сукна, накинул на плечи семеновскую шинель, и, сломя голову, как суворовские чудо-богатыри на картине Сурикова, буквально слетел вниз по лестнице, мимо напуганного швейцара, едва успевшего настежь распахнуть двери парадного и по старой солдатской привычке вытянуться во фрунт.
Ни слова не говоря, подняв воротник шинели повыше, «Семенов»-«Кесарев»-Думанский устроился позади шофера в ожидавшем его мансуровском авто. Шофер, не оборачиваясь, облегченно выдохнул:
— Наконец-то, ваше благородие, я уж подумал: что не так.
Думанский повелевающее слегка хлопнул его перчаткой по плечу. Авто-карета послушно тронулось, спеша доставить новоявленного «жандармского ротмистра» «на доклад» к Мансурову.
Погода портилась на глазах. Поземка превратилась в настоящую метель, так что даже опытный водитель с трудом разбирал дорогу в снежной круговерти, пристально вглядываясь в залепленное мокрым снегом, запотевающее лобовое стекло:
— Вот вьюга-то разыгралась! Давно уж так не бушевало. И ветер как пробирает — смотрите-ка, какая свистопляска! Словно не пускает нас что-то, ваше благородие.
«Их благородие» и сам видел, даже знал, отчего так неистовствует темная стихия. Даже его мозг, точно снежные хлопья, назойливо пульсируя, облипали памятные пушкинские строчки:
Мчатся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне…Некий потусторонний голос нашептывал их, и Викентию Алексеевичу ото всего этого напора нечисти становилось жутко. Наконец он вспомнил о сокровенном: снял перчатку, нашел на груди под шинелью заветный белый крестик и уже не отпускал его, пока не прибыли на место, а душа, как по молитвеннику, неустанно повторяла: «Яко пленных свободитель, немощствующих врач, царей поборниче Георгие, помози мне с честью одолеть козни лукаваго, разрушить замыслы вражьи, помози вернуть мне имя свое, очистить плоть мою от хищнаго демона, а душе моей неврежденно и неосужденно занять место свое, дабы возвратиться на круги своя!»
IV
В очередную пятницу в новом мансуровском дворце было особенно многолюдно: светский прием должен был смениться важнейшим священнодействием в Высшем Совете посвященных.
— Неужели вы забыли, князь, какое это было невзрачное строение до того, как вы его приобрели? — обращался к фатоватому красавцу с холеным французским бульдогом на руках пожилой господин в сенаторском мундире. — Вот уже сколько лет каждый день езжу мимо него на службу и всегда поражался, что за безликий дом, будто бы и не жилой вовсе! А тут смотрю — буквально на глазах все чудесно изменилось: и фасад заиграл, и подъезд преобразился, и окна-то засияли. Ну словом, стоял себе заурядный дом, каких в Петербурге сотни, а стал подлинно княжеский дворец — c’est magnifique![137]
Молодой хозяин, лениво поглаживающий своего откормленного любимца, порозовел — было заметно, что ему приятно слышать такие слова.
— Благодарю вас за столь лестные отзывы о моем скромном холостяцком жилище. Ваши восторги несколько преувеличены. Впрочем, все похвалы я бы адресовал скорее художникам-декораторам, архитектору — они их заслужили в полной мере, мне же, как вы понимаете, всего только и пришлось профинансировать реконструкцию. А вы все-таки не совсем правы, ваше высокопревосходительство, дом этот всегда был весьма выдающийся, и я знал, что покупаю. К примеру, вам известно, что строил его не кто иной, как сам Р.?
Сановный гость изобразил удивление на лице:
— Что вы говорите, князь! Как же это я сразу не догадался. Человек с вашим вкусом и воспитанием, с вашими фамильными достоинствами не мог остановить свой выбор на случайном здании. — Изображая неподдельное любопытство, он поднес к глазам лорнет и в который раз обвел взглядом залу. — Действительно! Теперь я вижу — всюду здесь, в каждой детали интерьера, определенно угадывается рука самого великого мастера. Он ведь, если не ошибаюсь, был архитектором при Дворе Его Императорского Величества?
Князь-граф поскучнел — подобострастие старого сановника его утомило.
— Когда речь идет о чьей-либо близости ко Двору, вы никогда не ошибаетесь, дорогой Аполлинарий Абрамович, а вот что касается интерьера — со времен Р. он очень сильно изменился. А теперь — уж простите! — я вынужден вас покинуть, другие гости заждались меня. Желаю приятно провести вечер… A propos, где же ваш официант? Вам непременно должны были предоставить официанта — таково правило моего гостеприимства!
Отыскав поблизости зазевавшегося слугу-фрачника, Мансуров наклонился к тому, довольно резко, едва слышно и почему-то по-немецки, заметил: «Sehen Sie sich vor, lassen Ihrige Kliente aus den Augen nicht!»[138]
Молодой хозяин поспешил откланяться и направился к группе высоких гостей, стоявшей посреди круглой парадной залы, отделанной в духе новейших веяний европейской моды. Гости тоже оживленно обсуждали последнее приобретение князя Мансурова графа Сорокова-Лестмана.
— Ничего не скажешь, господа, зрелище впечатляющее! Средств на отделку хозяин не пожалел, — разводя руками, констатировал лысоватый господин с бородкой клинышком.
— Да дело даже не в финансах, ни для кого не секрет, что Мансуровы полмира скупить в состоянии, — заметил моложавый мужчина в строгом английском костюме первосортного сукна. — Чтобы финансировать такое, нужен безупречный вкус. Какая изысканность, смелость, я бы сказал — изощренная чувственность! Во всем — от паркета до плафонов. Такое и в Европе не часто встретишь. Я видел удивительные образцы нового стиля в Париже, в Вене и уверяю вас — это настоящий модерн, ар-нуво.
В разговор включился «пожилой» юноша в черной бархатной блузе с бантом, по всей видимости, свободный художник. Волосы его свисали до плеч, лицо было отмечено нездоровым румянцем, воспаленные глаза блестели. Он задыхался от волнения.
— Да, да! Все в этом интерьере исполнено возвышенной символики. Вы чувствуете эту болезненную красоту, видите эти роковые женские образы, этих страстных, пленительных нимф, эти извивы, эти полутона… Вы слышите голос будущего?!
— А Магистр-то наш каков, одно слово — затейник, — доносилось из-за монументальной вазы с заграничными фруктами. — Хотя где вам знать, вы только что из Чернигова. Про архитектора Р. по крайней мере слышали?
— Обижаете, мы тоже не лаптем щи хлебаем. Традиции ложи нам известны, откуда уши растут, так сказать. Вроде бы он хотел не то повеситься, не то застрелиться. К нему даже особые люди были приставлены, дабы следили, чтобы чего над собой не сотворил. Такие люди Ордену ох как потребны!
— Да и существовал ли до сих пор бы без Р. сам Орден! Вот дом, где мы нынче собрались, — самое гениальное его творение. Он изначально его для себя одного строил, чтобы наиболее соответствовал душевному состоянию, а потом решил использовать как доходный дом (заметьте, в бельэтаже квартира с эркером — как раз самого Р.). Для своего сокровенного детища он применил знания, известные лишь избранным еще со времен Древнего Египта, тайны Изиды и Озириса. Одну линию сделать чуть более косо, потолок тоже не строго горизонтальный, с углами немного сымпровизировать. И в результате ни один из неинкарнированных не может здесь жить в самом прямом смысле этого слова. Сам-то Р. давным-давно исчез — не то на войну подался, не то еще чего. Только по всему его дому жильцы по-прежнему как мухи мерли: кто от болезни, кто от несчастного случая, кому в темном переулке горло перерезали.
— Знаем мы эту плотяную механику, — послышался из угла чей-то завистливый голос. — Прикарманил себе тело помоложе да поздоровее, а старое того… Глядишь, и получился новый «жилец» — и время человеческое ему нипочем.
— Нет, какова наглость! — ответил ему кто-то не мужским и не женским голосом. — Мы по месяцу приличного тела дожидаемся, а он меняет их как перчатки.
— А вот и нет, господа, — снизошел до ответа рассказчик. — Доподлинно известно, что последние временные обитатели дома — вовсе не реинкарнации Магистра. Около полугода назад дом целиком приобрел было один московский архиерей. В свое время он даже занимался экзорцизмом. Изгнанием нечистой силы, если вам так более понятно. И, должен вам сказать, весьма успешно. О владыке легенды ходили как о старце-бесогоне. Так вот он заявил, что все слухи о скоропостижных смертях тех, кто становится владельцем квартиры в этом доме, — сущие пустяки. Но тем не менее распорядился перед переездом освятить его с соблюдением всех соответствующих церковных канонов. Сам, правда, не присутствовал; отговорился чрезвычайно важной службой.
— Voila?
— Все, кто участвовал в освящении жилища, — причт, прислуга, дворник — были найдены мертвыми прямо на главной парадной лестнице. Никаких следов насильственной смерти. Пятнадцать человек одновременно как громом поразило.
— А сам архиерей?
— Владыка Игорь умер в тот же час. Ровно в два часа пополудни он был при свидетелях сражен сильнейшим ударом. Совершенно здоровый человек, который никогда не жаловался на сердце. Говорят, он даже иногда колол дрова для забавы и физического упражнения.
— Но тогда… тогда, господа, я отказываюсь что-либо понимать в этой истории! А крестная сила?! А сила молитвы?
— Да оставьте ж вы эти средневековые предрассудки, батенька! — заметил курчавый господин в золотом пенсне. — Ну смешно-таки с вас, право же: или, может, не в двадцатом веке живете? Ха-ха-ха! Теперь это княжеский дворец, и забудьте все прежние россказни…
Брегеты уже отзвенели полночь, а приглашенные все еще прибывали: Мансуров-Сороков-Лестман задумал собрать в своем новом доме весь цвет столицы. Титулованные особы, чиновники высших рангов, офицеры Генерального штаба, банкиры, знаменитости из мира искусства — кого только не было на этом пышном сиятельном приеме!
Убеленный сединами генерал с эмалевым крестом Георгиевского ордена на шее и, помельче, — на груди, с багровым шрамом от уха до подбородка, окруженный почетом балканский ветеран, сподвижник Скобелева и Гурко, недовольно заметил:
— Я сам не противник хорошей живописи: Верещагин, Рубо, Дмитриев-Оренбургский — это мне близко и понятно. Пейзаж люблю, господина Дубовского, Васильева в особенности — какого русского не тронут их картины? Искусство, по моему разумению, должно воспитывать в человеке патриотические чувства, православную широту души. Нужно, чтоб и солдату понятно было, и офицеру, чтобы были какие-то общие идеалы — одна вера святая, один царь-батюшка, один и народ-богоносец. А в этих новшествах я, знаете ли, отказываюсь что-либо понимать: цвета какие-то мертвые, образы непонятные, дивы с распущенными волосами чахоточные какие-то, то ли из желтого дома, то ли, простите мне мою армейскую прямоту, из бардака. Тоска зеленая и гнусность! Не наше это все, скажу я вам, — с чужого голоса поем, Парижи да Вены… Сказал бы я, кто это придумал, да все и так знают, только предпочитают молчать, а я стар уж стал — врачи волноваться не велят.
В этот момент в разговор вступил хозяин, до сих пор стоявший несколько в стороне:
— Дорогой вы наш Михаил Георгиевич, не расстраивайтесь так — ваше здоровье, фигурально выражаясь, достояние Империи. Мы ваши боевые заслуги чтим, и Боже упаси их умалить, но ведь время-то сейчас уже не то — человечество стремится к новой жизни, к обновленным христианским идеалам.
Возбужденный князь-граф положил генералу на плечо ладонь, точно задушевному другу, и как бы невзначай увлек его в сторону, за колонну, подальше от зорких глаз и длинных ушей. Там он мгновенно сменил тон:
— Ну что, Гольдберг, с возвращеньицем вас! Пожалуй, уж и не надеялись выйти из каземата, наверное, уж подумали: оставили циничные братья доживать свой век в каменном мешке? А мы не такие, у нас тоже есть представления о рыцарстве, о благородстве… Ну-с, как вам в новом теле?
«Балканский ветеран» с некоторым недовольством ответствовал:
— Разумеется, благодарен, и все бы ничего, но вы вот сейчас сказали, явно не подумав, — новое тело! Или иронизируете, князь? Вам ведь была известна моя слабость к женскому полу, а при этом, как нарочно, сделали меня старцем расслабленным. Теперь как в пословице: видит око, да зуб неймет… Вы признайтесь, нарочно ведь напакостили, так сказать, указали на место…
— Не стал бы на вашем месте употреблять подобные выражения, но замечу, что всему свое время — надо же и вам когда-то попоститься за свои неумеренные страстишки! Или для вас предпочтительнее такая вот планида? Прошу ознакомиться с одной скандальной статейкой в «Ведомостях». — Мансуров протянул вчерашнему «узнику» свежий газетный номер. — Послушайте-ка: «На днях в Доме предварительного заключения покончил собой бывший член ревизионной комиссии Городской думы, уличенный в казнокрадстве и других финансовых преступлениях, Марк Ландау. После полного признания своей вины вышеупомянутый „ревизор“ был обнаружен повесившимся на спинке койки в камере. По заключению медицинской экспертизы и следам на теле, Ландау сначала пробовал вскрыть вены, а после, когда это не удалось, пытался разбить о стену голову, но и это не принесло самоубийце желаемого результата. Только тогда преступник прибегнул к повешению. Смерть от удушья наступила мгновенно…» Ну и так далее — как видите, картина весьма неприятная… Да, впрочем, не стоит так уж переживать: в следующий раз реинкарнируем вас в молодого жеребца, сладострастный вы наш! Мы ведь своих не бросаем и внакладе не оставляем. А пока радуйтесь, что получили плоть заслуженного генерала, иначе вашу обремененную всякой клубничкой душонку утянуло бы прямиком в преисподнюю.
Гольдберг вынужден был развести руками:
— Куда там с вами спорить — покорно умолкаю… И все же за эту инкарнацию счет можно было поменьше выставить, а то выходит — все поместья продай да ордена впридачу заложи, и то не рассчитаешься! Но я что-то не вижу спасителя моего, ротмистра Семенова. Куда ж это он запропастился?
— Где-то, видно, задерживается. Он ведь еще серьезные бумаги должен подвести… Думаете, легко нам было реинкарнировать столь важную жандармскую птицу, да еще генерала в каземат заманить и прямо там устроить ваше перевоплощение? A propos, отсюда и счет такой — неудивительно! Зато постарались на славу и принцип братства не нарушили — своих, повторяю, не бросаем.
— Имел возможность убедиться, ваше сиятельство, — принципы превыше всего! Если бы не сам господин Кауфман, я сейчас точно здесь не стоял бы… Кстати, его тоже сегодня почему-то с нами нет.
— Как вы, право, нетерпеливы, Гольдберг, все бы вам торопить события! Великий Магистр явится в свой срок — скоро и с сюрпризом. А знаете, — хозяин дворца перешел на доверительный шепот, — ведь сегодня особенный день. Не смотрите, что на сей раз, как и обычно, здесь дожидается своего часа очередная партия счастливцев — чиновники средней руки, несколько позабытых отставных генералов, всякая шушера, мечтающая любой ценой быть сбитой в сливки общества. Помимо всей этой прозы заурядного ритуала сегодня всех нас ждет долгожданное таинство: Магистр Кауфман тщательно подготовил этот сюрприз, и он несомненно будет важнейшим шагом к нашей ГЛАВНОЙ, к нашей ЗАВЕТНОЙ цели!
Сейчас братья уже готовят жертвенный «скот», угощая его амброзией. Пока они одеты официантами и каждый из них доводит до нужной кондиции свое будущее тело. Заметьте, сегодня будет тридцать три жертвы!
Тут же принесли бокалы, полные игристого вина, хозяин дома торжественно возгласил:
— Ergo bibamus![139] За новую Россию! За НАШУ Россию!!! — И каждый поднес к губам холодный хрусталь. Кто-то осушил свой бокал залпом, некоторые — их было меньшинство — не спеша пригубили вино, но никому и в голову не пришло сомневаться в уместности тоста и оставить шампанское нетронутым.
— Вы, князь, предсказываете нам грядущие перемены, между тем как они уже начались, — изрек господин с аристократической бородкой, знаменитый физиолог.
— А вам известно, что в Империи, пока в основном в столицах, стали рождаться дети без линии жизни на ладони? Вы знаете, как увеличилось число неблагополучных семей, гражданских браков — прогрессирует не только банальный алкоголизм и физическое уродство; даже среди самых крепких, казалось бы, пар растет количество адюльтеров! Суициды, простите, входят в моду, психиатрические лечебницы переполнены… Можно констатировать, что нация теряет волю к жизни!!! Атеизм почти повсеместный, сами священники занимаются непонятным «богоискательством». Искусство, литература вырождаются. Наступает эпоха всеобщего упадочничества и упадка! Вы за такие перемены к новому?!
Мансуров-Сороков-Лестман недовольно скривился;
— Господа, ну право же — разве я имел в виду неизлечимые русские пороки? Я ведь подразумевал перемены мирового размаха и самые радужные, а не семейные неурядицы, и совсем не хотел повергать в уныние кого бы то ни было. Monsieur же Нароков и вовсе сгустил краски по поводу чуть ли не болезненного поветрия, от которого не только общество следует лечить, но и самое эпоху. Не шутите со временем, любезнейший! Оно само, по сути, трагикомично. Ха-ха-ха!
Однако и после этой успокаивающей мансуровской иронии присутствующие продолжали молчать, чувствуя какую-то неловкость, — атмосфера княжеского особняка казалась действительно наэлектризованной, а молчание становилось все невыносимее.
Чтобы разрядить обстановку, по знаку Мансурова вошел китаец-слуга в диковинном костюме. Он держал серебряный поднос, на котором лежали фарфоровые трубки, набитые опиумом. Их тут же охотно разобрали «официанты», а князь тем временем вполголоса отдал фрачникам распоряжение: «Братья, вам еще нужно успеть переоблачиться для ритуала».
Меж тем в дальнем углу залы пожилой государственный сановник, даже не трудясь сдерживать закипающую ярость, шипел в лицо молодому отпрыску знатного рода:
— Тебе-то повезло с телом, юнец! Не прогадал. И капиталец оказался стоящий, не липовый, как у меня…
— А вот и ошиблись, почтеннейший, — с нескрываемой издевкой отвечал титулованный визави. — Этот красавец ничего, кроме долгов, не принес мне, да и вообще ч…т-те кем оказался.
— Чья бы кричала, твоя бы молчала, как говорят в народе! — перебил их господин с нездоровым цветом лица. — Меня вон вроде в солидное тело поселили — и не старое, и при капиталах. А этот тайный советник Журавлев, оказывается, из веселых домов не вылезал. И передал мне целый набор болезней, о которых в приличном обществе и не скажешь. Вот и приходится все его деньги тратить на то, чтобы ликвидировать последствия его шалостей. И то, доктора говорят, что гарантировать ничего невозможно, сильно запущенная стадия.
— Мне, знаете ли, не легче, — вступил в разговор аристократ с тонкими породистыми чертами лица. — Мой, как бы это поизящней выразиться, даритель, оказался в долгах как в шелках. Причем он так тщательно это скрывал, что даже Орден оказался не осведомлен об этом. Вместо того чтобы наслаждаться богатством, я выкручиваюсь, чтобы спасти себя от окончательного разорения. И если бы только это! Стоит мне завидеть вывеску игорного дома, как ноги сами несут меня туда, а руки совершают непроизвольные движения, будто тасуют колоду карт.
Он оглядел собравшихся, поморщился и выдал свой «юношеский» вердикт, не скрывая досады игрока, прогадавшего со ставкой:
— Боюсь, в Петербурге нам делать нечего. Все мало-мальски пристойные места заняты. Может, прикажете в пролетарии податься? Кое-кто утверждает — за кухаркиными детьми будущее. Передовой класс — гегемоны-с!
— Вы уж не язвили бы так, батенька. Чай, мир велик… — нехорошо усмехнулся сановник, беспокойно озираясь: вдоль стен молча стояли какие-то темные личности, наполняя зал своим леденящим присутствием. — Вот, полюбуйтесь, сколько жаждущих и алчущих томятся в ожидании…
— Очнитесь, люди, сонные созданья! Преодолейте скучную дремоту! — желая спасти положение, сымпровизировал поэт, картинным жестом воздев руки в пространство, будто хотел взлететь под самый купол залы, обрамленный росписью в виде затейливого плетения венка разнообразных символов. — Разве мы в замке Спящей красавицы, друзья мои? Давайте радоваться жизни, ведь она так прекрасна, давайте говорить о возвышенном, об искусстве, ибо только искусство вечно! К чему эти унылые маски на лицах? Оглянитесь вокруг: видите, среди нас сегодня присутствует сам господин Свистунов! Удовлетворите же наше любопытство, непревзойденный, поведайте, что вам сейчас в священном трепете нашептывают музы? Вот и фортепианные клавиши — всегда готовы подчиниться пальцам виртуоза свободной композиции!
Свистунов поморщился так, словно перед ним разбили вдребезги целую груду посуды:
— Нет, нет! Пощадите мой слух! К чему столько пустых высокопарных фраз? И, ради Бога, не спрашивайте о музыке… Я, несомненно, вознесся на новый, без ложной скромности признаюсь — профетический этап своего творчества, я задумал открыть людям искусство будущего. И что же в результате? Ни восхищения, ни понимания, ни даже новых заказов! Поймите, все что было в композиторском творчестве до этого, безнадежно избито, изборождено вдоль и поперек — гармония звуков, мелодия… Так писать, как писали классики, мои учителя, как когда-то пытался писать и я, — нельзя более. Наступил иной этап, спираль истории вышла на новый виток — слушайте саму историю! Только модерн в музыке и всех прочих искусствах способен передать мистический симфонизм, полифонию эпохи.
— Хорошо прикидывается — вот уж, право, лицедей, — прошептал один из подозрительных субъектов, стоящих вдоль стен. — Можно подумать, и в самом деле музыку сочинять умеет. А вспомнить, кем до этого был, — тьфу!
— Ох как запел, самозванец! — подхватил в том же тоне другой. — Прямо альбатрос-буревестник! Новомодная система Станиславского — вжился в образ до полного растворения. Того и гляди поверишь…
Однако появление очередного гостя явно шокировало великосветское общество. Это был средних лет мужчина, крепкого телосложения, с лицом, обрамленным буйной растительностью, черной как смоль шевелюрой и столь же неуемной растительностью на лице. Вызывающе дорогой костюм, крикливо-пестрые аксессуары, унизанные драгоценными перстнями мясистые пальцы и, наконец, нескрываемые медвежьи повадки — все красноречиво свидетельствовало о том, что новоприбывший — типичный парвеню, благоденствующий представитель торгового сословия из тех, кому доступ в аристократические круги открыли деньги. Оглядев из-под руки с высоты своего гренадерского роста публику, купец безо всяких церемоний, — а было видно, что он уже успел хватить горячительного, — обратился к благородной супружеской чете, умиротворенно наблюдавшей за развлечениями молодежи — старику в мундире камергера Двора Его Императорского Величества, с муаровой Андреевской лентой через плечо, и молодящейся даме в умеренно декольтированном бархатном платье:
— Э-э-э! Господа хорошие, а не скажете ли вы мне, где здесь обретается мой задушевный друг Викентий Думанский? Он сегодня непременно должен тут быть.
Супруги отшатнулись. Камергер произнес что-то по-французски в уничтожающем тоне, дама кивнула, умножая презрение, и оба устремились в другой конец залы, подальше от возмутителя спокойствия. Последний тотчас оказался в перекрестье наставленных на него лорнетов и моноклей. Гости ждали, не учинит ли известный всей России самодур какой-нибудь скандал.
— Поди ж ты! Не нравится им Гуляев! — пожаловался купец своему случайному спутнику — подозрительному типу в видавшей виды студенческой тужурке — и громко, чтобы слышали все, добавил: — Чуют, мужиком запахло!
Грозно набычившись, Гуляев метал по сторонам злобные взгляды. Его развезло еще больше.
— Викентий Лексеич, друг бесценный, где ты? Я ж тебя уже обыскался! — завопил купчина, вот-вот готовый пустить пьяную слезу.
Наконец откуда-то из глубины зала послышалось:
— Здесь я! Жду с нетерпением! — И «сам Думанский», осклабившись в широченной улыбке, торопливой походкой направился к Гуляеву.
Тот обхватил его обеими ручищами и, не выпуская из своих богатырских объятий, пробасил:
— Обижают меня здесь, родная душа, Викентий Лексеич! Не желают знать! Уж лучше бы, как давеча, в игорный дом — тысчонку-другую выиграли бы, погуляли… Не товарищ я белой кости-то…
— Это уж не обо мне ли, гость дорогой? — удивленно произнес вышедший из-за колонны сиятельный хозяин. — Ну-ка признавайтесь: чем я вас успел обидеть?
Купец грустными глазами оглядел Мансурова с головы до ног и вздохнул:
— Не взыщи, хозяин, скучно мне в твоем доме! Вот и величать как тебя правильно, в толк никак не возьму: ведь ты и князь, и вроде граф тут же. Выходит, дважды сиятельство? Чудно! Господь наш в Троице Един, а ты что ж — един в двух лицах? Не люблю я все эти церемонии и барские манеры. Ходите тут, друг перед другом поклоны да реверансы развешиваете, а у самих на уме только барыши чужие… Или, думаете, не чует мужицкая душа? Да и неловко мне — того и гляди, кто-то скажет: не так сел Гуляев, не так встал. Не комильфо, а скандальез. Как у Александра-то Сергеевича? «Ныне дикой тунгус и самоед…» Не модерн, одно слово! Я ведь простой человек, в этом вашем заморском модерне, как свинья в апельсинах. Мне капустки квашеной подавай.
— Знаю и о вашей природной простоте, — вдвойне родовитый князь-граф двусмысленно улыбнулся. — О щедрости и о пристрастиях ваших, дражайший Иван Демидович, я тоже весьма наслышан, а поэтому прием вас ждет особенный.
Глаза Гуляева загорелись — страсть к сюрпризам и необычным развлечениям всегда жаждала в нем удовлетворения.
— Викентий Алексеевич! — произнес Мансуров-Сороков-Лестман вкрадчиво. — Поручаю почетного гостя вашей опеке, позаботьтесь о том, чтобы ему не было скучно в моем доме.
«Думанский» понимающе кивнул, оттеснил в сторону ничтожного студентишку, так и увивавшегося вокруг богатого знакомца, и, подхватив Гуляева под локоть, зашептал ему на ухо:
— Полно тебе, Иван Демидыч, мучиться! Пойдем от этих светских индюков, я тебя утешу: тут вон в соседней комнате яства и чудеса разные…
— И то верно, пойдем отсюда, милай! Посмотрим, что за такие чудеса расчудесные! — сразу согласился купец.
Когда парочка удалилась, какой-то чиновник Министерства юстиции, обращаясь к соседу, заметил:
— Нет ничего изменчивей человеческой натуры: с Викентием Думанским мы вместе учились в Училище правоведения, и он всегда отличался особенным достоинством. Откуда взялась эта самоуверенная развязность, даже угодливость? И перед кем заискивает! Не узнаю человека, просто не узнаю!
— Чему удивляться? Годы! — отвечал лысеющий собеседник. — Все лучшее в нас — plusquamperfectum.[140]
Чтобы попасть в заветную залу, задушевным приятелям пришлось спуститься вниз по лестнице, устланной мягким, «топким» ковром.
— Ну, затейник князь! И чего удумал? — бормотал купец, стараясь не потерять равновесие на крутой лестнице.
В небольшой зале, отделанной в восточном вкусе — не то в мавританском, не то в каком-то ином, изобилующем замысловатыми узорами, вплетенными в арабские письмена на стенах, собрались, видимо, избранные. Для них здесь был накрыт богатый стол, посредине коего высился серебряный самовар в форме храма Христа Спасителя, окруженный графинами с разноцветными водками и коньяками, блюдами со всевозможными закусками — от зернистой икры до колониальных ананасов и бананов.
Стоило появиться «Думанскому», ведущему под руку Гуляева, как в скрытой от чужого глаза комнате на минуту стало тихо: каждый сознавал важность происходящего. Заполучив власть над Гуляевым с его миллионами и, главное, учитывая его близость ко Двору, можно было попытаться добиться того, чего братья-рыцари не достигали еще никогда с далеких дней основания первой ложи шотландского обряда в Московии: прямого контроля над положением в Православной Империи через овладение телом самого русского монарха!
Гуляев плотоядным взглядом окинул стол и восхищенно выдохнул:
— Вот душе услада! — Но тут же застыл, озадаченно почесывая в затылке. — А в самоваре… в храме бишь… никак чай?! Негоже!
— Да ты не сомневайся! — засуетился «Думанский». — Никакого подвоха: в «храме», как и положено, освященный кагорчик, вино — самая теплота церковная. Причащайся, дорогой, сколько душе угодно!
Иван Демидович просветлел лицом, пьяно заулыбался:
— Ну ладно, коли так — наливай чашку побольше, испробую на вкус княжеский сюрприз!
Пока Гуляев благодушно попивал сладкий кагор, забыв обо всем прочем, «Думанский» раскланивался направо и налево: всюду были «посвященные», личности известные или стоявшие на пороге проведения над ними древнего обряда, превращающего просто влиятельного человека в одного из властителей судеб России и всего мира, всего живого (и мертвого, впрочем, тоже!). Здесь были денежные тузы, профессиональные авантюристы высокого полета, «гении» от искусства — одним словом все, алчущие лишь одного — ВЛАСТИ… Обменяться традиционными рукопожатиями с товарищем по общему делу первым поспешил великий князь Рюрик Михайлович:
— Ну наконец-то! Мы уже, признаться, заждались, ведь как-никак вся надежда на вас. Вы и сами, вижу, взволнованы — судьба Отечества решается!
Следующим подал «Думанскому» узкую ладонь член ревизионной комиссии Шкаров: «Думанский» понял его взгляд, они отошли в другую сторону залы, за ними последовала группа маститых братьев самого высокого ранга. Шкаров представил адвоката двум высшим армейским чинам, а затем их — адвокату:
— Рекомендую, господа, — цвет армии их высокопревосходительства, генералы Алексеевич и Прузский! Вернейшие люди, наши единомышленники, и в войсках пользуются непререкаемым авторитетом.
Алексеевич, раскланявшись, произнес:
— Мы спасем Россию. Государю вскоре ничего не останется делать, как подписать манифест о даровании своим подданным определенных свобод. Господа, вы все знаете, что Государь в ближайшее время будет служить нашей цели.
Все захлопали, точно забыв о Гуляеве, который как потерянный бродил среди оживленно беседующей публики, изредка встряхивая кудлатой головой. Обрывки фраз едва достигали сознания пьяного негоцианта, но то, что удавалось разобрать, похоже, сильно его удивляло, причем не восторгало, а, скорее, совершенно сбивало с толку.
— …мы всегда готовы к решительным действиям. Террор — вот наш метод борьбы!
Гуляев икнул и попятился, едва не уронив молодого человека с копной черных волос, в пенсне и с бородкой клинышком. Однако столь незначительное потрясение не помешало тому высказаться:
— У товагища Совенкова вегные сведения насчет готовящегося выступления…
— Ну разумеется, мы примем их к сведению, товарищ… Трупоцкий, если не ошибаюсь?
Гуляев тяжело вздохнул и повлекся к самовару, расслышав, правда, по пути еще нечто маловразумительное:
— …Сам господин Иаков Пшифт передает братский привет единомышленникам в России и просит нас неукоснительно соблюдать общие интересы: международные субсидии зависят только от этого условия…
— Мы не забываем о своих обязательствах, — дипломатическим тоном произнес сам князь Мансуров граф Сороков-Лестман, давно уже спустившийся в потайную залу, и, нервно разминая пальцы, решительно проговорил: — Не пора ли приступить непосредственно к сути дела? Господин Думанский, действуйте!
«Думанский», подмигнув, кивнул:
— Так все уже готово.
Он отошел к пиршественному столу, за которым, развалившись, сидел Гуляев и пытался выдоить в чашку остатки священного вина из краника, устроенного в самой алтарной апсиде собора-самовара. Купец был совершенно пьян и так погружен в свое занятие, что, конечно же, не мог принимать участия в общем разговоре. Осторожно тронув его за плечо, «Думанский» вполголоса проговорил:
— Иван Демидыч, дорогуша, это я, Викентий, ты меня слышишь?
— Как не слышать, Витень… — Гуляев не смог выговорить имени «любезного друга» и махнул рукой. — Ну и пуссь! Переус-серсвал я, брат, просси дурня! Не ращщитал…
Адвокат продолжал свое:
— Так ты мне друг, Иван Демидыч?
— А ках же, Вик… — утвердительно икнул купец.
— Ну раз так, сделай для меня, дружище, одно одолжение.
Гуляев потянулся к адвокату с намерением облобызать:
— Да я же для тебя!.. Да все што хошь! Деньги любые — я ж-ж… за тебя душу отдам!
«Думанский» присел на корточки, азартно хлопнул ладонями по коленям:
— Спорим, что не отдашь!
Гости, следившие за каждым словом «друзей», затаили дыхание. Купец обиженно выпучил глаза:
— Не веришь?! Гуляеву не веришь? Я в жиз-зни даром слова… Да за хорошего человека себя не пожалею… На! Ешь меня!
«Думанский» даже опешил, не ожидая, что его трюк так легко удастся. «Ну и болван же ты, Иван Демидыч!» — подумал он.
— Ну, раз дал слово — держи! — «Викентий Думанский» уверенно подхватил Гуляева за плечи: — Пожалуй-те-ка со мной, Иван Демидыч!
V
Первое, что заметил Думанский, ворвавшись в «мавританскую» залу, был раскинутый в центре черный шатер из плотного бархата, своим видом отдаленно напоминавший ветхозаветную скинию. Шатер был раскинут в громадном полукруглом эркере, прямо под барельефом с изображением огромного глаза — Ока, заключенного в равносторонний треугольник, одной вершиной устремленный вверх. Из шатра доносилось еле слышное пение. Стройный хор выводил мрачную торжественную мелодию, от которой кровь леденела в жилах (видимо, то был ритуальный хорал на тайном языке, сопровождающий жертвоприношение). Но Думанский не позволил себе предаваться экзальтации в тот момент, когда на карту было поставлено столь многое.
Из глубины залы выступили двое братьев с каменными лицами в мрачных кожаных облачениях, скроенных, точно иезуитские сутаны. Присутствовавшие, не замечая нового гостя, обступили кругом черную «скинию», склонясь в церемонном поклоне перед рыцарями-жрецами, и те мгновенно исчезли в ней.
Забыв о страхе, Викентий Алексеевич сумел легко расшвырять еще нескольких «иезуитов», попытавшихся преградить ему дорогу, с удивлением отметив, что тело Кесарева с одинаковым успехом владеет не только приемами самой вульгарной уличной драки, но и клубным английским боксом.
Вытащив двенадцатизарядный пистолет с полным барабаном, высокий жандармский офицер в парадном мундире с Георгиевским орденом 4-й степени на груди быстро беспрепятственно проследовал в шатер и тут же застыл на месте при виде чудовищной сцены.
Голова Думанского кружилась, и казалось, что сознание вот-вот оставит его. Отдаленный, потусторонний голос из ниоткуда настойчиво декламировал, виртуозно акцентируя усиливающийся поэтический ритм:
Бесконечны, безобразны, В мутной месяце игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре…Охваченный внутренней дрожью, адвокат едва различил впереди некий гибрид жертвенника и… колоды для рубки мяса, зажженный семисвечник на нем, какие-то блестящие предметы, сосуды…
«Успел! Слава Тебе, Господи! Святый великомучениче Георгие, не оставь меня своим заступлением!» — воскликнул про себя Викентий Алексеевич.
Прямо в полу темнела бездонная дыра, занимающая собой почти все пространство шатра-скинии. Вокруг нее выстроились люди в черных «иезуитских» балахонах, лица их теперь были закрыты капюшонами. На первый взгляд их было не меньше полусотни. Но это было далеко не всё. Перед каждым участником ужасного действа находилась инвалидная коляска, а в ней — покорная жертва. На головы сидящих в колясках людей были надеты светонепроницаемые черные мешки. Судя по вялым беспорядочным движениям, люди в колясках были живы, но пребывали в бессознательном состоянии, что было и немудрено, учитывая, сколь густо был насыщен дурманящими опиумными парами воздух в шатре. Оставалось лишь удивляться, как это «воскурение» выдерживают сами участники страшной церемонии. Думанский с замиранием сердца увидел на несчастных жертвах генеральские и придворные мундиры с обилием золотого шитья, дорогие сюртуки с орденскими звездами и лентами, свидетельствующими о принадлежности к самому цвету Российской Империи. Но сейчас было не до того, чтобы разглядывать чужие регалии. «Где же он, тот, что коварно завладел моим телом? Как я его узнаю?» Но тут один из предназначенных на заклание, словно по заказу, пошевелился в своей коляске и невнятно произнес:
— Фу, Дроня! Фу, это свои.
Голос Гуляева трудно было не узнать. «Стало быть, тот, кто держит коляску, мне и нужен!» Не размениваясь на лишние разговоры, «Кесарев-Семенов», утративший уже всякое чувство самосохранения, изловчился и изо всех сил ударил лже-Думанского по больному плечу — негодяй наверняка еще не совсем оправился после ранения в подворотне особняка Савеловых, и удар по этому месту окажется наиболее болезненным.
— Это ты? Ямщик без бороды, — Думанский наконец-то услышал свой собственный голос.
В следующее же мгновение злодей резко толкнул коляску с впавшим в беспамятство Гуляевым, намереваясь одновременно спихнуть в яму перелицованного адвоката. Тот, однако, увернулся и молниеносно обеими руками вцепился в горло своего недруга. Противники покатились по полу, рыча и изрыгая проклятия. Коляска, на которую они налетели, двинулась вперед, увлекая их за собой. Так и не отпустив врага, Думанский рухнул с ним в огромную яму, непонятно для чего проделанную в полу. Следом за ними сорвалась вниз и коляска с несчастным Гуляевым. Прочие же участники церемонии как ни в чем не бывало продолжали петь кровожадный хорал.
Удар о каменный пол на некоторое время лишил Думанского способности воспринимать окружающую действительность. Перед глазами вспыхнул и погас сноп ослепительных искр. «Голова… Кажется, я сильно рассадил голову… С такой высоты немудрено. Слава Богу, что не насмерть!» Думанский уже не ощутил физической боли — только леденящий страх: сплетенные мертвой хваткой в единый клубок три тела, затягиваемые бешеным водоворотом, низвергались в огнедышащую, стенающую бездну.
Очнувшись, перелицованный адвокат обнаружил, что лежит в неком подобии круглого помещения, пол и стены которого выстланы в шахматном порядке керамической плиткой, а стены сложены из грубых каменных плит, холодных и скользких от сырости. «Проклятье! Знакомое место — именно здесь тогда все и произошло… Всё и вся возвращается на круги своя!» Рядом, нелепо завалившись на бок, лежала коляска, колеса которой еще вращались, буддийски напоминая о вечном повторении оборотов судьбы. Гуляев, судя по всему, выпавший из нее при падении, не подавал признаков жизни. Сверху продолжало раздаваться низкое монотонное пение, сладковатый дурманящий опиумный дым ощущался даже здесь — на глубине в добрых три этажа! Судя по всему, падение двух главных участников ритуала и незваного гостя так и не привлекло ничьего внимания. Все будто находились под гипнозом, завороженные собственным пением — повторением одних и тех же непонятных фраз.
Отыскав глазами бесчувственное, «опустевшее» тело адвоката Думанского, Думанский перелицованный бережно усадил столь драгоценную находку в коляску и огляделся в поисках выхода. «Только бы шея у… э-э-э… оказалась не сломана, — поймал он себя на мысли. — А то как же мне тогда жить в таком теле… Но как сейчас выбраться отсюда?»
Дверцы, видневшиеся в стенах друг против друга, не поддавались, но вдоль стен, убегая наверх по спирали, виднелось некое подобие пандуса. Узкий каменный карниз, без перил, но все же это был путь к спасению. Толкая перед собой вверх тяжелую коляску со своим телом, Думанский, не обращая внимания на ссадины и боль в разбитом теле, изо всех сил устремился наверх. Кровь капала со лба, стекая, заливала глаза. В какой-то момент коляска показалась ему легкой. Вкатывая ее на пандус, Викентий Алексеевич бежал так уже около четверти часа, а тот все не заканчивался. Но, едва подняв глаза, Думанский удивился еще больше: он по-прежнему находился на дне ужасающей ямы! «Нет, не может быть…» Но и это было еще не самое ужасное. Прямо перед ним, потрясая его собственным пистолетом, воздвигся вдруг во весь свой великанский рост Гуляев! Лицо «благодарного негоцианта» пылало нечеловеческой злобой.
— Иван Демидович! — с мольбой вырвалось из самой глубины существа адвоката. — Я — НАСТОЯЩИЙ Думанский! А эти, кругом, — бесы… Спасайтесь! Да Господи Боже… Спасайтесь же, говорю я вам.
Видел бы он себя со стороны — в жандармском мундире, все под той же бандитской личиной… но душа так и рвалась наружу. А Гуляев был неумолим:
— Я те покажу, как поклеп на добрых людей возводить! Думал, не узнаю тебя, голь воровская?! Я твою мерзкую харю на всю жись запомнил!!! Чуть было на каторгу из-за тебя не угодил!
Огромные лапы архангелогородского детины сомкнулись на шее слабеющего Думанского. «Святый Георгие Победоносче…»
— Отпусти его, Иван Демидыч! — из-за пелены кровавого тумана опять донеслась до боли родная интонация.
На сей раз пришедший в себя оборотень, проворно соскочив с коляски, достал устрашающего ритуального вида нож, лезвие которого было испещрено непонятными магическими символами, и тоже схватил адвоката за горло, отчего все тело последнего выгнулось наподобие живой арки. Правой рукой Думанский наконец-то успел вцепиться в лже-Думанского, но тот моментально развернул беднягу и снова принялся душить, сводя на нет все его прежние усилия. К тому же оборотень наотмашь полоснул адвоката лезвием, нацеливаясь прямо в глаза, и, хотя промахнулся и нож рассек только брови, кровь опять хлынула по лицу. Вконец обессилевший, теряющий зыбкую надежду на спасение, адвокат едва слышно шептал полусвязное:
— Это бесы… Гибель… Господи Боже… Георгий…
— Э нет, шалишь, анафема! — по-звериному проревел отскочивший было Гуляев.
Тут же оглушительно прогремел выстрел — Викентий Алексеевич почувствовал страшный удар и жгучую боль в левом плече, теплое потекло теперь уже по телу, пропитывая ткань сорочки, мундира. В те считаные мгновения, пока плечо не успело онеметь и он мог свободно двигать рукой, Думанский отчаянно рванулся из цепких злодейских объятий. Тогда прогремел второй выстрел. С точностью, которой невозможно было ожидать от невоздержанного, пьяного купчины, Гуляев прострелил адвокату оба плеча! В мгновение ока, и так измученный, Думанский стал беспомощней новорожденного младенца.
«Конец… — отрешенно подумал расстрелянный в упор. — Вот и всё. Сейчас всё, кончится…» Где-то за пределами сознания возгоралась связующая поколения всепоглощающая молитва: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится…» Земное готовилось отступить перед Вечностью.
— Уймись, Гуляев, оставь его мне, — произнес над самым ухом жертвы лже-Думанский. — Охолони, говорю! Я сам его прикончу.
Будто услышав эти слова, наверху запели все громче, явно переходя к самой кульминации ритуала. Клубы опиумного дыма затягивали своды и спускались вниз подобно грозовым тучам.
— А ведь я узнал тебя, ямщик безбородый! — добавил оборотень, обращаясь теперь уже к самой жертве. — Хорошо, что ты тогда не умер.
— Мое-е! Не отдам. Вот кукиш тебе с маслом! Не замай!!! — снова взревел Гуляев. — Я из-за этой гниды чуть на виселицу не угодил безвинно… Нет уж! Я ему башку-то своими руками оторву! И тебя, уж не обессудь, ежели помешаешь, на одну ладонь посажу, другой прихлопну. Хоть ты и фармазон, а нраву моему не препятствуй! Давай так, по чести — ты его из револьвера — как-никак, мой подарок! — а я и ножичком управлюсь, зато уж в самое сердце змеиное.
— Да ладно-ладно, — примирительно заговорил оборотень. — Что ты так кипятишься, Иван Демидыч? Добыча наша общая. Значит, так и решим: на счет три — я в голову стреляю, ну а ты, раз душа просит, — ножом в сердце. И-и-и! Раз, два…
Оставалось лишь досчитать до трех, и последовал бы роковой выстрел, но тут — откуда что взялось?! — полуживой адвокат каким-то нечеловеческим отчаянным усилием выдавил из себя:
— Иван Демидыч, ради Христа, выслушайте же — это я НАСТОЯЩИЙ Думанский! Слово чести — я!!! Он же украл мое тело! Поверьте мне, умоляю… — и тут же ощутил, как холодное дуло смит-вессона теперь уже уперлось в затылок.
Но очередной выстрел неожиданно грохнул где-то над головой, напрочь оглушив и сбив с толку адвоката. Думанский почувствовал вдруг, что пальцы, только что державшие его железной хваткой, отпустили. Пение наверху уже подходило к концу — вероятно, таинство жертвоприношения завершалось. Теперь Викентий Думанский мог отдышаться. Но удивляться было некогда.
— Иван Демидович, ангел-хранитель вы мой! Спасибо, что поверили мне! — В порыве чувств он кинулся к Гуляеву. — Узнали все-таки… Век не забуду!
— Уходить надо, — обеспокоенно, но без лишних эмоций, перебил его купец. — Давай быстрее, я знаю, где здесь выход.
— Нет! Как же — я не могу уйти без своего тела. Я должен по-христиански его похоронить.
Но, обернувшись, он увидел лежащее лицом вниз… кесаревское тело в мундире жандармского ротмистра! В полном изумлении Думанский уставился на свои руки и принялся рассматривать их (в правой, между прочим, оказался смит-вессон): еще несколько минут назад почти совсем онемевшие, они снова слушались хозяина, снова двигались! Викентий Алексеевич по-прежнему ничего не понимал, но сомнений не оставалось: произошло чудо, и он снова обрел свое родное тело.
— Ку-у-да?! Назад, живо! — заорал Гуляев. Вот теперь в голосе его слышался настоящий ужас.
Почувствовавший прилив сил Думанский наклонился над своим временным пристанищем — скудельным сосудом чужой души, с трудом взгромоздил его себе на спину, как вдруг оказался сбит с ног упавшим сверху тяжелым предметом. Теперь-то он сообразил, что пение наверху прекратилось и в яму начали падать бездыханные тела в облачениях рыцарей Ордена — еще теплые, обезображенные ужасными ранами. Это было какое-то сравнимое с апокалиптическим катаклизмом — огненным камнепадом, обрушением штурмовавшей небеса нечисти — массовое низвержение черных мертвецов. Сплошь в крови, еще сочившейся из многочисленных порезов, они грозили заполнить собой все пространство!
Рухнувший прямо на Думанского тучный труп буквально припечатал его к полу. Адвокат беспомощно затрепыхался под кошмарным грузом, с ужасом понимая, что еще немного, и он окажется погребен под грудой мертвой плоти.
Гуляев, ни слова не говоря, схватил его за ноги и сильным рывком потянул наружу. Викентий Алексеевич не смел выпустить тело Кесарева. «Каким бы скверным ни был этот человек, нехорошо оставлять его вот так — без отпевания… Не по-людски это!»
— Да отпусти же ты его, пропадем! — надрывался Гуляев. — Бежать надо! Эх, всё, не успели…
Внезапно четыре низеньких дверцы разом распахнулись, и наружу, отвратительно завывая, вырвался целый сонм точно одичавших, озверелых созданий — новоявленных «аристократов». Да — теперь именно они и такие, как они, представляли цвет Империи, ее элиту! Достигшие в одночасье желанного положения, «благородства», парвеню с остервенением набросились на мертвецов-«иезуитов», раздирая свежие человеческие туши (еще несколько мгновений назад — свои собственные тела!), впиваясь в них зубами, жадно отрывая куски еще кровоточащего мяса. К триумфальному пиршеству братьев, только что прошедших ритуал перевоплощения, присоединился, казалось, весь сонм петербургских масонов разных степеней. За этим чудовищным, как в адском паноптикуме, зрелищем откуда-то, будто из-под самого свода шатра, торжествующе наблюдал недосягаемый для участников вакханалии князь-граф Мансуров-Сороков-Лестман.
Думанский, послушав купца и выкарабкавшись, вскочил на ноги, но не успел сделать и шага, как был сбит очередным упавшим сверху мертвецом. На мгновение он даже потерял сознание.
Вновь открыв глаза, адвокат напряг зрение: бесформенная, шевелящаяся, издававшая утробные звуки масса, в которой с трудом угадывалось скопище так называемых Homo Sapiens, облепила мертвые тела в кожаных сутанах. Эти жуткие существа, потерявшие образ и подобие Божие, продолжали в хищном экстазе пожирать разрозненные куски парной человечины. Но если бы это безумное пиршество было для привыкшего за последнее время к жестокости лежащего во зле мира Викентия Думанского лишь зрелищем… Одурманенные опиумными парами, одержимые бесами «сверхчеловеки» не обошли своим вниманием и адвоката с купцом — принялись нападать на них с недвусмысленным намерением полакомиться.
Разъяренный Демидов сын, подобно кулачному бойцу или былинному богатырю, не скупился на удары: «аристократы» отскакивали от его тычков, как мячики для лаун-тенниса от ракетки, некоторые же, особенно наглые и агрессивные, — с душераздирающим визгом и скулежом (им доставались меткие, глубокие уколы и резаные раны, наносимые безо всякой жалости разделочным ритуальным ножом) падали в крови, чтобы больше уже не подняться. Гуляев, кажется, вознамерился истребить это подобие волчьей стаи. Викентий Алексеевич впервые в жизни участвовал в подобной бойне, но, поражаясь гуляевскому хладнокровию, и сам виртуозно применял знание сокрушительного арсенала бокса и смертельных приемов джиу-джитсу.
Отразив очередной натиск стаи двуногих хищников, мощной рукой схватив адвоката за шиворот, купец потащил его к еще одной дверце, располагавшейся под самым пандусом, однако принципиальный Думанский бросился отбивать бренное тело Кесарева у нескольких ужасающих созданий, которые вцепились в него мертвой хваткой. Эти остервенелые твари уже до костей обгрызли ноги бывшего бандита и теперь с отвратительным урчанием раздирали когтями его живот, намереваясь добраться до самых внутренностей. Подлинного аристократа-правоведа от такого фантастического натурализма чуть не стошнило. Преодолев отвращение, Думанский выхватил наконец неоднажды выручавший его смит-вессон и принялся в упор палить по нападающим чересчур вольным и прожорливым каменщикам. Завывающая толпа их подалась назад, неся потери, но тут же с новым остервенением бросилась теперь уже на самого адвоката, пытаясь вцепиться в него зубами. Он отчаянно сопротивлялся, и, хотя оставшихся патронов хватило всего на девять выстрелов, все они были как в тире — прицельно точными и рвали в клочья шитые золотом виц-мундиры, а заодно и уверовавших в свою исключительность и вседозволенность «орденоносцев». Последняя пуля угодила прямо в лоб какому-то братцу-ловкачу, едва не откусившему носок лакированного штиблета Викентия Алексеевича.
Когда отважного правоведа все же удалось сбить с ног, он смог дотянуться до кесаревского тела и запустить руку в карман жандармского мундира в надежде нашарить там остаток патронов к вессону, но именно в этот момент над ним возник седовласый генерал. Думанский с горечью узнал в старике известного всей России героя Шипки, сподвижника Скобелева: «Изуверы — и его не пожалели…» Оборотень, брызжа слюной и сверкая осатанелыми зрачками, завопил не соответствовавшим его почтенному возрасту визгливым тенорком:
— Братья, давайте отрежем всем им головы и сложим горкой — хороша же выйдет копия верещагинского «Апофеоза войны»! Э-эх, какой будет натюрморт!!!
Он разинул пасть, в которой уже клокотала чья-то свежая кровь, и в волчьем прыжке раскинул над бедным Думанским ручищи…
Вездесущий беспощадный Гуляев успел на лету осадить Гольдберга, вогнав тому смертоностную ритуальную сталь по рукоятку под самый кадык. Тут и сам адвокат умудрился трясущимися окровавленными руками с ходу забить в барабан первый попавшийся патрон и, издав одновременно отчаянный и торжествующий вопль человека, секунду назад уже попрощавшегося с жизнью, выпустил разящий свинец в рухнувшее на него обмякшее генеральское тело.
Воинственный купец отбросил труп в сторону, буквально поставил на ноги заново рожденного Викентия Алексеевича и даже подтолкнул его вперед в распахнутую настежь дверцу под пандусом, а сам принялся с прежним азартом мастера рукопашного боя на бегу разбрасывать нападающих направо и налево, как медведь раскидывает виснущих на нем озлобленных гончих, и безжалостно крошить на куски возникавших на пути богопротивных созданий. Время от времени те отвлекались, набрасываясь на уже холодеющие тела своих жертв и пожирая их вместе с костями. В один из таких моментов Гуляев изловчился и метнул кинжал в самую высоту, целясь в любопытствующего хозяина дворца, причем Мансуров заметил это и даже заслонил грудь от ножевого удара правой рукой, но смертоносное оружие, «приученное» к тонкостям жертвоприношений, чудом попало в самое уязвимое место, не только пробив ладонь насквозь точь-в-точь посередине ритуального надреза, но и буквально пригвоздив ее к коварному дважды сиятельному сердцу. Убитый, несмотря ни на какие уловки, князь-граф, к радости купца и ставшего свидетелем этого «гераклова подвига» адвоката, рухнул в самое скопище братьев-масонов, но тогда разъяренные, гонимые местью каннибалы стали преследовать беглецов с новой силой.
Измотанный Думанский, подгоняемый страхом и инстинктом самосохранения, не выпуская, однако, скорбной ноши, со всех ног убегал по узким каменным коридорам кирпичной, цвета запекшейся крови, кладки, то еле освещенным чадящими, пропитанными вонючей ворванью факелами, то пропадающими в кромешной тьме. Пол под ногами уходящих от погони то круто выгибался наверх, то опускался так низко, что беглецы скользили, как по катальной горке, а то и шлепали по щиколотку в холодной застоявшейся воде. Спертый воздух подземелья, сырость, влага, стекающая с потолка… И несмолкающий упорный топот множества ног за спиной.
На одном из поворотов Гуляев остановился, закрыл за собой дверцу из толстого листового железа и привалился к ней спиной, всем своим исполинским телом преграждая путь осатаневшим пожирателям трупов. Те навалились на нее с другой стороны всем скопом, нечленораздельно гомоня и ломясь изо всей мочи. Но великан не отступил, несмотря на то, что побагровел лицом и хрипло задышал, невзирая на пот, выступивший на лбу, и хлынувшую носом кровь.
— Дальше беги один! Правой стороны держись. Там выход наружу… Да! Смотри под ноги, не зевай — в мясорубку угодишь. Дальше как знаешь… И вот что: береги ее! Слышишь, береги!
— Кого, жизнь? — не понял Думанский.
— Молли!!!
Адвокат споткнулся, точно ослышавшись, и чуть не упал, а Иван Демидыч с жаром и даже какой-то болью в голосе продолжил:
— Береги ее! Понимаешь?! Любовь дороже жизни и сильнее смерти… Да пошел же, не стой! А ты, однако, уже не ямщик без бороды…
Думанский помчался вперед, не оглядываясь. Крик купца, слышавшийся все это время за спиной, перешел в полный нечеловеческой боли вопль, который внезапно оборвался на высокой ноте. Викентий Алексеевич не успевал за своими разогнавшимися, прорывающимися сквозь сумбур к логической догадке мыслями: «Откуда Гуляев знает Молли?! И дорога ему тоже откуда-то известна… Путь к выходу… Впрочем, Бог с ним… Не может быть! Как же я раньше не догадался, Боже мой, это уже не купец!! Нет уже Гуляева, а… Неужели меня спас тот, другой, который… ТОТ?! Господи, с нами крестная сила!!!» Спотыкаясь, наталкиваясь на стены, то и дело ударяясь головой о низкий потолок, адвокат спешил покинуть это ужасное место, упрямо волоча за собой то, что еще недавно было опасным преступником, фотографическими изображениями которого был обклеен весь Петербург.
Тоннель шел прямо, но света в конце его, да и самого конца, Викентий Алексеевич, как ни пытался, разглядеть не мог. Все та же грубая, скользкая кирпичная кладка под ногами, над головой. «Может, это ловушка?! И нет здесь никакого выхода…» — он уже засомневался в своем спасителе, в себе… Внезапно невесть откуда потянуло животной гнилью — то был характерный, нехороший дух. От скверного предчувствия и усиливающегося миазма у адвоката закружилась голова и появилась дурнота. Он посмотрел наверх, огляделся по сторонам, пытаясь угадать, откуда исходит такая вонь, но будто бы запнулся от торчащий из пола замшелый камень (так ему сначала показалось) и тут же ухнул вниз, в какую-то круглую дыру, угодив, как шар в бильярдную лузу, но не упал вертикально, а стремительно заскользил по довольно широкому круглому желобу. Перед глазами плыли красные круги. Сознание покидало Думанского. Последнее, что он разглядел перед собой, — громадный, во все сечение желоба четырехлопастной винт, напоминающий застывшие крылья ветряной мельницы. Между этими «крыльями» адвокат и проскочил на большой скорости в неведомый полумрак, точно в преисподнюю…
Очнулся он, лежа на чем-то мягком. Слышалось журчание воды, пахло речной свежестью, но ее почти совсем забивал отвратительный сладковатый дух дешевой и, главное, давно не убиравшейся мясной лавки. Продрав глаза и привыкнув к полумраку, Думанский с трудом удержался, чтобы не завопить от ужаса. Прямо перед ним кое-как различалось мертвое человеческое лицо, изуродованное до полной неузнаваемости. Вокруг продрогшего адвоката, а также под ним и на нем лежали такие же обезображенные мертвые тела, некоторые из них в иезуитских сутанах — остатки кошмарного пиршества тех, кто когда-то был создан по образу и подобию Божьему, а большинство — и вовсе без одежды или в кровавых исподних лохмотьях. Больше всего ужасало, что среди целых тел были обрубки — конечности, головы… Наверху можно было разобрать кое-где так же заляпанный кровью плотный деревянный настил. По этой омерзительной, гниющей куче, пища, бегали жирные крысы, подбирая остатки ужасного пиршества. Викентий Алексеевич предположил, что находится на какой-то барже или другом грузовом судне, доверху нагруженном мертвыми телами и то ли плывущем в неизвестном направлении, то ли как раз наоборот — застывшем во льду. Наконец он вспомнил, что угодил сюда, скатившись по какому-то круглому желобу или по длинной трубе. «Где-то тут должен быть лаз… Бог даст, выберусь, а нет — значит, не суждено», — решил Думанский с удивившим его самого хладнокровием. Узник кошмарного морга все же выбрался из-под мертвецов и принялся искать выход. Из иллюминатора неподалеку неожиданно стал пробиваться колеблющийся, тусклый столб света. Пробравшись на свет прямо по трупам, Думанский оказался как раз около «трубы», через которую попал в этот «братский склеп», только теперь желоб за иллюминатором, края которого рыжели подозрительной «ржавчиной», был забран частой решеткой, ее же, тем более при отсутствии сил, было не приподнять и на вершок. К тому же, зловещий свет, видимо, зажженного где-то наверху факела позволял увидеть, как огромный винт в трубе вовсю вращается. Теперь-то Викентий Алексеевич внимательно разглядел его острые, в запекшейся крови лопасти, вспомнил куски тел, разбросанные то тут, то там, и сразу стало понятно, о какой мясорубке предупреждал Гуляев. «Что бы от меня осталось, если бы она тогда работала? Жив Бог!»
Вдохновленный сознанием того, что и сам он пока еще жив, адвокат пригляделся к «потолку» и увидел вскоре, что и предполагал — над его головой был люк! Однако первоначальный пыл Думанского охладило отсутствие хотя бы подобия лестницы, ведущей наверх, к этому люку. Тогда он попытался встать на упрямо обваливавшуюся гору трупов, но когда ему удалось удержать равновесие, Викентий Алексеевич понял, что даже с этой чудовищной «горки» он едва лишь кончиками пальцев дотягивается до крышки. Адвокат все же попробовал подпрыгнуть, но, разумеется, тут же сорвался, упав лицом в омерзительное месиво из разлагающегося человеческого мяса, костей и лохмотьев. Запоздало всплыло в мозгу: «Да ведь люк-то наверняка задраен снаружи!»
Несколько минут он в прострации, уже за гранью отчаяния, распластанный, лежал на останках себе подобных. Взгляд его невольно шарил вокруг, по стенкам (или бортам?). Неожиданно обнаружился еще один иллюминатор, правда застекленный, и к тому же за ним была почти непроницаемая толща воды (плавучий морг, видимо, то ли слишком осел от тяжести груза, то ли накренился на бок), но, возможно, у Викентия Алексеевича появился еще один, может быть последний, шанс, и он пополз к иллюминатору, снова соскальзывая вниз трюма и снова уже с каким-то фатальным сизифовым фанатизмом, карабкаясь вверх. Высадить толстое двойное стекло даже боксерским кулаком не представлялось возможным, но ведь у Думанского имелся пистолет, и он принялся остервенело колотить по стеклу вороненой рукояткой, тщетно — оно само было прочнее металла. «Господи, помоги! — взмолился уже переставший верить в свои жалкие возможности правовед. — Если в этом сонмище адовом найдется тело Кесарева, то я пробью себе выход — в мундире оставались еще какие-то патроны… Заступи, Святый Георгие!» Труп искать не пришлось: лохмотья жандармского мундира с погонами ротмистра голубели рядом, выглядывая из-под других останков. В кармане, к счастью, оказалось еще три патрона! «Я рассажу этот иллюминатор вдребезги, раскрошу в пыль!!!» Не раздумывая, адвокат шарахнул в центр иллюминатора — из образовавшегося отверстия хлынула мощная струя воды. На все вполне хватило одного патрона. Это была последняя служба, которую сослужил добросовестному адвокату подарок «благодарного негоцианта», — напором струи пистолет выбило из рук и он канул на самое дно затапливаемой баржи. Адвокат и сам еле удержался на ногах.
Освеженный ледяной водой, Викентий Алексеевич мгновенно сообразил, что если не поторопится выплыть из страшного судна, то погибнет по собственной глупости, захлебнувшись в трюме-морге. Мертвому Кесареву подобная участь была бы безразлична, так что рассуждая здраво о спасении собственной жизни, адвокату теперь не приходилось даже задумываться о погребении этого проклятого тела.
Он подтянулся и готов был уже выплыть из зловещего судна в подводный полумрак, но что-то упорно мешало ему выскользнуть из открытого иллюминатора. Что бы это могло быть? Викентия Алексеевича опять охватил предательский панический страх: он знал, что долго без воздуха под водой не продержится. Оказалось, мертвый Кесарев, и Семенов с ним заодно, и здесь не желают отпускать правоведа: нога Думанского запуталась в пышном аксельбанте жандармского мундира. Он отчаянно, судорожно задергал ей и — о чудо! — мертвец все-таки протиснулся за адвокатом на прочном золоченом шнуре. Викентий Алексеевич даже перекрестился под водой: ему удался этот отчаянный поступок — вырваться наружу, пускай хоть в неизвестность водной стихии.
Неожиданно новым залогом спасения в мутной воде показалось нечто громоздкое, какое-то подобие кованой цистерны или… фургона?! Викентий Алексеевич, точно шестым чувством, узнал этот «фургон». «Господи! Да это же „телега печенега“! — ему вдруг вспомнилось меткое выражение одного из боевиков, убитого во время налета на Семеновском мосту. — Значит, я в Фонтанке. Рядом должна быть полынья или какая-нибудь прорубь. Так и есть!» Над затонувшей каретой был явный просвет во льду. Думанский подплыл к ней, смог без труда перерезать аксельбант о рваное железо и, избавившись от ставшего уже ненавистным трупа, оттолкнулся ногами от крыши и — слава Тебе Господи! — вынырнул на воздух. Интуиция не обманула его: он точно угадал место — рядом виднелись задранные вверх фермы Семеновского моста!
Еще не вполне осознавая, что выпутался наконец из чудовищной, казалось бы безвыходной, ситуации, он как мог обмыл лицо, а затем прилег на снег, чтобы отдышаться. Чувство легкости, почти невесомости, готовности взлететь в открывшееся взору бездонное небо было не сравнимо ни с чем, ни с каким испытанным прежде наслаждением.
Вдруг в стороне, возле берега, послышался какой-то грохот и скрежет, а по льду пошли трещины. Думанский вскочил на ноги и увидел, как затопленное зловещее судно-морг пошло ко дну. Он едва успел прочитать на борту надпись латиницей: «St. Valentin». Что-то зашевелилось на дне сознания, подсказывая Викентию Алексеевичу — где-то он уже слышал такое название, но мозг его за последние дни, даже часы, был просто истерзан, и в памяти иностранное словосочетание не прояснилось, оставшись не более чем именем католического святого.
Зато Думанский увидел нечто другое — то, что уже проверил на себе самом, но что теперь открылось во всей своей ужасающей сущности для обозрения любого зоркого прохожего, способного разглядеть с одного берега Фонтанки каменную стену другого. Когда кошмарный «St. Valentin» обнажил свой причал, в гранитной кладке открылся выход того самого желоба-мясорубки, который регулярно перерабатывал «органические отходы» реинкарнации «сверхчеловеков»: в круглое, буквально «обросшее» запекшейся и вымазанное свежей кровью жерло можно было без труда разглядеть и мощный винт-жернов с остатками людской плоти — весь поистине адский механизм, позволявший мясникам-масонам Бог весть сколько времени буквально прятать в воду концы своих чудовищных ритуалов.
Адвокату стало окончательно невыносимо смотреть на мансуровский дворец, где пришлось испытать столько ужасного и невообразимого нормальным сознанием, и он повернулся к другому берегу. Взгляд Думанского задержался на полынье, через которую он минуту назад все-таки вырвался на свет Божий, и здесь его поджидал еще один «сюрприз». Труп Кесарева, вероятно, потревоженный в момент, когда «Святой Валентин» канул на дно, напротив — всплыл на поверхность и теперь застыл у закраины полыньи. Природное благородство точно приказало дворянину Думанскому вытащить из воды останки поверженного врага. Нет, он уже не задумывался над судьбой этого, теперь совсем чужого, тела, но блеснувший на семеновском мундире недоступный бесовскому поруганию и спасительный для Викентия Алексеевича белый крестик Георгиевского ордена 4-й степени заставил его почтительно нагнуться, снять награду-святыню с изодранного голубого сукна и, бережно протерев, с молитвой спрятать во внутренний карман кесаревского сюртука. Посмотрев на мертвеца в последний раз, адвокат вынес печальный вердикт: «Хоть и был ты в банде „Святого Георгия“, а крест-то ты не заслужил! Не то что орденский, но, видно, и могильный…»
Добраться по январскому льду до набережной Фонтанки не составило особого труда — холода насквозь промокший и легко одетый Думанский просто не чувствовал. Ощущение свободы и спасения заслонило для него все остальное. Шатаясь как пьяный из стороны в сторону, он сначала побрел по набережной, наслаждаясь свежим воздухом, а главное — обновленным, даже несколько забытым ощущением собственного, родного тела.
Наконец он несколько «протрезвел» и понял, что необходимо взять хоть какого-нибудь извозчика. На удивление скоро рядом с ним остановился добродушный «ванька». Видимо, даже в таком плачевном состоянии в странном одиноком пешеходе можно было угадать природного господина.
— Куда везти, барин? — как ни в чем не бывало осведомился извозчик, привыкший к разным господским причудам. Викентий Алексеевич, ни слова не говоря и лишь широко улыбаясь, указал рукой в направлении Литейной части, а после, собравшись с силами, забрался в возок. Сани тронулись, и, возможно, быстрый ход и свежий невский ветер стали еще одной причиной того, что ощущение скорого, а в сущности, уже обретенного, счастья — быть самим собой! — не прекращалось, даже усилилось. В то же время он вполне мог трезво рассуждать: совсем не обязательно извозчику знать, где «обретается» такой необычный клиент, и вообще, лишние свидетели не нужны нам ни в безутешном горе, ни в минуты счастья и просветления. За три квартала до родительского дома на Кирочной адвокат Викентий Алексеевич Думанский пожелал сойти:
— Останови здесь, любезный!
Возница с некоторой укоризной покачал головой:
— Замерзнете, барин. Нельзя ж этак-то… Оно, конечно, загул — я понимаю, душа просит, однако…
Промокший до нитки барин протянул ему не менее вымокшее германское портмоне и, равнодушно махнув рукой, ни слова не говоря, с пасхальной радостью среди зимы на лице побрел «веселыми ногами» навстречу петербургскому рассвету.
VI
Викентий Алексеевич бежал по пустынному городу, не чувствуя холода, ветра, снега. Он то и дело спотыкался, падал, встав на ноги, опять устремлялся вперед, бормотал, стуча зубами, как в горячечном бреду, порой воздевал руки к светлеющему предутреннему небу и едва не переходил на крик.
— Господи Боже, Спасителю мира, слава Тебе!
Головокружение, слабость и тошнота — все это было ничто по сравнению с вернувшимся ощущением собственного тела. Даже в безоблачном детстве Думанский не испытывал такой эйфории, такого восхитительного чувства — он опять стал самим собой, не уродливым раздвоенным существом, в котором дух и плоть причиняли друг другу страдания, а исполненным гармонии высшим творением Божиим! Пьяный, попавшийся ему навстречу, мгновенно протрезвел и, уступая дорогу, закрестился, словно именно в этот миг постиг вечную суть вещей.
Где-то возле Кирочной восторг Викентия Алексеевича уступил место ощущениям «от мира сего». «Времени сейчас, верно, около шести — сколько же меня по городу носило?» Он наконец почувствовал январский холод.
Оглядев себя, увидел, что кесаревская пара на нем изорвана, сорочка окровавлена. «Это кровь негодяя Кесарева… Домой сейчас же — очиститься, смыть всю эту грязь, переодеться… А потом к Молли, непременно!» Разжав кулак правой руки, он с радостью обнаружил буквально впечатавшийся в ладонь орденский крестик с поражающим змия святым всадником-победоносцем. Как тот попал из сюртучного кармана в ладонь, адвокат не помнил, но это было совершенно не важно — главное, крест-святыня был с ним. «Благодарю тебя, Святый Георгие! Благодарю тебя, путеводитель мой и спаситель!» — он прижался губами к чистой, белой эмали креста и ощутил неизъяснимую теплоту, разливающуюся по всему телу — это на морозе-то! Ликуя, адвокат вдохнул полной грудью свежий воздух, со слуха его будто бы спала тонкая пелена, глаза словно промыли. Он опять воспринимал звуки и краски во всем их сочном, живом многообразии.
«Какое блаженство быть самим собой! Нужно было столько пережить, чтобы осознать это… Какое сегодня число? Запомню и буду справлять как день моего второго рождения! Ангел-хранитель не оставил меня, праведный батюшка Иоанн Кронштадтский молился за нас с Молли… Чудны дела Твои, Господи! Дивен мир Твой!»
Минуты через две после того, как Думанский позвонил в дверь своей старой квартиры, служанка открыла. Увидев хозяина, она тут же пригнулась, испуганно закрыв руками голову, будто ожидая удара (подлинный хозяин ни разу не позволил себе дотронуться до нее пальцем).
— Ой, барин, простите, замешкалась… Задремала, окаянная.
Спешно бросилась снимать с адвоката ботинки. Викентию Алексеевичу стало неприятно.
— Да что это с тобой, Дарья? Оставь! — Он никогда не поощрял подобострастия слуг. — Оставь же. Я сам.
Дарья замерла и, не вставая с колен, подняла на него глаза, в которых все еще был испуг:
— А, барин? Не так что? Так я мигом… Я переделаю.
— Все так, — ответил Думанский, разглядывая прихожую и не находя многих вещей на их привычных местах. Почти напротив входных дверей висел небольшой фотопортрет Элен, точно привет из их медового месяца. Строгая траурная рамка, уголок которой был перевязан черной муаровой ленточкой, напоминал совсем о другом — недавнем и жутком. Сердце кольнуло: «Несчастная: А этот подлец, скотина… не мог даже соблюсти приличия, хотя бы разыграть скорбящего вдовца! Это траурное фото наверняка Даша повесила — она-то была неравнодушна к своей барыне».
— А что Элен? Прощание было достойным?
Служанка неуверенно, с явным удивлением, с ноткой осуждения и слезой в голосе ответила:
— Да что же… Вы будто не знаете? Похоронили ж третьего дня после несчастья-то — по-христиански. Особенно-то не церемонились. Да на Успенском же, в третьем разряде, чуть не в болоте… Неловко, барин, — вас и на панихиде не было, и на кладбище ехать отказались. Я, правду сказать, сорокоуст заказала у Сергия на Литейном… Ой, что я говорю-то, сейчас осерчаете…
— Нет, Даша, все верно — хорошо, что в церкви молитва будет… Какая циничная жизнь… Упокой Господь ее заблудшую душу! Что ж, не забывай барыню — она была добра к тебе. А я… — Адвокат тупо уставился в пол, но усилием воли заставил себя выйти из оцепенения. — Да-с, печально все и нелепо… Ты вот что, Дарья, ванну мне приготовь и платье новое, неношеное…
Служанка унеслась исполнять приказание. Викентий Алексеевич мрачно улыбнулся: «Прислугу вышколил в считаные дни: не ворчит, не перечит. Вот она, мужицкая хватка! Что называется, из грязи в князи».
Не раздеваясь, он осторожно подошел к большому зеркалу, с облегчением вздохнул, увидев себя во весь рост. Постоял, привыкая к своему прежнему — новому — облику. Грязным пальцем с удовольствием начертил на зеркальной поверхности круг. По-хозяйски зашел в свой кабинет: на письменном столе среди разбросанных документов желтел старый кожаный саквояж. Это была явно чужая вещь. «Где-то я его уже видел, или мне кажется?»
Думанский окинул взглядом кабинет: знакомые предметы будто не узнавали хозяина, прятались по углам. Старинный письменный прибор, память о деде — бронзовая чернильница, пресс-папье, подсвечники были неухожены, закапаны воском, перо торчало из чернильницы, а не из подставки, специально для него предназначенной, ваза, всегда стоявшая раньше на книжном шкафу, оказалась на деревянной тумбе для бюста, а сам бюст Цицерона, подаренный Викентию Алексеевичу в память об окончании училища, — на месте вазы… Внешне вещи не изменились, но от них исходил дурной дух другого человека.
— Готово, барин! — послышался из ванной комнаты бодрый голос Дарьи, которой были неведомы переживания адвоката.
«Пустое! Сейчас смою самую память об этих страшных днях, и наваждение развеется окончательно, — обнадежил себя Викентий Алексеевич. — И следа не останется от этого негодяя!»
— Как ты, однако, быстро, Дарья! Раньше я ждал бы никак не меньше получаса.
Горничная была рада похвале:
— Стараюсь, Викентий Алексеич! Скорее идите, пока вода не простыла, а я здесь камин затоплю.
Думанский расчувствовался:
— Дарья! Ты своему телу радуешься? Береги его. Храни, не дай Бог потеряешь!
— Христос с вами, барин! Да куда ж оно от меня деться-то может? — Дарья с опаской посмотрела на Викентия Алексеевича, истолковав его слова по-своему. — Руку вот, ногу отрезать может… Вон как у сестры моей, Нюрки. Жениху ейному на фабрике палец в летошнем годе Великим постом станком отхватило… А если вы о чем другом, так я девушка порядочная.
— Да я это к слову… — адвокат сам почувствовал, что сказал лишнее, и, смущаясь, добавил: — Просто радуйся, что у тебя душа и тело вместе, парой.
Уже лежа в ванне, чувствуя блаженную расслабленность, Думанский размышлял: «Где же ты, плоть моя, бродила без меня? Куда глядели мои глаза? Какие слова влетали в мои уши? Язык мой — что ты произносил, кому угрожал, кого обманывал? А руки… Ведь эти самые руки меня убивали!»
Только теперь он почувствовал боль в правой кисти. Поднеся к глазам руку, ужаснулся: ладонь была чем-то изрезана — линия жизни начиналась на пальце и продолжалась до самого запястья: поперек, у основания ладони, под прямым углом ее пересекала другая рана, так что возникало подобие перевернутого креста…
«Только бы татуировок на мне не было!» Адвокат поднялся, стал рассматривать себя в зеркале: кожа без ухода огрубела, волосы были жирно напомажены, на ногтях оставались следы лака, уголки губ презрительно смотрели вниз, подчеркивая мизантропический нрав их временного обладателя.
Струйки воды неприятно стекали по телу на кафельный метлахский пол. Викентий Алексеевич попытался улыбнуться — губы искривились в безобразной, вымученной гримасе. С отвращением Думанский почувствовал кусочки какой-то пищи, застрявшие между зубов, ощутил вдруг изжогу от пива, которое он терпеть не мог, и отвратительный привкус дешевого табака. Его всего передернуло. «Мерзость какая! Страшно на себя смотреть. — Впрочем, он мгновенно опомнился, и самообладание вернулось. — Да что это я говорю? Слава Тебе, Спасе мой!»
Вернувшись в кабинет, Думанский опустился на колени перед иконами, долго и усердно молился. Слезы умиления застлали его взор, когда он прильнул губами к запыленному стеклу киота. В комнате было душно, жар исходил от камина. Викентий Алексеевич растворил окно. Голуби стаей слетелись на карниз. Те, что посмелее, важно бродили по подоконнику, косясь на Думанского. В душевном волнении он сел за письменный стол.
Рука инстинктивно потянулась к перу. Адвокат уже было окунул его в такую знакомую чернильницу, часть большого каслинского литья прибора — подарка покойного отца, но коснуться тускло-золотым острым кончиком чистого листа не смог: противное чувство страха увидеть угловатые кесаревские «иероглифы» судорогой сковало пальцы. Пересилив себя, Думанский аккуратно вывел несколько печатных букв, составляющих его, теперь уже неотъемлемое, имя, но в этом как раз и была манера письма полуграмотного бандита! Викентий ощутил на лбу холодные капли и снова напряг сознание, призвав на помощь ангела-хранителя и… моторную память собственной правой руки. Это тотчас возымело спасительное действие: родной, чуть витиеватый почерк петербургского дворянина-правоведа окончательно, уверенно возвращался из прежней, «уютной» жизни. Правда, писать было совсем уж не так легко: изрезанная ладонь не была так гибка, как хотелось бы, было просто больно, да и пальцам предстояло еще полностью восстановить изящный навык владения пером (не говоря уже о способности свободно перебирать на досуге клавиши фортепьяно), но все же это выглядело сущим пустяком в сравнении с пережитыми ощущениями ненавистного, неуклюжего и неухоженного тела бандита. Главное, что его, Викентия Алексеевича Думанского, неповторимый почерк теперь уже навсегда, неотъемлемо принадлежал своему законному хозяину. Пускай кто-нибудь из «вольной братии», этих хищников, посмеет посягнуть на его личность — во всяком случае, он научен горьким опытом и не позволит просто так приблизиться к себе, не то что подать руку хоть одной из этих ушлых бестий.
«Избави, Боже, отныне никаких отношений со светской вольной братией! Но ведь нужно же что-то предпринимать — сами собой они все равно не оставят гнусных намерений, будут продолжать охотиться за Государем, за его верными людьми… Да много ли верноподданных осталось в ближайшем окружении Его Императорского Величества?!» Эти мысли не могли не омрачать радость от собственного избавления. Служивший Закону и царю не за страх, а за совесть Викентий Думанский потупил взор, и тут-то на глаза ему попался невесть откуда взявшийся свежей печати номер «Русских ведомостей» — маститой московской газеты, которой адвокат порой уделял внимание (из-за профессиональной щепетильности и столичного снобизма — не в последнюю очередь) — с жирным заголовком на первой странице: «Дело живого трупа».
«Ну вот! Что еще за толстовщина? Наверняка какие-нибудь жареные факты, да еще с желтоватым оттенком и язвительным апломбом: да никако ты Плевако! Хм…» Статья оказалась весьма даже любопытной и по адресу:
В русском народе недаром так расхожа пословица «Голь на выдумки хитра», и это отнюдь не фольклорно-поэтическая выдумка великого знатока живого великорусского языка господина Даля. В очередной раз подтверждена эта давняя мудрость не где-нибудь в провинции, в уездной глуши, изобилующей языковыми сокровищами для собирателей перлов народного наречия.
Неведомый доселе миру способ мошенничества, достойный не только филологического, но юридически-правового и даже политического интереса, «изобретен», как сказал бы классик, на стогнах столиц. Недавно совместными усилиями нашей доблестной Имперской полиции и полицейского корпуса Французской республики успешно проведена шахматная по своей сложности операция по поимке авантюриста-виртуоза европейского масштаба. Как уже сообщалось в одном из декабрьских номеров нашей газеты, после дерзкого ограбления ломбарда в Петербурге на Выборгской стороне была окончательно ликвидирована особо опасная банда «Святой Георгий», состоявшая как из подонков уголовного мира, так и боевиков-террористов политического толка (подробный репортаж о нападении этой преступной группы на кассу Петербургского Императорского университета был также ранее помещен на страницах нашей газеты). В числе прочих участников обоих преступлений была арестована некая Лилия Аксельбург, артистка известного у столичной богемы и среди прожигателей жизни самых разных сословий кафешантана с канканом, что в Крестовском увеселительном саду. Эта популярная в вышеохарактеризованном кругу особа, которая выступала под сценическим псевдонимом Шерри Колдовская как исполнительница «жестоких» романсов и модных песенок фривольного содержания, была, о чем нетрудно догадаться, изобличена и в оказании запрещенных законом Российской Империи услуг интимного толка, и даже в широком промысле на этой злачной ниве. Благодаря показаниям модной шансонетки, блюстители порядка и нравственности напали на след кровавого убийцы, который успел лишить жизни многих и многих наших добропорядочных сограждан, а также своих коллег по преступному ремеслу, причем не только в Санкт-Петербурге, Москве, но и в разных губерниях. Этот хитрый на выдумку изверг рода человеческого был способен на любое самое неожиданное изощренное преступление: он являлся не только карточным шулером, брачным авантюристом и мог даже изменить курс национальной валюты, но с такой же легкостью, как обыгрывал кого-либо в казино или взламывал очередной бронированный сейф «за семью печатями», расстреливал, душил и резал свои несчастные жертвы, подобно скоту на бойне. («Русские ведомости» заранее приносят извинения тем читателям, чьи нервы не привыкли к переживанию описываемых ужасов, что вынуждены констатировать столь ужасающие факты.) Злой гений, а точнее сказать — гений зла, надежно застраховав собственную жизнь, совершал одно убийство за другим и присваивал документы жертв, продолжая свой жуткий промысел под прикрытием чужих имен и прочих данных. Так, проживая в Петербурге под фамилией Сатин, оборотень под предлогом устройства на выгодное место в столице выманил из Екатеринбурга внешне похожего на него мещанина 32-х лет Казимира Панченко, будучи заранее осведомлен, что человек этот — круглый сирота, вырос в приюте, и в случае его пропажи, разумеется, никто не спохватится. Ничего не подозревавший, сильно нуждавшийся Панченко, с радостью принял «подарок благодетеля» — верхнее и нижнее платье, помеченное инициалами Сатина. Это обстоятельство — именные метки на одежде, наличие в карманах визиток господина Сатина, как и было задумано, ввели в заблуждение полицию после обнаружения очередной жертвы. Нужно заметить, что вся цепь изуверских убийств организовывалась и обставлялась как ритуальное жертвоприношение, и этот будоражащий общественность факт держал в напряжении как минимум обе столицы. Перевоплотившийся привычным для себя образом в Панченко, оформленного в качестве секретаря «убитого Сатина», последний должен был теперь получить страховку, которая на законных условиях, определенных «покойным патроном», предназначалась к выплате именно секретарю. Итак, патрон в очередной раз получил возможность нажиться на «собственном» убийстве, виновником которого на деле сам же и был. Этот трюк злодей мог бы смело запатентовать в каком-нибудь «регистре способов лишения жизни с корыстной целью», если бы таковой, не приведи Господь, существовал. За страховкой свежеиспеченный Панченко отправился не куда-нибудь, а во Францию, так как по правилам страхового общества означенная в свидетельстве приличная сумма беспрепятственно выплачивается отделением соответствующего банка в любой стране, где тот имеет свои филиалы. Сатин-Панченко, видимо, не долго думая выбрал давно притягивавший его воображение, созданный (в чем обычно убеждены подобные «гении») именно для него блистательный Париж.
Во французской столице он сначала получил вожделенный куш, а после, что не удивительно для этой Мекки романтиков, предался изысканному разгулу и в том числе утехам любви, не избежав брачных уз (конечно же, по тонкому расчету), но и медовый месяц не притупил «профессионального» интереса авантюриста-самородка. Панченко-Сатин поспешил снова застраховаться на кругленькую сумму в 500 тыс. франков. Среди легкомысленных парижан ему не составило труда найти очередного похожего на себя «секретаря», а дальнейшая схема действий преступника нашему читателю уже знакома и, увы, повлекла за собой очередное безжалостное убийство. Русский коммивояжер, теперь уже под именем Панченко, инсценировал очередной несчастный случай со своей «драгоценной» персоной, цинично столкнув доверчивого уроженца Иль-де-Франс под мчавшийся поезд в одном из парижских предместий. Хладнокровный Харон — чудовищное дитя fin de siecle, и не подозревал, что находится под неусыпным надзором полицейских ведомств двух могущественных европейских держав. И хотя совместными усилиями российской и французской полиции не удалось предотвратить очередного убийства (впрочем, следует признать, что именно оно как состоявшийся факт позволило окончательно изобличить и задержать преступника), а сведения о полицейской операции века просочились все же в вездесущую парижскую прессу, зато здесь проявили максимальное оперативное усердие сотрудники петербургской полиции. Не успели свежие газеты из типографий попасть в руки киоскеров и уличных разносчиков, как все утренние тиражи были методично раскуплены находившимися при исполнении русскими «гостями», чтобы ни один номер даже случайно не попался на глаза убийце и не спугнул его. Персонал банка, который должен был бы выплатить королю преступной авантюры вожделенную страховку за «безвременно покинувшего сей мир Панченко», был заранее предупрежден о предстоящей операции, поэтому облаченный в траур «француз» с заметным славянским акцентом получил отказ в выдаче крупной суммы под предлогом недостатка наличности в кассе.
На следующий же день не успевший ничего заподозрить бывший Панченко-Сатин etc., намеревавшейся стать порядочным французским буржуа, начав новую идиллическую жизнь «на покое» в обществе молодой жены, был арестован для препровождения на покинутую родину, где его ждет судебное следствие и сполна заслуженная суровая кара. Пока преступник конвоируется из пределов Французской республики в пределы Империи Российской, наш дотошный читатель вспомнит, пожалуй, еще одну великорусскую народную мудрость: «На Руси не все караси, есть и ерши», но можно быть уверенным, что на всякого подобного выскочку в нашем Богоспасаемом Отечестве найдется достаточное количество бдительных и хорошо знающих свое дело щук, которым по зубам любая речная мелочь, какой бы ершистой и юркой та ни была, а значит, подданным Его Императорского Величества не следует всерьез опасаться за собственные жизнь и благополучие, равно как и за покой своих семейств. Надежные силы, опора Государя и Отечества, не дадут и впредь безнаказанно посягать на законы государственные и незыблемые устои общества, какими бы хитрыми ни были внутренние и внешние враги Империи Российской.
P. S. Последнюю информацию по данному делу сообщают наши парижские и петербургские репортеры. Труп несчастного «Панченко»-парижанина эксгумирован в одной из клиник Парижской военно-медицинской академии при участии отечественных специалистов и сейчас проводится его дальнейшая экспертиза. Страховые общества Франции и России, репутации которых был нанесен ощутимый урон, требуют от соответствующих органов скорейшего расследования дела оборотня.
«Слава Богу! Мои показания полиции больше не нужны; механизм преступления теперь для них не секрет, — подумал с облегчением Думанский. — А что бы я мог сказать официально, для протокола? Как бы я обосновал источник этой информации? Что я, адвокат Думанский, временно был членом банды „Святой Георгий“ и участвовал в нападении на ломбард? Бедняга Шведов — без него жандармерии будет трудно… Знали бы они, какие настоящие оборотни уже окружают нас. Вероятно и не представляют, как ерши могут проглотить щуку или благородного осетра и сколько таких подложных осетров плавает уже в наших мутных невских да московских водах! Ну, даст Бог, в этом как-нибудь сами разберутся, а я умываю руки. Прости меня, Господи, я и так сделал все, от меня зависящее, остальное не в моих силах! Хватит с меня этой грязи… Помоги, Боже, царским слугам и спаси царя!»
Тревожные мысли снова напомнили о чужом саквояже, лежавшем тут же, на столе. На сей раз Думанский решительно открыл его. Внутри, в сафьяновой папке, вперемежку с текстом новеллы старика-инвалида о вольноопределяющемся Смирнове, лежали еще какие-то густо исписанные листы, среди которых попадались и очень старые, пожелтевшие, с почти выцветшими записями. Это был дневник того самого зловещего немца. Думанский начал лихорадочно перебирать содержимое «дядюшкиного» бювара, местами вчитываясь в неизвестную рукопись. Имена Молли и Гражины мелькали, сливаясь в одно, от волнения буквы и строчки тоже стали мешаться перед глазами.
Откинувшись на высокую спинку массивного кресла, Думанский насилу заставил себя успокоиться. Достал из кармана Георгиевский орден 4-й степени и положил перед собой, перекрестившись на него, как на святую икону (он ведь и был для Викентия Алексеевича настоящей чудотворной святыней). Наконец выбрал из пухлой кипы несколько страниц дневника, исписанных почему-то разными почерками, и углубился в чтение.
ДНЕВНИК ДАВИДА КАУФМАНА
Генваря 13 в лето 1740
Вольному каменщику надлежит искать абсолютную истину, дабы невежественную темноту народа русского рассеять и живоносные семена передовой культуры насадить. Примером оной надлежит европейские нравы почитать, а строптивость русскую всячески искоренять. Веру же православную и самодержавную власть такожде надлежит искоренить совершенно, а самого царя казнить прилюдно. Природное рабство русское, напротив, для целей своих использовать, ибо оное для общего труда способно. Дух просвещения по всей России распространять, особливо в дворянском сословии, дабы во всем просвещенной Европе последовать. Ученым же мужам разным наукам в университетах обучаться, таможде ключи к таинствам натуры хранятся. Ложи российские по образу и подобию тамошних строить и от правил «Строгого чина»[141] не отступать нимало. Сей путь всему роду человеческому свыше определен, и нам, братьям масонам, довлеет вести народы к общему благу сим единым путем.
Сентября 3 в лето 1776
Имею честь засвидетельствовать, что сего дня произошло чаемое объединение лож елагинских и рейхелевских. При сем торжественном акте я был секретарем. Сам мастер барон Рейхель настоял на совокуплении в Великую провинциальную ложу всех российских братств и предложил печатные ритуалы всех трех градусов. Провинциальный гроссмейстер, действительный тайный советник Елагин назвал сие великим событием, изволив заметить, что очень счастлив видеть во всей России одного Пастыря и одно стадо, о чем он вскорости готов сообщить магистру Великой национальной германской ложи. Наше стадо все больше и тучнее, и ежели бы Екатерина не стремилась искоренить братства масонские, мы были бы близки к заветной своей цели.
Викентий Алексеевич прочитал еще несколько подобных записей, напомнивших ему циничный программный доклад, посвященный 160-летию российского масонства. Он почти без любопытства, с непреодолимой брезгливостью перелистал около сотни страниц и, дойдя до конца еще недавно миновавшего века, неожиданно обнаружил, что масонская хроника начинает приобретать все более личный характер и повествует о событиях совсем не посторонних для него. Думанский не мог не углубиться в чтение столь откровенной «исповеди».
3 апреля 1985 г.
В моих домах умирают люди — факт неоспоримый и досадный. Я должен был это предвидеть: жалким людишкам, рабам жалких императивов, не ужиться рядом с мощью новейшей архитектуры. Вынести груз ничем не стесненной фантазии гения, воплощенной в камне, под силу только сверхчеловекам будущего… Ничтожной толпе следует населять человеческие муравейники, безликие строения общего типа, где каждому будет указано место в тесной клетушке. Когда-нибудь мои слова окажутся пророческими, пока же я лишь терплю убытки — безумцев, желающих преждевременно уйти на тот свет в домах постройки архитектора Р. все меньше. Хотя теперь меня лицемерно называют новомодным, всемирно известным зодчим — основоположником стиля модерн в России. Знали бы все эти господа искусствоведы, фантазеры и словоблуды, что достаточно одного волевого разреза ладони, и можно стать гением, даже новым «мессией»! Если так пойдет и дальше, боюсь, придется закрыть компанию и навсегда расстаться с архитектурой… Не желаю больше терпеть явления всех этих заказчиков-мертвецов во сне: стоит закрыть глаза и видишь ТАКОЕ… Не послать ли мне братьев с их рожами, ложами, клубами ко всем чертям?! Как же я устал!!!
5 декабря 1895 г.
Ветхий девятнадцатый кончается для меня освежающими, доселе еще не испытанными острыми ощущениями. По российским законам я приговорен к смертной казни через повешение за особо тяжкие уголовные преступления! Еще мог бы представить себе, что придется стоять на эшафоте в качестве ниспровергателя заповедей распятого и государственных основ Империи, но то, что буду удавлен как банальный уголовный преступник, как бандит с большой дороги — никогда. Один судебный вердикт чего стоит: «Виновен в покушении на частную собственность, отягощенном преднамеренным убийством десяти человек с транспортированием их душ в другую плоть». В истории мировой юриспруденции вряд ли найдется еще один подобный приговор. Обвинение в корыстных мотивах убийств оставлю на совести господ присяжных, чье мздоимство стало уже притчей во языцех, но каково было бы судебное определение, знай они, сколько душ я «транспортировал» на самом деле и сколько сменил тел за тысячи лет такой вот практики. Болваны — думают, у них есть на меня управа! Разве могут они хотя бы предположить, что я-то вытяну душу из любого, да вот только убить меня самого — НЕВОЗМОЖНО. А сообразить, что вечность не столь уж сладкий удел, этим жалким людишкам и вовсе не дано — умишком не вышли!
23 мая 1896 г.
Имел сегодня весьма важную встречу с банкиром Савеловым. Если бы не давние деловые связи, пришлось бы, наверное, прекратить с ним всякие отношения… До чего ж осторожен, старый ханжа! До сих пор, даже не являясь членом ни одной из лож, он регулярно ссуживал нам очень значительные суммы на «святое дело освобождения народа», но в последнее время его как подменили — во всем, что касается пожертвований, он стал особенно, до скупости щепетилен. Вероятно, ему стало известно что-то из тайных замыслов и целей братства, к тому же с возрастом его все больше раздражает наше соперничество с распятым. За конспирацию вряд ли стоит беспокоиться — аристократу до мозга костей, каков этот напыщенный тип, несомненно и в голову не придет доносить (прекраснодушие подобных идиотов «с принципами» — главный успех нашего дела в России), но двусмысленности в сотрудничестве с кем-либо я не выношу и допустить не могу. Здесь следует действовать мудро и лукаво, как неизменно действует сам Патрон и Покровитель вселенской Мудрости и Лукавства… На Высшем Совете по моему настоянию принято решение разыграть карту аристократической любви к лести. Я лично сделал строптивцу предложение Почетного поста казначея ложи с торжественным посвящением в довольно высокую степень иллюминатской[142] иерархии без положенного испытательного срока. Расчет мой удался совершенно — в душе Савелова оказалась задетой самая тонкая, заветная струна, он не смог устоять против искушения и дал согласие не колеблясь. Честь и власть — самое главное для таких, как он. Власть-то мы ему подарили (в разумных пределах, разумеется), только чести у него теперь останется столько, сколько оставят братья. Уж теперь-то банкир «наш», и, полагаю, даже сам не понимает, до какой степени! Кажется, недурной вышел каламбур.
…1896 г.
Отношения с Савеловым, похоже, принимают для меня не столько практический, сколько (кто бы мог предполагать!) романтический, предельно личный характер. Казалось бы, ну что для меня его семья, домашние? Но все по порядку. На днях я был приглашен к нему в дом на ужин, не обещавший ничего, кроме этикетного времяпрепровождения, скрашенного разве что каким-нибудь оригинальным блюдом да старым вином из собственных крымских погребов хозяина (кстати, я был наслышан об этих заветных погребах и вообще об исключительных кулинарных традициях савеловского дома). Однако в гостях меня ждал приятнейший сюрприз иного свойства — юная дочь Савелова. Она запомнилась мне еще малышкой Машенькой, сущим ангелом, в глазах которого читалась и детская невинность, и — уже тогда — нечто вечное, непостижимое (такие взгляды меня обычно пугают и притягивают одновременно), а теперь — как, право, летит время! — в назначенный ему срок чудесный бутон распустился нежным подснежником. Впечатления обновленного знакомства превзошли все ожидания: передо мной возникла вдруг девушка-гимназистка, прелестная в своей застенчивости, дышащая свежестью раннего утра, хотя за окном стыл уже хмурый петербуржский вечер. «Это юное существо только вступило в пору цветения, но совсем скоро станет настоящей красавицей, способной пленить любого мужчину, любого дамского угодника — от портупей-юнкера[143] до настоящего светского льва», — подумал я, восхищенный, когда Молли (так представил ее теперь отец — Машенька превратилась в Молли), зардевшись и потупив взор, поднесла руку к моим губам, и ее хрупкие, точно из бисквитного фарфора, в фиолетовых пятнах чернил, подрагивающие пальчики утонули в моей ладони. Я и сам почувствовал себя неловко — это чувство до сих пор было мне незнакомо! — моя рука, наоборот, показалась мне грубой, нелепо большой… а девушка вдруг подняла на меня очаровательные, трогательно, совсем чуть-чуть косящие глаза и вежливо, едва слышно произнесла: «Pardon moi! Сейчас мне пора, но, надеюсь, мы еще увидимся. Au revoire».[144] Конечно же! Разумеется, увидимся… Да полно, ведь не могла же эта совсем почти девочка чувствовать то же, что и я…
Банкир проводил Молли до двери, и она скрылась из глаз в анфиладе комнат, а наш церемонный ужин продолжился.
После того, как заинтересовавшая меня юная особа покинула столовую, мне сразу стали безразличны савеловские кулинарные изыски. Я немедленно спросил:
— И вы скрывали от меня такое чудо? Сколько же теперь лет вашей Молли?
В ответ Савелов не проронил ни слова, но взгляд его красноречиво свидетельствовал о нежелании далее развивать деликатную тему. Зато теперь я надеюсь, нет — я знаю теперь, что нам еще не раз суждено встретиться, но главное — Молли тоже об этом догадывается, вернее — надеется на встречу (чему порукой ее слова), а это что-нибудь да значит!
Я уже писал, что испытываю несвойственное, незнакомое мне до сих пор состояние. Оно настолько неожиданно, ново для меня, что даже себе самому до сегодняшнего дня, когда нелепо и глупо уже отрицать необратимость случившейся со мной перемены, я боялся признаться в серьезности моих чувств и вдруг замаячившей где-то на горизонте будущего волнительной картины спокойной семейной идиллии. Теперь уже не может быть никаких сомнений: проживший века, да и далеко не первую жизнь, обреченный жить, перевоплощаясь, до конца времен — всех земных сроков, навсегда посвятив все свои силы Ордену, я, бессменный, умудренный опытом, всегда являвший братьям пример цинического рассудка и холодного расчета, оказался подвержен сердечной слабости и чувствую, не в силах сопротивляться стихии романтической любви, подобно простому смертному! Не могу я трезво оценить ситуацию — беда ли это, а может, чудо, волшебное, сладкое наваждение?
Впрочем, любой, кому посчастливилось бы хоть раз увидеть юную Молли Савелову, вряд ли стал бы осуждать меня. Но о чем это я — кому вообще дано судить меня?! Да кто и осмелится. Я сам себе суд! Сверхчеловека не пристало судить жалким «рабам божиим», сохнущим в постном чаду церковных лампад или отпетым негодяям, прожигателям жизни, чьи душу и тело я могу привести в повиновение одним взглядом, одним движением мысли.
О, Молли, несравненная моя Молли! Любимое дитя своего могущественного женоненавистника-отца, она была взращена и воспитана таким образом, в такой любви и целомудрии, которыми не может похвастаться ни один Институт благородных девиц, в атмосфере настолько приближенной к идеалу, что, кажется, даже капелька земной грязи не посмела коснуться ее. Словом, она такова, как есть, — несомненная гордость родителя, и, наверное, сам ангел-хранитель Молли тайком от своего небесного хозяина влюблен в нее. Право же, гений чистой красоты, воспетый африканским темпераментом Пушкина, в сравнении с мадемуазель Савеловой показался бы любому ценителю поэзии, искусства, женственности, наконец, воплощением слишком страстных, слишком земных, вольных, даже вульгарных мыслей и идей. Теперь-то я отчетливо вспоминаю, когда впервые увидел ту, которая целиком завладела моим воображением. Это было лет восемь назад. Вызывавшее умиление у прохожих, очаровательное дитя в платьице розового шелка, порхая, точно голубка, прогуливалось под присмотром няни по Александровскому саду. Живая куколка так грациозно размахивала майской веткой проснувшегося на весеннем солнце деревца, в нежных, едва заметных белых соцветиях. Мне тогда и в голову не пришло, что это дочь банкира, связанного с нашей ложей, а через пару лет я узнал дитя из Александровского сада в спускавшейся по лестнице савеловского дома девочке (теперь она была уже в сопровождении строгой бонны). Присев в глубоком реверансе, на сей раз Машенька уже поприветствовала меня на английском с характерным лондонским произношением (это звучало весьма забавно). Спустя еще несколько месяцев, раскрасневшаяся после игры в лаун-теннис, с комически большой ракеткой в руке, она буквально влетела в кабинет отца, когда он выписывал мне очередной вексель. И хотя в ту пору я решительно презирал всяческие сантименты, мне показалось, что девчушка, чей ум и душевные качества буквально сквозили, сверкали в ней, точно искры мистического огня в бриллианте самой чистой воды, как-то по-особенному приветлива со мной. Да, теперь я берусь утверждать, что именно так оно и было — ее внимание еще тогда выделило из множества отцовских визитеров именно меня, и — наверняка! — именно я пробудил в этом чудесном существе первые, пускай едва различимые, невинные нотки женского начала. Зато какой вихрь волнующих ощущений охватил мое существо! Только теперь я по-настоящему открываю для себя лирику Пушкина, Тургенева, Фета… Впрочем, всем им вместе взятым далеко до вселенского масштаба моих чувств.
…1898 г.
А время все идет и не позволяет мне тратить его впустую, на какие-либо второстепенные развлечения, не дает топтаться на месте. В доме Савелова я, можно сказать, стал своим человеком.
Не так-то легко было добиться моего нынешнего положения «друга семьи». Вначале приходилось измышлять самые невероятные предлоги, чтобы переступить порог огромной банкирской квартиры, хозяин которой нелюдим и принимает почти исключительно по делу, допуская дальше прихожей только крупных акционеров, а мое главное дело в этих стенах давно уже одно — хоть мельком в очередной раз увидеть Ту, что окончательно и бесповоротно поселилась в моем сердце. То я приносил различные только что вышедшие в печати редкие издания специфического свойства из тех, что могли заинтересовать только солидного финансиста, либо раритетные солидные фолианты на вкус искушенного библиофила — и так расположить его к моей персоне, то, разведав у прислуги даты семейных торжеств, являлся с дорогим подарком, якобы поздравить отца семейства. Иногда я, «спеша по своим неотложным делам» и «случайно оказавшись в этих краях», без предупреждения наносил визит вежливости, «дабы лично засвидетельствовать глубочайшее почтение дражайшему господину Савелову», справиться о здоровье и пожелать процветания последнему, сам же искал взглядом юную барышню. С молчаливого согласия хозяина дома во время подобных посещений я все чаще и чаще передавал приятные и полезные сюрпризы самой Машеньке — Молли: нотную тетрадь модных детских пьес Дебюсси или книгу сказок Уайлда («ведь у вашей дочери прекрасный английский»), а то какой-нибудь милый пустячок вроде блокнота прямо с берегов Темзы или тонкой художественной работы куклы из модернистской Вены («ведь у вашей девочки, несомненно, безупречный вкус»). Конечно, такое трогательное внимание к любимой дочери льстило самомнению любящего отца, и вот я добился от Савелова достаточного доверия, чтобы иногда заменять Молли устававшую бонну во время моциона. Не надо объяснять, каким даром судьбы это было для меня: прогуливаясь с моей Молли по аллеям петербургских садов и парков, я наизусть читал Ей Гёте и Гейне, Мюссе и Готье, разъяснял тонкости романтизма и принципы чистого искусства в творчестве, в иные моменты с большой осторожностью касаясь деликатной материи человеческих страстей.
Как непревзойденный полиглот, к удовлетворению англоманствующего папаши, я посвятил ее во все тонкости оксфордской грамматики и произношения, чего не могла преподать ограниченная старая дева-кокни,[145] а на правах «друга семейства» и наделенного жизненным опытом «дяди» (впрочем, тайком от папаши) беседовал с девочкой о смысле мироздания, несовершенстве мира, словом, обо всей Мудрости, которой позволял поделиться мой такт и которую могла вместить ее не по-девичьи смышленая головка. Voila, на моих глазах Молли превратилась в почти что взрослую барышню и продолжает хорошеть с каждым днем, к тому же я с удовольствием замечаю, как Она попросту привыкла ко мне. Я, не побоюсь этого слова, приручил Ее: юность в лучших своих примерах жадно впитывает опыт старших. Но не все тут так уж радужно: в последнее время, встречая взгляд господина Савелова, ясно читаю: «Не дай Бог хоть помыслишь о Молли что-нибудь скверное — не посмотрю, что ты Магистр. Лучше бы тебе тогда вовсе на свет не рождаться! И весь Орден ваш по кирпичику развалю, будь он хоть коринфский, хоть ионический, хоть еще какой, да будь он даже Храм Соломонов!» Пока мне остается так же безмолвно, одним взглядом уверять бдительного визави в ангельской чистоте своих намерений. И, право же, впервые за множество жизней я нисколько при этом не лукавлю!
…1899 г.
Что толку, что я давно уже не простой посетитель в доме банкира, не чужой для Савеловых человек? «Друг семьи» — и только то! Да, я могу бывать здесь (и бываю!) чуть ли не ежедневно, мне даже стелят постель в спальне для гостей, когда слишком засиживаемся с хозяином за обильным ужином с возлияниями и за окном уже глубокая ночь; я имею драгоценную возможность постоянно видеть Молли, говорить с ней и, что уж там отрицать, даже принимаю участие в Ее воспитании, но разве мне достаточно такого «почетного статуса»? Или я достиг своей цели? Нет и нет! Видя совершенно особое отношение и (вряд ли я ошибаюсь) душевное тяготение ко мне милой Молли — этого совершеннейшего, этого неземного создания, разве могу я чувствовать себя спокойно, лишенный нормами этикета возможности проверить истинность того, что подсказывает мне моя натренированная интуиция или какой-то более тонкий, не определимый скудным набором человеческих понятий инструмент восприятия? Конечно, холодный рассудок и строгая, подкрепляемая вековым опытом логика, готовая анатомировать любое чувство, утверждает как некую математическую аксиому, что для юной девы я в своем нынешнем возрасте (нынешнем потому, что я вечен, а мой возраст — понятие внешнее и предельно условное, подчиненное мне самому) всего лишь разновидность «доброго дядюшки» в годах, мудрого друга и наставника, этакого педагога-ментора, который не может быть объектом пылких чувств с Ее стороны. Вызвать первую, трепетную любовь Молли в таком обличье — абсурд! Тут чудом была бы даже любовь-жалость, сострадание. Вот уж в чем я совершенно не нуждаюсь — увольте-с! Если, как принято считать, от любви один шаг до ненависти, то, по моему глубочайшему убеждению, от сострадания — до презрения… Но зачем такой рационалистический пессимизм? Разве моя душа, мое сердце, мои чувства, наконец, впервые за столетия вырвавшиеся наружу из темницы плоти, не поют вопреки всем земным обстоятельствам гимн Надежде, не предупреждают меня, что ее ни в коем случае нельзя терять, а наоборот — следует хвататься хотя бы за самую тонкую соломинку, которую протягивает мне бескорыстная, беззаветная, безоглядная любовь?
Сколько достойных, засвидетельствованных историками и моей собственной памятью (ее же смело можно именовать памятью веков!) примеров счастливой, разделенной любви, для которой не важна иллюзорная, земная разница в возрасте, встают передо мной — здесь и юные матроны Древнего Рима об руку с могущественными патрициями преклонных лет, хранившие верность этим угасающим старцам до гробовой доски, даже после их смерти, и недавние (в моем отсчете времени — просто вчерашние) примеры высокой любви юных жен и невест декабристов, убеленных сединами, израненных в боях генералов и полковников, воспетых поэтом «русских женщин», ехавших за опальными возлюбленными в нерчинские каторжные рудники, в ледяные дебри Сибири. А вот и нынешняя, буквально животрепещущая история семейного счастья Анны Сниткиной, последней жены Достоевского (вне зависимости от моего отношения к личности сумасшедшего мужа — христианского фанатика), которая, будучи на четверть века моложе, не колеблясь, вышла за него несомненно по любви, мало того — подарила ему сына и двух дочерей, была ему до самого его последнего дня сердечными другом и личным секретарем, как говорят, даже излечила его от пагубной страсти к рулетке и, насколько мне известно, оставаясь до сих пор верной памяти мужа, всю себя посвящает пропаганде его наследия. Она сама признается, что шестнадцать лет жизни с Достоевским были самым счастливым временем в ее жизни. Идиллия: она — его ангел, он — ее бог! Ну разве не убедительнейший аргумент, дающий мне право на самые, казалось бы, невероятные, несбыточные планы и мечты в будущем? А сколько еще подобных аргументов остались за полями этого дневника…
Нет, положительно нельзя опускать руки и впадать в черную меланхолию. И потом — разве я когда-нибудь от чего-нибудь отступался?! Никогда! И пусть только кто-нибудь дерзнет встать у меня на пути…
…1899 г.
Решено! Я объявил им войну! Объявил не как Великий мастер ложи «Орфея», но как раб любви, в борьбе за которую я не пощажу никого из соперников. «Lupus est hom homini, non homo, quom qualis sit non novit» — сказал когда-то Плавт,[146] и я буду действовать со своими соперниками, руководствуясь этим девизом войны, тем более что я не знаю их и знать не желаю. Я уже действую и — горе побежденным![147] Если в чьих-то глазах это выглядело бы варварством, для меня наоборот — проявление одного из суровых непреложных законов естественного отбора, которым подчиняется существование человеческого стада.
Моя борьба за личное счастье началась после того, как однажды я услышал из невинных уст моей впечатлительной Молли, что юноша, которого она уже несколько дней случайно встречает на Английской набережной, как две капли воды похож на юного Вертера. «Помните, дядя Аристарх, — пояснила она, — мы вместе читали о его страданиях у Гёте? Вертер — мой любимый герой, и вот — представляете? — я наяву вижу своего героя точь-в-точь таким, как он когда-то мне приснился». «Ч…т меня дернул тогда открыть ей Гёте!» — тут же подумал я, уколотый в самое сердце. Целую ночь после этого «радостного» признания я не мог сомкнуть глаз, зато с утра уже начал действовать, точнее — руководить действиями верных мне людей. В полдень мой посыльный уже постучал в дверь неприметного с фасада дома в Спасской части, только во дворе украшенного орнаментом из повторяющихся предметов, напоминающих геометрические и строительные инструменты, символический смысл которого, впрочем, для обывателя — сущая китайская грамота… Через сутки газеты бесстрастно сообщили о внезапном исчезновении студента-медика Константина Петушкова, из мещанского сословия, вероисповедания православного, уроженца Торжка — уездного города Тверской губернии, квартировавшего у петербуржской мещанки Варвары Лисициной, вдовы. Наконец, в разделах уголовной хроники появились леденящие душу заметки о том, что труп вышеуказанного студиозуса с перерезанным горлом обнаружен дворником во Введенском канале. Причиной убийства было признано банальное ограбление. Одному мне во всем миллионном Петербурге доподлинно известно: не обмолвись опрометчиво одна прекрасная юная особа о сходстве случайного прохожего с героем ее любимого романа, быть бы, скорее всего, новотору[148] Петушкову преуспевающим хирургом или дантистом. А в общем, сам виноват — не стой на пути у высоких чувств! Но продолжу летопись моей ревностной борьбы. После убийства я решил все же избрать более мягкую, но изощренную тактику, тем более что «выбор методов» избавления от копощащихся под ногами людишек у меня практически не ограничен. Так кузен Вольдемар, принявшийся было настойчиво оказывать знаки внимания своей двоюродной сестре мадемуазель Савеловой, был наказан тем, что «неожиданно» (для кого как!) в пух проигрался в карты и по условиям джентльменского соглашения был вынужден безвыездно, не подавая и звука, оставаться в самом дальнем имении, чуть ли не за Уральским хребтом (до сих пор о нем ни слуху ни духу, а главное — сама кузина его теперь и не вспомнит). Следующим молодым нахалом, поплатившимся за свою самонадеянность и наглость, был подающий надежды секретарь одного из савеловских компаньонов. Как только он допустил легкомысленную неосторожность в качестве пробы пера написать на шоколадной обертке имя «Молли», обведя его рамкой-виньеткой из множества проколотых стрелой сердечек, на него «внезапно» обрушился целый град ударов судьбы. Для начала грабители, налетевшие на него в темном переулке за Клинским рынком, в течение доброго получаса разукрашивали смазливую физиономию молодого бонвивана,[149] хотя портмоне и золотые часы с брелоками были отданы им по первому же требованию напавших. Тетушка-миллионерша, отписавшая было ему немалое состояние и даже успевшая заверить дарственную у нотариуса (о чем знало пол-Петербурга), ко всеобщему удивлению, сменила любовь к племяннику на позднюю страсть к какому-то итальянскому тенору, на которого тут же переписала все свои миллионы. Последним ударом, испортившим начинающему «финансисту» карьеру и окончательно выбившим его из седла, был тот печальный факт, что нарисованная им в дурном настроении прямо на банковском бланке карикатура «непредвиденно» оказалась на рабочем столе патрона среди деловых бумаг и была обнаружена последним как «нарочно» в присутствии важных компаньонов (всего хуже было то, что «шарж» вышел весьма талантливым и близким к действительности). Sic — горе побежденным!
…1900 г.
Очередные святки (всегда с трудом переношу эти суетные, полные бессмысленного веселья и глупых забав дни) одарили и меня столь «бесценным подарком», что я вот уж неделю не нахожу себе места. Этого события я боялся уже много лет, не мог не понимать, что когда-нибудь оно должно произойти, и вот дождался — накаркал-таки себе «рождественский» сюрприз! Вчера мы прогуливались вдвоем с Молли среди праздной толпы по иллюминированному Конногвардейскому бульвару, я что-то рассказывал Ей об увлекательности и величии древней мифологии, ассиро-вавилонских семитических культах, о тайнах жречества и вдруг получил от моей Несравненной признание, которое поставило меня перед неумолимым фактом: кем бы ни была для меня Молли, для нее я окончательно и бесповоротно стал «дядей Аристархом», и не более того! Мой Ангел чистой красоты заговорщическим полушепотом произнес:
— Пообещайте, что никому-никому не расскажете мою тайну.
Я внутренне напрягся, так что даже забыл утвердительно кивнуть в ответ, но сразу стал весь слух.
— Да я и так наверное знаю, что вам-то можно доверить все что угодно и во всем открыться, — продолжила моя бесхитростная мучительница. — Дядя Аристарх, я, по-моему, влюблена. Совсем чуть-чуть, зато небезответно. Вы только послушайте: он сказал, что будет ждать меня сколько потребуется и готов повторить все Геракловы подвиги в мою честь. Он говорит, что вообще на все для меня готов. Это так мило, неправда ли? This real hero![150]
Скривившись, как от зубной боли, я почему-то произнес:
— Говорите по-русски, девочка моя…
— Ну вот, как всегда — девочка! А он говорит со мной так, будто я уже совсем взрослая. Ведь взрослые барышни — я это постоянно слышу вокруг — больше всего на свете мечтают о любви и о том, чтобы выйти замуж…
«Только за меня!» — подумалось мне и тут же, не соображая, что делаю, я опустился на колени в грязь посреди посыпанной опилками, истоптанной сотнями ног аллеи, умоляя мадемуазель Савелову, конечно же не ожидавшую такой реакции «дяди», сделать меня счастливейшим из мужчин и позволить мне, со своей стороны, принести счастье ей; нес еще какой-то лихорадочно любовный взор, а когда я, привыкший к тому, что мои желания исполняются всегда (я и сейчас убежден, что должно быть именно так), поднял голову, то увидел на лице обожаемого существа замешательство, пожалуй, даже страх! Так мог смотреть только человек, на глазах у которого вывернули наизнанку всю систему воззрений на мир да вдобавок поставили вверх ногами.
— Но милый, добрый дядя Аристарх… так же нельзя! Невозможно…
Я видел, что Машенька-Молли старается сохранять самообладание, но голосок ее срывался:
— Вы же такой уже старый. О, Господи! Простите, совсем не то хотела сказать. Вы ведь мне друг, верно? Вы для меня почти как родной, а тут совсем-совсем другое. И это так отвратительно… то есть я хотела сказать, так ужасно, когда жена вдвое младше мужа — они непременно становятся несчастны! Есть картина «Неравный брак».[151] Помните? Такого не должно быть! И пожалуйста, не пугайте меня так больше, вы ведь пошутили, не правда ли, ведь это все не всерьез?
У меня кровь прилила к лицу, губы задрожали — я чувствовал лишь, как слова сами собой срываются с языка, расширяя пропасть, мгновение назад разверзнувшуюся между нами.
— А если всерьез, что тогда? Ты знаешь, дитя мое… Вы знаете, мадемуазель, что мне чужд юмор, и сейчас я менее, чем когда-либо, склонен шутить — оставим шутки простолюдинам. С первой нашей встречи я полюбил вас, и если сейчас вы не дадите определенного ответа, мне больше незачем, решительно незачем будет оставаться на этом свете. Прошу вас, Молли, не торопитесь с отказом, иначе я сам потороплюсь и…
— Нет! Нет, дядя Аристарх, не надо так говорить, пожалуйста! — воскликнула моя опрометчивая юная Госпожа. — Самоубийство — тяжкий, непрощаемый грех, и вообще… Как же это все неправильно! Я люблю вас как старшего друга, даже больше — как родственника.
Я никогда не смогу быть с вами ближе, потому что… потому что это так же противоестественно для меня, как выйти замуж за родного отца! Вы же сами давеча рассказывали мне про две параллельные, которые никогда не пересекутся.
«А Лобачевский? В бесконечности — в Вечности! — они обречены пересечься!» — хотел было с жаром возразить я, но не проронил в ответ ни слова. Передо мной возвышалась глухая стена женского упрямства.
…1900 г.
Голуби, голуби, всё голуби… Никуда не деться от них, от этих голубей! И что льнут? Не чуют тьмы души моей… Я и сам заблудился в непроницаемом мраке, а им хоть бы что — не чуют, глупые твари! А может, не боятся?! Грязь к ним не липнет, чисты, как вестники света… Зато со мной случилось то, чего всегда подспудно ждал и чего в тайне страшился более всего.
Жажда безграничной власти, мечты о несметных богатствах, века составлявшие головную боль моего существования, вдруг представились мне сомнительным фантомом! Стоило лишь моим надеждам, отчаянному признанию в беззаветной любви встретить Ее бесхитростный и спокойный отказ… Вечная кровавая борьба за обладание бренным миром, бесконечная вереница прежних жизней — решительно все тогда расступилось перед ангелом небесным в девическом образе, ушло на отдаленный план, колышась зыбким горизонтом.
Я ведь теперь всюду вижу Твой утонченный образ, Молли: восхитительную головку в уборе золотисто-каштановых волос (такие у мадонн Сандро-Флорентийца[152]), словно увенчанную драгоценной диадемой, глаза — призрачно-зеленоватые, с такой трогательной «косинкой» глаза, длинные и тонкие, почти прозрачные пальцы, повелевающие клавиатурой рояля, благородную дрожащую жилку у виска, там, где завивается девичий локон…
Царственная моя Молли, одним лучистым существованием своим, Всемогущая, Ты превратила самонадеянного мизантропа в безропотного раба, жаждущего одного благосклонного взгляда Госпожи, одного слова… Но с того самого святочного вечера Ты сторонишься меня, неизменно молча ускользаешь. Вот уже не первый месяц такой пытки безмолвием, отчуждением. В конечном счете — мучительное неведение того, что творится в Твоей замкнувшейся душе! Конечно, благородство воспитания, врожденный такт не позволили Тебе проговориться отцу о нашем откровенном объяснении, но это же непреклонное благородство заставляет Тебя тщательно скрывать предмет своей наивной сердечной привязанности от «почти родного», но почти безумного «дяди Аристарха». И — подумать только! — самому мне, всесильному тайновидцу-«мудрецу», старому конспиратору, не найти этого наглого юнца, укравшего Твое дорогое сердечко, не выследить, как я ни бьюсь! Кто придумал пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»?
Не иначе, сам мудрый Змий. Ну кто, как не он, мог смилостивиться над своим слугой и устроить все так промыслительно? Я не смел и предполагать подобного! Правда, сначала заметил, что банкир стал со мной как-то холоднее, суше в разговорах. Это он-то со своей пресловутой закрытостью и отношением ко всем свысока — еще суше, еще церемоннее!
Мне даже стало казаться, что он догадывается о моем отношении к Молли, и я подспудно ждал сурового объяснения теперь уже с разгневанным родителем, но случилось другое. Мартовская погода в Петербурге коварна: слякоть, грязь и, что всего несноснее, пронизывающий ветер с залива.
Вероятно, мою бедняжку продуло на одной из ежевечерних прогулок по набережной — не уследила бонна, не укутала подопечную теплой шалью, не настояла лишний раз, чтобы та не торопилась менять меховой капор на весеннюю шляпку, вот печальный результат и не заставил себя ждать.
У девушки очень скоро поднялась температура, появилась боль в ушах, а со следующего дня больной стало значительно хуже. Болезненные симптомы усилились, мало того — к первоначальным прибавились новые: Молли металась в жару, не вставая с постели, сознание ее поминутно мутилось, а когда прояснялось от бреда, Возлюбленная моя жаловалась на нестерпимые головные боли и дурноту. К тому же у несчастной появились судороги и замедлился пульс.
В савеловском доме все потеряли покой. Напуганный отец, видя, как тяжело страдает единственное чадо, всеобщая любимица, сбился с ног, вызывая врача за врачом, но те ставили страшный диагноз — мозговое воспаление, менингит, один за другим расписываясь в собственном бессилии чем-либо облегчить страдания несчастной, намекали, что дни ее сочтены. Могущественный финансист выглядел жалко, мечась в гневе и ужасе, — то неистово молился, то потрясал гулкие своды огромной барской квартиры прежде никогда не слыханными от него заборными ругательствами и угрозами разнести все и вся вокруг, переходящими в отчаянные рыдания, при этом постоянно рассылая родственников и прислугу на поиски «спасителя» — медицинского светила с непререкаемым авторитетом. Наконец в качестве последней надежды измученный отец выписал из Австрии самого профессора Шварца, известного всей Европе лейб-медика многих августейших особ, крупнейшего специалиста по мозговой горячке, способного останавливать самые сложные, даже запущенные воспалительные процессы. Шварц привык к самой высокой оценке своих услуг и пользовал только исключительно состоятельных пациентов, так что Савелову, дабы оплатить только экстренный вызов и первичную консультацию, не говоря уже о дальнейшем лечении, пришлось уже понести очень существенные денежные расходы.
Я был так потрясен разыгрывавшейся трагедией, что сам чуть не слег в нервном расстройстве — если бы кто-нибудь мог представить, что значила бы для меня потеря Молли, каким ужаснейшим, катастрофическим ударом была бы она для меня! Уверен — даже более катастрофической, невосполнимой утратой, чем для родного отца. Притом одна лишь мысль, что мою Обожаемую, мою Несравненную увидит в самом жалком положении посторонний человек, совершенно чужой мужчина, что он будет осматривать Ее, пусть даже с благороднейшей целью спасения от гибели, что его холодные руки коснутся Ее, приводила меня в безумное неистовство. Рядом с Ней должен был находиться только я — никто на свете не мог бы меня в этом разубедить! Да к чему вспоминать: даже сейчас пальцы мои дрожат, выводя эти строки, а тогда… Мне не пришлось долго колебаться, чтобы принять радикальное решение — воспользоваться изученным в совершенстве, многократно проверенным способом перевоплощения (во всей истории этого мира только старцу Протею да еще самому Зевсу с его метаморфозами доступна была подобная изменчивость и многообразность).
Мир тесен и всегда одержим одними и теми же идеями, честолюбивыми вожделениями: профессор Шварц оказался членом одной из могущественных австрийских лож, причем нашего же толка и обряда, и по счастью, стоял гораздо ниже Магистра-Иерофанта в общей иерархии, то есть сама Судьба отдала его мне во власть. Мне удалось перехватить венского брата по прибытии в Петербург и в приватной обстановке приказать ему пройти реинкарнацию. Здесь возникло неожиданное промедление в деле: профессор-то оказался с характером и никак не хотел повиноваться, так что обряд пришлось провести насильно, де еще не единожды. В суете, возникшей из-за срочности «операции» и сопротивления Шварца, по нерасторопности подручных братьев в тело профессора угодил… один из них. Он пытался было бежать, но куда там — я вынужден был тут же привести его к покорности и лично исправил ошибку, отбросив всякие сантименты. Этим я заодно преподал отличный урок братьям — пусть учтут на будущее, что в случае неподчинения кого-либо из них Магистр не остановится ни перед чем и не утратит воли.
Однако завладеть чужим телом еще не означает заполучить чужие знания. Я лишь внешне превратился в профессора-австрияка (правда, руки переняли его бесценные навыки, но хирургическое вмешательство в случае с прелестной головкой моей Драгоценной было бы грубым варварством, да, по счастью, оно и не потребовалось). Сам я не обладал почти никакими медицинскими знаниями, помощника соответствующего уровня, который под моим неусыпным «профессорским контролем» смог бы справиться со страшным недугом, рядом не было, поэтому пришлось молниеносно телеграфировать виднейшим практикующим медикам Европы, самым маститым докторам, с успехом излечивающим воспалительные процессы в мозгу и сопутствующие нервно-психические расстройства. Суммы с множеством нулей, необходимые для оплаты всех их гонораров, дорожных и петербургских расходов (начиная с абонирования апартаментов benelux[153] в лучших гостиницах до застолий в лучших ресторациях), ничуть меня не смутили. Более того — я выплатил вперед дополнительное вознаграждение, и эти самодовольные, заплывшие жиром эскулапы, обремененные высшими научными степенями всех оксфордов-гейдельбергов, с головы до ног осыпанные почетными титулами и обвешанные медалями высшего достоинства Королевских медицинских академий, безропотно согласились выдать себя за моих ассистентов. Что для меня все сокровища мира, когда мое воображение не покидает искаженный нестерпимой физической мукой лик Возлюбленной Госпожи, а всякое промедление в лечении смерти подобно? Я и сейчас готов отдать за Нее собственную жизнь, хотя бы часть этой вечности, если бы такое было возможно.
Словом, тогда я прибыл в савеловский дом не только в образе призванного банкиром самого Шварца, но с целым консилиумом гениев современной медицины «на подхвате».
В этом блестящем окружении были даже медиумы и спириты, которых я также предусмотрительно ангажировал — болезнь, так внезапно поразившая Молли, могла ведь иметь не физическую, а симпатическую причину (как знать, не явился ли этот недуг следствием возбуждения от первой сердечной симпатии к неизвестному Него — молокососу, учитывая слишком хрупкую нервную конституцию, живую впечатлительность моей юной Госпожи?). В течение трех недель, а то и дольше, я дневал и ночевал у одра болезни единственно дорогого мне на этом ничтожном свете создания.
Моя бессонница, которую раньше я полагал проклятием свыше, теперь оказалась благом для меня и для бедняжки. Круглые сутки я держал руку Молли в своей руке, стараясь перелить свою неиссякающую жизненную силу в слабеющее девичье тело. Мои искусные «ассистенты» выполняли всю остальную работу, «тактично» не выказывая удивления столь необычным положением вещей, не имевшим примера в их обширной клинической практике.
Медиумы и спириты также старательно очищали, буквально стерилизовали эфир от болезненных эманаций и прочих проявлений мира, давно отравленного бациллами невещественной природы. Наконец совместные усилия привели к благоприятному результату: кризис миновал и — о счастье! — жизнь моей Госпожи оказалась вне опасности. Пусть от капиталов профессора Шварца, лежавших под хорошим процентом в Швейцарском банке, остались жалкие крохи (правда, и Савелов в какой-то момент, уже почти не надеявшийся на спасение единственной дочери-наследницы, был несказанно щедр при оплате «моих» услуг), но какой это все же пустяк в сравнении с тем, что Молли с каждым днем становилось все лучше и лучше, что вопреки всем мрачным прогнозам петербургских профессоров, заранее расписавшихся в своем позорном фельдшерском бессилии, Ее юный организм победил смерть (а ведь в этой способности мы схожи!). Конечно, такой тяжкий недуг не проходит легко и бесследно. У Молли случилась частичная потеря памяти, как выражаются умники-эскулапы — амнезия: я замечаю, что она позабыла старого «дядюшку Аристарха» с его отчаянным предложением, к тому же совсем не вспоминает о своей первой наивной любви. Но ведь для меня это замечательная, уникальная возможность начать все с начала, снова питать надежды на лучшее, не отступая от прежней цели! Что любопытно, и Савелов тоже будто бы забыл о безвестно пропавшем «друге семьи», «тайном брате» (об истинной моей роли в ложе и степени посвящения в Ордене ему и не положено было знать): ясно, что между нами назревал скандальный разрыв, и теперь он наверняка думает, будто сама Судьба избавила его от подозрительного и неконтролируемого Аристарха. Ему, разумеется, в голову не приходит, что я никуда не исчезал, и кому он, в сущности, обязан чудесным спасением любимой дочери.
…1900 г.
Когда состояние здоровья моей несравненной Возлюбленной перестало внушать серьезные опасения, я как «светило медицины» объяснил банкиру, что полезнее всего для Молли было бы как можно скорее на какой-то срок сменить обстановку, сырую и нервическую атмосферу шумной столицы на покойный, здоровый для тела и души отдых в одной из европейских стран с развитой курортной системой, с мягким климатом. «Лучше всего подойдут предгорья Альп, хороший санаторий с диетической молочной кухней, свежими фруктами, минеральными источниками, возможностью регулярных прогулок и успокаивающим культурным времяпрепровождением, — настоятельно рекомендовал я, используя „свой“ непререкаемый профессорский авторитет. Здесь вполне подошли бы Австрия, Бавария, Швейцария, наконец. Ну и конечно, выздоравливающей требуется при этом постоянный медицинский контроль. Это самый эффективный метод восстановления ослабленного организма, практикуемый в новейших европейских методиках». Понятно, что под «медицинским контролем» я подразумевал свое личное сопровождение в предстоящем оздоровительном путешествии. Савелов, конечно же, не мог, да и не пытался что-либо возразить «самому Шварцу», снискавшему своей чудодейственной помощью Молли, признанной всеми прочими врачами обреченной, безраздельное родительское доверие и пиетет. Мне был предоставлен carte blanche[154] во всем, начиная с выбора маршрута путешествия и кончая его финансированием. Лучшего не приходилось и желать, тем более что штат «ассистентов», нечто вроде моей личной, а точнее — нашей с Молли свиты, Савелов даже без моей подсказки счел само собой разумеющимся сопровождением вояжа. Voila, мы отправились в северную Швейцарию с попутным посещением австрийских и германских курортов. Подобное путешествие в обществе моей милой Госпожи обещало быть незабываемо чудесным. Таким оно, собственно, и вышло: я был несказанно счастлив и до сих пор готов даже благословлять предшествовавшие ему несчастные обстоятельства.
За пару месяцев мы побывали в Карлсбаде и Мариенбаде, Мюнхене и баварских замках, в древних гротах Нибелунгов, пили воду из баденских источников, принимали лечебные ванны, бродили тропинками Шварцвальда, вдыхая целебный альпийский воздух, плавали в лодке по хрустальной глади Боденского озера… В Базельской галерее я показал Молли полотна моего любимого Бёклина. Я особенно старался привлечь ее внимание к «Острову мертвых» — истинному шедевру современного искусства, но — увы! — воспитанная в пуританском духе, Она не проявила заметного интереса к картине и вообще Бёклин не вызвал у нее восхищения. Впрочем, то был наш последний день в Базеле.
На обратном пути элегические швейцарские впечатления сменились яркими образами Австрии. Вена Молли только понравилась, зато пропитанный «светлым» гением Моцарта (я доподлинно знаю о его масонских пристрастиях) Зальцбург привел Ее в неописуемый восторг, для меня же сама возможность видеть Ее улыбку, слышать задорный смех — всегда была такой… Нет, мне не найти подходящего слова — переполнявших меня чувств не выразишь, обесцвеченным человеческим языком не опишешь! Я только в очередной раз ловил себя на том, что ради этого почти неземного создания без колебаний пожертвовал бы своей бессмертной душой… если бы она не была уже запродана много столетий назад.
…1900 г.
В Петербурге нас (прежде всего меня) ожидал не слишком горячий прием. Савелов, оказывается, не рассчитывал, что «оздоровительная поездка» продлится столько времени, навоображал себе тут бог весть какие сложности и неприятности (и это несмотря на то, что примерная дочь отправляла ему почтовые приветы-открытки изо всякого городишки, где нам довелось быть даже проездом!). Я попробовал было сгладить углы и разрядить обстановку. Еще в Вене я приготовил моей Госпоже на память о себе, «профессоре Шварце», изысканный, очень дорогой подарок: самый модный австрийский художник Климт в кратчайший срок написал с натуры мой портрет. Втайне я надеялся, что работа кисти самого Климта произведет впечатление не только на Молли, но и на Ее отца и, возможно, еще больше расположит его ко мне, а там как знать — быть может, Савелов-отец воспримет меня не только в качестве врача дочери… Не тут-то было: модернистский портрет в синтетической символистской манере венского Сецессиона,[155] похожий на мозаику или гобелен, эпатировал косный вкус банкира-аристократа. Савелов, не задумываясь, назвал произведение модного художника «мазней свихнувшегося австрияка», к тому же попенял мне на расточительность (выходит, все-таки знает, прожженный деляга, конъюнктуру художественного рынка!), которой якобы не ожидал от такого солидного и серьезного человека, как я.
Правда, когда первый порыв эмоций схлынул, отец Молли оговорился, что по-прежнему ценит мой врачебный дар и всегда будет благодарен за спасение дочери, но столь дорогих и экстравагантных подарков его девочка принять никак не может, к тому же «мой» портрет станет лишним напоминанием о том страшном времени, когда сама смерть склонялась над ее постелью, и он уверен, что подобные ассоциации могут повредить психике всех домочадцев.
Молли, присутствовавшая при этой сцене, молчала, по своему обыкновению подчиняясь мнению отца, я же понял, что на этот раз самое большее, на что я смогу рассчитывать с ее стороны даже в неопределенном будущем, — искренняя благодарность за исцеление, а перспектива снова оказаться в нелепом положении седовласого чудака-воздыхателя меня буквально страшила.
Мне оставалось только раскланяться, поймать невинный прощальный взгляд Госпожи моей и убраться восвояси. Я все же наотрез отказался забрать с собой портрет, заявив, что не в моих правилах забирать назад подарки, но не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что банкир выгодно продал его на каком-нибудь солидном аукционе, а вернее всего — велел прислуге выбросить. Таков печальный исход моей очередной попытки вызвать ответное чувство у Единственной и Неповторимой. Я ощущаю, как приступ черной меланхолии опять овладевает мной, но знаю, что от себя не уйдешь, и я снова буду брать на приступ савеловскую крепость. Вот только что делать сейчас, в толк не возьму. Не ехать же домой в Австрию… хотя там, наверное, ждут возвращения профессора Шварца — родные, пациенты… Увы — ничем не могу быть им полезен!
…1901 г.
Кто-то из средневековых рыцарей с гениальной лаконичностью сформулировал мой девиз: «Изменяюсь, но не изменяю». Преданность черного дога моей несравненной Молли и тяга к перемене тел привели меня к очередной метаморфозе. Мой новый образ — учитель музыки, молодой небесталанный пианист с приятными манерами и романтической наружностью, которая так нравится мечтательным девицам.
На сей раз мои шансы на взаимность велики, как никогда прежде. Уверенности в себе мне придает и то счастливое обстоятельство, что моих собственных музыкальных познаний, когда-то приобретенного навыка игры на фортепиано и беглости пальцев, унаследованной от бывшего их обладателя, вполне достаточно для исполнения нового жизненного амплуа.
Молли весьма способная ученица: мы почти без затруднений разучиваем вальсы, ноктюрны и мазурки Шопена, не говоря уже об этюдах Черни и Клементи. Играть с моей подопечной в четыре руки сложнейшие классические пьесы — редкое наслаждение для меня (льщу себя надеждой, что и Возлюбленной наше совместное музицирование тоже приятно). Не забывая (как такое забудешь!) о том, как внимал пению Молли в Швейцарии, я предложил исполнить дуэтом барочные кантаты Баха и Генделя, и Она отнеслась к этой затее с живым интересом, даже со свойственной ей восторженностью. Давно замечаю, что моя Молли во всем такова — сама непосредственность!
Это натура воистину уникальная, какие среди представительниц слабого пола встречаются чрезвычайно редко — никогда не перестану гордиться ее вниманием ко мне. Насколько я смыслю в классическом пении, у меня довольно мягкий тенор, у Молли же определенно колоратурное сопрано редкостной тембральной окраски — сочное и высокое, способное выводить настоящие соловьиные трели. Импровизированный дуэт превзошел все ожидания: наши голоса сплетались в чистейшем духовном экстазе. Божественные звуки устремлялись в Астральную высь во славу Демиурга.[156] Моя древняя душа ликовала: «Эввоэ»![157] Процесс педагогический органично перешел в творческий: благодаря исключительным данным моей ученицы-Госпожи, мы постепенно занялись композицией, увлеклись совместным теперь уже сочинением музыки. В такие минуты моему блаженству не было предела: казалось, из земного полумрака я возношусь на седьмое небо! Наконец-то мы вместе!!! И не в грубом материальном мире, а там, где царит Абсолютная Красота и Гармония!
…1901 г.
На днях у красавицы Молли был день ангела. Я, сознательно давно ставший тенью ее ангела, как одержимый, бродил по Петербургу в поисках подношения, достойного моей Несравненной, и в одной из лавок среди различных диковин, в дальнем уголке своего потаенного царства старины еврей-антиквар отыскал дивный раритет ампирного стиля. Это была искусно сработанная музыкальная шкатулка — великолепный ларец, выточенный из янтаря с прожилками как у ореха или карельской березы, богато инкрустированный золотом. Что привлекло меня более всего — дивной красоты голова песнопевца Орфея, возлежащая на лире (тоже, разумеется, из золота) и как бы венчающая шкатулку.
Приподняв приятно тяжелую крышку, можно было насладиться подзабытой мелодией из «Орфея и Эвридики» Глюка. «Лучшего дара для моей прекрасной пианистки нельзя и представить — сам Отец Поэзии и Музыки Орфей будет покровительствовать Молли в творчестве и благословлять в ней Ewige Weiblichkeit»![158] — мгновенно сообразил я и, завороженный, не торгуясь, тут же выложил за чудный ларец требуемую сумму (промыслительным образом это оказались все деньги, которые со мной были).
Увидев прелестный ларчик, Молли обрадовалась, как малое дитя, и со всей своей непосредственностью даже поцеловала своего учителя в щеку. Клянусь, что этот невинный поцелуй был для меня слаще, чем страстное лобзание самой Афродиты, и я запомню его навеки! Моя Повелительница тут же унесла новую «игрушку» в свой будуар. Я не удивлюсь, если узнаю, что теперь, пока ей не наскучит, Молли будет спать с ней под подушкой. Какое бесхитростное создание! Знала бы она еще, как много этот дар значит для меня… Не одна тысяча лет миновала с той баснословной, мифотворной поры, когда я сам увлекся мистериями орфиков.[159] А ведь именно Великий Иерофант Орфей посвятил меня, молодого жреца Дельфийского святилища, в Тайну Вечного Перевоплощения! «Погрузись в глубины своей собственной души! — заповедовал он мне у подножия векового священного дуба. — Огнем твоей мысли испепели свою плоть, пламенем твоей мысли! Без страха отделись от материи, и душа найдет себе новую обитель». Именно он учил меня, что все человечество — плоть и кровь Диониса, а всякий человек — лишь один из растерзанных членов, которые в вечном Страдании, в преступлениях и катаклизмах, в Ненависти и Любви, во Лжи и в Истине ищут друг друга на протяжении многих тысяч существований, чтобы когда-нибудь слиться воедино. А потом Великий Иерофант — Мистагог сам был растерзан кровожадными вакханками в порыве необузданного сладострастия и ревности, и я сам видел, как голова сладкоголосого Орфея поплыла на лире по волнам фракийской реки Эбро, слышал, как уста Учителя шептали одно имя — имя прекрасной Эвридики… Сначала ему поклонялись многие, потом забыли, предав.
Теперь только Посвященные самых высоких степеней и градусов, которых можно пересчитать по пальцам, чтут его, исполняют заветы умершего бога и помнят истинный смысл Таинства Перевоплощения, вечной метемпсихозы, но почти никто из нас уже не верит всем существом, что тварный мир очнется и что люди — разрозненные кусочки целого — очистятся и снова обретут Единство во Вселенском Сверхбожестве. А я, последний Великий Иерофант, нашел мое Целостное Божество, мою Всемогущую Госпожу, не желаю знать ни других богов, ни какого-то абстрактного счастья всего человеческого муравейника. Я уже служу моей Единственной Божественной, и непременно заслужу Ее взаимность! Все прочие «вечные смыслы», нравственные императивы, заповеди — для меня химера и пустое место, ими можно и нужно пренебрегать, переступая через кровь, через плоть и через жизнь любого человеческого муравья, цена которой жалкий обол.[160]
…1901 г.
Сегодня вечером после обычного сеанса нашего музицирования банкир неожиданно велел мне зайти в кабинет для «безотлагательного» разговора. Пребывая еще в обаянии очередного общения с моей юной Госпожой, я не имел никакого дурного предчувствия, ни сном, ни духом не ожидал от Савелова никакого подвоха. Стоило, однако, мне переступить порог его кабинета, как я услышал не терпящий возражений стальной голос хозяина дома:
— Нынче же вечером вас не должно быть в Петербурге, молодой человек.
— Но позвольте, — я сразу почувствовал, как мой голос предательски сел. — Я ничего не понимаю. Что-то случилось?
Отец семейства с хмурым видом протягивал мне тугую пачку банкнот.
— Ваше счастье, что пока ничего не случилось, но в последнее время вы, сударь, стали много себе позволять!
«Знал бы ты, каким оно будет — последнее время, да и когда!» — пронеслось у меня в уме, прозвучало, однако, другое:
— Нет, я действительно не понимаю ваших намеков — я и в мыслях не держу ничего дурного! Если вы о Молли.
— Разумеется… А держал бы что-либо скверное за пазухой, то и разговор с вами был бы другой, — усмехнувшись, перебил меня Савелов. — Не по нраву мне, батенька, когда в доме всякие молодые красавцы паркет натирают. Дочь у меня единственная, возраст опасный — за ней глаз да глаз нужен. Дело известное: сперва музыка, спевки ваши, потом всякие дорогие и двусмысленные презенты, всякие шуры-амуры, орфеи-эвридики, а там уж до греха пол-шага. Не хватало еще моей дочери этих духовных пряностей, разных поэтических аллегорий! Странно, право, откуда у скромного учителя лишние тысячи на антиквариат… Ну, хватит нам разговоры разговаривать — берите деньги и уезжайте подобру-поздорову. Вы слышите?
— Но занятия! — не отступался я. — У Молли несомненные творческие способности. К чему портить ей будущее?
— Не беспокойтесь и не давайте советы старшим, юноша! Я и без вас обо всем позаботился: музыкой с Молли теперь будет заниматься пожилая благонравная дама. Прощайте, господин… не помню, как вас звать.
Я понял, что придется опять отступить. Но не отступиться! И даже взять эти проклятые деньги — я как назло очень сильно поиздержался.
О Молли, Обожаемая, Прекрасная Молли, как только не разорвалось мое сердце, когда я услышал стук захлопнувшейся за моей спиной двери! Чувство такое, что меня живьем уложили в гроб, с размаху вогнали в крышку первый гвоздь, а он заодно насквозь пронзил меня самого. «Потерял я Эвридику…»[161] Почему Она, моя Единственная, не зовет своего верного Рыцаря? Ведь стоит только в мыслях назвать мое имя, и я тотчас же окажусь рядом! Но только бы не призывала другого — Того… Впрочем, никогда не замечал за Молли подобного стремления… А я — неужели испугался Его?! Ну уж нет!
…1901 г.
Моя неестественно долгая, полная триумфальных авантюр жизнь приучила меня к мысли, что у всякой задачи, какой бы невероятной и непреодолимой она ни представлялась простому смертному, имеется вполне удовлетворительное решение.
И вдруг я, никогда не знавший преград в обладании женщиной, как, впрочем, и ни в чем ином, ощутил полнейшее отчаяние. Невозможность видеться с предметом страстного обожания оказалась для меня худшим, невыносимейшим из мучений! Теперь мне было необходимо постоянно находиться возле ее дома, переоблачаясь то в нищего, то в разносчика мелкого товара или точильщика. Часами, порой с раннего утра до глубокого вечера, я стоял, не сводя глаз с окон огромной савеловской квартиры (и как только дворник терпел мое присутствие?) Ах, как же я жалел, что не могу хотя бы на краткий миг обратиться в голубя и с легкостью вспорхнуть на карниз окна спальни возлюбленной — уж я не ошибся бы! Хоть на миг увидеть за стеклом Ее дорогой силуэт! Стараясь быть никем не замеченным (Молли почти никогда не выходит из дому без сопровождения компаньонки или гувернантки), я неотступно следовал за Ней во время Ее прогулок, я теперь почти стал тенью самой Молли, незримым ангелом, не имеющим возможности выдать свое присутствие, но изучившим жизнь и вкусы юной Госпожи стой стороны, которая доселе была мне неведома. И мое терпение, моя страстная фанатичность была вознаграждена!
Однажды во время подобных мучительных созерцаний на расстоянии, вслушиваний в каждое исходящее из Ее невинных уст слово, доносящееся до меня, я обнаружил, что кондитерская некоего Отто Краузе, не так давно открывшаяся неподалеку от дома банкира — на Галерной, пользуется неизменным расположением моей Прекрасной Девы. Всякий раз, перед тем как перейти границу этого маленького царства сластей, милая скромница некоторое время стояла на улице вместе со своей неизменной спутницей, завороженно разглядывая витрину, словно ожившую сказку Гофмана. Переступив наконец порог волшебной сказки, Она наивно, совсем по-детски, пытаясь однако же выглядеть взрослой, дружески беседовала с молодым хозяином, «повелителем» королевства кофе, бисквитов и марципанов. И всякий раз учтивый немец вручал ей какой-нибудь маленький презент, который она принимала сначала с явным смущением, как простушка-золушка, а потом уже как должное, точно природная принцесса. Тысяча демонов ревности терзали меня в такие минуты. Недостойный кондитер и не подозревал, какими неслыханными благами его осыпают: этот воображаемый «щелкун» беседовал и шутил с моей Молли так, будто она была самой обычной субреткой![162]
Став постоянным посетителем новой кондитерской, я вскоре уже был на короткой ноге с Краузе. Я представился ему управляющим делами богатого немецкого инкогнито. Заходя в заведение, я всегда выпивал чашечку кофе с буше или свежим розанчиком, порою и с рюмочкой бенедиктина, причем неизменно заказывал коробку самых лучших пирожных якобы для своего патрона, оставляя щедрые чаевые.
Немцу было приятно поболтать на родном языке, вспоминая Liebe Heimat,[163] да вдобавок с таким важным постоянным клиентом-посредником. Мне же не составляло труда освежить в памяти этот язык, хотя я и говорил на нем более ста лет назад в Германии (имея, разумеется, совсем другое имя), вследствие чего саксонское произношение звучало несколько старомодно, что, впрочем, еще более расположило ко мне сентиментального и недалекого бюргера.
…1901 г.
Недавно Отто — кондитер под большим секретом сообщил мне, что будет расширять свой «гешефт». По соседству находится французская галантерейная лавка, которая вот-вот должна развалиться (не с его ли помощью?). Отчего бы прожорливому колбаснику не проглотить галльского петушка! Перекупив галантное предприятие, сахарный Отто думает объединить его со своим «васисдасом»[164] и устроить целый «Шоколадный дом». Но это не слишком-то меня взволновало. Ужасно другое: этот ганс — завитой, надушенный и напомаженный чурбан, оказывается, влюблен не только в сласти, но и в мою несравненную Молли! Он же вообразил себе, что произведет благоприятное впечатление на Ее «фатер» и станет в его глазах достойной партией для бедняжки! Сверхъестественных волевых усилий стоит мне сдерживаться от сильнейшей вспышки ярости — подумать только, что возомнил, хам! Да ведь еще, чего доброго, добьется своего! Откровенничая со мной, самодовольный болтун не заметил, как я возбужден новостью, и продолжал делиться своими планами. Он дает во всех газетах объявления о своем новом большом магазине, а после собирается открыть подобные «шоколадные дома» по всему Петербургу. Доищется звания поставщика Двора, а там, глядишь, станет владельцем не сказочной, а самой настоящей шоколадной империи. И это все не пустые слова: недавно в Гамбурге умер его «онкель»,[165] крупнейший судовладелец, и оставил племянничку более чем приличное состояние! Скороспелый богач-наследник всерьез намеревается преподнести отцу «своей невесты» (он посмел назвать так мою Возлюбленную!) «оригинальный презент на Ostern»[166] (вот был бы скандал, перепутай Отто лютеранский праздник с православной Пасхой) шоколадный торт с изображением герба савеловского банка точно того же размера, что и герб на фронтоне его главной конторы. Иными словами, решил подсластить свое будущее сватовство. Мне думается, такая прямолинейность в делах деликатных свойственна только тупым бюргерам и, разумеется, нашим купчинам-самодурам.
…1901 г.
Сегодня, стоя в кондитерской неподалеку от прилавка, я своими ушами услышал, как немец без лишних церемоний пригласил мою милую Молли к себе домой (!!!) печь Osternkuchen[167] (!!!) якобы для того, чтобы сообщить неповторимый рецепт незабвенной матушки. Это было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Что ж, придется еще одного колбасника убрать со своего пути. Мне не составит труда облегчить ему этот путь — пусть узнает, куда исчезают такие, как он, когда я в буквальном смысле выхожу из себя. Я не вытерпел и уже заказал ему громадный торт, который назавтра нужно будет доставить прямо ко мне на Миллионную. От имени своего несуществующего господина я попросил Краузе не отказать в любезности доставить заказ лично: мол, мой высокопоставленный шеф давно желает познакомиться накоротке со столь искусным мастером и щедро отблагодарить его за оказываемые услуги.
…1902 г.
Ну-с вот! Снова ich bin deutsch,[168] но на сей раз — преуспевающий кондитер. Мои познания в кондитерии, признаться, были еще скромнее, чем когда-то в медицине, но разве это препятствие для меня! Я действовал тем же верным способом, что и с профессором Шварцем (покойник перед смертью «не успел» поделиться со мной своим искусством врачевания): нанял за приличное жалование помощников, которые исполняли бы за меня всю работу. Деньги подчиняют себе людей, а я перевоплощаюсь в толстосума, если того требует поставленная цель. Еще хитрый ментор Макьявелли утверждал, что она оправдывает средства, и был тысячу раз прав. Я же неожиданно для себя самого почувствовал сильнейшую склонность к «изобретению» шоколадных помадок для пирожных, всевозможных кремов и к «ваянию» фигурок из разноцветного марципана. Also,[169] я все-таки занимаю не пустую оболочку, по крайней мере с наклонностями ее прежнего обладателя, — недаром теперь меня зовут Отто Краузе! Вскоре я достиг в его увлекательном ремесле настоящих высот мастерства. Помимо всего прочего, я ведь всегда обладал некоторым умением читать желания душ человеческих и обращать их себе на пользу. Результатом последнего на сей раз оказалось, что спустя непродолжительное время «Шоколадный дом» стал не только процветающим делом, но и одним из самых модных мест Северной столицы, почти что салоном. Браво, Отто! Ко мне на чашку кофе со взбитыми сливками теперь нередко захаживают известные, в том числе «с весом» в обществе, важные господа и нужные люди.
…1902 г.
Сама Молли намедни почтила меня своим присутствием — мы вместе пекли настоящие пасхальные куличи! Нужно ли описывать владевшие мной чувства? Сказать, что я был на седьмом небе от счастья, значило бы не сказать ничего. Я даже научил мою Несравненную печь кружевную бабу.[170]
— Как она у вас получается такой нежной и воздушной? — удивилась моя Звезда.
Я поспешил озвучить первое, что показалось мне остроумным:
— Когда-нибудь я открою вам этот секрет… При желании сквозь ее ломтик можно читать праздничный канон.
Не испытываю иллюзий, что Она вняла моему совету, но, однако же, на прощание со свойственной ей непосредственностью призналась:
— Знаете, у меня такое впечатление, что мы с вами знакомы уже долго-долго, всю жизнь.
Я навеки сохраню в сердце Ее признание, но сама Она не может и вообразить всего, что скрывается за этими словами! Да и кто, кроме меня, знает их потаенный смысл… Теперь Молли награждает меня подобными визитами все чаще и чаще, уже без спутницы-компаньонки. Она явно заинтересовалась кондитерским искусством: редкая женщина равнодушна к сладкому, но я заметил и Ее особый интерес именно к моему заведению. В душе у меня снова воцарился безмятежный покой. Мы наконец вместе! Далеко ли теперь до полного счастья… Не спугнуть бы.
…1902 г.
Ведь я точно в воду глядел, тревожась за свой покой! Банкир разрушил и этот приют моих радужных надежд и сердечных упований, такой же эфемерный приют, как все предшествующие.
Однажды мы подобно тому, как когда-то разучивали этюды Шумана, наедине поливали глазурью эклеры и рисовали шоколадные глазки сахарным котятам и голубкам. Если бы это могло продолжаться вечность… а длилось всего-то час-другой, пока господин Савелов лично не помешал нашему идиллическому уединению, возникнув как из-под земли.
— Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом! — заявил он прямо с порога тоном провинциального трагика. — Будто у меня других дел нет, как ограждать ее от всяких прощелыг. Ты немец, лютеранин, и вообще моей дочери не пара — носом не вышел, так что на нем себе и заруби: всяк сверчок знай свой шесток! Чтоб завтра ни тебя, ни этой вот кофейни тут не было! Вот гляди, herr[171] Краузе, — он торжественно выложил передо мной купчую. — Изволь уяснить, что с сегодняшнего дня родовой дворянин Савелов владелец этого дома, и никакие кухмистерские мне тут не нужны.
Бросив мне барским жестом несколько крупных банковских ассигнаций в качестве отступных, мой обидчик исчез так же внезапно, как и появился.
Этот породистый барин-банкир разбудил в моем сердце нешуточный гнев и сам не догадывается, чем для него может обернуться такое оскорбление. Отныне он стал моим личным врагом. Горе тебе, старый надутый индюк, если еще хоть раз станешь мне поперек пути! Ничто отныне не остановит меня, «сверчка», — как не останавливало никогда! — даже то, что Савелов отец моей Прекрасной Дамы. И никакой бог мне здесь не судья, уж тем более не препятствие: мы еще посмотрим, кто сильнее!
…1902 г.
Когда твой papa принес из немецкой кондитерской необыкновенные куличи, ты и представить не могла, с каким усердием и любовью они были испечены — с любовью к Тебе, Молли! Ведь Ты и не узнаешь, что тогда произошло с настоящим Отто Краузе, который на свою беду уже возомнил Тебя своей невестой: для Тебя наши встречи были только продолжением невинного знакомства, для меня же тогда заново затеплилась заветная Надежда! Ты никогда не узнаешь здесь — в земной жизни — меня подлинного. Ты даже не заметила, когда Твоя любимая кондитерская на Галерной стала моей собственностью… Но это пустое! Главное, я, названный Лермонтовым и до него тысячекратно называемый «духом изгнанья», открывающийся лишь посвященным, для того чтобы завладеть их душой и посеять в ней «дух отрицания», подмеченный доктором Фаустусом, а за ним и великим Гёте, так вот, главное — для Тебя я не Демон и не лукавый Мефистофель, а верный Твой раб, ангел, пусть мрачный, пускай низвергнутый на грешную землю… В сущности, я Твой Рыцарь, боготворящий Тебя, Молли! Моя мистическая Любовь, страстное Поклонение — Тебе одной! Ни в ком и ни в чем нет мне спасения и оправдания — лишь в Тебе… Даже когда лишь возникла наша таинственная дружба, наше незримое соприкосновение в те часы, когда Ты спускалась ко мне с высоты невинной девичьей спальни, чтобы я давал Тебе уроки кондитерского дела, астрально мы уже были Единым Целым — я был счастлив! Тебе сейчас не понять моих слов, я же утверждаю, что уже обладал Тобой, однако то была космическая, бестелесная связь — плотью Ты чиста как дитя! Бренное тело вообще не имеет для меня значения, но, может быть…
Впрочем, сейчас бессмысленно углубляться в эти философствования: Твои отец против нашей дружбы. Он жестоко оскорбил и изгнал меня, он возомнил себе, что в его силах меня изгнать… Незнатный иноверец — жалкая букашка в его глазах, а Ты не можешь его ослушаться (и хочешь ли?), примерная дочь. Отец отверг меня, дочь и не мыслит ему прекословить. Ох уж это дворянское воспитание, сословная честь…
Значит, Ты тоже оттолкнула меня, Молли! Я не нужен Тебе, следовательно, себе самому. Отверженному единственным в мире дорогим существом незачем жить на свете, только ведь и в мир иной путь мне заказан… Если бы Ты знала, как это невыносимо — не желать жить и быть лишенным возможности разделаться с собой! О, если бы исчезнуть, обратиться в прах, в персть, провалиться сквозь землю, в конце концов… И все-таки я найду способ отдаться старухе-смерти, я заставлю ее принять мою истерзанную душу, отниму у нее кусок небытия, причитающийся каждой твари! Могу я позволить себе наконец избавиться от химеры жизни, за которую правдами и неправдами цепляются все людишки? Но что их мучения в сравнении с моими?! Я могу прятаться от гонящих меня, но в каждом новом обличье получаю все те же камни. Однако, чего бы мне это не стоило, я не отступлюсь от своей правды, не выпущу из рук ариаднину нить!!! Хорошо, что Ты никогда не услышишь моих стенаний, никогда не прочтешь это письмо и тем более не почувствуешь своей кровью этот зов отчаяния. Ты не должна его чувствовать, Молли! Я этого не желаю…
…1903 г.
Степень посвящения позволяет мне знать, что почетный член нашей ложи господин Савелов уже многие годы является к тому же ее казначеем. Конечно, это придает ему гонору сверх меры, однако я всегда от души благословлял это обстоятельство, которое давало мне замечательную возможность следить за ним и постоянно быть в курсе намерений высокопоставленного брата и, с некоторых пор, заклятого «друга». Но вот — о ужас! Я узнаю о старом самодуре новость, тут же повергшую меня в жалкое — да что там! — в жалчайшее состояние. Сейчас я ощущаю себя придавленным червем, вынужденным ползать в нечистотах, не в силах выбраться к свету…
Банкир, одно упоминание о котором повергает меня теперь в ярость, взлелеял коварный омерзительный план. Ему взбрело на ум объединить свое состояние с состоянием друга буйной юности — полного адмирала в отставке, впрочем, до сих пор не утратившего серьезного влияния в Императорском флоте, даже в придворных кругах, Константина Андреева. Последний, между прочим, весьма удачно проявил себя и на финансовом поприще. Отойдя от службы, он весьма скоро сделался единоличным владельцем банка «Самсон», где, по слухам, наводил порядок теми же методами, что и на судах в бытность командующим флотилией, то есть исключительно директивно, когда приказы вышестоящего начальства не обсуждаются, а исполняются. Главное же, что у этого Андреева имеется сын Петр, студент факультета философии Петербургского Императорского университета. К моему несчастью, оба родителя именно его прочат в женихи моей Обожаемой… Хотя почему это непременно к несчастью? Может статься, сама судьба наконец-то одарила меня своей покровительственной улыбкой, протягивая на сей раз воистину руку помощи, а не ожидая очередного моего фиаско…
…1903 г.
Я был прав, предполагая в сложившихся обстоятельствах долгожданную благосклонность судьбы. Свести знакомство с этим юношей — Андреевым-младшим, а вскоре и завладеть его телом, не составило для меня никакого труда. В последнее время эта процедура стала столь же привычной, как утреннее умывание… Печально? Для студента разумеется — да. Чудовищно? Для толпы — несомненно. Только мне до этого нет и не должно быть ровным счетом никакого дела! Новое тело, полное здоровья и жизненной энергии, к тому же с «памятью» о выдающихся способностях его бывшего владельца, новый круг знакомств, полубогемная жизнь, изобилующая разнообразными волнующими событиями и встречами, — все это уже само по себе доставило бы мне несказуемое удовольствие, если б мое собственное существо не было подчинено одной-единственной, пусть маниакальной, цели… О Молли, моя прекрасная, обожаемая Молли! Мое существование было бы темно, уныло и лишено малейшего смысла даже в теле самого Рокфеллера или Моргана, даже на месте русского или британского императора, не будь Тебя, Дитя мое.
Но теперь, я полагаю, еще немного — и самое заветное из моих упований, то, что представлялось до сих пор в мечтах, близко к осуществлению. На балу у Мансурова, этого молодого, породистого двуглавого лиса — князя и графа одновременно, меня наконец-то по всем правилам представили Тебе, вернее так — это был, конечно же, я, но облеченный в Петра Андреева. Ты заметила, что я изо всех сил старался произвести впечатление лишь на Тебя одну, мою обожаемую Молли? Это было так упоительно — ухаживать за тобой и — о радость! — ловить знаки внимания с Твоей стороны. Разумеется, у нас тут же нашлось множество тем для беседы, ведь у меня было столько времени, чтобы изучить Твой характер, Твои интересы. А вскоре я поймал в Твоем взгляде (у меня нет права ошибаться!) нечто чуть более теплое, нежели просто дружба, позволю себе утверждать без молодеческого хвастовства, что в нем был даже нежно-интимный намек… А наши отцы — ведь они нарадоваться не могли, глядя на юную пару, являвшую собой, как им безусловно казалось, гармоническое сочетание животрепещущего юного чувства и трезвого расчета. Все идет как нельзя лучше: после мансуровского бала два богатых дворянских рода решили объединиться, без преувеличения, к общему счастью всех членов будущего семейства.
Помолвку отпраздновали в узком кругу, ограниченном обществом лишь самых близких лиц (меня бы вполне устроило романтическое soiree[172] tête-à-tête), зато в роскошной обстановке, по общему мнению, одного из лучших для такого торжественного повода мест в столице — у «Эрнеста».[173] С того памятного вечера наши отцы полагают, что на их глазах два славных дворянских рода вот-вот сольются в один новый, и желают ему счастья. Ареопагом[174] вчера было решено, незамедлительно отправить нас вдвоем в путешествие по старой доброй Европе. «А по возвращении, дети, — торжественно объявил седоусый адмирал, мой „родной батюшка“, — надо бы без промедления свадьбу сыграть — уж потешьте нас, стариков!»
Стоит ли говорить, что при такой радужной перспективе наших отношений я пребываю на седьмом небе, полагая себя счастливейшим из смертных! Нет — это выражение мне, увы, не подходит… Словом, счастливейшим из… творений мира сего.
…1903 г.
В который уж раз, не первое столетие проживая жизни других людей, я посещаю различные страны (все они так и остались чужими для меня). Я в совершенстве владею языками, на которых там говорят, можно сказать, стал полиглотом. И сейчас, до сих пор, я не перестаю постигать культурные творения многих наций и народов, особенно поэзию, меня влекут к себе памятники старины и художественные шедевры — иногда это как возвращение в собственное прошлое. Мои знания, мой артистический дар и прочие художественные таланты — все это бесценые средства для того, чтобы добиться расположения и вызвать ответные чувства у Возлюбленной. Сколько раз я прибегал к этим средствам, стремясь покорить сердце моей Божественной, моей Молли! Отставной адмирал не устает поражаться переменам, произошедшим в сыне за последнее время, приписывая их воздействию общества юной невесты, и ведь он во многом прав: став Петром Андреевым, я как никогда сблизился с Ней, глубже узнал ее душу… С каким наслаждением я читал Тебе пылкие творения любвеобильного Катулла и целомудренные сонеты Петрарки на золотой латыни и староитальянском под безоблачным небом древней Италии, где они были созданы! Веришь ли, что я сам когда-то внимал этим великим, как Ты теперь, затаив дыхание, слушаешь меня? Ты навсегда запомнишь, как вдвоем мы карабкались по развалинам Колизея, насквозь пропитанным памятью о кровавых нравах римской толпы, по руинам вилл, где когда-то предавались самым изощренным наслаждениям патриции и матроны. В Пантеоне и поныне чувствуется присутствие всех великих богов древности — ощутила ли Его Ты, Божественная? Мостовые Флоренции сохранят наши следы, а гулкие своды залов Уффици и Питти — эхо наших с Тобой голосов. Никогда не забуду, как рассказывал Тебе занимательные истории, цитируя наизусть Светония и Вазари, а разве Ты, Молли, сможешь это когда-нибудь забыть?
И то, как мы любовались закатами над Лагуной и Пьяцеттой,[175] отражались в каналах, плывя в гондоле мимо средневековых венецианских палаццо…
Кажется, я являл собой образец скромности и галантности, но пусть об этом судит моя драгоценная Невеста. Я сам был восхищен истинным шедевром, который Ей подарил: это колье, при величайшем упорстве и скрупулезности с моей стороны, «открылось» мне в одной из антикварных лавочек Ватикана неподалеку от Святого Петра.
Торговец, игристый как спуманте,[176] являя свойственный итальянской нации неумеренный пыл и бурную фантазию, клялся, что ожерелье принадлежало самой Екатерине Медичи. Макаронник бессовестно лгал: кому как не мне были известны все украшения этой коварной фурии (помнится, вкус ей частенько изменял). Ни один из ее экстравагантных ювелирных уборов не оказался бы достоин даже беглого взгляда моей обожаемой Молли. Подаренное колье поразит самого искушенного ценителя. Три ряда изумрудов, удивительных камней, считающихся основанием Небесного Иерусалима и происходящих, видимо, из легендарных копей царя Соломона, имеют величину никак не менее лесного ореха и ту тончайшую изумительную огранку, секрет которой утерян в ветхозаветной древности. Вкупе с ожерельем я приобрел и уникальные серьги — два дивных изумруда-кабошона[177] в виде капли, окаймленной крохотными бриллиантами. Перекликаясь между собой, ярко-зеленые прозрачные камни безупречно гармонировали с цветом глаз Той, чья красота в сочетании с чистотой небесной, теперь уже в благородном изумрудном обрамлении, сияет для меня подобно солнцу. О радость: Она благосклонно приняла этот дар, забавляясь с бесценными драгоценностями подобно тому, как невинное дитя забавляется с новой игрушкой! Если существует на свете Sancta Simplicitas,[178] то Молли ее идеальное воплощение.
…1903 г.
Вернувшись в Петербург, вернулись и к разговорам о свадьбе. Вот тут-то злодейка-судьба, которую я почитал уже было смирившей свой нрав, объезженной моим упорством, снова взбрыкнула и безжалостно выбросила меня из седла. Возможно, этот удар рока самый чувствительный за мой бесконечный век. Я ведь всегда живу с мыслью о неожиданном сокрушительном ударе, даже где-то в тайниках сознания думаю о нем как об избавлении… и всякий раз надеюсь, что в конце сам буду триумфатором…
Пока я и Молли любовались красотами Европы, и до человеческого, слишком человеческого счастья, казалось — всего один шаг, оба самовластных родителя, нимало не интересуясь мнением дорогих жениха и невесты, согласно решили, что венчание должно происходить в Кронштадте у известного каждому богомольцу священника Иоанна Сергиева. Им, видимо, и в голову не приходило, что «милых детей» может венчать какой-то другой поп. Сразу выяснилось, что тот, кого я ныне называю своим отцом, одновременно с тем, как стал постоянным кронштадтским жителем, стал и ревностным прихожанином Андреевского собора, а следовательно, духовным чадом «всероссийского пастыря» отца Иоанна. Савелов тоже — из моды ли, а может быть, из-за ностальгии по патриархальному детству или из каких-то «секретных» соображений (не исключено, что брат-казначей ведет двойную игру, надеясь спасти душу) оказался почитателем крондштадтского «чудотворца» — портрет «батюшки» даже красовался у него в кабинете рядом с темными прадедовскими иконами.
Членство в нашем тайном обществе и православная религия суть две вещи несовместные, что само собой разумеется. Я, как все братья, считаю это условие не подлежащим обсуждению и основополагающим для вольного каменщика, поэтому давно имел подготовленное для непосвященных надежное алиби. Когда «мой» набожный папаша, адмирал с религиозными убеждениями приказчика, на решающем семейном совете осторожно вопросил: «А позволь узнать, Петр, ведешь ли ты духовную жизнь, как положено православному русскому человеку? Помнится, в детстве няня с покойной матушкой регулярно водили тебя к исповеди и Святому Причастию. Что-то мне подсказывает, что теперь ты подвергся дурному влиянию студенчества… Уж не социалист ли ты? Ну да навряд ли мой сын способен так пасть… Так в каком же приходе, Петруша, ты теперь окормляешься?» — мне были абсолютно безразличны и его сетования-наставления, и упоминание о «матушке» и «няне», которых я никогда не знал и знать не мог, но я бодро ответствовал, что посещаю храм, где служит отец Юзефович. Этот «поп» — давний член нашей ложи и как раз под сводами его храма происходило и происходит многое из того, что совершенно несовместимо с христианскими толкованиями, отчего братья могут проводить там достаточно времени в спокойствии, без вреда для своих духовных воззрений и политических убеждений. Словом, приход Юзефовича — лучшее прикрытие нашего дела от властей предержащих, но на «благочестивых» родителей это имя, как минимум, не произвело никакого впечатления, если не сказать, что уже сама «местечковая» фамилия вызвала у обоих почти отвращение.
Сколько не пытался я склонить стариков к благословлению на венчание в храме, прихожанином которого якобы являюсь не только я, но и мои «задушевные университетские товарищи», — все было тщетно.
— Я знал… Я предполагал, что ты сбился с пути… — чуть не рыдал Константин Андреев, воздевая руки к потолку. — И что это еще за «товарищи»? Терпеть не могу это слово — в нем слышится какая-то конспирация. И это выражение: «посещаю храм»! Словно там лекции читают… О Господи, Господи! Петруша, а разве ты не знаешь, что сам благодатный батюшка Иоанн тебя крестил? Что у него под венцом стояли мы с матушкой, Царствие ей Небесное, а друг мой, твой будущий тесть, был у нас в шаферах?
Я попытался уговорить Молли бежать вместе (причем о гражданском браке и речи быть не могло!) и обвенчаться в приходе у Юзефовича, да какое там… Она сочла это предложение не самой удачной шуткой и недвусмысленно дала мне понять, что никогда не посмеет ослушаться воли отца, своего «драгоценного рара». Мое состояние сейчас точнее всего отражает фраза «между жизнью и смертью». Каждая клеточка моего (тьфу ты!) тела напряжена, накалена, только что говорить впустую о недостижимой смерти… Есть ли у меня выход?!
…1903 г.
Еще недавно ни за что не поверил бы, что сам буду рассчитывать на подачку той силы, проклятие которой тысячи лет лежит на душе моей, что придется заигрывать хотя бы с одним из законов, которые она свыше проповедует миру.
Мне не оставалось ничего другого, как отправиться в Кронштадт!
Собравшись с силами, отбросив малодушные колебания, я все же решился на «разведывательный» вояж. Побывать там было необходимо, чтобы хоть как-то подготовиться к неизбежному и, по возможности, усыпить бдительность «прозорливого старца», этого самого отца Иоанна Сергиева, попросту Иоанна Кронштадтского — формально настоятеля Андреевского собора, а по сути — личности такой мощи духовного притяжения и влияния, к которой уже многие годы стекаются страждущие, фанатики и юродивые со всей России, даже из-за рубежа за исцелениями, буквально за чудесами, которые якобы творились вокруг нее «по божьему промыслу» и одним «божьим словом». За неделю до спланированной поездки я без огласки перечислил со своего личного счета приличную сумму на строительство будущего главного морского храма империи, дабы укрепить личное расположение ко мне «праведного» протоиерея, когда-то крестившего настоящего Петра Андреева, чтобы мой приезд представлялся неким «возвращением блудного сына». Я также письмом испросил у «блаженнейшего батюшки» Иоанна в полном соответствии с этикой обращения доброго христианина к почитаемому пастырю разрешения на аудиенцию, дабы «келейно» обсудить с ним предстоящее венчание.
Отец протоиерей, кажется, обрадовался, по крайней мере, сразу ответил мне тоже письмом (вполне благосклонным), в котором пригласил меня «купно с рабой Божией Марией на Воскресную Литургию». Иоанн сообщал также, что после службы, за трапезой, которую с его благословления приготовит сама матушка Евдокия, будет рад обсудить важные детали предстоящего «великого и торжественного Таинства Бракосочетания». Посещение обедни, да еще с трапезой, в мои планы никак не входило — участие в христианской литургии абсолютно несовместимо с моими принципами, и я вообще боюсь, что это выше моих сил, и так истощенных за века противостояния учению распятого. Томимый дурным предчувствием, я скрыл письмо Иоанна Сергиева и от Молли, и (уж разумеется!) от «наших» родителей, сочтя для себя наиболее уместным и посильным компромиссом подождать протоиерея после службы возле храма. Признаться, одно представление о том, какой огласке может быть предан наш брак по православному обряду в «братских кругах», вызывает у меня какой-то мистический ужас…
Но хватит этой постыдной безвольной рефлексии! Отступать не в моих правилах — alea jacta est.
В назначенный день, всячески стараясь быть никем не замеченным и используя все известные мне методы конспирации, я прибыл в Кронштадт. Главный собор в этом небольшом регулярном городке я нашел без посторонней помощи. Сторонясь богомольцев, встречающихся на протяжении всего пути, максимально приблизился к церковной ограде, но все усилия, предпринятые с тем, как бы остаться незамеченным, были предприняты в пустую: к сожалению, в случае с Иоанном Кронштадтским оказалось невозможно и вообразить такое, чтобы застать его в полном удалении от толпы — жаждущие видеть, слышать его стоят днем, а многие и ночью даже под окнами квартиры Иоанна Сергиева. Хоть воскресная служба и закончилась, молящиеся расходились очень медленно, большинство же, видимо, и не собирались расходиться. Из толпы выскользнул субтильный служка и поспешил, наверное, по какому-то поручению, но я успел остановить его. На вопрос, как найти настоятеля, он сам удивленно вопросил:
— Да разве ж его надо искать? Наш батюшка Иоанн по литургии всегда здесь. Да вон стоит! Или не узнаете? — и указал рукой в сторону классического портика под колокольней. Над ступенчатой папертью, не отпускаемый жаждущими благословения, возвышался сам отец протоиерей в праздничных ризах. Оттуда, с расстояния в десяток сажен, он смотрел прямо на меня! Иоанн Кронштадтский был роста не выше среднего, но повторюсь — мне сразу показалось, что этот седобородый старец выше всех вокруг.
Окружающие как-то послушно, без слов и указаний, расступились, а он стоял с распростертыми руками, точно гипнотизируя, вызывая меня взглядом к себе и как будто намереваясь заключить в объятия! Высокое солнце, ярко освещавшее его величественную фигуру, сверкало на его парчовом узорчатом облачении, ювелирной работы наперсном кресте, как на золоченом окладе чудотворной иконы.
Подавив мистический ужас, поднимающийся из мрачных глубин моей души подобно мутному, угарному осадку, я заставил себя двинуться к священнику. Мне следовало как можно убедительнее доиграть свою роль «смиренного чада» до конца, но уже в начале фарса я чувствовал скованность и слабость в членах. Я все-таки «смиренно» сложил ладони лодочкой (голова, отяжелев, склонилась сама) и, приготовив заученную накануне фразу «Благословите, батюшка», стал было подниматься по ступеням портика, как вдруг ощутил, что с каждым шагом мое тело буквально наливается свинцом и решительно отказывается мне служить. Более того, я чувствовал мрак, сгущающийся внутри моего существа и все усиливающуюся дурноту, сравнимую разве что с той, что душила меня когда-то после бокала вина с сильнейшим ядом, поднесенного одним из тогдашних недругов! Наверное, теперь я не смог бы уже произнести ни слова, но, призвав на помощь остаток воли и подобный путеводной звезде лучезарный образ Молли, я поднялся еще на несколько ступеней, дальнейшее, однако, было за пределом моих сил и сознания: неожиданно со мной приключился жесточайший припадок эпилепсии.
Первое, что я увидел, вернувшись из судорожного беспамятства, были глаза отца Иоанна. Взгляд его производит впечатление даже на фотографиях, которые чрезвычайно распространены, но теперь это был иной взгляд, даже не тот, который осветил меня у ограды храма. Теперь он проник в мое существо, как холодная сталь скальпеля! Но я все еще считал необходимым назвать себя.
— Не пытайся лгать. Я знаю, кто ты, — произнес протоиерей Сергиев спокойным, чуть печальным голосом. — Ты не Петр, но убийца его! Человекоубийца ты! Не место тебе здесь: уходи и не возвращайся сюда более. О венчании и думать забудь! Не отдам я душу рабы Божией Марии на осквернение, не отдам тело на поругание. Ступай же прочь, мерзость пред лицом Господа, — добавил он, не сдерживая «праведного гнева». — Нет тебе, червь, ни прощения, ни спасения!
После этого тайновидец с отвращением отвернулся, молча указав двум оказавшимся рядом богомольцам, чтобы помогли мне подняться на ноги и обрести равновесие. Как снова оказался в стороне от храма, не помню. Равновесие я сохранил, но внутри меня уже все рухнуло и смешалось: мечты и чаяния, которые я полагал уже осуществившимися, были повергнуты в прах, в грязь кронштадтской мостовой. Как я объясню Молли, почему не могу исполнить волю наших отцов, что скажу этим двум святошам-самодурам? Если даже вообразить, что ложа дала мне согласие на церковный брак, всей силы братьев, всех наших тайных знаний не хватит, чтобы обвенчать меня в соборе Иоанна Кронштадтского, чтобы он вдруг сменил гнев на милость, отказ — можно сказать, проклятие — на благоволение к «мерзости пред лицом Господа». Этот всероссийский поп просветил меня насквозь, точно рентгеновскими лучами, и проник в самые тайные закоулки моей скрытой от всех смертных души! Выходит, уже не от всех… О я несчастнейший! Неужели хотя бы когда-нибудь, даже на самой последней степени отчаяния, на самом пике безысходности, смерть бессильна заключить меня в свои объятия?!
…1904 г.
Никуда мне не деться от рокового бессмертия, и нет разницы, что за война полыхает или тлеет на свете (война — пульс Мироздания!) — нашествие ли гуннов, Куликовская битва или экстравагантные боевые действия в Маньчжурии: чужим пулям, так же как и моим собственным ухищрениям, не дано прервать мою проклятую жизнь. Что из того, что выгляжу я теперь иначе, чем сотню-другую лет назад — обличье не меняет душу, а ей все тяжелее — задыхается душа-то! Не уйти мне от себя…
После этой короткой цинично-отчаянной жалобы, адресованной в пустоту, дневниковые записи прерывались, и за ними следовала та самая, известная Думанскому новелла о невероятном эпизоде еще идущей на Дальнем Востоке войны и судьбе человеческой в целом, которую декламировал в гостиной у Машеньки перед своим так и не состоявшимся отъездом дядюшка-инвалид.
Викентий Алексеевич перелистнул несколько страниц поразившего его когда-то текста, чтобы восстановить в памяти сюжет, и сделал для себя еще одно неприятнейшее открытие: в рукописи фамилия одержимого вольноопределяющегося первоначально была «Андреев» и только позднее, аккуратно перечеркнув написанное, автор заменил Андреева на Смирнова. «Читал нам с исправлениями, наверняка рассчитывая, что Молли и так узнает героя, а вот не узнала. И я ведь тогда принял старика за прототип Асанова… Да-с! Кровь в жилах стынет от всех этих метемпсихоз… Сколько их, пожалуй, было — таких дневников за многие столетия, сколько прожитых судеб, и за каждой чудовищное убийство… Чужих судеб? Но других-то у него не было… а от своей он бежал, не находя конца!» — ужаснулся адвокат.
Вслед за текстом «Метемпсихозы» отложенная на несколько месяцев хроника возобновлялась, не отпуская Думанского — оторваться от чтения он не мог.
…1904 г.
Вернулся в Петербург в полнейшем унынии и в тот же день узнал, что мой несостоявшийся тесть Савелов убит (во глубине души я сам давно желал этой смерти). Кто-то теперь исполняет обязанности казначея ложи? Впрочем, с потаенным прошлым и вольными каменщиками я отныне порываю. Их темные дела и церемонии для посвященных меня более не интересуют. С Савеловым-то, кажется, никаких тайн мадридского двора — банальное убийство банкира из-за денег (люди продолжают, как и во все времена, гибнуть за металл), но это и не так важно, как другое — я снова живу надеждой! Papa, став покойником, освободил мне путь к не доступной при его жизни дочери. Теперь я непременно добьюсь благосклонности Молли, ибо ни на миг не отказывался от поставленной мной цели объединить в одно неразделимое бытие наши судьбы! Моя бедняжка, мой солнечный лучик во тьме мироздания! Она осталась совершенной сиротой — не то что родных, даже близких никого, а ведь Она сейчас так нуждается в сочувствии! Да, я не любил ее отца, но никто на свете никогда так не любил женщину, как я люблю… нет, сказать люблю мало — боготворю мою Молли, и теперь для меня не осталось препятствий, мешающих быть рядом с Ней, служить Ей как угодно, кем угодно… Неужели я не воспользуюсь таким шансом заслужить когда-нибудь положение Ее Господина? Но не для того, чтобы потешить свою гордыню, а единственно только во славу Возлюбленной! A propos, в новом обличье здесь не узнают давнего знакомца и это, как всегда, дает мне дополнительные возможности действия — нужно только их не упустить, не промахнуться в расчетах.
P. S. В своей прежней квартире на Миллионной нашел вот опять этот кондуит: сколько времени я к нему не прикасался? Не пристало мне изменять вековой традиции: продолжу повесть моего безотрадного и бесконечного существования в форме этих вот заметок.
Декабрь 1904 г.
…Даже если признаться Молли, кто я на самом деле таков, она вряд ли поверит, а если и поверит, разве мне от этого станет легче? Она так добра к своему увечному дядюшке, кажется, привязалась всей душой…
…Меня опять отыскали вездесущие братья. Разве не глупо было всерьез надеяться, что от них можно спрятаться? Я ведь, в сущности, никогда не принадлежал себе: моя душа никогда не была свободна, не говоря уже о теле…
Их привели сюда наши тайные знаки, начертанные чьей-то неопытной рукой. Всякий раз знаки появлялись там, где совершалось какое-либо убийство, поражающее бессмысленной жестокостью.
…Я поздно догадался, что произошло, но уже ничего нельзя было исправить. Судя по всему, одна из книг попала в руки профана и теперь он рисует поразившие его воображение картинки подобно тому, как цирковая обезьяна выводит буквы, не понимая их смысла. Казалось бы, дело яснее ясного: досадная случайность, от которой не спасает даже самая тщательная предосторожность, но как только появились знаки, старшие братья из Звездной ложи составили планетарные листы на каждую дату убийства, скрупулезным образом рассмотрели все прогрессии и транзиты, а также вибрацию небесных сфер и пришли к следующему вердикту: посредством непосвященного, не ведающего, что творит, руководящие архитектоникой событий Высшие Силы доносят до нас свою волю!
Братья решили, что именно сейчас возможно и необходимо перейти к решительным действиям и посредством самой грандиозной инкарнации занять все верхние этажи общественной лестницы. Мы постепенно завладели всем высшим обществом, всеми влиятельными людьми, начиная с министров и заканчивая модными художниками. Дальнейшие события не заставили себя долго ждать; похоже, моему относительно спокойному существованию пришел конец. Вольные каменщики снова воспрянули, воспрянули, как никогда, — раньше им не удавалось подойти так близко к достижению заветной цели. Все они слетелись в Россию как мухи на сладкое, как нетопыри, пьянеющие от одного предчувствия свежей крови, а всего точнее — как алчные волки на доступную, загнанную ими добычу (империя-то дряхлеет день ото дня!). Я даже не подозревал, что их так много расплодилось не только здесь, но и по всему свету, а мне теперь каждую вожделеющую Денег и Власти душонку нужно определить в новой сфере или должности, пристроить к еще нетронутой сытной кормушке, на новой золотой жиле. От этих страниц, которых конечно же, никто, кроме меня самого, не прочитает, скрывать нечего — именно передо мной, Великим Магистром — Иерофантом, поставлена четкая цель — осуществить перевоплощение каждого утвержденного кандидата в подходящую ему плоть, и я вынужден день за днем исполнять это практическое указание Высшего Совета братьев.
Определенно, приход их к власти в России — дело ближайшего будущего. Практически вся аристократия уже инкарнирована братьями! И финансовые рычаги управления Империей в руках братьев. Осталось лишь подчинить себе верховную власть — самого царя. Но для этого нужен человек, близкий к престолу и способный влиять на высочайшую волю…
— Эх, Сатин, Сатин! — в горестной досаде воскликнул Викентий Алексеевич, отрываясь от чтения. — Какую же ты, брат, беду натворил! Ну что бы тебе было все откровенно, как на духу, мне выложить. Ведь мы же не просто коллеги были, нас ведь когда-то большее связывало… Неужели многолетняя наша дружба, то искреннее товарищеское чувство, которое возникает между людьми, посвятившими себя одному и тому же благородному поприщу, ничего не значила для него, ничему не научила? Да я сделал бы все возможное, все, что в моих силах, чтобы помочь этому глупцу выпутаться из дьявольских сетей! Хотя, скажи мне кто-нибудь тогда, что подобное существует не только в воображении досужих бумагомарателей… Нет, не поверил бы! А услышав рассказ Сатина, решил бы, что тот чрезвычайно переутомился и порекомендовал бы ему отправиться куда-нибудь на воды. Пожалуй, помочь ему действительно было невозможно… Но что там дальше в этом проклятом дневнике?
Адвокат вернулся к рукописи Иерофанта.
…Мир тесен. Выбор «Союза освобождения» пал на известного своей близостью к Николаю купца первой гильдии Гуляева, который обвиняется в убийстве С.! Впрочем, нам известно, что это не его рук дело. Если Гуляев будет оправдан, а иной исход дела маловероятен, решено, как выразился координатор российских лож, «взять его под опеку».
Легко сказать «под опеку» — попробуй подступись к сумасброду, который никому не доверяет!.. Труднейшая задача должна вот-вот разрешиться. Гуляев оправдан, а его спаситель — набирающий вес молодой адвокат Думанский — зачастил к нам в дом (сначала приходил, несомненно, по делу С., но теперь, я вижу, у него появился и другой интерес). Кстати, Гуляев, обрадованный чудесным избавлением от петли, кажется, на все готов ради своего защитника…
Сегодня я впервые заметил, как Она смотрит на него. За один подобный взгляд я на все готов… Теперь-то я наверное знаю, что делать!
…Кажется, у меня появилась надежда! После смерти отца у Тебя не осталось близких. А ты была рада любой родной душе. И тогда я придумал дядюшку-инвалида. Я был близок к Тебе как никогда. И как никогда далек.
И вот — удача! Ты влюбилась. Он ходит в дом. И потому, как изменилось выражение Твоих глаз, я понял, насколько я близок к цели. Теперь я знаю, что делать. И никто меня не остановит!
«Всероссийский батюшка» Иоанн Кронштадтский, благословивший союз Той, в которой содержится смысл всего моего существования, Той, о которой я едва смел мечтать и в то же время упорно, невзирая ни на что, шел к достижению заветной цели, союз Молли, чье имя я едва осмеливаюсь произнести вслух, с этим наглым выскочкой, явившимся, чтобы вырвать у меня плод моего многолетнего кропотливого труда — решено, этот лжепророк, этот ханжа и лицемер, скрывающийся под маской святого праведника, должен умереть! Он падет от моей руки! И пускай последним, что узрит в своей жизни «старец», будет лицо человека, на брак с которым благословил Молли, Машеньку! Пусть душа его отправится в ад, отягощенная сожалением об ужасной ошибке, совершенной им исключительно из гордыни.
…Я не смог сделать этого! Не смог! А ведь все было рассчитано как нельзя лучше. Все было продумано! Я появился рядом с храмом как раз тогда, когда служба должна была вот-вот закончиться и начаться крестный ход. Я заранее подобрал себе удобное место — за афишной тумбой, чтобы выходящая из храма толпа не смела меня и чтобы я смог оказаться поблизости от намеченной жертвы.
Поначалу судьба благоволила мне, и все устроилось даже лучше, чем я рассчитывал. Процессия вышла из собора. Мимо пронесли крест и фонарь, прошли хоругвеносцы, и я оказался прямо за спиной того, кого теперь почитал за злейшего врага. Незаметно я достал револьвер. Вокруг меня все с чувством пели «Верую» — эта охваченная единым порывом толпа не услышала бы и грохота канонады, не то что один-единственный выстрел, да еще сделанный практически в упор!
Я уже готовился нажать на курок, как Иоанн Сергиев неожиданно остановился и повернулся ко мне. Ясные как небо глаза его смотрели на меня с той отеческой суровостью, которая позволяет блудному сыну осознать низость своего падения и в то же время не расплющивает по земле как кошку, попавшую под автомобиль, а указует путь ко Спасению. Взгляд пронизывал меня насквозь, выворачивая наизнанку и вытягивая из потайных уголков моей души то немногое чистое и светлое, что в ней еще оставалось!
— Человек безбожий, обшитый чужой кожей, — обратился он ко мне, и слова его прозвучали подобно удару грома или звуку Архангельской трубы, пробуждающей и мертвых для Страшного суда, а сам я вдруг ощутил истинную правоту старца и его провидческий дар. — Стой и смотри! В глаза мне смотри! Что, давно искал многогрешного отца Иоанна? Тебя-то как теперь называют, чей скудельный сосуд душа твоя неприкаянная коптит? Я помню, как содрогалась она в бренной плоти студента Андреева, крестника моего — раба Божьего Петра. Ужом извивалась. Думаешь, тебя тогда падучая на землю повергла? Нет, падучая при мне не смеет себя открывать — Святых Даров трепещет. То пята самого Первоверховного Апостола тебя придавила за то, что ты, аспид, тезоименитую ему душу погубил! Ты ведь знаешь — за твое душегубство окаянное я и Молли тебе во власть не отдал, не благословил тот обманный брак. Лукавством мыслил невинную девицу заполучить, у Самого Спасителя Мира восхитить, да не вышло? А ведь ты с тех пор не устрашился, не образумился! Все тем же путем идешь да никак в крови христианской захлебнуться не можешь? Ну же! Ответствуй, чьим благородством ты опять убогую душонку свою прикрыл, как себя теперь величаешь?
У меня едва хватило сил и решимости, чтобы прохрипеть:
— Не важно как — я смерть твоя!
В ответ праведник насквозь пронизал меня взглядом, вместе взыскующим и смиренным.
— Ты же знаешь, плотокрад, что смерти нет. Не пристало бояться, чего нет! С тех пор как Господь наш попрал ее, а нам обетовал жизнь вечную, нет смертного страха, а только один — Божий! Он и во мне, и в тебе пребывает — бесы-то Господа сугубо трепещут! Только ты, безумец, бежишь от него целую вечность, личины всё меняешь, да от себя, от совести своей, от души своей разве ж убежишь? Грехи сами обличат! Не о том ты думаешь, — продолжал отец Иоанн. — Печалишься, что дети, от мнимого брака с рабой Божьей Марией, коих вообразил ты в блудных фантазиях своих, не на тебя будут похожи. Не о том должны быть помыслы твои, боль сердца твоего! О том, паче всего, что, сочетавшись с тобой, она будет считать себя на самом деле женой суженого своего, а когда душа ее в свой срок отойдет ко Господу нашему, иже на небесех, не твою душу заблудшую встретит она там, ибо браки совершаются на небесех, и не нам, грешным, изменять Божественный промысел.
Я уже было собирался возразить, что жизнь без этой женщины, без Молли, не имеет для меня смысла, а на пути к ней я не устрашусь ни геенны огненной, ни всего, что в силах измыслить для меня человеческий и нечеловеческий разум, но и рта раскрыть не смог. А батюшка Иоанн, будто услышав мои слова, так и не сошедшие с языка, не попущенные Тем, Кто всемогущ, укоризненно покачал головой.
— Молись, великий грешник, и кайся! — сказал мне на прощание кронштадтский душеведец. — Ибо бесконечна милость Божия. Христос, Спаситель наш, распятый на кресте за грехи наши, воскрес тридневи, так и Россия-матушка наша, которую вы распяли при нашем неразумии, маловерии по Божьему попущению, воскреснет через три поколения через беды и напасти… Иди к образу Нерукотворенного Спаса и молись слезно о спасении Отечества Самодержавного и своей неприкаянной заблудшей души. И оставь в покое ту, что от Бога не тебе предназначена. Навсегда оставь!
Дальше все поплыло перед глазами Думанского: «Ему-то было гораздо легче выводить буквы на бумаге, — подумал Викентий Алексеевич с неожиданным ожесточением, — не то что мне — еле царапать негнущимися неловкими пальцами!
Так вот для чего все было затеяно, — содрогался Викентий Алексеевич. — Добрейший дядюшка душегуб, заманил меня в тот злосчастный дом, чтобы убить! Патриарх семейства, хранитель устоев на деле оказался гениальным актером! Поистине, у него был дьявольский план, у этого Давида Кауфмана… А ведь он, изувер, заманил меня в самое логово масонов, имея целью украсть мое тело, предварительно благословив мой союз с Молли, чтобы остаться с ней. Убить и воспользоваться моим телом! Господи! Если бы не случайное присутствие Кесарева-Васюхи, который всюду меня преследовал, желая отомстить, все бы удалось. Это он смешал все карты масонов во время ритуала, оказавшись третьим. Тело масона-„дядюшки“ было приготовлено в жертву, и моя душа должна была попасть в него, чтобы после ритуала „обрести достойное пристанище“. Лишь по случайности она попала в тело третьего — Кесарева! Душа инвалида оказалась в моем теле, как и предполагалось… А Кесарев-Васюха погиб в растерзанной плоти инвалида Кауфмана! Праведен суд Твой, Господи, и кто скроется от него? Святый Великомучениче Георгие, моли Бога о мне!»
Думанский хотел было уже бросить дневник, но вид собственного почерка действовал на него магнетически. Подавляя страх, он снова продолжил чтение. Руки Викентия Алексеевича дрожали, то и дело перехватывало дыхание. Он подошел к раскрытому окну. По широкому карнизу сновали голуби…
Когда кошмарный дневник был дочитан, адвокат рассеянно огляделся, словно вспоминая, где находится, и как бы испрашивая совета свыше, что делать дальше.
Сильный порыв ветра вырвал листы из рук Думанского, закрутил шелестящим роем, раскидал по комнате. Вспугнутые, сорвались с карниза голуби.
Викентий Алексеевич ничего этого уже не видел: он спешил на Фурштатскую.
VII
Молли совсем измучилась в ожидании Думанского на новой квартире. Когда она сердцем и каким-то потаенным женским инстинктом поверила было письму, то, наспех собравшись, перебралась сюда, но теперь, все чаще вспоминая нелепый визит человека, похожего на Викентия, и решительно ничего не понимая, начинала уже думать о преждевременности переезда. Одна мысль не выходила у нее из головы, шедшей кругом: «Может, из Петербурга уехать на время… или лучше насовсем?! Что меня теперь здесь держит? Любовь, которая обернулась мучением? Родные могилы? Но я могла бы иногда приезжать сюда, навещать их… Бежать в имение к дядюшке, за границу, куда угодно… А если ничего не изменится?»
Это было какое-то изощренное самоистязание. Только во сне Молли забывалась: Думанский являлся ей прежним, таким, каким он был ей дорог… Пробуждение всегда оказывалось тягостным. «Господи! Опять жить… Какую злую шутку сыграет со мной новый день? Лучше было не открывать глаз, не просыпаться…»
Однажды Молли разбудил квартирный звонок. Она открывала в полудреме, не задумываясь, кто стоит там за дверью, на лестничной площадке. Прищурилась. Фигура в дверях обрела черты. Это был опостылевший Думанский.
— Уходите… Оставьте меня… — Фразы, срывавшиеся с ее губ, были отрывисты. Чувствовалось, что даются они ей с большим трудом.
— Молли, любимая, я должен объясниться… Здравствуй же, Молли!
— Нет никакой необходимости объяснять. Полагаю, все кончено.
Думанский застыл на пороге, мучительно соображая, что же делать дальше.
— В таком случае я должен хотя бы сообщить… Это жестоко, но я обязан… Молли, ты знаешь, что произошло с твоим дядюшкой?
Девушка закрыла глаза. «Только не это, Господи! Я не вынесу…»
Викентий Алексеевич опустил голову. «Сейчас она захлопнет дверь».
— Твой дядюшка убит…
В глазах у Молли все закружилось, и дальше она уже ничего не помнила.
— Молли, к тебе на набережную приходил некто, кого ты приняла за меня, да?
Молодая хозяйка кивнула.
— Поверь, ЭТО БЫЛ НЕ Я, ПОНИМАЕШЬ? Неужели ты этого не почувствовала? Если ты любишь меня… или хотя бы любила… ты должна была почувствовать, что это был совсем другой человек! Ну хочешь, я на Евангелии поклянусь? — в уголках глаз его блеснули слезы.
— Да, да… Я чувствовала… И записка с вашей подписью «В. Д.», по-французски. Конечно… Но почему вы… ты сам — не приходил? Почему вас не было так долго?
— Я… приходил. Только ты меня не узнала. И записку действительно прислал я. Хорошо, что ты послушалась и переехала на новую квартиру, иначе неизвестно, что сейчас было бы.
Очнулась Молли у себя в спальне и увидела над собой лицо Думанского. Глаза его светились прежней сияющей нежностью. «Это сон, — решила девушка, — который никогда не станет явью».
— Я сплю? — прошептала Молли.
— Теперь уже нет, но мы оба так долго были точно во сне, — Думанский словно произносил слова заклинания. — Нам снился кошмарный сон, но теперь он уже позади. Мы больше не спим, и уже не будет страшно, все успокоилось, все прошло! ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ВЕРИТЬ В ЭТО!
— Все прошло! — блаженно повторила Молли и подумала: «Пусть будет так, как он говорит, я хочу этого, хочу верить и любить. Я хочу счастья!»
Думанский отвел глаза в сторону.
— Когда-нибудь я, возможно, все тебе расскажу, но сейчас…
Молли вспомнила о смерти дядюшки, но, увидев изуродованную руку Думанского, осторожно погладила едва зажившую рану:
— Нет-нет! Не сейчас… Не надо совсем… Ничего не рассказывай, Викентий! Мне кажется, я чувствую… ЕСЛИ ОБЛЕЧЬ ЭТО В СЛОВА, ТО ПОВЕРИТЬ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.
«Апостолу Фоме тоже нелегко было поверить в Воскресение Спасителя, но Тому достаточно было показать раны на руках, и Фома уверовал», — подумалось Молли. Она с помощью Думанского поднялась и пошла в гостиную. Викентий последовал за ней. Комната была полна увядшими розами — высохшие букеты стояли в вазах на столе, прямо на полу, опавшие лепестки чернели на паркете, подобно следам от пролитого вина. В сознании Думанского роились неясные ассоциации. Он рассеянно спросил:
— Откуда ЗДЕСЬ эти цветы?
Молли с состраданием посмотрела на Викентия — сколько ему пришлось перенести за эти дни! — и тихо произнесла:
— Но ведь это все ты мне дарил — Я ПЕРЕВЕЗЛА ИХ С СОБОЙ.
Все поплыло перед глазами Думанского.
«Значит, все-таки…» — Викентий Алексеевич содрогнулся, но взял себя в руки и проговорил:
— Пускай так стоят. Кто знает, может быть, еще расцветут?
Думанский почувствовал свинцовую тяжесть в теле: чудовищное напряжение последних дней давало о себе знать. Он опустился на узкий диванчик, совсем не предназначенный для сна, но ему было безразлично куда лечь, казалось, в тот момент он уснул бы и на голом полу. Молли села подле него, взяла его руки в свои. Викентий видел на тонком запястье его рождественский подарок — браслет-змейку, чувствовал тепло возлюбленной.
— У тебя так сильно бьется сердце…
— Пустое… Мне сейчас хорошо, Молли. Не оставляй меня одного, любимая, родная моя…
…Во Всея Гвардии соборе Преображения Господня царил полумрак: паникадило не сияло, свечи догорели, лампады перед образами затухли, и казалось, что здесь давно уже не проводится Божественная служба и не творится молитва. Через распахнутые Царские врата и дьяконские двери едва можно было различить происходящее в алтаре. В северном приделе темнел стол, на котором в Великую субботу обычно святили куличи и яйца. За столом, то и дело нетерпеливо поглядывая на входные двери храма, сидел Кесарев. Он ожидал Думанского. Тут же стоял концертный рояль, некогда роскошный, а теперь ободранный и расстроенный. Последнее, впрочем, совсем не смущало Никаноровну, которая самозабвенно стучала по клавишам, воображая себя великой пианисткой.
— Ну как? — спросила она у Кесарева.
— По крайней мере громко, — неохотно ответил тот. Нужно было хоть как-то оценить отвратительные звуки, дабы не последовало дальнейших вопросов.
— Да! И этим достоинством нельзя пренебрегать! — гордо заявила Никаноровна. Она старательно всматривалась в ноты, но играла нечто совершенно несообразное написанному. Даже выбранный ею темп не совпадал с указанием «играть умеренно». Педали рояля находились в медном тазике, наполненном водой. От тазика поднимался слабый пар.
Вот на пороге храма показался долгожданный Думанский. Освоившись с полумраком, он решительно направился к Кесареву, тот встал и поспешил протянуть вошедшему руку. Никаноровна тоже проявила вежливость: коротко кивнула, указав на стул. Думанский сначала подошел к роялю, заглянул в ноты, с ироническим видом перелистнул их и только после этого подсел к Кесареву.
— Ну, как дела на творческом поприще? Как настроение? Вижу, вы чем-то озабочены?
Старушка захлопнула ноты, встала из-за рояля и принялась ходить взад-вперед, продолжая бормотать. Почувствовав себя в центре внимания, Никаноровна приняла независимый вид, замахала руками в такт шагам. Кесарев прислушался к «декламации»:
— Просто натуральный пес…
— О чем ты, старая? — настороженно спросил прозаик.
— А у господина Думанского уши покраснели! — удовлетворенно произнесла Никаноровна и снова погрузилась в себя. — …Какой-то там вопрос…
— Старушка-то наша еще и пианистка! — хихикнул Думанский, подмигнув Кесареву, но тот вспомнил о предмете разговора и осторожно поинтересовался:
— Вам так понравился сюжет моей книги? С вашего позволения, напомню основную фабулу. Некий «дядюшка» хочет завладеть дочерью банкира, но у нее есть жених-адвокат, которого она любит. Дядюшка знает тайный ритуал реанкарнации и решает войти в тело жениха. У адвоката есть злейший враг — бандит Кесарев, который мстит ему и хочет убить. В процессе реинкарнации души дядюшки и адвоката должны были поменяться местами, причем душа адвоката, в свою очередь, погибнуть вместе с телом дядюшки. Ритуал инкарнации непредвиденно был нарушен: в залу ворвался следивший враг, тот самый Кесарев, и возникла неразбериха. Душа Кесарева попала в тело дядюшки и погибла вместе с ним, а дядюшка все-таки добился своего, оказавшись в теле жениха, при этом душа несчастного адвоката угодила в тело Кесарева. Интрига, кажется, любопытная?
Издатель наконец-то услышал долгожданный вопрос и, самодовольно улыбаясь, протянул:
— Это как раз не суть важно, батенька. Главное — как мы книгу издали!
Он достал из портфеля и положил перед Кесаревым скромный белый том. Настолько скромный, что даже фамилии автора и названия книги на обложке не значилось. Думанский торжествующе взглянул на писателя, предвкушая восторженную реакцию:
— Ну что? Теперь вы видите, что обязаны мне просто блестящим, ничем не запятнанным будущим?
Кроме девственно чистого переплета, Кесарев не увидел ничего, и ему стало неуютно, засосало под ложечкой.
— Викентий, а почему нет названия? Разве в рукописи я не указал название? — спросил он, чувствуя нарастающее беспокойство.
Думанский вздохнул:
— Вспомните, дружище, как мило мы с вами посидели в «Вене» на прошлой неделе. Кто платил тогда за рябчиков в сметане и анисовую? Припоминаете? Верно, ваш покорный слуга! Так теперь, считайте, мы с вами квиты: вы мне не должны за ужин, а я вам не должен название. Справедливо, не правда ли?
Кесарев заметил безумный огонь в глазах профессионала издательского дела.
— Что, испугались? Ха-ха! Это шутка! Невинная шутка! — вдруг расхохотался Думанский.
Он раскрыл книгу и предложил Кесареву почитать вслух. Тот по-прежнему ничего не мог понять, не верил своим глазам: страницы были испещрены непонятными значками, напоминающими не то шумерскую клинопись, не то древнегерманские руны. Текст своего сочинения, написанного на великорусском наречии, Кесарев прекрасно помнил, лежащий же перед ним опус не содержал ни одной знакомой буквы.
— Вижу, вы удивлены! — азартно потирая руки, констатировал Думанский. — Непривычно, да? Я, знаете ли, изобрел великую вещь. Я реформировал русскую графику! Мое открытие просто, как все гениальное. Помните, что говорил Буонарроти: «Беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее». Я так и поступил: взял глыбу русского алфавита и отсек от нее все лишнее. Ну к чему, например, две вертикальные палочки в букве «М»? Согласитесь, что одну можно убрать, и так будет понятно, что это за буква. Также, вне всякого сомнения, необходимо убрать вертикальную палочку в «Ю». «Ю» от этого смысла не утратит. Я и другие буквы упростил все по тому же принципу. Представляете, какая экономия типографской краски и бумаги? А в конечном счете и денег! Ведь это начало новой печатной эры! И вот я избрал вас, именно вас, для того чтобы претворить свой гениальный замысел в жизнь… Ваша книга — первая ласточка новой эпохи российской письменности. Это революционно-эпическая азбука, рисующая современную жизнь в философическом ее осмыслении. Жизнь без палочки — как жизнь без царя! Ощущаете теперь, какому великому начинанию вы сопричастны благодаря моему выбору?
Едва дождавшись конца этой эмоциональной речи, Кесарев выпалил:
— Вы с ума сошли! У вас мания! Кто вам дал право использовать меня в качестве подопытного кролика? Да вы просто вандал! А кстати, вам никто до меня этого не говорил?
Но издатель был далек от того, чтобы чувствовать себя виновным. Наоборот, он даже оскорбился, как непризнанный гений!
— Этого следовало ожидать: никто никогда не понимал меня, никто не способен ощутить величие моих замыслов! А ведь я счел вас личностью моего масштаба! Вы же оказались… Я думал, что делаю вас соавтором великой реформы, а вы…
— Послушайте! — взвыл Кесарев. — Что мне до ваших гениальных открытий, если я не то что не узнаю своего романа в таком виде, я даже прочитать его теперь не могу!
Я отказываюсь…
В Божием храме запахло скандалом. Из алтаря тянуло серой. Никаноровна подошла к столу и ткнула пальцем в стакан вина, до которого Кесарев так и не дотронулся. Прозаик смолк и уставился на опостылевшую старуху, затем перевел взгляд на стакан — хмельное зелье на глазах помутнело. Коварная Никаноровна потянулась и к стакану Думанского, но тот, видя, что произошло с вином Кесарева, предусмотрительно пододвинул его к себе. Бабка раздраженно плюнула на стол. Думанский вскочил как ошпаренный. Никаноровна невозмутимо взяла со стола пирожок и принялась жевать, обнажая вставные челюсти.
— Ну чего смотришь, бумажная душа? — спросила она Думанского с издевкой. — Думаешь, у меня изо рта музыка пойдет? Думаешь, у Никаноровны шарманка внутри?
Вообразив, что вилка, валяющаяся на столе, — черепаховый гребень, она начала неспешно расчесывать седые космы, строя при этом страшные рожи и желая опять привлечь к себе внимание присутствующих. Грозно постучав пальцем по чистой обложке, она пророкотала зловещим голосом:
— Я все разведала! Я знаю, о чем книга!!!
В глазах ее неожиданно заблестели слезы. Она поманила взглядом Кесарева, подмигнула Думанскому:
— Царя-батюшку подменить задумали, Помазанника Божия? Душу его ангельскую вынуть порешили, беса в него вселить хотите?! И называется это у вас «инкарнация» — обкорнать, значит, Расею, без головы оставить! Ха-ха-ха! А хотите, завтра сдохну и никому не расскажу? Ха-ха! Ни Володеньки, ни Наденьки… Все с копыт. С приветом, дяденьки! — взлетела Никоноровна.
Кесарев поднял голову, пытаясь увидеть помело, на котором восседает старая ведьма-шантажистка. Рот у него открылся сам собой: это никем не понятое, исполненное какой-то невообразимой мистической энергетики и сатирической поэтики существо с видом полного превосходства над бренным миром с его суетой и низменностью уже парило под центральным куполом на дворницкой метле. Миг — и старуха с хохотом выпорхнула в крошечное купольное люкарн-окошко. Оглядевшись по сторонам, Кесарев будто устыдился чего-то и только произнес как бы в свое оправдание:
— Ну чего на меня уставились? Люблю рассматривать женское изобилие снизу. — И тут же перевел взгляд на свои ноги: из-под коротких брюк, вызывающе упираясь в пол, торчали грязные копыта.
VIII
Думанский проснулся в гостиной квартиры на Фурштатской, на узком кожаном диванчике. Он помнил, что ему снилось что-то кощунственно отвратительное и безумное, но не помнил, что именно, и последнее его радовало. Голова страшно болела, но это не препятствовало ясности мышления, как прежде.
«И как я мог столько проспать на таком неудобном ложе?» — удивился Думанский. К нему возвращалась телесная изнеженность благородных предков.
Молли всю ночь провела в кресле возле спящего Викентия Алексеевича.
— Как тебе спалось? Здесь ведь так жестко! — она словно прочитала его мысли. — Нужно было постелить в спальне, но ты так неожиданно уснул, и я не посмела тебя будить… Всю ночь волновался, что-то бормотал…
Кончиками пальцев возлюбленная нежно дотронулась до щеки Викентия и, разглядывая лицо дорогого человека, задумчиво произнесла:
— Колючий…
Викентий Алексеевич встрепенулся, вспомнив о том, кем еще совсем недавно он был. С нервной хрипотцой он выдохнул:
— Молли, мы уезжаем?! — Прочитав ответ в ее глазах, повторил уже утвердительно: — Уезжаем! Решено бесповоротно. Не могу… Устал я смертельно… Нельзя здесь больше оставаться — этот город… Сейчас здесь не спастись, понимаешь?! Уедем сегодня же!
Возлюбленная послушно кивнула. Викентий даже не ожидал, что она решится так сразу, без колебаний. «Удивительная женщина, сам Бог мне ее послал! Ведь ей сейчас, наверное, куда тяжелее, чем мне… Куда тяжелее…»
Весь день шли сборы: Глаша под присмотром барыни собирала какие-то баулы, чемоданы. Думанский в волнении носился по квартире, сцепив руки на затылке и лишь иногда давая советы, все больше невпопад. Порой он оборачивался к иконам, молился вполголоса. До Молли долетали обрывки фраз: «…спутника Ангела Твоего нам, рабом Твоим, ныне, якоже Товии иногда, поели сохраняюща…», «…спаси и сохрани Державу Российскую под святым омофором[179] Твоим…», «Если близок уже конец мира, то не без щедрот Твоих да будет кончина…»
Но вот все было уложено. Думанский взял извозчика и дожидался Молли возле подъезда. Она то спускалась, то вдруг, вспомнив о какой-то забытой вещи, поднималась в квартиру.
— И сама не пойму, зачем беспокоюсь? Ведь не вернусь сюда больше, а все не могу уехать… — твердила она, как бы извиняясь за свою растерянность, и прижимала к груди бережно обернутую в белый плат фамильную Иверскую икону. — Ну, теперь в последний раз… Там шкатулка с письмами, наверное, нужно взять… Впрочем, всё — едем, ничего не надо!
Викентий Алексеевич вздохнул с облегчением, перекрестил дорогу образом:
— Веди нас, Матерь Божия Иверская! — и с благодарностью вспомнил своего святого спасителя-победоносца.
Извозчик, еще крепкий старик лет под семьдесят, ждал указаний.
— Отвези нас, отец, на Николаевский вокзал, — распорядился Думанский.
Возницу растрогало уважение к его почтенному возрасту — нечасто так величали господа! — и он сразу почувствовал особое расположение к седокам.
— Видать, далековато собрались, государи мои? Поклажи-то эвона сколько! Всю жисть едем куда-то…
— Вот и мы так… — неопределенно вырвалось у Думанского. Разговаривать он не был расположен.
Петербурга Думанский не узнавал: не то чтобы забыл, как выглядят петербургские дома, особняки, вывески, как одеваются прохожие, как пахнет во дворах жареным кофе и тянет всевозможной снедью из поминутно открываемых посетителями дверей магазинов. Он не забыл особого лоска Северной столицы, но теперь все, что он видел вокруг, вызывало мрачные чувства: серое давящее небо, тупая холодность лиц, ощущение надвигающейся катастрофы «Раньше я мог часами бродить по этим улицам, восхищаться красотой фасадов, гармоничностью этого города Я жил одной жизнью с ним, а теперь все куда-то подевалось, растворилось — поэзия, романтика… Люди какие-то другие стали…»
— И верно, ничего хорошего в здешних краях сейчас не жди! — рассуждал, словно читая в душе, извозчик. — Дела творятся… Спаси и сохрани! Человек образ Божий потерял. Да взять вон — даже в Первопрестольной ураган пять тыщ дерев с кореньями выдрал![180] Старцы говорят, на гробы. То ли еще будет… А вы уж не осерчайте на мое любопытство — не в монастырь какой?
— «Вся Россия — наш монастырь», старик, — задумчиво произнес Викентий Алексеевич. — Это один великий писатель сказал, когда ты еще вряд ли родился.
Возница вздохнул:
— Антиллигент небось был, а тоже понимал, что к чему! Нынешние-то антиллигенты все бомбы в царя да в слуг царских бросают…
При выезде с Фурштатской на Литейный возок увяз в безликой, разношерстной толпе, состоявшей из возмущенных чем-то и беспрерывно гудевших сезонных рабочих, каких-то оборванцев и просто зевак. Кое-где мелькали студенческие фуражки. С какого-то балкона к собравшимся обращался темный некто в кожаной тужурке, такой, какие носят шоферы.
Молли пригляделась к выступавшему, узнала. На лице ее появился румянец волнения, правый глаз стал едва заметно косить. Она быстро повернулась к погруженному в себя Думанскому.
— Посмотри, Викентий! Посмотри же скорее, ведь это твой подзащитный!
Викентий Алексеевич встрепенулся, рассеянно поглядел по сторонам и увидел на балконе Гуляева, воздевающего руки к людскому рою:
— Те, кто должен служить Государю и народу, обманывают и унижают нас! Пойдем же к царю-батюшке, братья и сестры!
— Не пить им нашей кровушки! Дождутся! Хрена им с маслом! — рыгала разъяренная толпа.
«Все-таки у них получилось! Добились своего, адские отродья!» — Думанский сжал зубы.
У самого возка, закатывая глаза, корчился какой-то бесноватый:
— Ха-ха-ха! В самом пекле живем! Ой, жарко! А суд ваш сгорит, сгорит, сгорит!
Викентий Алексеевич инстинктивно обернулся назад, в сторону Литейного: над тем местом, где было здание Окружного суда, в небе ходили огненные сполохи. Думанский протер глаза — видение исчезло. Возле разогреваемой оратором толпы скопилась целая стая отчаянного вида бездомных собак, охотно подвывавших двуногим человекообразным. В ней особенно выделялся здоровенный лохматый пес, несомненно вожак, с невиданной преданностью и даже подобострастием внимавший каждому слову басистого «купца»-подстрекателя.
Из ближайшего переулка показались казаки. Старик извозчик изо всех сил вытянул кнутом лошадь:
— Н-но! Пошла, родимая! Баламутят всякие народ православный, а эти дурни уши развесили! Н-но! Подальше отседова!
Сани наконец двинулись по Литейному под собачий лай. Молли устало прикрыла глаза. Думанский смотрел на ее лицо и вспоминал последние страницы дневника, написанные ЕГО почерком.
…Молли! Молли! Возлюбленная моя, мое несбыточное счастье! Уже одно имя Твое звучит как молитва. Прости меня, Молли, прости! В тот вечер, благословляя древней родовой иконой Тебя и Думанского, я верил, что благословил НАШ будущий союз. Я был самонадеянно убежден, что мой план обречен на успех. Просчитав каждый шаг, каждое свое действие, я не учел лишь одного… Страх, отвратительный человеческий страх, от которого слабеют ноги и предательски замирает сердце! Эта напасть, свойственная ничтожным рабам, внезапно проснулась в моей душе: метаморфоза той роковой ночи приблизила меня к Тебе как никогда, я даже изменил линию жизни на своей «новой» руке, но я не смог сохранить самообладание, и сам испортил все! Ты не смогла признать в пьяном мужлане своего избранника. Как обрести покой? Ночи напролет скитаюсь по безлюдному городу, а в душе — мрачная бездна. Студеный ветер с залива только раздражает воображение, раздувает больные мысли, словно паруса одинокой шхуны, потерявшей курс в штормовом аду. Забыться невозможно, сон оставил меня! Лишь изредка днем впадаешь в какое-то сомнамбулическое состояние и долго потом пытаешься понять, где явь, где видения. Может быть, именно это состояние верующие называют тонким сном? Обычно запоминаются лишь отдельные, нелепые детали, но то, что открылось мне вчера, — ясно как Божий день! Я увидел небольшой древний храм — шатер колоколенки и сводчатая одноглавая церковь, каких в Петербурге не встретишь. Храм стоял среди старинного кладбища, в тени вековых кленов, со всех сторон окруженный крестами и пышными мраморными надгробиями. Мне сразу стало не по себе, дыхание перехватило — я не сентиментален и привычки бродить по кладбищам не имею, в православный храм и вовсе бы ногой не ступал — не испытывал потребности в самоуничижении, а тут… Кто-то вдруг — я не вижу, кто — властно кладет мне руку на плечо, и я слышу за спиной повелевающий голос: «Иди!» Необоримая сила подхватывает меня, и единым порывом я оказываюсь внутри храма. Церковь пуста, но свечи перед образами и в паникадиле жарко пылают, а в воздухе — сладковатый, умиротворяющий запах ладана. Впереди передо мной — образ Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в тяжелой серебряной ризе, украшенной множеством драгоценных вкладов. «Почитаемая икона!» — понимаю вдруг я, и неведомое мне до сих пор, всегда раздражавшее в других чувство религиозного умиления охватывает меня. Все тот же властный голос из-за плеча указывает: «Молись, сыне!» И, почувствовав, как чья-то теплая ладонь опустилась мне на голову, я преклоняю колена! Какая-то сила извне заставляет меня произносить слова молитвы: «Не о себе неприкаянном молю, Господи, — душа моя погрязла во грехе и ко греху возвращается, как пес на блевотину свою, — молю о чистых, светом правды Твоей Просвещенных! Благослови брачный союз их и утверди в Святом Таинстве Венчания! Ведаю, Господи, что вечна любовь их, крепка, как смерть. Все Ты видишь, Матерь Божия, всех Скорбящих Радость, — взор Твой проник в темную душу мою, никуда не скрыться от него, ничего не утаить… Я о себе, изувере, не смею просить, лишь простираюсь пред Тобой в страхе и трепете!» Воистину, не владея собой, я оказался с горящей свечой в руке у самой иконы, и, когда поставил ее в подсвечник, мне показалось, будто она пылает ярче других. Слезы потоком хлынули из глаз! Я снял кольцо с безымянного пальца правой руки — точно такое, только меньшее, ты найдешь на каминной полке в гостиной, Молли, — и оставил возле чудотворного образа. Когда же обернулся, готовый выйти из храма, я тотчас увидел того, кто повелевал мной — благообразного старца с седеющей бородой в малахитово-зеленом священническом облачении. На мгновение самообладание вернулось ко мне, и поскольку существо мое тут же воспротивилось происходящему, я хотел было отстранить старика с дороги, но голос его опять лишил меня воли: «Мария отдана мужу праведному! Иди и помни: любовь отвращается всякаго зла». Охваченный каким-то животным страхом, я бросился прочь, только бы не находиться более в этом жутком месте. Стихия бушевала — дождь стоял стеной, ветер выл в кронах деревьев, оглушительные раскаты грома, подобные грозному tutti[181] вселенского оркестра, сливались со все еще звеневшими в ушах словами старца: «Любовь отвращается всякого зла»! Природа словно прониклась неизбывной скорбью моей безнадежно погибшей души. Я коченел, заслоненный отсвета исполинскими кронами кладбищенских кленов, и коленопреклоненные ангелы-изваяния не в силах были вымолить прощения вечному изгою. Сознание готово было в любой миг оставить меня, вот тут-то я и очнулся… Теперь я знаю, что навсегда потерял Тебя, Молли, Гражина моя!
Думанский вытащил из-под сиденья один из своих чемоданов и, немного повозившись с замком, извлек оттуда тяжелую шкатулку.
— Чуть не забыл — это тебе, Молли!
— Что это? — удивленно спросила Молли, созерцая столь необычный подарок.
— Как же, твоя давняя пропажа. Вот, смотри!
Викентий Алексеевич откинул крышку, но вид сокровищ Петра Андреева не произвел на его спутницу того впечатления, которого он в глубине души немного опасался (презренный металл и драгоценные камни способны смутить порой даже чистую душу, особенно когда им придали такой привлекательный художественный вид). Лишь смутное любопытство мелькнуло в глазах Молли. Перебрав содержимое шкатулки, она извлекла только старинной работы колье из крупных изумрудов, так подходившее к ее серьгам (Думанский вспомнил, как его самого поразило это сходство).
— Колье и серьги подарил мне один странный, темный человек. Я не хочу это брать с собой — в них прошлая, минувшая жизнь. Чувствую что-то совсем чужое, не мое и какое-то… мрачное. И тогда, в «той» жизни, я приняла «дар» из долга — убери с глаз, ради Бога! Пусть это забудется совсем, не желаю помнить…
Думанский уже решил отдать ларец первому попавшемуся нищему, но вовремя вспомнил, что времена изменились и за видимостью благообразной бедности может скрываться неизвестно что и кто. Извозчик тем временем свернул по Пантелеймоновской налево и весьма кстати впереди показался классически строгий Спасо-Преображенский собор.
— Подожди меня здесь, я ненадолго. И умоляю — ни в коем случае не покидай сани!
Взяв под мышку тяжелую кесаревскую шкатулку, он направился в храм. Пожертвовать даже неправедно нажитые сокровища на святое дело — что может быть разумнее и полезнее?
В соборе шло отпевание. Приглядевшись, Викентий Алексеевич увидел в гробу не кого иного, как Кесарева! В первое мгновение холодная волна пробежала по всему телу — с головы до ног и обратно: настолько он привык за это время считать своим отвратительный кесаревский облик. Впрочем, покрытое смертельной бледностью, лицо «усопшего» приобрело даже некоторое благообразие, будто этот человек и в самом деле очищался от той скверны, в которую вверг себя. «Неужели Господь помиловал его, простил?!»
Но нет, этого не могло быть для того, чьи преступления были столь безжалостны, а смерть — так омерзительна и противоестественна. Приглядевшись, Думанский заметил, что очертания тела Кесарева, до шеи закрытого черным покрывалом, чересчур бесформенны, голова — страшно представить! — лежит будто сама по себе. «Ах да, его же съели, а голова — единственное, что осталось нетронутым… Господи, спаси и сохрани!»
Отец Юзефович старательно размахивал кадилом — не «махал», а буквально помавал! — хор вторил ему, печально и торжественно выводя «со святыми упокой». Вокруг гроба со свечками в руках выстроилось человек двадцать. Некоторых Думанский даже узнал: это были «товарищи» по налетам, в которых он поневоле принял участие. Лица некоторых из них были полны искренней неподдельной печали и размышлений о тщете и бренности земного существования. Они крестились и тихонько подпевали хору.
Но так вели себя далеко не все. Толстяк, который когда-то чуть ли не силой заставил правоведа пить водку с пивом из котелка, сиял как масляный блин и, едва прикрыв рот рукой, рассказывал соседу что-то веселенькое. Другой цинично разглядывал икону-картину Марии Магдалины — откровенное подражание то ли Мурильо, то ли Тьеполо — и на лице его отражались явно не благочестивые мысли.
Никаноровна, разодевшаяся в какой-то невероятный салоп из черного бархата и столь же черную шляпу с эспри[182] из страусовых перьев, стояла у самого гроба. Почти выцветшие глазки ее были густо обведены черным, губы же лоснились от ярко-алой помады, отчего лицо старухи приобрело ужасающий, запредельный вид. Слезы прочертили по дряблым щекам черные дорожки, рот, который «скорбящая», не задумываясь, вытерла рукой в кружевной перчатке-митенке, превратился в бесформенное пятно. Старуха то принималась плакать, жалобно причитая, то грозила покойнику карой, то принималась нести всякую ахинею вместо молитв:
— Вот ты помер, а кто мне теперь поесть принесет… Поматросил, выходит, и бросил? Я на тебя ангелам пожалуюсь! Они тебя с неба-то назад спихнут, нечего тебе там делать. Раскинулось море широко и волны бушуют вдали… И слезы у многих сверкнули… Маруся отравилась!
Рядом с ней стояла чернявая Зара — действительно безутешная вдовушка. Не сводя глаз с мертвого Кесарева, она тихонько, как собака, выставленная хозяином на лютый мороз, подвывала. Вопреки ожиданиям, глаза ее были сухи, а выражение лица внушало сильнейшие опасения за ее рассудок.
Не слушая помешанных женщин, Думанский решительно потеснил их и шагнул вперед. Послышался ропот удивления и недовольства, сам Юзефович остановил отпевание, запнувшись на полуслове. Открыв ларец, Викентий Алексеевич вывалил его содержимое прямо на пол к подножию гроба.
— Кесарю кесарево, — произнес он почти без выражения и, не оглядываясь, поспешил было к выходу, но, сделав несколько шагов, вернулся. Собрав с пола драгоценности, на глазах у присутствующих адвокат подошел к цыганке и быстро всучил ей всё — с рук на руки.
— Это для ребенка! — пояснил он ничего не понимающей женщине. — Э-э-э… Он просил передать это вам в том случае, если сам уже не сможет.
В лице Зары что-то дрогнуло, и оно перестало напоминать застывшую маску скорби. Уткнувшись в драгоценности, вдова принялась поливать их слезами, как последний дар «яхонтового Васеньки».
Сани с Думанским и той, что была для него спасением и благословлением Божиим, давно миновали церковную ограду и оторвались наконец от своры собак, увязавшихся за путешественниками от самой Фурштатской. Только один погрустневший «атаман» неведомой породы провожал их заунывным волчьим воем, сидя возле афишной тумбы на промерзшем булыжнике мостовой.
Из объявлений на тумбе явствовало: девятого в Мариинском дают «Фауста», в партии Мефистофеля сам Шаляпин; магазин книгоиздательского товарищества «Просвещение» анонсировал труд доктора Вильгельма Мейера «Мироздание». Особенно красочная в лубочном «древнерусском» стиле афиша сообщала о том, что 9 января 1905 года на Марсовом поле будут проходить гулянья — организационный комитет обещал уникальные развлечения, царские угощения, подарки…
…Викентию Алексеевичу показалось, что в темную подворотню, крадучись, метнулась сутулая тень Юзефовича, и, распахнув полу шубы, он инстинктивно приложил руку к нагрудному карману сюртука, где сохранял теперь свою главную святыню — белый орденский крестик.
Но возок уже уносил сорванных с насиженных мест безумным вихрем «беженцев» в сторону Николаевского вокзала, а уж там — подальше от столицы, от мятежного «модерна», под благой покров Иверской Заступницы, «двери райския верным отверзающей».
Примечания
1
Смерти нет, но есть наша любовь (лат).
(обратно)2
Бред со зрительными галлюцинациями (лат.).
(обратно)3
Так проходит мирская слава! (лат.) Фраза стала популярной благодаря трактату средневекового богослова Фомы Кемпийского «О подражании Христу» («О, как быстро проходит слава мирская!»).
(обратно)4
Конец (лат.).
(обратно)5
Лицом к лицу, визави — тот, кто находится напротив (франц.).
(обратно)6
Глас Божий (лат.).
(обратно)7
Прошу меня извинить (франц.).
(обратно)8
Кстати (франц.).
(обратно)9
О мертвых хорошо или ничего (лат.).
(обратно)10
Седьмого июля (по старому стилю) — один из дней, когда происходит празднование в честь перенесения чудотворной иконы Влахернской Божией Матери в Россию.
(обратно)11
Парвеню — выскочка, незнатный человек, пробившийся в аристократическое общество (франц.).
(обратно)12
От франц. impossible — невозможно (устар.).
(обратно)13
Наедине, с глазу на глаз (франц.).
(обратно)14
И.-В. Гёте. Фауст. Часть I.
(обратно)15
Дурной умысел оборачивается против замыслившего зло (лат.).
(обратно)16
Известная песенка о чижике-пыжике — часть застольного фольклора студентов Училища правоведения (желто-зеленый цвет обмундирования напоминал окраску чижа). Существует маловероятная версия, что автор музыки — П. И. Чайковский, сам бывший правовед.
(обратно)17
Помни о смерти! (лат.)
(обратно)18
Дитя мое (франц.).
(обратно)19
О времена, о нравы! (лат.)
(обратно)20
Членах (церк. — слав.).
(обратно)21
Популярный романс на стихи А. А. Фета.
(обратно)22
Цветами (церк. — слав.).
(обратно)23
Почему бы нет? (франц.)
(обратно)24
Маренго — черный цвет с серым отливом.
(обратно)25
Ратин — толстая шерстяная пальтовая ткань с небольшим ворсом.
(обратно)26
Букв.: мать-кормилица, альма-матер — старинное студенческое название высших учебных заведений (лат.).
(обратно)27
Дортуары — общее спальное помещение в учебных заведениях закрытого типа (пансионах, кадетских корпусах, юнкерских училищах и т. п.)
(обратно)28
Букв.: одно вместо другого: путаница, несоответствие (лат.).
(обратно)29
И так далее (лат.).
(обратно)30
Именно так; обратите внимание! (лат.)
(обратно)31
Вы понимаете? (франц.)
(обратно)32
Т. е. представить к ордену Святого Владимира (имел 4 степени): орден на ленте в виде креста со скрещенными мечами вручался за боевые подвиги.
(обратно)33
Перефразированный девиз ордена Святого Владимира: «Польза, честь и слава».
(обратно)34
Фраза из трагедии И.-В. Гёте «Фауст», ставшая крылатой.
(обратно)35
В 1899–1901 гг. Северный Китай охватило народное антиимпериалистическое Ихэтуаньское восстание против иностранного вмешательства в экономику и внутреннюю политику, начатое тайным обществом «Кулак во имя справедливости и согласия». В июне 1900 г. ихэтуани вступили в Пекин. Войска крупнейших европейских держав, в том числе России, а также США подавили восстание (названное иностранцами боксерским).
(обратно)36
Из стихотворения П. А. Вяземского «Песнь русского ратника».
(обратно)37
Букв.: «пять часов», время вечернего чаепития (англ.).
(обратно)38
Такова жизнь (франц.).
(обратно)39
Мф. 6: 26.
(обратно)40
Быт. 2: 24.
(обратно)41
Заводом «Речкина» в обиходе называли Петербургский вагоностроительный завод, основанный в 1874 г. выходцем из Шотландии Ф.-К. Рештке (первоначально специализировался на металлообработке).
(обратно)42
Магазин игрушек Дойникова в Гостином Дворе был одним из лучших в Петербурге.
(обратно)43
Конец века, метафизический рубеж, эпоха кардинальных перемен в обществе (франц.).
(обратно)44
«Цветы зла» (франц.), знаменитый сборник стихотворений Шарля Бодлера.
(обратно)45
Лк. 17: 28.
(обратно)46
Аллюзия на стихотворение А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
(обратно)47
Фанза (кит. фан-цзы) — китайское жилище на каркасе из деревянных столбов с двускатной крышей, крытой соломой или черепицей.
(обратно)48
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».
(обратно)49
Пс.90.
(обратно)50
Кто вы по сути? (нем.)
(обратно)51
Я солдат! (нем.)
(обратно)52
«Рождение трагедии из духа музыки», философско-эстетический трактат Фридриха Ницше (нем).
(обратно)53
Прит. 7: 26–27.
(обратно)54
Святая простота! (лат.)
(обратно)55
Метемпсихоза (от греч. metempsyhosis) — религиозно-мифологическое представление о перевоплощении души после смерти тела в новое тело какого-либо растения, животного, человека, божества.
(обратно)56
Иерофант — в Древней Греции верховный жрец, следящий за проведением таинств и осуществляющий новые посвящения жрецов и адептов культа. Этот термин трансформировался в практике мирового масонства, эзотерики и антропософии.
(обратно)57
Чистая доска (лат.), термин сенсуализма, означающий первоначальное состояние сознания человека, не обладающего в силу отсутствия внешнего чувственного опыта какими-либо знаниями.
(обратно)58
Бог сохраняет всё (лат.).
(обратно)59
Написал то, что написал (церк. — слав.).
(обратно)60
Уединенное место, одинокий дом (от франц. ermitage).
(обратно)61
Онтология — философское учение о бытии, об основах «всего сущего».
(обратно)62
Обже — предмет любви (от франц. objet).
(обратно)63
Из русской народной песни «Не осенний мелкий дождичек», особенно популярной в те годы в исполнении Шаляпина.
(обратно)64
Имеется в виду оружейный завод в Сестрорецке.
(обратно)65
Вор, виртуозно вскрывающий сейфы, замки и т. п. (Здесь и далее поясняется лексика из воровского жаргона.)
(обратно)66
Убийца, он же — мокрушник (жарг.).
(обратно)67
«Корневильские колокола» — популярная оперетта Р. Планкетта, одна из самых известных постановок французской труппы, занимавшей в середине XIX — начале XX в. помещение Императорского Михайловского театра.
(обратно)68
Животное, грязный мясник! (франц.)
(обратно)69
«Я», личность (лат.).
(обратно)70
Скандальная слава; слава во что бы то ни стало, названная по имени легендарного древнегреческого злоумышленника, поджегшего храм Артемиды в Эфесе (антич.).
(обратно)71
Район поблизости от Сенной площади в Петербурге, прибежище деклассированного и криминального элемента.
(обратно)72
Райволово; Райвола — поселок на Карельском перешейке, популярное с конца XIX в. дачное место, ныне Рощино.
(обратно)73
Вейка — украшенные сани, на которых было принято кататься в Петербурге на Масленицу — последнюю неделю перед Великим постом, а также их хозяева-возницы. Это был отхожий промысел, распространенный среди окрестных финнов.
(обратно)74
Расхожее название карманных часов.
(обратно)75
Фирма Эйлерса не только продавала, но и разводила цветы и считалась крупнейшей в столице.
(обратно)76
Это невозможно! (франц.)
(обратно)77
Пс. 90:6.
(обратно)78
Русский музей (до 1917 г. Русский музей Императора Александра III).
(обратно)79
По «Табели о рангах», гражданский чин 10-го ранга — коллежский секретарь.
(обратно)80
Начальные слова 130 псалма в католическом богослужении, читается как отходная молитва над умирающим.
(обратно)81
Маслята — патроны (жарг.).
(обратно)82
Иордань — прорубь для освящения воды и крещения в праздник Святого Крещения и Богоявления Господня.
(обратно)83
Бекеша — разновидность полушубка, тулупа.
(обратно)84
Из стихотворения А. А. Блока «Мой любимый…»
(обратно)85
Фоска — молодая проститутка (жарг.).
(обратно)86
Фаза — притон (жарг.).
(обратно)87
«Жребий брошен» (лат.), т. е. все решено. Крылатое выражение, приписываемое Юлию Цезарю.
(обратно)88
Что за упрямая женщина! (франц.)
(обратно)89
Татар-старьевщиков называли так за их призывный клич: «Халат! Халат!», с которым они обходили дворы.
(обратно)90
Десть — старая русская мера бумаги, 24 листа.
(обратно)91
Кстати, между прочим (франц.).
(обратно)92
Тяпуля — любовница (жарг.).
(обратно)93
Стихотворение «Лабиринт» К. М. Фофанова (1862–1911), популярного на рубеже веков поэта-импрессиониста, одного из предшественников русского модернизма.
(обратно)94
Ушан — молодой вор (жарг.).
(обратно)95
В просторечии — десятирублевая ассигнация.
(обратно)96
Какой стыд! Ваше поведение невыносимо! (франц.)
(обратно)97
Фофан — глупый, недалекий человек (жарг.).
(обратно)98
Урва — краденая вещь (здесь и далее жарг.).
(обратно)99
Фач — мошенник.
(обратно)100
Гайменник — убийца.
(обратно)101
Жех — карманный вор.
(обратно)102
Здесь обыгрываются строки из текста известного марша лейб-гвардии Преображенского полка: «…Мы его повергнем в прах».
(обратно)103
Форшманить — совершать над кем-либо позорящее его действие.
(обратно)104
Фусан — осведомитель, доносчик.
(обратно)105
Тухтаритъ — наблюдать, следить.
(обратно)106
Фуксом — наугад, бандитское нападение без подготовки.
(обратно)107
Фурта — метель (простереч.).
(обратно)108
Помогите! Помогите! Спасите меня… Я умоляю, умоляю… О, мой Боже! Святая Вечность… О-о-о! Д-дьявол… Медицинская помощь… мне нужна! (нем.)
(обратно)109
Пс. 90: 6.
(обратно)110
Адонирам — легендарный строитель Первого Иерусалимского Храма, основатель мирового масонства.
(обратно)111
Гешефтмахер (нем.) — ловкий делец, спекулянт.
(обратно)112
«За» и «против» (лат.).
(обратно)113
«Трансвааль, Трансвааль, страна моя…» — начальная строка популярнейшей песни времен Англо-бурской войны (1899–1902), в которой русское общественное мнение было на стороне буров-африканеров.
(обратно)114
Положение вещей (лат).
(обратно)115
Из популярной песни «Раскинулось море широко» (слова Г. Зубарева на музыку А. Гурилева).
(обратно)116
Номера на углу Бассейной улицы и Литейного проспекта.
(обратно)117
О, Великая Истина, о, Великое Непостижимое! (лат.)
(обратно)118
Невероятно! (франц.)
(обратно)119
Пс. 50:9-10.
(обратно)120
Лернейская гидра (мифол.) — чудовище с телом змеи и девятью головами дракона, побежденное Гераклом.
(обратно)121
Экзорцизм (теол.) — изгнание бесов.
(обратно)122
Литовский замок — тюрьма в районе Коломны, на углу Крюкова канала и Офицерской улицы (с конца XIX в. политическая). Сожжена в дни Февральской революции, впоследствии снесена до основания.
(обратно)123
«Слово и дело Государево» — юридическая формула политического сыска XVII–XVIII вв., вменяющая в обязанность доносительство о подозрительных личностях и событиях.
(обратно)124
Генрих Шлиман (1822–1890) — знаменитый немецкий археолог, открывший Трою и Микены.
(обратно)125
Тамплиеры — духовно-рыцарский Орден, один из первых по времени возникновения, прообраз масонской системы.
(обратно)126
Шлафрок (нем. Schlafrock) — домашний халат.
(обратно)127
Пантофли (нем. Pantoffel) — мягкие домашние туфли.
(обратно)128
Зиккураты — древние языческие культовые сооружения у ближневосточных народов, в особенности — финикийцев.
(обратно)129
Жорж Мелъес (1861–1938) — один из основателей мирового кинематографа, автор фантастических фильмов-феерий.
(обратно)130
«Библейское общество» существовало в годы правления Александра I и было основано масоном князем А. Н. Голицыным с целью реформировать православие на «просвещенных началах» мистики и космополитизма.
(обратно)131
Еккл. 1:18.
(обратно)132
Тьфу, дьявол! Ну почему у этих русских такие скверные слуги?! (нем.)
(обратно)133
Откуда у него взялся пистолет? (нем.)
(обратно)134
Не знаю. Я лишь забрал его из камеры по вашему распоряжению. Ему неоткуда было взять пистолет, так как он все это время был со мной (нем.).
(обратно)135
Маленькая неувязочка, господа! Полковник Шведов вчера передал мне пистолет. А вы, собственно, кто такие?! Мы с вами совсем не знакомы! (нем.)
(обратно)136
Дурной замысел оборачивается против замыслившего зло… Всегда! (лат.)
(обратно)137
Это великолепно (франц.).
(обратно)138
Смотрите, не упускайте из виду вашего клиента! (нем.)
(обратно)139
Итак, выпьем! (лат.)
(обратно)140
Плюсквамперфект, давнопрошедшее время (лат.).
(обратно)141
«Строгий чин» — распространенная в Германии, а затем и в России система масонских лож.
(обратно)142
Относящейся к масонскому Ордену иллюминатов, декларирующему благородные задачи справедливого усовершенствования мира, истинной же целью ставящего уничтожение христианской церкви и свержение европейских монархий любыми средствами.
(обратно)143
Портупей-юнкер — младший командир из старших юнкеров в военных училищах Российской Империи, аналог унтер-офицера в строевых армейских частях.
(обратно)144
«Извините… До свидания» (франц.).
(обратно)145
Кокни (англ. cockney) — насмешливо-пренебрежительное прозвище лондонца невысокого социального происхождения, а также диалект английского языка, на котором говорят низшие слои жителей Лондона.
(обратно)146
«Человек человеку волк, а не человек, особенно, если он его не знает» (лат.). — Из комедии римского драматурга Плавта «Ослы».
(обратно)147
От лат. «Vae victis» — слова предводителя галлов, захвативших Рим (Тит Ливий. История, V, 480).
(обратно)148
Новоторами традиционно называют уроженцев Торжка (от Нового Торга).
(обратно)149
Бонвиван (франц. bon vivant) — человек, любящий хорошо (богато, беспечно, весело) жить.
(обратно)150
Настоящий герой! (англ.)
(обратно)151
«Неравный брак» — картина В. В. Пукирева (1832–1890), живописца-передвижника, автора жанровых картин демократически обличительного характера.
(обратно)152
Имеется в виду Сандро Боттичелли (1445–1510) — великий художник итальянского Возрождения, создатель утонченных женских образов, мистик, по некоторым источникам, крупнейший представитель масонства своего времени.
(обратно)153
Самый высокий класс (выше, чем люкс).
(обратно)154
Карт-бланш — неограниченные полномочия (франц.).
(обратно)155
Художественное объединение, одним из основателей которого был Густав Климт.
(обратно)156
Демиургом в мистических учениях именуется персонифицированное высшее начало (Творец всего сущего).
(обратно)157
Эмоциональный возглас, восторженное приветствие Диониса во время тайных мистерий.
(обратно)158
Вечная Женственность (нем.).
(обратно)159
Орфизм — позднеантичный, постдиониссийско-аполлонический культ, ставший модным в мистических кругах на рубеже XIX–XX вв.
(обратно)160
Обол — медная древнегреческая монета. Греки прикрывали ими веки умерших в качестве платы Харону — перевозчику душ через реку Стикс в Аид, царство мертвых.
(обратно)161
Из арии Орфея в опере-трагедии «Орфей и Эвридика» на музыку Г.-К. Глюка.
(обратно)162
Субретка — в старинных водевилях бойкая и проказливая служанка.
(обратно)163
Милая родина (нем.).
(обратно)164
Васисдас (от нем. «was ist das?» — «что это?») — обиходное название немецких лавок, булочных (см., например, А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 1, XXXV).
(обратно)165
Дядя, дядюшка (от нем. Onkel).
(обратно)166
Немецкий праздник Пасхи (нем.).
(обратно)167
Немецкий пасхальный кекс.
(обратно)168
Я немец (нем.).
(обратно)169
Итак, таким образом (нем.).
(обратно)170
Разновидность пасхального кулича.
(обратно)171
Господин (нем.).
(обратно)172
Суаре, праздничный ужин (франц.).
(обратно)173
Один из фешенебельных и дорогих петербургских ресторанов того времени.
(обратно)174
Ареопаг — здесь: высший авторитет отцов, старших в семье (ареопаг — высший судебный и контролирующий орган в Древних Афинах).
(обратно)175
Лагуна — залив Адриатического моря, на островах которого расположена Венеция: Пьяцетта — главная площадь Венеции с собором Святого Марка, Дворцом дожей и колонной Святого Марка.
(обратно)176
Итальянское игристое вино наподобие шампанского.
(обратно)177
Кабошон (франц. cabochon) — драгоценный камень, не граненный, а выпукло отшлифованный с одной или двух сторон.
(обратно)178
Святая Простота, невинная наивность (лат.).
(обратно)179
Покров Богородицы.
(обратно)180
Ураган, в действительности имевший место в Москве в 1904 г. В одном Люблино было погублено 100 десятин старого парка.
(обратно)181
Исполнение музыкального произведения всем составом оркестра или хора (итал.).
(обратно)182
Эспри — украшение из перьев для прически или шляпы, модное в Европе на рубеже XVIII–XIX вв.
(обратно)
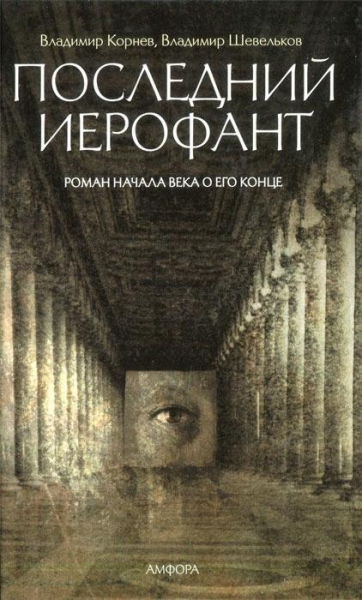
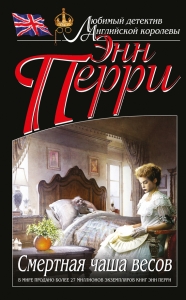




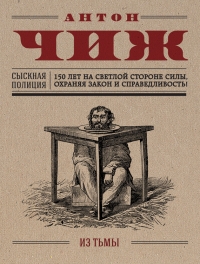



Комментарии к книге «Последний иерофант. Роман начала века о его конце», Владимир Григорьевич Корнев
Всего 0 комментариев